Муравьев Владимир Брониславович Карташев Борис Израилевич ПЕСТЕЛЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ ДИНАСТИЯ МОСКОВСКИХ ПОЧТМЕЙСТЕРОВ
Покойник был почтенный камергер,
С ключом, и сыну ключ умел
доставить.
А. Грибоедов1
осква готовилась к коронационным торжествам.
В угоду новому российскому самодержцу императору Павлу она торопливо перестраивалась на прусский лад. Старые московские заставы, извилистые улицы и просторные площади, порастающие по весне травой, украшались полосатыми будками.
Архитектор Матвей Казаков в спешном порядке переделывал к приезду императора Слободской дворец, расположенный среди огромного парка на правом берегу Яузы.
Московский почт-директор Иван Борисович Пестель получил предписание отпустить на эту перестройку пятнадцать тысяч из почтовых доходов и наблюдать за ходом работ.
Низенький, уже начинающий полнеть в свои тридцать два года, почт-директор с усердием взялся за дело. Он бегал, суетился, распоряжался и при всяком удобном случае сводил разговор на предстоящие торжества.
28 марта 1797 года в морозный не по-весеннему день Павел I совершал торжественный въезд в Москву.
Впереди скакали верховые и громко кричали, приказывая снимать шапки и перчатки. Мороз хватал за нос, обжигал уши и пальцы. Морозный пар подымался над Головами людей, стоявших вдоль всего пути следования императорского кортежа.
Император ехал верхом, держа шляпу в руке, и, деревянно улыбаясь, кланялся по сторонам.
Сразу же после коронации Павел самолично объявил о наградах, а потом целую неделю с императрицей принимал поздравления духовенства, гражданских и военных чинов. Церемония длилась долгие часы и наводила на всех страшную скуку. Павлу казалось, что поздравляющих слишком мало, а императрица вспоминала рассказы о том, как при коронации Екатерины II поздравлявших было столько, что рука государыни распухла от поцелуев. Рука новой императрицы, к ее великому сожалению, не распухала. Обер-церемониймейстер Валуев нашел выход: он заставил одних к тех же людей представляться по нескольку раз под разными именами. Число поздравляющих значительно увеличилось. Император и императрица повеселели.
Московский почт-директор Иван Борисович Пестель не остался без награды: он получил орден св. Анны II степени и триста душ в Орловской губернии.
2
Почтовая контора в Москве была основана в начале XVIII века, вскоре после того, как Петр I повелел: «Почту устроить от Петербурга до всех главных городов, где губернаторы обретаются ныне».
Для работы по почтовому ведомству потребовались знающие дело люди: из Саксонии в Россию выехал почтовый чиновник Вольфганг Пестель. Его назначили московским почтмейстером.
С тех пор должность управляющего московской почтой сделалась как бы наследственной в роду Пестелей. Московская почтовая контора, со временем увеличившая свои операции, стала называться почтамтом, а управляющий почтамтом — почт-директором.
Преемником Вольфганга Пестеля спустя несколько десятилетий стал его сын Борис. Еще двадцать лет спустя, «в уважение многотрудной должности, сопряженной с званием московского почт-директора», последовало «всемилостивейшее повеление» определить в помощь Борису Пестелю его сына — «уволенного от воинской службы секунд-майора Ивана Пестеля с чином коллежского асессора и с жалованием по 500 рублей в год». В 1786 году Борис Пестель вышел в отставку, и московским почт-директором стал Иван Борисович Пестель.
За три четверти века пребывания в России Пестели обрусели. У них оставались родственники в Саксонии, но связь с ними год от году становилась слабее. Иван Борисович, родившийся в Москве, считал себя уже коренным москвичом и русским.
Служба удалась Ивану Борисовичу: в двадцать один год он почт-директор самого крупного в России почтамта, а в двадцать два года у него уже орден св. Владимира IV степени и чин надворного советника.
По своей должности Иван Борисович знал пол-Москвы. Он имел множество друзей и знакомых, и, пожалуй, самым близким из них был князь Андрей Иванович Вяземский.
Дом князя Вяземского в продолжение многих лет был, как говорит современник, «средоточием жизни и всех удовольствий московского просвещенного общества».
Тут постоянно бывали поэт И. И. Дмитриев, писатель и историк H. М. Карамзин, поэт-композитор Ю. А. Нелединский-Мелецкий и светский остроумец В. В. Ханыков. Сам хозяин, отличавшийся острым умом и образованностью, слыл приятным собеседником. Молодые люди, вступающие в свет, стремились быть принятыми у Вяземского.
Князь Вяземский был довольно строг в выборе друзей. Но к молодому московскому почт-директору он относился с искренней симпатией. Хотя Пестель не сочинял музыки и не писал стихов, но в разговоре не терялся и со знанием дела судил о произведениях искусства и литературы. В свое время он даже перевел на русский и французский языки латинское сочинение профессора Дильтея «Собрание нужных вещей для сочинения новой географии о Российской империи».
3
Напуганная французской революцией, Екатерина II жестоко душила всякое проявление свободомыслия в России. Арестован А. Н. Радищев, начались преследования другого видного просветителя — Н. И. Новикова. Даже в безобидных масонах-мартинистах, поставивших своей целью «самоусовершенствование» без вмешательства в политику, она видела опасных заговорщиков.
Весной 1790 года Ивана Борисовича Пестеля вызвал к себе московский главнокомандующий князь Прозоровский.
— Вам поручается наблюдение за злоумышленниками-мартинистами. Отныне все письма, исходящие от лиц, указанных в этом списке, а равно и присылаемые им, вам лично следует вскрывать, снимать с них копии и сообщать мне.
Прозоровский передал Пестелю список. Иван Борисович прочел фамилии. Почти всех людей, поименованных в списке, он знал: с иными встречался у Вяземского, другие были хорошие знакомые его отца.
Но раз правительство находит их деятельность опасной, то дружба дружбой, а служба службой, и Иван Борисович принялся выполнять приказ Прозоровского.
В слежке за масонами Пестель проявил недюжинные способности сыщика. Масоны переписывались с жившим в Берлине Алексеем Кутузовым, старым товарищем Радищева. В Москве ходили слухи, что Кутузов — автор возмутительной книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Московская полиция осведомлялась на его старой квартире, не возвратился ли он из чужих краев и скоро ли возвратится. А Кутузов в каждом письме спрашивал московских друзей: «Что с нашим несчастным другом?» Из Москвы отвечали: «О Радищеве слышно теперь, что он жив: вот все, что можно о нем сказать, а где— не известно…»
Перлюстрацию писем Иван Борисович довел до степени искусства. Однажды начальство сделало ему замечание: берлинцы, получающие корреспонденцию из России, возмущены тем, что их письма вскрываются на почте.
Пестель с плохо скрытой обидой оправдывался: «Видимо, их письма вскрываются в Берлине, так как мы вскрываем чрезвычайно аккуратно и от наших корреспондентов не получали ни одной жалобы на перлюстрацию».
Иван Борисович не ограничивался только перлюстрацией писем. Едва в письме упоминалась книга, напечатанная масонами в своей типографии без цензурного разрешения, как Иван Борисович стремился ее достать и представить по начальству: «Имею честь донесть, что книга, мною вчерашнего числа представленная, взята в книжной лавке книгопродавца Бибера. Я посылал туды человека чужого, дабы не знали, что ее надобно было мне, опасаясь в таком случае ее не получить…»
Через два года Прозоровскому удалось собрать в значительной мере сфальсифицированный обвинительный материал на Новикова и на московских масонов. Новиков был арестован, кое-кто из членов его кружка и хороших знакомых Ивана Борисовича выслан из Москвы.
4
Иван Борисович Пестель в 1792 году женился на Елизавете Ивановне Крок, дочери известной в свое время писательницы А. Крок. И 24 июня 1793 года в здании почтамта, в казенной квартире московского почт-директора, родился старший сын Ивана Борисовича — Павел-Михаил Пестель [1], будущий декабрист.
Московский почтамт находился тогда на углу Мясницкой (ныне Кировской) улицы и Чистопрудного бульвара. Залы, канцелярии и квартира почт-директора помещались в каменном здании, выходящем белым фасадом на Мясницкую улицу, а служащие и охрана жили в деревянных флигелях. Сзади почтового двора возвышался золоченый шпиль причудливой Меньшиковой башни — церкви архангела Гавриила, а перед домом был просторный двор, обнесенный каменной оградой.
В 1797 году московский почт-директор получил ответственное и строго секретное задание.
Дело в том, что в начале этого года император Павел I вернул из сибирской ссылки А. Н. Радищева, разрешив ему проживать в своем сельце в Калужской губернии. Но в то же время царь распорядился, чтобы все письма опасного вольнодумца, минуя калужское начальство, нераспечатанными доставлялись московскому почт-директору и чтобы Пестель тщательно проверял их и копии с писем отсылал бы в Петербург царю.
Крамолы в письмах Радищева московский почт-директор не обнаружил. Но служебное рвение Пестеля и здесь было оценено.
Не прошло и года, как Пестель — уже действительный статский советник, что соответствовало чину генерал-майора, — получил новое назначение — на должность петербургского почт-директора и председателя Главного почтового правления.
Иван Борисович переехал в Петербург.
Однако в годы царствования подозрительного и взбалмошного Павла I было гораздо удобнее пользоваться его милостями на расстоянии, чем в непосредственной близости. Одинаково возможны и одинаково необъяснимы были неожиданное повышение и незаслуженная опала.
Павел принимал экстренные меры для ограждения империи от французской революционной заразы. К обязанностям петербургского почт-директора прибавилась еще одна — цензура приходящих в Петербург иностранных газет и журналов.
Однажды Пестель пропустил иностранную газету, где было сказано, будто Павел отрезал уши у французской актрисы Шевалье. Император необычайно возмутился и потребовал Пестеля к себе.
— Почему вы, милостивый государь мой, — срываясь на высоких нотах, кричал Павел, — почему вы пропустили газету, где сказано, что я велел отрезать уши у, мадам Шевалье?
Пестель увидел совсем близко от себя маленький курносый нос и бесцветные злые глаза взбешенного императора. «Все кончено», — подумал он.
— Но, ваше величество, я полагал, что это есть наилучший способ обличить иностранных вралей, — подчеркнуто спокойно проговорил Пестель. — Любой читатель газеты может сим же вечером убедиться в ничтожестве этого писаки, следует только поехать в театр и увидеть мадам Шевалье с ушами на своем месте.
Во взгляде Павла проскользнуло любопытство, он еще несколько мгновений непонимающе смотрел на Пестеля и вдруг разразился громким хохотом.
— Виноват, ей-богу, виноват!
Павел стремительно повернулся, подошел к столу и на клочке бумаги написал несколько слов.
— Вот, возьми из кабинета бриллиантовые серьги и отвези мадам Шевалье. Велишь ей от моего имени надеть их сегодня перед выходом на сцену.
Пестель, кланяясь и пятясь, вышел от царя. Уже за дверями он услышал его лающий смех и с облегчением подумал: «Пронесло».
Гневался Павел часто и наказывал по одному доносу, по малейшему подозрению.
Однажды утром Ивану Борисовичу доставили для проверки подозрительное письмо, адресованное за границу.
Иван Борисович развернул вчетверо сложенный лист, взглянул на неразборчивую подпись и, удостоверившись, что почерк ему не знаком, записал в тетрадку, где регистрировались вскрываемые письма: «№ 1, от неизвестного». Потом принялся за чтение.
Неизвестный сообщал своему приятелю о заговоре против императора, состоявшемся в Петербурге. У Ивана Борисовича радостно забилось сердце: случай! Великолепный случай отличиться! Иван Борисович углубился в письмо, вникая в подробности плана, на которые неизвестный корреспондент не скупился.
И вдруг письмо выпало из рук Пестеля: он прочел строки, ужаснувшие его. «Не удивляйтесь, — заключал свой рассказ неизвестный, — что пишу вам по почте: наш почт-директор Пестель с нами».
Иван Борисович подхватил письмо с полу, оглянулся на плотно закрытые двери кабинета и еще раз перечел ужасные слова. С такой припиской показывать письмо императору нельзя ни в коем случае. Пестель хорошо знал характер Павла и понимал, что разоблачить клевету и оправдаться перед царем ему не удастся. Пестель письмо сжег.
Но так же хорошо знал характер Павла и Ростопчин, министр иностранных дел и любимец императора, написавший это письмо. Ростопчина чрезвычайно беспокоила неожиданная милость царя к Пестелю. Он видел в Пестеле опасного соперника и желал от него избавиться.
Несколько дней спустя, видя, что Пестель утаивает письмо, он доложил обо всем императору.
— Повергаю повинную голову перед вашим величеством, — сказал Ростопчин, — но моей единственной целью было проверить верность Пестеля вашему величеству. Можно ли доверять ему, если он решился скрыть известие о заговоре?
— Благодарю тебя за прозорливое усердие к нам, — ответил Павел Ростопчину.
Участь Пестеля была решена.
Блестящая карьера Ивана Борисовича окончилась по крайней мере на все время царствования Павла: по распоряжению императора Пестель увольнялся от всех занимаемых им должностей.
Будущее не сулило ничего хорошего. Пестель продал имение в Орловской губернии и, уплатив часть долгов, с незначительным капиталом поселился в Москве.
5
Двухэтажный каменный дом Пестелей на Земляном валу, без лепных украшений и гербов на фронтоне, ничем не отличался от сотен таких же домов дворян среднего достатка. Немного поодаль — службы, сад и огород, отделенные от улицы и от соседних владений сплошным дощатым забором. За Земляным валом, за садами и огородами — Немецкая слобода, там жила многочисленная родня и знакомые Пестелей.
Но Иван Борисович редко принимал гостей, а выезжал лишь на строго соблюдавшиеся семейные праздники да изредка бывал у старого друга князя Андрея Ивановича Вяземского.
Иван Борисович сразу постарел, притих, замкнулся в себе и почти безвыходно сидел в своем кабинете, равнодушный ко всему происходящему в доме.
Управление домом перешло в руки его жены Елизаветы Ивановны.
Главную заботу Елизаветы Ивановны составляло воспитание детей. А их было уже четверо — Павел, Борис, Владимир и Александр. Пятая, Софья, родилась позже, в 1810 году.
Дети росли под неусыпным надзором матери. Она была не только их воспитательницей, но и советчиком и товарищем в играх. В детстве у них не было друзей среди сверстников: частые переезды и теперешнее бедственное положение Пестелей не давали возможности заводить знакомства «домами».
Правда, несколько раз приезжал князь Вяземский с сыном Петром, ровесником Павла Пестеля. Но знакомства не получилось, мальчики дичились друг друга и скучали.
Насколько веселее и лучше было играть с братьями, которые соглашались на любые предназначавшиеся им роли. Павел любил играть в войну, и младшие братья изображали, смотря по обстоятельствам, то доблестное войско, которым командовал Павел, то ожесточенно сопротивляющегося, но в конце концов побеждаемого противника.
Особенно увлекательные игры начинались летом, когда Пестели выезжали из Москвы в свое смоленское имение — сельцо Васильево.
У самого въезда в село возвышались большие, поросшие буйным кустарником курганы — свидетели чьей-то давней бранной славы. На правом берегу речки Дельны, при впадении в нее бурливого безыменного ручья, словно крепостные башни, темнели укрепления старинного городища. Окрестные леса и перелески, луга и овраги — все становилось «театром военных действий». Родители не останавливали детей: при молчаливом согласии жены Иван Борисович готовил сыновьям военную карьеру.
Елизавета Ивановна сама обучала своих детей чтению, письму, начаткам истории и географии. Но чем старше становился Павел, тем больше он требовал внимания. Елизавета Ивановна находила в сыне чуть ли не гениальные способности. Все чаще ее беседы с Павлом обращались к его будущему. Елизавета Ивановна ставила Павлу в пример отца, в душе твердо уверенная, что Павел будет удачливее и пойдет дальше Ивана Борисовича.
6
Прошел 1800 год, полный известиями о чужих возвышениях и опалах и ничего не изменивший в судьбе Ивана Борисовича. Самодурство и деспотизм императора стали невыносимыми. До Москвы доходили смутные слухи о том, что против императора составился заговор, в котором участвуют многие близкие царю люди.
В марте 1801 года к Пестелю на Земляной вал явился взволнованный, захлебывающийся словами Иван Иванович Дмитриев.
— Гуляю я сегодня, как обычно, по Кремлю, — говорил Дмитриев, — и вижу необыкновенное движение на площади. Остановил старого солдата и спрашиваю: «Что это значит?» — «Да съезжаются, — говорит он, — присягать государю». — «Как присягать и какому государю?» — «Новому». — «Что ты, рехнулся?» — «Да императору Александру». — «Какому Александру?» — «Да Александру Македонскому, что ли». — И Дмитриев первый рассмеялся забавному анекдоту.
Так Иван Борисович узнал о перемене правления.
Осведомленные люди шепотом комментировали официальное сообщение о смерти царя, в котором говорилось, что Павел I скончался от апоплексического удара: «Удар-то удар, да не апоплексический. Это Платон Зубов его табакеркой в висок отправил на тот свет».
Новый император Александр I, сын Павла, говорил, что при нем «все будет, как при покойной бабке». Кончилось правление царственного самодура, дворянская Москва вздохнула свободней, ждали воскрешения «лучших екатерининских времен».
7
Александр I, знавший о причинах отставки Ивана Борисовича Пестеля, пожаловал его в тайные советники и назначил присутствовать в московском департаменте Сената.
Все это подняло настроение Ивана Борисовича. От былого равнодушия не осталось и следа. Теперь он подолгу беседовал с Павлом, интересовался его занятиями, расспрашивал о прочитанном, советовал прочесть ту или иную книгу. Иван Борисович всегда считал себя гонителем неправды и притеснения и мог целую ночь не спать от негодования на неправосудие, посмотрев накануне пьесу о бессовестном судье. Рассуждения Ивана Борисовича о чести и долге, службе и отечестве производили на Павла большое впечатление.
В своих рассуждениях Пестель-отец был совершенно искренен. Это был исполнительный и верный слуга, не берущий взяток и не сомневающийся в благости повелений своего начальника. Его рассуждения были просты: если мужика угнетает казнокрад и лихоимец, мужика следует защитить от лихоимца; если мужик бунтует в результате деятельности того же лихоимца, мужика следует покарать за неповиновение. Бунтовать нельзя. «Верность, усердие и честность» — таков был нехитрый девиз Ивана Борисовича. А стоит ли его повелитель верности и усердия, честно ли фабриковать обвинения против заведомо невинных людей и заискивать перед начальством, — над этим Иван Борисович не задумывался.
И всякое сомнение в своих принципах тайный советник Пестель счел бы вольнодумством.
Когда отец уезжал куда-нибудь по делам службы, Павел с нетерпением ожидал отцовских писем. Иван Борисович писал часто и подробно отовсюду, где только ему ни приходилось бывать.
В своих письмах он обращался ко всем сыновьям, но Павел чувствовал, что в основном они писались для него.
«Места, где я был, — писал Иван Борисович из Казани, — все населены чувашами, черемисами и татарами… Наши беседы с ними бывали иногда продолжительны, мы… разговаривали с некоторым доверием и обоюдным благожелательством, к чему эти бедняки совсем не привыкли и что приобрело мне их привязанность и доверие. Низшие начальники обращаются с ними, как с животными, совершенно забывая, что это такие же люди, как они сами, и хотя невежественные и не столь просвещенные, но в основе гораздо чище и лучше, чем они, и вообще менее испорченные… И мне доставило удовольствие, что я успел облегчить этих бедных людей, избавив их от угнетателей… Это зрелище поистине весьма трогательное — видеть признательность, которую эти бедные люди мне выражали… Растроганный, я плакал теплыми слезами и благодарил бога за то, что он меня избрал орудием для облегчения участи этих несчастных бедняков… Ах, дорогие дети!.. Нет блаженства, которое равнялось бы счастию облегчить угнетенного! Вот, мои друзья, единственная и самая большая радость, которую дает нам высокое положение, — это иметь возможность делать побольше счастливых».
Иван Борисович поучает сыновей: «Чтобы получать преимущества и награды от своего государя, надо начать с того, чтобы сделаться способным быть употребляемым на службу своему отечеству с пользою. Чтобы достичь этого, надо иметь способности и необходимые знания. Тогда государь употребит их на пользу нашему отечеству».
Павел, приобретая «необходимые знания», учился охотно и легко. Каждый хорошо выученный урок обязательно отмечался: отец был строг, но придерживался мнения, что похвалы «лестны и поощрительны для сердца чувствительного».
8
В начале 1803 года Иван Борисович предпринял первые шаги по устройству будущего сыновей. Он хотел определить их в Пажеский корпус — самое аристократическое и привилегированное учебное заведение в России.
Пестель долго размышлял, к кому бы обратиться за содействием, и написал графу Шереметеву, отец которого в свое время покровительствовал Пестелю.
Иван Борисович напомнил графу о прежнем знакомстве, польстил тщеславию высокого покровителя, посетовал на свою бедность, пожаловался, что ежедневно видит, как в Пажеский корпус определяются юнцы моложе его детей, и «усерднейше» просил «о равном благотворении».
Хлопоты увенчались успехом: три его старших сына были зачислены в Пажеский корпус так называемыми «сверхкомплектными пажами» и оставлены в родительском доме для прохождения наук.
Иван Борисович принял предложение матери Елизаветы Ивановны, жившей за границей, отправить мальчиков к ней в Дрезден.
Было решено, что к бабушке поедут Павел и Владимир, а Борис, только что перенесший тяжелую болезнь, останется дома.
За границу в качестве воспитателя братьев сопровождал некий Андрей Егорович Зейдель. Зейдель не отличался ученостью, но Ивану Борисовичу он понравился своими «правилами»: религиозностью, старательностью и полным равнодушием к вопросам политики.
9
Долгая дорога утомила путешественников. Мальчики устали от обилия разнообразных впечатлений.
Но Павлу не терпелось увидеть своими глазами все те достопримечательности Дрездена, о которых рассказывала ему перед отъездом мать. В его воображении Дрезден представлялся почти сказочным городом, где чудеса ожидали его на каждом шагу.
И вот на следующий же день Зейдель повел братьев знакомиться с городом.
Они шли по немноголюдным, узким и необыкновенно чистым улицам. По обеим сторонам вставали высокие дома, похожие один на другой. Оживленно было только на большом мосту через Эльбу, соединявшем старую и новую части саксонской столицы.
В саду Брюля на каменной набережной Павел остановился в удивлении:
— Как похоже! Прямо как на Москве-реке!
— Да, некоторое сходство есть, — ответил Зейдель.
Потом они побывали в Цвингере.
Владимир устал и запросился домой. Быстро прошли по нескольким залам музея и знаменитой картинной галерее. И только в «Зеленой кладовой» — великолепном собрании драгоценных минералов, привезенных сюда со всех концов света, — мальчики задержались у витрин, полных светящихся, мерцающих и искрящихся камней.
Заметив некоторое разочарование на лице Павла, Зейдель, улыбнувшись, погладил его по голове.
— Со временем ты поймешь, что все, что ты видел сегодня, действительно чудесно.
А уже через несколько дней Зейдель объявил братьям, что пора приниматься за дело.
Часть забот об учебе и воспитании внуков бабушка взяла на себя. Она пригласила к ним лучших дрезденских профессоров. Жизнь мальчиков была подчинена строгому распорядку, и бабушка тщательно следила за его выполнением.
Но Павла воспитывали не только бабушка, Зейдель и дрезденские профессора — его воспитывало само время.
1805 год. Австрия и Россия вступили в войну с Наполеоном, под Ульмом сдалась французам многотысячная австрийская армия. Наполеон разбил союзников под Аустерлицем.
Где-то недалеко от Дрездена Наполеон теснил русскую армию.
Павел тяжело переживал неудачи соотечественников.
Здесь, в Германии, с особенной силой почувствовал он, как дорога ему Россия.
Подолгу прогуливаясь по набережной Эльбы, которая, как казалось ему, была похожа на набережную Москвы-реки, он как бы переносился мыслями на родину.
Сокровища Дрезденской картинной галереи и богатого музея постепенно раскрывались перед Павлом; у него уже появились любимые картины. Но с особенным волнением он останавливался перед выставленными в музее шляпой и шпагой Петра I. Осторожно, с благоговением касался он рукой потемневшего от времени холодного клинка — это тоже была частица великой родины.
В своих письмах к отцу он пишет о своей любви к отечеству, своей тоске по нему. «Я рад слышать, что ты продолжаешь любить наше отечество, — отвечает ему отец. — Ты настоящий русский!»
Часто в письмах отца проскальзывает беспокойство: слишком уж напряженно сейчас в Европе. Он волнуется, как бы не случилось чего с сыновьями. Получены известия о вступлении прусских войск в Саксонию. Пруссия ввязывалась в войну с Наполеоном. Французская армия вторгается в Саксонию, идя на сближение с пруссаками. Девятнадцатидневная кампания — битвы при Заальфельде, Иене, Ауэрштедте — и Пруссия перестает быть великой державой. Саксония, недавняя союзница Пруссии, изменила ей и примкнула к Наполеону.
Еще недавно Павел слышал угрозы в адрес зарвавшегося корсиканца, а теперь он видел толпы народа, с восхищением смотревшего на маленького полного человека, проезжавшего на статной белой лошади по улицам Дрездена. Этот человек, несколько дней назад слывший за кровожадное чудовище, сегодня общим мнением произведен в гении и великие полководцы.
Все это трудно было понять. Старшие, к которым Павел обращался с вопросами, не особенно охотно говорили на эту тему. Мальчик пытался во всем разобраться сам.
Из всего слышанного он понимал только то, что Наполеон, бывший когда-то простым офицером, стал императором. Павел мечтал стать великим полководцем. Он видел себя стоящим во главе русской армии и превзошедшим подвигами своего знаменитого современника.
В упорной учебе прошли четыре года. Пора было возвращаться на родину. В 1809 году братья Пестели выехали из Дрездена в Россию. Но ехали они уже не в Москву, а в Петербург, где незадолго перед тем поселился с семьей Иван Борисович, ставший к тому времени сибирским генерал-губернатором.
Пестели занимали квартиру в большом доме Голашевской на Фонтанке, в том же самом доме, где жила любовница Аракчеева В. П. Пукалова. Ее мужу, синодскому обер-секретарю, Аракчеев дал выразительную характеристику: «глуп, подл, ленив».
Зато сама Варвара Петровна — женщина весьма примечательная. Благодаря своей связи с Аракчеевым она играла большую роль в петербургском высшем свете и была падка до участия в служебных интригах.
У дома Пукаловой постоянно дежурил унтер-офицер, который должен был докладывать Аракчееву о всех, кто у нее бывает. Но Иван Борисович, минуя этот наблюдательный пост, частенько захаживал к Пукаловой с поклонами и подарками. И эти посещения не оставались без последствий. Пестель держался в милости у всесильного временщика через Пукалову.
10
После четырехлетней разлуки Иван Борисович словно заново узнавал сыновей: так они изменились. Павлу шел уже семнадцатый год. В нем появилась какая-то не юношеская серьезность, сдержанность, темные глаза смотрели порой чуть-чуть насмешливо, рассуждения Павла были немногословны и значительны. Возможно, он даже слишком рассудителен для своих лет. «Положительно из него выйдет толк, — думал Иван Борисович. — Владимир — тот еще совсем ребенок. Он всецело под влиянием старшего брата, во всем старается ему подражать и повторяет каждое его слово».
Больше беспокоил отца средний сын — тринадцатилетний Борис. Тот встретил братьев настороженно: ему показалось, что с приездом Павла и Владимира родители стали меньше обращать на него внимания.
Но Павел быстро рассеял зарождавшуюся неприязнь Бориса. Он сумел занять его рассказами о Германии, шутками и анекдотами об их заграничной жизни.
Вот и сейчас:
— Расскажи о Наполеоне, — просит Павла Борис. — Только не так, как ты Гречу рассказывал.
Павел улыбнулся, вспомнив свой разговор с Гречем.
Недавно они были с отцом у Николая Ивановича Греча, старшего учителя Петровской школы. Иван Борисович возил туда Бориса для определения в школу и не преминул прихватить с собой Павла и Владимира. Греч, слышавший, что братья Пестели видели в Саксонии Наполеона, стал расспрашивать Павла о нем. Хитрые маленькие глазки юркого учителя, высматривавшие что-то в собеседнике, смущали Павла. Греч ему не понравился. Не хотелось рассказывать о Наполеоне этому несимпатичному человеку.
— Расскажите, расскажите, Павел Иванович, — любезно, но с некоторой снисходительностью к юноше просил Греч. — Меня, знаете ли, интересует о нем положительно все. Ну, каков он собой хотя бы?
Павел усмехнулся и сказал, кивнув на Ивана Борисовича:
— Вот точно батюшка. Тот, говорят, тоже несколько потолстел.
Греч покосился на грузную малорослую фигуру Пестеля-отца, стоявшего у окна спиной к ним, взглянул на Павла и промолчал. Он, видно, понял иронию Павла и не стал больше расспрашивать его.
Сразу же после возвращения сыновей из Дрездена Иван Борисович начал хлопотать об определении их в Пажеский корпус на пансионерские места. В образовании Павла и Владимира оказался досадный пробел: они не занимались «политическими науками».
Для занятий с сыновьями Пестель пригласил профессора Карла Федоровича Германа, преподававшего эти науки в Пажеском корпусе.
Профессор Герман к тому времени был уже автором многих научных трудов, впоследствии, в 1821 году, запрещенных, так как, по мнению властей, они «имели вообще основанием своим и целью порицание христианства, оскорбление достоинства церкви, существующего в России правления и вообще верховной власти».
Карл Федорович много и охотно говорил по-русски, хотя русский язык знал далеко не в совершенстве и порой даже затруднялся в выборе слова. Но объяснения его были оригинальны и увлекательны.
Герман знакомил Павла с учениями французских просветителей XVIII века, рассказывал о государственном устройстве европейских стран и России.
Поступление в Пажеский корпус в 1810 году несколько осложнялось: не было свободных вакансий.
Но царь сделал исключение для сыновей сибирского генерал-губернатора.
Письмом от 1 марта 1810 года министр Голицын уведомил главного директора Пажеского корпуса Клингера, что государь «по прошению сибирского генерал-губернатора тайного советника Пестеля высочайше указать соизволил: из числа трех сыновей его, сверхкомплектных пажей, старшему Павлу и младшему Владимиру, по представлении их в Пажеский корпус, произвесть ныне же экзамен и потом, приняв их в сей корпус на собственное их содержание, поместить в те классы, к которым по экзаменам окажутся принадлежащими». Кроме того, Голицын сообщил, «что по неимению теперь в Пажеском корпусе пансионерских вакансий его императорское величество, из особенного уважения к службе Пестеля, всемилостивейше дозволяет двум вышеупомянутым сыновьям его жить у директора корпуса генерал-майора Гогеля, который (как объявил мне Пестель) соглашается взять их к себе…».
ГЛАВА ВТОРАЯ ПАЖЕСКИЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРПУС
Мои требования к господам камер-пажам не велики: лишь бы мне при их ответах было ясно — Макдональд ли был на Треббии или Треббия на Макдональде.
Из лекции профессора Пажеского корпуса1
мае 1810 года Павел Пестель успешно выдержал вступительные экзамены и был зачислен в старший класс Пажеского корпуса. Пажеский его величества корпус в течение восьми лет находился на Фонтанке в доме Неплюева. 1 сентября 1810 года он переехал на Садовую улицу в роскошный дворец, построенный знаменитым Растрелли для елизаветинского канцлера Воронцова. При Павле здесь помещался капитул Мальтийского ордена. Когда после воцарения Александра I мальтийские рыцари покинули Воронцовский дворец, он пустовал до водворения в нем пажей.
Дворец на Садовой при всей своей обширности и богатстве не был приспособлен под учебное заведение — это было жилище богатого русского вельможи XVIII века. Великолепная двойная лестница, украшенная статуями и зеркалами, вела во второй этаж, где размещались дортуары и классы. Старшие пажи жили в огромном двусветном зале и в трех больших парадных комнатах, украшенных плафонами с изображением сцен из Овидиевых «Превращений». Младшие же пажи теснились в низких антресолях, предназначенных в свое время для прислуги, хора и музыкантов.
Пажеский корпус был закрытым военно-учебным заведением, «где, — как говорилось в «Положении», — благородное юношество чрез воспитание приготовляется к воинской службе строгим повиновением, совершенною подчиненностию и непринужденным, но добровольным выполнением должностей своих. Будущее счастие и слава молодых дворян зависит от упомянутых обстоятельств».
В корпусе предусматривалось преподавание обширного круга наук. Тут было все, начиная с «образования в слоге на российском, французском и немецком языках» и кончая высшей геометрией, статистикой и механикой.
Но подбор преподавателей оказался далеко не блестящим.
Главный директор Пажеского и Кадетского корпусов немецкий генерал на русской службе Фридрих-Максимилиан Клингер — сухопарый человек с неподвижным лицом, никогда не освещавшимся улыбкой, угрюмый и медлительный — был пугалом для своих подопечных. Прозвище «белый медведь» прочно закрепилось за ним.
«Хорошо помню его, — вспоминал впоследствии один из учеников Клингера, декабрист Розен, — когда… быв уже унтер-офицером и дежурным по корпусу, приходилось рапортовать ему до пробития вечерней зори. Строго было приказано входить к нему без доклада, осторожно, без шума отпирать и запирать за собой двери, коих было до полдюжины до его кабинета. Всякий раз заставал его с трубкой с длинным чубуком, в белом халате с колпаком полулежачего в вольтеровских креслах, с закинутым пюпитром и с пером в руке… Бывало, повернет голову, выслушает рапорт и продолжает писать».
Почти не обращая внимания на воспитанников, Клингер разговаривал с ними только тогда, когда кто-нибудь из них был наказан.
— Вам розог дали? — обыкновенно спрашивал Клингер.
— Дали.
— Вам крепко дали?
— Крепко.
— Хорошо! — и на этом беседа заканчивалась.
Клингер отличался незаурядной ненавистью ко всему русскому. Некоторые остряки объясняли это неудачным началом его военной карьеры в России: он служил в Крыму, при армии Румянцева, и не участвовал ни в одном сражении, но тем не менее едва не поплатился жизнью, искусанный бешеной собакой.
Все человечество Клингер делил на два разряда — на людей и на русских. В России, полагал он, надо иметь только хороший желудок, а с хорошей головой надо жить в Германии. И этот человек был не только главным директором Пажеского корпуса, но и попечителем Дерптского учебного округа и директором 1-го кадетского корпуса в Петербурге.
Не пользовался симпатиями пажей и директор корпуса генерал Гогель. Артиллерист-теоретик, он больше интересовался своими пушками-единорогами, чем пажами. За угрюмость и молчаливость пажи прозвали его «букой».
Инспектор классов Оде де Сион, отвечавший за постановку преподавания наук в корпусе, тоже не дарил пажей своим вниманием: ревностный масон, он был всецело занят делами своей масонской ложи. Оде де Сион любил хорошо покушать и выпить. Иногда после обеда он заходил в какой-нибудь класс, где не было учителя, устраивался поудобнее на кафедре и преспокойно дремал час-полтора, пока не приходило время ехать в ложу.
Пажи в грош не ставили большинство своих корпусных преподавателей и делали на их уроках, что хотели. Излюбленными объектами шуток были учитель французского языка Лёльо и преподаватель физики Вольгсмут.
Семидесятипятилетнего старика Лёльо пажи своими шалостями и проказами довели до того, что он решился заключить с ними договор, по которому два утренних урока в неделю учились, а третий, послеобеденный, веселились. Пажи прозвали этот третий урок «вечеринкой».
Обыкновенно «вечеринка» начиналась с похвальной речи старику учителю; после этого хором пелся сложенный в честь его же гимн; в заключение раздавался оглушительный салют крышками пюпитров. Пажи с прибаутками и кривлянием тянулись к учителю с табакерками, и он должен был одолжаться из каждой. Под конец «урока» ему торжественно подносилась огромная, чуть ли не с тарелку величиной, табакерка, на которой красовался портрет Рюрика. Табакерка была славна тем, что однажды преподавателя истории Струковского спросили, указывая на портрет: «Василий Федорович, похож ли Рюрик?» — «Как теперь вижу!» — воскликнул историк.
Лёльо наполнял все три свои табакерки из «Рюрика», и на этом «вечеринка» кончалась.
Не успевала появиться на пороге класса жалкая фигура учителя физики Вольгсмута в черных лосиных панталонах, в синем мундире с засаленным вышитым бархатным воротником, как пажи окружали его и требовали, чтобы на следующем уроке Вольгсмут непременно показал бы им фокусы.
Учитель возмущенно принимался объяснять, что это не фокусы, а физические опыты, но юноши не отставали. Наконец Вольгсмут сдавался, но с условием, чтобы пажи достали на необходимые издержки рубля три. Деньги собирались в складчину и не иначе, как медяками.
Когда на следующий урок являлся Вольгсмут со своими пробирками, ему торжественно высыпалась на кафедру основательная пригоршня медяков. Все удовольствие заключалось в наблюдении, как Вольгсмут, красный от смущения, собирал эти медяки, завязывал в платок и прятал в угол кафедры.
Это было едва ли не самое сильное впечатление от уроков физики.
Не лучше было и с преподаванием истории и математики.
От уроков истории оставались в памяти какие-то смутные сведения о том, как «Святослав ел кобылятину и что-то про Олегова коня».
Никаких учебников, кроме учебника математики Войцеховского, не существовало. Пажи должны были записывать лекции учителя и по ним готовить уроки. Но и из единственного учебника пажи вызубривали только несколько задач и формул. Этого считалось вполне достаточно, тем более, что из класса в класс переводились по общему итогу всех баллов, включая и баллы за поведение. Потому нередко случалось, что ученики, не усвоившие толком арифметики, принимались в следующем классе за алгебру и геометрию.
2
Но каково бы ни было преподавание курса наук в корпусе, если заниматься всерьез, требовалось много времени и усидчивости. С большинством предметов Пестель впервые познакомился только в корпусе. Приходилось порой начинать с азов. Вспоминая годы учения в Дрездене, Пестель находил, что многое, чему их с братом учили, оказалось бесполезным и даже мешало занятиям. Он откровенно написал об этом бабушке. Но она думала иначе.
«Я хочу сделать только одно замечание, — писала она внуку в ответном письме, — по поводу того, что ты мне говоришь о ваших занятиях в Дрездене. Не думай, мой милый Павел, что какие бы то ни было знания могли быть когда-либо бесполезным приобретением для человеческого ума. Все, знания просвещают ум, и жизнь часто создает неожиданные обстоятельства, в которых они оказываются полезными. Но ты прав, полагая, что надо подвигаться вперед побыстрее и что учебные занятия должны прежде всего сообразоваться с той карьерой, которую себе избираешь».
Из всех предметов больше всего привлекала Пестеля политическая экономия. Старания Германа не пропали даром: он сумел заронить в Пестеле живой интерес к своему предмету.
С осени 1810 года Герман начал читать первую — историческую — часть своего курса. Из его лекций у Пестеля постепенно составились обширные своды под заглавиями «Торговля», «Просвещение», «Статистика». В качестве дополнительного пособия Герман рекомендовал и свои сочинения, которые Пестель тоже старательно конспектировал. Эти конспекты Пестель озаглавил «Практические начала политической экономии».
Все эти записи Пестель тщательно сохранял и внимательно штудировал, а вместе с тем старался достать и перечитать все книги, рекомендованные Германом для изучения политических наук. Тут были сочинения французских просветителей — Монтескье, Руссо, Мабли и английских философов — Локка, Смита, Бентама; множество специальных трудов: «Политика» Юста, «Политические учреждения» Липфельда, «Курс политики» Фосса и многие другие.
Пестель серьезно взялся за учебу и быстро вышел в первые ученики.
Пажеская жизнь была строго размерена: в семь часов утра — подъем, с восьми до одиннадцати — уроки, с одиннадцати до двенадцати — гимнастика, «фрунт» или танцы, в двенадцать — обед, с двух до четырех — опять уроки, в пять часов — чай, в восемь — ужин и в половине десятого — сон. Так каждый день.
Разнообразие вносила только дворцовая служба — предмет влечения большинства пажей. Пажи обязаны были присутствовать во дворце при выходе императорской фамилии. Их расставляли по обеим сторонам дверей, через которые должна была следовать царская семья, и они стояли, гордые сознанием своего положения, завитые, напудренные, с большими треуголками в руках. Малыши по нескольку дней не смывали пудры с завитых головок, чтобы похвалиться тем, что они были при дворе.
Каждое посещение дворца было предметом нескончаемых толков и пересудов.
Несколько иной была жизнь камер-пажей. В камер-пажи «возвышались» учащиеся старших классов «по особливой милости монарха единственно за отличие в учении и поведении». Вместе с золотыми шевронами на мундире, шпагой и шпорами они получали кое-какие привилегии по сравнению с простыми пажами. И главной было право появляться вне корпуса без провожатого — без гувернера, дядьки, лакея.
Камер-пажей было немного, и каждый из них был приставлен к какому-нибудь лицу царской фамилии. Больше всего забот было у пажей, приставленных к вдовствующей императрице Марии Федоровне. Дежурный камер-паж верхом сопровождал ее в каждодневных поездках по находившимся под ее попечением больницам и институтам благородных девиц.
После возвращения во дворец камер-паж переодевался и нес службу у стола во время обеда. На обеды приглашалось множество гостей. «Разговоры их были замечательны, — вспоминает один из камер-пажей, — речь шла то о заграничных вояжах, то о политических новостях или об известиях из внутренних областей России, то об ученых и литературных предметах, а иногда рассказывались анекдоты… Стоя за стулом императрицы, мы с жадностью вслушивались во все разговоры, которые знакомили нас с кругом военного общества и служили нам великой пользой для прохода со школьной скамьи в большой свет». Сделать этот «проход» возможно лучше — вот что заботило пажей в первую очередь.
3
Пестель чувствовал себя на голову выше своих товарищей пажей, вечно занятых дворцовыми историями и корпусной жизнью. Кое-кто стал ему всерьез завидовать, но все они отдавали должное его знаниям и уму. «Пестель меня обидел, но он, по крайней мере, умен», — говорил один из однокашников, которого Пестель обогнал в учебе.
Еще больше пажи стали уважать Павла после того, как он однажды заявил начальству открытый протест против наказания товарища. Это было чуть ли не бунтом, дело грозило плохо обернуться для Пестеля. Но начальство по каким-то причинам историю замяло, и на Пестеля даже не наложили взыскания.
«На товарищей влиять любит, самостоятелен и замкнут», — в таких словах корпусное начальство характеризовало Пестеля в кондуитном списке. Но воспитатели не замечали причины самостоятельности и замкнутости, не замечали того, что для Пестеля годы учебы в Пажеском корпусе стали годами усиленных поисков, годами, когда складывалось его мировоззрение, когда он сам пытался найти ответы на занимавшие его вопросы.
Много фактов стало известно Пестелю из исторической части курса Германа, со многими идеями познакомился он, слушая вторую — философскую — часть, в которой Герман утверждал, что «нет ничего столь вредного, как пустое мнение, что в коренном законе ничто и никогда не должно быть переменяемо».
«Государства приняли нынешнее свое положение, — поучал Герман, — точно так, как земной шар. Землетрясения, огнедышащие горы, большие наводнения дали земному шару нынешний его вид. Устройство государств, насильственнейшие мятежи, бунт революций, потом мирные договоры между сражающимися — дали нынешним государствам образование». Очень осторожно Герман разъяснял слушателям, что общее согласие между людьми есть первое основание государства.
Деспотизм, по мнению Германа, ненормальное явление, но «во всех возможных видах правления, — говорил Герман, — есть свои выгоды».
Демократия, хотя и обеспечивает всем гражданам наибольшую свободу и участие в. правлении, но в ней неизбежны «беспрерывные бунты и раздоры», «хитрые люди вкрадываются в любовь народа, и демагоги… делаются хуже, нежели какой-либо монарх».
При аристократическом правлении все обстоит как будто бы лучше, но при нем «те, кои не имеют власти, находятся в угнетении».
Наконец Герман переходит к неограниченной монархии.
«Монархия имеет ту бесценную выгоду, что вся верховная власть соединена в одном физическом лице монарха, который, как бог, един и всемогущ на земле… Он повелевает, и все немедленно исполняется…» Далее Герман поясняет, имея в виду, конечно, Россию: «Для обширного, еще младенствующего государства, где все источники народного богатства еще не открыты, где сношения между жителями простые, нельзя желать лучшего образа правления. Через несколько десятилетий такой народ, имевший счастье быть управляемым государями, подобными Марку Аврелию, Антонину и другим, удивительные делает успехи во всех отношениях и заменяет целые столетия годами; но эта же самая быстрота в управлении неограниченной монархии заключает в себе самое великое зло, когда Тиверий, Клавдий и Нерон занимают престолы».
Лучше всего, по мнению Германа, сочетать народные представительные учреждения с участием в них наследственной аристократии с монархией, где государь исполняет роль верховного представителя страны. К участию в выборах в представительные учреждения страны должны допускаться люди образованные, разбирающиеся в государственных вопросах, а так как только состоятельные люди могут получать соответствующие знания, то к выборам должны допускаться люди с высоким имущественным цензом. Тем более, что бунты являются злом, а при бунтах больше всего теряют богатые люди, то естественно, что они и будут больше всего заботиться о сохранении должного порядка в стране.
Образец государственного устройства для Германа — Англия. Он не устает восхвалять ее. Но не в каждой стране, считает он, возможно установление порядков, подобных английским.
Москва конца XVIII века. Гравюра художника Делабарта.
Дрезден.
Россия — страна патриархальная, которой одно время грозила гибель от междоусобий и чужеземных завоеваний, и только, мол, деятельность таких самодержцев, как Иван IV и Петр I, и благотворная опека династии Романовых спасли ее от гибели.
Но, внимательно слушая лекции Германа, Пестель стал обращать внимание на противоречия в его высказываниях, на выводы, вовсе не следующие из сообщаемых фактов, и на факты, не укладывающиеся в рамки теории. Чтение книг тоже наводило на мысли, несогласные с мыслями Германа. Ведь недаром же сам Герман как-то сказал о Пестеле: «Другие учатся, а он понимает».
Пестель не мог согласиться с мнением Германа в отношении России: возвеличивание германских народов перед славянскими казалось ему неправильным. Пестель не боялся делать далеко идущие выводы из теорий, преподававшихся Германом. Крепостное право он, безусловно, осуждал, и не находил он, что Россия благоденствовала под управлением Романовых.
«Пестель имеет ум, в который извне вливаются вольнолюбивые внушения», — отметил сам Клингер. Главный директор корпуса был далек, конечно, от того, чтобы искать источник внушений в профессоре Германе, но его сильно беспокоили «неудобные», по его мнению, отзывы воспитанника Пестеля не только о корпусных порядках и о нем, Клингере, но даже о «значении помазания» его величества.
Разговаривая с товарищами, Пестель не стеснялся в своих высказываниях. Порицая крепостное право, он говорил о желательности равенства всех людей.
Во всем этом сказывалось не только влияние лекций Германа: как раз в это время Пестель знакомится с учением масонов. Отдельные положения масонской философии — требование равенства всех людей, призывы к нравственному самоусовершенствованию — проникали в общество. Масонство интересовало и влекло Пестеля к себе. Он знал, что инспектор классов Пажеского корпуса Оде де Сион играет не последнюю роль среди петербургских масонов, и не раз начинал разговор о масонстве в его присутствии.
4
24 декабря 1810 года Пестеля производят в камер-пажи. В экзаменационном списке камер-пажей и пажей он поставлен первым. Особенные успехи он показал в «дипломации», «политике», иностранных языках и в некоторых военных дисциплинах.
По существующему положению, благодаря своему первенству Пестель был определен нести пажескую службу при самом царе.
Прошел год. В декабре 1811 года в Пажеском корпусе начались выпускные экзамены.
Все восемь выпускников мечтали о первом месте: первый по выпуску получал чин поручика и дорогую дорожную шкатулку, второй — чин подпоручика, а остальные выпускались всего лишь прапорщиками. Но шансы на первенство имели только шедший первым учеником Пестель и второй ученик Ушаков, затем по списку шел Адлерберг и уже за ними — Пущин, Лукашевич, Окунев, сын инспектора классов Оде де Сион и Беклешов.
В 1811 году впервые в истории Пажеского корпуса, кроме экзамена в науках, должен был быть произведен экзамен и по «фрунту».
До этого пажи не посвящали много времени строе вой службе, только летом, всего один месяц, камер-пажи, командуя небольшими взводами, постигали науку сложных деплояд[2] с контрмаршами и построениями анешикье [3]. При таком «фрунтовом профессоре», каким был Александр I, этого было явно недостаточно.
В начале декабря прошли выпускные экзамены в науках.
Через несколько дней сам царь экзаменовал выпускников Пажеского корпуса по «фрунтовой службе». Для двоих это кончилось печально: Ушаков и Оде де Сион были отставлены от выпуска. Адлерберг горько сожалел, что среди них не оказался и Пестель,
так как с выбытием Ушакова он уже передвинулся на второе место, а неудача Пестеля давала бы ему первенство. Опечаленный Адлерберг поспешил пожаловаться своей матери.
К его матери очень благоволила императрица Мария Федоровна.
— Мой сын учился с успехами всему, чему уча г в корпусе, — жаловалась Адлерберг царице. — Он сейчас по праву мог бы иметь первое место, если бы не Пестель. Да виноват ли мой сын, что его не учили тому, чему учат в Дрездене? Где тут справедливость?
Мария Федоровна обещала посодействовать.
Теперь Адлерберг во всеуслышание заявлял в корпусе, что императрица-мать постарается навести должный порядок в отношении пажей-выпускников и укажет некоторым выскочкам подобающее им место.
Под влиянием Марии Федоровны Клингер представил к производству в поручики Адлерберга, а не Пестеля.
Но тут в дело вмешался Пестель-отец. Павел был его гордостью, успехи сына были его успехами. Через Пукалову он просит заступничества у Аракчеева и подает царю жалобу на действия Клингера.
В ответ Клингер написал докладную записку, подробно аргументируя, почему Пестель должен быть отставлен от выпуска, а первенство должно принадлежать Адлербергу. Во-первых, Пестель пробыл в корпусе всего полтора года, а камер-пажом — всего десять месяцев. Между тем «не было еще примеру, чтобы кто из камер-пажей выпущен был, не пробыв, по крайней мере, два года в сем звании». Во-вторых, «дабы превзойти других, должен был он спешить в приобретении сказанных им при экзамене познаний, а потому едва ли они могут быть прочными». В-третьих, «камер-паж Адлерберг пробыл в этом звании уже два года и во всех частях имеет хорошие познания, соединенные с основательными понятиями по части военной экзерциции». Клингер возмущался поступком Пестеля-отца, заявлял, что это первый случай вторжения родителей в сферу распоряжений пажеского начальства. Но главным в записке было не это. Клингер решил показать царю «истинное» лицо Павла Пестеля: тут припоминаются и его политические высказывания, и выступление в защиту товарища, и критика порядков в корпусе, и слишком самостоятельный характер. В заключение говорилось, что представление Пестеля к производству в поручики может разрушить «доверие к офицерам, из корпуса выпускаемым».
Конечно, такая записка должна была повлиять на решение царя, притом за Адлерберга ходатайствовала сама мать Александра I. Но зато в качестве заступника Пестеля выступил Аракчеев. Друг царя подошел к вопросу с хозяйственной точки зрения. Он доложил Александру, что Адлерберг уже награжден казенным содержанием и обучением, а Пестель не получил от казны ничего, учился на свой счет и потому заслуживает преимущества.
Царь стоял перед дилеммой: нельзя обидеть мать и нельзя отказать другу. Он успокоил обоих, сказав, что поступит по справедливости.
14 декабря 1811 года на традиционном смотре в Зимнем дворце царь поздравил всех выпускников Пажеского корпуса прапорщиками нового, только что сформированного лейб-гвардии Литовского полка.
Но имя Павла Пестеля, как первого по выпуску, было все-таки выбито золотыми буквами на почетной мраморной доске в белом зале Пажеского корпуса.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
— Почему сделались вы масоном?
— Для тайны, и чтобы из мрака перейти в свет.
— Что такое тайна масона?
— Знаки, приметы и многие слова.
Из масонского катехизиса1
ейб-гвардии Литовский полк был укомплектован нижними чинами и офицерами из гвардейских и старейших армейских частей. Недостававшее количество офицеров пополнили выпускники из военноучебных заведений — Пажеского и 1-го кадетского корпусов.
24 декабря 1811 года Пестель был внесен в списки полка. Он попал во вторую гренадерскую роту и был назначен командиром стрелкового взвода.
Тон в полку задавали старые служаки, проделавшие не одну кампанию. «Усердие к службе… было отличительной чертой офицеров того времени», — пишет историк Литовского полка о первых месяцах существования полка. Офицеры-литовцы мало походили на офицеров других гвардейских полков: как правило, люди небогатые, они жили на жалованье и с большим трудом избегали долгов.
Это была не та среда, с которой, по мнению Ива-на Борисовича, Павел должен был сближаться. Отец поспешил познакомить сына с людьми своего круга.
— Чем больше молодой человек, вступающий в свет, — поучал он сына, — имеет видных знакомств, тем более составляется о нем хорошее мнение, хотя бы даже и не знали его близко.
Именитые сановники и известные богачи, кавалерственные дамы и пожилые фрейлины с влиянием при дворе — все осматривали представляемого им юного прапорщика, равнодушно или благосклонно кивали ему и говорили Ивану Борисовичу несколько обычных в таких случаях комплиментов.
Но вскоре у Павла появились новые знакомые и, пожалуй, не менее блистательные, чем те, к которым склонял его отец: вольнолюбивые настроения и поиски истины привели его к масонам.
2
Однажды, уже после выпуска, очутившись как-то с глазу на глаз с Оде де Сионом, Павел сказал, что его заветное желание — вступить в орден масонов. Оде де Сион внимательно посмотрел на Пестеля.
— Вы знакомы с учением Вольных каменщиков? — спросил он.
— Я слышал о цели, которую преследуют масоны, — ответил Пестель, — и считаю ее благородной.
Старый масон молчал. Он и прежде обращал внимание на серьезного и пытливого юношу, так непохожего на однокашников.
— Я буду вашим поручителем, — после недолгого раздумья сказал он Павлу. — Надеюсь, что через две недели вы вступите в ложу.
Две недели был срок, во время которого масоны собирали сведения о желающем вступить в ложу и решали, достоин ли он стать масоном.
Прошли две недели. В назначенный день и час совершился обряд посвящения Пестеля в масоны. После посвящения Пестелю вручили белый рабочий фартук — запон, лопаточку, две пары перчаток и знак ложи — золотой прорезной равносторонний треугольник на алой шелковой ленте. В треугольнике две руки, соединенные в братском рукопожатии, и надпись: «Les amies réunis» — «Соединенные друзья». Таково было название ложи.
Начались торжественные речи с объяснением сокровенного смысла обряда принятия в ложу, с толкованием масонских символов и аллегорий.
3
Сложная масонская символика и туманные аллегории представляли широкий простор для самых различных толкований, в которых далеко не всегда разбирались даже руководители лож. «Можно быть масоном и не знать масонства», — простодушно высказался как-то один из столпов русского масонства того времени.
Масоны относили возникновение своего ордена к глубокой древности, но многочисленные документы предоставляют возможность осветить действительную и не такую уж древнюю его историю.
В средние века ремесленники одной и той же профессии объединялись в особые ремесленные корпорации — цехи. Эти объединения ставили себе за цель бороться с конкурентами, не входящими в цех, сохранять переходившие из поколения в поколение правила и секреты мастерства; руководители цеха следили также за нравственностью и поведением его членов.
С течением времени цехи утратили свое значение и распались. Дольше всех, вплоть до XVII века, существовал цех строителей-каменщиков в Англии.
А с начала XVII века повелся обычай: знатные покровители строителей стали входить в цехи почетными каменщиками, или, как их называли, «принятыми».
И вскоре получилось, что настоящих-то ремесленников-каменщиков в ложах не оказалось вовсе, а остались одни «принятые».
Как и прежде, масоны собирались на свои собрания, на которые не допускали непосвященных. Но масонские ложи превратились теперь в сообщества людей, объединившихся на основе приверженности к одному религиозно-этическому учению о самоусовершенствовании. Путем самоусовершенствования они мечтали в будущем, когда все человечество проникнется идеями масонства, создать «рай на земле».
Религиозно-этическое учение масонства своей гуманистической направленностью — требованием равенства всех людей, отрицанием насилия и призывами к совершенствованию духовных качеств человека — сразу привлекло к себе большое число сторонников. С начала XVIII века масонские ложи начинают возникать во всех странах мира. В это же время появились и первые масоны в России.
Масонские ложи объединяли главным образом людей, принадлежащих к привилегированным слоям общества. Одной из своих высших добродетелей масоны считали лояльное отношение к правительству; и, как правило, они не ставили своей целью борьбу за уничтожение несправедливостей существующего строя.
Утратив «секреты и тайны» строительного мастерства, масоны тем не менее продолжали объявлять себя хранителями некой «тайны». Старинные цеховые обряды получили новое истолкование, а орудия производства каменщиков приобрели символическое значение.
Свои собрания и беседы масоны называли «работами». Они сохранили старое строение ложи: три цеховые степени — ученика, товарища-подмастерья и мастера. Занятия самоусовершенствованием масоны именовали «обработкой дикого камня». Отвес, по учению масонов, символизировал равенство всех людей, циркуль — круг занятий; также символическое значение приобрели запон, молоток и лопаточка.
И так достаточно путаная философия масонства еще более усложнилась, окутавшись мистическим туманом. Мистики, алхимики, астрологи — просто заблуждающиеся люди и откровенные мошенники заполнили масонские ложи всего мира.
Но простота старых цехов вскоре перестала удовлетворять масонов: вместо трех иерархических степеней, или «градусов», как называли их масоны, появились системы с тридцатью и более степенями. Выполнение обрядов, необычайно усложнившихся, стало главным в деятельности лож.
Масонские ложи превратились в своеобразные клубы, где братья-масоны встречались на маскарадных торжественных заседаниях и за дружескими обедами.
В масонстве существовало множество различных течений. Часто в ложи проникали веяния времени. Так, немецкие ложи XVIII века отличались мистическим направлением, французские — периода французской революции — пронизывались революционными идеями. Для русского масонства характерна филантропическая деятельность.
Масонскую ложу под названием «Соединенные друзья», в которую был принят Пестель, основали в 1802 году действительный камергер Александр Алексеевич Жеребцов, Оде де Сион и граф А. Остерман-Толстой. Основанная знатью, она пополнялась новыми членами, преимущественно из верхов петербургского общества. Ложу посещали герцог Александр Вюртембергский, граф Станислав Потоцкий, генерал-майор Бороздин, министр полиции Балашов, церемониймейстер двора Нарышкин и другие. Членом ложи был и великий князь Константин Павлович.
В работах ложи участвовали также музыканты, артисты, литераторы. Слова гимнов и кантат, торжественно распеваемых братьями-масонами, написал Василий Львович Пушкин, автор вольной поэмы «Опасный сосед». Музыку к словам Василия Львовича Пушкина сочинил композитор Кавос, тоже член ложи «Соединенных друзей». Всего в ложе было пятьдесят действительных членов и около тридцати почетных.
Эта многолюдная аристократическая ложа не осо-бенно утомляла себя поисками масонской «истины», умозрительными беседами о таинствах и «работой над диким камнем».
Акты[4], по которым «работала» ложа, по отзыву просматривавшей эти акты в 1810 году полицейской власти, «состояли из одних токмо обрядов и церемониалов, учения имели мало и предмету (то есть цели) никакого».
То же самое подтвердил и допрошенный по этому поводу руководитель ложи «Соединенных друзей» Жеребцов. Он сказал, что масонство «никакой точной цели не имеет и масонской тайны никакой не ведает».
Ложа «Соединенных друзей» была просто одним из столичных аристократических клубов, без определенной программы и цели, посещаемых аристократами и ищущими у них покровительства.
Но не мода и не соображения карьеры привлекли Пестеля к масонам.
Жеребцов был посвящен в масоны во Франции во времена консульства, когда еще в среде французского масонства чувствовалось дыхание недавней революции, масонские акты были полны революционной фразеологией и самыми радикальными настроениями. На основании этих-то актов и открылась ложа «Соединенных друзей».
Ритуал ложи заключал в себе своеобразный культ солнца, сил природы, проповедовалась «религия природы», а не обнаруженным полицией «предметом» было: «Стереть между человеками отличия рас, сословий, верований, воззрений, истребить фанатизм, суеверия, уничтожить национальную ненависть, войну, объединить все человечество узами любви и знания». На восточной стене ложи красовался треугольник с вписанными в него тремя буквами. Это были первые буквы слов «солнце», «знание», «мудрость» — девиза ложи.
Были среди актов ложи и такие, которые говорили гораздо больше и смелее, чем вышеприведенные общие рассуждения. Один такой акт «Исповедание веры франкмасонов» был однажды зачитан в присутствии цесаревича Константина Павловича.
— Бог, создав людей, — читал брат-ритор, — одарил их полною прирожденною свободою, равною и общею всем, вследствие чего никто не может уменьшать ее и ограничивать, не нанося явного и недопустимого оскорбления как богу, так и нам самим, кому даровано это великое преимущество…
Чем дальше читал ритор, тем более неловко чувствовал себя управляющий мастер: он начинал понимать, что приготовил для цесаревича не особенно удачный сюрприз. Братья-масоны смущенно опустили глаза, и только один Константин Павлович с любопытством и изумлением поглядывал то на мастера, то на ритора.
Жеребцов с тревогой думал: «Неужели ритор не догадается пропустить эти опасные места». Но, увлеченный чтением, ритор продолжал:
— Поэтому великим предприятием, приятным богу и достойным людей, одаренных храбростью и чувством чести, является то, чтобы восстановить этот храм, столь давно разрушенный, чтобы вооружиться и восстать против недостойных узурпаторов, а если понадобится, то и умертвить их.
И хотя потом говорилось, что призыв «умертвить недостойных узурпаторов» вовсе не относится к ближайшему времени, что масоны должны «усиливаться и умножаться в тени тайны», после окончания чтения акта наступило неловкое молчание.
Молчание нарушил Константин Павлович. Он пожелал иметь копию с этого «очень любопытного» документа.
…Много лет спустя в Военно-учетном архиве среди бумаг великого князя Константина была обнаружена копия с этого документа, снабженная надписью: «С подлинным верно. Дежурный генерал Потапов», Подлинник же бесследно исчез.
Общее направление бесед в ложе было либеральным — вполне в духе времени. Но вскоре после прочтения «Исповедания веры» в ложе из числа масонов были выделены три цензора, на их обязанности лежало просматривать все речи, которые должны быть произнесены на заседании ложи.
Считалось, что можно критиковать некоторые частные недостатки в стране, ополчаться на человеческие пороки вообще, отнюдь не конкретизируя их в применении к российской действительности, и уж, конечно, никак не касаться самодержавно-крепостнического строя.
У Пестеля, как и у многих масонов, уже тогда с трудом уживались мысли о свободе и равенстве всех людей с проповедуемой официальными историками необходимостью для России самодержавного правления. Эти размышления были вполне в духе времени, и Пестель верил, что познание масонских тайн один из путей разрешения всех сомнений.
Он и не подозревал, что Жеребцов «никакой масонской тайны не ведает», и надеялся, что, став мастером, так как только мастерам открывалась тайна, обретет тайный смысл масонского учения и узнает цель деятельности ложи.
И вот в марте 1812 года он получил патент:
«Почтенная ложа Соединенных Друзей,
законно учрежденная на Востоке С.-Петербурга Всем Востокам, рассеянным по двум полушариям,
Привет Единение Сила
Мы, нижеподписавшиеся должностные лица, чиновники и члены почтенной ложи св. Иоанна под отличительным названием Соединенных Друзей объявляем и удостоверяем, что брат Павел Пестель, 19 лет, офицер гвардейского Литовского полка, был возведен в три символические степени королевского искусства. Достойный этой милости в силу своего прекрасного поведения как в ложе, так и в среде профанов, он сумел снискать уважение и дружбу своих братьев по ложе».
Пестель стал мастером, но «мастерские тайны» узнавать было уже некогда. И не им суждено было просветить Пестеля; просветила его великая эпопея Отечественной войны 1812 года.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Мы — дети 1812 года.
С. Муравьев-Апостол1
естоким ударом по престижу Александра I были войны с Францией 1804–1807 годов.
Русское дворянство отлично понимало, что именно вмешательству бездарного в военном отношении царя оно обязано тем, что двуглавого орла «ощипали» под Аустерлицем. После поражения русской армии под Фридляндом в Восточной Прусии Александр вынужден был просить у Наполеона мира, который и был заключен в Тильзите.
Россия забыла, когда ее вынуждали заключать мир. Даже безумный Павел не доводил страну до такого унижения. Тильзит казался несмываемым позором.
Как отнеслось русское дворянство к Тильзитскому миру, хорошо свидетельствует замечание графа Воронцова, который предлагал, «чтобы сановники, подписавшие тильзитский договор, совершили въезд в столицу на ослах».
Невеселым было возвращение русской армии с войны. «От знатного царедворца до малограмотного писца», от генерала до солдата — всё, повинуясь, роптало с негодованием», — писал впоследствии мемуарист Вигель. «Земля наша была свободна, — вспоминал это время Греч, — но отяжелел воздух; мы ходили на воле, но не могли дышать, ненависть к французам возрастала по часам». Шведский посол Стединг доносил своему королю Густаву IV, что в Петербурге «не только в частных собраниях, но и в публичных собраниях толкуют о перемене правления».
До перемены дело не дошло, но правительство Александра к началу 1812 года оказалось в очень затруднительном положении. Дворянство не могло простить царю позор Тильзитского мира и в то же время очень неохотно шло на жертвы ради новой войны. Современник, характеризуя настроение московского дворянства, писал: «Целый город в унынии, десятая часть наших доходов должна обращаться в казну… Подать сама не так бы была отяготительна… но больно платить с уверением, что от помощи сей не последует польза… Нет упования в мерах правительства: не получится и отчета в их употреблении». Правительству совершенно перестали верить, не надеялись, что оно сможет когда-либо взять реванш за Аустерлиц и Фридлянд.
Был еще один фактор, который очень тревожил правительство. Ненависть к французам-победителям не мешала проникновению во все слои населения французской революционной «заразы». Пример великой революции наводил кое-кого на страшные для самодержавного правительства мысли.
Когда графу Ростопчину, будущему московскому главнокомандующему, было предложено составить записку о состоянии Москвы, он с тревогой сообщал: «Трудное положение России, продолжительные войны и паче всего пример французской революции производят в благонамеренных уныние, в глупых — равнодушие, а в прочих — вольнодумство». Перспективы на будущее, по Ростопчину, очень печальные: ожидается не больше и не меньше как революция, «начало будет грабежи и убийство иностранных (против них народ раздражен), а после бунт людей барских, смерть господ и разорение Москвы… Трудно найти в России и половину Пожарского; целые сотни есть готовых идти по стопам Робеспьера и Сантера». Другой осведомленный человек, не столь трагических настроений, все же находил, что его соотечественники «не изображали в себе сей душевной силы, какой должно ожидать от российской нации, призванной на поле чести для совершения великого дела избавления Европы».
Прогнозы этих энтузиастов самодержавного порядка не оправдались — революции в России не произошло, но русский народ нашел в себе силы защитить свою родину и избавить Европу от наполеоновского владычества.
2
В конце 1811 года стало ясно, что война с Наполеоном неизбежна. «Военные действия могут начаться с минуты на минуту», — писал Александр I своей сестре Екатерине Павловне. Русские войска подтягивались к западным границам.
В начале марта 1812 года гвардия получила приказ выступить из столицы в Виленскую губернию.
Известие о выступлении гвардейская молодежь приняла с восторгом. Много лет спустя Александр Муравьев, основатель первой декабристской организации, тогда офицер Главного штаба, вспоминал, как он и его друзья «одушевились общим и торжественным чувством, забыли свои нужды и с восхищением получили повеление передать свои занятия другим и самим отправиться в Вильно». Все были одушевлены мыслью отомстить за неудачи прежних войн. «Дух патриотизма без всяких особых правительственных воззваний сам собой воспылал».
В рядах почти каждого гвардейского полка выступили будущие декабристы. Трубецкой, Якушкин, братья Муравьевы-Апостолы, Лунин, Волконский, Пестель и многие другие были среди тех, чьи сердца «пламенели сразиться с неприятелем», среди тех, кто брался за оружие «на кару угнетателей и освобождение подавленных народов».
Седьмого марта в шесть часов утра Литовский полк был выстроен на полковом дворе. Отслужили молебен. Шеф полка великий князь Константин Павлович пропустил литовцев церемониальным маршем, пожелал счастливого пути, и полк двинулся в поход.
Это было первым серьезным испытанием молодого прапорщика Пестеля. Поход был трудным.
«Вначале движение затрудняли глубокие снега, — рассказывает историк полка. — Часто вследствие усталости солдат, выбившихся из сил в снегу выше колена, приходилось изменять маршрут, давая дневки и отдыхи. По мере движения к юго-западу и наступления весны дороги делались непроходимы от грязи, а вскрывшиеся ото льда реки, на которых не было постоянных мостов и переправ, задерживали движение эшелонов, а в особенности обозов. Особенно затруднительна была переправа через Двину у Динабурга.
Бедность и малонаселенность страны, по которой приходилось двигаться, чрезвычайно затрудняли продовольствие полка. Часто комиссариатские чиновники совершенно отказывались от возложенного на них поручения продовольствовать полк. Доставка фуража была особенно затруднительна, и лошади по целым неделям питались соломой с крыш».
В мае литовцы прибыли к цели своего назначения.
Они расквартировались близ Свенцян в местечке Свири, в шестидесяти пяти верстах от Вильно. Неподалеку, по другим местечкам, расположились и остальные гвардейские части.
Кажется, в первый раз Пестель почувствовал всю разницу между собой и отцом. Павел Иванович писал домой письма, исполненные самых пылких патриотических рассуждений, но ни слова о грядущей войне не было в письмах, получаемых Пестелем от отца. Они были полны советов, как вести себя с товарищами и как заслужить благосклонное внимание начальства.
И Павлу Ивановичу приходилось вступать в рассуждения о своих служебных успехах, успокаивать отца в отношении своего поведения.
Известие о переходе наполеоновской армии через Неман, казалось, вернуло Ивана Борисовича к грозной действительности. Патриотический подъём сына находит, наконец, отклик у отца.
«Содержание твоих писем тронуло меня и доставило величайшее удовольствие, — пишет Иван Борисович Павлу 14 июля 1812 года. — Они имеют характер писем человека чести, усердного солдата, пламенного патриота…»
«Твой дядя Леонтьев здесь (то есть в Петербурге), — сообщает он в другом письме. — Мы ему читали некоторые из твоих писем, и у него слезы на глазах, когда он читал то место, где ты говоришь, что с благословения родителей ты исполнишь свой долг, как верный гражданин и ревностный солдат. Он мне сказал: «Я всегда ожидал, что наш Павел отличится во всяком случае».
Но подходящий случай представился не скоро. Все лето Литовский полк, входивший во вторую гвардейскую пехотную бригаду, находился в резерве и в сражениях не участвовал.
Наконец в конце августа стало известно, что готовится решительное сражение.
Главнокомандующим русской армией был назначен замечательный русский полководец, любимый ученик Суворова — М. И. Кутузов. Вся армия с восторгом повторяла слова старого полководца, обращенные к солдатам: «Можно ли отступать с такими молодцами!»
Приезд Кутузова отмечали, словно большой праздник, все поздравляли друг друга, как будто победа была уже одержана.
Место для решительного сражения выбрано было в двенадцати километрах к западу от Можайска — у села Бородина.
3
Литовский полк стоял у Бородина.
В шесть часов утра 26 августа сигнальный выстрел с французской батареи Сорбье возвестил о начале сражения.
До середины дня литовцы не принимали непосредственного участия в битве. С того места, где они располагались, трудно было следить за ходом боя, но страшная непрекращающаяся канонада, масса раненых, которых мимо литовцев проносили в тыл, отрывочные фразы ординарцев, скакавших мимо, ясно говорили об огромных размерах битвы.
В половине двенадцатого полковник Толь привез командиру бригады Храповицкому приказ о выступлении. И три полка — Финляндский, Измайловский и Литовский — с бригадой сводных гренадерских батальонов и артиллерийскими ротами двинулись к Багратионовым флешам, только что занятым французами. Падение флешей угрожало всему русскому левому флангу; отряду Храповицкого велено было остановить французов во что бы то ни стало.
Неприятель выдвинул свою артиллерию к самому краю Семеновского оврага и бил в упор по вновь прибывшей русской колонне. Литовцев осыпали десятки ядер и гранат, вырывая целые ряды идущих.
Едва литовцы перестроились, как огонь неприятельской артиллерии прекратился, и в рассеивающемся дыму показались французские кирасиры на высоких статных лошадях. Они легко преодолели овраг и лавиной неслись на литовцев. «Огонь!» — пронеслась команда. И, в тот же миг грянул залп.
Пестель только видел, как под одним кирасиром взвилась лошадь, и тот грянулся оземь. «Ура!» — не помня себя, закричал Пестель. «Ура!» — подхватили солдаты и бросились на кирасир. Но те уже поворачивали коней и в беспорядке уходили за овраг.
Французы бросились во вторую атаку. Но снова были рассеяны батальным огнем.
Опять на литовцев обрушился огонь четырехсот орудий. Обстрел усилился еще более, когда французы после нескольких атак заняли высоту на левом фланге литовцев.
…Ядра, гудя, вгрызались в землю, разнося все на своем пути; ветер взметал тучи пыли со взрытой земли, и черное густое облако стояло над русскими позициями. Изувеченные люди и лошади лежали грудами; повсюду, шатаясь, брели раненые и падали тут же на трупы товарищей. Атаки неприятельской кавалерии русские считали отдыхом: так страшен был артиллерийский обстрел.
Литовцы, потерявшие уже больше половины своего состава, пошли в атаку на занятую французами высоту, но были отброшены с тяжелыми потерями. Их зеленые мундиры сплошь покрыли склоны возвышенности. Командир полка полковник Удом был тяжело ранен, принявший командование полковник Шварц повел оставшихся в живых литовцев во вторую атаку. Среди них был и прапорщик Пестель. До вершины оставалось уже немного. Впереди замелькали синие мундиры французских пехотинцев; они бежали навстречу, стреляя на ходу. «Сейчас в штыки, и мы их выбьем», — подумал Пестель, но в тот же момент он почувствовал, как что-то сильно обожгло левую ногу. Пестель упал.
А мимо бежали солдаты его батальона. Волна русских снесла французов с высоты. «Наша взяла!» — пронеслась мысль в мозгу Пестеля, и он потерял сознание.
4
30 августа донесение князя Кутузова царю о Бородинском сражении было напечатано в «Северной пчеле». «Кончилось тем, — доносил Кутузов, — что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами». Говорилось в донесении и об огромных потерях с обеих сторон. В Петербурге наступили беспокойные дни. Почти в каждой семье с тревогой ожидали известий о сыновьях, отцах, братьях, мужьях, находившихся в армии.
Иван Борисович не находил себе места. Мысль, что Павла, может быть, уже нет в живых, не давала ему покоя. Но перед женой он старался бодриться, видя, что она переживает едва ли не больше его.
В начале сентября он получил записку от графа Аракчеева с просьбой срочно приехать к нему. Еще не зная, в чем дело, Иван Борисович очень разволновался. Старик слышал, что из действующей армии приехал брат графа с какими-то известиями.
Аракчеев встретил Пестеля с несвойственной ему предупредительностью. На длинном сером лице его блуждало какое-то подобие сочувственной улыбки. Он представил Пестелю своего брата и пояснил, что тот приехал в Петербург прямо из армии и что в Бородинском сражении, находясь подле князя Багратиона, он имел возможность видеть сына Ивана Борисовича. Аракчеев говорил медленно, спокойно, не без удовольствия наблюдая, какое впечатление производят его слова на Пестеля. Кончив говорить, Аракчеев скорбно улыбнулся и кивнул брату.
Тот начал без предисловий:
— Я знаю всех, кто ранен, кто убит, — угрюмо произнес он, — прапорщик Пестель убит или тяжело ранен, сам я видел, как он упал, действуя со стрелками ввечеру двадцать шестого августа. Да и не он один, вот еще…
Но Иван Борисович уже ничего не слышал, слезы выступили у него на глазах, он схватился за голову и зарыдал. Аракчеев все с той же улыбкой покосился на брата. Тот замолчал и махнул рукой.
Иван Борисович не помнил, как вышел из кабинета Аракчеева, как сел в карету. Перед домом он постарался взять себя в руки; избегая домашних, он быстро прошел к себе в кабинет и заперся там.
Несколько дней прошло как в угаре. В надежде, что сын, может быть, только ранен и отправлен в Москву, Иван Борисович собрал все имевшиеся у него деньги — тысячу рублей — и отослал их в Москву на имя гражданского губернатора Обрескова с просьбой передать их сыну. Тревожные слухи, что Москва накануне сдачи, уже ходили по Петербургу. Иван Борисович знал, что родные и близкие уже покинули город. Это и заставило его обратиться к Обрескову.
Только к концу сентября все окончательно выяснилось: родители узнали, что Павел действительно ранен, ранен в левую ногу с раздроблением берцовой кости и повреждением сухожилий. Иван Борисович начал хлопотать, чтобы сына как можно скорее привезли в Петербург.
Несколько утешило родителей известие о награде, которую получил сын. «Я был тронут до слез, — пишет отец Павлу 5 ноября, — когда граф Аракчеев рассказывал мне, что главнокомандующий кн. Кутузов дал тебе шпагу «за храбрость» на поле сражения. Этой награде ты обязан своим заслугам, а не протекции и милости. Вот, мой друг, как вся наша фамилия, т. е. дед, мой отец и я, мы все служили России (нашему отечеству); ты едва вступил в свет, а уже имел счастье пролить кровь свою на защиту твоего отечества и получить награду, которая блистательным образом доказывает это. В настоящее время, более чем когда-либо, славно быть подданным России. Мы готовы истребить французскую армию, не выпустив ни одной живой души».
Павел Иванович Пестель приехал в Петербург в декабре 1812 года. Рана оказалась очень серьезной, почти восемь месяцев он пролежал в доме родителей. Он почувствовал себя лучше только в апреле 1813 года и 7 мая с еще не закрывшейся раной, из которой выходили кусочки кости, отправился за границу, в штаб действующей армии. Родители его не удерживали, видя, что все их уговоры были бы бесполезны. Правда, за это время Иван Борисович сумел выхлопотать сыну назначение более подходящее, по его мнению, чем должность простого офицера: место адъютанта у главнокомандующего русской армией графа Витгенштейна. Еще в январе Павел Иванович был произведен в подпоручики, отец надеялся, что на виду у Витгенштейна сыну удастся быстро продвинуться.
Но молодого Пестеля продвижение по службе заботило куда меньше, чем его родителя. Мысли и интересы Павла были заняты другим. На его глазах совершались большие события, и он жадно вглядывался в то новое, что раскрывалось перед ним. Еще будучи дома, он внимательно следил за всем, что происходило в стране: сдача и пожар Москвы, отступление французов, народная война… Наконец 25 декабря 1812 года он с волнением читает манифест, возвестивший окончание Отечественной войны. Через три дня после этого, 28 декабря, стало известно, что главные силы русской армии вступили в Вильно.
Поводов для размышления было много. И оценить все происходившее во всей его глубине Пестель тогда еще не мог, но то великое, что совершалось на его глазах, заставляло смотреть по-новому и на Россию, и на народ ее, и на собственное будущее.
5
Началось с бурного патриотического подъема, люди понимали, что значит Отечественная война. Все слилось в единодушном стремлении изгнать врага.
Но у значительной части дворянства ненависть к Наполеону объяснялась не только тревогой за судьбу родины, но и беспокойством за целостность крепостного права. Это беспокойство отлично выразил Сергей Глинка в статье, опубликованной в «Русском вестнике». «Решительно можно сказать, — писал он, — что Бонапарт — вождь французского ада — страшен не по военным дарованиям, но по замашкам политическим».
Даже лучшие представители дворянства опасались, что Наполеон может стать инициатором новой пугачевщины. «Я боюсь прокламаций, — писал генерал H. Н. Раевский в июне 1812 года, — чтобы не дал Наполеон вольности народу, боюсь в нашем крае внутренних беспокойств».
Эти опасения не имели оснований. Крестьяне Витебской, Смоленской, Тверской, Московской и других губерний, дружно поднявшиеся на защиту родины, не рассчитывали на «помощь» Наполеона.
Сам Наполеон говорил впоследствии: «Я мог бы вооружить против России большую часть ее населения, провозгласив освобождение рабов… Но когда я увидел огрубение этого многочисленного класса русского народа, я отказался от этой меры, которая предала бы множество семейств на смерть и самые ужасные мучения».
Но дело было не в филантропии. Его собственные генералы прекрасно объясняли причину этого отказа. «Природа Наполеона влекла его более к интересам государей», — писал по этому поводу генерал Сегюр; Дедем де Гельдер полагал, что разговоры об освобождении крестьян шли «слишком вразрез с его личными интересами и с его деспотической системой правления, чтоб этому можно было верить… Для него слишком было важно упрочить монархизм во Франции, и ему трудно было проповедовать революцию в России».
Опасность была с другой стороны: не крестьяне, а дворяне забывали патриотический долг. Русские помещики зачастую быстро находили общий язык с французскими буржуа.
О трогательном классовом единодушии представителей двух враждующих народов прекрасно говорит тот факт, что в Смоленске французскими комиссарами по доставке продовольствия французской армии были русские помещики. В их функции входила, в частности, охрана помещиков от их крестьян. Особенное уважение французов завоевал «комиссар» Щербаков: он отлично снабжал их продовольствием, а заслышав о партизанском отряде, во главе французской части шел усмирять «мятежников».
Конечно, были среди помещиков и такие, которые боролись с захватчиками с оружием в руках, например отставной офицер Нахимов, один из организаторов партизанских отрядов на Смоленщине, помещик Энгельгард, расстрелянный французами. Но таких были единицы. Инициатива народной войны принадлежала крестьянству. Ее пожар сразу охватил многочисленные деревни, подвергавшиеся нападению французских войск, и все оккупированные захватчиками селения.
На организацию партизанских отрядов крестьян правительство никак не рассчитывало. Ополчение по помещичьей разверстке, материальная поддержка — это одно, но самостоятельные выступления против захватчиков — это другое. Самостоятельные действия крестьянства пугали Александра I. «Жители, — писал А. П. Ермолов, — предлагали содействовать, не жалея собственности, не щадя самой жизни», но «приходили ко мне спрашивать, позволено ли им будет вооружаться против врагов и не подвергнутся ли они за то ответственности». Крестьяне понимали, что их патриотизм может им дорого обойтись.
Федор Глинка в своих письмах сетовал: «Война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей собираться, вооружаться и действовать где, как и кому нужно». Народ начал партизанскую войну сам, вопреки желанию правительства.
Уже в августе 1812 года крестьянские партизанские отряды, действовавшие в Сычевском, Гжатском и Вяземском уездах, наносили неприятелю чувствительный ущерб; менее чем за полмесяца они имели пятнадцать стычек с французами, убили пятьсот семьдесят два и взяли в плен триста двадцать пять наполеоновских солдат.
Особенно отличался отряд сычевской крестьянки Василисы Кожиной. Блестящие действия ее отряда сделали известным имя «старостихи Василисы» по всей России.
«Смоленская губерния весьма хорошо показывает патриотизм, — писал Багратион в одном письме, — мужики здешние бьют французов… где только попадаются в мелких командах… Страх, как злы на неприятеля из-за того, что церкви грабит и деревни жжет».
От смолян не отставали москвичи. Когда французы заняли Богородский уезд Московской губернии, жители села Павлова, по инициативе крестьянина Герасима Курина, организовали партизанский отряд. В первой же стычке с неприятелем крестьяне одержали победу. Успех окрылил их, с каждым днем нападения на французов делались все смелее и смелее. Французское командование решило разделаться с отрядом Курина и двинуло против него крупные силы. Со своим отрядом, насчитывавшим около шести тысяч пеших и пятьсот конных бойцов, Курин решил принять бой. В жестоком сражении французы были разбиты, и только ночь спасла их от полного уничтожения.
Федор Потапов, прозванный Самусь, организовал конный отряд в двести человек, который вооружил палашами, взятыми у убитых французов, и одел в латы французских кирасир. «Причиня величайший вред неприятелю, — сообщает современник, — всегда неустрашимый и бескорыстный Самусь сохранил почти все имущество храбрых своих крестьян, которые любили его, как отца».
Такой же грозной известностью пользовались отряды Николая Овчинникова, Четвертакова и многих других.
Настоящую помощь крестьянским отрядам организовал М. И. Кутузов, когда вступил в командование русской армией. Армейские партизанские отряды Дениса Давыдова, Фигнера и Сеславина действовали в тесном контакте с крестьянскими партизанскими отрядами, и этому контакту Кутузов придавал большое значение. Так в наставлении капитану Сеславину он писал: «Отобранным от неприятеля оружием вооружить крестьян, от чего ваш отряд весьма усилиться может, пленных доставлять сколько можно поспешнее, давая им прикрытие регулярных войск и употребляя к ним в добавок мужиков, вооруженных вилами и дубинами. Мужиков ободрять подвигами, которые оказали в других местах».
И такое одобрение не осталось без результата. «Шайки неприятельские истребляются всюду вооружившимися крестьянами, — сообщает очевидец. — Они не допускают врага отнимать хлеб и опустошать уезды Московской губернии. Подмосковные мужики, ободряемые казаками, показывают храбрость и неустрашимость, возбуждающие удивление самых старых солдат. Их не только не нужно было понуждать к бою, но с трудом удерживать можно было стремление, с коим они защищали свои селения, убивая все то, что дерзало им противустать».
Из-за действий партизанских отрядов фуражировка французской армии стала фактически невозможна. Только до конца сентября партизаны убили и взяли в плен около тридцати тысяч солдат и офицеров противника.
Пять месяцев — срок небольшой, но за этот срок русский крестьянин показал всему миру, на что он способен, пять месяцев он чувствовал себя хозяином своей земли и по-хозяйски же расправлялся с незваными гостями. Но прошли эти трудные великие месяцы, и одним из первых распоряжений правительства, ознаменовавших окончание Отечественной войны, был приказ отобрать у крестьян оружие. Хозяин снова становился рабом, а рабам оружия не полагается.
30 марта 1813 года было распущено Смоленское ополчение. В указе по этому поводу говорилось: «Да обратится каждый из храброго воина паки в трудолюбивого земледельца и да наслаждается посреди родины и семейства своего приобретенными им честью, спокойствием и славою».
Бывшие ополченцы, понимая слова царского манифеста буквально, конечно, не могли связать крепостное право со своей честью, спокойствием и славой. Многие из них говорили, что лучше пойдут в Сибирь, чем будут работать на барина. Власти жестоко расправлялись с подобными «бунтовщиками». Народ понимал, что заслужил свободу, и потому возвращение в «первобытное состояние» крепостного права было вдвойне тягостно и унизительно.
6
Общее наступление русской армии продолжалось безостановочно. 1 января 1813 года она перешла Неман, а в начале февраля находилась уже на берегах Одера. Пруссия откололась от наполеоновской коалиции и присоединилась к России. 12 апреля соединенные русско-прусские войска вступили в Дрезден.
Но вскоре после того союзникам пришлось столкнуться с новой армией Наполеона. 20 апреля произошло сражение при Люцене. Как раз в этот день Витгенштейн принял командование союзной армией. При армии находились оба монарха, русский и прусский, которые, не считаясь с командующим, распоряжались всем, как им заблагорассудится. Витгенштейн был главнокомандующим только по названию. А отсутствие единоначалия против такого полководца, как Наполеон, естественно, оказалось роковым. Союзникам пришлось отступить, оставив поле боя за французами.
Вслед за Люценом Наполеон занял Дрезден. 9 мая союзники проиграли сражение при Бауцене. В армии все громче раздавались толки о неспособности Витгенштейна.
Витгенштейна нельзя было, конечно, назвать лучшим преемником Кутузова. Он был знающим и храбрым генералом, но в то же время слишком беспечным и слабохарактерным.
В армии не было порядка, порой в штабе не знали, где располагалась та или иная часть. Боязнь Витгенштейна пресечь влияние царя на ход военных действий еще усиливала эти беспорядки. При всем том русские и пруссаки ждали от Витгенштейна скорых и решительных побед над французами.
Пестель прибыл в штаб действующей армии сразу после Бауценского сражения. 10 мая он уже участвует в деле при Пирне, а через несколько дней в трехдневном и опять неудачном для союзников сражении при Дрездене.
Всего неделю Пестель был адъютантом главнокомандующего союзными войсками. 17 мая Витгенштейн сдал командование армией Барклаю-де-Толли.
Может, и это не принесло бы союзникам успеха, если бы из Америки не приехал старый противник Наполеона французский генерал Моро. Он дал союзникам ценнейший совет: не стараться сразу разбить самого Наполеона, а бить по одиночке его маршалов — обрубать щупальца корсиканскому осьминогу, — а потом уже обрушить на Наполеона всю силу своих многочисленных армий.
С этого начался новый этап войны. Корпус Вандамма был разбит при Кульме и попал в плен. Макдональд потерпел поражение при Кацбахе. Ней был разгромлен при Денневице. И, наконец, в середине октября 1813 года, в «битве народов» при Лейпциге, потерпел поражение сам Наполеон. Участь кампании 1813 года была решена: союзные армии вплотную подошли к границам Франции.
Витгенштейн и сам сознавал свои слабости и умел ценить в людях волю и целеустремленность. Эти качества он угадал в молодом Пестеле. Новый адъютант пришелся ему по душе. И скоро в штабе отдельной армии, которой был назначен командовать Витгенштейн, отметили, что Пестель пользуется несомненным влиянием на командующего.
За отличие в сражениях при Пирне и Дрездене Витгенштейн представил Пестеля к чину поручика.
В течение 1813 года Пестель побывал в двенадцати сражениях и среди них в таких, как сражение при Кульме и Лейпциге.
18 декабря он участвует в переправе через Рейн и уже на французской территории в штурме крепости Форт-Луи. За кампанию 1813 года его грудь украсили три ордена: русский орден св. Владимира IV степени, австрийский орден Леопольда III степени и баденский военный орден Карла-Фридриха.
Семь с половиной месяцев пробыл Пестель в Германии. По-новому она предстала перед ним. С грустью смотрел он на знакомые места, когда в мае 1813 года ему пришлось с армией кочевать по Саксонии. Везде следы боев, следы пожарищ: французы при отступлении выжгли многие деревни и городки.
«И после этого, — думал Пестель, — нас еще обвиняют в варварстве, когда, пожалуй, во всей занятой нами Германии не найдется ни одного человека, кто пожаловался бы на дурное поведение русских солдат».
Еще в марте 1813 года Наполеон приказал одному из своих маршалов, при малейшем оскорблении или нападении на него со стороны какой-нибудь деревни или города жечь их, хотя бы это был сам Берлин. А в немецких газетах Рейнского союза печатались басни о зверствах казаков, калмыков, башкир и прочих «азиатов». Некоторые договаривались до утверждения, будто бы русского народа как такового нет, что «русские — собирательная кличка для целого ряда диких азиатских племен».
Вскоре Пестелю представился случай припомнить разглагольствования немецких газет об «азиатах».
В феврале 1814 года Витгенштейн отправил Пестеля во главе нескольких казаков с поручением во французский городок Бар-сюр-Об. Когда они прискакали туда, то заметили на улицах странное смятение; оказалось, что баварцы только что вытеснили из города недавних своих союзников — французов и деятельно принялись грабить население. По улицам тянулись целые вереницы баварских солдат, нагруженных тюками с награбленным. Из домика, у которого остановились русские, раздавались громкие крики. Пестель быстро спрыгнул с лошади, велел казакам спешиться и идти за ним. Они вошли в комнату и увидели, как три баварца тащат перину из-под еле живой старухи. Та кричит, умоляет оставить ей несчастную перину, а три дюжих парня деловито отдирают ее пальцы от перины.
— Что вы делаете? — по-немецки громко спросил Пестель.
— Разве вы не видите? — спокойно ответил один солдат и пинком сбросил старуху с перины.
Та охнула и замолчала.
— Ах, так! — закричал Пестель, обернулся к казакам и приказал; — В нагайки их, ребята! Чтобы духу их здесь не было!
Казаки бросились на солдат и принялись отделывать их нагайками. Баварцы с воплями бросились на улицу. Пестель с казаками — за ними. Но баварцы припустились так, что догонять их не имело смысла.
— Вот так надо учить эту сволочь, — проговорил Пестель и пошел к лошадям.
Вдруг сверху, из окна второго этажа, послышалась немецкая речь:
— Что это значит? Бьют людей, как собак! Как вы смеете?
Пестель поднял голову и увидел в окне второго этажа мужчину с холеным злым лицом. Он был в халате и держал в руках трубку. Это был баварский офицер, который решил заступиться за своих солдат.
— Стащить скотину! — закричал Пестель казакам. Те бросились наверх, и вскоре из окна раздались ругательства, звуки возни, и через несколько минут в дверях дома показался человек в халате, которого, волокли два казака, скрутив ему руки за спиной. Пестель приказал его тут же разложить и высечь.
«Впредь чтоб неповадно было защищать мародеров», — сказал он.
Через несколько дней Витгенштейн подозвал Пестеля и сказал ему с улыбкой:
— Что это вы, дорогой, наделали? На вас поступила жалоба. Баварское командование требует предать вас суду за нанесение жестоких побоев баварскому майору и трем его солдатам.
Пестель смутился.
— Позвольте узнать, ваше сиятельство, что же вы решили? — спросил он.
— Я им посоветовал не доводить это все до сведения нашего государя, не то им же будет хуже. Со своей стороны, я ваши действия вполне одобряю, только впредь будьте несколько осторожней. Говорят, майор сейчас в больнице.
7
Франция встретила союзников неприветливо. Сама природа, казалось, была против них. Дождь, снег, оттепели и морозы затрудняли движение войск. Французы сражались ожесточенно, и союзникам приходилось порой очень туго.
В 1814 году Наполеон в нескольких сражениях сбил наступающие союзные армии и заставил их отойти на восток. После победы при Труа участь союзников казалась Наполеону решенной, но те ловким маневром обошли его армию, смяли при Фершампенуазе отряды маршалов Мармона и Мортье и быстро двинулись к Парижу. Союзники понимали, что взятие столицы Франции будет решающей политической победой. 18 марта 1814 года Париж пал. Наполеон отрекся от престола и был выслан на остров Эльба, предоставленный ему в пожизненное владение.
В кампании 1814 года Пестель участвовал в сражении при деревне Ля Брюссель 19 февраля, в сражении при Труа 20-го, а 19 марта в рядах победоносной русской армии вступил в Париж.
Это был памятный для Пестеля день, и не только по чувству гордости за свою армию и свой народ, но и по другим впечатлениям. Он внимательно прислушивался, пытливо всматривался во все, что происходило вокруг него.
Он видел, как угрюмо встречали союзников парижские предместья и как ликовал центр. Простые люди окраин настороженно молчали, изысканно одетые франты на центральных площадях и улицах кричали: «Да здравствует император Александр!», а кое-кто прибавлял: «Да здравствует король!»
Союзники в своем обозе везли законную власть Франции, восстанавливали веками освященный порядок. В этот день в Париже воцарился «божьей милостью король Франции и Наварры» Людовик XVIII. Как бы подчеркивая, кому старая дворянская Франция обязана своим возвращением, графиня Перигор проехала по всему Парижу верхом на лошади позади казака.
«Порядок» был восстановлен. Но не совсем старый. В манифесте по поводу своего водворения на престол предков Людовик XVIII объявлял, что он решил принять либеральную конституцию и обязался «положить в основу этой конституции представительную форму правления, разрешение налогов палатами, свободу печати, свободу исповедания, безвозвратность продажи национальных имуществ, ответственное министерство, несменяемость судей…».
Людовик с радостью подписал бы не манифест о свободах, а смертные приговоры бывшим якобинцам, он с радостью подписал бы акты о возвращении своим соратникам-эмигрантам их имений, а не гарантировал бы «безвозвратность продажи национальных имуществ». Но меньше чем через четыре месяца должно было исполниться двадцать пять лет с того дня, когда пушки парижан, штурмовавших Бастилию, возвестили миру, что наступил новый день человечества; и гром этих пушек до сих пор звучал в ушах Людовика XVIII и напоминал ему, что к прошлому возврата нет и быть не может.
Пестель, которого 1812 год научил верить в силы народа, еще раз получил подтверждение этой силы. Он ясно видел, что французы соглашаются терпеть Бурбонов только потому, что устали от тирании Наполеона и обескровели в его войнах, но что искушать этот народ все же не следует.
Впрочем, если еще Людовик XVIII сознавал это, то его брат и племянники и вся свора эмигрантов, ничего не забывших и ничему не научившихся, вели себя очень безрассудно. Они во всеуслышание требовали возвратить им потерянные при революции имения. Из провинции доходили слухи об избиении крестьян дворянами и насильственном отобрании земли. Духовенство принялось преследовать «вольтерьянцев». В армии задавали тон дворяне-эмигранты, в которых старые наполеоновские служаки не отвыкли еще видеть своих недавних врагов. Все это не располагало Францию к спокойствию.
Русский царь был проницательней Бурбонов, он понимал, что без конституции они не имеют шансов закрепиться во Франции, и уговорил Людовика XVIII подписать конституцию. Но все его убеждения подействовать на королевских родственников и приближенных и заставить их вести себя поскромнее не дали результатов.
Тогда Александр I сделал вид, что умывает руки.
Пажеский корпус в Петербурге.
П. И. Пестель. Портрет работы его матери Е. И. Пестель (1813).
В либеральном салоне госпожи де Сталь царь возмущался раболепством французской прессы, заметив мимоходом, что в России нет ничего подобного, и сетовал, что его добрые намерения не были поняты французским королем. Он презрительно отозвался о Фердинанде VII Испанском, который, вернувшись в Испанию, отменил конституцию.
Бурбоны не исправились и неисправимы, — говорил Александр, — они полны предрассудков старого режима. На мирном конгрессе в Вене я потребую уничтожения невольничества. — И в ответ на удивленные взгляды присутствующих пояснил: — За главой страны, в которой существует крепостничество, не признают права явиться посредником в деле освобождения невольников; но каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и, с божьей помощью, крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование.
Последние слова царь произнес нарочито громко, обратившись к старику Лафайету, известному деятелю французской революции. Французские либералы провозгласили Александра «чудом, ниспосланным Провидением для спасения свободы».
Каково это было «чудо» для подданных царя, видно из рассказа одного офицера русской армии.
«Все время пребывания нашего в Париже, — пишет он, — часто делались наряды, так что солдату в Париже было более трудов, чем в походе. Победителей морили голодом и держали как бы под арестом в казармах. Государь был пристрастен к французам и до такой степени, что приказал парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улице встречали… Такое обращение с солдатами отчасти склонило их к побегам, так что при выступлении нашем из Парижа множество осталось их во Франции. Офицеры тоже имели своих притеснителей…» И результат был таков, что царь «приобрел расположение французов и вместе с тем вызвал на себя ропот победоносного своего войска». На последнее Александр, впрочем, не обращал внимания, ведь либеральные фразы предназначались не для русских.
А для русских офицеров и без того хватало впечатлений. Сам дух Франции внушал большинству из них, «вместо слепого повиновения и отсутствия всякой самостоятельности, мысль, что гражданину свойственны обязанности» не только перед монархом, но и перед обществом.
Они с жадностью прочитывали французские газеты и журналы, удивляясь «красноречию их издателей» и сожалея, что «мы еще далеки от них в этом отношении». Задумываясь над тем, в чем же причина их «занимательности», один из офицеров находил, что «большая часть их слов основана на теории прав человечества и народов», а потому все, даже те из русских, которые закоренели в предрассудках и коих сила и слава в непризнании этих великих правил, охотно занимаются парижскими журналами».
Много толков было о немецком Тугендбунде — политической организации, возникшей в 1808 году в Кенигсберге. «Целью общества, — говорилось в его уставе, — является произвести улучшение нравственного состояния и благосостояния прусского, а затем немецкого народа единством и общностью стремлений честных людей. Средства общества — слово, письмо и пример». Официально общество просуществовало до 1809 года и было закрыто по требованию Наполеона, разгадавшего под невинной оболочкой «Союза добродетели» общество, организованное в целях национального возрождения и борьбы против французского господства. На эту организацию косились и немецкие монархи — в Тугендбунде собрались люди, готовые вести борьбу не только против Наполеона, но и желавшие видеть Германию объединенной и реформированной. Отмечалось среди прусских офицеров — членов Тугендбунда равнодушие к своему королю да и к монархии вообще.
В самой Франции силен был еще республиканский дух. Многие русские офицеры-масоны были вхожи во французские ложи. А в них не редкость было услышать речи о том, что настанет время, когда не будет никакой собственности, кроме вознаграждения за труд, что тогда народы не будут нуждаться в государях, а наиболее заслуженные, лучшие из людей, не называясь государями, будут посвящать себя служению человечеству исключительно из любви к нему. Великая цепь человечества не будет расчленена на звенья, не будет границ; руководимые любовью, люди станут жить в мире и согласии; и французская революция была только необходимым злом, в результате которого явится великое благо для следующего поколения.
В годы Отечественной войны и заграничных походов созревали революционные взгляды декабристов.
Один из первых декабристов, Сергей Муравьев-Апостол, признавал, что «трехлетняя война, освободившая Европу от ига Наполеона», и «введение представительного правления в некоторых европейских государствах… были источником революционных мнений» в России.
Иван Якушкин вспоминал, что «пребывание целый год в Германии и потом несколько месяцев в Париже не могли не изменить воззрений хоть сколько-нибудь мыслящей русской молодежи: «при такой огромной обстановке каждый из нас сколько-нибудь вырос».
По словам Сергея Волконского, «все, что мы хоть мельком видели в 13 и 14 годах в Европе, породило во всей молодежи чувство, что Россия в общественном, внутреннем и политическом духе весьма отстала…».
Михаил Лунин использовал время своего пребывания в Париже для знакомства с социальным положением Франции, с ее историей и государственным устройством. Именно тогда он понял, что для него возможна «только одна карьера — карьера свободы».
Его двоюродный брат Никита Муравьев, в 1812 году бежавший шестнадцатилетним юношей из родительского дома в армию и заслуживший потом репутацию храбрейшего офицера, слушал в 1814 году лекции в Парижском университете. Он вынес из Франции твердое убеждение в необходимости для России конституции.
Его товарищем был Сергей Трубецкой, который в Париже посещал лекции «почти всех известных профессоров по нескольку раз» и мог, как все его друзья и единомышленники, подписаться под словами будущего декабриста Николая Тургенева, занесенными им в свой дневник 25 апреля 1814 года: «Теперь возвратится в Россию много таких русских, которые видели, что без рабства может существовать гражданский порядок и могут процвесть царства… После того, что русский народ сделал, что сделал государь, что случилось в Европе, освобождение крестьян мне кажется весьма легким, и я поручился бы за успех даже скорого переворота».
В конце июля 1814 года Витгенштейн получил приказ возвратиться на родину и принять там командование 1-й армией, размещенной в Курляндии. Вместе с ним отбыл на родину и Пестель.
Пестель возвращался в Россию полный новых впечатлений и мыслей. Общеевропейская свобода должна была, по его мнению, сделать несомненные успехи, и он был горд сознанием, что на долю России выпала миссия европейского обновления.
ГЛАВА ПЯТАЯ ДУХ ВРЕМЕНИ
Дух времени — такая сила, пред которою они не могли устоять.
К. РылеевЯ взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала.
А. Радищев1
начале XIX века, пожалуй, не было в России более популярных слов, чем выражение «дух времени». Дух времени — это кровавая гроза пугачевского восстания, буря Великой французской буржуазной революции и порожденные ими мысли и раздумья.
Дух времени — это беспощадный анализ действительности, отрицание дедовских и отцовских представлений о добре и зле и рождение новых идеалов.
Одни называли дух времени революцией, другие — либерализмом. Были глубокие общественно-политические причины, вызвавшие к жизни революционные и либеральные идеи. Европа переживала крушение феодализма. Наступил кризис феодализма и в России. Рядом с ростками нового общественного строя, сулившего свободу гражданам, процветание промышленности и сельского хозяйства и общее благоденствие государства, еще более страшным и нелепым вырисовывалось «чудище обло» — российское самодержавие, грубо душившее все новое.
Тираническое царствование Павла I как бы нарочно сконцентрировало в себе все пороки самодержавия в ужасающе открытых формах. Современники называли царствование Павла I «унизительным игом». Возмущение против него росло во всех слоях русского общества. Даже сын Павла, цесаревич Александр, в своей личной переписке с друзьями позволял себе делать такие заявления: «Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной России…» Он уже как будто понимал, что существованию русского самодержавия в его прежних формах пришел конец, что этого не позволяет дух времени. «Если когда-либо придет и мой черед царствовать, — писал Александр в том же письме, — то я… посвящу себя задаче даровать стране свободу».
Любимый внук Екатерины II, которого она прочила себе в наследники в обход сына Павла, он был ее талантливым последователем в науке управлять. На примере бабки Александр видел, как можно легко сочетать вольный дух времени на словах и реакционную политику на деле. От своего воспитателя швейцарца Лагарпа, «ходячей и очень говорливой французской книжки», — по отзывам современников, — он усвоил либеральную фразеологию, расшаркивание в сторону «свободных конституций» и республиканского правления, которыми подкрашивались идеи «разумного самодержавия». Дух времени сказывался в Александре в склонности к «беспредметной чувствительности» в пасторально-сентиментальном духе. Молодой царь любил вздыхать, мечтая о «ленивых досугах спокойной жизни» с милой женой где-нибудь в Швейцарии, куда не плохо было бы удалиться, променяв «свое звание на ферму».
«Дней Александровых прекрасное начало» было ознаменовано некоторым либерализмом. Александр I отменил ряд наиболее возмущавших общество указов Павла I. Снова был разрешен выезд за границу, уничтожена наводившая на всех страх Тайная экспедиция, возвращены из ссылки пострадавшие от произвола царя чиновники и офицеры.
Но всего лишь через четыре года после указа императора Александра I об уничтожении Тайной экспедиции ее зловещая тень возникла снова, лишь изменив свое название.
Молодой царь показывал когти, время либерального кокетничанья прошло, лавровая ветвь в руках «государя-миротворца» быстро обратилась в капральскую палку.
Александр был двулик. Когда его министр докладывал ему о зверском обращении помещицы с дворовой девкой, он мог плакать и восклицать: «Боже мой! Можно ли знать все, что у нас делается!» А спустя немного времени с сухими от злости глазами он выговаривал генералу Тормасову за слабое наказание его дворового Кириллова, который осмелился на Тверском бульваре в Москве говорить «неприличные слова» о желательности для крестьян воли. «Столь буйственный и дерзновенный поступок, — негодовал Александр, — следовало наказать наистрожайшим образом и публично».
Сколь ни утончен казался некоторым современникам русский царь, но по своим симпатиям и наклонностям он никогда не подымался выше унтер-офицера гатчинской школы. Страсть к «фрунту» была фамильной чертой Романовых. Еще в 1805 году, когда доверчивые люди повторяли слова своего «ангела-царя» о том, что он никогда не привыкнет царствовать деспотом, генерал Тучков писал, что императорский двор «сделался почти совсем похож на солдатскую казарму». На плацу, беседуя с Тучковым о том, что ружье не изобретено для того, чтобы «им только делать на караул», Александр неожиданно прервал беседу и, закричав «носки вниз!», сорвался с места и побежал к колонне марширующих солдат. Оказалось, что солдаты «недовольно опускают вниз носки сапог!».
Наступившая сразу после «дней Александровых прекрасного начала» реакция вызвала ответную реакцию со стороны наиболее прогрессивно настроенных людей.
В 1806 году по обеим столицам ходил по рукам листок, аллегорически изображавший состояние тогдашней России:
Право — сожжено. Доброта — сжита со свету. Искренность — спряталась. Справедливость — в бегах. Добродетель — просит милостыню. Благотворительность— арестована. Правосудие — погребено под развалинами права. Совесть — сошла с ума и сидит на весах правосудия. Честность — вышла в отставку. Закон — висит на пуговках у сенаторов. И терпение — скоро лопнет.Известный мракобес Магницкий уже в 1808 году в своей «всеподданнейшей записке» под заголовком «Нечто об общем мнении в России и верховной полиции» писал:
«Общее мнение в России взяло с некоторых пор направление против правительства. Порицать все, что правительство делает, осуждать и даже осмеивать лица, его составляющие, давать предчувствовать под видом некоторой таинственности важные последствия отчаянного положения вещей — сделалось модою или родом обычая, от самого лучшего до самого низкого общества… Обычай, или дух, сей столь открыто усиливается и умами совершенно овладеть стремится, что хвалить правительство, оправдывать поступки его значит выставлять себя как бы его наемником.
Пагубный дух сей из одной столицы перешел в другую.
Письма, в Москву отправляемые, и приезжие из Петербурга непрестанно наполняют ее слухами для правительства вредными. Слухи же сии, не взирая на нелепость их, с жадностью внимаются и распространяются с чрезвычайной быстротой в обширном городе.
Из древней столицы сей, куда каждую зиму съезжается со всех концов России богатейшее дворянство, гибельная мода порицать правительство переходит в провинции, тревожит добрых граждан, служит пагубным для злых орудием и благотворную доверенность к правительству, в важных положениях, его столь драгоценную, на основании ее и повсеместно колеблет».
2
Кончилась война.
Александр I по возвращении из-за границы принял старика Державина, желавшего лично поздравить государя с окончанием победоносной войны.
— Да, Гавриил Романович, — заметил царь, — мне господь бог помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние, но людей нет.
— Они есть, ваше величество, — возразил Державин, — но они в глуши, их искать надобно; без добрых и умных людей и свет бы не стоял.
Но искать добрых и умных людей император не собирался.
«Я решительно никому не верю, — как-то сказал Александр, — все люди — мерзавцы». Честным человеком, по мнению русского императора, в России был один Аракчеев.
Прототипом будущей России могло служить Грузино — вотчина «без лести преданного друга».
«Аккуратность» была страстью и Александра и Аракчеева, а в грузинской вотчине все было пределом «аккуратности» — шоссейные дороги, стандартные дома в деревнях и, главное, во всем строгий порядок. Все на своем определенном месте, начиная с деревьев в парке и кончая чернильницами и перьями на столе хозяина, — все определено с точностью до сантиметра. Дорожки в парке чисто выметены, кошки на цепи, чтоб соловьев не жрали, в кармане каждого крестьянина «винная» книжка, куда записываются его проступки, в особый журнал наказаний заносится, кого и за что следует пороть, сам граф не гнушается делать «презренному преступнику» отеческое внушение, после чего преступника секут, а хор специально подобранных красивых девушек поет: «Со святыми упокой, господи». И, наконец, в Грузине есть и своя собственная подземная тюрьма «Эдикул» со средневековыми орудиями пытки. Даже прирост населения графом строго регламентируется. «У меня всякая баба, — пишет он в уставе для своих крестьян, — должна каждый год рожать и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штраф. Если родится мертвый ребенок или выкинет баба — тоже штраф. А в какой год не родится, то представь десять аршин точива»[5].
Александр находил, что аракчеевская вотчина являла «пример честного, доброго хозяйства», устроенного «без принуждения одним умеренным и правильным распределением крестьянских повинностей и тщательным ко всем нуждам их вниманием».
Так вот Аракчееву, этой «обезьяне в мундире», по образному определению современников, и было поручено устройство внутренних дел империи после войны.
Но Аракчееву предстояла нелегкая «работа». По признанию такого реакционера, как Ростопчина, «трудно ныне царствовать: народ узнал силу и употребляет во зло вольность».
Во время войны вновь вспыхнули толки об освобождении крестьян, усилившиеся после окончания войны. «Мы проливали кровь, — говорили возвратившиеся с войны ополченцы, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа».
«Скажите, чего достойны сии воины, спасшие столицу и отечество от врага-грабителя, который попирал их святыню? — спрашивал офицер, свидетель подвига народа в войне 1812 года. — Так как они, а никто другой спас Россию… А такое ли возмездие получили (они) за свою храбрость? — И сам с горечью отвечает на свой вопрос: — Нет, увеличилось после того еще более угнетение».
Однажды Александр I поинтересовался у князя Сергея Волконского, каков после войны «дух народный».
— Вы должны гордиться им, — ответил будущий декабрист, — каждый крестьянин герой, преданный отечеству и вам.
— А дворянство? — спросил царь.
— Стыжусь, что принадлежу к нему: было много слов, а на деле ничего.
Теперь же и слова стали забываться, «при свете ламп и люстр приметно начал гаснуть огонь патриотического энтузиазма» дворянства. Но с тем большим жаром реакция во главе с Александром I готовилась задушить всякое проявление протеста и свободомыслия, рожденного Отечественной войной и заграничными походами.
Искры великого пожара двенадцатого года тлели до поры до времени в умах будущих декабристов, и потушить их никакие Александры и Аракчеевы уже не могли.
К 1814 году относятся первые кружки молодых офицеров, вернувшихся из-за границы. Это была Священная артель братьев Муравьевых и Бурцова — офицеров Главного штаба — и Семеновская артель Якушкина, Трубецкого и братьев Муравьевых-Апостолов — офицеров Семеновского полка.
Казалось, артели небогатых офицеров, собиравшихся, чтобы «держать общий стол и продолжать заниматься для образования себя», не могли привлечь внимания начальства, на самом деле было не так. Хотя начальство не знало, что в «этих мыслящих кружках» нередко велись разговоры о «зле существующего порядка вещей» и о «возможности изменения» его, но сама организация артелей была в глазах начальства явным вольнодумством. В одной из комнат Священной артели висел вечевой колокол, по звону которого все артельщики собирались обсуждать общие дела. Это было «некрасивым напоминанием о Новгородской республике». Когда царю доложили, что в Семеновской артели офицеры собираются читать иностранные газеты и следить за событиями в Европе, Александр I приказал командиру Семеновского полка запретить артель.
— Такого рода сборища офицеров мне очень не нравятся, — заметил он.
Артель была запрещена, но для молодых офицеров это было только лишним подтверждением зла существующего порядка вещей. Вопрос, как изменить такой порядок, настоятельно требовал своего разрешения.
3
Искушение повидать родных было слишком велико, и Пестель, отпросившись у Витгенштейна, на несколько дней заехал в Петербург.
В родительском доме его ожидал торжественный прием. Расспросам и рассказам не было конца. Не зная, чем порадовать сына, Иван Борисович принес изящно переплетенную толстую тетрадь:
— Вот, мой мальчик, — сказал он, — это все твои письма. Я переплел их в особую тетрадь для лучшей сохранности и давал читать некоторым заслуживающим внимания людям… Все тебя очень хвалили…
Только одно огорчало отца — это то, что Павел до сих пор всего-навсего поручик.
— Наград у тебя довольно, — говорил Иван Борисович. — Недурно было бы иметь еще один иностранный орден, pour le mérite[6] например. Но это не так важно, как производство.
Иван Борисович за несколько дней, которые Павел Иванович хотел провести дома, решил показать его возможно большему количеству знакомых. Это входило у Ивана Борисовича в планы продвижения сына по службе. Он всем рассказывал о его подвигах, перечислял полученные им награды и как бы невзначай добавлял, что чинами сын обойден.
Самому Павлу Ивановичу эти визиты не нравились. Его раздражало поведение отца. Тяжело было смотреть и на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, восхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. В эти дни он особенно почувствовал, как сильно изменились его взгляды и как бесконечно далеко ушел он от всего, чем живут в Петербурге.
Через несколько дней Павел Иванович уезжал в Митаву.
4
Первое, что бросалось в глаза подъезжающим к Митаве, — это величественный средневековый замок, бывшая резиденция курляндских герцогов. Мрачная крепость мало гармонировала с небольшим тихим городком, с трех сторон опоясанным речкой Аа.
Опрятностью Митава напоминала провинциальные немецкие городки, но дома здесь были большей частью деревянные, а улицы без тротуаров: пешеходы шествовали прямо по середине улицы. Замысловатые надписи на немецком и еврейском языках тоже чем-то напоминали Германию.
— Я здесь отдыхаю, — сказал Витгенштейн Пестелю при встрече, — после столь бурных лет мне, старику, хорошо отдохнуть в таком городе, как Митава. Но вам здесь покажется скучно. Будет тянуть в Петербург.
— Везде можно найти друзей и знакомых, ваше превосходительство, — почтительно возразил Пестель, — общество которых разгонит скуку.
— О, но вы, кажется, очень взыскательны в отношении знакомых? — улыбнулся Витгенштейн. — Впрочем, вам не плохо было бы представиться графу Па-лену.
— Я как раз собираюсь это сделать, — ответил Пестель.
Перед отъездом из Петербурга отец настоятельно советовал ему представиться в Митаве старому своему знакомому графу Палену. Пестель и раньше много слышал от отца об этом романтическом старике, руководителе заговора против Павла I.
Пален жил в Митаве с 1801 года. Александр I, обязанный Палену своим воцарением, не мог простить ему слишком независимого поведения и боялся умного старика, не скрывавшего своего презрения к родственникам безумного Павла. Царь отплатил Палену тем, что вскоре после вступления на престол приказал ему оставить столицу и отправиться в свое курляндское поместье. Там Пален находился под негласным надзором полиции.
Для своих восьмидесяти лет Пален держался очень хорошо. Высокий статный старик, он бодро поднялся с кресла навстречу Пестелю и протянул ему руку.
— Рад видеть сына моего друга, — громким, несколько гнусавым голосом приветствовал граф Пестеля. — Вы очень любезны, что навестили старика.
Пален был, кажется, искренне рад визиту молодого человека. Его голубые, совсем не стариковские глаза смотрели благожелательно. Сначала Пестель был несколько смущен, и беседа не клеилась. Но вот разговор коснулся недавних событий, и Пестель оживился.
Граф внимательно слушал рассказы Пестеля о войне, о загранице, о недавних петербургских впечатлениях.
— Ничто, как видно, не может изменить нашего общества, — заметил Пестель, — никакие, самые грозные события. Люди не хотят или не могут извлечь уроков из происшедшего.
— Бог послал бы нам второй потоп, — сказал Пален, — когда бы увидел пользу первого. Шамфор был прав. Но разве только наше общество неисправимо?.. Впрочем, простите старого скептика, я более расположен видеть все в мрачных красках, хотя приятно сознавать, что сейчас молодые люди рассуждают не так, как рассуждали мы в свое время.
— Да, — ответил Пестель, — вернувшись из-за границы, мы стали смотреть на Россию другими глазами. Русский народ по своим достоинствам может претендовать на большее, чем то, что он имеет сейчас. Россия в политическом отношении представляет, надо признаться, зрелище печальное.
Он замолчал, ожидая, что ответит Пален. Старик испытующе посмотрел на Пестеля и спросил:
— А все-таки, что же по сути дела заставило вас смотреть на Россию другими глазами?
— Я много размышлял последнее время, — горячо начал Пестель. — Могу сказать, что возвращение Бурбонского дома во Францию было эпохой в моих политических мнениях. Судите сами, многие из коренных постановлений, введенных революцией, были при Реставрации сохранены и признаны за благие вещи. А ведь раньше все восставали против революции, и я в том числе. Революции, видно, уже не так дурны, как говорят, и могут быть даже весьма полезны, тем более, что государства, в коих не было революции, лишены многих нынешних полезных французских учреждений.
Старик перестал улыбаться. Не глядя на собеседника, он ответил:
— Такие рассуждения могут завести вас очень далеко. Вы любите наше отечество, я тоже не чужд ему. Поверьте мне, и я не враг тому, что вы желали бы иметь в России. Но не думаю, что наступило время для этого. Надо повременить. Россия не Франция.
— Простите, но мне это непонятно, — возразил Пестель. — Нельзя все откладывать до времени. Того, что считаешь необходимым, следует добиваться сейчас. Да и придет ли это время, удобное для добрых намерений? Французы говорят: «Добрыми намерениями дорога в ад вымощена», а у нас поговорка еще проще: «Под лежачий камень вода не течет». Нет, слишком много зла в России, чтобы его можно было терпеть, а из сего следует, что надобно дерзать…
— Слушайте, молодой человек, — перебил его Пален, — если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что, если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем. У меня есть опыт, я знаю свет и людей.
— Признаюсь, так далеко я еще не заходил в своих мыслях, — улыбнулся Пестель. — Я не задумывался о тайном обществе.
— Вы непременно придете к этому, — ответил Пален, — не так уж трудно предвидеть.
— Может быть, — сказал Пестель, — но если рассуждать, что каждый двенадцатый — предатель, то никакой бы заговор не мог бы удаться, а в истории немало примеров удачных заговоров.
Пален усмехнулся.
— Да, есть примеры, когда заговорщики преследуют корыстные цели, но я не знаю ни одного удачного заговора, составленного в благородных целях. Когда вы не можете своим товарищам предложить ни денег, ни славы, они продадут вас тем, кто им заплатит и отблагодарит сомнительной славой спасителей отечества.
— И все-таки, — возразил Пестель, — жить под деспотическим правлением и не пытаться от него избавиться, по-моему, не достойно честного человека.
— Ну что ж, в добрый час! — сказал Пален. — Я почти в четыре раза старше вас, мне позволительно быть скептиком. Дай бог мне ошибиться.
5
Граф Витгенштейн взвалил все дела на своих подчиненных и в первую очередь на Пестеля. Он поручил ему всю письменную часть и даже разрешил в свое отсутствие распечатывать бумаги, приходившие на имя командующего. Преисполненный доверия к своему адъютанту, он советовался с ним во всем и часто поручал ему ответственные задания.
Служебные дела Пестеля, так беспокоившие его родителей, шли неплохо. Положение Павла Ивановича было не блестяще, но твердо, и будущее казалось обеспеченным. Но тем острее у Пестелей вставал вопрос о деньгах.
«Чем более я доволен тобою, — писал Иван Борисович сыну, — чем нежнее люблю тебя, тем более страдаю я, не имея возможности выслать тебе денег, Я еще не могу сделать этого в настоящую минуту, но я сделаю все, что в моей возможности, чтоб достать их». «Первые деньги, — пишет он в другом письме, — которыми буду располагать, пошлю тебе. Клянусь честью, что во всем доме в настоящую минуту только всего 75 рублей, которых едва хватит на пропитание». Наконец, посылая сыну тысячу рублей, он мягко высказывал желание, чтобы «эта сумма была в некотором роде достаточна» сыну, так как большего он сейчас послать не может.
При всем своем старании быть рачительным хозяином, Иван Борисович был человеком безалаберным — жалованье расходовалось быстро и нерасчетливо. При выходе в отставку в 1819 году он имел двести тысяч долгу, который выплачивал до самой смерти.
В начале 1815 года Павел Иванович и Борис по просьбе отца отправились в село Станково Владимирской губернии, в одно из имений Пестелей, откуда давно уже не приходили деньги.
— Развяжется ли когда-нибудь батюшка с долгами? — сетовал Павел Иванович.
Борис рассмеялся:
— Кредитор спрашивал у своего должника: «Когда вы заплатите мне долг?» — «Я не знал, что вы так любопытны», — отвечал тот. А мы, братец, не кредиторы…
— Все это шутки, — отвечал Павел Иванович. — А вот я, признаться, не знаю, как я буду вести себя с мужиками. Между нами говоря, батюшка жалованья получает в год не одну тысячу, столько, сколько все его мужики, вместе взятые, в глаза не видели, а мы сейчас едем требовать с них оброчных денег. Одному не хватает тысяч, другому должно хватать жалких копеек.
— Э, мой дорогой, — протянул Борис, — ты плохо осведомлен. Я вот расскажу тебе забавный случай. У одного петербуржца был мужик на оброке, торговец, ездивший по своим делам и в Крым, и в Сибирь, и даже в Лейпциг на ярмарку. В прошлом году приходит он к своему барину и говорит, что хочет выкупить на волю себя, жену и сына. Сын вознамерился жениться на купеческой дочери, а будущий тесть не хочет выдавать дочь за крепостного. Барин, зная, что мужичок при деньгах, решил подшутить — возьми да и скажи: за всех, мол, четыреста тысяч. Что ты думаешь? Старик вынимает четыреста тысяч и говорит: «Так и знал, барин, что четыреста тысяч запросишь». Вот тебе и копейки!
— Слушай, — ответил Павел Иванович, — много ли таких? Как будто ты не знаешь, что на десятки тысяч один. Большинство мужиков еле-еле перебивается, и непонятно, как они еще могут платить эти оброки. Надо удивляться их выносливости и трудолюбию…
— А я не удивляюсь, — перебил его Борис, — зная, чем поощряется их трудолюбие. Рецепт один, и все ему следуют. Недавно я прочел одну, как называет ее сам автор, «полусправедливую и оригинальную» повесть. Так там сказано: «Чтоб поощрять мужика к трудолюбию, надобно больше нужд; а это тогда случается, когда будешь каждый год надбавлять оброк и отнимать все лишнее». Предлагаю тебе действовать по этому совету… Жаль только, что повесть все-таки «полусправедливая». Где-то автор потерял половину ее справедливости. А ты не собираешься ли ее отыскивать?
— Собираюсь и тебе посоветовал бы, — ответил Павел Иванович. — Тебе не случалось предполагать, что мужики могут найти справедливость раньше нас? Нет? Так вот подумай над тем, как отыскать ее раньше мужиков. При всем своем хорошем мнении о них мне кажется, что если они найдут справедливость раньше нас, они с нами не поделятся.
— Да ведь и не за что, — заметил Борис.
Станково считалось селом зажиточным, барщины мужики никогда не знали, небольшой оброк и тот платили неисправно, и последнее время недоимок накопилось много. «На таком оброке, как у вас, ваши бары скоро по миру пойдут», — говаривали им соседи, завидовавшие их житью. «Ништо, не пойдут!» — отвечали станковцы.
Крестьяне встретили бар на околице с хлебом-солью, одеты они были не богато, но и не убого. Мужики опустились на колени. Павел Иванович их поднял, принял хлеб-соль, поблагодарил и велел надеть шапки.
Крестьяне решили, что бары приехали «ничего себе», но все-таки ждали грозы.
Барский дом, в котором давно никто не жил, казалось, промерз насквозь. Павел Иванович приказал затопить все печи, но старый дом прогревался плохо, приходилось сидеть в шинелях.
— Не попроситься ли нам в избу к какому-нибудь мужику погреться? — пошутил Борис, грея руки у печки. — Справедливости, кажется, они еще не отыскали и, пожалуй, согласятся нас принять. Во всяком случае, кланялись они усердно: чует кошка, чье сало съела, — ждут расправы за недоимки.
— Странное существо — русский человек, — задумчиво произнес Павел Иванович, — как они не могут понять, что я ничего не имею права у них требовать?.. Какие страшные корни пустило у нас рабство!
— Они очень довольны своим положением, — ответил Борис, — и, смею тебя уверить, считают себя нашими должниками и только молят бога, чтобы пронесла нелегкая.
Павел Иванович прохаживался по комнате, заложив руки за спину.
— Раб, довольный своим положением, — вдвойне раб, — резко произнес он.
Доложили, что пришел бурмистр.
— Зови! — приказал Павел Иванович слуге.
На пороге комнаты показался высокий старик. Он низко поклонился, густая, с проседью борода почти коснулась пола. Павел Иванович подошел к нему и остановился разглядывая.
— Это что у тебя? — кивнул он на книги в руках бурмистра.
— Книги недоимочные, ваше благородие… — начал объяснять тот.
— Хватило книг-то все недоимки записать? — перебил его Борис.
— Чего-с? — переспросил бурмистр.
Павел Иванович махнул рукой Борису, чтобы он замолчал.
— Недоимки за вами большие, — сказал Павел Иванович. — Почему так случилось?
— Изволите видеть, — торопливо стал объяснять бурмистр, косясь на Бориса, — недоимка большая у нас, это верно. Но мужики, ваше благородие, вконец обнищали… Вот взять хотя Парфена Макарова…
— Это тот, что в новых сапогах сегодня вышел? — засмеялся Борис.
Бурмистр растерялся. Бары, видно, и слушать не хотят. Того и гляди, за бороду да на конюшню.
— Ну ладно, — сказал Павел Иванович. Не вытаскивая рук из-за спины, он ногой открыл печную дверцу. — Бросай сюда книги!
Старик испуганно заморгал глазами. Ничего не понимая, он наклонился и осторожно положил книги рядом с печкой.
— Фу ты, господи! — Павел Иванович наклонился и сам стал бросать книги в печку, потом ногой запихнул поглубже в огонь. — Вот так их, подальше! — с ожесточением проговорил он.
В печке затрещало, пламя быстро охватило всю кипу книг. Павел Иванович закрыл печку, повернулся к бурмистру и, отряхивая руки, сказал:
— А мужикам передай, что недоимки их сгорели, но чтобы больше этого не было. Слышишь? Ну, иди.
Бурмистр судорожно мял в руках шапку и, кланяясь, стал отступать к двери.
— Ну, теперь поблагодарит нас батюшка, — сказал Борис, когда бурмистр ушел.
— Ничего, — ответил Павел Иванович. — Мы его уверим, что мужики нищие и с них взять нечего.
6
В октябре 1814 года в Вену съехались европейские монархи в сопровождении более чем ста тысяч придворных, дипломатов, военных и просто лакеев, чтобы перекроить карту Европы ради «реконструкции общественного порядка» и «продолжительного мира, основанного на справедливом распределении сил». В Вене собрался штаб европейской реакции, чтобы разработать план генерального «успокоения» народов.
Время проводили весело, на раутах и банкетах правители Европы решали судьбы народов и стран.
И вдруг вечером 7 марта 1815 года в Вену пришло известие, что Наполеон бежал с Эльбы и высадился в бухте Жуан, недалеко от Тулона. Страшный корсиканец снова посягнул на «спокойствие народов». Монархи забыли мелкие ссоры и крупные разногласия и спешно начали готовить свои армии к новому походу на Францию. Наполеон был объявлен вне закона, как враг человечества.
Александр I заявил, что в случае необходимости он готов пожертвовать последним своим солдатом и последним своим рублем за дело, в котором замешана его честь. Делом чести для него была окончательная ликвидация ожившей наполеоновской империи.
Страх перед неугомонным французским императором был так велик, что предусмотрительные люди в Москве думали только о том, как бы на этот раз своевременно начать укладываться, чтобы Наполеон не застал их врасплох.
Витгенштейн был назначен командующим резервной армией. В апреле его армия выступила из Митавы, затем походным порядком через Польшу и Германию направилась на запад, к Франции.
Все внимательно следили за происходящим во Франции.
А французы, которым Бурбоны за короткий срок сумели показать свое истинное лицо, восторженно встречали императора. Были забыты и диктатура и бесконечные войны, обескровившие страну, — теперь на Наполеона смотрели как на наследника великой революции, пришедшего защитить французский народ от попов и аристократов.
Наполеон громогласно объявил, что даст теперь Франции свободу и мир.
— Я явился, чтобы избавить Францию от эмигрантов, — заявил он. — Пусть берегутся священники и дворяне, которые хотели подчинить французов рабству. Я их повешу на фонарях.
Бурбоны бежали. Наполеон, захвативший Францию без единого выстрела, как будто понял, чему он этим обязан. Он заявил, что теперь будет править как конституционный монарх.
Спустя несколько лет Сергей Волконский, бывший в эти дни в Париже, рассказывал Пестелю о своей беседе с генералом Лабедойером, одним из виновников удачного возвращения Наполеона.
— Я тоже участвовал немного в этом возвращении, — сказал генерал, — но я могу вас уверить, что если император вздумает сделаться опять тираном Франции, я первый его убью.
В штабе армии рассказывали, что император Александр поражает всех своим спокойствием и невозмутимой твердостью. Но были и иные слухи, которые передавали вполголоса: к Александру писал его бывший воспитатель Лагарп, убеждая отказаться от похода против Наполеона. Необычайная легкость, с которой Наполеон сбросил Бурбонов, не оставляла сомнений, на чьей стороне симпатии французского народа. Наивный старик доказывал, что Александр не вправе насиловать народ, заставляя отказаться от избранного им монарха и подчиниться такому, который стал ему не только чужд, но и ненавистен. Несправедливое решение не могло быть оправдано успешным исходом начатого дела. Но Александр остался глух к этим убеждениям. Говоря о Франции, он заметил однажды: «В этой земле живут тридцать миллионов скотов, одаренных словом, без правил, без чести; да может ли что-нибудь быть там, где нет религии?»
Союзники выставили против Наполеона огромные силы — около миллиона человек.
Планы будущей войны разрабатывались так, словно у Наполеона были несметные полчища, хотя вся его армия насчитывала не более ста тридцати тысяч человек.
Все разрешилось очень быстро: в конце июня 1815 года Наполеон был разбит при Ватерлоо и капитулировал. Все действия русской армии во время кампании 1815 года ограничились штурмом города Шалона. После капитуляции русские войска двинулись на Париж.
Резервная армия Витгенштейна в военных- действиях участия не принимала. Капитуляция Наполеона застала ее в Германии, и вскоре после этого она двинулась в обратный поход.
По дороге в Россию Пестель ненадолго заехал в Дрезден и уже в сентябре 1815 года вернулся в Митаву.
ГЛАВА ШЕСТАЯ СОЮЗ СПАСЕНИЯ
Мне было двадцать лет едва,
Кровь горячо текла по жилам,
Трудилась пылко голова,
И все казалося по силам:
Жизнь мира, будущность людей —
Все было тут… Но в мысли каждой
Свободы благородной жаждой
Я был проникнут до ногтей.
Н. Огарев1
бстоятельства складывались так, что у Пестеля не было возможности посещать одну какую-нибудь масонскую ложу и регулярно участвовать в ее работах, но интерес к масонству у него не пропадал. Он бережно хранил в отдельном запечатанном конверте и повсюду возил с собой свой масонский диплом и масонские регалии.
По масонским правилам каждый, посвященный в масоны, мог посещать любую масонскую ложу, и Павел Иванович часто пользовался этим правом. Будучи за границей, он бывал на собраниях французских и немецких масонов, в Петербурге посещал некоторые петербургские ложи.
Веяния времени проникли и в русское масонство. Старые масоны с грустью замечали, что молодые люди, ставшие масонами в последние годы, вовсе не интересуются мистической философией и умозрительными работами. Молодежь на заседаниях лож с жаром обсуждала политические проблемы, и деятельность некоторых масонских лож приобретала явно политический оттенок.
Чаще, чем другие масонские ложи, Пестель посещал ложу «Избранного Михаила». Она открылась в 1815 году; с самого начала в нее вошли известный художник-медальер Федор Толстой, военный писатель полковник Главного штаба Данилевский, поэт Федор Глинка, журналист Н. И. Греч и многие другие офицеры, художники, литераторы — представители передовой петербургской интеллигенции.
Ложа была названа в честь первого царя из дома Романовых Михаила Федоровича. Участники ложи «Избранного Михаила» не были противниками самодержавия вообще, но даже само название ложи как бы подчеркивало их отрицательное отношение к современному царствованию: царствовавшему по праву наследства Александру I противопоставлялся Михаил Федорович, по представлениям молодых вольнодумцев, избранный на царство всем народом и в продолжение своего царствования заботившийся о благосостоянии народа. Такой «разумный» и «доброжелательный» монарх, «избранник народа» являлся в их глазах залогом благоденствия страны.
На собраниях ложи «Избранного Михаила» Пестель познакомился с Михаилом Николаевичем Новиковым.
Новиков и Пестель одинаково отрицательно относились к современной российской действительности. Но политические взгляды Новикова были гораздо определенней, революционней и последовательней взглядов Пестеля.
М. Н. Новиков, племянник известного просветителя и демократа XVIII века Н. И. Новикова, был значительно старше Пестеля: в 1816 году ему было около сорока лет. Он служил в департаменте министерства юстиции. Его политические воззрения сложились под влиянием идей «великой весны девяностых годов» XVIII века и в первую очередь под влиянием Н. И. Новикова и А. Н. Радищева.
Новиков был республиканец, Пестель защищал конституционную монархию.
Возникший у Пестеля еще в пажеские годы интерес к политическим наукам с годами становился глубже и все более захватывал его. Пестель много читал. Почти все деньги, которые присылал ему отец, он тратил на книги. Записная книжка пополнялась выписками из Дидро, Кондильяка, Гельвеция, Руссо и рассуждениями самого Пестеля по истории и политической экономии. Разговоры с Новиковым еще более повысили его интерес к политическим наукам.
Однажды ранней осенью 1816 года после заседания масонской ложи Пестель и Новиков разговорились о масонстве.
Разве вы не находите, что через масонство человечество обретет свое счастье? — спросил Пестель Новикова.
— В масонстве одни только теории, — с иронической усмешкой ответил Новиков.
Его ирония убила в Пестеле всякое желание продолжать разговор. Некоторое время молчали.
— Но есть другое общество, — после небольшой паузы торжественно и значительно, уже совсем без иронии сказал Новиков. — Есть другое общество избранных молодых людей, цель которого — благо России.
2
Дул пронзительный ветер. Облака снежной пыли стояли над пустынными петербургскими улицами. Гремели жестяные вывески, порой сквозь вой метели слышался скрип слепых, залепленных снегом висячих фонарей. Торопливо проносились сани, на миг появляясь из мглы и тут же во мгле пропадая. Редкие пешеходы то бежали, подталкиваемые властными порывами ветра, то почти останавливались, окутанные колючим встречным облаком.
Был вечер 9 февраля 1816 года.
В гвардейских казармах Семеновского полка, в жарко натопленной квартире братьев Муравьевых-Апостолов, придвинув кресла к камину, сидело четверо молодых офицеров: подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Матвей Муравьев-Апостол, его брат — поручик того же полка Сергей, их однополчанин поручик Иван Якушкин и поручик Главного штаба князь Сергей Трубецкой.
Они вели один из тех обычных разговоров о тяжелом положении в стране, которые возникали у них уже не первый раз.
— Вчера, — сказал Сергей Муравьев-Апостол, — Ожеровский рассказывал, что в Зимнем говорили о России и русских, и император заявил, что каждый русский или плут, или дурак.
В это время к комнату вошли еще два офицера — коренастый с немного одутловатым полным лицом подполковник и розовощекий юный прапорщик.
Подхватив последние слова Муравьева, коренастый подполковник сказал:
— Наш государь слишком любит немцев, чтобы любить еще свой народ.
Все повернулись к вошедшим, и только Трубецкой н. е выразил никакого удивления, он один заранее знал об их приходе.
Вновь вошедшие офицеры были Александр Николаевич Муравьев, подполковник Генерального штаба, и прапорщик Генерального штаба Никита Михайлович Муравьев.
— Я знаю, что вы, Александр Николаевич, и ваши братья враги всякой немчизне и видите в них источник всех зол в России, — медленно и спокойно, словно раздумывая вслух, сказал Якушкин.
— Это правда, и потому считаю нужным организовать тайное общество против немцев, — ответил Александр Муравьев. — Как, Якушкин, а?
— Но разве немцы, — спросил Якушкин, — главная язва нашего отечества? Нет, в заговор против немцев я вступать не согласен.
— А в какой же заговор вы согласны вступить? — спросил Трубецкой, смотря в сторону.
— Вот если бы составилось тайное общество, — продолжал Якушкин, — членам которого поставлялось бы в обязанность всеми силами трудиться для блага России, то я охотно вступил бы в такое общество.
— Да, конечно, — вмешался в разговор Матвей Муравьев-Апостол, — борьба с немцами — слишком ничтожная цель для тайного общества. А вот в такое общество, о котором говорит Якушкин, и я тоже вступил бы.
— И я не остался бы в стороне, — сказал Сергей Муравьев-Апостол.
Александр Муравьев пристально посмотрел в глаза Якушкину, потом перевел взгляд на братьев Муравьевых-Апостолов и, волнуясь, сказал:
— Друзья, я предложил вам составить общество против немцев лишь для того, чтобы узнать ваше мнение о тайном обществе. Мы с Сергеем Трубецким еще прежде условились составить общество, цель которого есть в обширном смысле благо России.
Так 9 февраля 1816 года было положено начало тайному обществу, выросшему затем в широкое общественное движение, получившее в истории название движения декабристов.
Основатели тайного общества были молоды — старшему из них было двадцать пять лет, младшему всего девятнадцать. В их личных биографиях и судьбах было много общего, одни и те же условия влияли на развитие их мировоззрения.
Александру Муравьеву первому пришла мысль о создании тайного политического общества. И в этом была своя закономерность.
Его отец, боевой генерал и ученый, занимавшийся военно-теоретическими вопросами и сельским хозяйством, воспитывал сыновей в духе революционного просветительства XVIII века; в их доме были в обычае разговоры на политические и нравственно-философские темы.
Муравьев начал службу в Генеральном штабе в 1809 году, участвовал в войне 1812 года. К 1816 году он уже был подполковником, награжденным многими русскими и иностранными орденами. Приятели предсказывали ему блестящую будущность и фельдмаршальский жезл.
Потребности «серьезных занятий» привели Александра Муравьева сначала к масонам, а после войны он собрал вокруг себя группу молодых офицеров, задумывавшихся «о предметах общественных, о зле существующего в России порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне».
И вот наступил момент, когда Александр Муравьев пришел к выводу, что для практического претворения в жизнь своих взглядов нужно создавать организацию, способную к практическим действиям.
Этими мыслями он поделился со своим родственником и приятелем с детских лет прапорщиком Никитой Михайловичем Муравьевым; рассказал об идее тайного общества еще одному своему старому знакомому и товарищу по военным походам князю Сергею Петровичу Трубецкому.
Трубецкого не удивило предложение Александра Муравьева, он только заметил, что надо к делу основания тайного общества привлечь еще нескольких человек. Было решено поговорить с Якушкиным и родственниками Муравьевых — Сергеем и Матвеем Муравьевыми-Апостолами.
Это решение и привело Александра и Никиту Муравьевых, князя Трубецкого и Якушкина в памятный вечер 9 февраля 1816 года к братьям Муравьевым-Апостолам.
После признания Александра Муравьева решили составить устав общества и принимать в общество новых членов не иначе, как с согласия всех шестерых основателей.
Вскоре после февральского совещания в тайное общество были приняты отставной ротмистр Кавалергардского полка Михаил Сергеевич Лунин, подпоручик князь Федор Петрович Шаховской и Михаил Николаевич Новиков.
Лунин был двоюродным братом Никиты Муравьева. Князя Шаховского принял его сослуживец по Семеновскому полку Матвей Муравьев-Апостол.
М. Н. Новикова давно знал по масонской ложе Александр Муравьев.
В августе 1816 года М. Н. Новиков принял в тайное общество Пестеля.
3
В долгих и частых разговорах, в постоянных спорах и рассуждениях о положении России, о «главных язвах отечества» родились два основных лозунга созданного молодыми офицерами тайного общества, прошедшие затем через все декабристское движение. Эти лозунги были: борьба против крепостного права и борьба против самодержавия. Перед тайным обществом были поставлены задачи добиться отмены крепостного права и ограничить власть царя конституцией.
Патриотически настроенная молодежь считала, что политика Александра I ведет Россию по гибельному пути и что Россию нужно спасать. Вступая в члены тайного общества, которое они называли Союзом спасения, и начиная опасную борьбу, она жертвовала собой во имя спасения родины.
Цель была ясна, но пути и средства для ее достижения члены тайного общества представляли довольно туманно. Молодые офицеры страшились «ужасов народной революции» и прежде всего думали о том, как добиться своей цели, не прибегая к народному восстанию. Самым удобным моментом для введения в России конституции они считали первые дни восшествия на престол нового царя. Они надеялись на то, что новый царь, боясь совсем потерять престол, согласится на ограничение своей власти конституцией.
Этот план обсуждался изо дня в день всеми членами Союза спасения.
С первых же дней пребывания в тайном обществе Пестель стал одним из самых активнейших его членов. Сам факт, что в России должна произойти революция, для него не представлял никакого сомнения. Он думал о ней и готовился к ней, составляя план будущей русской конституции. Прежде всего, полагал Пестель, надо «приуготовить наперед план Конституции и даже написать большую часть уставов и постановлений, дабы с открытием революции новый порядок мог сейчас же быть введен сполна…».
— Что же, вы предлагаете сначала энциклопедию написать, а потом к революции приступить? — спросил как-то Пестеля Лунин, когда тот в разговоре с ним и с Никитой Муравьевым развивал свои взгляды.
Лунин смотрел спокойно-насмешливо. Иногда его бледное лицо с красивыми правильными чертами внезапно оживлялось и так же быстро снова принимало выражение невозмутимого равнодушия. Но эта изменчивость выдавала его чувства больше, чем он желал.
Лунин был кавалергардским ротмистром. Но свой блестящий мундир, ясное будущее, карьеру он, не задумываясь, решался променять на судьбу борца за свободу. «Для меня открыта только одна карьера — карьера свободы, — говорил он. — Мне нужна свобода мысли, свобода воли, свобода действий».
В начале франко-испанской войны он вступил волонтером в испанские войска, сражавшиеся против захватнической армии Наполеона. В 1815 году Лунин собирался уехать в Южную Америку, «в ряды тамошних молодцов», борющихся за освобождение народов Южной Америки от испанского колониального ига.
— Вы полагаете, — говорил Лунин Пестелю и Никите Муравьеву, — время начатия революции весьма отдаленным. Но его можно ускорить. Император может умереть гораздо раньше. Представьте себе, император едет по Царскосельской или какой-нибудь другой дороге, его встречает отряд решительных людей в черных масках… Этот случай тоже найдет себе место на страницах энциклопедии.
— Этот человек решится на все, — задумчиво сказал Пестель, когда Лунин ушел и Пестель остался наедине с Никитой Муравьевым.
Никита согласно кивнул головой.
Но больше разговора о покушении на царя не возникало. Вскоре Лунин уехал за границу, и споры членов Союза спасения вновь приобрели более теоретический, чем практический характер.
В конце 1816 года члены тайного общества договорились с профессором Германом, что тот прочтет им курс политической экономии.
Лекции профессор читал в своей квартире на Васильевском острове. Сидя в черных кожаных креслах вокруг круглого стола, офицеры внимательно слушали Германа, записывая лекции в тетради.
Герман в своих лекциях затрагивал многие актуальные вопросы и научно обосновывал необходимость борьбы за конституционные порядки. Теории, с которыми Герман знакомил офицеров, по словам Н. И. Тургенева, невольно воспитывали чувство ненависти к насилию и приучали «любить правоту, свободу, уважать класс земледельцев, столь достойный уважения сограждан и особенно попечительности правительства».
Но через несколько уроков Герман, не глядя на своих слушателей, попросил у них позволения разрешить присутствовать на лекциях одному своему приятелю.
И с тех пор в углу кабинета неизменно сидел молчаливый человек, приходивший на лекции раньше всех и уходивший последним.
Пестелю и некоторым другим офицерам, которым Герман особенно доверял, он признался, что мнимый приятель прислан от полиции.
Герман читал почти тот же курс, что читал в Пажеском корпусе. Поэтому Пестель из этих лекций почерпнул мало новых знаний: форма преподавания была другая, но существо предметов оставалось то же самое.
Посещения лекций полицейским шпионом не прошли бесследно. Вскоре Александр I потребовал от полковых командиров сведений об офицерах, слушавших курс Германа, и, получив хорошие отзывы, был очень недоволен:
— Это странно! Очень странно! Отчего они вздумали учиться?!
4
Александр Муравьев для внутреннего устройства тайного общества предлагал взять за образец устройство масонских лож.
Большинство членов Союза спасения не были масонами и не разделяли увлечения Александра Муравьева масонством. Но Муравьев горячо отстаивал свой план, посвящая в него каждого из вновь принятых в общество членов.
— Я стал масоном, — рассказывал Александр Муравьев Пестелю, — когда запрещение, наложенное императрицей Екатериной на масонские ложи, еще не было снято, и официальные собрания не дозволялись. Это было в 1810 году.
Александр Муравьев говорил о масонстве восторженно и увлекаясь, тем более что Пестель слушал его с сочувствием и интересом.
— Вечно благословляю бога, — с пафосом произнес Александр Муравьев, — за открытие мне масонства, сего предохранительного средства к удалению зла, сего учения, возжегшего в душе моей стремление к нравственно высокому.
Никита Михайлович Муравьев.
Тульчин. Дом П. И. Пестеля.
Пестель слушал не перебивая. Но когда Александр Муравьев замолчал, ожидая, как откликнется на его слова Пестель, то тот осторожно сказал:
— Но наше тайное общество…
— Вы хотите сказать, что наше тайное общество не масонская ложа?
— Да, — коротко ответил Пестель, — именно это.
— А я именно хочу предложить членам тайного общества образовать масонскую ложу…
— Кажется, я понимаю вас, — перебил Пестель Муравьева. — Мы завоюем масонство. Молодые люди, которые составляют сейчас основную массу масонов, сторонники нового порядка вещей и новых взглядов. Это то общество, в котором мы скорее всего найдем сочувствующих и даже сочленов. Работы масонской ложи достаточно скрыты от взглядов правительства, и наша деятельность под покровом масонских работ вполне обезопасит членов общества от иных подозрений. Мы же, в свою очередь, заместив в масонской ложе руководящие должности членами тайного общества, сможем вести работу ложи в нужном нам направлении.
Организация тайного общества по образцу масонских лож увлекла Пестеля. Был выработан практический план. Прежде всего решили, что все члены тайного общества, которые еще не были масонами, должны стать ими, и все члены тайного общества — масоны должны объединиться в одной ложе. Александр Муравьев предложил ложу «Трех добродетелей».
Эта ложа образовалась в конце 1815 года, когда несколько молодых гвардейских офицеров, членов масонской ложи «Соединенных друзей», не удовлетворенные суетливой, парадной, но в конце концов пустой деятельностью этой аристократической ложи, покинули ее и образовали свою. Всех вышедших из ложи «Соединенных друзей» офицеров, а среди них были и некоторые будущие деятели декабристского движения — князья С. Г. Волконский, П. П. Лопухин, И. А. Долгоруков, объединяла общность настроений и интересов.
Вновь возникшая ложа была в первый год своего существования небольшим замкнутым дружеским кружком, в котором царили либеральные настроения.
В течение всего года в ней почти не появлялись новые лица.
Но осенью 1816 года, когда после длительного летнего перерыва ложа вновь начала свои занятия, то на первом же заседании князь Волконский, выражая общее мнение всех членов ложи, выступил с речью, в которой он призывал усилить деятельность ложи и расширить ее ряды.
Ложа «Трех добродетелей» начинает пополняться новыми членами. В день речи Волконского в ложу вошел князь Ф. П. Шаховской. Два дня спустя на заседании, пока в качестве гостя, присутствовал Пестель. В декабре принят в ложу Матвей Муравьев-Апостол, в январе — Сергей Муравьев-Апостол и Никита Муравьев. 6 февраля 1817 года членом ложи «Трех добродетелей» стал Пестель.
В апреле 1817 года все руководящие должности в ложе заняли члены тайного общества. Александр Муравьев лелеял широкие планы подчинения руководству членов тайного общества всего русского масонства.
Но план Александра Муравьева оказался несостоятельным. Как ни пытались члены тайного общества сохранить ложу от нежелательных случайных посетителей, эти посетители все же присутствовали почти на каждом заседании. При таких условиях, конечно, приходилось молчать о делах тайного общества и заниматься «чистым» масонством.
Однажды ложу посетил император Александр I. Он попросил Александра Муравьева объяснить ему смысл некоторых символических изображений. Александр Муравьев, говоря с царем, по масонскому обычаю обращался к нему на «ты». Это не понравилось императору. С тех пор царь больше не приезжал в ложу, а к Муравьеву и к его товарищам стал относиться с еще большим недоброжелательством.
5
Только осенью 1816 года для написания статута, или устава, тайного общества, определяющего цель, форму и способы его действия, избрали комиссию. В нее вошли Долгоруков, Трубецкой и Пестель. Секретарем комиссии стал Шаховской. Члены комиссии распределили между собой обязанности: Долгоруков должен был писать ту часть устава, где говорилось «о цели общества и занятиях для ее достижения», Трубецкой освещал «правила принятия членов и порядок действия их в обществе», а Пестель разрабатывал «форму принятия и внутреннее образование общества».
Однако в конце концов получилось, что Долгоруков сочинил лишь коротенькое предисловие к уставу, Трубецкой ограничился советами и критикой, а устав целиком написал Пестель.
В январе 1817 года Пестель представил на суд членов тайного общества написанный им устав общества, которое он назвал Обществом истинных и верных сынов отечества.
Уставу предшествовало краткое введение, в котором говорилось, что общая цель общества: «подвизаться на пользу общую всеми силами» во имя блага России, как то и надлежит истинным и верным Сынам отечества.
Далее, уже в пунктах устава, сообщалось, что главной целью тайного общества является введение в России представительного правления в форме конституционной монархии и уничтожение крепостного права.
Добиться конституции и освобождения крестьян члены тайного общества предполагали путем открытого выступления тайного общества в момент смены монархов, «принудить» нового императора принять их требования и не присягать ему, пока он эти требования не исполнит, то есть не согласится на ограничение самовластия народным представительством.
Готовя переворот, тайное общество должно было стремиться руководить в стране общественным мнением, для чего необходимо «воздействовать на мнения», поддерживая похвалой полезные предприятия и разглашая злоупотребления чиновников по службе и должности.
Перед членами тайного общества была поставлена задача приискивать людей, способных и достойных войти в состав общества, и «елико возможно» умножать число сочленов общества.
Далее шла часть устава, освещающая организационное строение общества. Увлеченный идеей создания тайного общества в рамках и по образцу масонской организации, Пестель перенес в свой статут многие черты масонских уставов: слепое повиновение, клятвы и другие.
Члены Общества истинных и верных сынов отечества делились на три разряда: высший — «боляр», средний — «мужей» и низший — «братий». Истинная цель общества — введение в России конституции — открывалась лишь «болярам», а «мужи» и «братья» знали не сокровенную цель общества, а лишь требования, приближающиеся к ней.
При принятии в общество вновь принятый в степень «братий» давал клятву хранить в тайне все, что он знает об обществе, слепо и беспрекословно повиноваться воле «мужей» и «боляр»; повышенный в степень «мужей» клялся в слепом повиновении воле «боляр». Измена обществу, разглашение его тайн карались смертью. «Яд и кинжал везде найдут изменника», — говорилось в уставе.
У руководства обществом должны стоять «Совет, боляр» во главе с периодически сменяемым выборным старейшиной. Решения «Совета боляр» все члены общества обязаны выполнять беспрекословно.
В будущем, когда количество членов общества увеличится, предполагалось образовать «округи» в различных областях страны.
Устав Общества истинных и верных сынов отечества был принят и утвержден всеми членами общества и с января 1817 года вступил в действие.
6
В феврале кончился срок отпуска Пестеля, и Павел Иванович выехал в Митаву, успев до отъезда принять в члены тайного общества своего знакомого по Кавалергардскому полку князя Лопухина.
Но когда Никита Муравьев спросил Пестеля, не думает ли он привлечь в общество своих младших братьев, то Павел Иванович ответил отрицательно: в лице братьев он не нашел единомышленников. Борис служил в канцелярии отца, Владимир — в самом блестящем и аристократическом в России Кавалергардском полку, оба думали только о карьере.
Никита Муравьев все-таки уговорил Владимира Пестеля вступить в тайное общество. Но тот отошел от общества через несколько месяцев после вступления. 14 декабря 1825 года Владимир Пестель был в строю войск, действовавших против восставших, и, по словам верноподданного историка, «удостоился за эти действия наряду с прочими получить монаршую признательность».
Сразу по возвращении в Митаву Пестель принялся за организацию там отделения Общества истинных и верных сынов отечества.
Теперь в разговорах со знакомыми офицерами он старался перевести тему бесед на рассуждения об обязанности каждого честного человека и патриота служить на пользу отечества, о злоупотреблениях в некоторых частях управления и о том, что многие страдают от этих злоупотреблений… Но собеседники поддерживали эти разговоры далеко не всегда: иной раз Пестелю казалось, что они как будто избегают говорить с ним на эти темы. Вскоре простой случай объяснил ему все.
Во время одного разговора, касавшегося военных поселений и Аракчеева, подполковник Тимченко, собеседник Пестеля, как-то смутился, неловко замолчал и заторопился уходить. Так кончались и многие предыдущие разговоры.
Пестель положил руку ему на плечо:
— Прошу вас по-дружески объяснить мне, почему вы уходите?
Тимченко отвечал что-то невразумительное.
— Прошу вас, — настаивал Пестель.
— Ну что тут, — сказал, смотря в сторону, Тимченко. — Я, конечно, этому не верю, но, видите ли, в армии вас считают шпионом графа Аракчеева…
— Какой вздор! — резко, с возмущением воскликнул Пестель.
— Говорят… — отозвался Тимченко.
Теперь Пестелю многое стало понятно в отношении к нему однополчан. Оказывается, не только его положение при главнокомандующем, не только замкнутость его натуры и болезненная гордость, принимаемая часто за высокомерие, были причиной того, что офицеры раскланивались с ним подчеркнуто вежливо и в то же время как-то сторонились его. Вспомнил он и косые презрительные взгляды незнакомых прапорщиков и внезапно замолкающий при его приближении разговор. Вот как обернулись для Пестеля заботы отца, постоянно афиширующего, что всесильный граф покровительствует его сыну!
— Какой вздор! — уже тише повторил Пестель.
Он поднялся со стула, на котором сидел, встал прямо против Тимченко и сказал:
— Поклянитесь на святом евангелии, что вы сохраните в тайне все, что я вам сейчас сообщу.
Тимченко растерянно перекрестился.
— Честное слово… Клянусь…
Пестель рассказал ему об Обществе истинных и верных сынов отечества и предложил вступить в его члены.
Тимченко дал свое согласие.
В скором времени Пестель принял в тайное общество еще троих офицеров: старшего адъютанта штаба 1-й армии подполковника Авенариуса, командира Ольвиопольского гусарского полка полковника Петрулина и дежурного штаб-офицера 1-го корпуса полковника Свободского.
Они составили первую и единственную провинциальную отрасль Общества истинных и верных сынов отечества.
7
Общество росло медленно. Почти сразу же после принятия устава обнаружились его недостатки.
Многим не нравились театральные масонские эффекты, которыми было обставлено принятие в тайное общество новых членов, и другие церемонии. Длительный срок «для заведения знакомства», предписанный уставом, тоже замедлял рост общества.
Обнаружился и другой, более существенный недостаток. Молодые люди шли в тайное общество, желая найти ответы на мучившие их вопросы, желали сами мыслить и действовать, а им даже не открывали истинной дели общества и предлагали молчать и повиноваться.
Весной 1817 года Александр Муравьев принял в общество своего младшего брата Михаила. Но церемония принятия- нового члена прошла совсем не так, как хотели бы руководители общества.
Александр явился к брату с небольшим узелком под мышкой. Молча развязав узел, он вынул из него евангелие в малиновом бархатном переплете и крест и положил их на стол. Михаил с недоумением следил за всеми этими приготовлениями.
Александр обратился к брату с короткой речью о его обязанностях как члена тайного общества и предложил дать клятву безусловно повиноваться высшим членам общества и хранить тайну.
Михаил с раздражением ответил, что до поступления в дом умалишенных он не может дать на себя подобную кабальную запись, обязывающую его подчиняться даже самым сумасбродным требованиям.
Тогда Александр, нарушая требования устава, дал брату прочесть написанный Пестелем «Статут Общества истинных и верных сынов отечества».
— Этот устав составлен не для общества просвещенных людей, а для шайки разбойников Муромских лесов, — насмешливо сказал Михаил.
Михаила Муравьева испугал устав, «проповедующий насилие и основанный на клятвах».
Так же, как и Михаил Муравьев, реагировали и другие новые члены тайного общества Павел Колошин и Бурцов. Они вошли в общество с одним условием: «чтобы сей устав… был отменен и чтобы общество ограничилось медленным действием на мнения».
Речь шла не об основных программных требованиях: свержение самодержавия и освобождение крестьян так и оставались главными лозунгами деятелей тайного общества. Принятие этих лозунгов всеми членами тайного общества говорило лишь о жизненности самого движения.
Но организационные основы Союза спасения и методы его действий вызывали споры. Устав сужал границы воздействия союза на окружающее общество и имел тенденцию к превращению всего движения в заговор.
8
Военные поселения. Эти слова повторялись сейчас всюду: в светских гостиных и крестьянских избах, в помещичьих усадьбах и солдатских казармах.
Но история их началась задолго до 1818 года. Она началась с великого страха — мартовской ночи 1801 года, когда к содрогавшемуся в рыданиях Александру подошел Пален и, смерив его холодным, презрительным взглядом, тряхнул за плечо и резко выкрикнул: «Довольно плакать, ступайте царствовать!» С одним царем было покончено, наступал черед царствовать другому.
Страх и недоверие к огромной стране, которой судьба судила ему управлять, не оставляли с тех пор Александра. Дворянства он боялся, чувствуя себя марионеткой в его руках, марионеткой, которой всегда могут свернуть шею, как свернули отцу, или задушить, как задушили деда; боялся и презирал крестьянскую Русь в сермягах и солдатских мундирах, в которой тлели неугасимые искры пугачевщины.
И при всем том надо было находить силы поддерживать неуклюжее здание российского самодержавия, а для этого нужны были прежде всего солдаты, солдаты и солдаты.
Как увеличить военные силы России, не лишая дворянства дармовых рабочих рук? Как сделать, чтобы огромная армия не пожирала все ресурсы страны? Эти вопросы неотступно преследовали Александра.
Однажды, просматривая библиотеку отца, Александр наткнулся на книгу Сервана, военного министра Франции времен революции. Книга была испещрена заметками Павла; видимо, император внимательно изучал этот труд. Пробегая отчеркнутые места, Александр понял, какие заманчивые перспективы увлекли его отца. В своей книге Серван предлагал организовать на границах Франции поселения, где жили бы крестьяне, обязанные нести военную службу; таким образом пограничные войска, готовые в любой момент отразить врага, сами бы себя кормили.
Эта мысль показалась Александру гениальной. По его распоряжению книга была немедленно переведена на русский язык и представлена графу Аракчееву с предписанием изучить ее и составить проект внедрения идей Сервана в России.
Аракчеев отнесся к мысли своего благодетеля скептически, он все-таки больше понимал в военном деле, чем Александр. Подобные поселения были уже созданы в Австрии и в Швеции и на практике очень мало оправдывали себя. Но желание царя — закон, и Аракчеев принялся за устройство военных поселений.
5 августа 1816 года Александр I подписал указ об учреждении военных поселений в Новгородской губернии. «По мере распространения оных военных поселений, — говорилось в указе, — вовсе исчезнут рекрутские наборы, тяжелым бременем ложащиеся на крестьянские хозяйства. Землепашец, призванный на службу царю, вместе с тем не оставит своего плуга. Солдаты будут жить в лоне семейств своих, имея всегда свежую и здоровую пищу и другие удовольствия жизни. Они смогут увеличить свою собственность рачительным возделыванием земли и разведением скота».
По старой дороге из Петербурга в Москву катились десять придворных карет. Тронутые осенней желтизной деревья обступили дорогу, тихо шелестя под свежим сентябрьским ветром.
В карете сидело трое: подтянутый офицер в Преображенском мундире с точеным холодным лицом, бледная женщина с усталыми голубыми глазами и полный юноша в прусском мундире, то и дело наклонявший свою кудрявую голову к самому окну кареты. Это были великий князь Николай Павлович, его молодая жена Александра Федоровна и ее брат принц Вильгельм Прусский.
— Чем дальше мы едем на юг, — заметил Вильгельм сестре, — тем больше мне нравится твоя новая родина. Эти осенние леса действуют необыкновенно умиротворяюще.
Великая княгиня равнодушно кивнула головой. Она была в положении, дорога ее утомила, и она не обращала внимания на красоты русского пейзажа. Николай счел нужным проявить свои патриотические чувства.
— Знаешь ли, где мы едем? — спросил он шурина. — Это древняя новгородская земля, здесь Рюрик основал Русское государство.
— О! — протянул прусский принц. — Здесь живут потомки викингов. Очень интересно.
Николай не помнил, кто такие были викинги, но знал, что это что-то рыцарское. Он самодовольно усмехнулся и хотел продолжать свой рассказ, как вдруг карета резко остановилась, он качнулся вперед и удивленно посмотрел в окно.
То, что он увидел, заставило его побледнеть от страха: впереди, преграждая путь, стояла толпа крестьян. Он немного успокоился, когда заметил, что крестьяне стояли на коленях и многие держали шапки в руках. Не трудно было догадаться, что они собирались о чем-то просить великого князя. «Ах, какая неприятность, — думал Николай, — и надо же, чтобы все это случилось при пруссаках!» Он открыл дверцы кареты и вышел.
Увидев великого князя, толпа, до сих пор глухо гудевшая, заголосила. Надрывно кричали бабы. Ничего нельзя было понять. Николай сделал к толпе несколько шагов и беспомощно оглянулся. Только увидев, что за ним следует Вильгельм, а из других карет выходят русские и прусские генералы и офицеры, он приободрился и громко крикнул: «Молчать! Пусть один говорит!» Крики стали стихать, стоявший впереди всех худой крестьянин поклонился и сказал:
— Ваше высочество, государь-батюшка, сделай милость, заступись за нас, избавь от Ракчеева графа. Прибавь нам подать, требуй из каждого дома по рекруту, но не делай нас всех солдатами…
Николай услышал за собой сдержанный смех пруссаков.
— Хорошо, — прервал он крестьянина, — я доложу государю, его величество во всем разберется, а сейчас ступайте с дороги.
— Не оставь нас, батюшка! — снова заголосила одна баба. — Нет нашей мочи, детишки помирают…
— Я сказал, доложу! — процедил Николай, красный от стыда и злобы, сверля неугомонную бабу бешеным взглядом. Баба умолкла. Крестьяне стали подниматься с колен и уходить с дороги.
Николай повернулся и, ни на кого не глядя, направился к карете.
Выслушав рассказ брата о встрече в Новгородской губернии, Александр спросил:
— Так к какому выводу ты пришел?
Николай, не любивший Аракчеева, решил воспользоваться удобным случаем поддеть его.
— Мне кажется, что граф Алексей Андреевич несколько резковат в проведении этого прекрасного мероприятия. Могут быть… неприятности.
— Он действует по моему приказанию, — жестко ответил царь. — Военные поселения будут, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова.
Царь не напрасно заговорил о трупах. За год с момента издания указа не одна сотня запоротых, расстрелянных, умерших с голоду могла бы лечь на эту страшную дорогу.
Началось с того, что крестьяне Высоцкой волости отказались принимать на постой солдат гренадерского графа Аракчеева полка. Ни уговоры, ни угрозы не действовали. Крестьяне сами едва кормились скудными урожаями бедной новгородской земли, а тут надо было прокормить еще целый полк гренадер да самим впрягаться в солдатскую лямку. Тогда в волость прибыл генерал Княжнин во главе двух кавалерийских эскадронов и конно-артиллерийской роты; в безоружных «мятежников» сперва стреляли картечью, потом их топтали лошадьми и рубили саблями. В результате крестьяне согласились пустить гренадер. Деревню Ясенево шесть недель блокировал Семеновский полк. Крестьян решили взять измором. В конце концов обессилевшие от голода и холода (дело происходило в декабре) крестьяне сдались. Так брали деревню за деревней. Где не действовали розга и кнут, действовали картечь и сабля.
В покоренных деревнях вводились аракчеевские порядки: всех крестьян до сорока пяти лет переодели в военные мундиры, стариков обязали носить кафтаны особого покроя с погонами, и, что самое страшное для многочисленных раскольников, населявших Новгородскую губернию, всем моложе пятидесяти лет обрили бороды. Страшная «забривка» доводила многих до самоубийства или заставляла уходить во «мхи» — глухие лесные топи, где беглецы умирали от голода и болезней.
Дома в поселениях строились по определенному образцу. В каждом доме жило по четыре поселянина.
Браки заключались строго по предписанию начальства: обыкновенно командир выстраивал женщин в одну шеренгу, мужчин в другую и выкликал поселянина и поселянку, обязанных жениться. Современник отмечает, что «раздавали невест, как овец, судя по достоинству жениха». Рожать дома женщина не имела права; почувствовав приближение родов, она должна была явиться рожать в штаб.
Изнурительные работы и. учения отнимали у поселян по пятнадцать часов в сутки. Кроме обычных наказаний, палок и розог, поселян могли лишить домов и угодий и перевести в регулярную армию, Для Аракчеева не было ничего опаснее «богатого» поселянина. Он полагал, что, «разбогатев», поселянин «возмечтает о свободе и не захочет быть поселянином».
Вслед за Новгородской военные поселения были организованы в Петербургской, Харьковской, Херсонской и других губерниях. И всюду их организация сопровождалась бунтами и кровавыми усмирениями.
9
В начале сентября Пестель снова приехал в Петербург. Но в столице почти никого из членов тайного общества он не застал: гвардия была в Москве, куда незадолго перед тем выехал со всем двором и в сопровождении гвардейских полков Александр I.
Пестель зашел к князю Трубецкому, остававшемуся в Петербурге. Трубецкой был очень взволнован.
— Всех членов общества вызывают в Москву, — сказал он Пестелю.
Трубецкой рассказал Пестелю о том, что незадолго до своего отъезда в Москву Александр I имел конфиденциальный разговор с одним сановником. Царь сообщил о намерении восстановить под своим владычеством Польшу в границах 1772 года. Это означало, что к Польше отойдут исконные русские земли — правобережная Украина и Белоруссия. Кроме того, царь якобы предполагал освободить крестьян в отторженных от России областях и оставить крепостное право во всей остальной России.
— Говорят, — закончил свой рассказ Трубецкой, — что военные поселения организуются будто бы для того, чтобы подавить неминуемые волнения оставшихся в крепости крестьян. Обо всем этом я написал в Москву, — продолжал Трубецкой. — А вот сегодня получил ответ. — И Трубецкой подал письмо Пестелю.
В Москве совещания расширившегося кружка членов Общества истинных и верных сынов отечества стали еще более бурными, чем в Петербурге. Квартира Александра Муравьева в шефском корпусе Хамовнических казарм, в которых разместились гвардейские части, и московский дом Фонвизиных стали местами бесконечных совещаний. Разговоры уже не удовлетворяли — члены общества желали действовать. К действиям толкало и становившееся все напряженнее и напряженнее положение в стране: по Москве ходили глухие слухи о крестьянских бунтах в Новгородской губернии.
Письмо Трубецкого оказалось искрой, брошенной в сухую солому.
Члены тайного общества говорили, что царь ненавидит Россию, что он не только оскорбляет честь и достоинство каждого русского патриота, но готов ввергнуть страну в пожар всенародного разрушительного бунта, в огне которого погибнет Россия. Нужно было что-то предпринимать.
И Александр Муравьев потребовал немедленно начать действия.
На одном из совещаний в Хамовнических казармах Якушкин спросил друзей:
— Все ли вы верите, что Россия не может быть более несчастна, как оставаясь под управлением царствующего императора?
Все ответили ему утвердительно.
— Тогда я готов пожертвовать собой. Я убью царя и застрелюсь сам — это будет дуэль со смертельным исходом для нас обоих.
Вслед за Якушкиным на цареубийство «вызвались еще трое: Никита Муравьев, Артамон Муравьев и Федор Шаховской. Положили бросить жребий, но Якушкин твердо возразил:
— Вы опоздали. Я решился без жребия и никому не уступлю чести нанести удар.
Вот об этом-то обо всем и говорилось в письме, которым все петербургские члены Общества истинных и верных сынов отечества вызывались в Москву.
— Это безумие, — сказал Пестель, возвращая Трубецкому письмо. — Ведь мы не готовы!
— Все желают немедленного действия, — возразил Трубецкой, — а действия нашего общества слишком затруднительны и незначащи. Из-за неудобств и малых успехов многие члены уже охладели к обществу.
— Но один необдуманный поступок может вообще погубить общество. — Пестель овладел собой и, как всегда логично, стал излагать свое мнение по поводу московского решения.
Общество слишком малочисленно и не может рассчитывать на поддержку со стороны общественного мнения. Новому императору не составит особого труда выставить заговорщиков гнусными убийцами и отвергнуть предъявленные ему требования. В результате все члены общества погибнут, так и не добившись осуществления своих целей, а дело их будет скомпрометировано в глазах всего общества.
— Надо остановить их, надо отговорить Якушкина! — шагая по комнате, отрывисто бросал Пестель. — Надо ехать в Москву. Но у меня нет никакого повода для этой поездки…
— В Москву поеду я, — сказал Трубецкой.
В тот же день Трубецкой оформил отпуск и выехал из Петербурга.
Несколько дней после его отъезда Пестель не находил себе места, ничем не мог отвлечься от одной назойливой мысли — что вот-вот кто-нибудь скажет: «Его величество государь император убит в Москве злодейскою рукой…» Наконец из Москвы пришло известие, что замысел цареубийства не нашел одобрения у части членов тайного общества и был отвергнут обществом еще до приезда в Москву Трубецкого…
А на параде в январе 1818 года царь лично арестовал Александра Муравьева, придравшись к тому, что «унтер-офицеры на линиях были неверно поставлены». Но истинной причиной ареста, как говорили, были дошедшие до царя слухи о существовании тайного общества.
10
С тяжелым сердцем возвратился Пестель в Митаву.
Вечером к Пестелю заглянул Тимченко, позже пришли Авенариус и Свободской. Они пили чай с ромом, курили. Павел Иванович был рад, что никто из них на заводит разговора об обществе.
Первое время после того, как Пестель принял их в Общество истинных и верных сынов отечества, они интересовались обществом, говорили о нем с Пестелем. Но Пестель не мог не только рассказать им что-либо о деятельности общества, которое бездействовало, но не мог также, по правилам устава, откровенно говорить с ними о сокровенной цели общества и о полном преобразовании России: ведь все четверо были приняты в общество в степени «братьев».
В конце концов разговоры об обществе прекратились, словно его и не существовало вовсе.
«Как же получилось так, что тайное общество совершенно явно распадается и погибает?» — думал Пестель.
Об этом же думали и в Москве. Недостатки устава, его сугубая конспиративность, слепое подчинение младших старшим ставили непреодолимые преграды на пути расширения общества. Устав превращал тайное общество в узкий кружок заговорщиков и сковывал всю деятельность.
После долгих и горячих споров и рассуждений решено было преобразовать тайное общество и написать новый устав. Работа над уставом продолжалась около четырех месяцев. Наконец в начале 1818 года устав был написан — преобразованное общество получило название «Союза благоденствия», а устав по цвету переплета, в который были заключены тетради текста, был назван «Зеленой книгой».
Новый устав тайного общества был, по сути дела, приспособленной к русским условиям переработкой устава прусского «Союза добродетели» («Tugendbund»). В нем не было никаких упоминаний о необходимости конституции, о борьбе против самодержавия и о требовании уничтожить крепостное право.
«Зеленая книга» развертывала широкие планы по перевоспитанию общества путем медленного воздействия на общественное мнение и внедрением в общество либеральных идей. Большое место «Зеленая книга» отводила практической просветительской и филантропической деятельности членов союза.
Либеральные идеи «Зеленой книги» могли найти себе сочувствие среди самых широких кругов и действительно находили это сочувствие. В зоне влияния Союза благоденствия оказались многие ученые, литературные, филантропические кружки, тайное общество оказалось окруженным довольно многочисленным количеством сочувствующих его деятельности людей.
Борьба за конституцию и освобождение крестьян оставалась скрытой, не записанной в уставе целью общества, известной лишь его руководителям.
11
Пестель получил известие о преобразовании общества и экземпляр «Зеленой книги» весной 1818 года.
В это время уже стало известно, что графа Витгенштейна назначают командующим 2-й армией, которая стояла на Украине, и что граф берет с собой Пестеля. Павел Иванович жил в Митаве последние недели.
Перед самым отъездом на юг Пестель зашел проститься с Паленом. Старик был мрачен. Сидя в глубоких креслах против гостя, Пален напутствовал молодого офицера.
— Сначала я принял вас во имя моей глубокой и искренней любви и уважения к вашему деду и батюшке, затем полюбил вас за ваши достоинства, — медленно, скрипучим' старческим голосом говорил Пален. Договорив длинную фразу, Пален долго смотрел на Пестеля, молча склонившего голову, и беззвучно шевелил губами. Потом, без всякой связи с предыдущим, так же медленно сказал: — Недавно у меня здесь был полковник Бок. У него светлый разум. Он подал государю записку, критикующую некоторые наши государственные учреждения. Получив записку, государь объявил ее автора сумасшедшим и заточил в Петропавловскую крепость.
Пестель понял Палена: старик его предостерегал.
Возвратившись домой под впечатлением разговора с Паленом, Пестель нашел на своем столе письмо от отца. Письмо отца тоже оказалось своеобразным напутствием.
Иван Борисович ранее находил, что сыну надо оставить службу у Витгенштейна, так как положение Витгенштейна при дворе пошатнулось и он не сможет способствовать продвижению Павла в чинах. Теперь его мнение переменилось: «Было бы, впрочем, очень худо оставить графа в то время, когда он будет иметь более возможности быть тебе полезным и когда ты будешь иметь карьеру, более выдающуюся и больше способов отличиться», — простодушно объяснял старый хитрец.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ «НАД ХОЛМАМИ ТУЛЬЧИНА»
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,
Дела иные уж пошли.
А. Пушкин1
мае 1819 года дежурный генерал Главного штаба Закревский принимал у себя старого своего товарища генерала Киселева. Киселев пришел проститься перед отъездом на юг, в Тульчин, куда по распоряжению царя он был назначен начальником штаба 2-й армии. Пост был ответственный и трудный. Роты и батальоны двух корпусов, составлявших 2-ю армию, были разбросаны по бесчисленным городам и местечкам Киевской, Подольской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Бессарабской губерний. Само расквартирование делало почти невозможным контроль над действиями полковых и батальонных командиров.
— Дел тебе предстоит много, — говорил ему Закревский. — Прежний командующий старик Беннигсен и его начальник штаба Рудзевич не следили за снабжением отдельных частей, в армии нет достаточных запасов хлеба, денег на закупку провианта не хватает, подрядчики вздувают цены, интенданты крадут.
— Витгенштейн уже полгода в Тульчине, можно было ожидать, что он предпримет что-нибудь, — сказал Киселев.
— Он не многим лучше Беннигсена — добрый, но недалекий. Там нужен человек посильнее и посмелее. Выбор пал на тебя, тем более что ты был уже с двумя ревизиями во второй армии. Рудзевич тебе не помощник, солдат он хороший, а хозяин плохой. С Витгенштейном поладь, подделайся под старика, а не то будет у вас война ужасная. Ты умен, можешь ко всем подладиться и всех надуть.
Киселев улыбнулся на любезную характеристику, но ничего не ответил.
— Еще должен тебя предупредить, — продолжал Закревский, — у Витгенштейна адъютантом Пестель — сын сибирского губернатора, малый дельный, он вел в Тульчине расследование о казнокрадстве чиновников, вел с излишней злостью, но всегда с умом. Но умом его не обольщайся. Знаю наверное: делает он с командующим что захочет, а Рудзевич находится у него в подданстве. Прежде всего постарайся устранить Пестеля от влияния на ход дел в штабе и вообще имей в виду, что государь, как и прежде, остается о нем самого дурного мнения.
— О Пестеле я слышал, но отношение к нему государя для меня ново.
— Государь знает его с Пажеского корпуса, он тогда уже умничал, а с тех пор замечен кое в чем похуже пустых разговоров. Вообще за ним нужен глаз да глаз.
Киселев не стал расспрашивать, в чем замечен Пестель. Он догадывался. О Пестеле он слышал от своих друзей Павла Лопухина и Сергея Волконского. Те нередко хвалили Киселеву ум и способности Пестеля, не скрывая, что их с ним объединяет общность взглядов, и Киселев знал, что взгляды эти были откровенно антиправительственные.
Такое вольнодумство не очень пугало его. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, Киселев жил теми же интересами, дышал той же атмосферой, что и его сверстники — будущие декабристы. На Киселева, вернувшегося на родину, Россия произвела такое же гнетущее впечатление, как и на них. В 1816 году он подал царю записку «О постепенном уничтожении рабства в России», в которой доказывал, что освобождение крестьян безусловно в интересах «коренного русского дворянства».
Александр I похоронил записку Киселева, как и многие подобные записки, а Киселев, который, по его собственным словам, свято исповедовал религию монархизма, не пытался найти другого пути для воплощения своих идей.
Либеральные настроения не мешали Киселеву очень заботливо относиться к своей карьере. В одном частном письме, давая характеристики всем генералам 2-й армии, Киселев и себе дал очень выразительную и меткую характеристику: «Умен, но еще более самонадеян, поэтому может принести пользу. Честен и готов жертвовать собой ради службы. При малейшем (вызванном им) недовольстве пожертвует всем, чтобы удовлетворить свое самолюбие». К этому можно было бы прибавить: «Старается сочетать либеральные идеи с интересами царской службы, но отнюдь не в ущерб службе и своей карьере».
Пестель тоже был обеспокоен назначением Киселева; при Рудзевиче положение как будто установилось, а что принесет с собой Киселев, неизвестно. У него возник план перейти на службу к командующему Бугскими военными поселениями генералу графу Витту, который предлагал ему у себя место начальника штаба.
В письме к отцу Пестель мимоходом упоминает об этом плане.
Иван Борисович был очень встревожен письмом сына. В ответном письме он доказывал, что не следует бросать службу у Витгенштейна и переходить к Витту. «Как менять верное на неверное? и если это неверное основывается на обещании — и кого? Графа Витта, который сам еще не оперился».
Взвесив все обстоятельства, Пестель ответил отцу, что мысль об уходе от Витгенштейна им пока оставлена.
Решив остаться во 2-й армии, Пестель попросил Рудзевича, ехавшего встречать своего преемника, отрекомендовать его Киселеву.
В письме из Херсона, где произошла встреча с Киселевым, Рудзевич сообщил: «Я все сделал, любезный Павел Иванович, что только чувство искреннего и дружеского моего к вам расположения указывает мне, отдав полную справедливость достоинствам вашим. Павел Дмитриевич Киселев сказывал мне, что он вас знает по репутации и много добра об вас говорил. Любя же вас много, вы можете представить себе, что я сим случаем умел воспользоваться».
2
Тульчин, небольшой городок в Подолии, населенный мелкой шляхтой, украинской и еврейской беднотой, принадлежал графу Мечиславу Потоцкому.
Въезд в город проходил по плотине обширного пруда. На берегу его в обрамлении стройных тополей высился костел, а за ним в густой зелени садов тонули стены старинного доминиканского монастыря и многоколонный дворец Потоцких с белыми флигелями и службами. За городом, то поднимаясь в гору, то опускаясь в долину, вился широкий, обсаженный четырьмя рядами деревьев Екатерининский шлях.
Пестель жил в особняке недалеко от дворца Потоцких. Внушительная внешность дома мало гармонировала со скромной обстановкой квартиры адъютанта главнокомандующего. Единственным ее украшением были полки с книгами. В кабинете хозяина стоял большой письменный стол, фортепьяно и кушетка. Пестель любил вечерами, не зажигая свечей, лежа на кушетке, курить трубку и размышлять или садился за фортепьяно и наигрывал что-нибудь из Глюка или Моцарта, незаметно начиная импровизировать. Он мог играть часами, за фортепьяно он забывал время.
Если заходили знакомые, они нередко все вместе отправлялись к Киселеву. Пестель был желанным гостем в доме начальника штаба. Здесь вечерами в гостиной киселевского дома вокруг Пестеля собирался кружок офицеров. Часто к ним присоединялся хозяин. Разговоры велись очень свободные. Не стеснялись высказывать свои мнения и о петербургском начальстве и об Аракчееве, а иногда касались и царской фамилии. Киселев слушал, улыбался, изредка вставлял свои замечания. Ему не боялись возражать, если находили, что он не прав, а он не обижался, выслушивая порой резкие возражения.
Свободное время Киселев нередко проводил в обществе Пестеля. Он охотно пользовался его богатыми знаниями, прекрасными способностями администратора. Их знакомство началось в день прибытия Киселева в Тульчин, 16 мая 1819 года, когда Витгенштейн представлял новому начальнику штаба своих сотрудников. Как адъютант главнокомандующего Пестель сопровождал потом Витгенштейна и Киселева в поездке по местам расположения 2-й армии, и эти поездки очень сблизили Пестеля и Киселева.
Глубокий взгляд на вещи, тонкие и верные суждения высоко поставили Пестеля в мнении Киселева. «Из всего здешнего синклита, — писал Киселев Закревскому, — он один, и совершенно один, могущий с пользой быть употреблен, малый умный, со сведениями, и который до сих пор ведет себя отлично хорошо… Пестель такого свойства, что всякое место займет с пользою; жаль, что чин не позволяет, но дежурный ли генерал, начальник ли штаба в корпусе — везде собою принесет пользу, ибо голова хорошая и усердия много».
Закревский решил снова предостеречь друга. «Радуюсь, что ты от Пестеля в восхищении, — отвечал он. — Но прошу иметь его в том мнении, как я тебе писал. Время все открывает, а не минутное удовольствие». Осторожный Киселев понял, что был не в меру откровенен, и поспешил оговориться: «В Пестеле не душевные качества хвалю, но способности ума и пользу, которую извлечь из того можно, впрочем о моральности не говорю ни слова». Но эти оговорки делались для влиятельного петербургского друга, в Тульчине Киселев никаких претензий к «душевным качествам» Пестеля не предъявлял.
С первых месяцев своей работы Киселев принялся горячо исправлять недостатки в снабжении частей, деятельности военных судов, в ремонте казарм и других казенных зданий, но оставалось главное, исправить которое Киселев был не в силах. Об этом главном часто шли разговоры между Пестелем и Киселевым.
Необходимо было избавить солдат от жестоких телесных наказаний и изнурительной муштры. Без этого нельзя было гарантировать спокойствие солдатской массы. В армии было хоть отбавляй «виртуозов-фрунтовиков», пользовавшихся личным покровительством самого Аракчеева, и умерить жестокость которых было невозможно, не навлекая на себя гнев всесильного временщика.
Имя командира 17-й дивизии генерала Желтухина было известно всей России. Это он, не лишенный остроумия палач, рекомендовал из трех новобранцев делать одного ефрейтора. «Сдери с солдат шкуру, — советовал он одному батальонному командиру, — а офицеров переверни кверху ногами, не бойся ничего — я тебя поддержу». И недаром в дивизии Желтухина госпитали были полны солдатами, надорвавшимися в учении и искалеченными побоями.
Но не всегда солдаты покорно подставляли спины под шпицрутены.
27 июня 1819 года начались волнения в Чугуевских военных поселениях на Харьковщине. Повод был незначительный: поселенцы отказались косить сено для действующих эскадронов. Эта работа, навязанная сверх обычной, была каплей, переполнившей чашу народного терпения.
— Лошади не наши, их у нас отобрали в казну, пусть казна их и кормит! — отвечали чугуевцы на увещевания своего начальства.
2 июля прибывший на место с несколькими эскадронами генерал Лисаневич распорядился окружить мятежников, собравшихся на поле за городом, плотным кольцом. Кавалерия, построенная в каре, с четырех сторон двинулась на поселенцев. Те начали отступать и вскоре сбились в плотную толпу.
— Что, не сладко? — кричал им Лисаневич. — Выдайте зачинщиков — всех отпущу!
Толпа молчала. Лисаневич еще раз потребовал выдать зачинщиков, и снова молчание.
— Ах, так! — рассвирепел генерал. — Загнать всех в манеж, завтра поговорим.
Толпу мятежников оттеснили к манежу и заперли там.
Но поселенцы не стали спокойно дожидаться генеральского разговора. Уже в ночь после того, как часть чугуевцев была заперта в манеж, по окрестным деревням стали распространяться «обязательные листы» с призывом, участвовать в согласии с чугуевцами. Положение явно обострялось. 4 июля Лисаневич приказал окружить Чугуев двумя батальонами Нижегородского полка и артиллерийской батареей, а сам отправился в церковь, куда собрали всех не сидевших в манеже чугуевцев с женами и детьми.
— Последний раз говорю, — обратился генерал к чугуевцам, — бросьте бунтовать, выдайте зачинщиков и ступайте косить сено.
— Не бывать этому! — раздалось в ответ. — Не хотим военного поселения, это служба Аракчееву, а не государю.
— Как вы смеете! — задохнулся от негодования генерал. — Да я!.. — Но ему не дали договорить.
— А Аракчееву скажи, — кричали Лисаневичу, — что мы его непременно решили истребить, мы знаем: ему конец — и поселениям конец.
Генерал, красный от гнева, позабыв надеть шляпу, выбежал из церкви.
А тем временем к Чугуеву уже подходили крестьяне окрестных деревень на подмогу чугуевцам, но войска не подпустили их к городу.
Две недели просидели мятежники в манеже, и, когда 18 июля некоторые из них решили идти на сенокос и были выведены из манежа, их встретили жены и матери криками: «Предатели, иуды!» — и заставили вернуться обратно.
Только в начале августа мятеж стал стихать, начальству удалось арестовать его главарей. В середине августа был наряжен суд. Распорядителем суда был Аракчеев.
Он побоялся приехать к началу мятежа, ему донесли, что мятежники грозили его убить. Но отказать себе в удовольствии отомстить за эти угрозы он не мог. Правда, удовольствие было испорчено с самого начала: мало кто умолял графа о прощении. «Ожесточение преступников было до такой степени, — писал Аракчеев в донесении царю, — что из сорока человек только трое, раскаявшись в своих преступлениях, просили помилования; они на месте прощены; а прочие 37 наказаны, но сие наказание не подействовало на остальных…»
Сохранился страшный список «преступников» Чугуевского и Таганрогского уланского полков: пятьсот человек прогнано сквозь строй и против двадцати пяти фамилий рукой Аракчеева написано «умре». Двести тридцать пять человек сослано в Оренбург, двадцать девять женщин — те, кто уговаривал своих мужей не унижаться перед царскими сатрапами, не просить пощады у палачей, — наказаны розгами.
Волна возмущения прокатилась по всей России при известии о расправе с чугуевцами, но единственным, кто показался царю достойным сожаления в Чугуевской трагедии, был… Аракчеев. «Мог я в надлежащей мере оценить все, — утешал Александр друга, — что твоя чувствительная душа должна была перетерпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился… Благодарю тебя искренне от чистого сердца за все твои труды».
Расчувствовавшийся Аракчеев решил тут же после получения царского послания пригласить на обед всех участвовавших в расправе с чугуевцами офицеров. В конце обеда, когда генерал Лисаневич, угодливо изогнувшись в сторону Аракчеева, провозгласил тост за здоровье государя-императора, за окном раздался погребальный звон, крики и рыдания. Лисаневич от неожиданности чуть не выронил из рук бокал, все присутствовавшие побледнели.
— В чем дело? Что такое? — спросил Аракчеев сдавленным голосом.
Через минуту его сиятельству было доложено: хоронят жертв последней экзекуции.
— Только-то! — поморщился Аракчеев. — Распорядитесь, чтобы немедленно прекратили шум.
Слухи о чугуевском возмущении заставили Пестеля глубоко задуматься. Военные поселения были как пороховой склад. Безумное правительство, создавая их, само подносило факел к этому складу; он мог взорваться в любую минуту, и тогда — новая пугачевщина. А это значит… И в голове Пестеля вставали страшные видения: горит их дом в Васильеве, отца, мать и Софи связанными ведут к атаману… Может это случиться не у них, а у Муравьевых, Трубецких, Якушкиных — не все ли равно?
Может, стать во главе восставших? Но что он способен сделать? Ведь пугачевщина — стихия, и не ему совладать с ней. Нет, надо успеть сделать переворот раньше. Для народа, но без народа.
3
Вскоре после своего приезда в Тульчин Пестель близко сошелся с двумя офицерами: подполковником Комаровым и военным врачом Вольфом.
Комаров был старым знакомым Александра Муравьева и других основателей Союза спасения. Это само по себе было для Пестеля хорошей рекомендацией, тем более что из разговоров с Комаровым можно было заключить, что многое во взглядах Александра Муравьева ему известно и не чуждо. Естественно, что у Пестеля родилась мысль завербовать Комарова в члены Союза благоденствия.
Пробным камнем в этом отношении послужила известная речь Александра I, произнесенная им в Варшаве на открытии сейма в марте 1818 года.
Речь эта произвела большое впечатление на русское дворянство, и неудивительно: царь официально заявил о намерении ввести в России конституцию.
Обращаясь к полякам, он сказал тогда, что степень развития их страны позволила ему ввести в Польше конституцию и что он надеется распространить ее на всю Россию, как только она достигнет «надлежащей зрелости». С оговорками, но царь признал, что конституции «утверждают истинное благосостояние народов».
Подобные рассуждения русские не привыкли слышать от своих самодержцев. И хоть не особенно приятно было знать, что их не считают достигшими надлежащей зрелости, но все же речь Александра, по словам Карамзина, «сильно отозвалась в молодых сердцах». Оказалось, что молодые люди «спят и видят конституцию». Будущий декабрист Николай Тургенев записал в своем дневнике, что в речи «много прекрасного и такого, чего мы не ожидали».
Правда, не все поверили в искренность Александра. Так поэт Вяземский сомневался, говорил ли царь от души или «с умыслом дурачил свет», и многозначительно предостерегал: «Можно будет припомнить ему, если он забудет». Пушкин написал на речь царя свой знаменитый «Noël», в котором царь обещал:
И людям все права людей, По царской милости моей, Отдам из доброй воли.Для молодого Пушкина обещания царя были «сказками», но консервативно настроенное дворянство переполошилось. «А какое впечатление произведет речь на крестьянство? — рассуждали некоторые опасливые помещики. — Не сочтет ли оно, что воля не обещана, а уже дарована, да только дворяне ее скрывают?» Кое-кому мерещились уже пугачевские топоры. В английском клубе в Москве старики шептали: «Доберутся до нас!»
Царь, конечно, и не думал до них добираться, и Пестель понимал это не хуже Пушкина. Александр умел пустить пыль в глаза либеральной фразой, а в данном случае хотел показать Европе, как облагодетельствованы им его новые подданные — поляки. Но как бы то ни было, а речь царя служила великолепным предлогом для разговора о целях Союза благоденствия.
— Сама скрытая воля монарха стремится к развитию либеральных идей в российском юношестве, — сказал как-то Пестель Комарову. — Разве вы не чувствуете, что это сокровенная мысль ученика республиканца Лагарпа? И разве не обязаны мы усовершенствовать себя и постичь эти идеи, до времени тайно, конечно, чтобы оказаться достойными нового правления?
Комаров отвечал, что он, пожалуй, с этим согласен, но задавал вопрос: «Как следует усовершенствовать себя?»
— Наш долг — стремиться к общей пользе, — продолжал Пестель, — а для этого надо образовать себя, чтобы со временем применить свои знания для общей пользы. Каждый из нас должен воспитывать в себе человека-гражданина, а для этого нет лучших помощников, чем труды разных философов вроде Беккариа, Сэя, Детю де Траси. К несчастью, у нас еще мало кто это понимает, но в Петербурге и в других местах уже составились из образованных людей небольшие кружки для чтений и рассуждений на эти темы. Следует и нам завести подобные.
Дальше — больше, и, наконец, Комаров был посвящен в тайну существования Союза благоденствия. Пестель познакомил его с «Зеленой книгой», а вскоре и формально принял в члены союза. Правда, Пестель чувствовал в Комарове известную настороженность, тот был умерен в своих суждениях, но Пестель надеялся, что со временем Комаров полевеет.
Больше симпатий вызывал в Пестеле молодой армейский врач Вольф.
Вольф первое время был единственным человеком в Тульчине, с кем Пестель находил общий язык.
Пестель с удовольствием слушал рассказы Вольфа, недавно, окончившего Медико-хирургическую академию, о Москве, об академических профессорах. Постепенно их разговоры с воспоминаний о Москве перешли на злободневные темы. Вольф интересовался политикой и философией и не раз говорил Пестелю, что стал медиком только по настоянию отца. Он откровенно и резко отзывался и об Аракчееве, и о военных поселениях, и о российских порядках вообще.
Вольф казался человеком вполне подходящим для общества. Пестель дал ему прочесть «Зеленую книгу». Тот, прочитав ее, сказал, что вполне разделяет взгляды, изложенные в ней.
Теперь Пестель прямо предложил Вольфу вступить в члены союза, и, когда Вольф согласился, он предложил ему дать расписку, которая гласила:
«Я, нижеподписавшийся, находя цель и законы Союза благоденствия совершенно сходными с моими правилами, обязуюсь деятельно участвовать в управлении и занятиях его, — покоряться законам и установленным от него властям: и, сверх того, даю честное слово, что, даже по добровольном или принужденном оставлении союза, не буду порицать его, а тем менее противодействовать оному. В противном случае добровольно подвергаюсь презрению всех благомыслящих людей».
Так начала действовать Тульчинская управа Союза благоденствия.
Все трое чаще всего собирались на квартире у Пестеля. Разговоры обычно велись о делах союза, обсуждались политические новости. Пестель охотно давал друзьям читать выписываемые им иностранные газеты и журналы, снабжал книгами из своей библиотеки.
Беседы их скоро свелись к обсуждению сокровенной цели общества — освобождению крестьян и введению в России конституции. В этих обсуждениях Пестель занимал среднюю позицию между умеренным Комаровым и якобински настроенным Вольфом.
И с каждой беседой Пестель все яснее ощущал необходимость совершенно точно определить образ будущего правления в России. Без этой работы невозможно было расширять общество, надеяться на то, что оно от теоретических дискуссий перейдет к реальным действиям.
И Пестель теперь усиленно занимался «Запиской о государственном правлении».
4
Обширный труд Пестеля, над которым он работал с конца 1818 года до середины 1819 года, содержал план необходимых в России реформ. Пестель начал собирать материалы для его составления еще в Митаве, но по-настоящему работал над ним уже в Тульчине.
В программе Союза благоденствия предусматривалось, что каждый член союза должен изложить свое мнение об условии освобождения крестьян. Такие записки по обсуждении их Коренным советом должны были быть поданы царю. Считалось, что подобные записки должны влиять на правительство в либеральном духе.
Пестель не без основания полагал, что большинство членов союза неясно представляет образ будущего правления России. Поэтому он писал «Записку о государственном правлении», которая содержала бы не только и не столько критику существующих порядков, сколько определяла цель, к которой следует стремиться. Пусть эта записка была только программой-минимумом, но все-таки строй будущей России представлялся в ней вполне конкретно.
За основу в работе Пестеля бралась мысль о необходимости для России конституции. «Законы разделяются на два главных рода, — писал он, — первые выражает устройство и образование, вторые — порядок и круг действия. Законы первого рода составляют в гражданском обществе государственный устав или конституцию». Россия, по мнению Пестеля, должна быть конституционной монархией. Отмена крепостного права предполагалась им не сразу, а постепенно, в частности, путем сокращения сроков военной службы солдат. Пестель в своих антикрепостнических высказываниях избегает слишком радикальных мыслей, прекрасно понимая, что даже предлагаемое им будет воспринято царским правительством враждебно.
Правда, вопросы судопроизводства изложены им смелее и подробнее. Он ратует за суд присяжных и гласное судопроизводство, но без адвокатов. Выборность присяжных им отвергается; присяжными по очереди должны быть все граждане.
Много места Пестель уделяет государственной безопасности. Особое внимание при утверждении нового порядка в России он обращал на «устранение и предупреждение всякого безначалия, беспорядка и междоусобия».
Пестель был безусловным сторонником крепкой центральной власти, а существование такой власти предполагало организацию сильного охранного органа. Государственной безопасностью должен был заниматься приказ благочиния, организация которого требовала непроницаемой тайны. Приказ благочиния должен был иметь определенных агентов, которых Пестель называет «шпионами». Они, правда, «не должны быть многочисленны, ибо тогда слишком дорого будут стоить и более вреда, нежели пользы, принесут. Большое их число совершенно бесполезно для правительства справедливого и благодетельного и может только быть нужно хищникам престолов и правительствам жестоким и кровожадным».
Разобрав все невыгоды военных поселений, Пестель предлагает план реорганизации армии. Армия, по мнению Пестеля, должна формироваться на основе всеобщей воинской повинности: «…Берутся ратники из среды всего государства, в каковой повинности все сословия без изъятия должны участвовать, ибо все равномерно пользуются выгодами от внешней безопасности происходящими. Каждый гражданин, имея от роду 18 или 20 лет, должен подлежать набору».
Далее Пестель подробно говорит о расквартировании, питании и обмундировании войск. Одежда солдат, считает он, должна быть удобной и способствовать сохранению здоровья. «Что касается до красоты одежды, — пишет Пестель, — то русское платье может служить тому примером», а потому формой одежды должен быть кафтан, «длинные штаны», сапоги и «шапки, подобные казачьим, но с пером», зимой полушубки.
Для Пестеля освобождение русского народа от «зловластия» не мыслилось без укрепления национального самосознания, а следовательно, и борьбы против излишней «переимчивости» всего иностранного.
В своей работе Пестель заменил все иностранные термины. Он составил специальный словарь, где против каждого иностранного слова стояло русское, которым следовало заменить иностранное.
Так слово «каска» заменялось на слово «шлем», «солдат» — «ратник», «кадры» — «основа», «артиллерия» — «бронемет», «казармы» — «ратожилье», «инвалидные дома» — «старостные дома», «дивизия» — «войрод», «корпус» — «ополчение» и т, д.
Первая редакция «Записки» не удовлетворила Пестеля. Спустя год он пытался еще раз переработать ее, озаглавив на этот раз «Краткое умозрительное обозрение государственного правления», с расчетом на то, что «его императорскому величеству угодно будет когда-либо учредить славяно-росскую империю».
Но и на этот раз не отправил свою работу царю. И не только потому, что убедился в ее бесполезности — время работы над ней было временем быстрой эволюции его взглядов. 1819 год был годом окончательного перехода с монархических позиций на республиканские. Иначе стал решаться им и вопрос освобождения крестьян и вопрос государственного устройства.
Напряженная работа над собой, изучение трудов Беккариа, Филанджиери, Монтескье, Сэя, Адама Смита и особенно Детю де Траси имели очень большое влияние на Пестеля. Книга последнего «Комментарий на «Дух законов» Монтескье» наряду с доводами Новикова сыграла значительную роль в формировании его республиканских взглядов.
Граф Антуан Детю де Траси, французский философ и экономист, член Учредительного собрания 1789 года, был сенатором, при Наполеоне и участвовал после низложения Наполеона в выработке конституции, которую принял Людовик XVIII. Две работы— «Элементы идеологии» и «Комментарий на «Дух законов» Монтескье» — составили ему известность далеко за пределами Франции. Детю де Траси был сторонником представительного правления и невмешательства правительства в экономическую жизнь. Человек, по его мнению, счастлив тогда, когда исполняются его желания, свобода есть возможность исполнять свои желания, потому свобода и счастье одно и то же. Разумна и правомочна только одна власть — народная, и лучшей ее формой является представительное правление.
Наследственная монархия кажется Детю де Траси столь же бессмысленной, как если бы сделали наследственной должность кучера или повара, адвоката или доктора. Неразумно ставить судьбу целого народа в зависимость от прихоти одного человека. Сама природа власти наследственного монарха развращает ее носителя, монарх стремится ко все большему усилению своей власти и прежде всего за счет прав народа. «Надеяться на свободу и монархию, значит надеяться на две вещи, из которых одна исключает другую», — заявляет Детю де Траси.
Эти простые и ясные доказательства совпадали с рассуждениями Новикова.
Так, в раздумьях над судьбами своей родины, над трудами философов, Пестель понял, что в спорах с ним Новиков был прав: России нужна республика.
5
Четвертым к Тульчинской управе в мае 1819 года присоединился Иван Григорьевич Бурцов. С его приездом на юг деятельность управы заметно оживилась.
Бурцов был одним из активнейших членов тайно го общества. Прежде он был руководителем одной из Петербургских управ, и Пестель хорошо знал его.
В Петербурге Бурцов состоял начальником центральной школы для обучения солдат чтению и письму. Он с любовью относился к своей работе, и школа делала успехи, как вдруг однажды ее посетил начальник Главного штаба князь П. М. Волконский. Не скрывая своего неудовольствия, он сделал Бурцову выговор за то, что солдаты не соблюдали форму. Оскорбленный Бурцов решил расстаться с Петербургом, попросил перевода на юг и вскоре очутился в Тульчине адъютантом Киселева.
Теперь Пестель и Бурцов, как два коренных члена Союза благоденствия, оба встали у руководства Тульчинской управы.
Бурцов развил бурную деятельность: вскоре после своего приезда он принял в члены общества полковника Кальма, Краснокутского, военного чиновника Юшневского, полковника Аврамова. В июне 1819 года в Тульчин из Петербурга приехал ротмистр Василий Ивашев, назначенный адъютантом к Витгенштейну. Он привез Бурцову рекомендательное письмо от его знакомого С. Н. Бегичева, в котором тот извещал тульчинских членов, что Ивашев еще в 1817 году был принят им в члены общества. Ивашев тоже был введен в число членов Тульчинской управы.
Организация росла. Молодые заговорщики, не соблюдая особой конспирации, часто сходились у Пестеля или Бурцова. Политика была, естественно, основной темой их разговоров.
Первое время тон на таких собраниях задавал Бурцов. Пестель молча выслушивал горячие рассуждения Бурцова о пользе просвещения и о той роли, которую оно должно играть в воспитании народа. Путь мирного обновления России был, по мнению Бурцова, единственно верным путем, которым можно было установить новый порядок вещей в России.
— Но эти учреждения надо вводить очень осмотрительно, — доказывал он на одном собрании. — Ничто не может быть ужаснее кровопролитий, подобных тем, что были во Франции.
— А что делать, — спросил его однажды Вольф, — если без кровопролития и междоусобия невозможно будет установить новый порядок вещей в России?
— Я так не думаю, — возразил Бурцов. — Междоусобия можно и нужно избежать.
— А я полагаю, — сказал Комаров, — что если без кровопролития нельзя будет обойтись, то не следует ничего затевать. Иначе разразится новая пугачевщина, которая кончится еще худшим деспотизмом.
— Пугачевщина так пугачевщина, — пылко ответил Вольф. — Следует только стать во главе этой пугачевщины и направить ее по правильному руслу. Нам нечего бояться кровопролития…
— Помилуйте, Фердинанд Богданович, — остановил его Комаров. — Никто пока не говорит о революции. Зачем она нам?
— Зачем такие крайности? — обратился Пестель к Вольфу. — Можно установить справедливую форму правления без кровопролития или по крайней мере без междоусобия. Республиканская форма кажется мне самой справедливой.
— Но с установлением республики, — сказал Бурцов, — надо быть очень осторожными и никак нельзя торопиться. Республика — дело далекого будущего; может быть, дело наших внуков. Нам прежде всего нужны просвещение и конституция. Непросвещенный народ при республике легко ввергнется в анархию.
— Улита едет, когда-то будет, да и будет ли вообще — неизвестно, — рассмеялся Пестель. — Пока вы одного помещика уговорите освободить десять крестьян, другой сотню их вгонит в землю. Нет, сперва надо установить республику, уничтожить сословия, уравнять всех граждан, и это будет лучшей основой для просвещения народа.
— Стало быть, вы тоже стоите за революцию? — спросил Бурцов.
— Да, потому что революция, направленная твердой рукой, к анархии не приведет.
— Но революция и анархия неотделимы! — горячо возразил Бурцов.
— Неправда! Россия жаждет благоденствия, и ваша медлительность скорее приведет ее к анархии. Ваши капли добра только дразнят ее.
— А вы хотите напоить ее кровью! — вскричал Бурцов. — Нет, я почту за великое счастье, если за свою жизнь сумею хоть на одну каплю, но чистую каплю, улучшить нравственность народа.
Споры Пестеля с Бурцовым всколыхнули всех. Мнения разделились. Вольф, хоть и не во всем соглашался с Пестелем, поддерживал его больше всех. Юшневский и Ивашев тоже стали на сторону Пестеля. Бурцова по-настоящему поддерживал один Комаров.
Спорили всякий раз, когда встречались, спорили ожесточенно, легко переходя в крайности. Пестель в спорах был резок и не щадил самолюбия противника. В Бурцове он нашел сильного оппонента, переубедить которого было трудно, но там, где не действовали убеждения, действовала насмешка, порой очень злая.
Бурцову иногда казалось, что Пестель испытывает к нему какую-то личную неприязнь. Комаров, которого высказывания Пестеля раздражали и пугали, старался поддержать его в этом мнении.
— Обратите внимание, Иван Григорьевич, — говорил ему Комаров, — Пестель всякий раз выходит из себя, когда какая-нибудь даже самая маловажная деловая бумага, написанная вами, попадает к нему в руки. Согласитесь, это мелко. Уж не завидует ли он вам?
Личной неприязни Пестель к Бурцову не испытывал, но Бурцов, который был высокого мнения о своих достоинствах, считал, что первенство в Тульчинской управе должно принадлежать ему, и болезненно относился к тому, что большинство членов общества держало сторону его противника.
Отношения Пестеля с Бурцовым и верным его сторонником Комаровым стали холоднее. Правда, вне споров, внешне, они оставались вполне корректны и даже дружественны. И Пестель и Бурцов понимали, что как бы ни были важны их споры, доводить дело до раскола не следует. В управе они действовали совместно, но для обоих было ясно, что пути их расходятся.
6
Витгенштейн все-таки не был уверен в благожелательном отношении к себе царя. В глубине души он не мог не сознавать, что для Александра не он, а Киселев является центральной фигурой 2-й армии. Это ему не доставляло бы беспокойства, если бы не плохо скрываемое пренебрежение к нему со стороны петербургского начальства. С момента приезда в Тульчин Киселева Витгенштейна не оставляла мысль самому съездить в Петербург и окончательно выяснить, не лучше ли для сохранения престижа самому выйти в отставку, а не дожидаться ее.
В июне 1819 года Киселев писал в Петербург Закревскому: «В конце сентября граф проситься будет в Петербург для отдачи детей в лицей или пансион, а потом… намеревается проситься к водам». 14 августа, посылая уже официальную просьбу Витгенштейна об отпуске в Петербург, он пишет Закревскому, что в Петербурге Витгенштейн должен «объясниться с царем и видеть, на что решиться. Деланные приемы Сакену (командующему 1-й армией) у него в глазах и памятны; оденьте молодежь гвардейцев в белые штаны и пошлите утром к нему — вот почесть. Потом будет проситься к водам и слово ласковое остановит. Если не честность его нужна и услуги, то нужно государю сохранить в армии своей имя Витгенштейна, для армии приятное. Затем не должно забыть и 12 год, и бедность его, и 8 человек детей, — небрежность, с которой обходились и обходятся со стариком; он все сие чувствует и боится за всем тем быть вынужденным оставить службу, которая ему и детям его необходима, но от которой беспрерывным оскорблением самолюбия принужденно удалиться будет должен. Приласкайте действительно честного и доброго старика и возвратите его к нам; а я отвечаю государю, что через год делами армии доволен будет».
Летом в Бессарабии вспыхнула эпидемия чумы; она распространялась, захватывая все новые и новые области; в начале октября чума приблизилась к Тульчину. В такой момент главнокомандующий не мог оставить армию. Надо было принимать срочные меры по борьбе с эпидемией.
Только к концу октября чума стала отступать, войска, оцеплявшие зараженные села, были отведены, карантины снимались. Можно было думать об отъезде.
7
Возможность встречи Пестеля с петербургскими членами тайного общества взволновала Бурцова. Он отлично понимал, что в случае удачного визита в Петербург авторитет Пестеля в Тульчине поднимется еще выше, а он, Бурцов, совсем может отойти на второй план. Потому он сам хотел поехать с Витгенштейном, но, к своему большому огорчению, должен был остаться.
А Пестель возлагал немалые надежды на встречу с петербургскими членами.
Прошло больше года с момента основания Союза благоденствия, число членов значительно выросло, но дальше бесплодных прений дело не шло. Этому мешала прежде всего неопределенность целей союза, программа его была расплывчата, медленное воздействие на общественное мнение, растянутое на двадцать лет, почти никого не удовлетворяло. Члены союза требовали большей активности от тайного общества.
Пестель вез в Петербург проект установления в России республики путем государственного переворота. Он ехал с твердым намерением добиться от петербургских членов согласия на подготовку переворота. Прения с Бурцовым, беседы с другими членами управы дали свои результаты: подавляющее большинство тульчинцев поддерживало точку зрения Пестеля.
Он был уверен в себе. Ему казалось, что положительный исход совещания обеспечен. Пестелю было известно, с каким намерением Витгенштейн едет в Петербург. Кто знает, может, Витгенштейн все-таки надумает уйти в отставку? Что делать тогда? Пестель, осведомленный через Киселева о враждебном отношении к себе петербургского начальства, не знал, на что можно было рассчитывать в столице. Будущее его семьи зависело во многом от него — отец, к которому Аракчеев вдруг изменил свое расположение, уволен в отставку, братья еще не встали как следует на ноги, хозяйство расстроено… Необходимо было реабилитировать себя в глазах Закревского и прочих высокопоставленных недоброжелателей. Единственный, кто мог помочь в этом, — Киселев.
Тот охотно согласился похлопотать за Пестеля. В письмах к Закревскому он не только просит отнестись к адъютанту Витгенштейна благожелательно, но, зная, что больше всего волнует его петербургского друга, старается уверить, что Пестель от влияния на ход дела в армии отстранен и вообще стал чуть ли не ручным. За три дня до отъезда Витгенштейна и Пестеля из Тульчина Киселев пишет: «Приласкай едущего с графом адъютанта. Я ему надел узду и так ловко, что он к ней привык и повинуется. Конь выезжен отлично, но он с головой, и к делу очень способен; сверх того я не желаю, чтобы помимо меня или через меня он что-либо потерял; твое же обхождение хорошее или дурное будет ему чувствительно, тем более, что он знает, что Верховная Власть заключает о нем не отличным образом. Я его совершенно удалил от дел, дабы не приучить старика (то есть Витгенштейна) к прежнему заведенному нерегулярному ходу оных». Кроме того, Киселев дает Пестелю рекомендательное письмо на имя Закревского.
«Пестель неотступно просил к тебе письма, — сообщает Киселев Закревскому, — и я в настоящих обстоятельствах не мог просьбы не удовлетворить. Покорность его заслуживала воздаяния, и признаться, что потерял совсем в делах влияние, было, конечно, ему прискорбно… Однако должно сказать, что он человек, имеющий особенные способности, и не корыстолюбив, в чем имею доказательства. Вот достаточно, по моему мнению, чтобы все прочее осталось без уважения».
Витгенштейн с семьей и свитой прибыл в Петербург 24 ноября 1819 года. В столице вняли советам Киселева. Кроме бесплатной квартиры, Витгенштейну в виде особой милости дозволено было пользоваться столом и экипажами от двора, гвардейцы ходили к нему представляться, царь был с ним очень любезен. Старик, не ожидавший такого приема, сразу повеселел, забыл все неприятности, ничего не выяснял, ни о чем не просил, благодарил за прием и говорил, что в январе собирается обратно в Тульчин.
Закревский, «хотя против чувств», но, желая сделать приятное Киселеву, принял Пестеля хорошо. Однако ожидания Пестеля на повышение в должности не оправдались: 6 декабря последовало распоряжение о производстве его в подполковники и переводе из гвардейского Кавалергардского полка в армейский Мариупольский гусарский. Должность Пестеля оставалась прежней — адъютант командующего 2-й армией.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ МОНАРХ ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ?
Я сравнивал величественную славу Рима во дни республики с плачевным ее уделом под правлением императоров.
П. Пестель1
Аничкова моста сани свернули на набережную Фонтанки и остановились у небольшого коричневого дома. Из саней вышел офицер в шинели с бобровым воротником и направился к парадному.
Никита Михайлович Муравьев уже ждал гостя. Как только доложили, что приехал подполковник Пестель, он приказал звать его в кабинет и сам вышел навстречу.
— Давно, давно жду вас, Павел Иванович, — сказал Муравьев, когда они поздоровались. — В прошлый раз своими обещаниями рассказать много важного вы только разожгли мое любопытство.
— Что поделать — дела, — ответил Пестель, усаживаясь. — Но сегодня мы непременно должны с вами поговорить обо всем и обо всем договориться. Скажу прямо: мне нужна ваша помощь.
— Чем же могу служить? — спросил Муравьев.
— Своим просвещенным умом, — Пестель улыбнулся и продолжал: — Господин Тургенев, вы и я, кажется, уже договорились, что необходимо собрать петербургских членов и решить, будем ли мы действовать или будем продолжать говорить.
— Разумеется, решили, — подтвердил Муравьев.
— Ну, так прежде всего надо условиться, где мы соберемся, а потом будем обсуждать остальное. Сам я ничем помочь не могу — вы знаете, я остановился у брата в Кавалергардских казармах, а там не та обстановка, которая нужна.
— Понимаю, — ответил Муравьев. — Я уже думал об этом. Конечно, проще всего было бы собраться у меня, но вы знаете, как гостеприимна матушка, и наш дом всегда полон родственниками, близкими и дальними, приехавшими бог весть откуда и бог весть зачем. Поэтому в интересах дела я должен сказать, что и наш дом не подходит. Нам будут мешать. Так что, перебрав всех, я остановился на квартире Федора Николаевича Глинки. Он холост, живет один, а главное — под его квартирой находится петербургская контора адресов. Там всегда толчется масса народу и сколько бы человек ни съехалось к Глинке, это не привлечет ничьего внимания.
— А вы уже говорили с Глинкой? — спросил Пестель.
— Нет, но он непременно согласится, я уверен в этом, — ответил Муравьев.
— Вот и отлично, — оживился Пестель. — Теперь давайте договоримся о самом важном.
— Я догадываюсь, — ответил Муравьев, — что самое важное нам с вами договориться о том, чтобы на заседании действовать совместно.
— Это так, но это еще не все, — заметил Пестель. — Главное то, с чем мы должны выступить вместе. Мы должны не только убедить всех остальных, что союзу пора действовать, но и в каком направлении действовать. — Пестель протянул руку и положил ее на ручку кресла Муравьева. — Я вам скажу прямо, не знаю только, как вы к этому отнесетесь, Никита Михайлович: я стал республиканцем и республиканцем убежденным. — Муравьев улыбнулся и хотел что-то сказать. — Нет, нет, погодите, дайте я вам все объясню. Это не только плод раздумий кабинетного человека, было время, когда я оспаривал Новикова, отвергал его республиканскую конституцию. Ужасы французской революции затмевали у меня все. Но потом я стал припоминать его суждения и соглашаться с ними. И трудно не согласиться, если смотреть на историю без предубеждения. В Европе это понимают многие…
— Павел Иванович, дорогой, — перебил его Муравьев, — вам не к чему мне все это объяснять. Я радуюсь, слушая вас, и все отлично понимаю. Что касается республики, то я также за нее. Вы правильно сказали, что к иному выводу нельзя прийти, если смотреть на историю непредубежденно. Республика и анархия вещи разные, и анархию можно и должно избежать. И мы ее избежим.
Пестель встал и взволнованно прошелся по кабинету.
— А вы знаете, Никита Михайлович, — сказал он, — ведь не только мы двое думаем с вами так. Скажу без ложной скромности: есть и моя заслуга в том, что сейчас так думает большинство наших в Тульчине. Боже мой, если бы вы могли слышать наши беседы! Когда мы представляли себе живую картину всего счастья, каким Россия будет пользоваться при республике, мы приходили, прямо сказать, в восторг и готовы были жертвовать для этого всем.
— Зато посмотрели бы вы, — рассмеялся Муравьев, — в какой ужас приходит наш любезный Карамзин, когда я начинаю проповедовать ему подобные вещи. Слава богу, что он не слышит нас, а там, наверху в кабинете у себя, сидит сейчас, наверно, и пишет свою историю.
Давно все утихло в доме Муравьевых, Погас огонь в кабинете Карамзина, снимавшего квартиру в их доме, заснула хлопотливая Екатерина Федоровна Муравьева, далекая от подозрений, с каким опасным гостем беседует ее сын, а Муравьев и Пестель все еще обсуждали детали будущего совместного выступления на заседании Коренной управы. Познакомившись с докладом Пестеля, Муравьев стал уверенно доказывать, что склонить членов управы к принятию предложений Пестеля будет нетрудно. Республиканские настроения, говорил он, буквально носятся в воздухе, все члены жаждут деятельности. Муравьев отвечал за то, что Лунина, Семенова, Николая Тургенева убеждать не придется. Тургенев совсем недавно говорил: «Мы теряемся в мечтаниях, во фразах. Надо действовать и этим завоевать право рассуждать. Словам верить не должно, должно верить делам». Из всех только Илья Долгоруков, может быть, проявит излишнюю осторожность, но и его можно будет убедить.
Но главное, о чем договорились Пестель и Муравьев, это о необходимости поставить вопрос о государственном перевороте. Муравьев, не колеблясь, поддержал Пестеля, когда тот заговорил о цареубийстве, и сам вызвался выступить с этим предложением.
Уже занимался поздний зимний рассвет, когда Пестель покинул дом Муравьевых. Он уходил с сознанием, что первый шаг сделан и сделан удачно.
2
Никита Муравьев не обманул ожиданий Пестеля: он заручился согласием Глинки на то, чтобы совещание происходило у того на квартире, он убедил членов Коренной управы согласиться поставить на обсуждение доклад Пестеля.
В условленный день к дому на Театральной площади, где жил Глинка, стали съезжаться члены Коренной управы. Пестель и Никита Муравьев приехали одними из первых. У Глинки они застали одного блюстителя управы князя Илью Долгорукова, жившего здесь же неподалеку. Вслед за ними приехал старый приятель Пестеля Иван Шипов, потом Лунин, братья Муравьевы-Апостолы, Бригген, Колошин, Семенов. Приехал граф Федор Толстой, который должен был председательствовать на этом заседании. Последним в гостиную, где собрались члены управы, явился Николай Тургенев, приветливо раскланялся со всеми, прихрамывая, подошел к столу и, оглядев собравшихся, сказал:
— Ну что ж, господа, начнем, пожалуй. Кажется, все в сборе.
— Да, да, прошу всех, — подхватил Глинка. — Прошу, Федор Петрович, на почетное место, вы у нас сегодня главный.
Толстой уселся в конце длинного стола на председательское место, рядом с ним блюститель управы князь Долгоруков. Пестеля усадили посредине, чтобы всем удобнее было слушать его доклад.
Когда все разместились за столом, поднялся со своего места Долгоруков и произнес официальным тоном:
— Вы все, господа, знаете, надеюсь, причину нашего сегодняшнего собрания. Я от лица управы прошу господина Пестеля изложить все выгоды и все невыгоды монархического и республиканского правления, после чего каждый присутствующий выскажет свое суждение по этому поводу.
Пестель встал, расправил лежащие перед ним. листы бумаги и начал доклад:
— Зло, сопутствующее неограниченной монархии, очевидно. Если в государстве один человек обличен всей полнотой власти, особенно если власть его наследственна, то он не может не быть деспотом.
Пестель говорил медленно, спокойно, излагая свои доводы в ясных, четких фразах. Разобрав всю несостоятельность неограниченной власти, он перешел к разбору конституционной монархии.
— В монархиях конституционных народ угнетается едва ли не так же, как в монархиях неограниченных. Французская и английская конституции суть одни только покрывала, не воспрещающие министерству в Англии и королю во Франции делать все, что они пожелают. В этом смысле я отдаю предпочтение самодержавию перед конституционной монархией — порочность власти при самодержавии видна всем, тогда как в конституционных монархиях действует та же неограниченность, только медленнее и не столь откровенно. Что касается обеих палат, то они существуют тоже только для одного покрывала.
Мне кажется, что главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристократией всякого рода, будь то аристократия богатства или аристократия наследственная. Прямо скажу, что такая аристократия сделалась в европейских странах сильнее любого монарха, и она является важнейшим препоном государственному благоденствию. С другой стороны, монархи нигде никогда не принимали конституцию добровольно, она им навязывалась, и они отказывались от нее при первом удобном случае и потом жестоко мстили народам за свои прежние уступки. Отсюда вывод — конституции в странах монархических непрочны и служат одной лишь аристократии. Устранить же власть аристократии может только республиканское правление.
Пестеля слушали внимательно. Никита Муравьев с удовольствием наблюдал, какое впечатление производит эта речь: не спускает с Пестеля восторженных глаз Матвей Муравьев, благосклонно улыбается Тургенев, Глинка то и дело шепчет что-то сидящему рядом Толстому, а тот одобрительно кивает головой.
Когда Пестель заговорил о республике, голос его зазвенел. Теперь он уже не доказывал, он горячо убеждал:
— Республика! Что может быть благодетельнее ее? Вспомните блаженные времена Греции, когда она состояла из республик, и жалостное ее положение потом. Пример Великого Новгорода для нас, русских, лучшее доказательство благости республики. Нельзя не видеть высшего блаженства России именно в правлении республиканском!
Пестель говорил долго, его не перебивали, но когда он кончил, все заговорили разом. Речь его произвела большое впечатление.
— Послушай вас царь, вы и его убедили бы, что для блага республики ему необходимо отправиться на эшафот, — сказал он, смеясь.
— Дай бог, — ответил Пестель. — Однако пусть Долгоруков открывает прения.
Первым в прениях выступил Глинка. Он сказал, что речь Пестеля очень убедительна, но не со всеми ее положениями он может согласиться.
— Для простого русского человека, — сказал Глинка, — вся Русь воплощается в ее православном государе, и сразу перевоспитать русских в духе республиканском нельзя. Надобно допустить на первое время конституционную монархию. Но нынешнему государю царствовать не должно, я предлагаю императрицу Елизавету Алексеевну.
Набожная, тихая, не отличавшаяся ни способностями, ни честолюбием, жена Александра I, Елизавета Алексеевна, никогда ничьего внимания не привлекала.
— Однако почему же Елизавету Алексеевну? — спросил, недоумевая, Никита Муравьев.
— Она кротостью своей привлечет сердца россиян, — смутившись наступившей вдруг тишиной, ответил Глинка.
— Федор Николаевич привык судить больше с поэтической, чем с политической точки зрения, — холодно отрезал Тургенев.
Но предложение Глинки неожиданно поддержал Толстой. Поднялся спор. Глинка, почувствовав, что он не один, сначала горячо отстаивал свою точку зрения, но не смог справиться с вескими аргументами, выставленными Пестелем, Муравьевым, Тургеневым в защиту республики. В конце концов он уступил.
Приступили к голосованию. Голосовали поименно, каждый мотивировал свою точку зрения. Произносили пространные речи, но все они были выдержаны в одном духе — все были за республику.
Тургенев, слушая ораторов, нетерпеливо постукивал пальцами по столу. Во время одного особенно продолжительного выступления он обратился к сидевшему рядом Сергею Муравьеву и сказал вполголоса:
— К чему так много говорить, и так все ясно.
Когда Долгоруков предложил ему высказаться, он бросил коротко:
— Le président, sans phrases! [7]
— Вот самое убедительное заявление, которое я слышал! — подхватил Пестель.
— Президента — и больше не о чем говорить!
Все четырнадцать присутствующих согласились с предложением Пестеля. Было постановлено: сообщить всем управам решение Коренной управы — в России должна быть республика.
Теперь предстояло решить не менее важный вопрос: каким путем установить в России республиканское правление, на каких основах должна существовать российская республика? Надо было решить, как действовать.
На следующий день члены Коренной управы собрались на скромной холостой квартире Ивана Шипова в Преображенских казармах.
Съехались, правда, не все: не было Глинки, Толстого, Колошина и Тургенева, поэтому собрание не могло считаться официальным.
Первым на заседании выступил Никита Муравьев. Доказывая необходимость установления республики путем государственного переворота, он говорил;
— Республика сама собой не явится — ее надо добиваться, и единственным средством ввести в России народное правление может быть только цареубийство.
Муравьев сам не ожидал такого эффекта своих слов: Долгоруков побледнел и замахал руками, не находя слов.
— Это сумасшествие! — произнес он наконец. — Если вы доведете подобное мнение до всех членов союза, то общество развалится. Благоденствие через цареубийство — это безумие!..
— Это необходимость, — перебил его Муравьев. — А безумие — оставить в живых монарха, лишенного самодержавной власти. В стране очень много людей, в которых он найдет поддержку; отсюда родится междоусобие.
Долгоруков встал и прерывающимся от волнения голосом произнес:
— Поймите же, если для вас спасение России только в революции, то, убьете ли вы его или нет, в стране все равно вспыхнет анархия.
— Нет, не вспыхнет, — вмешался Пестель. — Надо создать временное правление, обличенное полной властью, подобно якобинскому Комитету общественного спасения, и надо, чтобы оно твердой рукой пресекало всякую попытку реставрации.
— Уж не вы ли метите в Робеспьеры? — зло спросил Долгоруков. — Нет уж, господа, увольте. Я не пойму, где нахожусь, — это какой-то якобинский клуб времен террора.
Слова «якобинский», «Робеспьер», «террор» смутили членов управы. Пестелю и Муравьеву единодушно стали возражать; все находили, что цареубийство приведет к анархии и гибели России. Доспорились до того, что стали переходить на личности. С заседания расходились, так и не договорившись.
Но Никита Муравьев и Пестель не успокоились; через несколько дней они снова собрали совещание на квартире у Шипова. Присутствовала только половина членов Коренной управы: кроме тех, кто не был на первом совещании у Шипова, не явился и Долгоруков. Здесь совместными усилиями они сумели все-таки убедить членов в необходимости цареубийства. Вопрос об этом был поставлен на голосование и принят. Но убедить членов управы в необходимости создания временного правления с диктаторскими полномочиями они так и не смогли. Страшна была смута, но еще страшнее якобинский террор.
Но и то, что удалось сделать, было очень важно. Пусть официально было принято только решение о республиканской форме правления, но то, что половина членов Коренной думы согласилась с необходимостью цареубийства, было несомненным успехом.
3
Теперь Пестель усиленно работает над проектом республиканской конституции. Вдохновленный успехом январского совещания, понимая, что для завершения начатого необходимо наметить ясную цель и твердую программу действий, он создает законоположение будущей Российской республики.
В проекте недвусмысленно говорилось об уничтожении самодержавия и крепостничества. По этому проекту все совершеннолетние граждане мужского пола должны участвовать в выборах в верховный представительный орган. Выборы устанавливались двухстепенные, и для того, чтобы быть избранным, надо было обладать известным состоянием. Тысяча депутатов от всей страны составляет Народное вече. Народное вече является законодательным органом. Исполнительной властью наделяется «император», как в проекте, в целях конспирации именовался президент. Народное вече избирает Сенат, имеющий «надзирательную» власть, то есть он должен быть верховным контрольным органом.
И депутаты Народного веча и сенаторы получают жалованье; кроме того, Сенат владеет большими поместьями, доходы с которых равномерно распределяются между всеми сенаторами. Тем самым сглаживается различие между бедными и богатыми сенаторами и обеспечивается их независимое от правительства положение.
Крестьяне с освобождением получают половину помещичьей земли, но с условием, что они некоторое время должны будут выплачивать бывшим владельцам прежний оброк.
Пестель работал над проектом всю весну и лето 1820 года. Казалось, само время заставляло торопиться. Павел Иванович был еще в Петербурге, когда туда 24 марта пришло известие об испанской революции. Риэго и его сподвижники заставили короля подписать манифест о созыве парламента и присягнуть конституции. Восторгу русских либералов не было предела: на Испанию показывали как на пример для России.
Спустя три месяца после известия об испанской революции пришло новое ошеломляющее сообщение: вспыхнула революция в Неаполе. Восставший народ под предводительством генерала Гульельмо Пепе потребовал от короля конституции по образцу испанской. Король вынужден был согласиться.
Европа приходила в движение. Может быть, недалек тот день, когда революционный пожар перекинется в Россию. А в стране неспокойно: волнуются уральские рабочие, бунтуют крепостные на Дону, с Дона восстание перекинулось на Украину, пушками приходилось правительству наводить порядок на юге России.
Известие о неаполитанской революции Пестель получил уже в Тульчине. Он приехал к месту службы в конце мая 1820 года, проведя почти всю весну, время своего отпуска, у родителей в Васильеве.
В августе 1820 года Никита Муравьев и Лунин по дороге в Крым заехали в Тульчин. Пестель познакомил их со своим проектом конституции, копию с которой дал им с собой. В свою очередь, Муравьев дал Пестелю прочесть рукопись своего сочинения, озаглавленного «Любопытный разговор». Это был род катехизиса, где в вопросах и ответах, рассчитанных на простого читателя, доказывалось, что свобода есть неотъемлемое право каждого человека, отказываться от которой подло. «Кто установил государей самовластных?» — задавался вопрос. «Никто, — отвечал Муравьев. — Царь не признает власти рассудка, законов божьих и человеческих, сам от себя, то есть без причины, по прихоти своей, властвует». «Для того, чтобы избежать самовластия, — доказывал Муравьев, — надлежит утвердить постоянные правила и законы, как бывало в старину на Руси».
Пестель оценил агитационное значение «Любопытного разговора» и задумал сам создать нечто подобное.
Так родился «Социально-политический трактат». В нем Пестель обрушивается на привилегированные сословия, выставляя их виновниками всех зол: «Необходимо уничтожить все дворянские отличия и произвести совершенное слияние трех сословий: дворянства, третьего сословия и крестьян». По мысли Пестеля, граждане могут различаться только по образованию или богатству, но все должны быть равны перед законом. Вопрос же социального неравенства решается столь же прямо, но несколько утопично: Пестель предлагает всех граждан России наделить землей, и таким образом крестьян превратить в помещиков.
За время пребывания в Тульчине Муравьев познакомился почти со всеми членами Тульчинской управы. Организация ее работ была им одобрена.
После своего возвращения на юг Пестель организовал регулярные собрания членов управы. На одном из первых собраний он ознакомил тульчинцев с решением январского совещания Коренной управы. Это решение встретило оппозицию Бурцова. Бурцову поддержал Михаил Фонвизин, генерал-майор, член Союза благоденствия, прибывший незадолго перед тем в Тульчин.
Фонвизин, как и Бурцов, был умеренным, стоял за конституционную монархию. Между ним и Пестелем были частые споры по поводу принятой на петербургском совещании программы. Но Пестель чувствовал себя еще увереннее, чем осенью 1819 года, — он не только сумел наладить работу Тульчинской управы, но и сколотил вокруг себя крепкое ядро сторонников республики. В него входили как старые члены — Юшневский, Аврамов, Ивашев, так и вновь принятые — Басаргин, братья Крюковы, князь Барятинский. Особенно активны были Николай Крюков и Александр Барятинский.
Горячий, увлекающийся Барятинский, всецело доверяя Пестелю в вопросах политики, не скрывал, что во всем беспрекословно повинуется ему. Один раз уверовав, что для благоденствия России необходима республика, такая, какую предлагал Пестель, он уже не сворачивал со взятого курса, оставаясь преданным Пестелю до конца.
Николай Крюков был нередко предметом шуток товарищей-офицеров. Серьезный и вместе с тем немножко наивный книжник, он искренне возмущался, когда замечал, что его товарищи предпочитают вечеринки с танцами чтению глубокомысленных философских сочинений. Их шутки над его рассуждениями о политике и науке выводили его из себя. Легкомыслие принималось им за обскурантизм, а к обскурантам он был нетерпим. «Попробуйте заговорить в нашем обществе о политике или философии и вы увидите, как все эти молодые люди начнут насмехаться над вами, — пишет он в своей записной книжке. — Привычка обращать в смех все, что не согласуется с принятыми обычаями, причиняет великий вред народам, лицемеры и сильные… находят собственную выгоду в настоящем положении вещей, следовательно, сильно вооружаются против всякой новости…»
Записная книжка Крюкова была полна выписок из «Истории Государства Российского» Карамзина. Усиленно занимался он физикой, экономикой, статистикой и законодательством.
Крюков хорошо знал Пестеля еще до своего вступления в общество и глубоко уважал его. И для Пестеля не были тайной вольнолюбивые взгляды образованного офицера. Поэтому, когда Барятинский запросил управу о разрешении принять Крюкова, Пестель охотно дал свое согласие.
4
Киселев, как и раньше, симпатизировал Пестелю. Слухи об их теплых отношениях по-прежнему очень волновали Закревского. Но Киселев не внимал предостережениям, которые его друг расточал в своих письмах. Ни Пестель, ни его товарищи не находили нужным особенно скрывать свою принадлежность к тайному обществу, и Киселев, зная о существовании Союза благоденствия, молчал. Более того, Пестель давал ему читать свой, конституционный проект.
Александр Петрович Барятинский.
Киселев с большим вниманием прочел этот труд и заметил только, что, пожалуй, своему «императору» Пестель дает слишком много власти.
Но все это не мешало Киселеву после июля 1820 года нажать на «фрунтовую службу» в армии.
В июле был царский смотр 2-й армии. Киселев ждал себе генерал-адъютантских аксельбантов, но Александр остался недоволен выправкой и учебным шагом солдат и обошел Киселева наградой. Киселев решил во что бы то ни стало сделать 2-ю армию образцовой в отношении «фрунта» и стал заводить учебные батальоны и экзерциргаузы. Муштровали солдат основательно, хотя от палок Киселев рекомендовал офицерам воздерживаться.
Пестель понимал Киселева — оба они заботливо относились к своей карьере — и сам пытался усвоить все премудрости «фрунта», для чего брал уроки у такого мастера муштры, каким был генерал Желтухин.
Пестель привык все делать по-настоящему и считал, что если пришлось стать «фрунтовиком», то надо быть образцовым «фрунтовиком».
Такое взаимопонимание еще более сближало Киселева и Пестеля.
5
Якушкин, который приехал в Тульчин в конце 1820 года, нашел, что здесь самые благоприятные условия для деятельности тайного общества: тульчинские члены почти ежедневно свободно собирались, уверенные в своей безопасности.
Приезд Якушкина в Тульчин объяснялся тем, что Коренная управа решила 1 января 1821 года созвать в Москве съезд, на который должны были собраться делегаты от всех управ. Последние события требовали радикальной перестройки самой структуры Союза благоденствия.
В октябре 1820 года в Петербурге вспыхнуло волнение в Семеновском полку, которым командовал полковник Шварц.
Командир полка был одним из тех аракчеевцев, с помощью которых Александр I собирался «подтянуть» армию, считая, что она недопустимо распущена. Зверское обращение Шварца с солдатами вызвало возмущение первой, «государевой», роты полка; ее поддержал весь первый батальон.
Солдаты вели себя мирно — до оружия дело не дошло; волнение кончилось раскассированием полка и суровым наказанием «зачинщиков». Но царь и петербургское начальство были сильно встревожены семеновской историей. Флигель-адъютант царя Бутурлин не без основания полагал, что стоило кому-нибудь из офицеров стать во главе мятежных солдат и призвать их к оружию, как «все пошло бы к черту!». Но такого офицера не нашлось, хотя одной из возмутившихся рот командовал Сергей Муравьев-Апостол.
Некоторые члены тайного общества как будто бы понимали важность момента, которого не следовало бы упускать. Федор Глинка в день возмущения был уверен, что в России начинается революция. Николай Тургенев в этот же день спрашивал у И. И. Пущина: «Что же вы не в рядах восстания Семеновского полка? Вам бы там надлежало быть». Но тем не менее члены Союза благоденствия остались в стороне от восстания. В этом ясно сказалась неподготовленность членов тайного общества к активным выступлениям. Снова во всей остроте встал вопрос об активизации общества.
У Якушкина были рекомендательные письма от его давнего приятеля Михаила Фонвизина, который к тому времени уехал из Тульчина в Москву. Письма адресовались Бурцову, к нему и явился Якушкин, как только прибыл в Тульчин. В тот же день Якушкин побывал у Пестеля и Юшневского.
Сам Якушкин старался быть осторожным, но тульчинские члены, не привыкшие к строгой конспирации, не стеснялись посещать его, и скоро он перезнакомился со всеми.
Якушкин удивлялся тому, как «свободно и почти ежедневно сообщались между собой» тульчинские члены. Такой тесной связью он объяснял большую активность Южного общества. Особенно отличал он роль Пестеля, которого, казалось ему, и одного было достаточно, «чтобы беспрестанно одушевлять всех тульчинских членов».
Здесь, у Бурцова, и на своей квартире Пестель подолгу беседовал с Якушкиным, читал ему отрывки из своего конституционного проекта, в частности об устройстве волостей и селений. Пестель объяснял Якушкину, что не видит в своем проекте обязательную конституцию Российской республики.
— Я этим приготовляюсь, — говорил он, — правильно действовать в земской думе и знать, когда придется о чем говорить.
Обсуждали они и вопросы будущего съезда.
Сам Пестель очень желал попасть в Москву, но Бурцов на этот раз решил сделать все возможное, чтобы не допустить Пестеля на съезд. Он убеждал Якушкина не приглашать Пестеля.
— Если Пестель поедет в Москву, — доказывал Бурцов, — то своими резкими мнениями и своим упорством испортит там все дело.
Бурцов, а еще раньше Фонвизин, сумел настроить Якушкина настороженно по отношению к Пестелю, пугая его крайностями пестелевских взглядов.
На квартире у Пестеля было созвано совещание Тульчинской управы. Там Якушкин предложил собравшимся послать на съезд доверенных, которые должны будут с другими делегатами определить необходимые изменения в уставе Союза благоденствия и обсудить вопрос переустройства самого общества.
Под влиянием Якушкина было решено, что на съезд поедут Бурцов и Комаров как наиболее удобные в отношении конспирации: Бурцов к тому времени подготовил себе служебную командировку в Москву, а Комаров собирался в отпуск по семейным обстоятельствам, так что их пребывание в Москве не должно было возбудить ничьих подозрений.
Пестеля, который тоже выразил желание отправиться на съезд, убедили, что, так как есть уже два кандидата, его пребывание на съезде не необходимо.
А поездка в Москву, где все знают, что у него нет ни родных, ни особых дел, может привлечь нежелательное внимание московской полиции. Скрепя сердце Пестель согласился с доводами товарищей.
Спустя несколько дней Якушкин уехал в Кишинев, где должен был встретиться с Михаилом Орловым, командовавшим там дивизией. Орлов был принят в общество Пестелем, Бурцовым и Фонвизиным летом 1820 года. Общество дорожило им как одним из способнейших членов и командиров крупной воинской части, использовать которую в целях общества было очень выгодно. Якушкину было поручено пригласить Орлова на съезд.
6
В Москве, в доме Фонвизиных на Рождественском бульваре, в первых числах января 1821 года состоялось первое совещание Московского съезда. На нем присутствовали Орлов, Охотников, Николай Тургенев, Федор Глинка, Фонвизины, Граббе, Бурцов и Якушкин. Комарова на съезд не допустили.
Еще в Тульчине Якушкин высказал Бурцову сомнение в честности его товарища.
Что-то странное было в поведении Комарова, этого умеренного из умеренных, которому, казалось, давно пора было выйти из союза, но который не только не уходил, но усиленно интересовался всеми деталями его работы, явно желая быть в курсе всех дел. Это было тем. тревожнее, что еще в 1817 году некоторые члены общества связывали арест Александра Муравьева с неосторожными словами Комарова, осведомленного о деятельности Союза спасения.
Не имея прямых доказательств неблагонадежности Комарова, Якушкин не сумел убедить Бурцова отвести его кандидатуру и решил поднять этот вопрос в Москве.
Коренные члены, выслушав Якушкина, нашли, что рисковать не стоит, и Комарова на съезд не допустили, объяснив это тем, что он не принадлежал к коренным членам союза. Комаров возмутился и стал доказывать, что он должен присутствовать на съезде как депутат от Тульчинской управы. Разыгралась бурная сцена. Но когда несдержавшийся Якушкин прямо заявил Комарову: «Я на лице твоем вижу, что ты изменяешь обществу!» — Комаров спокойно проглотил эту фразу и больше не настаивал на своем присутствии на съезде.
Объяснение с Комаровым было как бы дурным предзнаменованием для съезда: за этим последовал целый ряд неприятностей. Первой из них был выход Орлова из союза.
Орлов на съезде предложил обширную программу действий, имевших своей целью в ближайшее время начать подготовку к вооруженному восстанию. Одним из пунктов его предложений была организация тайной типографии, в которой можно было бы печатать агитационную литературу и фальшивые ассигнации «для доставления обществу потребных сумм». Орлов говорил, что ручается за свою дивизию, и требовал полномочий действовать по своему усмотрению.
На съезде не было ни Пестеля, ни Сергея Муравьева-Апостола, ни Никиты Муравьева — некому было серьезно подойти к предложениям Орлова, оценив их смелость, трезво прокорректировать. Умеренные, вроде Якушкина, Федора Глинки, Фонвизиных, были обескуражены его предложениями. Когда Орлов кончил свой доклад, Якушкин спросил, не шутит ли он, предлагая такие неистовые меры. Неуместный вопрос рассердил Орлова. Он заявил, что, раз его предложения не принимаются, он покидает общество. Его попытались переубедить, но Орлов не был человеком, который идет на компромиссы. Он не пожелал больше разговаривать с людьми, которые, по его мнению, не хотят по-настоящему активизировать общество, и покинул заседание.
Едва закрылась дверь за Орловым, как поднялся полковник Граббе и сказал:
— Господа, разрешите мне сообщить вам одно важное известие, касающееся нашего общества. Недавно мой начальник генерал Васильчиков спросил у меня, не слышал ли я что-нибудь об офицерском обществе, имеющем множество членов. Я, конечно, ответил, что ничего подобного не слышал. Тогда он рассказал мне, что недавно, беседуя с Краснокутским, выразил сожаление, что между офицерами нет дружеских обществ. И Краснокутский будто бы ответил ему, что такое общество есть и что оно очень большое и имеет значительных членов. Для меня стало ясно, почему Васильчиков интересуется обществом. Я не удивлюсь, если слова Краснокутского он передаст своему брату — начальнику гвардейского корпуса, а тот передаст их выше.
Долгое молчание было ответом на сообщение Граббе. Никогда еще общество не находилось под такой угрозой. Надо было срочно искать выхода из создавшегося положения.
Первым прервал молчание Бурцов:
— Неосторожность нашего товарища может обойтись нам очень дорого. Выход может быть только один: официально объявить о роспуске общества.
— Правильно! — подхватил Тургенев. — Этим мы удалим из общества ненадежных членов и приостановим возможные меры правительства по розыску общества.
Действительно, только таким путем можно было сохранить общество. За предложение Бурцова и Тургенева проголосовали все. Тут же было составлено обращение ко всем управам, в котором сообщалось, «что так как в теперешних обстоятельствах малейшею неосторожностью можно возбудить подозрение правительства, то Союз благоденствия прекращает свои действия навсегда».
На второе заседание были приглашены все члены Союза благоденствия, находившиеся в Москве, в том числе был приглашен, и Комаров. Это было сделано с расчетом на то, что если Комаров осведомитель, то он непременно сообщит правительству решение Коренной управы. На заседании Тургенев, объяснив причины уничтожения тайного общества, объявил о роспуске Союза благоденствия.
На следующем заседании присутствовали только те члены, которые были на первом заседании съезда. Обсуждался вопрос о программе и уставе нового тайного общества, которое образовалось под прикрытием постановления о ликвидации Союза благоденствия.
Прежде всего было признано необходимым изменить устав Союза благоденствия, устройство и самый состав общества. В новом уставе цель и средства для ее достижения должны были определиться с большей точностью, чем они были определены в уставе Союза благоденствия.
Затем приступили к сочинению устава.
В первой части устава, предназначавшейся для вступающих, говорилось то же, что и в «Зеленой книге». Ее редактировал Бурцов.
Вторую часть устава — для «высших членов» — написал Николай Тургенев. В этой части уже прямо было сказано, что цель общества состоит в том, чтобы ограничить самодержавие в России, «а чтобы приобресть для этого средства, признавалось необходимым действовать на войска и приготовить их на всякий случай».
Таким образом, устав нового общества отличался от решений петербургского совещания 1820 года: о республике не было сказано ни слова, говорилось только об ограничении самодержавия, то есть конституционной монархии.
Но в то же время новая программа имела свои положительные качества: она свидетельствовала о более последовательном понимании декабристами роли революционного насилия. Решение действовать посредством войск было несомненным шагом вперед по сравнению с прежними тактическими решениями.
Было намечено завести четыре отделения нового общества — в Петербурге, Москве, Тульчине и в Смоленске, куда направлялся Якушкин.
Договорились и о подборе новых членов. По предложению Бурцова, было решено избавиться не только от неустойчивых членов, но и от слишком радикальных, вроде Пестеля. Бурцову было поручено рассказать тульчинцам о роспуске Союза благоденствия, «вслед за тем известить всех членов, кроме приверженцев Пестеля, о существовании нового устава». Таким образом Бурцов думал «привести в порядок» Тульчинскую управу, надеясь, что все к нему присоединятся под его руководством.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ
Но знамя черное [8] Свободой
восшумело.
А. Пушкин1
осле отъезда Бурцова и Комарова на Московский съезд потянулись дни ожидания. По делам общества Пестель теперь почти ничего не предпринимал, ожидая вестей из Москвы.
В январе опасно заболел Ивашев. Пестель перевез его к себе. Ивашев был в сильном жару, он то бредил, то забывался тяжелым коротким сном. Пестель просиживал возле больного друга долгие часы.
За время болезни Ивашева Павел Иванович очень привязался к этому юноше, относясь к нему, как к младшему брату, порученному его заботам, и даже через полтора месяца, когда Ивашев поправился и стал выходить из дому, Пестель все не отпускал его от себя.
— Я вас стесняю, — говорил Ивашев, — я, пожалуй, вернусь на свою квартиру…
— Что вы! — успокаивал его Пестель. — Вы нисколько не стесняете меня. Наоборот, мне надоело жить бирюком — все одному и одному.
Александр Ипсиланти.
Василий Львович Давыдов.
Василий Петрович Ивашев.
По расчетам Пестеля, Бурцов и Комаров должны были вернуться в Тульчин в начале марта. Но они вернулись в конце февраля. Пестель сидел в своем кабинете. Тихо отворив дверь, вошел Ивашев и остановился у порога. Пестель, едва взглянув на смущенное лицо юноши, понял, что тот хочет что-то ему сказать и не решается.
— Проходите, я сейчас кончу, — приветливо сказал Пестель, снова, склоняясь над столом.
— Полчаса тому назад я говорил с Комаровым… — сказал Ивашев, не трогаясь с места.
— С Комаровым? Где же он?
— Он спешил в полк и уехал, побывав только в штабе.
Пестель поднял голову, резкое чувство тревоги сжало сердце.
— Говорите, — тихо, но резко приказал он Ивашеву.
— Комаров сообщил, что Московский съезд постановил уничтожить тайное общество.
Пестель с силой опустил перо на бумагу. Перо сломалось, разбрызгав чернила по листу.
— Они не смели этого делать! — воскликнул он, но, тут же овладев собой, добавил обычным ровным тоном: — Мы еще обсудим решение Московского съезда!
Пестель сам объявил членам Тульчинской управы б сообщении Комарова. Все решили остаться в обществе до приезда Бурцова, который должен был привезти официальное постановление Московского съезда.
— Внутренние установления союза съезд мог изменить, но уничтожить союз — на это его никто не уполномочивал, — говорил Пестель Юшневскому, шагая по просторному кабинету генерал-интенданта.
Юшневский слушал с невозмутимым спокойствием. Его большие серые навыкате глаза выражали полнейшую безмятежность. Ровность характера Юшневского была изумительна: он даже шутил не улыбаясь.
— Дорогой друг, — тихо заговорил Юшневский, — может быть, постановление Московского съезда об уничтожении тайного общества имеет и свои положительные стороны. Объявив о закрытии союза, мы можем затем образовать новое общество из наиболее верных и деятельных членов. Лучше сейчас, при этом удобном случае, удалить из общества всех слабосердых, нежели потом, когда наступит время действовать, возиться с ними.
2
В конце 1820 года в Вятском полку, входившем в состав 2-й армии, освободилось место полкового командира, и Киселев рекомендовал на эту должность Пестеля. Но все хлопоты были напрасны: царь упорно отказывал Пестелю в полковничьем чине и в полке.
Однажды вечером в феврале 1821 года Киселев прислал за Пестелем.
«Верно, что-нибудь в отношении моего производства», — думал Пестель, одеваясь.
Направляясь к начальнику штаба, Пестель уже представлял себе, как Киселев прочтет ему очередное неприятное письмо из Петербурга и потом будет долго выражать сочувствие.
Но оказалось совсем иное. Киселев встретил Пестеля необычно официально.
— Подполковник, — обратился он к Павлу Ивановичу, хотя всегда называл его по имени и отчеству, — в штабе получено сообщение, что известный вам князь Александр Ипсиланти поднял среди греков возмущение. Двадцать первого февраля он вместе с братом и двумя слугами тайно перешел по льду реку Прут. На турецкой стороне его ждал отряд единомышленников, во главе которых он двинулся на Яссы. Вам необходимо выехать в Бессарабию и на месте собрать сведения о возмущении греков.
В XIV веке Османская Турция начала наступление на Балканы. В огне пылающих селений, на полях битв, обильно обагренных кровью, потеряли свою независимость народы Балканского полуострова — греки, сербы, болгары, албанцы… На пять веков над Балканами воцарился мрак турецкого ига.
С диким изуверством турецкие — «самые жестокие», по словам К. Маркса, — ассимиляторы унижали национальное достоинство покоренных народов, преследуя их язык, обычаи и веру. Тяжелым бременем на плечи побежденных легли поборы и налоги, сбор которых сопровождался кровавыми расправами. Бесчисленные рабы с берегов Дуная и Марицы, Шкодера и Коринфского залива гремели кандалами в турецкой неволе. В слезах и крови утопали Балканы. Даже песни звучали на Балканах, словно рыдания.
Но ничто не могло сломить волю порабощенных народов к свободе и независимости. В горах Черногории отважные юнаки из поколения в поколение вели героическую партизанскую войну. В Греции в конце XVIII века возникло тайное патриотическое общество Гетерия для борьбы против турецкого владычества. Вскоре общество было разгромлено турками, его руководители казнены. Но через десять лет союз греческих патриотов возродился.
В 1814 году эмигрировавшие в Россию греки Скуфас и Ксанос и болгарин Цакалов образовали в Одессе «Союз друзей» — «Фелике Гетерия», целью которого было освобождение Греции.
В 1816 году Скуфас перенес деятельность центрального комитета в Москву, а через два года переехал в Константинополь, откуда и направлял работу отделений союза в Турции и за границей.
Вскоре после того, как в Гетерию были приняты три брата Ипсиланти, сыновья бывшего господаря Молдавии и Валахии Константина Ипсиланти, в Одессе образовался второй центральный комитет. Александр, старший из трех братьев, флигель-адъютант Александра I, боевой офицер, потерявший руку в сражении под Дрезденом, стал во главе «Союза друзей».
Вскоре отделения «Фелике Гетерия» возникли во многих городах Турецкой империи, самые широкие слои греческого народа включились в освободительную борьбу: к 1821 году гетеристы считали, что их около миллиона.
В начале 1821 года умер господарь Валахии и Молдавии Александр Суцо. Константинополь медлил с назначением нового господаря. Ипсиланти решил воспользоваться безвластием и поднял восстание. Успех сопутствовал ему: он занял Яссы и ряд других городов страны. В Яссах Ипсиланти опубликовал воззвание, в котором призывал народ Молдавии и Валахии к освободительной войне против турок.
Александр I находился тогда в городе Лайбахе (Любляне) на конгрессе Священного союза. Незадолго перед тем союзные монархи пригласили в Лайбах неаполитанского короля Фердинанда и предложили помощь австрийских войск для расправы с революционным народом Неаполя.
Европа, казалось царю, на пороге умиротворения, и вдруг известие о вторжении Ипсиланти в дунайские провинции. Русскому самодержцу было о чем подумать.
Восстание гетеристов затрагивало существенные интересы России. По условиям русских договоров с Турцией Россия получала право судоходства и торговли по Дунаю, право свободного прохода через черноморские проливы в Средиземное море. В результате этих договоров усилилось политическое влияние России в Молдавии, Валахии и Сербии, юридически входивших в состав Турции. Приобретение права выхода в Средиземное море, закрепленное политическим влиянием, сильно способствовало экономическому развитию России. Но с начала военных действий гетеристов турецкое правительство стало чинить препятствия русской торговле на Черном море.
Общественное мнение России и интересы страны требовали русского вмешательства в развертывающиеся на Балканах события, но Александр I колебался: его отношение к греческому восстанию было двойственно и противоречиво. С одной стороны, как великая христианская держава Россия должна была бы выступить в защиту греков-единоверцев, но, с другой стороны, не в принципах русского императора, инициатора реакционного Священного союза монархов, было поддерживать возмущение народа против «законного» властителя, а греки восстали против своего «законного» поработителя — турецкого султана.
Но в самых широких слоях русской общественности греческое восстание вызвало горячие симпатии. В России борьбу греков за независимость сравнивали с борьбой русского народа против татаро-монгольских завоевателей. Все были уверены, что Россия со дня на день начнет войну с Турцией.
Вторая армия, расквартированная по юго-западным границам России, должна была в случае войны сыграть ведущую роль.
В последних числах февраля 1821 года Пестель выехал из Тульчина в Бессарабию. Он вез в Кишинев официальное отношение Витгенштейна и частное письмо Киселева командиру 6-го корпуса Сабанееву с просьбой о содействии.
Путь в Кишинев лежал через Одессу — один из главных центров подготовки восстания гетеристов. Среди греческого населения Одессы царил патриотический дух; везде и всюду — на улицах, в лавках, в кофейнях — можно было видеть греков, горячо обсуждавших последние события. Многие из них продавали свое имущество и на вырученные деньги покупали оружие, чтобы с ним отправиться в армию Ипсиланти.
Восторга греков совсем не разделяли губернатор Одессы Ланжерон и его чиновники. Они тоже потеряли голову: масса греков требовала паспорта для выезда на родину. Формально было нельзя им отказать, но греки не скрывали, что едут сражаться с турками. Ланжерон, боясь ответственности, написал прошение об отставке.
Через несколько дней Пестель ехал по кривым тесным улочкам Кишинева, с любопытством глядя на лепившиеся вокруг в полном беспорядке саманные домишки самой причудливой формы. Еще совсем недавно Кишинев был бедной пастушеской деревней, но с десятых годов XIX века он стал местопребыванием русского наместника Бессарабской области, незадолго до того присоединенной к России. Значительно разросшийся за последнее десятилетие, Кишинев насчитывал немало больших каменных домов европейского типа, но все еще сохранял вид грязного полутурецкого местечка.
Повсюду шумела разноязыкая толпа: тут и молдаване в высоких мерлушковых шапках, и болгары в красных фесках и широких шароварах, и греки в белых коротких юбках. То и дело попадались коляски или с важным молдавским боярином в серой смушковой папахе, или с боярыней в дорогой турецкой шали.
На офицера, ехавшего в каруце — маленькой тележке, которую тащили несколько кляч, мало кто обращал внимания. Флегматичный возница, восседавший на одной из лошадей, изредка щелкал в воздухе бичом, и тогда каруца катилась быстрее, оглашая улицу треском и дребезжанием.
— Вези к дому наместника! — приказал Пестель молдаванину. Тот оглянулся и недоуменно уставился на своего пассажира.
— К Инзову, понимаешь, к Инзову! — повторил Пестель. Возница удовлетворенно кивнул головой и подхлестнул лошадей.
Двухэтажный дом наместника стоял на небольшом холме на краю города. Несколько пышных акаций и цветники украшали его с фасада; сзади, по скату холма, шел виноградник. Каруца остановилась у подножия холма. Пестель расплатился с возницей и направился к дому. Навстречу ему шел молодой чиновник. Пестель спросил, дома ли наместник.
— Иван Никитич у себя-с, — довольно развязно ответил чиновник. — Как прикажете доложить?
— Доложите, что приехал подполковник Пестель, адъютант главнокомандующего второй армии, — строго ответил Пестель.
Инзов принял Пестеля в саду своего дома. Узнав, что Пестель привез Сабанееву бумаги от Витгенштейна и Киселева, он развел руками.
— Но, милейший, ведь генерал Сабанеев еще вчера отбыл к себе в Тирасполь. Уж не знаю, что вам посоветовать.
Пестель помолчал, потом многозначительно покосился на чиновника, стоявшего рядом.
— Иди, любезный, иди пока, — сказал Инзов чиновнику, — мы тут побеседуем с подполковником.
Когда чиновник удалился, Пестель сказал:
— Я должен собрать сведения о нынешнем возмущении греков. Из Кишинева я отправлюсь в Яссы. Вы, ваше превосходительство, должны будете помочь мне в этом. Но прежде попрошу вас сообщить мне сведения, которыми вы располагаете.
— Но, ей-богу, подполковник, я знаю столько же, сколько все. Слухов у нас множество и порой самых противоречивых. Обратитесь лучше к нашему гражданскому губернатору Катакази или к вице-губернатору Крупенскому. Катакази — зять Ипсиланти и, верно, уж знает немало, а Крупенский — молдаванин, у него связи большие. Сейчас ведь в Кишинев явилась вся Молдавия и Валахия. Турков боятся, особенно бояре… А я вам, пожалуй, дам письмо к Навроцкому. Это наш начальник карантина в Скулянах на Пруте. Он вас и переправит в Яссы.
Катакази Пестель застал у Крупенского. Крупенский принял Пестеля очень тепло. У этого хлебосольного и тщеславного молдаванина дом был поставлен на широкую ногу. Он заведовал губернскими финансами и распоряжался ими по своему усмотрению, что очень способствовало блеску его прославленного гостеприимства.
Крупенский представил Пестелю Катакази — маленького грека с орлиным носом. Узнав цель визита Пестеля, Катакази засыпал его трескучими фразами на плохом французском языке. Из сообщений губернатора можно было понять, что его родственники во главе своей армии уже торжествуют победу, и Греция может считать себя свободной. Крупенский не дал договорить Катакази и, обратившись к Пестелю, сказал, что, если ему угодно, он может познакомить его с Розетти-Рознаваном, молдавским боярином, бывшим вистиарием[9] Молдавии, стариком богатым и уважаемым, приехавшим недавно из Ясс. Он может многое рассказать. Пестель и Крупенский отправились к Рознавану.
В передней боярского дома толпилось множество арнаутов[10] в ярких одеждах. Один из них отдернул занавес над входом во внутренние покои. Пестель и Крупенский вошли в богатый зал, украшенный колоннами. Снова занавес, а за ним обширная диванная. Здесь и находился сам хозяин — старик с окладистой бородой, пышными усами и с длинным чубуком во рту. Он кивнул гостям головой и указал место рядом с собой. Потом хлопнул в ладоши, и в диванной неслышно появился слуга в красной куртке с серебряным шитьем, в чалме и с ятаганом за поясом. Старик тихо отдал приказание, и через минуту Пестелю и Крупенскому подали на подносе сладости и стаканы с водой, а потом поднесли в маленьких фарфоровых чашечках крепкий, сваренный по-турецки кофе.
Крупенский рассказал о цели визита Пестеля. Рознаван охотно согласился поделиться с Пестелем своими сведениями.
Оказалось, что старый боярин совсем не разделяет восторгов Катакази и вообще не склонен желать грекам успеха. В Рознаване ясно чувствовалось раздражение против гетеристов: это, мол, из-за них ему пришлось бежать из Ясс.
Пестель спросил, как относится население при-дунайских провинций к Ипсиланти. Старик усмехнулся и сказал, что у молдаван не может быть добрых чувств к грекам. Сто пятьдесят лет греческие князья назначались султанами управлять Молдавией и Валахией, и никто ничего хорошего от этого не. видел. Многие молдаване даже желают победы туркам и искренне были бы рады, если бы Ипсиланти в конце концов отрубили голову.
Мнение Рознавана очень поразило Пестеля, но впоследствии, внимательно прислушиваясь ко всему, что говорили в Кишиневе, он убедился, что многие молдавские беженцы действительно не горят желанием помогать Ипсиланти и даже негодуют на него, считая, что турки теперь непременно опустошат Молдавию.
В тот же день Пестель побывал в штабе 16-й дивизии, разговаривал с генералом Пущиным о греческих делах, а на следующий день утром выехал в Скуляны.
Начальник скулянского карантинного пункта Навроцкий сорок лет прослужил на военной службе и под старость мечтал о тихой, спокойной должности. Он с радостью принял назначение в Скуляны. Но маленькое пограничное местечко недолго оставалось спокойным. Совершенно неожиданно для себя Навроцкий оказался в самом центре бурных событий. Расстроенный старик уже потерял счет приезжавшим в Скуляны таинственным ночным посетителям с плохо скрытыми под одеждой пистолетами. Он познакомился с множеством людей — и военных, и штатских, и русских, и греков, и молдаван — и сделался одним из самых осведомленных людей в делах греческого восстания. Приезжавшие много рассказывали ему и многое узнавали от него.
В день своего приезда Пестель до позднего вечера проговорил с Навроцким, а ночью, переодетый в штатское платье, перешел границу, и вскоре был в Яссах — центре начавшегося восстания.
В Яссы отовсюду стекались добровольцы. Город превратился в военный лагерь: большие группы вооруженных повстанцев заполнили его, улицы. Повсюду читались изданные Ипсиланти прокламации, в которых говорилось, что для Турции настал час гибели и что феникс Греции воскреснет из пепла. Прокламации звали греков на бой, на подвиг, на жертвы. Тысячи патриотов присутствовали 26 февраля при торжественном освящении боевых знамен и меча Ипсиланти. А теперь эти знамена, украшенные увитым лаврами золотым крестом и надписью «Освобождение», развевались над Молдавией.
Но от внимательного взгляда Пестеля не укрылась и другая сторона движения. Отмечая противоречия между греками и молдаванами, Пестель видел, что Ипсиланти не тот человек, который мог бы разрешить эти противоречия и повести за собой не только греков, но и все порабощенные балканские народы. А без этого трудно было рассчитывать на успех восстания, начатого далеко от Греции, на чуждой грекам земле. Пестель с горечью отмечал, что Ипсиланти не оперативен. Заняв Яссы, он не спешил двигаться дальше, терял драгоценное время на пышные приемы во дворце господарей, окружил себя придворными и вел себя, как коронованная особа. Безусловным недостатком Ипсиланти была его жестокость и мстительность: он расстреливал пленных, одобрил резню турок, которую устроил в Галаце его сподвижник Каравия.
Но, отмечая эти тяжкие просчеты, Пестель не мог недооценивать общего освободительного характера восстания гетеристов и, конечно, был душой на их стороне.
3 марта, вернувшись в Скуляны, полный впечатлений от всего виденного и слышанного, он мог подытожить в письме к Киселеву свои впечатления от посещения Ясс: «Мотивы, определяющие поведение Ипсиланти, заслуживают самого высокого уважения». В письме он подробно излагал события, предшествующие восстанию, описывал его начало и, что особенно интересно, давал подробные сведения об одном из сподвижников Ипсиланти — Тодоре Владимиреско.
Владимиреско с небольшим отрядом, набранным в Бухаресте, тоже поднял восстание, но не против турок, а «против установленных правителей, превышающих власть и угнетающих население», то есть поднял восстание против греческой и румынской аристократии и чиновничества. Пестель привел один факт: грек Пини, русский консул в Валахии, стал укорять Владимиреско за то, что тот поднял восстание. Владимиреско ответил, что Пини вступается за бояр, потому что сам получил долю в награбленном. Пини в отместку написал Александру I, что Владимиреско карбонарий. Пестель указывал, что местные бояре ненавидят гетеристов, за их спиной заверяют султана в своей преданности и в то же время просят русских ввести свои войска в Молдавию, чтобы защитить их от мести турок.
Давая подробный анализ всех событий, происходящих в дунайских провинциях, Пестель приходит к выводу, что они «могут иметь важные последствия. Если существует 800 тысяч итальянских карбонариев, то, может быть, еще более существует греков, соединенных политической целью… Сам Ипсиланти, я полагаю, только орудие в руках скрытой силы, которая употребила его имя точкой соединения».
Но это он писал только в частном письме к человеку, которому доверял; в официальном донесении, составленном 8 марта, Пестель не пытается связать Гетерию и карбонариев.
Наоборот, обстоятельное и богатое фактами донесение Пестеля преследовало цель ослабить предубеждение царя против гетеристов и склонить его к помощи грекам. Он старался рассеять сложившуюся в русских правительственных кругах мысль о революционном характере Гетерии, деятельность которой «не может… быть сравнена с действиями испанских и неаполитанских революционеров».
Пестель повторял уже высказанное в русском обществе сравнение греческого восстания с борьбой русского народа против татарского ига, намекал, что греки помнят тот пункт русско-турецкого договора, в котором сказано, что Россия будет защищать права христианского населения турецких владений, и писал о надеждах, которые возлагают греки на помощь России.
Пестель делал вывод, что необходимо немедленное вмешательство России в балканские события: оно определяется обязательствами России и ее собственными интересами.
Конечно, доказывая необходимость вмешательства в балканские события, Пестель имел в виду многое такое, что не мог включить в официальное донесение. Он знал, что объявление Россией войны Турции неминуемо поведет к конфликту с Австрией, а может быть, и рядом других стран, боящихся усиления России на Балканах. Это означало бы ликвидацию Священного союза и способствовало бы успеху освободительного движения в Европе. Мало того, если бы война с Турцией повела к войне с другими европейскими странами, это создало бы в России ситуацию, подобную той, которая была в 1812 году. Национальным подъемом, связанным с освободительной войной, могло бы воспользоваться тайное общество: самодержавие было бы сильно поколеблено, а может быть, и свергнуто.
В Тульчине Пестеля ожидали с нетерпением: хотели услышать рассказ очевидца о событиях, которые занимали всех. Киселев давал некоторым офицерам читать письмо, полученное им от Пестеля из Скулян, но и сам Киселев и читавшие письмо офицеры были уверены, что в нем заключается лишь какая-то очень малая часть наблюдений и сведений, которыми располагает Пестель.
Пестель вернулся в Тульчин в начале марта. Надежды ожидавших оправдались: он много и охотно рассказывал о греческом восстании. Под впечатлением его рассказов Киселев писал в Петербург Закревскому: «Дело не на шутку, крови прольется много и, кажется, с пользою для греков. Нельзя вообразить себе, до какой степени они очарованы надеждою спасения и вольности. Все греки Южного края — богатые и бедные, сильные и хворые — все потянулись за границу, все жертвуют всем и с восхищением собою для спасения отечества. Что за время, в которое мы живем, любезный Закревский! Какие чудеса творятся и какие твориться еще будут! Ипсиланти, перейдя за границу, перенес уже имя свое в потомство. Греки, читая его прокламацию, навзрыд плачут и с восторгом под знамена его стремятся. Помоги ему бог в святом деле! Желал бы прибавить: и Россия».
Перед Киселевым и штабными офицерами Пестель лишь развивал свои мысли, изложенные в официальном донесении, дополняя их яркими картинами всеобщего патриотического подъема и одушевления, свидетелями которых он был.
Но в кругу друзей, в кругу сочленов по тайному обществу разговор шел не только о развернувшихся событиях, но и о причинах, вызвавших и подготовивших их, и в первую очередь о Гетерии.
Встречаясь с гетеристами, расспрашивая их об устройстве и деятельности их союза, Пестель ни на минуту не переставал думать о переживавшем тяжелый кризис русском тайном обществе.
Причины успехов Гетерии Пестель видел в ее организованном устройстве, основанном на строгой дисциплине, и в том, что Гетерия сумела подготовить к восстанию крупные военные силы.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ «ОБЩЕСТВО ПРОДОЛЖАТЬ!»
…было достаточно уже одного Пестеля, чтобы беспрестанно одушевлять всех тульчинских членов…
И. Якушкин1
скоре после возвращения Пестеля из Бессарабии в Тульчин приехал Бурцов. Чтобы выслушать его рассказ о Московском съезде, все члены Тульчинской управы собрались у Пестеля. Здесь были Юшневский, Барятинский, Ивашев, Вольф, Аврамов, Басаргин, братья Крюковы.
Тульчинцы еще накануне этого собрания решили, вопреки постановлению Московского съезда, «продолжать общество» и Бурцова с Комаровым встретили холодно.
Бурцов достал из портфеля решение союза о ликвидации тайного общества и начал говорить. Тяжелое напряженное молчание было ответом на его подробный рассказ о Московском съезде. Несмотря на заранее принятое решение, почти у всех были растерянные лица: только Юшневский и Пестель казались спокойными. Не нужно было большой догадливости, чтобы понять чувства и мысли, отраженные на лицах офицеров: было жаль расставаться со светлыми мечтами и надеждами, с делом, которое облагораживало их жизнь, но в то же время слова Бурцова где-то в глубине души рождали неуверенность в затеянном предприятии. Еще немного, и тульчинцы могли бы согласиться с Бурцовым.
— Московское совещание не вправе было уничтожить союз, — негромко, но твердо сказал Пестель, глядя в растерянные лица товарищей. — Но ежели так случилось, я намерен завести новое общество.
Конспиративный план был нарушен. Но миг был выбран очень удачно. Чаша весов заколебалась. Страх и неуверенность отошли в сторону. И тут заговорили все.
— Не я искал общество, а оно меня! — возмущенно крикнул полковник Аврамов. — А теперь общество меня оставляет? Удивляюсь.
На Бурцова со всех сторон посыпались негодующие возгласы.
— Я подчиняюсь решению Коренной управы, — ответил Бурцов и пошел к двери, за ним поднялись Комаров и Вольф.
Темное весеннее небо с большими спокойными звездами и легкий прохладный ветерок, пахнущий талым снегом, встретили их на крыльце. В черной темноте спал Тульчин.
— Многие давно уже желают выйти из общества, но молчат, боясь обвинения в недостатке смелости, — сказал Вольф Бурцову. — Вы решились высказать это тайное желание, и я благодарю вас за решимость. Я рад, что общество перестало существовать.
Вольф простился и свернул в переулок. Но, пройдя десяток-другой шагов, он остановился и, когда стихли удаляющиеся голоса Бурцова и Комарова, быстро вернулся назад и зашагал по направлению к дому Пестеля.
Уже поднимаясь на крыльцо, Вольф услышал громкий, уверенный голос Пестеля:
— Движимые пламенной любовью к отечеству, объединились мы в тайный союз, так неужели теперь мы разойдемся, не исполнив своих святых обязанностей истинных сынов отечества, неужели устройство общего блага уже не цель нашей жизни?
Это была самая горячая, самая яркая речь, какие только слышал Вольф от Пестеля. Она увлекала силою рассуждений, уверенностью, будила все лучшее, что было в душе у каждого.
— Считаете ли вы, — обратился Пестель в заключение к присутствующим, — что собравшиеся в Москве члены имели право разрушить общество, и согласны ли вы общество продолжать?
Все поднялись с мест.
— Общество продолжать, — сказал Юшневский и подал Пестелю руку.
— Продолжать, конечно! — воскликнул Барятинский и тоже положил ладонь на сжатые в крепком рукопожатии руки Пестеля и Юшневского. Вслед за ним в одном порыве соединились руки всех присутствующих:
— Продолжать!
Пестель заговорил снова:
— Необходимо определить сейчас, изменим ли мы прежнюю нашу цель — республиканское правление или нет?
Все согласились на том, что цель общества остается прежняя, принятая еще в 1820 году, — введение в России республиканского правления.
— Каждый век имеет свою отличительную черту, — продолжал Пестель, — нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же — от Португалии до России, не исключая ни одного государства, даже Англии и Турции — этих двух противоположностей. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать. Но введение нового порядка вещей требует решительных действий. Для успеха наших целей необходима смерть императора, и я согласен на смерть Александра. Но даете ли вы на это свое согласие?
— Я согласен, — ответил Юшневский.
— Я нет! — поднялся Аврамов. — Ведь цель нашего общества — конституция, а не… — и он выразительным жестом показал то, чего не решался высказать словами.
— Да, — ответил Юшневский, — наша цель — конституция. Но ее нельзя получить при царствующем сейчас государе.
— Это без сомнения, — смешался Аврамов, — это я сам знаю… Тогда и я… согласен…
После Пестеля выступил Юшневский. Спокойным, ровным голосом говорил он о трудностях, стоящих перед членами тайного общества, об опасностях, которым подвергаются они, состоя в тайном обществе.
— Не стыдно оставить общество, если не чувствуешь в себе силы и способности быть в нем, — закончил Юшневский свою короткую речь.
Но в ответ на выступление Юшневского даже Аврамов, имея в виду которого и говорил Юшневский, с жаром объявил, что «ежели даже все члены оставят союз, то он будет считать его сохраненным в себе одном».
Так в эту мартовскую ночь, в тесных, заставленных книгами комнатах Пестеля, было положено начало наиболее революционной декабристской организации — Южного общества.
Через несколько дней состоялось второе совещание членов Южного общества.
Снова собрались у Пестеля. В этот вечер, пожалуй, впервые все ощутили реальную близость перехода от слов к делу. От всех требовался один определенный и решительный ответ: да или нет. И это «да» означало, что все пути к отступлению отрезаны.
Пестель главенствовал на совещании. То, что говорил он, было непререкаемой истиной, нельзя было не подчиниться его логическому, разбитому на пункты ходу рассуждений: одно неоспоримо вытекало из другого, и из многих предпосылок, сведенных в одно, неумолимо следовали практические выводы.
Прежде всего — вопросы организации.
В отличие от Союза благоденствия Южное общество строилось на основе строгой внутренней дисциплины и подчинения выбранному руководящему центру — Директории. В Директорию вошли Пестель, Юшневский и Никита Муравьев. Никита Муравьев был в Петербурге и не присутствовал на учредительных собраниях Южного общества, но он вошел в Директорию как представитель петербургских членов тайного общества, так как, по плану Пестеля и его товарищей, выступление должно начаться в столице и быть поддержано на юге.
Второй вопрос — о привлечении в общество новых членов. Южное общество было немногочисленно: ближайшей задачей ставилось расширение его и вербовка новых членов. Но после бунта в Семеновском полку в армии усилилась полицейская слежка. Из Петербурга во все воинские части была разослана специальная «Памятка для агентов тайной полиции». Ее случайно увидел Пестель у Киселева. В «Памятке» агентам предлагалось узнавать: «Не существует ли между некоторыми из офицеров особой сходки под названием клуба, ложи и проч.? Вообще какой дух в полку, и нет ли суждений о делах политических или правительства?» Тайные агенты могли оказаться всюду; поэтому требовалась большая осмотрительность и осторожность в привлечении к обществу новых людей. Было решено, что новые члены будут приниматься лишь после того, как их прием одобрит Директория.
Снова было подтверждено, что путь, которым тайное общество будет добиваться своей цели, — военное выступление. Южное общество не располагало никакими реальными военными силами: почти все его члены были штабными офицерами и не имели непосредственного влияния на солдат. Решено было добиваться получения назначений на командование воинскими частями.
Пестель готовил тайное общество к действиям.
2
В то время как австрийская армия генерала Фримона — «черная свора, по выражению Байрона, — шла с Бурбоном в набег» на революционный Неаполь, вспыхнула революция в другом конце Италии — в Пьемонте.
Александр I поспешил предоставить в распоряжение австрийцев стотысячную армию на «успокоение» пьемонтцев. Из Лайбаха в Тульчин пришло распоряжение царя двинуть авангард этой армии — корпус Рудзевича — к австрийской границе.
Среди русских офицеров в Бессарабии ходили упорные слухи, что армия собирается идти не в Италию, а в Германию усмирять пруссаков, «которые требуют конституцию для блага народного». Многие выражали уверенность, что «наши войска, почувствовав справедливость требуемого ими, не будут с ними драться, а скажут: и мы того желаем».
Командующий отдельным гвардейским корпусом генерал Васильчиков писал из Петербурга в Лайбах князю П. М. Волконскому: «Известие о Пьемонтской революции произвело сильное впечатление. Люди благоразумные в отчаянии, но большая часть молодежи в восторге и не скрывает свой образ мыслей. Настроение умов нехорошо. Неудовольствие всеобщее и неизбежность жертв, сопряженных с ведением войны, необходимость которой не понятна простым смертным, должны, несомненно, произвести дурное впечатление… Число говорунов слишком велико… чтобы заставить молчать. Революция в умах уже существует…» Васильчиков умолял Волконского уговорить царя немедленно приехать в Петербург, чтобы принять надлежащие меры. «В противном случае, — писал он, — я не поручусь ни за что».
20 марта Пестель был переведен в Смоленский драгунский полк, предназначавшийся для похода в Италию.
Однако отсылать его в полк не спешили. Он был «употреблен в главной квартире Второй армии по делам о возмущении греков».
Через руки Пестеля проходили все поступившие в штаб 2-й армии документы по греческому восстанию: вся переписка между штабами армии и правительством, секретные донесения агентов разведки.
Гетеристы не теряли надежды на помощь России. Витгенштейн и Киселев тоже надеялись, что им еще придется повести свою армию на помощь грекам. В этом отношении было очень важно уточнить планы гетеристов, узнать детально, как они представляют себе будущее Греции и остальных Балканских стран. Если бы возможно было представить эти планы совпадающими с планами русского правительства, то, конечно, это сыграло бы немаловажную роль в решении царя вмешаться в греческие дела. Ведь с давних пор русское правительство проектировало раздел европейских владений Турции и организацию на Балканском полуострове ряда государств, находящихся в вассальной зависимости от России.
В начале апреля Пестель вновь выехал в Бессарабию. Не задерживаясь в Кишиневе, он направился прямо в Скуляны. Начальник карантина был предупрежден о приезде Пестеля и ждал его. На квартире Навроцкого было назначено свидание с посланцем Ипсиланти.
Молодой грек встал навстречу Пестелю и крепко пожал протянутую ему руку.
Разговор коснулся будущего.
— Как вы мыслите себе Грецию в случае совершенного успеха восстания? — спросил, Пестель.
— Греция будет состоять из ряда областей наподобие Северо-Американских Соединенных Штатов, — ответил молодой гетерист.
— И тоже с республиканским правлением?
— Нет, дело не в верховном правлении, — отрицательно покачал головой грек, — но в том, что каждая особенная область будет иметь свое правление со своими законами и только в общих государственных делах будет действовать сообща со всеми остальными областями. Такое разделение необходимо. В своих планах мы обязаны учитывать чрезвычайно большое различие между нравами, обычаями, понятиями и всем образом мыслей населяющих Грецию различных народов.
Молодой человек воодушевился:
— В едином христианском Царстве Греческом объединятся Валахия, Молдавия, Болгария…
— Подождите, — перебил его Пестель. — Не будете ли вы так добры показать все это по карте?
Пестель развернул на столе карту. Молодой человек, взяв карандаш, стремительными движениями очерчивал будущие границы свободного греческого государства.
— Первая область — Валахия. Главный город — Бухарест. Граница Валахии идет по Карпатским горам, по Дунаю, от Галаца мимо Ривника и до Карпатских гор. Затем — Болгария. Главный город — София. Границы: Дунай, Балканы, море. От Видина по направлению к Драмовацу — Шипцовац, Шакирад, Пирет, Цариброд — до гор близ Солисмика.
Пестель записывал, не пропуская ни слова, все время поглядывая на карту.
— Это желание всего народа, — заключил свое перечисление областей молодой грек.
Позже Пестель убедился в справедливости его слов: проект федеративного устройства в том или ином варианте поддерживали все участники восстания.
На основании сделанных в Скулянах заметок Пестель по возвращении в Тульчин приступил к составлению записки под названием «Царство Греческое». Это был проект создания на Балканском полуострове федерации десяти автономных областей, во главе которой должен был стоять монарх, вероятнее всего из русских великих князей или, во всяком случае, человек, угодный русскому императору.
3
В Кишиневе у Пестеля было иного знакомых, но не часто выпадало свободное время, которое он мог уделить встречам с друзьями.
Чаще всего Пестель бывал у Михаила Орлова. Тот жил в Кишиневе широко, занимал два смежных дома, был по-русски гостеприимен, и за его богатым столом сходилась вся кишиневская военная молодежь.
Орлов фактически оставался членом тайного общества. Он познакомил Пестеля со своим адъютантом Охотниковым и капитаном Раевским — двумя членами
Союза благоденствия. Пестель расспрашивал Орлова о его дивизии, которая с недавнего времени стала притчей во языцех у всей русской армии.
Солдаты боготворили Орлова и любовно называли его дивизию «орловщиной». Пестель знал приказ Орлова, которым он ознаменовал свое появление в 16-й дивизии. Орлов обещал «почитать злодеем того офицера», который «употребит вверенную ему власть на истязание солдат». Телесные наказания Орлов старался радикально вывести в своей дивизии, а его помощник Раевский, заведующий солдатской школой взаимного обучения, прямо вел среди солдат агитацию в духе «Зеленой книги».
Орлов по жалобам солдат лишал офицеров командования частями и отдавал их под суд. Раевский рассказывал солдатам о восстании Семеновского полка и агитировал за общее восстание солдат и военных поселян.
Деятельность Орлова и Раевского была звеньями одной цепи. Пестель убедился, что кишиневская организация в лице этих двух виднейших представителей, а также Охотникова, майора Непенина, генерала Пущина и еще нескольких старых членов Союза благоденствия продолжала действовать и после официального роспуска союза. Охотников привез с Московского съезда устав нового общества, подписанный Тургеневым. «Зеленая книга» и новый устав послужили основой для выработки программы кишиневской организации 1821 года.
В доме Орлова Пестель часто встречался с Алексеем Петровичем Алексеевым, почтмейстером бессарабской областной почтовой конторы, в прошлом боевым офицером, про которого говорили, что он, как денщик Суворова, мог, не краснея, рассказать, за что, где и как получил каждый из своих многочисленных крестов. Он постоянно ходил в драгунском полковничьем мундире с золотой саблей. Чтобы иметь право носить этот мундир, он отказывался от повышения в гражданском чине.
— Я прошу начальство не о повышении в чине, а об оставлении меня в прежнем, — шутил Алексеев. — Ведь если меня повысят, прощай мой мундир, а ведь он — кожа моя.
Пестель всегда с удовольствием слушал живые рассказы старого воина. Тому это нравилось. Однажды он заметил:
— У меня есть еще один такой же внимательный слушатель — Александр Сергеевич Пушкин. Хотите, я познакомлю вас с ним?
Познакомиться с ссыльным поэтом, имя которого было хорошо известно, Пестелю хотелось, но встреча откладывалась со дня на день: дела занимали весь день, а часто прихватывали и ночь.
Ночью работалось лучше. Командировка подходила к концу, и Пестель приводил в порядок скопившиеся за неделю записки.
Война!.. Подъяты, наконец, Шумят знамена бранной чести!..—вспомнил Пестель начальные строки нового пушкинского стихотворения, которое читал сегодня ему Алексеев. «И в поэзии и в прозе — все об одном», — подумал Пестель, перебирая бумаги.
В темном углу стрекотал сверчок, временами, заглушая сверчка, с улицы доносились звуки ночного Кишинева: лай проносящихся по улице стай голодных собак и крики ночных сторожей.
Пестель увлекся работой. Оплывшие свечи коптили и гасли. Прикинув, что и как войдет в рапорт, Пестель с удовлетворением отметил, что уже можно возвращаться в Тульчин и что впереди несколько свободных дней.
Утром Пестель зашел к Алексееву. Самого почтмейстера не оказалось дома, зато в его кабинете сидел и ожидал хозяина Пушкин.
— Подождите, Алексей Петрович скоро будет, — улыбаясь ослепительной белозубой улыбкой, сказал Пушкин.
Уже прошел час и полтора. Алексеева все не было, но Пестель не сожалел об этом. Разговор с поэтом, касавшийся сразу тысячи разнообразных тем, доставлял ему огромное удовольствие. Говорили о политике, философии, литературе. Пушкин понимал все с полуслова, на многое у них были общие взгляды, но даже и спор не вызывал раздражения и неудовольствия, а располагал к откровенности.
Пушкин вел дневник.
Уже ночью, склонившись над чистым листом бумаги, он восстанавливал в мыслях весь день: письмо от Чаадаева, встреча с князем Дмитрием Ипсиланти, братом руководителя греческого восстания, свежий номер «Сына Отечества», в котором бесцеремонный Греч напечатал его частное письмо, и беседа с Пестелем.
Пушкин быстро начал писать:
«9 апреля. Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. «Mon coeur est matérialiste, говорит он, mais ma raison s’y refuse»[11]. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю…»
Через полтора месяца, в конце мая — начале июня, — Пестель снова ездил в Кишинев; На этот раз он должен был дать понять молдавскому господарю Михаилу Суцо, бежавшему из Ясс в Кишинев, что его пребывание на территории России нежелательно. Пестель блестяще выполнил щекотливое поручение, исходившее от самого Александра I.
У Суцо Пестель несколько раз встречался с Пушкиным. А 26 мая, в день рождения поэта, заехал к нему с визитом.
В полупустой комнате наместнического дома, где жил тогда Пушкин, они обменялись несколькими торопливыми фразами. И это была последняя их встреча, после которой увидеться им уже никогда не пришлось.
П. И. Пестель. Рисунок А. С. Пушкина.
4
В Молдавии шли бои. Турки, оправившиеся от первых неудач, теснили повстанцев, жгли христианские деревни, расправлялись с христианским населением. Поднявшееся против турок молдавское крестьянство не поддерживало действий гетеристов, и турки громили тех и других по отдельности.
Ипсиланти обратился к Александру I с просьбой о помощи. Но православный царь ответил, что греки, как мятежники, восставшие против своего законного государя, не могут рассчитывать на поддержку России.
Австрийский канцлер Меттерних сумел как нельзя лучше сыграть на колебаниях и опасениях Александра I. На основании подложных документов он представил Гетерию отраслью какой-то всеевропейской подпольной революционной организации. После этого русский император легко дал себя' убедить, что Ипсиланти старается разрушить союз между Австрией и Россией по заданию «парижского революционного центра».
«Нет сомнений, — писал Александр в одном письме из Лайбаха, — что толчок этому повстанческому движению был дан тем же центральным управляющим парижским комитетом, с намерением сделать диверсию в пользу Неаполя и помешать нам в уничтожении одной из этих сатанинских синагог, созданных единственно для пропаганды и распространения антихристианских учений».
Вскоре «сатанинские синагоги» в Неаполе и Пьемонте были разгромлены, Австрия обошлась без помощи России. Меттерних, хвалившийся, что за шесть недель сумел подавить две революции, был в отличном настроении. «Не Россия ведет нас, — рассуждал он, — а мы ведем императора Александра. Он нуждается в советах, а всех своих советников он растерял. Он не доверяет ни своей армии, ни своим министрам, ни своим дворянам, ни своему народу…»
В конце мая Пестель отправил в штаб 2-й армии очередное донесение. Он, как и вся армия, еще надеялся, на перемену в настроении Александра I. К тому же
восстание в Неаполе было уже подавлено австрийскими войсками, и поход русской армии в Италию, таким образом, отменялся.
В своем донесении Пестель писал: «Итак, глаза и ожидания всех обращены к России, которая во все времена и среди всех предшествующих событий всегда показывала себя твердой защитницей греков и доказала свое бескорыстие среди всех обстоятельств и с особенным блеском со времени 1812 года. Греки, получив урок в том неодобрении, которое его величество высказал по поводу поведения повстанцев, все же надеются увидеть прибытие русской армии не в помощь инсургентам и гетеристам, но для отмщения за поруганную религию. Алтари осквернены, договоры в презрении к самые священные и законные интересы Империи[12] не признаются и попираются. Греки и другие христианские подданные Порты возлагают свои надежды на ошибки турецкого правительства и от их последствий ожидают спасения. Однако, имея перед глазами противное праву и договорам поведение, усвоенное оттоманским правительством в его настоящих отношениях с Россией, и припоминая то, что говорят англичане и австрийцы, они не знают более, что им думать, и поэтому очень возможно, что их преданность и любовь к России окончатся охлаждением и обратятся к какой-либо иной державе».
А в Молдавии шли последние часы восстания. Ипсиланти, изверившись в победе, сделав массу промахов, самым страшным из которых было убийство Владимиреско, справедливые стремления которого он не хотел признать, бросил свою армию и бежал в Австрию. Оттуда он разразился проклятиями по адресу своих сподвижников, которых обвинял в трусости и подлости.
Между тем проклятые им гетеристы отступали к Пруту, мужественно отбиваясь от наседавших турецких полчищ, и, наконец, при Драгошанах дали туркам последний бой. Большинство их погибло, часть вместе с молдавскими беженцами под турецкими выстрелами вплавь переправилась через Прут в Бессарабию.
Но восстание уже перекинулось из Придунайских княжеств в Грецию — в Морею, на острова Эгейского моря. Все громче звучала военная песня поднявших оружие греческих патриотов: «Не жить больше турку ни в Морее, ни в целом свете!»
Только через восемь лет — в 1829 году — восстание закончилось победой греков.
Когда министр иностранных дел Нессельроде, прочитав донесение Пестеля о греческом восстании, спросил у Александра I, кто этот дипломат, который так умно и верно сумел описать положение Греции и христиан на Востоке, царь, улыбнувшись, ответил: «Не более и не менее как армейский подполковник. Да, вот какие у меня служат в армии подполковники».
5
В мае 1821 года, вскоре после возвращения из-за границы, Александр принимал в Царскосельском дворце генерала Васильчикова.
Васильчиков докладывал о текущих делах, царь слушал рассеянно. Когда Васильчиков кончил доклад, царь сложил сафьяновую папку с делами и спросил:
— Это все?
Васильчиков, сидевший против Александра, нервно теребил аксельбант.
— Ваше величество, имею передать донос о политическом заговоре от библиотекаря Главного штаба Грибовского, — четко, по-военному ответил Васильчиков.
Царь, прищурившись, посмотрел на генерала и отодвинул папку.
— Где же донос?
Васильчиков достал из портфеля бумаги и протянул царю.
— Тут донос и список лиц, участвующих в заговоре.
Александр осторожно положил перед собой донос и принялся читать. Грибовский был членом Коренной управы Союза благоденствия и был хорошо осведомлен о деятельности тайного общества.
«В 1814 году, — писал Грибовский, — когда войска русские вступили в Париж, множество офицеров приняты были в масоны и свели связи с приверженцами разных тайных обществ. Последствием сего было, что они напитались гибельным духом, партий…»
«Все ясно, — думал Александр, — это то же самое, о чем доносил Бенкендорф». Еще несколько месяцев назад генерал-адъютант Бенкендорф переслал царю в Лайбах донос о тайном обществе. Общество называлось Союзом благоденствия. В доносе были перечислены все заговорщики, подробно характеризовалась их деятельность и планы на будущее.
Царь перелистывал страницы доноса, «…освобождение крестьян… распространение училищ…» — мелькали слова, а вот и главное: «они не могли скрыть глупой радости при происшествии в Испании и Неаполе и готовы были на все, чтобы принудить государя возвратиться скорее и не допустить иметь близкое деятельное участие в успокоении Европы».
«Да, он это имел в виду, — думал Александр, — когда отвечал Васильчикову, что не может приехать, что возвращением своим будет играть на руку карбонариям… Нет, никому нельзя верить, никому. Вот среди заговорщиков оказался Михаил Орлов, его прежний, любимец, и Никита Муравьев, сын его воспитателя. Вот еще одна знакомая фамилия — Пестель. Что же с ними делать? Арестовать? Но Грибовский доносит, что их союз распущен. Вот он пишет: «При судебном исследовании трудно будет открыть теперь что-либо о сем обществе: бумаги оного истреблены, и каждый для спасения своего станет запираться; но правительство легко может удостовериться в истине, поручивши наблюдения за сими людьми, их связями и пр., и вследствие того принять на будущее время надлежащие меры». «Он прав, их не стоит сейчас трогать — это наделает больше шума, чем семеновская история, а о ней и так вся Европа говорила, — это не политично, а потом…»
Александр чувствовал себя смертельно уставшим от всех этих забот по успокоению Европы. Везде заговоры, везде недовольные. Нет, он бесповоротно решил сдать Россию на руки Аракчееву, а с него довольно. И, вспомнив либерализм своей юности, когда на Гатчинском разводе он мечтал о том, как хорошо было бы отказаться от короны, поселиться с молодой женой где-нибудь в швейцарском шале[13] и жить жизнью во вкусе Руссо, умилился и с грустной улыбкой сказал Васильчикову:
— Мой дорогой! Ты служишь мне с самого начала моего царствования, ты знаешь, что я разделял и поощрял все эти мечтания и заблуждения.
Васильчиков, насупившись, молчал, не понимая, что царь имеет в виду. Александр помедлил и со вздохом добавил:
— Не мне подобает карать.
Медленно перебирая страницы доноса, пробегая еще раз список заговорщиков, Александр твердо решил: этих молодых людей пока не накажет, но будет следить пристально и ходу им не даст.
Кое-что просочилось из Царскосельского дворца.
По Петербургу ходили туманные слухи, что будто бы раскрыт заговор и что заговорщики, принадлежащие к высшему дворянству, хотели свергнуть Александра I и возвести на престол его жену Елизавету Алексеевну. Члены распущенного Союза благоденствия почувствовали, что за ними следят, а вскоре получили подтверждение этому.
В сентябре 1821 года генерал Ермолов ехал через Москву на Кавказ. В начале этого года он был вызван Александром I в Лайбах, где обсуждался царем вопрос участия русской армии в подавлении Неаполитанской революции. Как раз в то время Александр получил донос Грибовского, и царь не раз делился с Ермоловым своими страхами и советовался, что следует предпринять.
В Москве к Ермолову приехал с визитом Михаил Фонвизин, бывший его адъютант. Ермолов знал, что он член тайного общества.
— Поди сюда, величайший карбонарий, — весело приветствовал его генерал.
Растерявшийся Фонвизин подошел, и Ермолов, наклонившись к нему, сказал:
— Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу, что он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся.
У страха глаза велики: царь наделял тайное общество огромным значением и силой.
В 1820 году в Смоленской губернии был неурожай, крестьяне голодали. Якушкин, Михаил Муравьев и другие члены Союза благоденствия организовали помощь голодающим. Но собранных средств на покупку хлеба было недостаточно, и тогда по инициативе Михаила Муравьева была составлена записка министру внутренних дел, сообщавшая о бедственном положении края. Муравьев уговорил нескольких смоленских помещиков подписать ее.
Записка наделала в Петербурге много шума. Царь был осведомлен о том, кто эти люди, заботящиеся о смоленских мужиках. Однажды, уже в 1821 году, в разговоре с князем П. М. Волконским, пытавшимся рассеять его страхи, он сказал:
— Ты ничего не понимаешь, эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства; в прошлом году во время неурожая в Смоленской губернии они кормили целые уезды.
Александр полагал, что «уронить в общем мнении» заговорщики пытались прежде всего его самого, и был недалек от истины. Многочисленные доносы говорили о тревожных настроениях не только среди дворянства. Купечество громко роптало на таможенные законы и на способ их проведения, крепко доставалось и самому царю. Один агент доносил, что петербургские гостинодворцы прямо заявляли: «Если ему (царю) не нравится в России, почему он не ищет себе короны в другом месте? На что годится государь, который совсем не любит своего народа, который только путешествует, и тратит огромные суммы? Когда же он дома, он постоянно тешит себя парадами». Купцы находили, что «только конституция может исправить все это, и нужно надеяться, что бог скоро дарует ее».
Александр имел наивность приписывать подобные рассуждения влиянию заговорщиков. За главными из них, перечисленными в доносе Грибовского, такими, как Николай Тургенев, Федор Глинка, Муравьевы, следили особенно пристально.
К счастью, доносчику, знавшему Пестеля, как члена тайного общества еще до перевода на юг, Пестель казался гораздо менее значительной фигурой, чем, например, Федор Глинка, но все-таки Пестель являлся членом тайного общества, и этого было достаточно, чтобы Александр I распорядился «вымарать» имя Пестеля из приказа и «повременить» с его повышением в следующий чин.
6
А время не ждало. Вновь образованное Южное общество не могло бездействовать… Летом и осенью 1821 года Пестель развил бурную деятельность: в поисках новых членов он поехал в Полтаву, где Последние годы жил М. Н. Новиков. Но там его ждало разочарование: Новиков в Полтаве не сумел организовать управу Союза благоденствия.
Из Полтавы Пестель поехал в Каменку, имение Давыдовых, братьев героя Отечественной войны двенадцатого года генерала Раевского, «милых и умных отшельников», по выражению Пушкина.
Сергей Григорьевич Волконский.
Николай Иванович Лорер.
Сергей Иванович Муравьев-Апостол.
Пестель хорошо знал этот богатый, хлебосольный дом, всегда полный гостей, где время проходило «между аристократическими обедами и демагогическими спорами»; здесь общество представляло «разнообразную и веселую смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России»; здесь было «женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов». Хозяин дома Василий Львович Давыдов был одним из активнейших членов Союза благоденствия.
У Давыдовых Пестель застал князя Сергея Волконского. Ни Василия Давыдова, ни Волконского не пришлось долго уговаривать: они заявили, что не собираются покидать общества.
7
Приказа о производстве, столь необходимого для осуществления дальнейших революционных планов Пестеля, все не было. Пестель уже потерял надежду и снова начал задумываться о переходе в Бугские военные поселения к графу Витту.
С Виттом Пестель познакомился вскоре после своего приезда на юг и спустя немного времени стал частым гостем в его доме.
Командующий Бугскими поселениями слыл человеком сомнительных достоинств. Его мать, красавица гречанка Софья Потоцкая, жена богатейшего польского магната, в первом браке была за голландским офицером на польской службе графом Виттом, который за огромные деньги уступил ее графу Потоцкому. Ее сыном от первого мужа и был новый знакомый Пестеля.
«Лжецом и самым неосновательным человеком» показался граф Витт Багратиону, когда в 1811 году тот явился к русскому командованию предлагать свои услуги в качестве шпиона. А он уже был в то время тайным французским агентом в герцогстве Варшавском. Витт готов был сделать все, что ему прикажут, только бы его приняли на русскую службу. До этого он уже служил в русской армии, потом перешел к Наполеону, а незадолго перед вторжением французской армии в Россию, считая дело Наполеона проигранным, пожелал снова служить русским.
Он был принят на русскую службу, во время войны показал себя храбрым офицером, и Александр I вскоре после войны доверил ему свое любимое детище — военные поселения. Особое расположение царя Витт завоевал успешным подавлением вспыхнувшего в 1817 году восстания в Бугских военных поселениях.
Умный, хорошо знавший людей, граф Витт быстро оценил способности Пестеля и сам предложил ему перейти служить в поселения. У Витта Пестель мог рассчитывать на самостоятельное положение. А это было очень важно и для самого Пестеля и для дела общества. Тогда-то у него и возник план женитьбы на дочери графа Витта — Изабелле. Витт был не против породниться со своим новым другом, и, казалось, не имела возражений на этот счет и молодая графиня.
О своих намерениях Пестель сообщил отцу.
Иван Борисович находил, что у сына мало данных для того, чтобы стать хорошим семьянином.
«Ты от природы добр, прямодушен, — писал он ему. — Ты любишь оказывать услуги, и у тебя есть много качеств, которые заставляют тебя любить и которые уже снискали тебе друзей; есть много людей, которые хорошо говорят про тебя; по есть один существенный пункт, который тебе всегда будет мешать иметь прочные связи: это твое полное отвращение к: какому бы то ни было стеснению. Это та причина, которая делала твое пребывание в доме твоих родителей зачастую неприятным для тебя. Это то, отчего нередко люди, которые жили вместе с тобою, были не очень тобою довольны. С таким нежеланием стеснять себя довольно трудно быть приятным мужем и любящим отцом».
А вскоре произошло событие, которое сразу отдалило Пестеля от графа Витта.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ
Но ты останься тверд…
А. Пушкин1
естель был болен. Он лежал в постели небритый и мрачный: его мучила головная боль и бессонница.
Не подымаясь с постели, Павел Иванович взял принесенный штабным посыльным пакет и, сломав толстую сургучную печать, разорвал обертку. Из пакета выпало несколько плотных листов бумаги.
Через пять минут Пестель уже сидел за столом.
«Генерал! — обращаясь к Киселеву, писал Пестель своим красивым, крупным почерком. — Известия, которые я только что получил из Петербурга вместе с экземпляром высочайшего приказа, говорят о назначении меня командиром Вятского полка… Пользуюсь благоприятным случаем, чтобы просить Вас принять еще раз выражение самой живой моей благодарности за тот интерес, который Вы проявили по отношению ко мне в этом случае и воспоминание о котором я сохраню, конечно, навсегда. Также примите уверения в том, относительно чего вы не можете сомневаться, то есть в моей полной и совершенной преданности к Вашей особе. Я, конечно, не фразер, и сказанное мною есть язык моих чувств. Как только мне будет возможно выйти из дома, я тотчас же пущусь в дорогу, чтобы не терять даром времени, так как зима подвигается вперед, и там много будет дела».
Вятский полк считался самым плохим во всей 2-й армии. Но то, что увидел Пестель, приехав в Линцы, где находился штаб Вятского полка, превзошло все его ожидания.
Еще за околицей, возле запорошенного легким снегом старинного вала и рва, превращенного в свалку, Пестель встретил группу оборванных людей, лениво бредущих через бесконечное белое поле. Только по неопрятным рваным шинелям можно было догадаться, что это солдаты. Пестель остановил их.
— Кто такие?
— Вятского полка лазаретная команда, ваше высокоблагородие, — лениво ответил старшой.
Солдаты побрели дальше, а Пестель долго смотрел им вслед.
2
Первое, что сделал Пестель по прибытии в расположение Вятского полка, это осмотрел учебную команду. Его интересовало, как поставлено дело со строевой подготовкой. Каково же было его возмущение, когда он узнал, что в полку нет даже манежа, где солдаты должны обучаться «фрунту». Первое его распоряжение еще до официального принятия полка от прежнего командира Кромина было: немедленно приступить к постройке манежа. Пестель нашел лес, выпросил у Кромина лошадей, отвел для постройки место на площади против командирского дома, распорядился, чтобы все было готово в недельный срок, и уехал в Киев.
Восемь дней спустя Пестель вернулся в Линцы.
— Так вот как здесь выполняют распоряжения командира полка! — невольно вырвалось у него, когда его возок выехал на площадь. Только легкая поземка крутилась на том месте, где должен был стоять манеж. В ярости Пестель явился к Кромину.
— Как это следует понимать, господин полковник?
— Успокойтесь, Павел Иванович, — отвечал Кромин. — Лошади, знаете, все были заняты… потому… Но стоит ли так торопиться?..
— Милостивый государь! — перебил его Пестель. — Вы здесь не имеете никакого представления, что такое военное обучение. Вы здесь спите глубоким сном, но я всех вас расшевелю, я церемониться не буду. Могу ли я предстать перед императором с этой толпой сонливцев в лохмотьях?.. А развалили полк в основном вы, господин Кромин, и я постараюсь, чтобы вы за это ответили. Все ваши отговорки — пустое! Почему не был построен манеж? — И, не дожидаясь ответа, стремительно повернулся, хлопнув дверью, вышел из комнаты.
— Нет, позвольте… — развел руками Кромин, обратившись к находящимся в комнате офицерам, но, спохватившись, забормотал что-то невнятное. Он вспомнил, что у Пестеля большие связи в штабе армии, и поостерегся выразить свое возмущение.
Что его предшественник Кромин крал, Пестелю стало известно в первые же дни пребывания в Линцах. Тридцать тысяч рублей положил Кромин в свой карман: он продавал дрова, предназначенные для отопления лазарета, оставляя больных солдат в нетопленных палатах.
— Что делать, господин полковник, — пожимал плечами старик врач, рассказывая Пестелю о злоключениях своего лазарета. — Мы имеем дрова только для кухни. Я посылаю лазаретных служителей за четыре версты за бурьяном, они срезают его, стоя по колено в воде. Это зимой-то! И на плечах приносят в лазарет. Тем и отапливаем палаты.
Теперь Кромин делал все возможное, чтобы до официальной сдачи полка затормозить все начинания Пестеля. Его пугало, что к царскому смотру полк мог выглядеть достаточно хорошо, и все это отнесут на счет Пестеля и, чего доброго, поставят в вину ему, Кромину, нераспорядительность или что похуже.
3
«Все было в таком расстройстве и служба так заброшена к моменту моего прибытия в полк, что я должен был употребить невозможнейшие усилия, чтобы водворить в нем порядок», — писал Пестель Киселеву, вступив в должность командира Вятского полка.
Первой своей задачей он поставил удаление из полка всех офицеров, которые могли быть только баластом, и замену их по-настоящему деятельными, дисциплинированными командирами. Но этого было мало для преобразования полка. Не хватало казенных денег на обмундирование и питание солдат — он тратит свои, и тратит не стесняясь, так что в одном письме жалуется: «Я не знаю, что и делать, так как в настоящую минуту доведен до последней крайности и не имею более никаких средств». Полк хорош, его можно было показывать царю и рассчитывать на награду, но, к сожалению, сроки смотра отодвинулись. «Ожидание прибытия императора сильно обмануло меня, так как оно принудило меня к огромным затратам».
У Кромина солдаты питались плохо, Пестель из своих средств обеспечил их каждодневной тройной порцией каши с говядиной, «сонливцев в лохмотьях» он одел во все новое и добротное; оставалось главное — взбодрить.
— Удивляюсь, как Пестель занимается шагистикой, когда этой умной голове следовало быть министром или посланником! — сказал как-то Рудзевич, узнав о «фрунтовых занятиях» Пестеля. А Пестель внедрял в своем полку новый учебный шаг, занимался киверами и витишкетами [14].
— Куда девался ваш либерализм? — спрашивал Киселев у Пестеля в один из приездов его в Тульчин. — Кажется, ваши солдаты не могут похвалиться мягкосердечием своего командира.
— При чем здесь либерализм? — нахмурился Пестель. — Я навожу порядок в полку, я должен сделать его наилучшим и сделаю.
Прошло полгода, близился царский смотр, князь Сибирский, командир 18-й дивизии, инспектировал Вятский полк.
Он дал высокую оценку состоянию Вятского полка. «Впрочем, — писал Сибирский в приказе, — хотя и весьма короткое время вступления полковника Пестеля в командование Вятским полком, но усердие его и жертвование даже собственных денег на приведение полка не только в должную исправность, но даже видимое желание сравнить полк, ему вверенный, с лучшими, — столь успешны и очевидны, что остается только благодарить и ожидать перемены по полку во всех частях и в столь короткое время».
4
Декабрьской ночью 1821 года Пестеля разбудил денщик:
— Ваше высокоблагородие, вас спрашивает какой-то барин, говорит, по срочному делу.
— Проси.
Через несколько секунд отворилась дверь, и на пороге показался человек, закутанный в богатую шубу.
— Лопухин! — воскликнул Пестель, узнав в неожиданном госте старого петербургского знакомого.
— Я к отцу еду в Киев и к вам зашел на одну минуту, — сказал Лопухин. — Я привез вам письмо из Петербурга.
Уже давно уехал Лопухин, уже в окно заглянул поздний зимний рассвет, а Пестель сидел у окна и курил.
Лопухин привез из Петербурга литографированный текст проекта учреждения тайного общества и письмо от Никиты Муравьева.
В письме сообщалось, что Север не бездействовал, хотя на первых порах там дело шло не совсем гладко. Николай Тургенев, вернувшись в Петербург с Московского съезда, известил петербургских членов о решении распустить Союз благоденствия. Одним из первых, кому он это сказал, был Никита Муравьев. Реакция Муравьева на это сообщение была очень похожа на реакцию Пестеля. Тургеневу пришлось выслушать очень много горьких замечаний, и это ему не понравилось. Когда спустя некоторое время Тургенев собрал у себя на квартире совещание, на котором объявил об организации нового общества, Никиты Муравьева среди собравшихся не было. Тургенев пригласил трех старых членов — Сергея Оболенского, Нарышкина, Степана Семенова, и трех вновь принятых— Митькова, Якова Толстого и Миклашевского.
В свою очередь, Никита Муравьев тоже решил организовать новое общество.
— Нас пока мало, — говорил он Лопухину, — вы, я, Лунин и можно рассчитывать еще на Пестеля. Но лиха беда начало. Главное сейчас — связаться с Пестелем.
Но прежде чем Никите Муравьеву удалось наладить связь с Пестелем, он восстановил ее с Тургеневым. Было ясно, что раскол никак не будет способствовать успеху тайного общества. Муравьев первый подал руку примирения, и вскоре тургеневская и муравьевская организации слились в одно Северное общество.
Однако деятельность вновь образованной организации была скоро прервана.
На пасху, весной 1821 года, фельдъегерь из Лайбаха привез Васильчикову пакет. В пакете был приказ: гвардейскому корпусу выступить к западным границам. Царь решил по-своему «поразвлечь немного» гвардию, чтобы она не занималась больше историями, подобными семеновской. Он полагал, что свежий воздух Белоруссии охладит пылкие головы гвардейской молодежи.
Вскоре гвардия двинулась в поход. Вместе с ней покинули Петербург Никита Муравьев, Лунин и несколько других членов тайного общества.
Недалеко от Вильно, в местечке Бешенковичи, гвардейцев развлекли большим смотром и празднеством примирения с царем. Праздник с соизволения царя был организован Васильчиковым. Своим присутствием на этом торжестве Александр символически прощал гвардию за грехи семеновцев.
Но начался спектакль не совсем удачно: моросил дождь, и у всех на душе было довольно пасмурно. Сам Александр выглядел мрачным и, объезжая колонны войск на огромном Бешенковичском поле, особенно быстро проехал мимо нового Семеновского полка.
Второй акт спектакля был организован удачнее: каждый офицер пожертвовал по полуимпериалу[15]; был сооружен павильон из соломы и ельника на полторы тысячи человек, послали в Ригу за вином и капельмейстером. Когда в назначенный день царь подъехал к павильону, командующий 1-й армией генерал Сакен скомандовал стоявшим рядом с ним офицерам: «Господа, за мной! Кивера и шляпы долой!» — и сам со шляпой в руке направился к царю. Поникшие головы гвардейцев должны были символизировать искреннее раскаяние. Царь был весьма любезен: приветливо разговаривал со многими офицерами, ни словом не вспомнив прошедшего. За обедом в павильоне при пушечной пальбе и громовом «ура» провозгласил тост за здоровье храброй российской гвардии.
А несколько дней спустя мимо Бешенковичей на суд в Витебск везли офицеров старого Семеновского полка. Многие гвардейцы видели своих товарищей, ехавших под конвоем, изнуренных заключением, обросших бородами.
Царь плохо рассчитал, думая, что служебные будни долгого похода развеют вольный дух гвардейской молодежи, недовольство ширилось, и члены тайного общества не дремали — Лунин принял в общество Преображенского офицера Александра Поджио, а Никита Муравьев 15 месяцев «проветривания» использовал еще продуктивнее: в Минске он написал свой конституционный проект.
5
Вскоре после образования Южного общества было решено время от времени созывать съезды его руководящих членов. Первый такой съезд состоялся в Киеве в 1822 году.
Во время ежегодных контрактовых ярмарок, устраивавшихся в начале января, на крещенье, Киев был особенно многолюден. На ярмарку съезжались помещики Киевской и соседних губерний, офицеры расквартированных поблизости полков. Так что приезд та ярмарку членов тайного общества не мог возбудить ничьих подозрений.
На первый съезд в Киев приехали Пестель, Юшневский, Давыдов и Волконский. Было послано приглашение и Никите Муравьеву, но тот в Киев приехать не смог. На съезде Пестель впервые после петербургского совещания 1820 года встретился с Сергеем Муравьевым-Апостолом, переведенным из гвардии в Южную армию после восстания Семеновского полка.
Съезд подтвердил решение учредительных заседаний Южного общества «общество продолжать». Было подтверждено избрание директорами Южного общества Пестеля и Юшневского. Кроме того, организовали совет «бояр» из прежних членов Союза благоденствия, все вновь принятые именовались «братьями». Было принято решение, что целью общества остается введение в России республики путем нанесения удара «посредством войск».
Но главным вопросом съезда стали рассуждения о том, что еще до начала революции необходимо иметь готовый проект устройства послереволюционной России.
Пестель доложил съезду основные положения проекта своей конституции, над которой он работал уже несколько лет. Еще в Митаве сделал он первые наброски своих размышлений, и к 1822 году они оформились в стройную систему взглядов, охватывающих все стороны жизни государства.
Но его доклад вызвал только частные замечания. Для того чтобы высказать о конституции Пестеля принципиальное мнение, всем членам съезда требовалось изучить ее более пристально.
В заключении съезда было принято решение «предоставить каждому члену целый год для обдумывания мнения» о конституции Пестеля, а также и об «образе введения ее».
Целый год — это значит до следующих Киевских контрактов, до января 1823 года.
6
Времени было много, чтобы внимательно рассмотреть пестелевский проект. Но суровая действительность очень скоро внесла свои коррективы в планы участников тайного общества. Не прошло и месяца с Киевских контрактов, как из Кишинева было получено тревожное известие: арестован член тайного общества Владимир Раевский.
Подробности дела были следующие. Сабанеев, командир Орлова, с самого начала относился очень подозрительно ко всему, что происходило в 16-й дивизии. Он заботился только о спокойствии солдатской массы, опасна для него была тупая жестокость аракчеевцев, но трижды опасен либерализм Орлова и его единомышленников. Особенно волновало Сабанеева поведение Раевского, о котором он имел самые тревожные сведения. За Орловым и Раевским был установлен секретный надзор, и Сабанеев только ждал удобного случая, чтобы вмешаться в дела дивизии. Случай не замедлил представиться. В декабре 1821 года в Камчатском полку 16-й дивизии произошло волнение: солдаты одной из рот силой воспрепятствовали наказанию своего каптенармуса — вырвали у наказывающих палки и поломали их. Орлов направил в Камчатский полк генерала Пущина, который, на месте разобрав дело, нашел, что правы солдаты, и уличил командира роты не только в несправедливом наложении наказания, но и в присвоении солдатских денег. Орлов, верный своему правилу, отрешил проштрафившегося офицера от командования ротой и отдал его под суд. Сабанеев был с самого начала в курсе всего происходящего и на этот раз решил вмешаться. Неожиданно явившись в Кишинев, он начал следствие по-своему. Даже самые поверхностные, наскоро собранные сведения дали ему «ужасную» картину всего происходящего в орловской дивизии. На его имя поступил донос, в котором прямо говорилось, что в солдатской школе, которой руководил Раевский, «учат и толкуют о каком-то просвещении. Нижние чины говорят: дивизионный командир — наш отец, он нас просвещает…». Сабанеев, конечно, сумел связать события в Камчатском полку с орловским просвещением. Он нашел, что дисциплина в 16-й дивизии страшно хромает, и Орлов, стараясь заслужить расположение солдат, дискредитирует офицеров, заботящихся о дисциплине. Но главное, что в свои помощники Орлов выбрал Раевского, который, по доносам, был настоящим бунтовщиком. На беду Орлов как раз перед приездом Сабанеева уехал в Киев, его отсутствием и воспользовался Сабанеев, чтобы расправиться с опасным вольнодумцем.
6 января 1822 года он вызвал Раевского на допрос, разговаривал с ним грубо и даже назвал его преступником. Раевский, не потеряв присутствия духа, вынул шпагу и, подавая ее Сабанееву, спокойно сказал:
— Ваше превосходительство! Докажите, преступник ли я.
Но на этот раз он не был арестован.
Раевский недооценивал всей сложности своего положения и считал, что ему удастся выпутаться, но Сабанеев твердо решил не выпускать его из своих рук.
Ровно через месяц Пушкин явился к Раевскому и рассказал о разговоре между Инзовым и Сабанеевым, который он невольно подслушал. Сабанеев убеждал Инзова, что Раевского надо арестовать.
Инзов долго не соглашался, но, наконец, уступил. Ареста можно было ожидать с часу на час. Но и тогда Раевский не оценил всей опасности. Он, правда, с помощью Пушкина уничтожил часть компрометирующих документов, но хранившиеся у него бумаги Охотникова, в частности список членов тайного общества, оставил нетронутыми, наивно полагая, что чужие бумаги никого не заинтересуют. На следующий день Раевский был арестован. Список членов тайного общества оказался в руках Сабанеева.
Киселев, который по настоянию Сабанеева занялся расследованием дела 16-й дивизии, чувствовал себя очень неприятно. Ему не хотелось подводить своего друга Орлова, но и портить свое положение отказом заниматься делом подчиненного ему генерала тоже не хотел. Еще не занимаясь расследованием всего происшедшего в 16-й дивизии, он представлял, куда может завести такое расследование. Настроения и отчасти деятельность Орлова не были для него тайной. Он знал, что в свое время Орлов вместе с графом Дмитриевым-Мамоновым пытался организовать тайное общество под названием «Орден русских рыцарей», а Киселев разделял мнение их общего друга Дениса Давыдова, писавшего, что как Орлов «ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России». Но важен был факт, что Орлов все-таки пытался «стряхнуть» абсолютизм. Да и сам он не раз убеждал Орлова оставить «шайку крикунов и устремить отличные качества свои на пользу настоящую».
Как бы то ни было, но Киселев, и не занимаясь следствием, знал многое куда лучше Сабанеева. Отличным подтверждением этого был список, который передал ему Сабанеев и в котором, к счастью, сам не разобрался. Список как раз открывался Орловым, а дальше, что ни фамилия, то новое огорчение: за Орловым следовал тот, кого Киселев так выгораживал перед Закревским, — Павел Пестель, дальше шли Волконский, Юшневский, Комаров, Ивашев, Аврамов, Барятинский, братья Крюковы, Астафьев, Бурцов. Нетрудно было понять, что список не полный, ведь в нем не было самого Раевского и вообще никого из кишиневцев, кроме Орлова.
Тяжелое раздумье мучило начальника штаба 2-й армии: дать этому списку ход — значило не только погубить людей, которых он искренне уважал, но и ставить под угрозу самого себя. Кто бы поверил в Петербурге, что он не окружил себя заговорщиками сознательно?
Сабанеев непрестанно мучил Раевского допросами, ему необходимы были факты, чтобы связать бунт в Камчатском полку с агитацией в солдатских школах. Но Раевский держался твердо и «нужных» показаний не давал. Киселеву ничего не стоило помочь Сабанееву, пустив в ход злополучный список, но он этого не сделал, решив действовать иначе. Раевский, по его мнению, должен был погибнуть, не худо было бы в эту петлю затянуть еще кого-нибудь из кишиневцев, вроде Охотникова, но в вину Раевскому следовало ставить только агитацию в солдатской школе, не впутывая сюда ни Орлова, ни всех остальных перечисленных в списке… В письмах к Закревскому Киселев именовал Раевского «необузданным вольнодумцем», говорил, что в 16-й дивизии «есть люди, которых должно уничтожить», но когда речь заходила об Орлове, тон резко менялся. Орлов оказывался виновным только в мягкости и добродушии, он только ошибался, но ведь «ошибка не есть преступление». Киселев высказывал опасение, как бы «не приняли дело сие в фальшивом виде», потому что если рассмотреть его объективно, то все обвинения оказываются ничтожными — только и есть, что «послабление дисциплины и пренебрежение в некоторых случаях к установленному порядку».
Киселев играл в опасную игру, и если эта игра удалась, то заслуга в этом Раевского. Киселев отлично понимал, что, не будь Раевский тверд на допросах, ни Орлову, ни его товарищам крепости не миновать. В твердости Раевского он убедился, не только читая протоколы допросов, которые вел Сабанеев. Вскоре после ареста Раевский был переведен в Тираспольскую крепость, и Киселев отправился к нему, чтобы лично допросить «необузданного вольнодумца». Это был не грубый допрос Сабанеева. Киселев был мягче. Солдатские школы его не интересовали.
— Государь вернет вам шпагу, — сказал Киселев Раевскому, — если вы откроете, какое тайное общество существует в России под названием «Союз благоденствия». Расскажите, какую роль играет в нем генерал Орлов. Кажется, он виновен более других, во всяком случае, больше вас. Откройте все, и вы об этом не пожалеете.
Раевский побледнел от возмущения.
— Я не знаю, виновен ли генерал Орлов или нет, — ясно отчеканивая слова, ответил Раевский, — но, кажется, до сих пор вы были его другом. Я ничего прибавить к этому не имею, кроме того, что, ежели бы действительно был виновен Орлов, и тогда бы я не перестал уважать его. Никакого Союза благоденствия я не знаю. Но если бы и знал, то самое предложение вашего превосходительства так оскорбительно, что я не решился бы открыть. Вы предлагаете мне шпагу за предательство?
Киселев смутился.
— Так вы ничего не знаете? — еще раз спросил он.
— Ничего! — отрезал Раевский.
Киселеву только и оставалось повернуться и уйти.
Раевский, конечно, не предполагал, что Киселев остался очень доволен его ответом: генерал теперь был спокоен в отношении его сдержанности.
Оставался список. Что делать с ним? Просто уничтожить, когда о нем знал Сабанеев, опасно, но и оставить его в деле невозможно. Киселев решил отправить список пока в Тульчин, подальше от Сабанеева. Получить его должен был Витгенштейн — на старика можно было надеяться.
Вместе со следствием по делу Раевского шло следствие о «возмутительных» действиях солдат Камчатского полка. Сабанеев решил демонстративно расправиться с орловцами: четверо солдат были приговорены к наказанию кнутом, двое из них после наказания умерли. С донесением о казни и с прочими бумагами Киселев отправил в Тульчин своего адъютанта Бурцова.
Бурцов не знал, что в пакетах, которые он вез Витгенштейну и дежурному генералу 2-й армии Байкову, был список членов тайного общества, в котором значилась и его фамилия. По приезде в Тульчин Бурцов отправился прежде к Байкову. Он застал его за обедом. Генерал, узнав, что прибыл посланный от Киселева, отставил обед и принялся за бумаги. Когда он вскрыл пакет, оттуда выпал листок бумаги. Бурцов заметил, что на листке записано несколько фамилий. Ничего не подозревая, он поднял его и протянул Байкову. Тог взял и положил рядом с собой. Прочитав донесение Киселева, Байков снова взял листок и пробежал записанные там фамилии, потом снова углубился в донесение. Наконец он обернулся к Бурцову и сказал:
— Вероятно, Павел Дмитриевич вложил сюда эту бумагу по неосторожности, ибо к делу она не принадлежит.
Бурцов взял листок, и ему бросилось в глаза заглавие: «Список членов Союза благоденствия». Он вздрогнул и впился глазами в список: в нем было двенадцать фамилий, первой стояла фамилия Орлова, последней — его, Бурцова.
— Видно, эта бумага предназначается графу, — сдавленным голосом произнес Бурцов.
— Видно, что так, — равнодушно ответил Байков и снова принялся за обед.
Вручив Витгенштейну предназначавшийся ему пакет и ни словом не упомянув, конечно, о страшном списке, Бурцов отправился к Юшневскому.
Даже хладнокровный Юшневский, выслушав сбивчивый рассказ Бурцова, побледнел. «Что же делать? Что же делать?» — повторял Бурцов, глядя на шагавшего по кабинету Юшневского.
— Поезжайте к Киселеву и спросите его, что делать с этим списком, — сказал, наконец, интендант 2-й армии.
— Вы с ума сошли! — крикнул Бурцов. — Список в наших руках, а вы хотите вернуть его Киселеву?
— Если мы уничтожим список сейчас, без ведома Киселева, — пояснил Юшневский, — то в случае каких-либо осложнений он всегда обвинит вас, объяснив, что он переслал список в штаб, а вы его уничтожили. Пожелай он донести, он донесет и без списка, а если захочет помочь, то пусть мы уничтожим список с его ведома. Так лучше.
Киселев был в Одессе, когда к нему явился Бурцов со злополучным списком. Выслушав рассказ своего адъютанта, как реагировал Байков на этот список, Киселев, улыбнувшись, заметил:
— Я спрашивал у Раевского об этом Союзе благоденствия. Он ответил, что ничего не знает. А уж кому было знать, как не ему! Видно, этого союза и впрямь нет…
Заметив, что Бурцов улыбается, Киселев нахмурился и сказал уже жестче:
— Нет и быть не должно! Понимаете, Иван Григорьевич?
Список Бурцов унес с собой и сжег.
Итак, за катастрофой кишиневской организации не последовало разгрома всего общества. Пострадал один Раевский, находившийся под следствием до 1827 года. Только после восстания декабристов, в ходе следствия над ними, выяснилась роль Раевского в обществе. Он был отправлен в ссылку, в Олонки Иркутской губернии, с лишением чинов и дворянства. Орлов же в 1822 году отделался лишением дивизии и с тех пор, не получая никакого назначения, жил то в своем калужском имении, то в Крыму; Охотников умер в 1823 году, генерал Пущин вышел в отставку.
7
В конце 1822 года Волконский привез Пестелю из Петербурга конституционный проект и письмо от Никиты Муравьева. Пестель с большим интересом принялся изучать долгожданный труд своего товарища.
Проект был не велик, открывался он вступлением, в котором говорилось: «Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ: что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка».
Эти общие места, с которыми Пестель не мог не согласиться, не особенно привлекли его внимание. Что же дальше?
«Но какой образ правления ему (то есть государству) приличен?» — спрашивал Муравьев, и с недоумением Пестель прочел ответ на этот вопрос: так как, мол, небольшие народы бывают обыкновенно добычей своих соседей, а многочисленные народы, как правило, «страждут от внутреннего утеснения и бывают в руках деспота орудием притеснения и гибели соседних народов», то самое лучшее — это «Федеральное или Союзное Правление». Только оно, по мнению Муравьева, могло согласовать «величие народа и свободу граждан».
«Но это же восстановление древней удельной системы со всеми ее гибельными последствиями», — думал Пестель.
Этого мало, заключительные слова вступления говорили о том, что Муравьев мыслил будущую Россию монархией.
Пестель искал разгадку непонятной эволюции Муравьева в письме, сопровождавшем проект. Там Муравьев заверял, что остался на прежних республиканских позициях, а свой конституционный проект украсил монархическими положениями только «ради вновь вступающих членов: comme un rideau deriére lequel nous formeron nos colonnes»[16].
Это несколько успокоило Пестеля, но, просматривая дальше статьи конституции, он не мог не возмутиться. По Муравьеву выходило, что гражданином мог быть только тот, кто обладал недвижимой собственностью в пятьсот рублей или движимой в тысячу рублей серебром. С выборами на общественные должности дело обстояло еще хуже. Например, для того чтобы быть избранным тысяцким, то есть главой уезда, требовалось, чтобы кандидат на эту должность располагал недвижимой собственностью на тридцать тысяч рублей или движимой на шестьдесят тысяч. Читая эту статью, Пестель подумал, что ему по муравьевский конституции нечего рассчитывать занять какую-нибудь выборную должность, только что если попытаться стать волостным старшиной — самым мелким должностным лицом: для старшины не требовалось имущественного ценза.
Крепостное право Муравьев ликвидировал, но помещичьи крестьяне освобождались без земли. Они должны были арендовать ее у своих прежних владельцев, а в случае ухода обязаны были «вознаградить» помещика «за временное прервание… доходов с возделываемой сими поселянами земли…». Таким образом, миллионы крестьян ставились в прямую зависимость от «ужасной аристокрации богатств», против которой так восставал Пестель на петербургском совещании 1820 года.
«На что надеялся Муравьев, когда посылал мне свой проект? — удивлялся Пестель. — Неужели он думал, что я когда-либо соглашусь с его пунктами?»
Два положения — федеральное устройство будущей России и узаконивание власти самой состоятельной верхушки народа — делали для Пестеля конституционный проект Муравьева совершенно неприемлемым. Все остальные положения проекта: освобождение крестьян, ликвидация военных поселений, свобода печати, ограничение власти монарха, который, по выражению Муравьева, становился только «верховным чиновником российского правительства», не могли компенсировать двух главных недостатков муравьевского проекта.
Пестель понимал, что нельзя совместить равенство перед законом с высоким имущественным цензом. Понимал он, что федеральное устройство России только закрепляло власть «аристокрации богатств». Аристократическое правительство каждой из четырнадцати держав и двух областей пользовалось фактической независимостью от центрального правительства и могло тормозить любое начинание, ограничивающее власть богатых. Нет, Муравьевский проект следовало решительно отвергнуть, и Пестель, не задумываясь, перечеркнул конституцию своего бывшего единомышленника.
Пестель подробно выспрашивал Волконского обо всем происходящем в Петербурге. Необходимо было узнать, как относятся к конституции Муравьева сами северяне, и на этом строить свое отношение к ним.
Волконский рассказал следующее: после возвращения гвардии в Петербург Северное общество возобновило свою работу. На одном из первых собраний общества была избрана Северная дума, в состав которой вошли Никита Муравьев в качестве «правителя», а также Сергей Трубецкой, Евгений Оболенский и Николай Тургенев.
Новая дума под давлением Никиты Муравьева поспешила заявить, что не считает себя обязанной придерживаться республиканской резолюции петербургского совещания 1820 года. Стало быть, не только у Муравьева республиканские убеждения не выдержали испытания временем.
В основу программы Северного общества Никита Муравьев предложил положить свой конституционный проект, но северные члены, ознакомившись с ним, раскритиковали его. Усомнившись в необходимости республиканского правления, северяне тем не менее не желали отдавать власть «ужасной аристокрации богатств». Тургенев заявил, что «эта конституция есть пустое», Митьков назвал ее «праздной ютопией», Трубецкой допуск ал, что «можно имения сделать условием должностей, но неприлично давать имущество мерою прав».
Проект был отвергнут, вопрос программы оставался открытым, и, как следствие отсюда, резко упала активность общества: перестали приниматься новые члены, старые начали охладевать к работе. Северное общество находилось в критическом положении и как раз в то время, когда от его членов требовалась наибольшая стойкость и последовательность.
8
Время действительно было тяжелое. Петля правительственной реакции все туже стягивала горло России. Александр I, у которого боязнь революционных заговоров дошла до мании, находил успокоение в «душеспасительных» беседах с архимандритом Фотием. Фотия, больного изувера, «часто в непонятном некоем состоянии» видевшего бесов, обуревало стремление спасти себя и Россию. Став ближайшим советником царя, он терроризировал его бредовым планом «разорения России» и способом «оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо». Спасение должно было прийти от уничтожения всех еретиков, противных богу и царю, церкви и отечеству. Фотий внушал Александру, что «противу тайных врагов, тайно и нечаянно действуя, вдруг надобно открыто запретить и поступать».
У Александра никогда не было недостатка в чиновниках, желающих «открыто запрещать и поступать», но теперь под благотворным влиянием царской свободобоязни они показали себя во всей красе.
На всю Россию прогремел Михаил Леонтьева Магницкий. Этот средневековый мракобес был членом главного правления училищ. Посланный ревизовать Казанский университет, он нашел, что для искоренения безбожного направления преподавания университет необходимо торжественно разрушить.
Начало своей деятельности Магницкий ознаменовал изгнанием из университета одиннадцати профессоров и уничтожением в университетской библиотеке всех книг «вредного» направления.
Он серьезно утверждал, что «философия о Христе не тоскует о том, что был татарский период, удаливший Россию от Европы; она радуется тому, ибо видит, что угнетатели ее, татары, были спасителями ее от Европы». Магницкий организовал в университете «кафедру конституций» со специальной «обличительной» целью. Преподавание наук в университете должно было утверждать преимущество веры над «духом пытливости».
«В Магницком… — писал профессор А. Никитенко, — ничем не сдерживаемый произвол превзошел самые отважные порывы насилия. На все, что люди считают неприкосновенным и священным для себя: на истину, мысль, чувство долга, на убеждения, — на все он наложил оковы инструкций и предписаний, требовавших одного: беспрекословного повиновения формам, обрядам, дисциплине. Он хотел создать официальную науку, официальную добродетель, официальное благочестие, не замечая, что этим истязанием внутренних человеческих сил он установил целую страшную систему лжи и лицемерия…»
Верным последователем Магницкого явился попечитель Петербургского учебного округа Рунич. Свой поход против просвещения он начал с утверждения у себя в округе инструкций своего казанского единомышленника и в подражание ему открыл гонение на «противохристианскую проповедь» профессоров петербургского университета. Его жертвами стали четверо известных ученых — Арсеньев, Галич, Раупах и Герман.
По мнению Рунича, лекции Арсеньева представляли «обдуманную систему неверия и правил зловредных и разрушительных в отношении нравственности, образу мыслей и духу учащихся», и все это потому, что в своих лекциях по статистике Арсеньев недостаточно тепло отзывался о крепостном труде и даже доказывал, что труд свободного человека выгоднее труда крепостного.
Еще страшнее были «преступления» Галича. Прочитав его книгу «История философских систем», Рунич пришел в ужас оттого, что, рассказывая о различных философских системах, Галич не опровергал их!
Досталось и старому учителю Пестеля Карлу Федоровичу Герману. На том же заседании ученого совета он узнал, что целью своих лекций ставил порицание христианства, оскорбление достоинства церкви, существующего правления и вообще верховной власти. Примерно в том же был обвинен и Раупах.
Все четыре профессора были изгнаны из университета.
Удачный дебют вдохновил Рунича на новые подвиги, теперь уже на поприще цензуры. Прежний цензорный устав казался ему недостаточно охранительным. «Тогда было время, а теперь другое», — рассуждал он. В результате цензура стала настолько мелочна, придирчива, Настолько явно обнаруживала свое невежество, что даже такой отъявленный реакционер, как адмирал Шишков, разводил руками и говорил: «Не довольно иметь строгую цензуру, но надобно, чтоб она была умная и осторожная».
Апофеозом этих мрачных анекдотов был случай, когда в цензурный комитет поступило переводное сочинение под названием «Нечто о конституциях». Сочинение было выдержано в самом крепком охранительном духе, от конституций не оставалось камня на камне, но само название казалось двусмысленным. Этого было достаточно: министр просвещения князь А. Н. Голицын потребовал сочинение к себе и похоронил его в своем письменном столе. Не получавший ответа переводчик забеспокоился и потребовал объяснений, почему его произведение не печатают. Переводчиком оказался… Магницкий. Такому «заслуженному» человеку цензурный комитет ответил. Магницкого похвалили за усердие, но указали, «что нет ни нужды, ни пользы, ниже приличия рассуждать публично о конституции в государстве, благоденствующем под правлением самодержавным», кроме того, «издание в свет сего сочинения на русском языке может подать повод издателям периодических сочинений и других книг писать о конституциях, а публике делать свои заключения и, быть может, превратные толкования насчет появления сих особых сочинений». Так Магницкий оказался в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.
В августе 1822 года в итальянском городе Вероне происходил очередной конгресс Священного союза. «Успокоители» Европы совещались о мерах подавления Испанской революции. Решено было отрядить в Испанию французскую армию.
В разговоре с французским министром иностранных дел Шатобрианом Александр I заявил, что Франция всегда может рассчитывать на его помощь, если ей придется туго в борьбе с испанскими революционерами. Коснулся он и больного греческого вопроса.
— Ничто, без сомнения, — говорил царь, — не казалось более отвечающим моим интересам, интересам моих народов, общественному мнению моей страны, как религиозная война с Турцией. Но в волнениях Пелопоннеса я усмотрел признаки революции. И тогда я воздержался.
Пожаловавшись на то, сколько усилий пришлось ему сделать, чтобы не поддаться здравому смыслу, Александр оправдывал существование Священного союза со страстью человека, одержимого манией преследования. «Государям должно быть позволено, — восклицал он, — заключать явные союзы для защиты от тайных обществ!»
С конгресса царь уезжал с твердым убеждением, что для собственного блага России необходимо идти в фарватере австрийской политики. Торопясь на родину, под отеческое благословение Фотия, он писал с дороги Меттерниху: «Возвратившись домой, я намерен усиленно заняться, чтобы в нужный момент оказать поддержку Союзу».
Страх и недоверие руководили поступками царя. Еще до Веронского конгресса он распорядился отобрать у всех военных и гражданских лиц подписку о непринадлежности к тайным обществам. Официально это объяснялось «беспорядками и соблазнами, возникшими в других государствах, и умствованиями, из которых проистекают столь печальные в других краях последствия».
Дали такую подписку и все члены тайного общества, дал такую подписку и Пестель.
Подписка наделала много шуму. В Петербурге и Москве связывали ее со слухами о тайном обществе, вызванными доносами Грибовского и делом Раевского.
Очень обеспокоила подписка и старика Пестеля. Не доверяя государственной почте, он просил одного офицера, отправлявшегося в Вятский полк, отвезти Павлу Ивановичу письмо. Старик писал его целых два месяца. Все пятнадцать страниц письма полны советов, наставлений, примеров, которыми должен был руководствоваться сын в это тревожное время.
«Здесь говорят, — писал Иван Борисович, — что во 2-й армии есть злоумышленники. Хотя я ничему этому не верю, но, тем не менее, обязанность моя, как отца, друга и патриота, предупредить тебя об этом, для того, чтобы ты был осторожен в своих связях. Эти люди опасные, и всякий честный человек должен их остерегаться… Посылаю тебе рескрипт министру внутренних дел касательно масонских лож и других тайных обществ, также и подписку, которую все состоящие на службе должны дать. Так как я никогда в жизни не был масоном, и так как я всегда смотрел на эти ложи, как на плутовство, то от этой меры мне ни тепло, ни холодно. Тем, кто принадлежал к какой-нибудь ложе, надо поименовать в своей подписке, с обещанием больше не быть там; они должны это сделать тем более, что полиция, вероятно, имеет список всех масонов в государстве».
9
— Все-таки Пестель дал Сергею Муравьеву согласие, чтобы этот молодой человек присутствовал на съезде?
— Не только присутствовал, но и участвовал, дорогой Василий Львович.
— Не понимаю, что находит в нем Муравьев. Пустой, экзальтированный мальчик, не больше. Я слышал, что он собирается ездить по Малороссии и, декламируя против правительства, вербовать сторонников. Не знаю, у кого он будет пользоваться успехом.
— У дам, во всяком случае.
Молодой человек, о котором разговаривали Волконский и Давыдов, стоял в дверях гостиной и что-то горячо доказывал Юшневскому. Пестель, раскладывавший на столе бумаги, изредка бросал на него веселые взгляды и, наконец, заметил сидевшему рядом Сергею Муравьеву:
— Ваш Бестужев-Рюмин напрасно распинается. Он, наверное, истолковал молчание Юшневского как согласие, но Алексей Петрович не любит говорливых.
— Мишель, — обратился Муравьев к Бестужеву, — прости, что я тебя перебью, но пора начинать заседание.
Молодой человек прекратил разговор и с улыбкой направился к столу.
Большого труда стоило Сергею Муравьеву-Апостолу уговорить Пестеля и Юшневского согласиться, чтобы на контрактовом съезде 1823 года присутствовал его друг подпоручик Полтавского полка Бестужев-Рюмин. Директора имели о Бестужеве противоречивые сведения: знали, что он прежде служил с Муравьевым-Апостолом в Семеновском полку, после истории 1820 года переведен на юг, весьма начитан, французский язык знает несравненно лучше русского, чрезвычайно ветрен и рассеян и при всем своем политическом вольнодумстве страшно невоздержан на язык, и потому никак нельзя предполагать, что из него выйдет хороший конспиратор.
Рассеянность и несдержанность Бестужева-Рюмина некоторые принимали за глупость, но его можно было обвинить только в наивности. Воспитанный на французской просветительной литературе, весь проникнутый ее революционным духом, он просто не понимал, как можно всерьез исповедовать какие-нибудь иные взгляды. Он с восторгом принял предложение вступить в тайное общество, но его взгляд на деятельность общества был очень своеобразен. «Для приобретения свободы не нужно никаких сект, никаких правил, никакого принуждения, нужен один энтузиазм. Энтузиазм пигмея делает гигантом! Он разрушает все и он создает новое», — говорил Бестужев.
Эти крайности не мешали Сергею Муравьеву увидеть в пылком молодом человеке товарища, который своей самоотверженной преданностью делу революции много сделает для пользы общества, и с этой целью он настоял на допущении Бестужева-Рюмина на съезд. На съезде надо было решить вопрос об организации двух новых управ — Каменской и Васильковской. Во главе последней, по мысли Сергея Муравьева, кроме него, должен был стать и Бестужев-Рюмин.
Михаил Павлович Бестужев-Рюмин. Рисунок Ивановского.
Второй съезд руководителей Южного общества происходил на киевской квартире Волконского. Прошел год, данный на обдумывание пестелевской конституции.
Незадолго перед съездом члены Южного общества ознакомились с конституционным проектом Никиты Муравьева. Разница проектов Пестеля и Муравьева сразу бросалась в глаза.
По проекту Пестеля Россия объявлялась республикой. Это положение у него ни в каких «завесах» не нуждалось. В противоположность муравьевскому плану федеративного устройства Пестель утверждал, что «Россия есть государство единое и нераздельное». Административно Россия делилась на ряд губерний и областей, те, в свою очередь, делились на уезды, а уезды — на волости. Каждый год жители волости должны собираться на земские народные собрания; там предполагалось избирать волостные, уездные и губернские «наместные» собрания. Эти собрания и должны были быть органами власти своего административного района.
Каждый житель или жительница России, достигшие пятнадцатилетнего возраста, обязаны принести присягу отечеству. Этим ограничивались гражданские обязанности женщин, ни в каких выборах они не должны участвовать. Мужчины же могут получить гражданские права по достижении двадцати лет. Для того чтобы быть избранными в наместные собрания, никакого имущественного ценза не требовалось. «Наместные собрания будут сим способом весь народ и всех оного граждан в полной мере без изъятия представлять. Никто не будет зловластно от участия в государственных делах исключен». Верховным законодательным органом должно было быть Народное вече — однопалатный парламент, депутаты которого избираются наместными собраниями административных округов. Избираются депутаты на пять лет. Каждый год переизбирается пятая часть депутатов. Из депутатов, заседавших в Народном вече последний год, избирается председатель веча.
Верховный исполнительный орган — Державная дума — состоит из пяти членов. Глава ее именуется председателем Державной думы.
Орган, надзиравший за точным исполнением конституционных законов наместными собраниями, Народным вечем и Державной думой, — Верховный собор. Сто двадцать членов Верховного собора — «бояре» — избираются пожизненно.
Пестель не закрывал глаз на то, что новый порядок вещей встретит сопротивление со стороны бывших крепостников, и он предусматривал меры борьбы с контрреволюцией. По проекту Пестеля объявлялась «свобода книгопечатанья», «свобода вероисповеданий и духовных действий», но категорически запрещались какие бы то ни было политические общества. Пестель являлся сторонником длительной диктатуры временного правительства, которое вводило бы конституцию в стране диктаторской властью.
Совершенно иначе, чем у Муравьева, решался Пестелем вопрос землеустройства и освобождения крестьян. О том, чтобы освободить крестьян без земли и обречь их тем самым на кабалу у прежних хозяев, не могло быть и речи.
Пестель приводил две точки зрения по вопросу о земле. Защитники первой точки зрения утверждали, что так как «всевышний сотворил человеческий род на земле и землю отдал им в достояние», то «земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц и посему не может она быть разделена между несколькими только людьми за исключением прочих…». Защитники второй точки зрения доказывали, что «труд и работы суть источники собственности», тот, кто обработал землю, кто землю «способной сделал к произведению разных произрастаний», тот и должен обладать ею. Обработка земли требует необходимых издержек, но тот только затратит на это свои деньги, кто будет уверен, что земля находится в полной его собственности, а «неуверенность в сей собственности, сопряженная с частым переходом земли из рук в руки, никогда не допустит землевладения к усовершенствованию. Посему и должна вся земля быть собственностью нескольких людей, хотя бы сим правилом и было большинство людей от обладания землей исключено».
Пестель находил обе точки зрения справедливыми и потому самым лучшим способом разрешить противоречия счел объединение их в одном законе.
Он предложил в каждой волости землю поделить на две части: одну распределить безвозмездно между всеми гражданами, приписанными к этой волости (ни продавать, ни завещать, ни закладывать эту землю нельзя), — это так называемая общественная часть земли; вторая часть земли отходила к казне, участки ее каждый гражданин мог купить, и она становилась его собственностью.
Пестелю казалось, что таким образом он избавляет людей от угрозы нищеты. Действительно, ведь «каждый россиянин будет совершенно в необходимом обеспечен и уверен, что в своей волости всегда клочок земли найти может, который ему пропитание доставит…», но в то же время дает возможность умножить свое благосостояние, разрешая приобретать казенную землю в собственность.
Сам процесс освобождения крестьян должен был продолжаться не менее десяти лет. Первое время бывшие крепостные должны еще платить своим помещикам оброк (если они оброчные) или работать на помещичьих полях (если они барщинные), но по истечении установленного срока они становились совершенно свободными по отношению к своим прежним владельцам.
Помещичьи имения, сильно сокращенные после разделения земли, сохранялись только в казенной ее половине, где разрешалось частное землевладение.
По мнению Пестеля, постепенность в переходе от старого состояния к новому, свободному, гарантировала Россию от ненужных потрясений, от «кровопролитий и междоусобий». Но крестьяне и в этот переходный период пользуются теми же правами, что и остальные российские граждане: могут избирать и быть избранными в любой орган власти.
Сословный вопрос решался просто: «Гибельный обычай даровать некоторым людям привилегии за исключением Массы Народной будет совершенно уничтожен», — писал Пестель. Но дворянство в России все же сохранялось. Это было не «благородное» сословие, пользующееся наследственными привилегиями, а «люди, оказавшие Отечеству большие Услуги». Пестель называл их «Отличными гражданами». Им даровались от правительства некоторые льготы, вроде освобождения от налогов, но эти льготы отнюдь не передавались по наследству.
В числе «Отличных граждан» могли оказаться выдающиеся государственные деятели, полководцы, ученые и писатели, но основная масса дворян в их число никогда бы не попала. Пестель прямо противопоставляет свое дворянство прежнему привилегированному сословию, утверждая, что его дворяне непременно «должны быть отличены от тех, которые только о себе думали и только о частном своем благе помышляли».
Торжественно открыв заседание, председатель съезда Пестель поставил на голосование основные положения своей конституции, и все они были приняты единогласно. Только вопрос о разделе земли вызвал возражения Давыдова, но в конце концов он уступил большинству.
Но когда Пестель спросил, все ли согласны с необходимостью истребления императорской фамилии, поднялся горячий спор.
— Никогда не соглашусь с этим сумасброднейшим предприятием! — заявил Сергей Муравьев. — Истребить Романовых — значит дать козырь в руки наших врагов, нас будут не без основания обвинять в ненужном кровопролитии.
— Значит, вы не думаете о тех кровопролитиях, которые могут возникнуть от выступлений возможных претендентов? — возразил Пестель.
Юшневский, Давыдов, Волконский поддержали Пестеля, Бестужев-Рюмин высказался за убийство одного царя, но Муравьев стоял на своем. В конце концов Пестель сказал:
— Я всегда считал, что общее мнение должно предшествовать революции, и потому не хочу решать вопрос простым большинством голосов; единственное мое желание, чтобы этот пункт был поддержан единодушно и добровольно.
— В таком случае, — вставил Муравьев, — и не надо сейчас решать этот вопрос большинством голосов, лучше оставить его пока открытым. Да и вообще можно ли такой важный вопрос решить шестью человеками? Необходимо обсудить его всем членам общества.
— Ну что ж, пусть будет по-вашему, — ответил Пестель, — отложим его до другого времени, а пока доведем до сведения остальных членов.
— Но есть еще один вопрос, который надо решить безотлагательно, — сказал Муравьев, — это вопрос о выступлении. Нам следует не ждать удобных обстоятельств, а стараться возродить оные. Я предлагаю начать действие открытым возмущением, отказавшись от повиновения.
— Быстрота и смелость предприятия обеспечат нам успех! — воскликнул Бестужев.
— Где же вы предполагаете начать возмущение? — спросил Пестель.
— Здесь, на юге, — ответил Муравьев.
— Верный путь к междоусобию, — заметил Юшневский.
— Разумеется, это гибельный путь, — сказал Пестель. — Начать возмущение на юге без поддержки Петербурга, значит дать правительству мобилизовать свои силы и вступить с нами в борьбу. Если это и не поведет к нашему разгрому, то, во всяком случае, развяжет жестокую междоусобную войну. Мой план иной, но он, к сожалению, не может быть исполнен без предварительного согласия. на цареубийство. Я предлагаю организовать cohorte perdue[17] из людей, к обществу не принадлежащих; они должны будут истребить императорскую фамилию — это вызовет замешательство в Петербурге, северные же члены тем временем провозгласят новое правление, а мы на юге поддержим их и обеспечим действительный успех революции. Во главе cohorte perdue я предлагаю поставить Лунина, который еще в 1817 году предлагал подобную вещь; он будет хорошим руководителем, я знаю его как человека смелого и решительного.
— Все это потребует очень много времени, — возразил Муравьев, — а оно дорого.
— Но это очень важный вопрос, его нельзя решать скоропалительно, придется, пожалуй, и его оставить открытым, — с улыбкой ответил Пестель.
Несмотря на разногласия, съезд 1823 года имел большое значение: конституция Пестеля, названная им впоследствии «Русской Правдой», стала основным программным документом Южного общества. Положительно был решен вопрос об организации Каменской и Васильковской управ. Во главе Каменской управы были поставлены Волконский и Давыдов, во главе Васильковской — Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин; обе управы должны были находиться «под ведением Тульчинской директории».
Теперь, когда конституция Пестеля была принята Южным обществом, он мог добиваться слияния обоих обществ — Северного и Южного.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ЮГ И СЕВЕР
В вражде ль они между собою?
Иль солнце не одно для них
И, неподвижною средою
Деля, не съединяет их?
Ф. Тютчев1
онституционный проект Никиты Муравьева был решительно отвергнут членами Южного общества. Но Пестель понимал, что это только полдела: надо было убедить Муравьева в необходимости пересмотреть свой проект. Без этого нельзя было выработать единую программу Северного и Южного обществ, нельзя было работать сообща.
В феврале 1823 года Василий Давыдов собрался в Петербург. Решено было, что он отвезет Никите Муравьеву его конституционный проект, объяснит, почему южане признали его неудовлетворительным, и постарается уговорить переделать его. С Давыдовым Пестель отправил Никите Муравьеву письмо с критическим разбором его конституционного проекта и тетрадь с французским изложением своего проекта.
На французский язык конституцию Пестеля перевели Барятинский и Сергей Муравьев-Апостол; такая форма была удобна в конспиративном отношении, в крайнем случае перевод можно было выдать за конспект какого-нибудь французского политического сочинения.
Никита Муравьев отнесся к письму Пестеля очень неприязненно. Он не думал отступать, наоборот, он попытался убедить Давыдова в своей правоте. Завязалась дискуссия. Муравьев, «для большего порядка в суждении», предложил Давыдову задавать ему вопросы по основным пунктам обеих конституций.
Начали с вопроса об освобождении крестьян. Муравьев изложил свою точку зрения, но в ответ услышал короткое: «У нас положено иначе». Тогда он стал подробно разбирать предложения Пестеля и со всем жаром убежденного в своей правоте человека доказывать неправильность пестелевской точки зрения.
Никита Муравьев к спорам на экономические темы был подготовлен лучше, чем его оппонент. Давыдов стал поддаваться, но Муравьеву не удалось все-таки перетянуть его на свою сторону.
— Вы судите правильно, — сказал Давыдов, — я сам того же мнения, но у нас положено иначе, и этого переменить нельзя.
Давыдов не решился изменить программе, за которую недавно голосовал. Раздосадованный, Муравьев прекратил дискуссию, пестелевский проект вернул Давыдову, даже не сочтя нужным довести его до сведения других членов Северного общества. Муравьев потерял надежду найти общий язык с Пестелем, но зато попытался приобрести единомышленника в Сергее Муравьеве-Апостоле: он попросил Давыдова отвезти ему экземпляр своей конституции и письмо. Тот согласился.
Неудача миссии Давыдова очень огорчила Пестеля, но все же он не терял веры в возможность соглашения.
Пестель знал, что среди северян много недовольных конституцией Муравьева, и рассчитывал, что отрицательное отношение к конституции со стороны южан и части северян сможет в конце концов убедить Муравьева переделать ее.
Он решил послать на север второго эмиссара, Александра Барятинского, которому особенно доверял и на активность которого надеялся.
Ему Пестель дал более сложное задание: Барятинский должен был не только приложить все усилия для решения конституционного вопроса, но и потребовать от Муравьева, как главы Северного общества, самого энергичного содействия Южному обществу, прямо заявив ему, что «лучше совсем разойтись, нежели бездействовать и все-таки опасности подвергаться». Кроме того, Пестель советовал Барятинскому не ограничиваться переговорами с одним Муравьевым, а постараться наладить связи с другими членами Северного общества и искать среди них единомышленников.
2
Июньским вечером 1823 года к дому Пестеля в Линцах подъехала коляска. Из нее легко выпрыгнул молодой офицер в гусарском мундире.
— Барин у себя? — спросил он денщика Пестеля Савенко, показавшегося в дверях дома.
— У себя, у себя, пожалуйте, — улыбаясь, проговорил Савенко. — Вас дожидаются, все спрашивали-с.
Не успел офицер подняться по ступенькам, как на крыльцо вслед за Савенко вышел Пестель. Длинный широкий сюртук с красным воротником и почерневшими эполетами небрежно был накинут на плечи. Пестель протягивал обе руки навстречу гостю:
— Истинно заждался вас, дорогой Барятинский. Можно ли поздравить вас? Со щитом или на щите?
— Одну минуту, Павел Иванович, дайте прийти в себя, все доложу, как было, — ответил Барятинский.
Они прошли в кабинет хозяина. Барятинский уселся на диван, Пестель поставил стул перед ним, облокотился на спинку и, глядя на раскрасневшееся лицо гостя, сказал:
— Считайте, Александр Петрович, что все вопросы вежливости я задал: вижу, вы здоровы, доехали благополучно. Впрочем, не желаете ли чаю с дороги?
— Нет, благодарствую, велите лучше Савенке принести квасу похолодней: малороссийская жара не шутка.
— Итак, — начал Барятинский, когда Савенко вышел с пустым графином, — первое, что я сделал, приехав в Петербург, — отправился к Никите Муравьеву и отдал ему ваше письмо. Он мне обещал не задерживать с ответом, но к условленному сроку я не пошел и попросил Поджио съездить к Муравьеву — узнать, что он думает о вашем письме и на что хочет решиться. Помня ваши советы и решив действовать наверняка, я хотел идти спорить с Никитой Михайловичем во всеоружии, хорошенько все обдумав.
— Ну, ну и что? — торопил Пестель.
Барятинский откинулся на спинку дивана, заложил руки за голову и рассмеялся:
— Когда Поджио воротился от Муравьева, он в лицах передал весь их разговор. Муравьев прочел ему ваше письмо со всеми требованиями, а как дошел до места, где говорится, что полумеры ничего не стоят и что мы хотим весь царский дом очистить, у него даже дыхание перехватило, и с этаким ужасом прошептал: «Ведь они бог весть что затеяли. Они всех хотят…»
— Да, все ясно, — перебил Пестель, — так-то вот, Никита Михайлович… — И, помолчав, спросил негромко: — А как вам понравилась его молодая супруга?
— Александра Григорьевна очаровательна, — ответил Барятинский, — прекрасной души, видно, человек.
— И притом принесла ему в приданое крепостных душ немало, — невесело усмехнулся Пестель, — вот Муравьев и растерялся. Простите, пожалуйста, я вас перебил, продолжайте.
— Короче говоря, Муравьев стал объяснять Поджио, почему не следует принимать наши требования: мол, мы в Петербурге еще не готовы и всякое другое.
Потом, через несколько дней, я встретился с Муравьевым ранним утром в Летнем саду. Мы бродили по саду и разговаривали. Думаю, что ничьих подозрений не возбудили.
— Наверно, вас приняли за молодых офицеров, которые возвращались из гостей так поздно…
— Что стало уже рано, — закончил Барятинский. — Быть может. Так вот, я заявил Муравьеву, что прислан за решительным ответом. Он начал говорить, что членов общества немного, на войска надежды нет, гвардейские офицеры только и думают, как на балах веселиться, а вовсе не склонны быть членами общества.
— Как он, однако, знает всех гвардейцев! — заметил Пестель.
— Я то же самое ему говорил: не может он знать всех и за всех отвечать. Пусть он только начнет настоящую пропаганду и сам увидит, как много найдет единомышленников. Когда же я ему сказал, что мы начнем действовать в этом году, он схватил меня за руку, сказал: «Ради бога не начинайте! Вы там восстанете, а меня здесь генерал Гладков возьмет и посадит».
— Ну, не думаю, чтобы Муравьев испугался полицмейстера, — сказал Пестель, — это он боится не успеть за нами.
— Вполне возможно. О том же, чтобы нашим обществам разойтись, он и слышать не хочет и вообще заверил, что с сего времени начнет деятельную пропаганду и будет содействовать нам во всем.
— Платонически? — спросил Пестель.
— Не знаю. Но не это главное. Я убедился, что в Петербурге действительно многие осуждают Муравьева. Поджио хорошо сказал: «Муравьев ищет все толкователей Бентама, а нам действовать не перьями». Оболенскому тоже очень не нравится медлительность Муравьева, мнения Оболенского держатся Шипов и Митьков. Не видя много толку в Муравьеве, я решил действовать сам и для нас: помимо него, я принял в общество двух кавалергардов — Вадковского и Поливанова.
— Вот и отлично, — обрадовался Пестель. — Это стоит всей вашей поездки: у нас в Петербурге будут свои люди.
— Вадковского я знаю, — продолжал Барятинский, — хорошая рука, как раз то, что нам надо. Он родственник Муравьеву — кузен его жены, «самоуправства» с принятием Вадковского Муравьев мне никогда не простит. Впрочем, бог с ним. Кавалергардов своих я отдал на попечение Трубецкому, и Муравьев их перепримет. Формально они северяне.
— Ну, спасибо вам, Александр Петрович. — Пестель сел рядом с Барятинским и положил руку ему на плечо. — Если не все сделано, что нам хотелось, то все-таки кое-что сделано.
В заключение Барятинский передал Пестелю небольшую записку Муравьева — лоскуток, как назвал ее Пестель. В ней коротко сообщалось, что Никита Муравьев делает все, что может.
— Что ж, тем хуже, — недобро усмехнулся Пестель, — если он может только то, что делает. Итак, мы имеем безрезультатную поездку Давыдова в Петербург, явную пока невозможность сойтись на конституции, медлительность Муравьева и Трубецкого. Кстати, вам там не удалось выступить перед собранием всех петербургских членов?
— Я хотел, — развел руками Барятинский, — но Муравьев сказал, что всех собрать невозможно.
— Странная отговорка! Ну ладно! Если, ко всему этому добавить, что они сильно раздражены нашим вмешательством, то получится, что пассив у нас основательный. В активе у нас пока ваши кавалергарды и Поджио, Оболенский и те, кто с ними. Что ж, тоже не плохо. Только бы побольше южан было на севере!
— Ничего, мы их подогреем, — весело сказал Барятинский.
3
Если петербуржцев необходимо было «подогревать», то васильковцев надо было «охлаждать». То, что Никита Муравьев считал преждевременным, то
Сергею Муравьеву-Апостолу и Бестужеву-Рюмину казалось не терпящим отлагательств.
Когда летом 1823 года Черниговский полк был переведен в Бобруйск, где ожидался царский смотр, у Сергея Муравьева возник план: захватить императора, великого князя Николая Павловича, генерала Дибича и, увлекая за собой войска, идти на Москву. Этот план поддерживал Бестужев-Рюмин, Повало-Швейковский и Норов. Четыре офицера представляли четыре полка, которые должны были, по мысли автора плана, принять участие в выступлении. Бобруйская крепость казалась очень удобной для содержания в ней царя в качестве заложника; кроме того, Бобруйск был сравнительно недалеко от Москвы.
Васильковцы ввиду важности предприятия решили предварительно связаться с Москвой и с другими южными управами. В Каменку Давыдову было послано письмо с просьбой срочно выехать в Бобруйск. Письма с уведомлением о плане получили Волконский, Артамон Муравьев и Барятинский. Предполагалось, что о нем они поставят в известность и Пестеля. Бестужев-Рюмин выехал в Москву, где должен был встретиться с московскими членами тайного общества и договориться с ними о поддержке бобруйского выступления.
Иван Фонвизин и Якушкин, с которыми Бестужев-Рюмин вел переговоры в Москве, наотрез отказались поддержать этот план. Они полагали, что время для этого никак нельзя назвать подходящим. На юге к плану выступления тоже отнеслись отрицательно: никто, кроме Волконского, даже не откликнулся на посланные им письма. Волконский же ответил сухо, что в этом году общество еще не намерено действовать.
Тогда Бестужев-Рюмин поехал к Пестелю с целью убедить его в необходимости бобруйского выступления.
Пестель, догадываясь, зачем явился Бестужев, принял его холодно.
— Слышал, слышал, что вы затеваете, — сказал он, здороваясь с ним. — Ну что же, расскажите, как вы хотите погубить общество.
Бестужев улыбнулся таинственно-снисходительной улыбкой и сказал:
— Выслушайте меня, и я сумею вас убедить, я уверен.
— Однако… — сухо ответил Пестель, — говорите, слушаю вас.
— План наш таков, — начал Бестужев. — Надобно увериться в карауле, который будет охранять покои государя, как-нибудь ночью проникнуть в них, арестовать Александра Павловича, потом всех остальных, произвести возмущение в лагере, а вслед за тем, оставя гарнизон в крепости, двинуться на Москву!.. План решителен, быстр и смел!
— Даже излишне… — сказал Пестель. — Неужели вы не понимаете, что в вашем плане буквально все никуда не годится? В ком вы уверены? В четырех офицерах? А солдаты? Вы убеждены, что солдаты, которые будут охранять арестованного царя, исполнят возложенное на них? Авторитет царя у солдат еще огромен. Царь потребует выпустить его, и они не посмеют ему воспротивиться. А потом сознание, что они могут быть спасителями самого царя, подвигнет их на освобождение.
— О, но тогда мы убьем его! — воскликнул Бестужев.
— Советовал бы вам с этого начать, так проще, — спокойно заметил Пестель. — Но дело не только в этом: на что вы надеетесь? На четыре полка? И этого, по-вашему, достаточно?
— А разве вы нас не поддержите? — спросил Бестужев.
— Мы не можем, и не можем потому, что среди нас. еще нет солдат, а это основная сила. Солдату не прикажешь идти против царя — его надо убедить в этом. А для этого надобно время. И объясните, пожалуйста, как вы хотите все сделать без Петербурга? Ведь там мозг страны, оттуда и надо начинать, мы же должны только поддерживать петербуржцев.
Пестель еще долго убеждал Бестужева, и в конце концов тот согласился, что план грешит явной непродуманностью.
На время васильковцы успокоились.
4
Все лето 2-я армия усиленно готовилась к царскому смотру. На этот раз Киселев решил сделать все возможное, чтобы заслужить генерал-адъютантские аксельбанты. Смотр начался 30 сентября 1823 года. Царь тщательно проверял все, начиная со штаба и кончая церковными заведениями, и всем был приятно поражен: пятилетние труды Киселева не пропали даром, армия находилась в образцовом порядке. Смотр закончился двухдневными маневрами.
Зрелище маневров было великолепным: шестьдесят пять тысяч солдат и офицеров, пехота, кавалерия, артиллерия на пространстве в четыре-пять верст дефилировали перед царем. Одним из первых, радуя глаз выправкой солдат, прошел Вятский полк полковника Пестеля.
Щуря близорукие глаза, царь пристально всматривался в стройные колонны вятцев, на его губах блуждала улыбка, рука отбивала четкий такт шагов. Когда мимо него проходили последние шеренги полка, Александр обернулся к Дибичу и сказал:
— Превосходно! Точно гвардия!
Тот одобрительно кивнул головой.
— Да, — мечтательно проговорил царь, — какой бы из него вышел превосходный генерал, если бы…
Дибич понял, что речь идет о Пестеле, и быстро вставил:
— Полковник Пестель отличный офицер!
— Да, да, что бы там ни было, а его следует отличить — это полезно, — сказал Александр. — Как ты думаешь, что ему дать?
— Он, государь, не обременен состоянием, — громко, так, чтобы слышал глуховатый царь, пошутил Дибич.
— Так тысячи три десятин ему не помешают, как ты полагаешь? — И добавил поспешно: — Только без крестьян, крестьян я не дарю — это жестоко…
Мимо царя проходила бригада генерал-майора Сергея Волконского. Сам Волконский, пропуская бригаду, придержал свою лошадь и стал недалеко от царя. Бригада прошла, и Волконский хотел было отъехать, как вдруг услыхал голос Александра:
— Волконский, подъезжайте ко мне поближе.
Когда он подъехал, царь с приятной улыбкой сказал:
— Я очень доволен вашей бригадой. Азовский полк — из лучших полков моей армии, Днепровский немного поотстал, но видны и в нем следы ваших трудов. — И тут же, не меняя выражения лица, тем же вкрадчивым голосом добавил: — И, по-моему, гораздо для вас выгодней продолжать оные, а не заниматься управлением моей империи, в чем вы, извините меня, и толку не имеете.
Пораженный Волконский не нашелся, что ответить, а царь отвернулся, давая понять, что разговор окончен.
После смотра Волконский пошел к Киселеву.
— Ну, брат Сергей, — встретил тот его, — твои дела, кажется, хороши! Государь долго с тобой говорил.
— Но что говорил! — усмехнулся Волконский. — Он велел заниматься своими полками, а не управлением его империи. Вот и понимай как хочешь. Какая-то нелепая выходка.
Оба замолчали. Не глядя на собеседника, Киселев спросил:
— Что ты намерен делать?
— Подать в отставку! — ответил Волконский.
— Нет, это лишнее, — возразил Киселев, — лучше напиши ему письмо, постарайся оправдаться, проси беседы с глазу на глаз. Он поймет, что тебя оклеветали. И даже сделаем умнее: отдай мне это письмо, я при докладе вручу его государю.
На второй день маневров, в час дня, все войска расположились на отведенном для торжественного обеда поле; солдаты сидели за столами, образующими три стороны огромного квадрата, а на четвертой стороне красовался полукруглый павильон, где был накрыт стол человек на триста. Здесь и должны были обедать царь со свитой, генералы 2-й армии и офицеры, приглашенные к царскому столу.
Витгенштейн поднял тост за здоровье государя-императора. Солдаты и офицеры, уже сидевшие за столами, расставленными на поле, по сигналу образовали каре около павильона, грянул залп, заиграла музыка, прокатилось «ура». Царь, тронутый таким вниманием, прослезился.
Милостям и наградам не было конца. Царь щедрой рукой раздавал чины, ордена, аренды, в основном тем, кто этого не заслуживал. Когда же Киселев, в числе других ходатаев, просил его о смягчении участи разжалованных в солдаты офицеров, царь отказал.
Пестель и Волконский встретились на следующий день вечером. Волконский рассказал о приключившейся с ним истории.
— И вы написали письмо? — спросил Пестель.
— Написал, и Павел Дмитриевич отдал его, — ответил Волконский. — И знаете, что сказал ему царь: «Monsier Serge [18] меня не понял, я ему выразил, что пора, мол, сойти с дурного пути, но вижу, что он это уже сделал». Велел мне быть с почетным караулом, когда поедет через мою бригадную квартиру и там он меня успокоит.
— Однако все это очень странно, — задумчиво сказал Пестель. — Впрочем, я думаю, особенно опасаться нечего. Он слышал звон, да не знает, где он, тем более, что уверен, будто вами все брошено. А мне он пожаловал три тысячи десятин по моему выбору, в любой губернии, где есть порожние земли. Видите, как он снисходителен даже ко мне, а я знаю, что меня он очень недолюбливает.
Этим дело как будто и кончилось, если не считать, что царь, проезжая через бригадную квартиру Волконского, остался очень доволен почетным караулом, подозвал к себе командира и сказал ему: «То, что было, не стоит вспоминать, теперь я убедился, что ты принялся за дело».
Из Тульчина царь в сопровождении Киселева отправился в Вознесенск, где находился штаб военных поселений Новороссийского края. Там их ждал Аракчеев. Александр не преминул похвалить другу успехи 2-й армии.
Но, возможно, он отнесся к этому иначе, если бы узнал, кому Киселев обязан во многом успехами своей армии. Киселев буквально во всем советовался с Пестелем. Ни одно преобразование во 2-й армии не делал начальник штаба, не проконсультировавшись с командиром Вятского полка. Шла ли речь об артельных солдатских деньгах или «фрунтовой службе», об уставе лагерной службы или военно-судной части — всюду давали себя знать направляющие советы Пестеля. Киселев посылал Пестелю на заключение проекты различных комиссий и на основании его отзывов составлял рапорты Главному штабу. Знай все это Александр, он был бы неприятно поражен тем значением, которое приобрел во 2-й армии «бунтовщик» Пестель.
5
На традиционный съезд в Каменку 24 ноября, в день именин хозяйки, съехались все члены общества, бывшие в Киеве в начале 1823 года. Отсутствовал один Юшневский.
Жаркими спорами огласился кабинет Василия Давыдова. Пестелю, Волконскому и Давыдову снова пришлось убеждать пылких васильковцев. Сергей Муравьев опять потребовал немедленно начать подготовку к восстанию и именно здесь, на юге.
— Неужели мы в сотый раз должны обсуждать эти необдуманные проекты? — недовольно морщился Давыдов. — Пора понять по последним событиям в Испании, что испанские пронунсиаменто [19] в самой Испании ни к чему не приводят, а у нас подавно бесполезны будут. Неужели испанские события вас ничему не научили?
— Научили и очень многому, — возразил Муравьев. — Павел Иванович толково доказывал, что начинать должны в столице, Риэго же начал не в столице, Кирога поддержал его тоже весьма далеко от столицы, а переворот удался. Мы пока обсуждаем только возможность и, так сказать, удачливость переворота, а не его последствия. Что же касается последствий, то признаю, что Риэго сделал ошибку, не перебив своих Бурбонов, или уж, во всяком случае, ему не следовало вверять свою конституцию королю.
Последние слова Муравьева обрадовали Пестеля; раньше ему никак не удавалось добиться у руководителя Васильковской управы согласия на цареубийство.
— Я согласен с Сергеем Ивановичем: Риэго совершил роковую ошибку, — сказал Пестель. — Только прошу заметить, что Россия все-таки не Испания. Испанцы уже знали, что такое конституция, управлялись ею, хотя и не долго. Солдаты там отлично понимали, за что они воюют. А у нас?
Со своего места вскочил Бестужев.
— Солдат распропагандировать дело не сложное, — заявил он, — я берусь за это, и вы увидите…
— Спокойней, Мишель, — остановил его Пестель, — я еще не кончил. У нас можно поднять солдат за хорошего царя против плохого, но растолковать им, почему они должны идти воевать за конституцию против любого царя — дело посложнее. Конечно, можно и нужно им это растолковать, но именно поэтому я и настаиваю на уничтожении всей царской семьи, чтобы ни у кого не возникла мысль: не найдется ли среди Романовых хороший царь? Из подобных мыслей легко вспыхнет анархия, которая погубит все наше дело. Следует разграничить заговор и переворот: заговор должен быть в столице с целью убийства всех Романовых, переворот может быть совершен и в столице и у нас. Анархию мы не допустим, если сразу же после цареубийства провозгласим временное правление с правами диктаторскими.
— Стало быть, опять cohorte perdue, — заметил Муравьев. — Что же, во всем этом есть резон. Но остаюсь при своем мнении, что действовать надо скорей, время не ждет. Случай с князем Сергеем Григорьевичем, признаюсь, меня волнует. О нас знают наверху. Мы вот тут рассуждаем, а смотри, выйдем отсюда, и у дома уже ждут нас фельдъегерские тройки с жандармами… И прямо в Петербург.
— Авось бог милует, — сказал Давыдов и с сожалением добавил: — А все север… Им бы надо в десять раз живее действовать, чем нам.
— Там есть люди, — сказал Волконский, — но их следует организовать, и на севере будет, как и у нас.
— Знаете, — вставил Бестужев, — Петербург надо тревожить частыми набегами, — и сам рассмеялся удачной фразе. — Верно, господа, мы из своих половецких степей должны тревожить северную столицу беспрестанными набегами и побуждать их тем к действию.
— А ведь правильную мысль подал этот новоявленный хан половецкий, — подхватил Муравьев, — Следует снова кому-нибудь ехать в Петербург.
— На сей раз надо ехать Павлу Ивановичу, — горячо произнес Волконский. — Сейчас он нужен в Петербурге.
— Я уже подал рапорт с просьбой об отпуске, — ответил Пестель, — и думаю скоро поехать. Но вам, Сергей Григорьевич, я советовал бы ехать сейчас. Сообщите северянам заранее все, о чем мы здесь говорили и договорились. Вы дождетесь в Петербурге меня, и мы вместе будем вести переговоры.
6
Сам Пестель намеревался отправиться в столицу в конце декабря, но отпуска к этому времени не получил и письмом уведомил Волконского, что задерживается. Волконский решил, что Пестеля дожидаться не стоит, и поспешил обратно на юг. Он предполагал застать Пестеля в Киеве на съезде в январе 1824 года, но его там не оказалось: Пестель только открыл съезд и сразу же уехал обратно в Линцы. Председательствовал на съезде Юшневский.
Главным вопросом, обсуждавшимся на съезде, были сношения с польским обществом.
Год тому назад, в январе 1823 года Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин встретились в Киеве, в доме генерала Раевского, с поляком графом Ходкевичем. Они разговорились. Беседа коснулась тайных политических обществ, распространившихся последнее время повсюду. «Знаю, что и у вас таковое составилось», — сказал между прочим Ходкевич. Муравьев и Бестужев не сочли нужным скрывать свою принадлежность к такому обществу. Ходкевич, в свою очередь, признался, что сам является членом Польского патриотического общества, цель которого — борьба за восстановление независимой Польши. Он предложил наладить связь между польским и русским обществами. По его мнению, предварительно оба общества должны выделить представителей, которые и будут вести переговоры по этому вопросу.
«На контрактах» 1823 года Бестужев сделал сообщение о беседе с Ходкевичем и спросил полномочий для ведения переговоров с Польским обществом.
Сначала предложение Бестужева большинство встретило отрицательно: полякам не доверяли. Но в конце концов Муравьев и Бестужев убедили всех в необходимости установить связь с поляками, указывая на несомненные выгоды союза двух обществ. Васильковцы получили необходимые полномочия. Но наладить связь с поляками удалось не сразу. Только в январе 1824 года они встретились с представителем Польского общества полковником Крыжановским и договорились с ним о помощи, которую должно было оказать Польское общество русским заговорщикам в момент переворота. Было заключено предварительное соглашение: будущее русское революционное правительство предоставляло Польше независимость и отдавало ей области «не настолько обрусевшие, чтобы слиться душой» с Россией. В свою очередь, поляки обязывались поднять восстание в одно время с русскими, оказывать им всяческую помощь и в Польше установить такой же строй, какой будет установлен в России. Таковы были основные пункты соглашения.
Пестель был в курсе переговоров и одобрял их. Для него Бестужев-Рюмин составил обстоятельный «Доклад тайной директории о переговорах с Польским обществом», которым Пестель должен был руководствоваться, делая сообщение в Петербурге о сношениях Васильковской управы с поляками.
Одобряли результаты переговоров и остальные члены Южного общества. Юшневский обнял Бестужева-Рюмина и благодарил его от имени общества за успешные переговоры с поляками.
7
Пестель поехал в Петербург в феврале. В Киеве, по дороге на север, он встретился с Сергеем Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым. Целые сутки обсуждали они детали будущего совещания. Пестель говорил, что намерен употребить все средства, чтобы слить, наконец, воедино оба общества. Для этого он хотел предложить взаимное признание руководства Северного общества Южным и Южного Северным. Он предполагал, что основным препятствием для слияния обоих обществ будет его конституция. Но отказываться от нее он не думал.
Согласовав с васильковцами свои действия в Петербурге, Пестель уехал из Киева; 25 февраля он уже был в Васильеве, а в начале марта выехал из родительского имения и через несколько дней прибыл в Петербург.
Остановился он, по обычаю, у брата Владимира в Кавалергардских казармах.
На следующий день Пестель отправился к Матвею Муравьеву-Апостолу, жившему в то время в Петербурге и представлявшему южан при Северном обществе.
— Мы здесь собираемся довольно часто, — сказал Матвей Муравьев-Апостол. — В октябре было интересное совещание на квартире у Ивана Ивановича Пущина. Были Никита Муравьев, Тургенев, Поджио, Оболенский, Митьков и еще некоторые. Никита Михайлович объяснял свою конституцию и убеждал всех в необходимости ее принятия. Но это ему не удалось. Здешние члены сделали много критических замечаний, и ему придется еще раз ее переделать. Тогда же выбрали трех директоров общества: Никиту Муравьева, Трубецкого и Оболенского. Пущин предложил ввести в общество Рылеева, автора послания «К временщику». Рылеев, надо сказать, в полном революционном духе, и его нам следует иметь в виду. Все, конечно, согласились на его принятие. Месяца два тому назад на совещании у Митькова Рылеев читал «Любопытный разговор» и пенял Муравьеву, почему тот его не кончил; он сказал, что такими сочинениями удобней всего влиять на умы народа.
— Правильно, — заметил Пестель. — А что же Никита Михайлович?
— Отозвался недосугом и предложил Рылееву кончить начатое им. И Рылеев собирается написать сочинение «Катехизис свободного человека». По всему видно, что это будет посильнее «Любопытного разговора».
— Что ж, — сказал Пестель, — следует серьезно поговорить с Рылеевым и выяснить, на что он действительно способен. А сейчас едем к Повало-Швейковскому и от него к Оболенскому.
План Пестеля был таков: разведав ход дел в Северном обществе, беседовать отдельно с каждым из видных северян, стараясь «отклонить их друг от друга». Первым он выбрал Оболенского, считая его наиболее близким по духу к южанам. Далее, ведя переговоры с умеренными Никитой Муравьевым и Трубецким, — в их готовности принять его предложения он сильно сомневался, — попутно создать, опираясь на Оболенского и, может быть, Рылеева, группу более решительных северян, с помощью которой и заставить умеренных принять условия, выработанные на юге.
Полковник Повало-Швейковский приехал в Петербург с юга незадолго до Пестеля с письмами от Сергея Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина к Трубецкому, Никите Муравьеву и Тургеневу, в которых васильковцы предлагали соединить Южное и Северное общества. Но все трое северян, к которым обращались руководители Васильковской управы, сдержанно встретили Швейковского. Ссылаясь на скорый приезд Пестеля, они не пожелали вести с ним переговоры. Это и сообщил Швейковский Пестелю при встрече.
Встречались они впервые. Пестель знал, что Швейковский играет видную роль в Васильковской управе, и авторитетом его следовало воспользоваться. Никогда не упуская возможности сделать из члена общества своего приверженца, Пестель долго и пространно объяснял Швейковскому свою конституцию и весь ход дел Южного общества. В заключение он возвел Швейковского в степень «боярина».
Оболенский не обманул расчетов Пестеля. Он согласился с руководителем южан, что соединить оба общества необходимо. Он готов был согласиться даже на принятие пестелевской конституции.
Итак, первый шаг был сделан удачно.
Свидание с Никитой Муравьевым откладывалось на неопределенное время: он не отходил от постели тяжело больной жены. Но с Трубецким Пестель встретился на следующий день после беседы с Оболенским.
В разговоре с Пестелем Трубецкой колебался: он то соглашался с Пестелем, то отвергал его предложения, то был за временное правление, то против него.
Но для Пестеля не было тайной, что Трубецкой был одним из самых убежденных противников его конституции. Он настойчиво внушал северянам, что нужно опасаться «тульчинского Наполеона».
Теперь, прежде чем встречаться с другими членами Северного общества, Пестель решил увидеться с Рылеевым. В нем он надеялся встретить второго Оболенского.
Со слов Матвея Муравьева-Апостола, Пестель хорошо представлял себе Рылеева и то, какое большое влияние он может иметь в дальнейшем на ход дел в обществе. Заручиться его поддержкой было очень важно.
8
Рылеев жил на 16-й линии Васильевского острова в небольшом деревянном доме, окруженном садом с чисто выметенными дорожками.
— Воистину тихое обиталище поэта! — шутливо заметил Пестель, оглядывая скромный рылеевский кабинет с окнами, выходящими в сад. Рылеев улыбнулся краем губ и ничего не ответил, темные глаза его смотрели испытующе.
Что-то настораживало Рылеева в этом невысоком брюнете с быстрым взглядом красивых глаз, всем своим обликом удивительно напоминавшем Наполеона. «Если он также внутренне похож на Наполеона, как и внешне, то с ним надо держать ухо востро», — подумал Рылеев.
Заметив внимательный взгляд хозяина, Пестель рассмеялся.
— Держу пари, Кондратий Федорович, — сказал он, — что знаю, о чем вы сейчас думаете: сознайтесь, что Трубецкой расписал меня опасным честолюбцем, метящим в Бонапарты. — И, помолчав, серьезно добавил: — Оправдываться не стану, давайте говорить о деле, решайте сами, насколько прав Трубецкой.
Искренний тон гостя не разоружил Рылеева; он много слышал о Пестеле и почти всегда в том духе, в котором он сам сейчас говорил. Но беседа с глазу на глаз с одним из самых видных вождей заговорщиков очень интересовала Рылеева и немножко льстила: видно, Пестель ценил его, если счел нужным беседовать наедине с ним, только недавно принятым в тайное общество.
Пестель решил, не раскрывая своих карт, вызвать Рылеева на откровенность. Выяснить политические взгляды поэта было необходимо, прежде чем предлагать ему сотрудничество.
Начали они разговор о разных формах правления.
— Я лично имею душевное предпочтение к устройству Северо-Американской республики, — сказал Рылеев. — Тамошний образ правления есть самый приличный и удобный для России.
— Что ж, не могу с вами не, согласиться, — заметил Пестель.
— Но Россия к сему образу правления еще не готова, — с убеждением продолжал Рылеев, — вводить республику рано.
Он ожидал возражений и готов был к спору. Но спорить Пестель не собирался.
— И с этим я согласен, — ответил Пестель. — Учитывая опыт американский, не следует забывать другие хорошие примеры. Взять хотя бы Англию. Прямо можно сказать, что ее государственному уставу англичане обязаны своим богатством, славой и могуществом.
Рылеев поморщился.
— Ну нет, конституция английская давно устарела, — сказал он. — Теперешнее просвещение народов требует большей свободы и совершенства в управлении.
Не понимая податливости Пестеля, Рылеев говорил уже с некоторым раздражением:
— Да что там! Английская конституция имеет множество пороков и обольщает только слепую чернь, лордов, купцов…
— Да близоруких англоманов, — подхватил Пестель.
Рылеев замолчал, он совершенно потерялся от странной готовности собеседника соглашаться со всем.
Пестель сидел в непринужденной позе и смотрел прямо на Рылеева, глаза его смеялись.
«Ясно. Он хочет выведать мои намерения, — подумал Рылеев. — Ну что ж, в добрый час». Эта догадка его успокоила.
— Да, да, конечно, — заметил он и выжидающе посмотрел на Пестеля.
— Как бы то ни было, — начал Пестель, — а любую конституцию можно начать с благородных слов конституции испанской: «Нация не есть и не может быть наследием никакой фамилии и никакого лица, она обладает верховной властью. Ей исключительно принадлежит право устанавливать основные законы».
Пестель увлекся, он читал на память статьи испанской конституции о свободе печати, о всеобщем обязательном обучении, о равенстве перед судом и тут же говорил, что и каким образом надо будет ввести в России.
«Черт побери, его заслушаешься! — с невольным восхищением подумал Рылеев. — Он сухие статьи читает, как вдохновенную поэму».
Пестель заговорил о Риэго, о роли вождя в революции, потом перешел к Наполеону.
Рылеев насторожился.
Перед Наполеоном Пестель не скрывал своего восхищения.
— Вот истинно великий человек! — говорил он. — По моему мнению, если уж иметь деспота, то иметь Наполеона. Как он возвысил Францию! Сколько создал новых фортун! Он отличал не знатность, а дарования. Я преклоняюсь перед ним. Русский Наполеон мог бы…
— Сохрани нас бог от Наполеона! — резко перебил его Рылеев. Он встал и взволнованно прошелся по комнате. «Вот, наконец, сам раскрылся, — думал Рылеев. — Все-таки правы были Трубецкой и Муравьев: он метит в Бонапарты».
Рылеев остановился и, глядя в упор на Пестеля, многозначительно произнес:
— Да, впрочем, этого и опасаться нечего. В наше время даже и честолюбец, если только он благоразумен, пожелает лучше быть Вашингтоном, чем Наполеоном.
Пестель понял, что увлекся, но с твердостью ответил:
— Разумеется! Я только хотел сказать, что не должно опасаться честолюбивых замыслов. Если кто и воспользуется нашим переворотом, то ему должно быть вторым Наполеоном; и в таком случае мы не останемся в проигрыше.
И тут же перевел разговор:
— Скажите же, какое вы предпочитаете правление для России в теперешнее время?
— Мне кажется удобнейшим для России, — ответил Рылеев, — областное правление Северо-Американской республики при императоре, которого власть не должна много превосходить власти президента Штатов.
Пестель на минуту задумался.
— Это счастливая мысль! — сказал он. — Об этом надо хорошенько подумать!
— Хоть я убежден, что это наилучшее, что может быть, — строго заметил Рылеев, — но покорюсь большинству голосов членов общества. Устав, который будет принят нами, должен быть представлен великому Народному собранию как проект и отнюдь не следует вводить его насильно.
— Ну уж нет, — возразил Пестель, — стоит ли хлопотать из-за одного проекта? Где гарантии, что проект будет принят? А может быть, большинство Народного собрания выскажется за самодержавие? Нет и еще раз нет! Справедливо и необходимо поддержать одобренный обществом устав всеми возможными мерами; или уж по крайней мере стараться, чтобы в народные представители попало как можно больше наших.
— Это совсем другое дело, — ответил Рылеев. — Безрассудно было бы о том не хлопотать, ибо этим сохранится законность и свобода принятия государственного устава.
— Как же вы, такой противник насилий, думаете влиять на народ? — с заметной иронией спросил Пестель. — Уговорами? И вы полагаете, что противники ваши тоже ограничатся словами?
— Я не враг насилия только потому, что оно насилие, — пылко ответил Рылеев, задетый тоном Пестеля. — Больше скажу: я за истребление всей царской фамилии, а не одного только царя, тогда все партии поневоле объединятся или по крайней мере легче их будет успокоить. Но навязывать свою волю Народному собранию то же насилие, что и при самодержавии.
— В этом мы с вами не сойдемся, — ответил Пестель, — но то, что вы за истребление всей царской фамилии, меня радует. Хоть этим вы разнитесь от Трубецкого и тех, кто с ним.
И он стал развивать перед Рылеевым свой план переворота и установления нового строя. Рылеев слушал внимательно. Потом Пестель перешел на свою излюбленную тему — толкование конституции и разделение земли. Но он не счел возможным быть до конца откровенным и соглашался с рылеевским пониманием планов землеустройства.
Обсуждением земельного вопроса и кончилась двухчасовая беседа Пестеля и Рылеева. Пестель уходил с сознанием, что его основная цель не достигнута. В чем-то они понимали друг друга, но многие важные вопросы решались ими различно. Пестель ясно ощущал настороженность Рылеева по отношению к себе, понимал, что тот подозревает его в честолюбивых замыслах, и в этом находил главную причину, мешавшую им столковаться.
Пестель произвел на Рылеева большое впечатление. Рылеев отдавал должное его уму, твердости занятой им позиции. Стремление Пестеля слить воедино Северное и Южное общества Рылеев понимал и одобрял.
Вскоре после их встречи на квартире у Рылеева собралось совещание, на котором присутствовали Трубецкой, Тургенев, Митьков, Оболенский, Пущин и Матвей Муравьев-Апостол. На этом совещании Трубецкой старался доказать, что объединение обществ невозможно из-за кардинального различия Конституций.
— В этом находить препятствие есть знак самолюбия, — возразил Рылеев. — По моему мнению, мы вправе только разрушить то правление, которое почитаем неудобным для своего отечества. Конституция, принятая большинством голосов членов обоих обществ, должна быть представлена Народному собранию как проект.
Мнение Рылеева возобладало.
Рассказывая Пестелю о совещании у Рылеева, Матвей Муравьев-Апостол сообщил, что на нем было решено объединить оба общества.
— Ну, слава богу! — облегченно вздохнул Пестель, узнав о решении.
— Но знаете почему? — продолжал Матвей Муравьев-Апостол. — Потому что, мол, вы человек опасный для России и для видов общества и вас нельзя выпускать из виду и надо знать все ваши движения. Потому-то объединение обществ необходимо. Предложил это Рылеев после того, как Трубецкой рассказал о своем разговоре с вами относительно временного правления.
Пестель криво усмехнулся, хотел что-то сказать, но махнул рукой и промолчал.
9
Трубецкой подробно осведомлял Никиту. Муравьева обо всем происходящем. Рассказы Трубецкого были несколько тенденциозны, и потому, когда Пестель пришел к Никите Муравьеву, тот встретил его холодно.
Авторы конституций, естественно, начали разговор с обсуждения своих работ. Никита Муравьев сказал, что намерен после окончания своего труда стараться всюду его распространять, не выставляя, конечно, своего имени, и вербовать таким образом сторонников.
— Потому что, — объяснял он, — мы можем достичь нашей цели посредством одного только общего мнения.
Снова, в который уже раз, Пестель заговорил о необходимости начать с истребления царской фамилии и провозглашения диктатуры временного правления и потом уже постепенно вводить новые порядки. Никита Муравьев ответил, что считает план Пестеля варварским и противным нравственности. Предлагавший когда-то цареубийство, Никита Муравьев соглашался теперь на введении республики только в случае, если царская семья не примет конституции, по и тогда Романовых следовало лишь спокойно выпроводить за границу. Говоря о конституции Пестеля, он особенно оспаривал избирательную систему и проект разделения земли, то есть самые важные ее положения.
На заседании Северной думы, вскоре после своего разговора с Пестелем, Никита Муравьев предложил потребовать от вождя южан подробного изложения программы Южного общества. Он предлагал, изучив программу, взять из нее и из обеих конституций все полезное, составить из всего этого третью конституцию и предложить ее Южному обществу, А потом уже говорить о слиянии обществ. Дума согласилась с предложением Муравьева.
Решение думы было вынесено на утверждение членов общества. Трое директоров, а также Митьков, Рылеев и Нарышкин собрались на квартире Тургенева обсуждать предложения Никиты Муравьева.
Не все одобряли то, что слияние обществ откладывалось, и больше всего был этим недоволен Рылеев. Но Никита Муравьев упорно отстаивал свою точку зрения.
— Нельзя слить два общества, — доказывал он, — отделенные таким большим расстоянием и притом разделенные мнением. Тем более что у нас всякий имеет свое мнение, а на юге, сколько известно, нет никакого противоречия мнениям Пестеля. При слиянии обществ большинство голосов всегда было бы выражением одной его воли. Никогда не соглашусь слепо повиноваться большинству голосов, когда решение их будет противно моей совести и уж, во всяком случае, предоставляю себе право выйти из общества.
Доводы Никиты Муравьева подействовали, и северяне единодушно решили требовать от Пестеля представления конституции, плана действий и согласия на образование особого комитета для их рассмотрения. А до окончательного решения постановлено было объединение обществ отложить.
Но, узнав об этом, Пестель не сдался. Он снова попытался убедить директоров согласиться на немедленное объединение. Он даже имел смелость доказывать необходимость введения в объединенном обществе строгой дисциплины, основанной на безусловном подчинении руководителям. Все было бесполезно.
10
Через несколько дней на квартире Оболенского состоялось совещание с участием Пестеля.
Руководители Северного общества, недовольные упорством Пестеля, горячились, он же, наоборот, держался хладнокровно.
Много толков было вокруг польского вопроса.
Но больше всего спорили об устройстве общества.
— Не требую я от северных членов слепого повиновения одному директору, — говорил Пестель, — а предлагаю составить одну общую Директорию. Тем более, что на юге есть уже два директора. Как же я могу предлагать одного?
— Южные директора назначены непременные, а северные на три года, — ответил Никита Муравьев. — Вот по истечении трех лет можно будет приступить к составлению одной общей Директории.
— Слепого повиновения я не требую, — продолжал Пестель развивать свою мысль, — но говорю только, что надобно единство в действии и порядок в обществе. Я же, не кривя душой, признаюсь, что после революции вообще удалюсь от света.
Трубецкой, насмешливо улыбаясь, заметил:
— Будет ли это, увидим, а пока мы воздержимся от ваших предложений.
Хладнокровие Пестеля как рукой сняло. Он встал и с силой стукнул кулаком по столу.
— Так будет же республика! — крикнул он и, глядя в упор на Трубецкого, прерывающимся от гнева голосом бросил: — Стыдно будет тому, кто не доверяет другому и предполагает в другом личные какие-то виды, когда таковых видов нет! — И вышел из комнаты.
Вспышка Пестеля произвела впечатление. Директора Северного общества почувствовали, что перестарались в своих противодействиях. Встала угроза полного разрыва. Ни Трубецкой, ни Никита Муравьев, ни тем более Оболенский этого не желали.
Пестель еще несколько раз встречался с Оболенским и Трубецким. Последний стал податливее, и они договорились, помогая друг другу, действовать заодно; хотя общества формально не были объединены, обязались «принимать взаимно приезжающих членов, как членов одного общества». Договорились и о том, что если одно из обществ в результате сложившихся обстоятельств должно будет выступить немедленно, то другое общество обязано его поддержать. Формальное же объединение обществ Пестель согласился отложить до 1826 года. В этом году представители севера и юга должны были собраться и решить вопрос объединения, утвердив общую программу действий. Решено было, что Пестель пришлет в Петербург свой конституционный проект и рассуждение «О способах предполагаемых к начатию решительных действий». В свою очередь, северяне тоже разработают конституционный проект и программу действий, а потом, на основе обеих программ и проектов, выработают третью конституцию и общую программу обоих обществ, которые будут посланы на юг. С коррективами Пестеля конституция и программа поступят на рассмотрение объединительного съезда.
Соглашение директоров Северной думы с Пестелем было утверждено на общем собрании всего Северного общества большинством голосов.
11
Однажды Пестель рассказал Матвею Муравьеву-Апостолу, что у него был Федор Вадковский, кавалергардский офицер, один из двух принятых в общество Барятинским в 1823 году.
— Горячая голова, — говорил Пестель, — и рвется к делу, жалуется, что в Петербурге Трубецкой и прочие не дают ему развернуться. Пришел ко мне в надежде получить больше доверия и прав.
Идею создания на севере отрасли Южного общества теперь легко было претворить в жизнь. Вадковский со времени своего вступления в общество привлек к нему троих товарищей-кавалергардов: поручика Анненкова и корнетов Свистунова и Депрерадовича.
На квартире Свистунова было назначено собрание новой ячейки. Всего собралось семь человек. Пестель, Матвей Муравьев, Вадковский, Поливанов (принятый еще Барятинским), Свистунов, Депрерадович и Анненков. Вадковский представил Пестелю четырех кавалергардских офицеров, потом Свистунов пригласил всех занять места за столом и предоставил слово главе Южного общества.
Прежде всего Пестель спросил, согласны ли кавалергарды участвовать в обществе, стремящемся к установлению нового строя в России. Все ответили утвердительно. После этого он в пространной речи изложил свою программу, доказывал необходимость республики и призывал вновь принятых членов «жертвовать своею кровью и не щадить ту, которую обществом повелено будет проливать» во имя новой России. Слова Пестеля были приняты восторженно. Тогда он принялся излагать основы своего конституционного проекта, конспект которого он специально приготовил для этого случая.
Увлеченные яркой речью Пестеля, кавалергарды с готовностью согласились и с диктатурой временного правления и с разделением земли. Наконец, когда Пестель намекнул о путях революционного переворота, осторожно дав понять, что «святейших особ августейшего дома не будет», они и с этим согласились.
После заседания был ужин. Один за другим поднимались тосты за успех общего дела, за здоровье Пестеля и всех членов общества.
Второе и последнее собрание петербургской ячейки Южного общества совместно с Пестелем состоялось на квартире Вадковского. Здесь Пестель возвел Вадковского и Свистунова в степень «бояр» и поручил им возглавить всю группу. Матвей Муравьев-Апостол должен был поддерживать связь с ними и с Тульчиным, ему же Пестель оставил краткое изложение своей конституции специально для петербургской ячейки.
Пестель не переоценивал силы молодых кавалергардов. Он понимал, что их готовность следовать за ним в известной степени результат увлечения. Неопытным энтузиастам необходимо было твердое руководство или самого Пестеля, или подобного ему человека. Только тогда они могли идти правильным путем. Матвей Муравьев-Апостол, по мысли Пестеля, должен был быть таким руководителем, но, как оказалось впоследствии, для этой роли он совершенно не подходил.
Один раз только Матвей Муравьев активно проявил себя. Весной 1824 года, еще до отъезда Пестеля из Петербурга, с юга пришло известие об аресте Сергея Муравьева. Матвей был в отчаянии. Чтобы отомстить за любимого брата, он решил немедленно организовать покушение на царя. Пестель одобрил его план, полагая, что арест Сергея Муравьева означает разгром Южного общества и терять времени нельзя. Поддержали Матвея Муравьева Свистунов и Вадковский. Особенно близко принял к сердцу идею покушения на царя увлекающийся Вадковский. Он предложил устроить покушение во время бала в Белом зале Зимнего дворца и, перебив Романовых, тут же на глазах потрясенных придворных провозгласить республику. Слух об аресте Сергея Муравьева оказался ложным, замысел Матвея Муравьева и Вадковского расстроился, но сама идея покушения на царя захватила Вадковского. Он вызвался произвести покушение на Елагином острове, причем собирался убить царя во время прогулки из духового ружья.
Этот план обсуждался уже после отъезда Пестеля и претворен в жизнь не был: Матвей Муравьев его не поддержал.
Руководители ячейки Южного общества Вадковский и Свистунов не ограничивались одними планами цареубийства, они деятельно вербовали новых членов. Были приняты в общество несколько кавалергардских офицеров и среди них один из старших офицеров полка, полковник Кологривов. Вербовали сторонников и не только среди кавалергардов. В числе членов ячейки были приняты конногвардейцы Плещеев и князь Суворов — внук знаменитого полководца, поручик Финляндского полка Добринский и поручик Измайловского полка Гангеблов.
Организацией ячейки Южного общества и закончилась деятельность Пестеля в Петербурге. В апреле 1824 года он выехал из столицы. Оставшееся время отпуска он намеревался провести у родных в Васильеве.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ПЛАНЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Меня называют Сиэсом, а я стремлюсь только быть таким же бескорыстным, как Вашингтон.
П. Пестель1
орога только что установилась: местами подсохла, местами — по лесу — еще звенела, скованная ночными заморозками. Но весна уже торжествовала. Черные поля сверкали светлой озимью и клочками последнего померкшего снега. Воздух пах талой водой.
Пестель снял фуражку, распахнул свой старый длиннополый армейский сюртук с почерневшими эполетами и полной грудью вдыхал опьяняющую весеннюю свежесть.
— Гони, гони! — торопил он сидевшего на облучке крепостного слугу Ивана, камердинера и кучера одновременно.
— И то, Павел Иванович, гоню! — весело отвечал Иван. — Чай, в родной дом едем!
В родной дом… Впереди, на горизонте, показались курганы. За ними — Васильево. Нахлынули воспоминания, и прежде всего вспомнилось уже полузабытое детское чувство: дом — это спасение от всех горестей; дома пожалеют, обласкают, защитят…
Иван Борисович Пестель только в 1819 году получил окончательную отставку и с тех пор поселился в деревне. Он, Елизавета Ивановна и их четырнадцатилетняя дочь Софи жили в Васильеве круглый год.
Дела Ивана Борисовича были плохи.
После выхода в отставку, чтобы расплатиться с долгами, ему приходилось жестоко экономить во всем, начиная с одежды и кончая свечами.
Жизнь в Васильеве была скупая и невеселая. Много огорчений доставляли Ивану Борисовичу застрявшие в продвижении по службе младшие сыновья, которые, вырвавшись из-под отцовской опеки, часто просто забывали про стариков.
В однообразном скучном Васильевском уединении один Павел радовал отца и мать подарками, нежными письмами; он брал на себя заботы по устройству братьев.
Каждый приезд Павла в Васильево был праздником для стариков. Павел — один свет в окошке, ему отдавалась вся любовь, которой так не дорожили его братья, и эта любовь порой тяжелым грузом ложилась на плечи Павла. Но, заботясь только о том, чтобы не огорчать родных, он молчал.
Пестель с головой окунулся в нехитрые деревенские дела и подробности быта, словно не было позади Петербурга, словно впереди не ожидала его трудная борьба.
Ожил, пробудился запущенный господский дом: что-то начали чинить, что-то переделывать. Павел заходил на конюшню и в сад, ездил на поля и с жаром обсуждал вопрос о перестановке шкафа или стола.
Иногда Павел уходил к пруду, садился на берегу против зеленого островка и бездумно следил за тем, как по отмели в пронизанной солнцем воде снуют серебристые стаи мальков, деловито проплывают матовые жуки, а над ними по поверхности воды бегают водяные пауки.
А вечерами в уютной, милой с детства гостиной, когда за окнами стоит белесая ночная полутьма, опускались шторы, и при свечах начинался неторопливый разговор.
Иван Борисович рано уходил спать, и Павел, оставшись с матерью и сестрой, любил, мечтая, развивать грандиозные и фантастические планы всеобщего благоденствия. Порой он читал вслух, а то садился за рояль и играл меланхолические этюды и фантазии…
Павел не скрывал от матери своих чувств и не боялся показаться сентиментальным.
— Я так соскучился по дому, по вас и сейчас отдыхаю всей душой, — сказал он однажды.
Елизавета Ивановна положила свою руку на руку сына и, тихо пожимая ее, произнесла со значительной улыбкой:
— Тебе надо жениться, мой старый холостяк. Вот Альбединский, он твой ровесник, а уже семь лет как женат. Подумай об этом и решись, потому что тебе уже тридцать лет.
— Женись, братец, — серьезно поддержала мать Софи, внимательно прислушиваясь к разговору, и смущенно покраснела.
Павел ласково обнял сестру.
— У меня нет средств, чтобы обеспечить семью, — задумчиво сказал он. — А жениться на каком-нибудь уроде, только из-за того, что невеста с деньгами…
— Нет, нет, — перебила сына Елизавета Ивановна. — Но неужели у вас, в ваших краях, нет молодой прелестной женщины, которая принесла бы тебе счастье и… — Елизавета Ивановна вздохнула и твердо добавила: — И деньги.
— Нет, мама, такой редкости нет.
Кончался отпуск, и Пестель заговорил о скором отъезде.
— Конечно, служба прежде всего, — сказал ему отец, — но было бы очень хорошо, если бы в этом году ты провел пятнадцатое июля с нами.
— Да, — подумав немного, ответил Павел, — я смогу остаться до пятнадцатого июля.
15 июля — торжественный день в доме Пестелей. В этот день отмечали сразу три семейных праздника: годовщину свадьбы Ивана Борисовича и Елизаветы Ивановны, день рождения Софьи и именины Владимира.
В этот день к обеду приехали гости — несколько соседей-помещиков с семьями. Общество за обеденным столом было невелико: хозяева и всего девять человек гостей. Большего Иван Борисович себе позволить не мог.
Но зато на лугу, за домом, он устроил настоящее празднество для «людей». Там за длинными, наскоро сколоченными из досок столами пировали васильевские крестьяне — мужики, бабы, ребятишки: со всего уезда в надежде на обильное даровое угощение в Васильево собрались нищие и калеки, знающие наперечет все семейные праздники всех местных помещиков. Около трехсот человек ели досыта тяжелые простые кушанья и пили вволю дешевую водку.
Павел Иванович побыл дома, но как скоро были соблюдены приличия, ушел на луг.
Там плясали под рожок и балалайку. Большой хоровод, уже потерявший первоначальную стройность, разорвали несколько окутанных пылью, пустившихся вприсядку отчаянных плясунов.
Павел вошел в круг.
— Давайте я вас научу танцевать.
— Давай, барин.
Пестель вывел из толпы на середину круга смущенную девушку и крикнул балалаечнику:
— Играй вальс! А вы все становитесь парами и делайте так, как я. Начали!
Но среди этого, казалось, бурного веселья Павел вдруг увидел на лицах крестьян следы тяжелой усталости и тоскливые глаза ребят, говорившие о далеко не радостном детстве…
Павел отошел от толпы и медленно направился к дому.
На следующий же день Павел начал собираться к отъезду.
— Прошу тебя, мой добрый друг, оказать мне любезность, — говорила Елизавета Ивановна, собирая сына. — Я слышала, что в Киеве бисер очень хорош и недорог. Пришли мне небольшое количество. Только надо выбирать его очень ровный, мелкий и с отверстиями, достаточными для того, чтоб его можно было хорошо нанизывать. И надо, чтоб оттенки цвета были хорошо подобраны и чтоб они были разнообразного зеленого цвета: бледного, желтоватого, чисто-зеленого, прозрачные и матовые. Ты мне сделаешь это удовольствие, не правда ли?
— Конечно, маменька… обязательно пришлю… — рассеянно ответил Пестель.
От матери не укрылась задумчивость сына.
— Что с тобою? — спросила Павла Елизавета Ивановна.
— Маменька, — сказал Павел, — я хочу дать вольную Ивану… за его верную службу.
— Но ведь другие наши люди служили так же хорошо, если не лучше твоего Ивана, — недовольно ответила Елизавета Ивановна. — Кроме того, этот акт может создать недовольных между нашими людьми.
Павел молчал. Иван был крепостным Елизаветы Ивановны.
— Ну ладно, — немного погодя продолжала Елизавета Ивановна. — Если ты так хочешь, а я ни в чем не могу тебе отказать: я дам ему вольную.
Пестель поцеловал руку матери.
У крыльца стояла набитая чемоданами и пакетами коляска. Пестель уже в дорожной одежде прощался с родными. В самый последний миг вдруг стеснилось сердце, но он улыбался, видя в глазах матери вот-вот готовые брызнуть слезы.
— Маменька, ждите бисер. Я обязательно пришлю, какого нужно: мелкого, ровного и всех оттенков!
Отдохнувшие лошади взяли с места рысью.
— Осторожней! — крикнула Елизавета Ивановна.
Павел Иванович махнул рукой, и коляска покатилась вниз по косогору, поднимая пыль и подпрыгивая на рытвинах.
2
Уже далеко — за холмами и лесами — осталось Васильево. Коляска катилась по мягкой дорожной пыли среди бескрайной солнечной степи. Лениво бежали лошади, и Пестель не торопил разомлевшего от жары Ивана. Вокруг — степь. Редко попадались встречные.
Пестель шаг за шагом воскрешал в памяти все, что было в Петербурге, вспоминал возражения северян и свои ответы. Он выдержал бой, но борьба оказалась труднее, чем он предполагал, и результаты переговоров не так успешны.
«Но, черт возьми, мы еще повоюем! — думал Пестель, с улыбкой вспоминая, как трудно поддавались, но все-таки поддавались на его убеждения руководители северян. — Только надо быть тверже и, главное, верить в свою правоту».
По пути в Тульчин Пестель на два дня остановился в Белой Церкви у Сергея Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина.
Те уже имели известия о петербургском совещании. В Петербурге еще шло совещание, когда Швейковский привез Сергею Муравьеву письмо от Трубецкого. В письме описывалось, как «бредит» Пестель в Петербурге, и спрашивалось, почему Муравьев, зная хорошо Пестеля, поддерживает с ним связь. Трубецкой боялся писать открыто и преподнес свое сообщение «в виде трагедии, которую читал… общий знакомый и в которой все лица имеют ужасные роли».
Пестель рассказывал друзьям о той борьбе, которая происходила на совещании.
— Мы должны бороться, и — я верю — мы убедим северян, — закончил Пестель свой рассказ.
— Да, — отозвался Сергей Муравьев, — однако многие с нетерпением ожидают скорого начала действий, и всякая отсрочка охлаждает их. Я прошу вас в разговоре с членами Васильковской управы приложить больше жару и говорить о начале действия в 1825 году.
— Так будет лучше, — согласился Пестель. — Членам нашего общества необходима вера в свои силы и в успех, а долгое ожидание не способствует этому.
Давыдову, Поджио, Волконскому, Лореру и другим членам Южного общества Пестель рассказал о петербургском совещании в том плане, что «хотя в сношениях своих с северными членами он и встретил много сопротивления, но, наконец, все-таки успел согласить их на все- свои предложения».
3
Итак, надо было готовиться к объединительному съезду.
С разными настроениями принимались за работу оба автора конституций: Никите Муравьеву приходилось отступать, Пестель твердо решил наступать.
Критика, которую встретили аристократические положения конституции Муравьева, заставила его несколько пересмотреть свои взгляды. Пестель, который, хотя и не добился принятия своей конституции и согласился с отсрочкой объединения, готовился дать горячий бой и в ходе подготовки и на самом съезде 1826 года. Он чувствовал за собой поддержку юга, отлично понимал разницу между своим проектом, ставшим программой целого общества, и проектом Никиты Муравьева, не нашедшего одобрения даже в среде единомышленников. Пестель верил, что твердость и последовательность занятой им позиции в конце концов приведут его к победе.
Заглавный лист «Русской Правды».
Уступки, сделанные Муравьевым в новом варианте своей конституции, были не велики, но примечательны. Так, если раньше Муравьев полагал, что крестьяне должны вознаграждать помещиков за свой уход с их земли, то теперь это положение Муравьев вычеркнул, хотя оставил пункт, гласивший, что «земли помещиков остаются за ними». По новому варианту конституции для того, чтобы пользоваться гражданскими правами, не требовалось имущественного ценза, хотя он оставался в силе при выборах на различные государственные должности. К прежним свободам Муравьев прибавил свободу «всякого рода обществ и товариществ», а также давалось право каждому «в отправлении богослужения по совести и чувствам своим». Это были самые существенные поправки, которые внес Муравьев в новый вариант своей конституции, все остальное в основе своей оставалось нетронутым.
На эту скромность в поправках северяне реагировали отрицательно, ведь власть в будущей России по-прежнему оставалась в руках богатых. «Почему богатства только определяют достоинство правителей? — спрашивал член Северного общества Владимир Штейнгель. — Это несогласно с законами нравственными». «Как предупредить, чтобы купец или мужик с большим богатством не вошел в сонм верховных судей, — писал северянин Константин Торсон, — тогда как умнейшему, опытнейшему и поседевшему в государственных делах человеку дверь в палату останется закрытой потому только, что он не имеет достаточно для сего капитала?»
Свои критические суждения, кроме Штейнгеля и Торсона, высказали Рылеев, Пущин, Николай Бестужев, Оболенский и Кашкин. Сосредоточие власти в руках богатых было основным пунктом их возражений. Никита Муравьев снова сел за переработку своей, конституции.
«Русская Правда или заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования государственного устройства России и содержащая верный наказ как для народа, так и для временного верховного правления»— так озаглавил Пестель новый вариант своей конституции, над которым начал работать еще во время совещания 1824 года.
«Русской Правдой» он назвал ее в память сборника древнерусского права, полагая, что такое название программного документа революции подчеркивает национальный характер революции.
Конституции Пестель предпослал обширное введение, где рассуждал о человеческом обществе, о государстве, об отношениях правительства и народа. Здесь же объяснялось, что такое государственное благоденствие, почему Россия нуждается в преобразовании и доказывалась необходимость «Русской Правды» и временного верховного правления.
Необходимость последнего, по мнению Пестеля, диктовалась тем, что «народы, возмечтавшие о возможности внезапных действий и отвергнувшие постепенность в ходе государственного преобразования, впали в ужаснейшие бедствия и вновь покорены игу самовластия и беззакония». Постепенность такого преобразования и должна осуществляться временным верховным правлением, именно им, а не «представительным собором», потому что «начала представительного верховного порядка в России еще не существует». Как гарантия того, что временное верховное правление «будет действовать для одного только блага России», и составляется «Русская Правда».
Нельзя было допустить внезапный переход к новым формам правления и объявить сразу широкие гражданские свободы — это представляло бы обширное поле деятельности для контрреволюционных и авантюристических элементов: русский народ не привык к представительному правлению — его надо подготовить к нему революционной диктатурой временного верховного правления — такова мысль Пестеля.
Пестель решительно демократизировал новый вариант своей конституции, объявив, что крестьяне становятся сразу по установлению республики свободными и юридически и экономически, переходный период в десять-пятнадцать лет уничтожался.
Совершенно ликвидировался сословный строй: дворянство теперь ни под каким видом не должно было существовать, и «члены оного поступают в общий состав российского гражданства». Даже существование сословия «Отличных граждан» как чего-то «отдельного от общей массы народного сословия» кажется Пестелю пагубным. «Вряд ли, — рассуждал он, — это новое дворянство долго будет удовлетворяться одним наслаждением самолюбия». Пестель не верил дворянству, даже лучшим его представителям. Риторическим вопросом: «Чего не делали древние козни дворянские?» — заканчивает Пестель свое рассуждение о политической роли дворянства.
Но, ликвидировав дворянство политически, дворянский революционер Пестель не решился его ликвидировать экономически. На уничтожение помещичьего землевладения он не пошел. Так же как и в первом варианте конституции, в «Русской Правде» земля в стране делилась на две части — в казенной ее половине оставались помещичьи имения. Правда, они не должны были превышать пяти тысяч десятин. У тех, кто владеет более десяти тысяч десятин, безвозмездно отбирается половина и отходит в общественную часть; у тех, кто имеет до пяти тысяч десятин, половина земли тоже отбирается, но за это помещик получает денежное вознаграждение или ему предоставляется в другом месте земля, равная по размерам отобранной.
Дворянская ограниченность Пестеля сказалась еще в одном положении «Русской Правды»: национальный вопрос решался им шовинистически. В «Русской Правде» говорилось, что все племена, населяющие Россию, должны слиться в один русский народ, всякие претензии на самостоятельность должны сурово караться. В частности, правительство российской республики должно было продолжать завоевание Кавказа и, завоевав его, непокорные кавказские племена «с силой переселить во внутренность России, раздробив их малым количеством по всем русским волостям».
Несмотря на всю эту ограниченность, «Русская Правда» — крупнейший вклад в золотой фонд русской революционной литературы. После Радищева никто не восставал так решительно против «разъяренного зловластием» самодержавия, как это сделал Пестель, нигде не выдвигались такие радикальные требования уничтожения феодально-крепостнических порядков, как в «Русской Правде». Решение Пестелем земельного вопроса опережало современную ему эпоху на много десятилетий и было бесконечно прогрессивнее куцой реформы 1861 года. В этом огромное прогрессивное значение «Русской Правды» — программного документа декабристов.
4
В октябре 1824 года в свое полтавское имение Хомутец из Петербурга вернулся Матвей Муравьев-Апостол. Пестель послал к нему своего нового друга майора Вятского полка Николая Ивановича Лорера.
Лорер был недавним членом общества. В прошлом гвардейский офицер, он по семейным обстоятельствам вынужден был в начале 1824 года просить перевода в армию. Его товарищ Е. Оболенский посоветовал ему проситься в Вятский полк к Пестелю.
Оболенский не случайно указал ему на Вятский полк. Хорошо зная настроения своего товарища, Оболенский считал, что Лорер вполне подходит для тайного общества, и не ошибся.
Лорер стал одним из самых близких друзей вождя Южного общества и ревностным его помощником. Он часто разъезжал с поручениями Пестеля в Васильков, Киев, Каменку.
По дороге в Хомутец Лорер не мог отказать себе в удовольствии заехать в Обуховку — имение Капнистов.
Там жила подруга его детства Софья Капнист. Молодой хозяйке Обуховки, дочери поэта Василия Капниста, веселый разговорчивый Лорер был не безразличен; не один вечер провели они в задушевных разговорах, и она считала, что у Николая Ивановича от нее нет тайн. В этот свой приезд он казался чем-то озабоченным.
— Что за таинственные мысли бродят у вас в голове? — шутливо поинтересовалась Софья Васильевна. — Делитесь скорее, я знаю, вам тяжело со мной скрытничать.
— Я ненадолго к вам, — с улыбкой сказал Лорер. — У меня спешное поручение от моего командира полка к Матвею Ивановичу Муравьеву.
— От Пестеля? — спросила Капнист. — Зачем понадобился вашему командиру Матвей Иванович, опять конституционные дела?
— Вы смеетесь, а вот посмотрите, сколько я действительно везу с собой конституций, — ответил Лорер, доставая из портфеля связки бумаг. — Вот оно, сокровище России — «Русская Правда», конституция Пестеля, а вот…
— Боже мой, как вы все-таки легкомысленны! — перебила Капнист. — Ну можно ли быть таким неосторожным? Вы всем показываете ваши конституции или только мне решились?
— Только вам, — ответил Лорер. — Вы же почти наша, не правда ли?
Молодая женщина улыбнулась и значительно посмотрела на Лорера, потом рассеянно взяла со стола толстый конверт и стала разглядывать печать.
— «Nous travaillons pour la mêm cause» [20], — медленно прочла она. — Что значат эти слова?
— Это теперь наш общий девиз, — пояснил Лорер. — Видите, здесь изображен улей с пчелами: мы как пчелы работаем для одной цели.
Софья Васильевна покачала головой и вздохнула.
Через несколько дней, на обратном пути из Хомутца, Лорер снова посетил Обуховку. Он был грустен и молчалив. После. его отъезда Капнист нашла на столе в своем кабинете листок со стихами.
… Как свет молньи светозарной, Как минутные цветы, Как любовь неблагодарной, Как в несчастьи друг коварный, Изменили мне мечты… —прочла она и с волнением подумала: «Боже мой, что же могло произойти?..»
Рассказ Лорера был короток, но Пестеля он поразил своей неожиданностью. Всего несколько месяцев назад Матвей Муравьев-Апостол так горячо отстаивал в Петербурге «Русскую Правду», а тут он заявил Лореру, что убежден глубочайшим образом, что в данный момент ничего нельзя предпринять, что общество разъединено и виною этому Пестель. Пестеля Матвей Муравьев называл вредным и хитрым человеком, который готов все общество принести в жертву своему честолюбию, а Лорера уговаривал перейти в другой полк, чтобы избежать дурных последствий связи с Пестелем. И, наконец, Муравьев сказал, что он вообще выходит из общества.
Матвей Муравьев никогда не отличался особой последовательностью. Внешне он всегда был солидарен с Сергеем, которого считал способней себя, но в душе порой не одобрял его радикализм. В Петербурге Матвей Муравьев деятельно защищал пестелевские принципы, зная положительное отношение к ним брата, но втайне находил точку зрения Трубецкого и Никиты Муравьева более для себя приемлемой. Открыто заявить об этом Пестелю он не решился, но по приезде на юг, разговаривая с братом и Бестужевым-Рюминым, жаловался на «неловкость» Пестеля, доказывая, что тот сам виноват в неудаче переговоров.
Лорер попал к Матвею Муравьеву как раз в то время, когда подобные настроения особенно сильно владели Муравьевым.
Сергей Муравьев был страшно недоволен поведением брата. Он приложил все старания, чтобы заставить его одуматься.
И вскоре к Пестелю приехал Бестужев-Рюмин и привез письмо от Матвея Муравьева. В письме тот уверял Пестеля в своей дружбе, каялся во всем, что он говорил прежде Лореру, и сообщал, что он готов сделать все для пользы общества.
Но вся эта история оставила в душе у всех неприятный осадок.
5
В конце 1824 года князь Щербатов, командир 4-го корпуса, расквартированного в Киевской губернии, предложил Трубецкому место дежурного штаб-офицера у себя в корпусе. Трубецкой согласился и в начале 1825 года переехал в Киев.
Трубецкой считал свое перемещение на юг очень удачным. Умеренное крыло северян, боявшееся «якобинских» действий Пестеля, полагало необходимым иметь на юге «бдительное око», которое могло бы следить за деятельностью Пестеля и по мере возможности препятствовать осуществлению его слишком революционных планов. Трубецкой как нельзя лучше подходил на роль такого «ока». Он знал о трениях между Пестелем и васильковцами и, конечно, самым удобным видом сдерживания Пестеля счел окончательное восстановление против него Сергея Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. Трубецкой в данном случае как бы применял тактику самого Пестеля, создавшего на севере ячейку Южного общества. Теперь сам Трубецкой на юге старался организовать нечто подобное.
По приезде в Киев он завязал сношения с васильковцами, и вскоре Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин стали частыми гостями Трубецкого. На киевской квартире последнего велись долгие разговоры о делах Южного общества. Трубецкой доказывал, что Пестель имеет на него слишком большое влияние и что вообще Пестель распоряжается делами Южного общества, не считаясь с мнением остальных членов.
Трубецкой не ограничился подобными разговорами, он создал видимость, что разделяет мнение руководителей Васильковской управы о необходимости немедленного выступления. Впоследствии Трубецкой признавался: «Мне не нравился план действия их, но я о том не говорил им и, напротив, оказал согласие действовать по оному, имея в мысли, что он может быть переменен». Трубецкой полагал, что в соответствующий момент он сможет затормозить выполнение планов, которым сейчас оказывал поддержку. Он недооценивал, конечно, упорства Сергея Муравьева в достижении поставленной цели, но кое-что в углублении разногласий между Пестелем и васильковцами он сделал.
План, осуществления которого добивались руководители Васильковской управы, возник в конце 1824 года и был поставлен на обсуждение Киевского съезда в январе 1825 года. Васильковцы предлагали захватить царя на смотре 3-го корпуса в Белой Церкви летом 1825 года. Белоцерковский план был очень похож на бобруйский, с той только разницей, что теперь захватить царя должны были не солдаты, а офицеры — члены общества и тут же его убить. Этот план был отвергнут на тех же основаниях, что в прошлом году бобруйский. Представители Тульчинской и Каменской управ во главе с Пестелем снова доказывали, что общество не подготовлено к выступлению и поддержка Петербурга не обеспечена.
Ни Сергей Муравьев, ни Бестужев-Рюмин на съезде не смогли присутствовать. Васильковскую управу представили Повало-Швейковский и Тизенгаузен. И, возможно, их недостаточной активности Сергей Муравьев приписал провал белоцерковского плана. Пестель считал, что отклонить белоцерковский план необходимо, но, ощущая некоторую натянутость отношений с Сергеем Муравьевым, боялся это сделать. Тот мог решиться на самостоятельные действия, идя на разрыв с Пестелем и его сторонниками. Сразу же после съезда Пестель и Юшневский поехали в Васильков, чтобы лично убедить Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина отказаться от своего плана.
В результате переговоров Сергей Муравьев отказался от мысли выступить летом 1825 года, но не от самой идеи подобного выступления. Вскоре после посещения Василькова Пестелем и Юшневским туда приехал Волконский. Говоря с ним о белоцерковском плане, Сергей Муравьев заявил:
— Бездеятельность всех прочих членов столь многими угрожает нам опасностями, что если я получу удостоверений, что бездеятельность эта происходит от тайного желания удалиться от начинания, я, может быть, воспользуюсь первым сбором войск, чтобы действовать теми средствами, какие у меня в руках.
6
Пестель задумчиво листал маленькую изящную книжку французских стихов, на обложке которой стояло заглавие «Часы досуга в Тульчине. Сочинение князя А. Барятинского, поручика гвардейских гусаров». Этот томик автор отпечатал в очень небольшом количестве в лучшей тогдашней московской типографии Августа Семена и роздал самым близким друзьям.
Пестелю давно были знакомы эти стихи, в них, как отражения прибрежных предметов в тронутой ветерком светлой воде, туманными намеками отразились сердечные увлечения юного «поручика гвардейских гусаров» и доставленные ему любовью страдания, горечь которых Барятинский частенько топил в бокале вина. Одно из стихотворений поэт посвятил своему «первому другу» Пестелю:
Четыре месяца, — мне вспомнилось с тоской,— Prime sodalium! [21] я разлучен с тобой! Ты, верю, не забыл простые наши встречи, Когда в вечерний час и помыслы и речи Сливались в дружестве согретых сердцем слов? В минуты отдыха от всех своих трудов, Уставший воспарять возвышенной душою, Ты о стихах моих беседовал со мною. Натчезов [22] горький рок я пред тобой явил. Их пожалев, прости мой стихотворный пыл!Пестель задумался над раскрытой книгой. Ему вспомнились вечера в Тульчине три-четыре года назад, когда друзья собирались вместе, говорили о том, что делали, читали, думали, толковали о современных событиях и об отвлеченных предметах. Барятинский читал свои стихи, Ивашев перекладывал на русские нравы несколько фривольные сказки Лафонтена и играл на фортепьяно пьесы собственного сочинения. Все были юны, полны надежд и сил, и будущее рисовалось в самых радужных тонах. Пестель был первым среди этого общества.
Нотный автограф П. И. Пестеля. 1825.
Прошло немного лет, и жизнь предстала теперь перед Пестелем в мрачном и трагическом виде.
В длинные зимние вечера под нескончаемый вой метели шли безрадостные, сумрачные мысли. Сказывалась усталость, и, главное, под влиянием последних неудач Пестель стал сомневаться в правильности избранного пути, в справедливости дела, которому отдал почти десять лет жизни.
История и политическая борьба представляются теперь Пестелю безысходной трагедией, и отзвуки переживаемых им сомнений появляются в письмах матери к нему. «Я так же отношусь к истории, как и ты, мой добрый друг, — пишет Елизавета Ивановна. — Я ее ненавижу за то, что она всегда и всюду есть картина преступлений и страданий рода человеческого. От времени до времени везде является какой-нибудь гений, восстающий против жестокостей своего времени, который восстает против злоупотреблений и принимает сторону слабого против сильного. Тогда убийства бывают ужасны; слабый становится сильным, дух мщения присоединяется к неумению власти: вожди партий в раздоре, один из них захватывает власть, железный жезл прекращает анархию, и через некоторое время власть (по самой натуре своей) попадает в руки одного иди немногих, и вся комедия начинает разыгрываться опять сначала, но только другими действующими лицами. Вот как бывает во все времена, и это должно бы смущать реформаторов».
С обостренной болезненностью Пестель воспринимал теперь все направленные против него выпады, все намеки на его корыстные замыслы.
— Меня обвиняют в честолюбивых замыслах, — сказал однажды Пестель Лореру. — А я за себя даю вам слово, когда русский народ будет счастлив, приняв «Русскую Правду», я удалюсь в какой-нибудь киевский монастырь и буду доживать свой век монахом.
— Да, — ответил ему, улыбнувшись, Лорер, — чтобы вас оттуда вынесли на руках с торжеством…
— Впрочем, — перебил его Пестель, — кому быть повешенным, тот не утонет, а со мной последнего не случилось. В детстве моем, когда отец отправлял меня с младшим братом в Дрезден, он нанял для нас место на одном купеческом судне в Кронштадте. Все уже было готово к отъезду, мы уже простились с отцом, как вдруг он вздумал не пускать нас на этом судне и велел забрать наши вещи и пересесть на другое… Мы удивились причуде старика, но волю его исполнили. И представьте себе, когда мы прибыли в Дрезден, то узнали, что оставленное нами судно потонуло без следа… Сердце старика моего, верно, чуяло беду, готовую разразиться над головами его чад… И вот я остался жив, как видите.
В одну из наиболее тяжелых минут Пестель признался Барятинскому и Ивашеву:
— Я начал тихим образом отходить от общества. Поверьте мне, все это ребячество, которое может нас погубить. Пусть остальные делают, что хотят.
Спустя некоторое время еще определенней он выразил эту мысль Волконскому. Говоря о непрекращающихся толках о его честолюбивых стремлениях, он с возмущением заметил:
— Продолжают видеть во мне, даже в самом обществе, честолюбца, который намерен в мутной воде половить рыбу: мне тогда только удастся разрушить это предубеждение, когда я перестану быть председателем Южной думы и даже удалюсь из России за границу. Это уже решено, и я надеюсь, что вы, по вашей дружбе ко мне, не будете против. Меня называют Сиэсом, а я стремлюсь только быть таким же бескорыстным, как Вашингтон.
Ивашев, Барятинский и Волконский в один голос протестовали против такого решения. Волконский, в частности, доказывал, что отказ Пестеля «от звания главы Южной думы нанесет удар ее успешным действиям, что он один может управлять и ходом дел и личностями, что с отъездом его прервется нить общих действий, что ему, спокойному совестью, нечего принимать к сердцу пустомелье некоторых лиц, которые пустили такие неосновательные выводы не из чистой преданности делу, а. под влиянием тех, которые выбыли из членов общества и желают оправдать свое отступничество».
Убеждение друзей подействовало на Пестеля: решение покинуть общество было им оставлено. Да в глубине души он и сам сознавал, что порвать с делом всей жизни сейчас почти невозможно. Ему необходима была моральная поддержка друзей, сознание, что он не одинок, и, наконец, просто их вера в него.
Оболенский из Петербурга торопил с окончанием «Русской Правды». Пестель пытался заняться ею, но работа не шла, и он вносил туда только кое-какие поправки. Поджио и Ивашеву он поручил расследовать, насколько справедливы слухи о существовании других тайных организаций, и, если представится возможность, заводить новые отрасли тайного общества.
7
Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин встречались с польским представителем Гродецким в мае, августе и октябре 1824 года. Окончательного соглашения между польским и русским обществами достигнуто пока не было. Виноваты в этом были поляки: они действовали медлительно и с заметным недоверием, но васильковцы надеялись, что в конце концов им удастся заключить соглашение. И вдруг в начале зимы 1824 года Бестужев-Рюмин встретил графа Ходкевича, который в разговоре сообщил ему «об остановке в деятельности Польского общества». Бестужев поставил об этом в известность Пестеля.
Пестель после поездки на север несколько изменил свое отношение к Польскому обществу. Во время свидания с руководителями Васильковской управы летом 1824 года он выразил опасение, как бы поляки, воспользовавшись слабостью России в момент революции, не попытались возвести на престол великого князя Константина Павловича, рассчитывая, что в благодарность он возвратит им независимость. Потому Пестель хотел, чтобы Сергей Муравьев и Бестужев потребовали от поляков согласия на убийство Константина в момент переворота. Сообщения Бестужева подтверждали сомнения Пестеля в искренности поляков.
— Вот видите, я был прав, когда не доверял полякам, — сказал он Бестужеву. — Они уклоняются. Постарайтесь встретиться с Гродецким, попеняйте ему на явное отклонение от нас и нерадение давать сведения о чем-нибудь важном. Пусть поторопятся с присылкой своих представителей.
При встрече с васильковцами Гродецкий стал уверять, что Польское общество продолжает действовать и на «Киевские контракты» обязательно приедет представитель из Варшавы.
Не надеясь на эти заверения, Сергей Муравьев решил сам связаться с Варшавой и написал туда письмо, намереваясь послать его через Гродецкого. Но тот больше не появлялся. Зная, что Гродецкий частый гость в доме Волконского, Сергей Муравьев попросил Волконского заехать в Васильков и взять письмо для Гродецкого. Волконский приехал, взял письмо и отвез в Каменку к Давыдову. Решив ничего не предпринимать без Пестеля, они с этим письмом отправились в Линцы. Там все трое, посовещавшись, пришли к убеждению, что письмо отправлять рискованно: оно легко могло попасть в чужие руки, — и решили оставить его пока у Пестеля. По мнению руководителя Южного общества, Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин, ведя переговоры с поляками, основные вопросы оставляли невыясненными, поэтому он думал лично связаться с Польским обществом и форсировать переговоры.
В январе 1825 года праздновалась свадьба Сергея Волконского и Марии Раевской, племянницы Давыдова. В своем доме на Печерске Волконский давал вечера. На одном из них он представил Гродецкому незнакомого офицера:
— Это полковник Пестель, познакомьтесь, — сказал он. — Полковник очень желал с вами побеседовать. — И с этими словами отошел.
Поляк любезно раскланялся и рассыпался в комплиментах: он много слышал о полковнике Пестеле и счастлив с ним познакомиться. Пестель сухо улыбнулся и сказал:
— Станем где-нибудь в стороне, мне надо кое о чем вас спросить.
В конце вечера Волконский подошел к Пестелю и поинтересовался, как прошел его разговор с Гродецким.
— Я спросил у него, — сказал Пестель, — не знает ли он, кто приехал в Киев от Польского общества с полномочиями вести со мной переговоры. Он назвал князя Яблоновского и обещал его привезти на днях к вам. Стало быть, с ним мы и будем говорить. И надо нам так сразу поставить, что не мы в них нуждаемся, а они в нас нужду имеют. А по сему, чтобы не они нам, а мы им предписывали условия.
Через несколько дней Пестель и Волконский встретились с Яблоновским и Гродецким. Для большего авторитета Пестель рекомендовал себя представителем петербургской Директории, а Волконского представителем Южного общества. Велись переговоры недолго, не более часа. Сначала говорили о независимости Польши и ее границах, потом обсуждалось «взаимное содействие на случай внешней войны и одинаковый образ правления» и вопрос, как поступить с Константином Павловичем. Русские требовали, чтобы поляки ставили их в известность «о всех своих сношениях с прочими тайными союзами в Европе и Англии» и никаких договоров не заключали без предварительного согласия русского тайного общества.
— Россия, — заявил Пестель, — берет Польшу под свое покровительство и служить будет ручательством в неприкосновенности ее пределов, а тем паче ее существования. Но с условием, чтобы верховная власть была устроена в Польше так же, как в России. Аристократия же, на богатстве или на привилегиях и правах родовых основанная, должна быть навсегда отвергнута и весь народ польский должен составить одно сословие.
Шляхетских революционеров не устраивал такой радикализм Пестеля.
— Мы только тогда сможем войти с вами в соглашение, — ответил Яблоновский, — когда вы признаете независимость Польши и не будете вмешиваться в наши внутренние дела.
— Если вы наши предложения не примете, — медленно отчеканил Пестель, — то по совершении переворота Польша войдет в состав Российского государства и независимости не получит.
Вопрос был поставлен резко, и ясно было, что Пестель своего решения не переменит. Польские представители поняли, что если они будут настаивать на своем, то переговоры сорвутся к явной невыгоде для поляков. Яблоновский поспешил выразить надежду, что в дальнейшем удастся прийти к соглашению по всем спорным вопросам, а пока в основном они принимают все условия русских. Было решено начать агитацию в Литовском корпусе, где служили и поляки и русские, для чего выделили двух представителей — Повало-Швейковского от русских и графа Мощинского от поляков. Решили также, что в следующем году будет заключено окончательное соглашение, а до того времени польское и русское общества будут поддерживать связь через Гродецкого и Волконского. Сам Пестель должен был встретиться с польскими представителями еще раз в Бердичеве в июне 1825 года.
8
Два мнения, два плана действий господствовали в Южном обществе: один план — на базе общепринятой конституции развить широкую пропаганду в войсках и в народе и произвести переворот в Петербурге при поддержке юга. Среди сторонников этого плана вопрос, что предпочесть — временное правление (на чем настаивал Пестель) или учредительное собрание, — оставался открытым.
Второй план — начать революцию на юге, распространить две прокламации — к войскам и к народу, — двинуться с восставшими войсками на Киев и на Москву, увлекая за собой другие армейские части, и, наконец, в древней столице провозгласить через Сенат новый образ правления.
Второй план выдвигался Сергеем Муравьевым, за первый план выступали Тульчинская и Каменская управы.
Сергей Муравьев предполагал, что достаточно только выступить, как всеобщее сочувствие народа и замешательство правительства обеспечат полный успех революции. Выступление предполагалось опять-таки начать с убийства царя на смотре. Так летом 1825 года снова всплыл белоцерковский план, только его действие перенесено было на май 1825 года, когда опять предполагался смотр 3-го корпуса в Белой Церкви.
Характерна роль Трубецкого. Васильковцы теперь сносятся больше с ним, чем с Пестелем, и он реагирует на это двойственно: с одной стороны, он поддерживает план Сергея Муравьева, с другой стороны, сам находя, что инициатива должна принадлежать северу, отмечает, что Пестель скован Петербургом, что ему «необходимо содействие петербургского общества, следовательно… он не может привести намерения своего в действие по одному собственному произволу и собственными средствами».
Трубецкой рассчитывал, что выдвижение второго белоцерковского плана, которого Пестель никогда не одобрит, поведет к разрыву между васильковцами и главой Южного общества и парализует в значительной степени действия последнего. Но ловким тактическим ходом Пестель спутал карты Трубецкого.
В июле 1825 года Бестужев-Рюмин получил письмо от Пестеля, в котором тот просил немедленно, не дожидаясь летних лагерных сборов, приехать к нему в Линцы. Бестужев сразу же отправился туда. И в Линцах Пестель дал через Бестужева поручение Васильковской управе «самым вернейшим образом приготовить 3-й корпус к восприятию действий на общем смотре в 1826 году».
Согласие Пестеля на белоцерковский план окрылило Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина. Контакт с остальными управами на основе их плана вполне удовлетворял васильковцев: Трубецкого же они просили сообщить в Петербург о принятом решении. Трубецкой стал, таким образом, перед единым фронтом всего Южного общества и идти на попятный не мог. «Я поручил Бестужеву-Рюмину, — писал впоследствии Трубецкой, — уверить Пестеля, что я готов действовать, и давал полную волю сказать это Пестелю, как он найдет лучшим. Бестужев точно думал… что я согласен действовать и одобряю их план действия, исключая того, что ни в одном пункте не одобряю пестелевской конституции…»
Пестель из двух путей — идти ли на разрыв с самой активной управой Южного общества или, приняв план васильковцев, попытаться в его рамках провести в жизнь свою программу — избрал второй.
Вскоре произошло одно очень важное событие: на войсковом сборе в Лещинских лагерях Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин через своего товарища Тютчева узнали о существовании тайного Общества соединенных славян. Выяснив, что цель общества — «достижение революции и уничтожение царских законов», васильковцы установили связь с руководителями его и предложили славянам присоединиться к Южному обществу. Те приняли это предложение, предварительно ознакомившись с кратким изложением «Русской Правды», написанной Бестужевым под диктовку Пестеля.
Присоединение славян очень усилило Южное общество, особенно Васильковскую управу, через представителей которой поддерживалась с ним связь. Это значительно изменило всю расстановку сил в Южном обществе.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Что благородней — духом
покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут,
сразить их…
Шекспир1
днажды в июле 1825 года лейб-медик Виллие получил загадочное письмо. Распечатав его, он обнаружил второй конверт и при нем записку без подписи. Неизвестный автор записки просил передать письмо императору и уверял, что оно не содержит ничего предосудительного. Виллие исполнил просьбу анонима.
С удивлением читал Александр I письмо какого-то унтер-офицера 3-го Украинского полка Ивана Шервуда. Шервуд умолял императора приказать арестовать его под каким-нибудь предлогом, доставить в Петербург и дать возможность сообщить о деле, касающемся лично государя.
13 июля фельдъегерский офицер Ланг привез Шервуда в Петербург с сопроводительным письмом Аракчеева, в котором «верный друг» писал Александру, что Шервуд «имеет сообщить вашему величеству касающееся до армии… и состоящее будто в каком-то заговоре, которое он не намерен никому более открывать, как лично вашему величеству».
По пути с юга Ланг завез Шервуда к Аракчееву в Грузино, граф пытался узнать, что заставило Шервуда писать царю, но тот отказался отвечать на расспросы, и Аракчееву больше ничего не оставалось, как препроводить его в Петербург.
— Ты мне писал? Что ты хочешь мне сказать? — спросил, Александр Шервуда, когда унтер-офицера привели к нему.
— Ваше величество! — ответил Шервуд. — Полагаю, что против спокойствия России и вашего величества существует заговор.
— Почему ты это полагаешь? — спросил царь.
И Шервуд подробно объяснил царю, почему он так полагает.
2
Шервуд был сыном англичанина-механика, выписанного в Россию при Павле I для налаживания механического прядения на Александровской мануфактуре. Он получил хорошее образование: знал английский, французский, немецкий и латинский языки. Профессии отца он предпочел службу в военных поселениях и в 1819 году двадцати одного года от роду был зачислен в 3-й Украинский полк рядовым из вольноопределяющихся, а через несколько месяцев произведен в унтер-офицеры.
Что побудило Шервуда поступить в русскую армию рядовым, трудно сказать, но ясно, что честолюбивого и крайне беспринципного англичанина мало удовлетворяло положение унтер-офицера, лямку которого он тянул уже шесть лет. Его мечтой было выбиться в чины, и случай предоставил ему такую возможность.
Командир полка часто посылал его с разными поручениями то в Крым, то в Одессу, то в Киев, и это дало возможность Шервуду свести знакомство со многими дворянами в разных губерниях.
Однажды Шервуд попал на званый обед к миргородскому помещику генералу Высоцкому. В числе гостей там был и адъютант командующего 2-й армией князь Барятинский. Случилось так, что один из гостей, однополчанин Шервуда, поручик Новиков попросил у слуги стакан воды; слуга, видно, забыл и не принес. Рассерженный Новиков громко заметил: «Эти проклятые хамы всегда так делают».
Барятинский вспылил.
— Почему вы называете его хамом, — обратился он к Новикову, — разве он не такой же человек, как вы?
Слово за слово, разгорелся спор, дело запахло дуэлью. И тут Барятинский обронил слова, хорошо запомнившиеся Шервуду:
— Погодите, недолго вам тешиться над равными себе!
«Тут что-то неспроста, — подумал Шервуд. — Это не следует упускать».
Когда спустя некоторое время Шервуду пришлось быть в Одессе, в доме таможенного начальника Плахова, где на вечере присутствовало несколько офицеров 2-й армии, он обратил внимание на то, что все офицеры очень свободно рассуждают о царе и о переменах, которые ожидают Россию. У Шервуда, сопоставившего все это со словами Барятинского, окрепло подозрение, что за этим что-то кроется, и он всерьез решил разобраться, в чем тут дело.
Шервуд был желанным гостем в Каменке Давыдовых. К нему особенно благоволил брат Василия Давыдова — Александр Львович, большой гурман, который употреблял Шервуда как посыльного для привоза из Крыма устриц. Хитрый англичанин охотно исполнял поручения добродушного барина, хорошо зарабатывая на таких комиссиях.
Острый нюх добровольного сыщика почуял неладное в том, что частые гости Давыдовых — Лихарев, Поджио и другие — имели обыкновение после обеда запираться с Василием Давыдовым в его кабинете и сидеть там по нескольку часов. Но все попытки разузнать, что они там делают, были тщетны. И вдруг неожиданная удача открыла ему гораздо больше, чем он ожидал.
Однажды Шервуд приехал в город Ахтырку с поручением к графу Якову Булгари.
Рано утром он явился на квартиру Булгари. Небольшая квартира состояла из двух комнат — первая, темная, заваленная разными вещами, служила чем-то вроде прихожей, вторая была спальней хозяина. Шервуда встретил слуга и сказал, что ему придется обождать, так как граф еще спит. Шервуд уселся в первой комнате, закурил трубку и попросил слугу приготовить ему кофе. Тот вышел.
Дверь во вторую комнату была приоткрыта, и Шервуд мог разглядеть кровать и спящего на ней человека, лицо которого было закрыто одеялом. Шервуд подумал, что это Булгари, но когда человек проснулся, сдернул с лица одеяло, англичанин увидел незнакомое лицо.
— А ты, граф, спишь? — спросил незнакомец.
— Да нет, все думаю о вчерашнем разговоре, — послышался голос Булгари с другого конца комнаты. — Что ж, по-твоему, было бы самое лучшее для России?
— Самое лучшее, конечно, конституция! — уверенно заявил незнакомец.
Булгари расхохотался:
— Конституция для медведей!..
Незнакомец перебил его:
— Нет, позволь, граф, конституция, применимая к нашим потребностям и обычаям.
Но Булгари не унимался.
— Хотел бы я знать конституцию для русского народа! — и снова расхохотался.
— Конечно, не французская конституция, принятая Людовиком Шестнадцатым, — сказал незнакомец. — Я много об этом думал и могу сказать, какая конституция была бы хороша.
Незнакомец начал подробно излагать свою конституцию, и, прислушиваясь к его словам, Шервуд подумал, что изложить конституцию экспромтом невозможно, она должна быть написана. Булгари слушал внимательно и вдруг воскликнул:
— Да ты с ума сошел, ты, верно, забыл, как у нас династия велика! Hу, куда их девать?
Глаза незнакомца заблестели, он сел на кровати, засучил рукава и сказал:
— Как куда девать? Перерезать!
— Ну, вот ты уже и заврался, — ответил Булгари, — ты забыл, что их за границей много. Ну, да полно об этом, это все вздор, давай о чем-нибудь другом поговорим.
— А я говорю не вздор! — настойчиво произнес незнакомец. — А как тебе нравятся сочинения Биньона?
— А! Который писал о конгрессах? — спросил Булгари. — Да, там много правды, но французы всегда много…
Тут вошел слуга со стаканом кофе. Услышав скрип отворяемой двери, Булгари умолк. Шервуд взял кофе, раскурил погасшую трубку и тихо попросил слугу.
— Скажи, что я приехал.
Тот доложил.
— Шервуд, иди сюда, — послышался голос графа.
— Дайте стакан кофе допить, — ответил Шервуд.
Булгари и его гость стали одеваться. Когда Шервуд вошел во вторую комнату, граф обратился к незнакомцу и сказал:
— Рекомендую тебе, это господин Шервуд. А это господин Вадковский, — представил он незнакомца.
Завязался разговор. Узнав, что Шервуд служит в военных поселениях, Вадковский стал расспрашивать о них. Англичанин, зная теперь, с кем имеет дело, ругал военные поселения, стараясь угодить собеседнику.
В разговоре между прочим Булгари упомянул о больших связях, которые имеет Шервуд в поселениях. Вадковского это заинтересовало. Когда Шервуд вышел из комнаты, он заметил Булгари:
— Шервуд мне нравится, должно быть умный человек.
Булгари помолчал, потом задумчиво ответил:
— Да, весьма умный, но опасного ума; есть минуты, когда я его боюсь.
Вскоре Булгари уехал. Член тайного общества и шпион остались один на один.
Вадковский казался взволнованным, но молчал, видимо не решаясь начать разговор, потом, наконец, произнес:
— Господин Шервуд, я вам друг, будьте и мне другом.
— Мне очень приятно иметь удовольствие с вами познакомиться, — любезно ответил Шервуд.
— Нет, я хочу, чтобы вы мне были другом, — многозначительно сказал Вадковский, — и я вверю вам важную тайну.
С деланным замешательством Шервуд отступил от него.
— Что касается тайн, — ответил он, — я прошу не спешить мне вверять, я не люблю ничего тайного.
— Нет, — хлопнул рукой Вадковский, — наше общество быть без вас не должно!
У Шервуда от восторга перехватило горло.
— Я вас прошу мне ничего не говорить, — быстро зашептал он, — потому что здесь, согласитесь, не время и не место, а даю вам честное слово, что приеду к вам, где вы стоите с полком.
3
Все это Шервуд и рассказал царю.
Имя Вадковского сразу всплыло в памяти Александра. Этот «мальчишка» совсем недавно довольно чувствительно оскорбил его. Вадковский служил в Кавалергардском полку вместе с графом Дмитрием Шереметевым, за которого любовница императора Мария Антоновна Нарышкина прочила свою дочь. Вадковский своими насмешками над Шереметевым, вроде титулования «ваше побочное императорское высочество», расстроил этот брак. Шереметев постеснялся просить руки Софьи Нарышкиной. Но этого мало: Вадковский по просьбе Шереметева переписывал ему песни, одна из которых начиналась словами:
Царь наш — немец русский, Носит мундир узкий… Царствует он где же? Всякий день в манеже…За все это Вадковский был переведен из гвардии в Нежинский конно-егерский полк, находившийся в Курске.
И вот теперь оказалось, что этот Вадковский гораздо более серьезная штучка.
Царь поручил Шервуду продолжать свои расследования.
Свой арест и поездку в Петербург Шервуд объяснил товарищам по полку, будто его допрашивали по известному всем в то время делу о похищении поручиком Сивинисом драгоценностей у грека Зосимы. Все сошло наилучшим образом. Вадковский, узнав об этом, негодовал на подлость властей, пытавшихся запутать в темную историю честного человека, и проникся к Шервуду еще большей симпатией.
Сближение с Вадковским, как не трудно догадаться, кончилось приемом Шервуда в тайное общество. Шервуд попал в самую гущу событий.
Вадковский, бывший душой петербургской ячейки, горячий, деятельный, до конца преданный тайному обществу человек, предлагавший незадолго перед тем себя в цареубийцы, после перевода на юг еще шире развернул свою деятельность и как раз в это время хлопотал об организации подпольной типографии.
И при самом приеме такого малоизвестного ему лица, как Шервуд, Вадковский, собственно, руководствовался правильной мыслью — использовать разъезжающего всюду унтер-офицера для целей общества. А увенчал свой легкомысленный поступок роковым шагом: он с Шервудом отправил Пестелю донесение, в котором рассказывал и о петербургской ячейке, и о своей деятельности на юге, и об организации типографии. Подателя письма Вадковский характеризовал как человека непреклонной воли, проникнутого чувством чести, верного своему слову и устремленного к одной цели, советовал быть с ним откровенным и доверчивым.
«Проникнутый чувством чести» Шервуд, конечно, не отвез письмо Павлу Пестелю, а отправил его царю.
Вид Петербурга с Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости. Акварель 1830 года.
14 декабря. Рисунок художника И. Симакова.
4
Однажды ранним осенним утром на квартиру Лорера явился Савенко и передал записку от Пестеля, в которой тот просил Николая Ивановича прийти к нему, так как он должен сообщить ему очень важную новость.
— Вы будете поражены, когда узнаете, зачем я вас звал, — сказал Пестель, когда Лорер явился к нему. — Граф Витт через некоего Бошняка попросил у Давыдова согласия на вступление в наше общество.
— Откуда Витт знает о существовании нашего общества? — спросил пораженный Лорер.
— Сам удивляюсь, — пожал плечами Пестель. — При всем том граф намекнул, что в его распоряжении находится сорок тысяч войск, которые нам могли бы пригодиться. Но это еще не все: он предупреждает, что ему известно, будто среди нас есть предатель.
Известие действительно было поразительное. Что предпринять? Как отнестись к предложению Витта? Кто мог быть предателем? Совещались долго, но так и не смогли прийти к окончательному решению.
— Знаете что, — сказал Пестель, — приезжайте к Юшневскому, спросите его совета — я даю письмо к нему. Один я не могу взять на себя ответственность в принятии такого важного решения.
Лорер отправился в Тульчин прямо на квартиру интенданта 2-й армии.
Юшневский казался совершенно спокойным, когда читал письмо Пестеля. Потом, медленно разрывая письмо, он ровным голосом произнес:
— Можно ли доверяться Витту? Кто не знает этого шарлатана? Мне известно, что в настоящую минуту Витт не знает, как отдать отчет в нескольких миллионах рублей, им истраченных, и думает подделаться к правительству, предав нас связанными по рукам и ногам, как куропаток… Я не буду писать Павлу Ивановичу, потрудитесь передать ему словесно то, что вы слышали о графе Витте, и посоветуйте с ним не сближаться.
Выслушав сообщение Лорера о разговоре с Юшневский, Пестель с сомнением покачал головой.
— Ну, а если мы ошибаемся? Как много мы потеряем? — сказал он.
Витт, которому Александр I еще в 1819 году приказал иметь наблюдение за многими украинскими губерниями, для чего дал право использовать специально подобранную агентуру, давно присматривался к Каменке и к семейству Давыдовых. Желая разобраться в подозрительном поведении Давыдовых, Витт направил туда своего агента помещика Бошняка. Бошняк сумел втереться в доверие своего дальнего родственника Лихарева — кстати, бывшего членом тайного общества, — а через него сошелся с Василием Давыдовым. «Приняв на себя личину гнуснейшего якобинства», показывая себя всюду «отчаянным и зверским бунтовщиком», Бошняк так близко сошелся с Лихаревым и Давыдовым, что от него у них не стало тайн. Он вошел настолько в курс дел Южного общества, что вскоре это позволило ему через Витта направить обстоятельный донос царю. В октябре 1825 года Витт отправился в Таганрог, где тогда находился Александр I, чтобы лично доложить императору о результатах деятельности Бошняка; теперь-то он считал себя застрахованным от любой ревизии.
Пестель, предупрежденный Юшневским, зрело все обдумав, сам пришел к убеждению, что предложение Витта носит провокационный характер. Давыдову он ответил, что предложение Витта следует безусловно отвергнуть, а узнав, кто виновник сближения с Бошняком, сделал «выговор словесный господину Лихареву за неосторожность».
Два доноса дали правительству довольно ясную картину заговора, но пока оно решило не принимать радикальных мер, надеясь узнать больше. Лишь в двух случаях оно проявило себя: во-первых, отменив смотр в Белой Церкви из опасения покушений, во-вторых, лишив одного из деятельных заговорщиков Повало-Швейковского командования Алексопольским полком — он был переведен тем же чином в Саратовский полк.
Последнее особенно встревожило заговорщиков. Не сомневались, что правительству известно об их деятельности, гадали только о степени осведомленности.
Недомолвки, предупреждения, брошенные вскользь осведомленными лицами, подливали масла в огонь. Незадолго перед случившимся Киселев довольно откровенно заметил Волконскому:
— Послушай, друг Сергей, у тебя и у многих твоих тесных друзей бродит на уме бог весть что, ведь это поведет вас в Сибирь; помни, что ты имеешь жену и она беременна; уклонись от всех этих пустячных бредней, столица которых в Каменке…
5
Вопрос, что предпринять, не оставлял Пестеля в покое. Общество, видимо, накануне полного раскрытия, дело стольких лет может рухнуть без всякой пользы для родины. В уме возникали самые невероятные планы. Самое фантастическое казалось выполнимым. Так, в ноябре 1825 года Лорер узнал о странном решении Пестеля.
…Как-то вечером, придя к нему, он застал его в особенно подавленном состоянии. Пестель, до того лежавший на диване, приподнялся и мрачно произнес:
— Николай Иванович, все, что я вам скажу, пусть останется тайной между нами. Я не сплю уже несколько ночей, обдумывая важный шаг, на который решаюсь… Получая чаще и чаще неблагоприятные сведенья от управ, убеждаясь, что члены нашего общества охладевают все более и более к notre cause [23], что никто ничего не делает в преуспеянии его, что государь извещен даже о существовании общества и ждет благовидного предлога, чтобы нас схватить, — я решился дождаться тысяча восемьсот двадцать шестого года, отправиться в Таганрог и принести государю свою повинную голову с тем намерением, чтобы он внял настоятельной необходимости разрушить общество, предупредив его развитие дарованием России тех уложений и прав, каких мы добиваемся. Недавно я ездил в Бердичев, в Житомир, чтобы переговорить с польскими членами, но и у них не нашел ничего радостного. Они и слышать не хотят нам помочь и желают избрать себе своего короля, в случае нашего восстания…
Пестель говорил об измене Александра своему либеральному направлению, о влиянии на него Меттерниха, но пораженный Лорер уже плохо его слушал.
— Признаюсь вам, Павел Иванович, — прервал он, наконец, его, — вы подымаетесь на рискованное дело. Хорошо, ежели государь снисходительно примет ваше извещение и убедится вашими доводами, ну, а ежели нет? Ведь дело идет о спокойствии и счастье целой страны. А как интересы государств, связанных принципом Макиавелли, перетянут на свою сторону императора Александра, что тогда будет? По-моему, вам одним не стоит решаться на такой важный шаг и нужно непременно сообщить ваш план хоть некоторым членам общества, как, например, Юшневскому, Муравьеву, хоть для того только, чтобы никто не мог вас заподозрить, что вы ищете спасения личного, делаясь доносчиком дела общего, в котором отчаиваетесь.
Пестель молча пожал Лореру руку и больше разговора об этом не заводил.
6
Через несколько дней Пестель объявил Лореру, что назначает его командиром 1-го батальона своего полка.
— У вас будет славный батальон, в особенности вторая гренадерская рота, настоящая гвардия, и с этими людьми можно будет много сделать pour notre cause [24]. Остальные роты легко пойдут за головой, а я надеюсь, что вы с вашим умением привязывать к себе сердца людей легко достигнете нашей цели, ежели бы она когда-нибудь понадобилась… Чтобы облегчить вам несколько ваши обязанности служебные, я переведу к вам в батальон капитана Майбороду…
Перспектива получить в помощники Майбороду не улыбалась Лореру.
— До сих пор мне кажется, — ответил Лорер, — что это ничтожный, низкий человек, да и прежде слышал я про него много нехорошего… Вы этого не знаете разве, что Московский полк, в котором он прежде служил, заставил его выйти из него за шутку, которую он сыграл с одним из своих товарищей? Тот дал ему тысячу рублей на покупку лошади. Майборода, возвратившись из отпуска, уверил, что лошадь была куплена, но пала, и денег не возвратил, хотя все это было выдумано. К тому же он и по службе мне не товарищ, потому что очень строг с людьми, а я ему, как батальонный командир, не позволю этого без моего ведома.
То, что Майборода нечист на руку, Пестель испытал на себе. Незадолго перед тем он посылал его в Москву для закупки необходимых вещей для полка, но тот вернулся без вещей и не смог отчитаться в суммах, которые ему были доверены. Однако Пестель ценил в Майбороде знатока «фрунтовой службы» и полагал, что его старания сыграли роль в высокой оценке полка на маневрах 1823 года. Пронырливый же капитан, хорошо распознавший своего командира, расположил его к себе «вольнодумными» разговорами. Расположение Пестеля зашло так далеко, что в конце 1824 года Майборода был принят в тайное общество.
А как раз когда Пестель разговаривал с Лорером о нем, Майборода писал донос и на Пестеля, и на Лорера, и на всех друзей. Вскоре донос был отправлен в Таганрог через генерала Рота, командира корпуса, в который входил Вятский полк. Основная побудительная причина написать донос была боязнь Майбороды кары за растраченные деньги.
Итак, третий, самый страшный для Пестеля, донос оказался в руках правительства. Как и в прежних двух, в нем Пестель назывался в числе руководящих участников заговора; кроме этого, в доносе Майбороды говорилось, что командир Вятского полка составил законы для будущей Российской республики. Это сразу привлекло к Пестелю особенно пристальное внимание правительства.
7
В эти последние недели Пестель произвел некоторую реорганизацию общества. В число директоров был введен Сергей Муравьев, как руководитель самой сильной в тот момент управы Южного общества; кроме того, Пестель полагал «обуздать» этим излишнюю самостоятельность руководителя васильковцев, сделав его ответственным за судьбы всего общества. В то же время в целях большей активизации деятельности Тульчинской управы он передал руководство ею Барятинскому, в преданности и решительности которого Пестель был совершенно уверен. За собой он оставлял верховное руководство всем обществом.
В середине ноября новый председатель Тульчинской управы послал к Пестелю в Линцы Н. Крюкова с сообщением, что общество определенно открыто. Из Таганрога в Тульчин прибыли секретные бумаги, очень взволновавшие командование 2-й армии. Сын Витгенштейна, тоже принадлежавший к обществу, спросил у Киселева; «Что случилось?» Тот бросил в ответ: «Много нитей придется нам распутать». Положение стало угрожающим, вот-вот можно было ждать арестов.
Пестель отправил Н. Крюкова с сообщением Барятинского к Сергею Муравьеву-Апостолу. Муравьев ответил, что хотя ему пока ничего не известно, но он готов начать восстание по первому сигналу.
Пока Крюков ездил из Линцов в Васильков, Пестель получил от Волконского ошеломляющее известие: 19 ноября в Таганроге умер Александр I.
Известие было получено в последних числах ноября, а 4 декабря Пестель выехал в Каменку для того, чтобы обсудить с Давыдовым и Волконским план действий на ближайшее время. План был таков: Вятский полк идет в Тульчин и арестовывает главную квартиру; вслед за этим выступают васильковцы — предполагалось, что поднимется Черниговский полк Сергея Муравьева, Полтавский — Тизенгаузена, Алексопольский, где прежде служил Повало-Швейковский, и Саратовский, куда он был переведен; Ахтырский гусарский полк Артамона Муравьева, Пензенский пехотный полк и артиллерийские части, в которых служили члены Общества соединенных славян. Волконский должен стать во главе 19-й дивизии, а Давыдов едет в военные поселения и старается поднять их. При успешном осуществлении этого плана восстанием было бы охвачено более ста тысяч человек. После развертывания восстания Пестель и Барятинский должны ехать в Петербург, чтобы там принять участие в формировании революционного правительства.
Но план этот был с оговоркой: приступать к осуществлению его, только если принудят крайние обстоятельства, а вообще ждать известий из Петербурга. Даже в эти чрезвычайно напряженные дни, когда ни минуты нельзя было быть уверенным В своей безопасности, трезвый ум Пестеля не допускал мысли об игре ва-банк, о выступлении наудачу. Он не представлял себе успеха революции без овладения ключевыми позициями государства там, на севере, без провозглашения нового правления через Сенат. Сейчас Пестель должен был решить: дать ли сигнал к восстанию или, ничего не предпринимая, ждать ареста. Но хотя арест угрожал гибелью всего дела, «междоусобие» и «анархия» гражданской войны оказались страшнее: сигнал к восстанию подан не был. В страхе перед народным движением сказывался в Пестеле дворянский революционер.
8
6 декабря Вятский полк присягал новому императору. Последний раз Пестель стоял перед фронтом своих солдат. «Как теперь вижу его, — много лет спустя вспоминал Лорер, — мрачного, серьезного, со сложенными перстами поднятой руки…
В этот день все после присяги обедали у Пестеля, и обед прошел грустно, молчаливо, да и было отчего. На нас тяготела страшная неизвестность.
Вечером, по обыкновению, мы остались одни и сидели в кабинете. В зале не было огня… Вдруг, вовсе неожиданно, на пороге темной комнаты обрисовалась фигура военного штаб-офицера, который подал Пестелю небольшую записку, написанную карандашом: «La société est découverte: si un seul membre sera pris — je commence l’affaire [25].
С. Муравьев-Апостол».
12 декабря Барятинский известил Пестеля, что в Тульчин приехал генерал-адъютант Чернышев с каким-то подозрительным поручением. Чернышев, Витгенштейн и Киселев имели секретное совещание, и следует ожидать самого худшего. Вечером этого дня Пестель и Лорер уничтожили все компрометирующие бумаги.
На следующий день в Линцах был получен приказ из штаба армии, где говорилось, что командиру 1-й бригады 18-й дивизии генералу Кладищеву и полковникам Пестелю и Аврамову предписывается немедленно явиться в Тульчин. Объяснялось это тем, что 1-я бригада с 1 января должна была вступить в караул в главной квартире армии, и потому трое ее старших офицеров должны получить соответствующие инструкции.
«Чуя приближающуюся грозу, — писал Лорер, — но не быв уверены совершенно в нашей гибели, мы долго доискивались в этот вечер какой-нибудь задней мысли, дурно скрытого намека в приказе по корпусу; но ничего не нашли особенного, разве то, что имя Пестеля было повторено в нем 3 раза. В недоумении мы не знали, что предпринять, и Пестель решился отдаться своему жребию.
Я хотел было идти к себе, но Пестель еще меня остановил и послал просить к себе бригадного командира. Когда добрый старик, бывший с нами в хороших отношениях, пришел, то Пестель сказал ему: «Я не еду, я болен… Скажите Киселеву, что я очень нездоров и не могу явиться». С тем мы и расстались далеко за полночь.
Не успел я возвратиться к себе и лечь в постель, как человек Пестеля прибегает ко мне с просьбою пожаловать к нему и с известием, что полковник сейчас едут в Тульчин. Не постигая таких быстрых перемен, я наскоро оделся и побежал к полковнику… Он уже был одет по-дорожному, и коляска его стояла у крыльца…
— Я еду, что будет, то будет, — встретил он меня словами. — Я еще хотел вас видеть, Николай Иванович, чтобы сказать вам, что, может быть, мне придется дать вам поручение маленькой записочкой, хотя бы карандашом написанной: исполните без отлагательства то, что вы там прочтете, — хоть из любви к нам.
С этими словами мы обнялись, я проводил его до коляски и, встревоженный, возвратился в комнату… Свечи еще горели… кругом была мертвая тишина. Только гул колес отъехавшего экипажа дрожал в воздухе».
9
Зимняя ночь подходила к концу, когда Пестель подъезжал к Тульчину. Лошади легко вынесли экипаж на гору, с которой в морозных утренних сумерках открывалась панорама городка. Савенко, сидевший на козлах, приподнялся и стал вглядываться в даль.
— Ваше высокоблагородие, — обернулся он к Пестелю, — поглядите, что там у заставы выставили: конный взвод с саблями наголо.
— Останови экипаж! — быстро приказал Пестель. Он понял все. Первая мысль — принять яд, который он всегда носил с собой: «Лучше смерть, чем допросы и пытки». Но тут же пришла другая мысль: «А как же остальные? Как же дело наше? Покончить с собой сейчас — это малодушие!» Он вырвал из записной книжки листок, написал на нем несколько слов и протянул Савенко.
— Беги! — сказал Пестель. — Доставь ее непременно господину Лореру. Слышишь, непременно!..
Савенко соскочил с козел и бросился напрямик через поле к лесу. Пестель заметил, как у заставы засуетились. Он тронул лошадей и стал съезжать к городу.
Когда он подъехал к заставе, мимо него пронеслась тройка. Пестель оглянулся: Савенко не отбежал еще и версты, тройка гналась за ним по пятам. Вот она все ближе, ближе… Догнала!
У шлагбаума Пестеля остановил жандарм и вручил ему письмо от дежурного генерала Байкова. Байков просил немедленно по приезде явиться к нему на квартиру. Пестель в сопровождении жандарма отправился туда.
Несмотря на ранний час, у Байкова было много народу: штабные офицеры, адъютанты, ординарцы пришли кто с рапортами, кто за получением распоряжений. Увидев Пестеля, Байков засуетился и стал сворачивать дела.
— Сейчас, погодите, Павел Иванович, — проговорил он, — вот разделаюсь с ними и займемся с вами.
Пестель усмехнулся и промолчал. Когда за последним посторонним закрылась дверь, Байков еще несколько минут перебирал бумаги, потом повернулся к Пестелю, откашлялся и торжественно произнес:
— По приказу его сиятельства главнокомандующего… — и вдруг смущенно махнул рукой и сказал просто: — Да что там, полковник, пожалуйте вашу шпагу… приказ такой вышел… — Помолчав, совсем уже по-домашнему сказал: — А жить будете вот тут, рядом в горнице, только сейчас там не топлено… Впрочем, сегодня мы уж как-нибудь вместе, а я велю истопить — завтра туда перейдете. — Помолчал, покачал головой и заметил: — Ну и дела!..
Итак, даже в самый последний момент Пестель не решился дать сигнал к восстанию. Дожидаться известий с севера уже некогда, оставался риск… и Пестель рискнул — поехал в Тульчин с надеждой: может быть, не арестуют…
В глубине души теплилась надежда: может быть, еще что-нибудь выйдет, может быть, северянам удастся совершить переворот, и тогда… тогда главное — «Русская Правда» — она должна быть краеугольным камнем будущей России.
Судьба конституции еще в ноябрьские дни очень беспокоила Пестеля, и он старался спрятать «Русскую Правду» надежнее. Она была переправлена Николаем Крюковым в местечко Немиров и сдана на хранение члену тайного общества Мартынову, но в связи с обострившейся обстановкой хранение ее у Мартынова казалось опасным, и пестелевский труд был переправлен обратно в Тульчин, а оттуда в деревню Кирнасовку. Жившим в Кирнасовке членам общества Бобрищеву-Пушкину и Заикину поручено было спрятать «Русскую Правду». Они зашили объемистую рукопись в клеенку и закопали в полу своей хаты. Все это Пестель знал, но этим не исчерпывалась история прятания «Русской Правды». Еще когда конституцию привезли из Немирова и Барятинский мучительно искал, куда можно было бы ее надежней спрятать, Юшневский потребовал немедленно ее уничтожить. Уничтожить «Русскую Правду» Барятинский не решился, тем более что сам Пестель не давал распоряжения об ее уничтожении. Юшневский же понимал, что в случае ареста она может быть основной уликой против них.
Барятинский сообщил Юшневскому, что пестелевская конституция уничтожена, а в то же время отдал приказ братьям Бобрищевым-Пушкиным перепрятать ее еще надежней, и те зарыли ее в придорожной канаве у деревни Кирнасовки.
А поиски «законов», которые составлял мятежный полковник, и были основной целью поездки генерал-адъютанта Чернышева в Тульчин. На следующий день после приезда Чернышев совещался с Витгенштейном и Киселевым, рассказал о причине своего визита, изложил данные, которыми располагало правительство, и предложил немедленно арестовать Пестеля и забрать его бумаги. Так и было решено.
Чернышев и Киселев выехали в Линцы как раз в то время, когда в Тульчин по другой дороге прибыл Пестель. Дождавшись в Линцах Майбороду, подробно допросив его, генералы принялись обыскивать дом Пестеля.
Майборода указал на шкаф, где, по его мнению, должны были храниться компрометирующие бумаги, но там оказались лишь хозяйственные записи и счета, несколько пакетов с письмами от родных, записки, касающиеся военного устройства, да «масонские знаки с патентами на пергамине». Подозрительными казались два пустых зеленых портфеля: не здесь ли хранил Пестель свои «законы»? Но портфели были покрыты густым слоем пыли, так что если там и было что-нибудь раньше, то давно уже изъято. Тщательный осмотр шкафов, столиков, кроватей ничего не дал. Ретивые следователи не поленились слазить на чердак, пошарить в полковом цейхгаузе, где хранились вещи Пестеля, но ничего найти не смогли.
Чернышев и Киселев были неприятно поражены результатами обыска. Прежде всего это сказалось на Майбороде: с ним стали обращаться с нарочитым презрением, не стеснялись покрикивать и даже за обедом садились отдельно.
Решено было допросить Савенко, которого задержали в Тульчине, а потом переправили в Линцы. Допрос ничего не дал: Савенко отговаривался полным незнанием. Вызвали и допросили Лорера, но тот тоже от всего отказывался.
16 декабря Чернышев и Киселев вернулись в Тульчин, прихватив с собою Майбороду. Снова снимали показания со злополучного доносчика. Майборода из кожи вон лез, чтобы оправдать свои прежние доносы, он назвал многие фамилии, вспоминал все, что связано было с этими фамилиями. На основе его показаний допрашивали Бурцова и Аврамова. И снова безрезультатно. 21-го числа перед следователями предстал генерал-майор Кальм, он первый признался, что в 1821 году был принят в Союз благоденствия, но заявил, что этот союз был только благотворительной организацией. 22 декабря допрашивали, наконец, самого Пестеля, но от него ничего не добились, он решительно отрицал свою причастность к какому бы то ни было тайному обществу.
Но вслед за этим искателям злоумышленников повезло: полковник Канчиалов признался, что Лорер хвалил Пестеля и «старался внушить ему, Канчиалову, что если что случится с императором Александром, то можно требовать конституции…». Поручик Вятского полка Старосельский, принятый в свое время Майбородой, на допросе дал исчерпывающие показания — по полноте они могли сравниться только с показаниями Майбороды, но, к сожалению следователей, все, что он знал, он знал от того же Майбороды и никакими иными сведениями не располагал. Материала, составленного на основе показаний Майбороды и Старосельского, отчасти Канчиалова и Кальма, было явно недостаточно, чтобы торжествовать победу и представить начальству доклад о том; что все нити страшного заговора распутаны.
10
14 декабря в Петербурге должна была состояться церемония присяги Николаю I.
На 14 декабря Северное общество назначило восстание. «Случай удобен, — писал декабрист И. И. Пущин. — Ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов».
13 декабря на квартире у Рылеева состоялось последнее совещание, на котором был окончательно утвержден план действий.
План был ясен, продуман и при точном его выполнении сулил несомненный успех.
Утром 14 декабря на Сенатскую площадь должны были выйти революционные войска и окружить здание Сената. В это время к сенаторам, собравшимся для присяги, явится делегация от восставших и предложит им объявить Николая I низложенным и издать революционный Манифест к русскому народу. В Манифесте должно было говориться об «уничтожении бывшего правления», отмене крепостного права, отмене рекрутчины, тяжелых подушных податей и накопившихся по ним недоимок. Добившись — в крайнем случае силой оружия — согласия сенаторов на издание Манифеста, немедленно опубликовать его и распространить среди народа.
В то же время, пока революционная делегация будет вести переговоры в Сенате, гвардейский морской экипаж, Измайловский полк и конно-пионерный эскадрон должны были занять Зимний дворец, арестовать царскую семью впредь до решения ее судьбы временным правительством.
Руководителем — «диктатором» — восстания был выбран князь С. П. Трубецкой.
В одиннадцатом часу утра на Сенатскую площадь под развевающимся полковым знаменем — наградой за Бородино — первым пришел Московский полк. Полк стал четырехугольным каре вокруг памятника Петру I.
К московцам подскакал петербургский генерал-губернатор граф Милорадович:
— Вы — пятно России! — выкрикивал граф. — Вы преступники перед царем, перед отечеством, перед светом, перед богом! Что вы затеяли? Что вы сделали? Падите к ногам императора и молите о прощении!
Мертвое молчание было ответом на его слова. Оболенский штыком повернул лошадь генерал-губернатора, в тот же момент раздался выстрел — стрелял Каховский, — смертельно раненный Милорадович упал с лошади на руки адъютанта.
Тем временем в ряды восставших влились матросы гвардейского морского экипажа, пришли лейб-гренадеры. На площади выстроилось уже около трех тысяч солдат.
Против них, у Зимнего дворца, в окружении свиты стоял бледный Николай I. К дворцу подходили верные царю части: пехота, кавалерия, артиллерия. Прилегающие к Сенатской площади улицы и набережные были заполнены бурлящим народом. Повсюду собирались группы людей, горячо обсуждавших события, жадно ловивших слова офицеров, объяснявших цель восстания.
— Доброе дело, господа, — отвечали офицерам из народа. — Кабы, отцы родные, вы нам ружья али какое ни на есть оружие дали, то мы бы вам помогли, духом все переворотили.
В Николая I и его свиту летели камни, поленья.
Но декабристы не решились прибегнуть к помощи народа. А план восстания нарушился с самого начала.
К тому времени, когда войска вышли на Сенатскую площадь, здание Сената было уже пусто: сенаторы присягнули Николаю I и разъехались по домам. Якубович, который должен был вести солдат и матросов на Зимний, в самую последнюю минуту отказался выполнить данное ему поручение, боясь, что при захвате дворца царь «нечаянно» будет убит народом.
Требовалось срочно менять план действий. Все зависело от находчивости и решительности диктатора Трубецкого. Но Трубецкой не явился на площадь. Восстание осталось без руководителя.
Короткий зимний день клонился к вечеру. Пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на одном месте. В три часа стало заметно темнеть. В наступивших сумерках усилилось волнение в народе.
Восставшие ожидали приказа к действию, но время было безвозвратно упущено, инициатива перешла в руки царя. Николай приказал стрелять по солдатскому каре картечью.
Залп, другой, третий… Под градом картечи падали убитые и раненые. Ряды каре дрогнули, началось бегство.
Солдаты расстроенной толпой бросились к Неве. Уже на льду Невы Михаил Бестужев пытался построить солдат в боевой порядок и перейти в наступление, но ядра царской артиллерии раскалывали лед, бегущие по Неве проваливались в полыньи и тонули…
Все было кончено.
Всю ночь на площади горели костры, полицейские убирали трупы и засыпали кровь чистым снегом.
В ночь на 15 декабря в Зимний дворец начали свозить арестованных.
23 декабря в Тульчине узнали о восстании на Сенатской площади и о присяге Николаю I. Чернышев боялся пересидеть в провинции и упустить удачный случай занять хорошее место при новом императоре. 26 декабря он отбыл в Петербург.
Как раз в этот день в Тульчин приехал Волконский. Еще не зная об аресте Пестеля, он вез ему сообщение о делах своей управы, но по дороге встретил Савенко, которого везли куда-то под охраной. Это сильно встревожило Волконского, и он поспешил письмо уничтожить.
В Тульчине он узнал об аресте Пестеля и о месте его содержания. Он решил непременно увидеться с ним. Предлогом для посещения квартиры Байкова могла послужить деловая беседа с дежурным генералом о продовольствовании дивизии Волконского.
Волконский застал Пестеля мирно пьющим чай со своим тюремщиком. Байков принял нежданного гостя сухо, но выставить его не решился. После обычных приветствий Волконский завел с Байковым разговор о своей дивизии, а потом спросил:
— Не дадите ли вы мне дрожки? Кругом сейчас такая грязь — не пройти, не проехать, а мне надо ехать к Юшневскому.
Байков рад был выпроводить Волконского и тут же распорядился заложить для князя дрожки. Но отдал распоряжение, не выходя из комнаты. «Черт побери, — подумал Волконский, — неужели не удастся выпроводить его из комнаты хотя бы на минуту!..» И тут доложили, что приехал фельдъегерь с донесением из Таганрога. Волей-неволей пришлось Байкову выйти в другую комнату. Едва оставшись наедине с Пестелем, Волконский быстро сказал ему по-французски:
— Мы преданы. Выдал Майборода. Знаю это от хорошего знакомого, хотя и не члена общества. Но ничего, мужайтесь.
— Мужества у меня достаточно, не беспокойтесь, — так же вполголоса ответил Пестель. — Вы сами держитесь крепче. А из меня хоть жилы будут тянуть — ни в чем не сознаюсь! Одно только необходимо — уничтожить «Русскую Правду»: одна она может нас погубить.
— Забыл сказать, — быстро произнес Волконский. — Заика арестован…
Пестель побледнел. Заика было прозвище Барятинского. Но тут вошел Байков и прервал разговор.
— Ну что ж, я поехал, — обратился к нему Волконский, — поехал к Юшневскому, — значительно добавил он, чтобы Пестель догадался о его намерении все сообщить Юшневскому. Пестель еле заметно кивнул головой.
Допрос в следственной комиссии. Рисунок художника Н. Д Кардовского.
Казнь. Рисунок художника И. Д. Кардовского.
В тот же день Пестеля перевели от Байкова в старое здание доминиканского монастыря. В келье, за железными решетками, было надежней содержать столь опасного арестанта. Но Пестель пробыл там недолго. На следующий же день прибывший из Петербурга фельдъегерь привез приказ военного министра Татищева: срочно доставить в столицу Пестеля, Лихарева, Крюкова, Бобрищева-Пушкина и Юшневского.
И Пестеля повезли в Петербург.
11
Сергей Муравьев-Апостол узнал о восстании на Сенатской площади 25 декабря. И в этот же день командир Черниговского полка полковник Гебель получил приказ начальника Главного штаба 1-й армии: «По воле государя императора покорнейше прошу ваше сиятельство приказать, немедленно взять под арест служащего в Черниговском пехотном полку подполковника Муравьева-Апостола с принадлежащими ему бумагами, так, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под строжайшим присмотром в С.-Петербург прямо к его императорскому величеству».
Муравьева в Василькове не оказалось, он был в Житомире. Гебель и жандармы спешно выехали в Житомир. Бестужев-Рюмин помчался предупредить друга о грозящем аресте.
В Житомире Гебель и жандармы, узнав, что Сергей Муравьев-Апостол вместе с братом Матвеем уже уехали обратно в Васильков, бросились за ними в погоню. На пути они встретили жандармского поручика, который вез приказ об аресте Бестужева-Рюмина.
Бестужеву удалось предупредить Муравьевых. Теперь они, уже трое, скрываясь от погони, доехали до Трилес, где была расквартирована 5-я рота Черниговского полка, которой командовал член тайного общества поручик Кузьмин. Сам Кузьмин находился в Василькове. Муравьевы остались в квартире Кузьмина, Бестужев уехал с запиской в Васильков.
Гебель с жандармами приехал в Трилесы. Они зашли на квартиру Кузьмина, чтобы обогреться и узнать, не были ли у него Муравьевы. В квартире было темно. Гебель засветил огонь и увидел Сергея Муравьева. Матвей был в соседней комнате.
Гебель расставил вокруг дома стражу и прочел братьям приказ об аресте.
На рассвете из Василькова приехал Кузьмин. Он сразу вошел в комнату арестованных и быстро спросил:
— Что делать?
— Освободить нас, — ответил Сергей Муравьев.
Вместе с Кузьминым из Василькова приехали еще трое офицеров — членов тайного общества — Щепилло, Соловьев и Сухинов.
Гебель, увидев офицеров, закричал на них, чтобы они возвращались к своим частям. В ответ Сухинов потребовал объяснить, за что арестованы Муравьевы.
— Не ваше дело, — сказал Гебель.
— Ты, варвар, хочешь погубить Муравьевых! — крикнул Щепилло, вырвал из рук караульного ружье и всадил штык в грудь полковника. Гебель крикнул солдатам, чтобы они кололи возмутителей. Но ни один из солдат не двинулся с места.
Разбив окно, из дома на улицу выскочили Сергей и Матвей Муравьевы.
Юг, как и было раньше договорено, выступил в поддержку севера. Но выступление произошло уже после разгрома северян на Сенатской площади. И это чрезвычайно осложнило действия и план восстания южан. Оставалась надежда лишь на то, что, может быть, удастся поднять всю Южную армию и, закрепившись на юге, двигаться затем к столицам и сделать то, что не удалось сделать северянам.
Утром 30 декабря пятая и присоединившиеся к ней еще две роты Черниговского полка вступили в Васильков. Васильков оказался во власти восставших.
Из Василькова Черниговский полк в боевом порядке под командованием Сергея Муравьева-Апостола двинулся на соединение с воинскими частями, в которых вели работу члены Общества соединенных славян.
Но 3 января 1826 года на пути — недалеко от Трилес — их встретил отряд генерала Гейсмара, высланный для подавления восстания.
Ураганный картечный огонь обрушился на черниговцев. В первую же минуту был ранен в голову Сергей Муравьев-Апостол, убит Щепилло, ранен Кузьмин. В поредевшие ряды солдат врезался эскадрон гусар.
В пять часов вечера под усиленным конвоем в Трилесы доставили арестованных: Сергея Муравьева-Апостола, его брата Матвея, Соловьева, Кузьмина, Бестужева-Рюмина.
Арестованных офицеров поместили в корчме, арестованных солдат развели по избам.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ «ПОСТАВЛЕНЫ ВНЕ РАЗРЯДОВ»
Пять сосен тогда выступают вперед,
Пять виселиц, скрытых вначале;
И сизая плесень блестит и течет
По мокрой и мыльной мочале…
Э. Багрицкий1
естеля привезли в Петербург 3 января 1826 года. «Пестеля поместить в Алексеевский равелин, выведя для того Каховского или другого из менее важных», — писал Николай I в сопроводительной записке коменданту Петропавловской крепости.
Значение Пестеля тайный комитет уже хорошо себе представлял: арестованные и допрошенные к тому времени члены Северного общества указывали на Пестеля как на одного из главнейших заговорщиков. Как много известно тайному комитету, Пестель понял на первых же допросах. Запирательство было бы бесполезно и губительно. Пестель стал давать показания о деятельности общества и своей роли в нем.
Ему казалось, что не все еще потеряно: члены комитета не скупятся на обещания снисхождения и даже полной амнистии всем «заблудшим», если те будут откровенны в своих показаниях.
«Неужели возможна свобода? Это маловероятно, вряд ли царь будет столь снисходительным, но разве можно лишить себя надежды? Надо показать свою полную чистосердечность и убедить царя в необходимости даровать ему, Пестелю, свободу».
12 января он пишет члену комитета генералу Левашеву письмо и прилагает к нему свои показания как «лучшее доказательство полной и совершенной искренности». Эти показания дальнего прицела, они предназначены не столько для Левашева, сколько для царя. «Возможно, эта бумага окажется бесполезной комитету; в таком случае благоволите представить ее Его величеству императору, — в ней содержится самая строгая и полная истина». И тут же Пестель спешит уверить, что скрывать что-либо, ему нет смысла: «Все связи и планы, соединявшие меня с обществом, порваны навсегда. Буду ли я жив или мертв, — я отдален от него навеки». Он, Пестель, не может быть неблагодарным; если он будет амнистирован, то, сознавая, что своей свободой и жизнью обязан одному императору, он, естественно, в дальнейшем почтет своим долгом быть преданным ему до конца. «Это математически верно!» — бросает он характерную фразу. Можно ли не убедиться этой железной логикой?
Но сквозь уверения в преданности в письме проскальзывает странная мысль, диссонирующая оговорка: «Не так обстояло дело с покойным государем. Об этом я мог бы сказать немало, но здесь не место и не время, да и вообще об этом не стоит говорить».
О чем же Пестель счел возможным умолчать?
Пестель мог пойти на известный компромисс, за жизнь он готов принести клятву верности Николаю, но только ему лично. Ни словом Пестель не обмолвился о том, что он отказывается от враждебного отношения к старому строю, ни разу не покаялся в заблуждении. Он не кается, он говорит правду, за это просит оставить ему жизнь, которая с этих пор «будет состоять только из верности, усердия и полной и исключительной преданности личности и семейству его величества». Видимо, покойный государь на это не мог и не должен был рассчитывать. Другое дело его брат, — оказывая Пестелю и его товарищам великодушие, он тем самым признавал косвенно справедливость их взглядов и поступков. Такому государю не грех быть преданным.
Вряд ли это письмо понравилось Левашеву, ведь оно было почти вызывающим. Государственный преступник предлагает царю честно договориться. Тактика Пестеля в данном случае не оправдала себя. Тяжело, но приходилось идти на сделку с совестью, надо было каяться. Но разве дело, которому он посвятил всего себя, не стоило того, чтобы вымолить ради него жизнь и свободу? Он пишет другому члену комитета, Чернышеву, своему старому следователю, покаянное письмо. Тот молчит. 31 января Пестель пишет второе письмо тому же Чернышеву. Его тяжело читать. «Я желал обнаружить перед его величеством всю искренность нынешних моих чувств. Это — единственный способ, которым я мог доказать ту жгучую и глубокую скорбь, которую испытывал я в том, что принадлежал к тайному обществу…» «Да соблаговолит государь обратить на меня взор милости и сострадания… Я слишком виноват перед государем, чтобы осмелиться непосредственно обращаться к нему…» Как все это далеко от настроений первого письма!
Но его письмо не только тактический ход. Пестель действительно встревожен. Он встревожен состоянием родителей: ведь они стары. Какое впечатление произведет на них его арест? Но главное — это томительная неизвестность, которая в тысячу раз хуже смерти. «Ведь я, — пишет он Чернышеву, — совершенно ничего не знаю о ходе нашего дела».
Действительно, на что можно рассчитывать? Казались одинаково возможными и смерть и свобода. Он просит прекратить эти муки неопределенности, он молит сообщить ему «слова надежды и утешения», если государь благоволит их высказать.
Но подобные мольбы он высказывает только в письмах. На допросах он остается спокойным и твердым. Никто не выдержал на следствии больше допросов и очных ставок, чем он, и «везде и всегда был равен самому себе, — вспоминает современник. — …Казалось, он один готов был на раменах * своих выдержать тяжесть Альпийских гор. В комиссии всегда отвечал с видимой гордостью и каким-то самонадеяньем».
Записка Николая I коменданту Петропавловской крепости с приказом о водворении П. И. Пестеля в Алексеевский равелин.
2
На одном из допросов в пылу раскаянья один из молодых членов Южного общества прапорщик Зайкин вызвался указать место, где зарыта «Русская Правда». За это ухватились — решено было везти Заикина на юг.
В один из январских дней из Петропавловской крепости выехала фельдъегерская тройка. В ней сидел закованный в кандалы Заикин и адъютант Чернышева штаб-ротмистр Слепцов,
Заикин был мрачен. Его пугала опрометчивость, с которой он вызвался отыскать «Русскую Правду»: ведь он ее не зарывал, он только слышал, где она зарыта. Что, если не удастся ее найти? Но отступать было страшно. Слепцов догадывался, отчего мрачен его арестант, и пытался уговорить Заикина сознаться, что он ложно показал на себя, но Заикин клялся и божился, что бумаги принимал и зарывал он.
В ночь с 5 на 6 февраля Заикин, с которого были сняты кандалы, Слепцов, брацлавский исправник Поповский с несколькими рабочими блуждали в окрестности Кирнасовки. Опасения Слепцова оправдались: Заикин не мог указать точно, где зарыта пестелевская конституция.
С трудом нашли злополучную канаву, прошли вверх по ней шагов двести.
— Долго еще идти? — зло поинтересовался Слепцов.
— Ройте здесь, — с дрожью в голосе сказал Заикин, указав на место против какой-то борозды, и торопливо принялся объяснять: — Яма была квадратная, в аршин шириной и аршина полтора глубиной. Рыл я ночью, один, с опаской, и потому не могу точно сказать, что это именно здесь.
Рабочие разгребли снег, под снегом был нетронутый дерн, без всяких признаков, что здесь недавно рыли. Слепцов сердито качал головой, видя, как рабочие долбили мерзлую землю. Заикин нервничал, он то подбегал к яме, то возвращался к Слепцову и пытался объяснить, как он зарывал бумаги, но тот только молча махнул рукой.
Убедившись, что в этом месте рыть бесполезно, Заикин повел людей еще шагов за триста вверх по канаве. Снова рыли и снова ничего не нашли. Уже рассвело, когда Заикин показал третье место — у дороги, ведущей к Кирнасовскому лесу.
— Помню, — уныло объяснял Заикин, — что зарывал у какой-то борозды… Может, ночью я дорогу принял за борозду…
И третье место ничего не дало. Слепцов потерял терпение. Он подошел к Заикину и, сдерживая ярость, тихо спросил:
Какого черта вы обманывали комитет и самого государя? — Побледневший Заикин схватил его за руку и потянул в сторону.
— Ради бога, — сказал он, — не открывайте никому, что я вам сейчас скажу. Не наказание за ложь страшит меня, но презрение всякого порядочного человека. Умоляю вас, дайте слово, что вы никому не откроете, и я вам все расскажу.
Слепцов, подумав, что слово можно дать, но можно и взять обратно, ответил:
— Даю слово. Говорите, что еще там.
— Поверьте мне, никогда не имел я доверенности настоящей от общества, — шепотом объяснял Заикин. — Эти бумаги имел я в руках только для передачи Бобрищевым-Пушкиным, которые их и зарыли, но где — не успели мне показать. Знал я это место только по рассказам. Но Пушкины ведь заперлись, и все подозрения комитета пали на меня. Понимая, сколь запирательство их преступно, хотел я как друг пожертвовать собой, принять все на себя и спасти их тем от наказания… Ведь твердо был уверен, что по рассказам сумею определить место… Полагаюсь только на вас, Николай Сергеевич. Мой брат служит прапорщиком здесь, в Пермском полку, ему Павел Пушкин показал место. Позвольте свидеться с ним он мне все откроет…
Заикин-младший, прочитав записку брата, тотчас же согласился поехать со Слепцовым и указать место, где зарыта «Русская Правда». Показав это место, он уехал, а Слепцов отправился в Кирнасовку.
Полчаса спустя на указанное место прибыли Заикин и Поповский с рабочими. Место было то же, что показал Заикин в первый раз, только «не в самом углублении канавы, а немного под берегом».
В три часа пополудни пестелевская конституция была вырыта.
Заметив в комьях мерзлой земли кусок темной клеенки, Слепцов приказал рабочим выйти из канавы, спустился в яму, достал пакет и показал его Заикину.
— Это? — спросил он.
Заикин кивнул головой. Слепцов принялся вытирать клеенку, кое-где тронутую сыростью.
Но для комитета самым главным оказалось найти «Русскую Правду», чтобы она, чего ради, не попала в чужие руки. Члены комитета не утомляли себя разбором конституции Пестеля, не вызвала она особого интереса и у самого царя. Николай просматривал ее всего один день — срок, явно недостаточный, чтобы с ней ознакомиться. Главное, что интересовало следователей, — это отношение заговорщиков к цареубийству.
А в этом отношении трудно было найти более «преступную» личность, чем Пестель. Тем более, что и «преступность» свою он не скрывал.
20 апреля он давал свое последнее показание. В нем, в частности, были знаменательные слова: «… решился я лучше собой жертвовать, нежели междоусобие начать, как то и сделал, когда в главную квартиру вызван был… Сие есть совершенная истина», — были последние слова его показаний.
И следователи верили ему. Их впечатление от его показаний было резюмировано так: «Вообще казался откровенным и на все почти вопросы отвечал удовлетворительно; многие показания, на него сделанные, признал справедливыми, многие совершенно отверг, принося в доказательство их неосновательности искреннее его сознание в преступлениях, не менее важных, и бесполезность затем запираться в таких пунктах, которые не могут усугубить его вину, уже столь великую».
3
Иван Борисович был потрясен, узнав об аресте сына, Елизавета Ивановна слегла. Гнетущее чувство тревоги за судьбу Павла заполнило дом Пестелей. 23 февраля Иван Борисович поехал в Петербург, надеясь увидеться с сыном, но до окончания следствия ему не дали свидания.
1 июня вышел императорский указ о назначении верховного уголовного суда над декабристами. В состав Суда вошли семьдесят два человека — сенаторы, члены Государственного, совета и синода — «жалкие старики, поседелые в низкопоклонстве и интригах», по выражению Огарева. Но, по сути дела, единственным судьей был царь. Им все было предусмотрено заранее. В письме к Константину Павловичу в Варшаву еще до вынесения приговора он говорит о смертной казни как о деле решенном.
3 июня, в день открытия суда, Иван Борисович, наконец, получил разрешение повидать сына. Павел успокаивал безутешно рыдавшего старика, предчувствовавшего участь сына.
Суд разделил всех участников заговора на одиннадцать разрядов по силе их преступлений, но тут же оговорился: «Сколь ни тяжки вины, в первом разряде означенные, но есть в числе подсудимых лица, кои по особенному свойству их преступлений не могут идти в сравнение даже с теми, кои принадлежат к сему разряду. Превосходя других во всех злых умыслах силою примера, неукротимостью злобы, свирепым упорством и, наконец, хладнокровною готовностью к кровопролитию, они стоят вне всякого сравнения. Комиссия признала справедливым, отделив их, составить им с изложением их злодеяний особенный список».
Пятерых, поставленных вне разрядов: Пестеля, Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского и всех, попавших в первый разряд, приговорили к смертной казни: пятерых — к четвертованию, тридцать одного — к отсечению головы.
Но царь решил сыграть роль милостивца: первому разряду он даровал жизнь, заменив смертную казнь вечной каторгой, но пятерых, «…кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, — говорилось в его указе, — предаю решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится». Чтобы у судей не оставалось никаких сомнений в отношении преступников, поставленных вне разрядов, барон Дибич направил председателю суда князю Лопухину разъяснение о роде казни: «…государь император повелеть мне соизволил предварить вашу светлость, что его величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную».
Судьи поняли, что «с пролитием крови» не сопряжено только повешение.
4
Когда за Пестелем закрылась дверь камеры, он с минуту постоял, потом, тяжело ступая, подошел к койке и сел. От долгого стояния в душном зале суда он ослабел, в глазах мелькали красные круги. Ему казалось, что это оттого, что он долго смотрел на ярко-красное сукно стола, за которым сидели судьи. Сколько их было, в расшитых золотом мундирах, в черных рясах, седых и лысых, равнодушных и любопытных, поблескивающих стеклышками лорнетов… В памяти встало розовое, полное лицо молодого чиновника, стоявшего у налоя, перед которым возвышалось зерцало правосудия. Пестель не вслушивался в то, что читал чиновник, только когда звонкий голос чиновника стал прерывистей, глуше, он подумал: «Значит, давно читает».
Без всякой связи доходили до сознания фамилия, отдельные выражения… хорошо запомнились только слова: «Полковник Пестель… умышлял на истребление императорской фамилии и с хладнокровием исчислял всех ее членов, на жертву обреченных…»
«Это когда я с Поджио говорил, — вспомнил он, — еще пальцы загибал, когда считал… Да, да, как раз в тот вечер я сказал ему, что уйду в Киево-Печерскую лавру». Вспомнился Киев и почему-то вспомнилась свадьба Сергея Волконского: «Как весело тогда было, а он сердился на поляков… Какое испуганное лицо было у Гродецкого… Все прошло. Ах, боже мой, только бы скорее!..»
Рядом кто-то выдохнул: «Повесить!»
«Кого повесить? Его повесить?.. Черт с ним, только бы скорее, совсем измотался за эти месяцы следствия, дрожат от слабости ноги… Почему стол подковой? Он обхватывает их пятерых со всех сторон, как щупальцами, за ним эта шевелящаяся масса в красных мундирах… Но какое спокойное лицо у Рылеева, молодец! Да, надо держаться, держаться во что бы то ни стало!»
Пестель рванул на себе галстук… «Душно, нечем дышать. Так, значит, нас повесят? Ну что ж, пусть, но он не даст повода для злорадства, он будет держаться…»
Скрипнула дверь камеры, Пестель повернул голову. Перед ним стоял пастор Рейнбот — на глазах слезы, скорбные складки у губ, он тяжело дышит от волнения.
— Я пришел к вам, сын мой… причастить вас.
— Передайте моему отцу, — тихим, но твердым голосом сказал Пестель, — что меня расстреляют, поняли, расстреляют. Ни слова о… виселице.
— Все, все скажу, как вы просите, — быстро заговорил Рейнбот, — но долг, последний долг христианина…
— У меня нет долгов, — оборвал его Пестель. — Я чист перед всеми. Вы друг нашего семейства, и я прошу вас поддержать отца в эти трудные дни. Он верит вам.
— А вы? Чем я заслужил ваше недоверие? Каждый раз, когда я прихожу к вам, вы начинаете пререкания со мной. Вы предстанете завтра перед лицом всевышнего, подумайте, что ожидает вас. Ни один волос не падет с головы нашей без воли его,
— Вот-вот, я говорю то же самое. Значит, только по воле его я шел тем путем, который привел меня сюда. Какие же грехи хотите вы мне отпустить, те, которые я совершал по воле бога?
— Не кощунствуйте хотя бы перед смертью. Следует ли думать о делах мира, когда вы завтра предстанете перед ним?
— Только дела этого мира и могут меня утешить, только сознание, что я умираю не зря, дает мне спокойствие. Что вы мне можете предложить взамен?
— Смирение и раскаяние.
— Смирение перед палачами и раскаяние в том, что я хотел блага для своей родины?
— Нет, нет, вы — погибший человек, — слезы текли по морщинистым щекам пастора. — Я не могу говорить с вами. — Рейнбот повернулся и вышел из камеры.
П. И. Пестель на следствии. Рисунок Ивановского.
5
12 июля 1826 года в Санкт-Петербургской городской тюрьме спешно сооружали виселицы и эшафот.
В ночь на 13 июля между одиннадцатью и двенадцатью часами из городской тюрьмы к Петропавловской крепости потянулись возы с разобранным эшафотом и виселицами. Всего возов было шесть, а прибыло их пять, — шестой, самый важный, на котором был брус с кольцами для веревок, куда-то исчез. Пришлось срочно делать новый.
Сразу же по прибытии возов стали устанавливать эшафот. Место выбрали у крепостного вала против ветхой церкви Святой Троицы. Под эшафотом вырыли глубокие ямы и застелили их досками. Недалеко от кронверка стояло старое здание Училища торгового мореплавания — оттуда принесли скамейки под виселицы. К 3 часам утра все было готово.
Белая петербургская ночь подходила к концу: город еще спал в сырых предрассветных сумерках; только иногда то там, то здесь глухо прокатывалась барабанная дробь, да предрассветную тишину прорезал надрывный звук труб: к крепости стягивались войска, по одному эскадрону или взводу от каждого гвардейского полка.
Не все согласились участвовать в страшном спектакле, поставленном Николаем. I. Полковник граф Зубов отказался вести эскадрон своих кавалергардов в крепость. «Там мои товарищи, и я не пойду», — заявил он. Офицер, которому приказали сопровождать на эшафот смертников, ответил: «Не хочу на склоне лет стать палачом людей, которых уважаю». Но таких было немного, остальные шли угрюмо, молча, но шли. Шел и Иван Шипов, которого Николай «простил» за выступление против товарищей
14 декабря, но велел присутствовать при казни его друга и родственника Пестеля.
Зрителей собралось немного. За день до того полиция распустила слух, что казнь будет в восемь часов утра на Волковом поле. Петербургское начальство боялось большого скопления народа. Явились только жители близлежащих домов, разбуженные барабанным боем, да немногие, кто сумел узнать об истинном месте казни.
В начале пятого часа утра в Алексеевский равелин явились два палача, несколько полицейских во главе с полицмейстером Чихачевым и двенадцать солдат Павловского полка под командой поручика Пилкмана. Отворили двери камер. Раздался возглас: «Пожалуйте, господа!» Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский вышли в коридор. У всех руки были связаны кожаными ремнями, на ногах гремели кандалы. Они бросились друг к другу и, насколько позволяли ремни, обменялись крепкими рукопожатиями.
Снова раздалась команда, и шествие двинулось по коридору. Впереди Пильман, за ним пятеро полицейских с обнаженными шпагами, потом смертники, солдаты и, наконец, палачи. Чихачев наблюдал за шествием, стоя в стороне.
Шли медленно — осужденным мешали кандалы, кроме того, Пестель чувствовал себя очень слабым и еле передвигал ноги. Перешагнуть порог тюрьмы у него не хватило сил, его перенесли солдаты.
Вышли на кронверк. Свежий воздух приободрил осужденных, они оживились, пошли быстрее. Впереди, отдельно от всех, шел Каховский, за ним Муравьев в паре с Бестужевым, потом Рылеев с Пестелем. Пестель и Рылеев тихо говорили между собой по-французски. «C’est trop»[26], — донеслось до полицейских замечание Пестеля, когда они проходили мимо эшафота.
Приказали остановиться и сесть. Все пятеро опустились на траву.
Было тихо-тихо. Уже рассвело, небо покрыто серыми тучами, с Невы тянуло сыростью. Было видно, как на пустыре перед Монетным двором строились в каре войска.
— Как странно, — сказал вдруг Муравьев, — помнится, лет десять тому назад я подарил своей кузине альбом. По поверью, кто первый напишет в альбом что-нибудь, умрет насильственной смертью. Первая написала она что-то вроде — пишу первая, потому что не боюсь смерти. Вслед за ней написал и я — как сейчас помню: «Я тоже не боюсь и не желаю смерти… Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым».
Рылеев улыбнулся и хотел ответить, но раздался голос Чихачева:
— Встаньте, господа, надо пройти в кронверк!
Их развели по камерам.
Когда вторично вывели смертников, на поле, в квадрате войск, еще дымили костры, где догорали мундиры их товарищей, обреченных на каторгу и ссылку. Здесь только что прошла церемония гражданской казни ста двадцати «лишенных чинов и дворянства».
Смертников сопровождал протоиерей Мысловский. Священник слышал, как Пестель, взглянув на эшафот, произнес: «Неужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отворачивались от пуль и ядер. Можно было бы нас и расстрелять!»
Всех пятерых выстроили перед эшафотом. Чихачев зачитал приговор. Читал внятно, со вкусом. «За… такие злодеяния — повесить», — четко произнес он последнюю фразу,
— Господа, надо отдать последний долг! — звонко сказал Рылеев, и все опустились на колени. Молились за родных, близких, за Россию и благоденствие ее. Потом, поднявшись, пожали друг другу руки, поцеловались. Тут Каховский не выдержал, упал на грудь священника и зарыдал…
…Когда подошли палачи, все пятеро спокойно стояли рядом. Стали надевать на голову мешки, потом стянули руки покрепче, повели под руки к эшафоту… Шли медленно… Оркестр Павловского полка играл марши, веселые, бравурные марши… Поскрипывали ступеньки лестницы… Взошли. Первого под крайнюю правую виселицу подвели Пестеля, под вторую — Рылеева, под следующие — Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского… Накинули веревки…
По знаку палач нажал пружину, помост со скамейками упал, и… Рылеев, Бестужев и Каховский сорвались вниз.
Не выдержали, оборвались веревки. Послали за другими… Кутузов кричал: «Вешайте их, вешайте скорее!» Палачи полезли доставать провалившихся в яму троих несчастных, окровавленных, искалеченных.
Народ, видевший все это, начал роптать. Бледный, с отвалившейся челюстью Бенкендорф припал к шее лошади и боялся поднять голову… А музыка продолжала играть веселые марши, и чем громче был ропот, тем громче играла музыка… Вот снова повели на эшафот Рылеева и Каховского, пронесли разбившегося Бестужева, снова надели на них петли… На сей раз все сошло «благополучно».
«Экзекуция кончилась с должной тишиной и порядком, — доносил Кутузов Николаю, — как со стороны войск, так и со стороны зрителей, которых было немного…»
Через час повешенных освидетельствовал врач и признал смерть. Их сняли, отнесли в здание Училища мореплавания. На следующую ночь мясник-извозчик отвез тела повешенных на остров Голодай.
Там их зарыли в общей могиле.
ЭПИЛОГ
осле того как приговор верховного уголовного суда был приведен в исполнение, Николай I потребовал к себе все следственные дела декабристов.
Он листал показания, читал отобранные у преступников рукописи, и пережитый им 14 декабря животный страх снова сжимал его сердце.
Царь с ужасом думал о том, что могло получиться, если бы — не дай бог — эти преступники обратились к народу…
О, как он хотел бы уничтожить в умах своих подданных всякое воспоминание о декабристах, об их делах и мыслях, стереть из памяти даже самые имена их!
Николай в бессильной злобе приказал выдрать из дел «возмутительные» стихи, прокламации, некоторые письма…
Покровом непроницаемой государственной тайны скрыты от людей могилы пятерых повешенных, в Белом зале Пажеского корпуса стерто с почетной мраморной доски имя Пестеля, изъяты из продажи сочинения декабристов, вымарываются их имена из газет и журналов.
Россия молчит, но император не верит этому молчанию. Во все концы России разослана огромная армия жандармов, шпионов, провокаторов, чтобы гасить тлеющие еще искры подавленного восстания.
Однако мало утешительного в доносах и рапортах: «Если бы к нам пришли черниговцы, то мы показали бы господам…» — говорят крестьяне в Подолии; шпион, посланный в Вятский полк, пишет: «Все нижние чины и офицеры жалеют Пестеля, бывшего их командира, говоря, что им хорошо с ним было, да еще чего-то лучшего ожидали, и стоит только вспомнить кому из военных Пестеля, то вдруг всякий со вздохом тяжким и слезами отвечает, что такового командира не было и не будет», а один унтер-офицер говорил, что Пестель перед смертью изрек будто бы такие пророческие слова: «Что посеял я, то и взойти должно и взойдет впоследствии непременно».
Может быть, и не говорил никогда Пестель этого— не в этом дело, но слова унтер-офицера были ярким свидетельством того, что вопреки гнусной клевете на декабристов, распространяемой со страниц официальной печати, жила и проникла в сердца людей, обрастая легендами, правда первых русских революционеров.
В Далекой Сибири неизвестный декабрист написал «Стихи на музыку Пестеля», стихи на небольшую пьесу «Музыкальное раздумье», написанную Павлом Ивановичем в 1824 году: в темнице пламенный борец за свободу встречает свою последнюю зарю, его мысли обращены к родине, он верит, что дело свободы не умрет, «беспощадный гнет» пробудит Русь:
Закалит ее, Мысли в меч скует, Поразит тот меч Беззаконных власть.И все лучшее на Руси верило в это.
Если в бурные декабрьские дни 1825 года многим казалось, что для России наступил великий 1789 год, то пришедшее им на смену время правительственного террора, аресты членов тайного общества не сумели задушить страхом русскую молодежь. «Мы… даже почти желали быть взятыми и стяжать тем известность и мученический конец», — вспоминал один из современников. А когда в Москву пришло известие о казни пятерых декабристов, люди чувствовали себя так, «словно каждый лишился своего отца или брата».
19 июля 1826 года — шесть дней спустя после казни — в Москве, в Чудовом монастыре, митрополит Филарет в присутствии всей царской фамилии, двора и гвардии служил благодарственный молебен по случаю победы над декабристами. Торжественно возносились к небу голоса сотен певчих, торжественно салютовали пушки с кремлевского холма, торжественно чувствовал себя Николай I. А в толпе народа, следившего за церемонией, затерялся четырнадцатилетний мальчик. «И тут перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой», он «клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками».
Этот мальчик был Александр Герцен.
«Узок круг этих революционеров, — писал о декабристах В. И. Ленин в 1912 году. — Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.
Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.
Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах» [27].
И когда в 1917 году разразился этот новый натиск бури, то победивший народ, чествуя своих борцов и мучеников, одними из первых вспомнил имена декабристов и среди них имя Пестеля.
На страницах пожелтевших от времени газет 1917–1918 годов — статьи о жизни и деятельности Пестеля, сообщения о вечерах, посвященных его памяти
Именем Пестеля названа улица в Ленинграде, колхоз, издаются работы Пестеля, пишутся о нем книги.
Народ знает и помнит своего героя.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П. И. ПЕСТЕЛЯ
1793, 24 июня — родился Павел Иванович Пестель.
1803 — П. И. Пестель зачислен в Пажеский корпус сверхкомплектным пажом.
1805–1809 — годы учения П. И. Пестеля в Дрездене.
1810, май — Пестель поступает в старший класс Пажеского корпуса.
1811, 14 декабря — после окончания Пажеского корпуса Пестель выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк.
1811, декабрь — Пестель вступает в масоны.
1812, 26 августа — Пестель ранен в сражении при Бородине, за Бородинское сражение Пестель награжден золотым оружием «За храбрость».
1813, май — оправившись после раны, Пестель возвращается в действующую армию.
1813–1814 — Пестель находится в рядах русской армии за границей и участвует во многих сражениях.
1814, август — Пестель возвращается в Россию.
1814–1818 — Пестель служит в Митаве, временами бывая в Петербурге.
1816, август — Пестель принят М. Н. Новиковым в тайное общество Союз спасения.
1817, январь — Пестель пишет устав Союза спасения.
1817, весна — Пестель в Митаве организует отрасль Союза спасения.
1818, весна — организация Союза благоденствия. Пестель получает экземпляр устава союза — «Зеленую книгу».
1818, ноябрь — в связи с назначением Витгенштейна, адъютантом которого был Пестель, командующим 2-й армией, расквартированной на Украине, Пестель переезжает в Тульчин.
1818, конец — 1819, середина — Пестель работает над «Запиской о государственном правлении».
1818 — организация Тульчинской управы Союза благоденствия,
1820, январь — совещания Пестеля с петербургскими членами Союза благоденствия. На этих совещаниях под влиянием Пестеля принято решение о том, что основной целью тайного общества является введение в России республики революционным путем.
1820, весна — лето — Пестель работает над первым вариантом своего конституционного проекта.
1820, август — Пестель пишет «Социально-политический трактат».
1821. январь — Московский съезд членов Союза благоденствия принимает решение о роспуске союза.
1821, февраль — июнь — поездки Пестеля в Бессарабию для сбора сведений о греческом восстании.
1821, март — организация Южного общества
1821, 15 ноября — Пестель назначен командиром Вятского полка.
1822, январь — совещание руководящих членов Южного общества в Киеве. Пестель ставит на обсуждение проект своей конституции.
1823, январь — второй съезд руководящих членов Южного общества в Киеве. Конституционный проект Пестеля принят в качестве программы Южного общества.
1823, весна — совещания Пестеля с членами Северного общества, обсуждение вопроса об объединении Северного и Южного обществ.
1823–1824 — Пестель работает над вторым вариантом «Русской Правды».
1825, 13 декабря — арест Пестеля.
1826, 3 января — конец мая — следствие.
1826, июнь — суд над декабристами.
1826, первые числа июля — верховный уголовный суд выносит смертный приговор Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михаилу Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому
1826, 13 июля — приговор верховного уголовного суда приведен в исполнение.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
В. И. Ленин о декабристах
«Памяти Герцена». Соч., т. 18, стр. 9—15.
«Роль сословий и классов в освободительном движении». Соч., т. 19, стр. 294–296.
«Из прошлого рабочей печати в России». Соч., т. 20. стр. 223–230.
«Доклад о революции 1905 года». Соч., т. 23, стр. 228–246.
«О национальной гордости великороссов». Соч., т. 21, ctd. 84–88.
Литература о декабристах
«Избранные социально-политические и философские произведения декабристов». Тт. I–III. М., 1951.
«Восстание декабристов. Материалы». Тт, I–VI. VIII–XI. М., 1924–1954.
«Декабристы. Отрывки из источников». М. — «Л., 1926. «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов». Тт. I–II М., 1931–1933.
Лорер Н. И., Записки декабриста. М., 1931.
«Записки Сергея Григорьевича Волконского». СПб., 1902. «Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина». М., 1951.
Греч Н. И., Записки о моей жизни. М.—Л., 1930.
Покровский Ф. И. и Васенко П. Г., Письма Пестеля к П. Д. Киселеву. (1821–1823 гг.) (Публикация). «Памяти декабристов». T. III. Л., 1926.
Майоров И. В., Крестьянские воспоминания о П. И. и Б И. Пестель. «Былое», 1906, V.
«Русский архив», 1875, I. Бумаги И. Б. Пестеля.
Нечкина М. В., Движение декабристов. Тт. I–II. М., 1955.
Габов Г. И., Общественно-политические и философские взгляды декабристов. М., 1954.
«Очерки из истории движения декабристов». Сборник статей под ред. H. М. Дружинина и Б. Е. Сыроечковского. М., 1954.
Щеголев П. Е., Декабристы. М.—Л., 1926.
Литература о П. И. Пестеле
Павлов-Сильванский Н. П., Павел Иванович Пестель. Биографический очерк. СПб., 1901, 2-е изд. Птг., 1919.
Павлов-Сильванский Н., Декабрист Пестель перед Верховным уголовным судом. Ростов-на-Дону, 1908.
Иваницкий С., Вождь декабристов. Л., 1926.
«Пестель Павел Иванович» (краткая биография). Вологда, 1926.
Никандров П. Ф., Мировоззрение П. И. Пестеля. Л., 1955.
Тарасова, Социально-экономические взгляды Пестеля. Труды Марийского пединститута, т. VI. Козьмодемьянск, 1948.
Круглый А. О., П. И. Пестель по письмам его родителей. «Красный архив», 1926, т. 3(16).
Дружинин Н., Масонские знаки Пестеля. «Музей Революции Союза ССР», второй сб. статей. М., 1929 «Пажеские годы Пестеля». «Былое», 1907, VI.
Примечания
1
Пестель, как лютеранин, получил при крещении двойное имя, но обычно именовался Павлом.
(обратно)2
Деплояда — развертывание войск с похода.
(обратно)3
Анешикье — шахматный порядок.
(обратно)4
Акты — официальные документы, излагающие учение и порядок работы ложи.
(обратно)5
Точиво — холст.
(обратно)6
За заслуги (франц.).
(обратно)7
Президент без дальних толков (франц.).
(обратно)8
Черное знамя — знамя греческих повстанцев.
(обратно)9
Вистиарий — министр финансов.
(обратно)10
Арнаут — слуга.
(обратно)11
Сердцем я материалист, но мой разум этому противится (франц.).
(обратно)12
России.
(обратно)13
Шале — хижина (франц.).
(обратно)14
Витишкет — золотой или серебряный шнурок, прикреплявшийся к киверу и обвивавший шею.
(обратно)15
Полуимпериал — золотая монета достоинством в пять рублей.
(обратно)16
Как завесу, за которой мы построим свои колонны (франц.).
(обратно)17
Обреченный отряд (франц.).
(обратно)18
Господин Серж (франц.).
(обратно)19
Пронунсиаменто — в Испании название государственного переворота.
(обратно)20
«Мы работаем для одной цели» (франц.).
(обратно)21
Первый из друзей (лат.).
(обратно)22
Натчезы — племя, проживавшее в Америке и почти истребленное в XVIII веке.
(обратно)23
Нашему делу (франц.).
(обратно)24
Для нашего дела (франц.).
(обратно)25
Общество открыто. Если будет арестован хоть один член, я начинаю действовать (франц.).
(обратно)26
Поздно (франц.).
(обратно)27
В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 14–15.
(обратно)
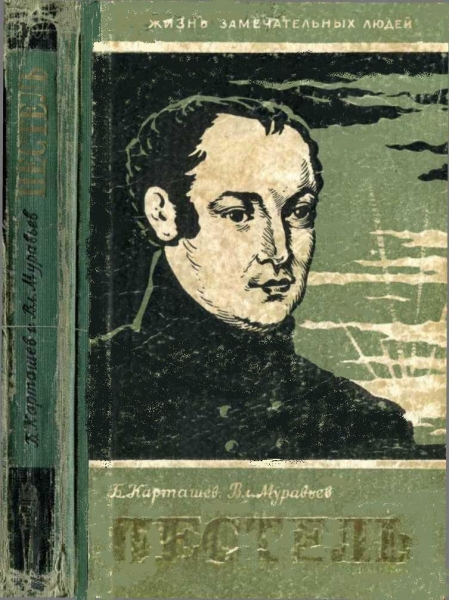


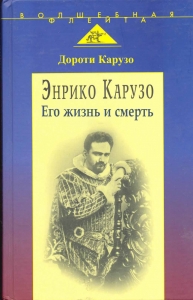
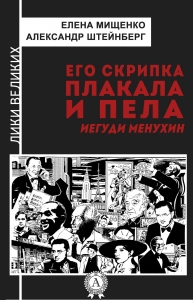


Комментарии к книге «Пестель», Владимир Брониславович Муравьев
Всего 0 комментариев