Ли Бо: Земная судьба Небожителя
В то время я гостила на Земле…
Анна АхматоваПрелюдия ЛИ БО: ТЕНЬ БЫТИЯ
В этой книге я хочу пригласить вас в бесконечно далекий VIII век.
1300 лет… Невообразимая масса годов, дней, часов, минут стирает в порошок, растворяет, уводит в ничто и в никуда всё, что тогда было живым, объемным, реальным. Сухие строчки хроник оставили нам разрозненные застывшие факты, столь лаконичные, что даже если из них и сложится скелет, он не обрастет плотью зримости.
А так хочется увидеть живого Ли Бо, окликнуть, поговорить с ним…
Около тысячи его стихотворений, прорвавшиеся к нам сквозь плотную завесу времени, демонстрируют, по оценке профессора Юй Сяньхао, сплав «активной социальности Цюй Юаня с пассивным отстранением от мира, присущим Чжуан-цзы» [Изучение-2002. С. 7][1], ярко выражают дух свободолюбия, которым в течение веков была пропитана китайская интеллектуальная элита, и неоспоримо подтверждают величие их создателя. Более того, «значение Ли Бо далеко выходит за рамки поэзии», это «знаковое явление культуры Китая в целом, особый культурный феномен» (Хэ Няньлун. — [Изучение-2002. С. 14, 12]). Но это величие бронзового монумента, могучей легендарной Птицы Пэн.
Человек, радовавшийся и страдавший, любивший жизнь и людей, ненавидевший ложь и искривление души, искавший и метавшийся, обласканный друзьями и преданный ими, рвавшийся к солнцу, как мифологическое древо Фусан, и танцевавший с тенью под улыбчивой луной, в чьих лучах искрилось янтарное вино, всегда готовый к нестандартным, «странным» поступкам, горячий и напористый, не ощущавший себя рабом формы, отвергавший чувство меры и взрывавший сковывающую традиционность, уже одной своей яркой, выразительной внешностью сразу обращавший на себя внимание, — этот живой человек остался по ту сторону завесы.
Как прорвать ее? Как увидеть самого поэта? Как воссоздать его облик — не прихотливой и безбрежной фантазией воображения, а строго документирование, в максимально возможном приближении к той реальности VIII века, которую мы столь давно покинули?
Так ли абсолютно время? Так ли неповторяемо, как поток реки, в который дважды не войдешь? В самом ли деле ушедшее — ушло?
Ли Бо был пропитан Чуской Древностью. Сходя в 725 году на пристань города Цзинчжоу (современный Ичан), поэт осознавал, что его обволакивает аура города Ин, столицы царства Чу, существовавшего в VIII–III веках до нашей эры. Именно здесь Сун Юй, отвечая на вопрос чуского правителя, поведал о горечи певца, который жаждал принести людям высокое искусство (песню «Белый снег солнечной весной»), но его не поняли, а неприхотливую мелодию «Деревенщина из Ба» толпа охотно подхватила. Этот сюжет древнего поэта повторил Ли Бо в 21-м стихотворении цикла «Дух старины». Но царство Чу, в недрах которого зародилось даоское мировоззрение[2], великое царство, где творил бессмертный Цюй Юань, оставалось для Ли Бо абстрактной идеей, незримой, неощутимой, хотя и живой.
А сегодня мы, зайдя в музей города Ичана в провинции Хубэй, увидим то, что не было дано увидеть Ли Бо: меч юэского правителя Гоуцзяня, кознями которого «рухнула страна Фу-ча» (стихотворение Ли Бо «Сиши»), кусок фрески, тело мужчины тех невообразимо далеких времен, сохранившее человеческие очертания. Археологические раскопки наших дней материализовали мистическое вневременье в реальные атрибуты чуской культуры.
Это еще на полторы тысячи лет дальше от нас, чем Ли Бо.
А на моем письменном столе лежат осколки камней от стены монастыря Великого Просветления — там, на склоне горы Дайтянь в Шу (современная провинция Сычуань), учился будущий поэт. И для меня размывается бесплотность монастыря, казалось бы, навсегда разрушенного безжалостным временем. Через эти камушки я вхожу в VIII век танского Китая, становлюсь современником Ли Бо. Осматриваюсь по сторонам — и вдруг вижу его, примостившегося у вечернего окна, глядя на осколок юного месяца, показавшийся из-за склона. Он пишет свое первое стихотворение…
Нет, время не абсолютно, оно обратимо и прозрачно, и бесконечность Вселенной не сопровождается беспрерывностью времени, существующего, как сейчас утверждается, в форме «меры изменений». И, может быть, мы все же сумеем увидеть подлинного Ли Бо — каким представал он перед своим великим другом Ду Фу или «безумцем Четырех просветлений» Хэ Чжичжаном…
Из этой мысли, уже далеко не столь свежей, как несколько десятилетий назад, и родилась форма этой книги — не только последовательное аналитическое изложение событий жизни Ли Бо (тоже необходимое и в своей максимально возможной полноте отсутствующее за пределами Китая), но и воссоздание образа поэта и человека на фоне событий его личной жизни и в объемном контексте эпохи, которую мне хотелось представить не описательно, а через живые детали непосредственного созерцания.
Основа книги — документальна. Это средневековые и более поздние, но не слишком далекие от Ли Бо, летописи и хроники, мемуары, путевые и дневниковые заметки людей прошлых веков, современников поэта и его ближних потомков, педантичные исследования и тех времен, и наших дней.
Но не только.
Как быть с легендами, с их живыми образами, полными если и не правдивости, то несомненного правдоподобия?
А мог ли я отбросить яркие творческие фантазии романтичного поэта Бай Хуа, психологичный роман сычуаньской писательницы Ван Хуэйцин, на который она потратила 18 лет жизни, или строгое исследование профессора Гэ Цзинчуня, позволившего себе дорисовать события, не зафиксированные документально, но обоснованные его глубокими знаниями ученого?! Пусть порой они повторяют друг друга — но каждый по-своему, пусть порой противоречат друг другу — но в итоге добавляют объемности и живости в облик древнего поэта, хотя бы чуть-чуть приближая его к нам.
Ну а сами-то стихи? Ведь, как заметили исследователи, «стихи Ли Бо — это его самовыражение, раскрытие его субъективного внутреннего мира», в них намного чаще, чем у иных китайских поэтов, встречается местоимение «Я», и это не может быть случайностью.
Стихи Ли Бо, в грубом приближении, можно разнести по двум категориям: мировоззренческие и событийные. В первых поэт формулирует свое отношение к миру, во вторых — рифмует события, произошедшие с ним. Он называет места, где находился, людей, с которыми общался, воспроизводит обмен репликами, замечает не только высокие горы и длинные реки, но и ветер, колышущий листья, и цветы, раскрывающиеся весной и опадающие осенью, и жбанчик ароматного «Ланьлинского», и медную чарку в форме желтого попугая…
Если подойти к этому как к дневниковой документальной основе, то, переведя ее в иную пластическую форму, ей можно придать драматургическую повествовательность — и тем самым воспроизвести целые куски жизни Ли Бо в их живой и непосредственной объемности. Но и философская лирика, будучи поставлена в пространственный и временной ряды, тоже предоставляет нам возможности для реконструкции мыслей самого поэта, ментальности средневекового китайца…
И все это, повторяю, строго документировано — самим поэтом!
Для более четкой ориентации читателя сцены, порожденные художественным вымыслом (в том числе и моим собственным), но казавшиеся исследователю достаточно близкими к правдоподобию (конечно, условному при такой громаде отделяющих нас столетий), выделены курсивом и обозначены подзаголовком «Вариация на тему».
Таков был метод создания этой книги — своего рода аналитический «спиритический сеанс». Он, увы, оспорим. Но не в плане интерпретации текстов, а ввиду спорности хронологии создания произведений. Об этом столетия шли и продолжают идти острые дискуссии. Привязка стихотворения к тому или иному периоду может принципиально изменить толкование текста. На сегодняшний день наиболее аргументированной и большинством исследователей принятой представляются датировки Ань Ци и Сюэ Тяньвэя из «Хроники жизни Ли Бо», позже уточненные в «Полном собрании сочинений Ли Бо в хронологической последовательности с комментариями» под редакцией Ань Ци. Именно эту хронологию я взял за основу в своей реконструкции земного бытия поэта. Другой будущий биограф может что-то подправить, но, смею надеяться, основная конструкция выдержит нагрузку новых изложений.
В Китае ученых исследований жизни Ли Бо (как и романических фантазий на эту тему), его творчества, ментальности, как социальной и мировоззренческой, так и бытовой — тьма тьмущая. Не стихают бурные дискуссии, где каждый дискутант с той или иной убедительностью доказывает единственную истинность не только своей интерпретации, но и иных, выкопанных из редких источников, фактов и дат. Большинство аргументов достойно внимания, но их необходимо, критически осмыслив, синтезировать. Именно к этому и была устремлена данная работа.
В результате сложения всех этих мозаичных деталей великий Ли Бо — сам, из своего безмерного далека, — приходит к нам, и мы можем не только перелистать его стихи, но и проследить за процессом их создания, заглянуть в душу поэта, понять его мысли, его страсти, его надежды и отчаяния, существо его конфликта с тенденциями преходящего времени.
Подобная реконструкция не имеет аналогов, по крайней мере, за пределами родины великого китайского поэта.
Итак, приподнимем завесу времени, раздвинем занавес. Быть может, луч юпитера иногда сумеет пронзить тьму веков, и тогда в прорехи времени на сцену нашей истории выйдет живой Ли Бо…
Часть первая СКОЛЬ ЭТИ ВЕРШИНЫ КРУТЫ И ОПАСНЫ
Глава первая НАЧАЛО ЗЕМНОГО СРОКА (701–705)
Звездный пришелец
Есть люди вчерашние, сегодняшние, завтрашние. Ли Бо был «вчерашним». Ему так и не удалось вписаться в его «сегодня». Оно ушло, оставив слабые следы, а Ли Бо из «вчера» шагнул в «завтра», чтобы занять свое место в вечности.
Первая вариация на тему
… Вечерние сумерки пригасили осеннее разноцветье, и над плоской крышей глинобитного дома семьи Ли взошла луна, одна на всех. Она светила предкам, ее видел Ли Эр[3], который ушел в пески запада, оставив нам бамбуковые планки с пятью тысячами иероглифов бессмертного трактата «Дао Дэ цзин». Она светит его потомкам — семье Ли, ее видят там, в Китае, где остались многочисленные родичи, ее видят и здесь, в далеком от Срединной страны Западном крае, где высокие мужчины с рыжими, выкрашенными хной усами и высокими носами, приезжающие из соседней страны Кан[4], заглядывают в питейные дома, карабкающиеся по обрывистому склону над рекой Чу, к таким же рыжеватым и неожиданно голубоглазым танцовщицам в красных халатах, приоткрывающих яркие зеленые парчовые штаны и красные сапожки из оленьей кожи, потягивают из белых чарок со вздернутым, как у попугая, носиком густое сладкое вино с травяной отдушиной или дорогое чуть желтоватое виноградное и заедают фаршированным карпом, распластавшимся на белом нефритовом блюде, а в котле, утомленно подремывающем на позолоченном треножнике, булькает вареная баранина.
К середине ночи все тише становятся гортанные голоса горожан. В семье Ли понимают их говор, но дома говорят только на языке предков. С недавних пор женщиной овладела смутная тревога, ощущение невнятного беспокойства. Ни у кого ничего похожего не бывает. У всех роды, как роды, у сотен, миллионов и здесь, в Западном крае, и там, на внутренних землях Поднебесной[5].
А ей то и дело снились удивительные сны, волнующие своей необычностью. То ли дух-охранитель сна покинул ее, то ли предупреждает о чем-то, что должно войти в ее мир и преобразить его.
Она уже спала, когда в западной части небосклона появилась Золотая звезда [6]и стала неспешно разгораться, все ярче и ярче, а потом от нее отделился ослепительный белый луч, с немыслимой для человека скоростью пронесся сквозь необъятность космоса, мягко прошел сквозь крышу дома и проник во чрево роженицы. Все ее существо озарилось этой сияющей белизной, бездонной бездной света, вскоре сгустившейся в крикуна-младенца, внешне похожего на прочих и все же чем-то другого, намного большего, чем ее новорожденный сын…
Так пришел в наш мир великий Ли Бо. Эта версия считается легендарной, но она существовала уже при его жизни. В предисловии к первому собранию его произведений Ли Янбин, дядя поэта, которому тот еще при жизни оставил свои рукописи и чуть слышным от болезни и слабости голосом перечислил важнейшие вехи своей жизни, как бы фиксируя их для потомков, дал такую формулировку: «На сносях вошла в сон звезда Чангэн, потому новорожденному дали имя Бо, а прозванье — Тайбо».
То есть уже первый биограф поэта, его дядя, зафиксировал легендарную часть генеалогии как несомненную и важную составляющую семейной ментальности, существовавшую уже в момент рождения будущего поэта. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Тайбо (Венера) выдвигается на небосклон в сумеречной западной части неба и растворяется в рассветных лучах востока. Не символично ли это? Ведь Ли Бо как раз и родился на западе, а умер на востоке страны.
Эту версию обычно излагают как некий курьез, закавыченно ссылаясь на древние источники. Педантичный составитель «Большого словаря Ли Бо» отметил ее краткой, но отдельной статьей «Чангэн вошла в сон», отстраненно пересказывающей сюжет о Золотой звезде Цзиньсин, или Тайбо, которая на вечерней закатной западной части неба именуется Чангэн, а поутру на рассветной восточной части — Цимин. Упоминание в легенде названия Чангэн дает некоторые основания предполагать, что поэт родился на исходе дня и осенью, поскольку запад в традиционном мировосприятии связан именно с этим временем года.
Так ли, нет ли, но отец дал сыну имя Бо, то есть «белый»[7], а по наступлении совершеннолетия, как было установлено традицией, добавил имя Тайбо (Великая Белизна), которое более определенно вводило сына в мистическую ауру небесного пространства. Белый цвет — один из излюбленных в поэтической палитре Ли Бо.
А для китайского мировидения понятие «белый» — не столько цвет, сколько объемная, глубинная культурема, обнимающая не «пустоту отсутствия» (как ее понимаем мы), а «пустоту наличия»: целый мир, сокрытый белой пеленой, как гора, не видная под опустившимся на нее облаком, но существующая под ним и вне зависимости от него. Кроме того, стоит подчеркнуть, что белый цвет в традиционной живописи ментально связан с черным, противостоит ему, так что акцентирование положительно-белого у Ли Бо можно воспринять как подспудное отрицание негативно-черного.
В 423 строках стихотворений Ли Бо, связанных с цветом, слово «белый» встречается 425 раз, выражая как некие реалии, так и движение души, чувства, связанные с восприятием окружающего. «Белые» у него не только предметы, реально окрашенные в белый цвет (скажем, покрытая инеем трава), но и многое другое, обладающее духовностью, которую подчеркивает характеристика «белый» — трава (та же подернутая инеем трава, что намекает на приход осени, увядания, старости), кисть (он не живописец и кисть обмакивал лишь в черную тушь, но если она «белая» — то не просто рифмует, а творит возвышенные строки).
Вряд ли это связано лишь с собственным именем — скорее с тем белым лучом звезды из легенды, которую Ли Бо явно знал уже в раннем возрасте и которая определила космичность его ментальности. И, наверное, не случайно определение «низвергнутый небожитель», достаточно широко распространенное в среде китайских средневековых поэтов, прочно закрепилось за одним только Ли Бо.
А его легендарное вознесение на небесную родину после земной смерти? А многочисленные стихи о полетах со святыми? Китайские исследователи обратили внимание на их необычную ауру, выделяющуюся среди произведений этого жанра, написанных другими поэтами: такое впечатление, что он летал не к небожителям, а с небожителями как со своими собратьями, не восхищаясь и не удивляясь увиденному, лишь констатируя, словно он априори всё это уже знал.
Звездная версия, излагаемая первичными биографами (Ли Янбин, Вэй Хао и др.), стилистически сводит ее к формулировкам («на сносях», «Чангэн вошла в сон», «указал на древо сливы», «обрел дух звезды Тайбо») легенд об основателе даоского учения Лао-цзы («обрел дух Неба») и авторов других древнейших, мифологизированных памятников. Звезда Тайбо, если брать ее обобщенное название (Золотая), входя в пятерку «пяти стихий и звезд», космогонической основы китайского мироощущения, выступает как один из главенствующих и самых ярких объектов небосклона, привлекающих к себе взоры землян. «Не совпадает ли это, — вопрошает исследователь, — с идеальными устремлениями Ли Бо?» И в этом «находит свое выражение мысль о единстве Неба и человека, с древности характерная для Китая» [Тысячелетний-2003. С. 251].
Присовокупим сюда и туманность его генеалогии (опять-таки созвучную полисемантичной легендарности Лао-цзы), и то, что во всех версиях его земного рождения есть одна общая черта — Ли Бо появляется в какой-то точке Земли не как продолжатель живущего здесь рода, а как человек без корней. Это знают окружающие, это чувствует он сам и намекает нам невероятно частым использованием слова «кэ» для самообозначения и самохарактеристики — он «гость» на Земле, в любой ее точке, «чужак», «пришелец», «странник».
Сам он жадно тянулся к людям, даже случайных знакомых именовал «друзьями» (в «Большом словаре Ли Бо» перечисление его контактов занимает сорок две страницы мелкого иероглифического текста), но фактически истинных друзей у него было лишь два: Ду Фу и Юань Даньцю. Первый — конгениален Ли Бо, но не столь космичен, второй — глубоко погружен в даоскую ментальность со всей мистикой ее духовных трансформаций и абсолютным приоритетом небесного перед земным.
На этот факт невозможно не обратить внимание: его душа жаждала общения, но общения на равных, с созвучными, сонравственными ей душами. Большой и сильный человек, виртуозно владевший мечом, он обладал тонкой, ранимой душой, сознавал это, и отсюда — постоянная встревоженность земного бытия. Лишь в горах, воспринимая космические коды, он возвращался к самому себе, утишал душу, успокаивал сердце.
У звезды Тайбо есть земной аналог — одноименная гора, расположенная недалеко от Чанъаня, столицы империи. Таким образом, дуплекс «звезда-гора» воспринимается как система единого пространства Небо-Земля. И вряд ли случайно проекция звезды Тайбо на Землю нацелена на район притяжения имперской столицы: это не может быть оторвано от почти патологического, никакими только психологическими или чисто карьерными причинами не объяснимого тяготения Ли Бо к Чанъаню, не ослабевавшего в течение всей его земной жизни, несмотря на тяжелые удары, наносившиеся императорским двором по его судьбе.
Обратим внимание и на то, что в легенде о звездном рождении поэта не фигурирует отец. Его фактически нет и в поэтическом пространстве Ли Бо, а мать, хотя и косвенно, но присутствует — хотя бы своей племенной принадлежностью: в стихах часто упоминаются народность «цян», к которой она принадлежала, и язык «юэчжи» (или «юэши»), на котором они говорили. То есть легенды ведут родовую генеалогию Ли Бо не по современным им матрицам, а по древним.
Но даже легенды не каждого персонажа связывают с Небом, а лишь мудрецов и государей. Конфуция, например, связали: в сон его матери в канун родов вошел некий Черный дух, смутивший ее вестью, будто первенец станет «большим человеком», и в урочный час с Неба полилась музыка и протрубил Единорог, мифический зверь, предвещающий явление великого мудреца. Так, по легенде, рожден был Конфуций, и не на ровной поверхности Земли, а на устремленной к небесам невысокой горушке, получив вторым именем слово «Цю» (холм).
А ведь имя Тайбо, вновь подчеркиваю, носит не только звезда, но и гора в провинции Шэньси. То есть легендарными версиями и Конфуций, и Ли Бо вписаны в общие для Земли и Неба меридианы. И мать Лао-цзы в канун рождения сына «ощутила звезду». И мать Лю Бана, первого императора династии Хань, «встретила во сне духа… и обвил ее черный дракон», после чего и появился на свет будущий основатель империи.
Так что легенда, реалии жизни Ли Бо, поэтические образы — все это складывается в систему особой ментальности, тяготеющей больше к Небу, чем к Земле.
По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел; И месяц, и звезды, и тучи толпой Внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов Под кущами райских садов; О боге великом он пел, и хвала Его непритворна была. Он душу младую в объятиях нес Для мира печали и слез; И звук его песни в душе молодой Остался — без слов, но живой. И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна; И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.Так семнадцатилетний романтик Лермонтов, чья особая космичность в восприятии земного бытия уже не раз была подмечена чуткими собратьями-поэтами, в стихотворении «Ангел» писал о такой же небесной душе, прошедшей отпущенный ей земной срок, но так и не сжившейся с Землей, сохранив душу нетронутой для космического продолжения.
Не таков ли и наш Ли Бо, явно тяготившийся своим земным сроком?
В тумане тайн
Каким оказался приход великого Ли Бо в наш мир, мы точно не знаем. Неясность его происхождения, генеалогии, места и времени рождения — всё складывается в нестандартность фигуры, уводит от конкретности человеческого облика в абстрактную знаковость. «Среди известных фигур прошлого в Китае редко можно было встретить столь необычные имя и фамилию, как у Ли Бо… Да и подобный жизненный путь не часто выпадал китайским литераторам… Он не имел даже места, где бы жил достаточно долго» [Хэ Няньлун-2002. С. 14].
Каковы основные источники наших биографических сведений о Ли Бо? Это прежде всего «Послесловие к Собранию соломенной хижины», написанное Ли Янбином, дядей поэта, в конце 763 года еще при его жизни, когда больной Ли Бо передал дяде рукописи своих стихотворений. Этот источник считается наиболее достоверным, поскольку биографические данные в нем были записаны со слов самого Ли Бо, который в течение жизни весьма активно переписывался с Ли Янбином. К сожалению, само Собрание из десяти тысяч произведений до наших дней не дошло — сохранилось только послесловие в более поздних перепечатках.
Небольшое (всего два цзюаня[8]) собрание произведений Ли Бо составил его юный почитатель Вэй Вань (его другое имя Вэй Хао), снабдив его достаточно подробным предисловием, во многом совпадающим с текстом Ли Янбина, но в чем-то и расходящимся. Этот документ также принадлежит к наиболее достоверным источникам, поскольку биографические сведения, вошедшие в него, стали результатом долгих личных бесед с Ли Бо.
Мемориальная стела с обширной надписью, сделанной в 817 году Фань Чуаньчжэном, сыном Фань Луня, друга Ли Бо, со слов внучек поэта и с использованием записей сына Ли Бо, не утрачена и хранится в музее. Известно еще несколько более поздних, частично уже вторичных по материалу, стел с биографическими сведениями, порой расходящимися с основными. Среди них выделяется стела Лю Цюаньбо, который еще встречался с Ли Бо. Все эти тексты воспроизведены в средневековых «Старой книге [о династии] Тан» и «Новой книге [о династии] Тан» в разделе «Биография Ли Бо» и в ряде современных исследований.
Автобиографические сведения встречаются в нескольких стихотворениях, эссе и письмах самого Ли Бо, в первую очередь в «Письме аньчжоускому чжанши[9] Пэю» (730), «Письме Ханю из Цзинчжоу» (734) и «Двух стихотворениях министру Чжан Гао», посланных в конце 757 года осужденным Ли Бо из тюрьмы Сюньяна с просьбой о снисхождении.
В датах земного рождения Ли Бо существует разнобой от 699 года до 705-го, но основная масса исследователей сходятся на 701-м — тридцать восьмом году очередного шестидесятилетнего цикла, ведшего отсчет от 664 года. Вполне возможно, что произошло это осенью: на исходе осени 701 года, с десятого лунного месяца, начался последний период правления императрицы У Цзэтянь, и именно к этому периоду большинство исследователей привязывают рождение будущего поэта. Он сам в нескольких произведениях упоминает свой возраст: в стихотворении 750 года пишет, что «прожил 49 лет», а в стихотворении, датируемом 757 годом, называет себя «пятидесятисемилетним».
Девиз, выбранный императрицей У Цзэтянь, звучал как «Чан-ань» с акцентированным смысловым подтекстом — «вечное умиротворение», которое хотела принести стране императрица, через четыре года вынужденная сойти с трона. Но это были те же самые иероглифы, что и в названии столицы империи Чанъань, куда всю жизнь рвался романтизировавший императорскую власть поэт. Так что тут можно отыскать символичный намек самой Истории. Период «Чан-ань» продлился как раз до 705 года, когда семейство Ли, согласно подавляющему большинству версий, перебралось во внутренние земли страны — край Шу (современная провинция Сычуань).
«Мест рождения» Ли Бо — тьма-тьмущая. На закате династии Мин известный писатель и ученый Ли Чжи (Ли Чжо-у), отмечая необыкновенную популярность поэта, в посвященном Ли Бо разделе своей знаменитой «Сожженной книги» писал: «Нет времени, когда бы ни жил Ли Бо, нет места, где бы он ни родился — то ли звезда с Неба, то ли герой Земли». Великого предка жаждали присвоить себе все времена и края, хроники и летописи, легенды и предания. Эти дискуссии продолжаются по сей день, порой принимая даже не вполне цивилизованные формы, утверждая «свое» за счет изничтожения «чужого».
Начнем с второстепенных, слабо аргументированных, достаточно сомнительных предположений.
В 1982 году Лю Кайян на основании анализа «Письма аньчжоускому чжанши Пэю» выдвинул версию о том, будто Ли Бо родился в Чанъане, но это предположение было мало кем поддержано. Из текстов самого Ли Бо, в одном произведении назвавшего себя «цзиньлинцем», возникла версия его рождения в Цзиньлине (современный Нанкин). Однако это самоназвание объясняют иначе: в старых текстах название Цзиньлин включало в себя и уезд Даньян, расположенный неподалеку от города, а там некогда жил Ли Лунь — внук известного ханьского военачальника Ли Гуана, считающегося одним из предков Ли Бо.
Значительное число сторонников собрала шаньдунская версия. Их главные аргументы таковы: в биографии Ли Бо в «Старой книге [о династии] Тан» он назван «шаньдунцем», а его отец — «военачальником из города Жэньчэн» (современный Цзинин); в одном стихотворении Ду Фу упоминает «Ли Бо из Шаньдуна». Так же именует его позднетанский поэт Юань Чжэнь, но, скорее всего, у того это не собственное утверждение, а механический повтор словосочетания, использованного Ду Фу. В 1928 году эту версию реанимировал Ху Ши в своей «Истории литературы на разговорном языке байхуа».
Действительно, был период, когда поэт частенько заезжал в Жэньчэн, где находилось полюбившееся ему питейное заведение со знаменитым душистым ланьлинским вином. Достаточно долгое время он жил в Яньчжоу, завел там дом и перевез туда семью, считал Восточное Лу (часть современной провинции Шаньдун) своей второй родиной; в шаньдунский период жизни у Ли Бо было немало встреч с Ду Фу, который часто бывал в Яньчжоу, где видный пост занимал его отец. Именно в Шаньдуне после одной из таких встреч в 746 году в яньчжоуском районе Шацю (Песчаные холмы) Ли Бо написал стихотворение «От Песчаных холмов — к Ду Фу».
Однако все это вовсе не доказывает, что в Шаньдуне он родился. Что касается «отца», то речь, как выяснили исследователи, идет о дяде (в китайской традиционной системе родства он значился как «шестой отец»). Родной же его отец ни к каким постам не тяготел, предпочитая шаткой чиновной карьерной лестнице отшельническое уединение в сообществе мудрых конфуцианских и даоских канонов. В представительном «Большом словаре Ли Бо» [Юй Сяньхао-1995], кстати, эта версия и вовсе не упоминается. И даже шаньдунские ученые говорят о Восточном Лу только как о «второй родине» Ли Бо.
Среди версий существуют даже такие экзотические, как «отюреченный китаец», «иностранец» (у отца будто бы была тюркская фамилия, от которой он отказался после переезда на внутренние территории). У некоторых авторов исход семейства Ли отодвигался еще дальше — в страну «Даши го», то есть Арабский халифат.
Обилие версий проистекает из туманных, малоконкретных формулировок первых биографов, позволяющих предположить, что в происхождении поэта сокрыта некая тайна, не подлежащая разглашению.
Западный гость
Двумя основными версиями происхождения Ли Бо паритетно считаются «сычуаньская» и «западная» — город Суйе на территории современной Киргизии близ города Токмок на реке Чу. До последнего времени большинство современных исследователей склонялись к «западной» версии, и она формально выводит место рождения великого китайского поэта за пределы Китая — в «западный край»[10]. Ее именуют «версией Го Можо» (ссылаясь на его книгу «Ли Бо и Ду Фу», изданную в 1972 году), хотя намеки на нее были уже у Ли Янбина, а четко сформулировал ее Ли Ичэнь в статье, опубликованной 10 мая 1926 года в приложении к бэйпинской (тогдашнее название Пекина) газете «Чэньбао», где он интерпретировал комментарии цинского исследователя Ван Ци. В 1935 году эту версию развили вплоть до такой формулировки: «Тайбо родился не в Китае». В 1940 году ее поддержал известный ученый Ли Чанчжи, и она даже попала в статью «Ли Бо» в старом толковом словаре «Цы хай», а позже была подхвачена Артуром Уэйли в его книге [Walley-1950].
Парадоксальность этой версии в том, что, аргументированная намного слабее версии «человека из Шу», она чувствует себя в либоведении гораздо увереннее. Можно предположить, что силу ей придает мистическая связь с версией легендарной. Они обе выводят место рождения в некое отдаленное пространство, подтверждая статус Ли Бо как «пришельца» извне.
У «Западной версии» существует несколько вариантов. Основной называет город Суяб[11] (в китайском произношении — Суйе) Тюркского каганата, лишь в 657 году попавший в орбиту танского политического и административного влияния, которое было подкреплено введенным туда гарнизоном. В свободное время, коего было предостаточно, военная верхушка пробавлялась охотой, о чем танский поэт Жун Юй писал: «Дикий ветер стремительно летит над горами, / Лишь один только город Суйе преграждает путь; / На вершинах слышны крики и вопли, / Это генералы возвращаются с ночной охоты». Суйе вместе с тремя другими небольшими городками в районе Иссык-Куля был выбран танской военной администрацией для формирования линии обороны дальних подступов к Китаю.
Китайские купцы возили товары из внутренних земель и обратно. Возможно, потому отец Ли Бо и был прозван кэ («гость, пришелец»; в современном официальном языке этим словом именуют иностранных подданных), что в этом китайском слове, как и в русском «госте», тоже есть оттенок «человека, доставляющего товары для продажи». В древних текстах так именовали данников, привозивших подать.
К началу VIII века в Суйе и окрестных поселениях жило уже четыре поколения рода Ли. Как указано в «Старой книге [о династии] Тан», предки поэта, чьи родственные корни прослежены до ханьского военачальника Ли Гуана, а на мифологическом уровне до Лао-цзы (которого считали своим предком и танские императоры), были за некую провинность сосланы в отдаленную западную часть Танской империи — Лунси на территории современной провинции Ганьсу, откуда они на рубеже VI–VII веков тайно перебрались еще западнее, в Тюркский каганат.
Стройность этого варианта нарушается подвариантами, и прежде всего выдвинутым в 1986 году предположением, что место рождения поэта хотя и называлось Суйе, но это вовсе не среднеазиатский Суяб, а городок в Синьцзяне в среднем течении реки Чу неподалеку от города Хами. Аргументация в пользу этой версии, однако, пока недостаточно весома, хотя существование такого города в древнем Синьцзяне исторически подтверждено — сомнение вызывает лишь его связь с Ли Бо.
Проведенный стиховедами анализ нескольких произведений Ли Бо, которые тем или иным образом могли бы быть связаны с Суйе (по воспоминаниям детства или текущим событиям), дает основание полагать, что их топонимика — это ландшафт района среднего течения реки Чу, впадающей в озеро Иссык-Куль, то есть Ли Бо визуально (пусть даже весьма приблизительно, детской памятью) представлял себе пейзаж этого района. Наибольшее количество аргументов для такого утверждения дает стихотворение «Бой к югу от города»[12], которое написано в 740-х годах и рассказывает о военных событиях в этом районе в 742–744 годах.
Город Суйе, достаточно большой и оживленный, лежал на берегах реки Чу, пробившей себе русло между огромными горами, которые упирались шапками заснеженных вершин в облака, плывущие по бескрайнему небу. Таков был первый пейзаж, увиденный новорожденным поэтом и вложенный в его сознание как ментальная основа. Усвоенная им культура далеко не была монолитной: в ней соединялись элементы как ханьской, так и среднеазиатской и даже ближневосточной культур. Отголоски их слышны в стихотворениях Ли Бо, где далеко не все реалии можно вписать в рамки ханьской среды.
В двенадцати стихотворениях посвященного жене цикла «Моей далекой» немало локальных речений, которые, с одной стороны, показывают, где написано стихотворение (в Восточном Лу поэт, например, одет в белую шелковую одежду местного шаньдунского производства), с другой — кому направлено: в Юэчжи (тюркская область в Синьцзяне) или кому-то, происходящему из Юэчжи, кто в данный момент находится недалеко от «Западного моря», под которым, по мнению комментаторов, имеется в виду озеро Иссык-Куль. В одном стихотворении упоминается белый какаду, который не водится во внутренних землях Китая, а только в «Западном крае» (или на дальнем юге). Название экзотической «парчово-горбатой птицы» (перевод академика В. М. Алексеева) из «Песен Осеннего плеса» (№ 3) некоторые исследователи возводят к персидскому ushtur murgh, что в дословном переводе означает «птица-верблюд». В летописи «Хоу Хань шу» сказано, что эта редкая для Южного Китая птица обитает преимущественно в Аравийской пустыне и в Сирии. Каменный барельеф из гробницы танского императора Гаоцзуна, изображающий эту птицу, раскинувшую крыла, сохранился до сих пор.
Овладевая навыками речевого общения в многоязычной среде, Ли Бо, конечно, не мог не знать языка тюрков, а может быть, и иных «варварских» речений. На этом основан легендарный факт его биографии, когда, уже будучи при дворе, он воспользовался своими знаниями, в данный момент крайне необходимыми императору, и всласть поглумился над враждебно настроенными по отношению к нему и ненавистными ему царскими клевретами Гао Лиши и Ли Линьфу, которые, не будучи обучены иностранным языкам, не смогли организовать прием туфаньского посольства, а Ли Бо, вытащенный из кабачка, хмельной, не только прочитал наглое послание, но тут же от имени государя дал ему достойный ответ. Впрочем, клевреты своих теплых местечек не лишились, а многознающий и многомудрый поэт так поэтом и остался — к нашему, потомков, счастью.
В семье, конечно, говорили по-китайски. И сына отец воспитывал в ортодоксально-традиционном духе — через штудирование основных конфуцианских канонов. Возможно, немалая философская библиотека отягощала дом ссыльных, прибывших в каганат из Западного Лун (современная провинция Ганьсу), куда с высокого поста был сослан дед поэта. Предки Ли Бо, по ряду источников (не всеми принятых), были того же царского рода Ли, что правил Китаем в танский период (император Сюаньцзун, на период правления которого пришелся основной отрезок жизни Ли Бо, в «человечьем» обличье именовался Ли Лунцзи). Корни их тянулись и к философской почве — ту же фамилию Ли («слива») носил Ли Эр, легендарный основатель даоизма, больше известный как Лао-цзы, «старый младенец»; китайцы, не чуждые даоскому тяготению к природной естественности, мудростью всегда почитали не многознание, а детскую наивность — то есть интуитивное восприятие, еще не отягощенное искусственными рационалистическими нормативами цивилизации, которая далеко ушла от естественности и непосредственности изначальных Совершенномудрых.
В таких отдаленных от Центра и не вписанных в жесткую имперскую административную структуру местах китайцы обычно держались поближе друг к другу, надеясь на помощь соплеменников, даже в том случае, когда они, как предки Ли Бо, вынуждены были скрывать свои имена. Какими возможностями прокормить семью они располагали? Пастушество, переноска грузов, охрана, садоводство или огородничество, коммерция. Для семейства Ли по разным причинам наиболее вероятным было последнее.
Суйе тех лет отнюдь не был глухой провинцией, и через него проходили не только торговые пути. Как предполагают исследователи, в 628 году, через тринадцать лет после того, как семья Ли обосновалась в Суйе, этот город в своем «путешествии на запад» посетил знаменитый монах Сюаньцзан, не имевший на то, кстати, царского соизволения. В 748 году там был открыт буддийский монастырь Даюнь, один из многих, строительство которых по всей стране началось указом императрицы У Цзэтянь в 690 году. Во время археологических раскопок в 1979 году в захоронениях Ак-Бешима в Киргизии было обнаружено немало предметов ханьской культуры, занесенной в древний город Суяб.
В дискуссии о месте рождения Ли Бо был поднят вопрос о национальности — не принадлежит ли китайский поэт к «варварскому племени». Юй Пинбо обратил внимание на то, что поэт сам себя называл чжунго жэнь, что могло означать принадлежность к стране («человек Срединного государства»), но вовсе не обязательно к нации («китаец»). Однако по всем биографическим спискам Ли Бо проходит как ханьжэнь, то есть представитель основной китайской нации, хотя Ху Хуайчэнь в рамках дискуссии 30-х годов XX века выдвинул формулировку «отюреченный китаец», аргументируя это чертами национальной психологии («чрезмерно воинственный») и элементами филологического анализа («слишком размашистый стиль»), что, считает он, «не присуще чистокровному китайцу». Быть может, его бо́льшая, чем обычно у китайских поэтов, любовь к луне тоже объясняется влиянием среднеазиатской культуры. Другие исследователи отмечают отсутствие в старых описаниях внешности поэта какой-то необычной структуры глаз, а средневековый китаец наиболее характерным признаком «варвара» считал глубокие глазницы.
Человек Шу
В исторических летописях «Новая книга [о династии] Тан» упоминается появление «потомков священного Желтого Владыки» (Хуан-ди) в «Западном крае», откуда они «в начале периода Шэньлун»[13] перебрались в Западное Ба (часть современной провинции Сычуань), где звездой Чангэн (иначе — Тайбо) и «была определена судьба» младенца. Формулировка, весьма неопределенная и отнюдь не утверждающая однозначно Западное Ба как место рождения Ли Бо. Однако начало периода правления Шэньлун датируется как раз тем самым 705 годом, когда, согласно версии многих биографов, семья Ли перебралась через Синьцзян и Ганьсу из Западного края в Шу, то есть в Сычуань, где и произошло становление будущего поэта. Среди подвариантов существует версия о том, что наложница Ли Цзяньчэна, старшего сына императора Гаоцзу, после дворцового конфликта и смерти мужа бежала в Западный край. Эта версия пытается обосновать родство Ли Бо с правящей династией и поддерживается преимущественно учеными Тайваня.
Целый ряд авторитетных исследователей полагают, что в источники, упоминающие название периода переселения семейства Ли из Западного края в Шу, вкралась описка, вызванная созвучием иероглифов: по их мнению, произошло это в период не Шэньлун, а Шэньгун, в 697 году, и спустя пять лет, то есть в уже принятом большинством авторов 701 году, родился будущий поэт. Произошло это не в Суйе, а в Посаде Синего Лотоса в Гуанхань, как в то время именовали Мяньчжоу области Шу. Именно так в источниках династий Тан и Сун, максимально приближенных к периоду жизни Ли Бо, указывается место его рождения. В сунское время у отчего дома поэта была поставлена стела «Старый дом господина Ли, династия Тан, в Чжанмине» (современный город Цзянъю). Сейчас она хранится в музее Ли Бо в Цзянъю.
В предисловии Вэй Хао указывается прямо: «родился в Шу». Ли Янбин более туманен, и его слова нуждаются в интерпретации, но вполне вероятен и такой вывод из них: «Ли Бо родился после того, как его семья перебралась в Шу» [Цзян Чжи-2001. С. 4]. Лю Цюаньбо называет поэта «человеком из Гуанхань», а это привычное название этих мест во времена династии Хань (начало нашей эры), и при Танах оно указывало на уезд Чан-лун области Мяньчжоу, то есть район сегодняшнего города Цзянъю.
Такой авторитет, как профессор Пэй Фэй, делает категорический вывод: «Ли Бо был рожденным в Шу человеком Шу, и это записано в истории» [Цзянъю-1997. С. 114]. Хотя нельзя не отметить, что даже некоторые сторонники сычуаньской версии достаточно осторожны в терминологии и пишут о Шу как об «отчем крае» поэта, что достаточно принципиально.
Серьезным логическим аргументом в пользу сычуаньской версии является такой вывод: в изгнании семья скрывала свою родовую фамилию и восстановила ее лишь по возвращении в Шу, а возможно ли ребенку в течение пяти лет прожить, не имея фамилии? Значит, если бы он родился в Суйе, то имел бы другую, скорее всего тюркскую, фамилию.
Имеющая весьма солидные древние корни сычуаньская версия в 1982 году была реанимирована в статье Цзян Чжи[14], стимулировав дальнейшую дискуссию, а в изданном в 1993 году школьном учебнике «История Китая» местом рождения Ли Бо указывался Чжанмин (современный Цзянъю). Разумеется, наиболее горячими сторонниками «сычуаньской» версии являются исследователи из провинции Сычуань. И надо сказать, что, хотя ни одна из основных версий не имеет абсолютных аргументов в свою пользу, «сычуаньская» набирает силу. Выстраиваемые ее сторонниками факты и доказательства обретают все более четкие очертания системы. В ее бесспорную пользу играет психологический мотив в рамках парадигмы «свой-чужой».
Основные юбилейные торжества в КНР по случаю 1300-летия поэта были в 2001 году организованы именно в провинции Сычуань, то есть правительственные инстанции опирались на версию, набравшую силу в эпоху Минской династии — поэт родился в Посаде Синего Лотоса (Цинляньсян) в границах современного города Цзянъю. Политически организаторов понять можно: тем самым китайский поэт, чей юбилей праздновал весь мир, уже местом своего рождения вводился в границы «священного Китая».
Не исключено, что бесспорного аргумента в этом споре так и не будет найдено, и тем не менее — при любых предположениях относительно географической точки, в которой появился на свет будущий гений Китая, — мы не можем не считать Шу местом, где вырос Ли Бо, где он учился, где произошло становление его характера, оформились его пристрастия, наметились контуры его гения, началась его бессмертная поэзия.
Так что называть Ли Бо «человеком Шу» будет в любом случае справедливо. В культуре Шу следует искать такие его ментальные корни, как идеи даоизма, чей дух густо насыщал край, и страсть к дурманному зелью, коим Шу было весьма знаменито.
Корни предков
В «Предисловии к собранию Соломенной хижины» Ли Янбин написал: «В начале периода Шэньлун беглецы вернулись в Шу. [Отец] вновь указал на дерево сливы, под которым был рожден Боян». А Фань Чуаньчжэн в надписи на надгробной плите поэта сформулировал: «Господин указал на небесную ветвь, чтобы восстановить фамилию». Комментаторы объясняют это так: в изгнании семейство скрывало родовую фамилию Ли, а вернувшись на внутренние земли Китая, напомнило всем, что его род идет от мудреца Лао-цзы, который был рожден на землях Чу под сливой («ли») и получил прозванье Боян. «Небесная ветвь» означает все генеалогическое древо рода, утаивавшееся в изгнании, но ныне восстановленное, и таким образом семейство Ли вновь могло считать своей родней царствующий в династии Тан дом Ли, также ведший свой род от Лао-цзы.
Крайне мало известно о родителях поэта. В «Старой книге [о династии] Тан» говорится, что «отец был военачальником в городе Жэньчэн», но исследователи установили, что на самом деле в Жэньчэне жил дядя или, по китайской системе родства, «шестой отец» Ли Бо [Фань Чжэньвэй-2002. С. 330]. В стихах поэта он упоминается лишь однажды — высокий, статный человек с белыми бровями. Действительный же отец поэта не тяготел к службе, возможно, одно время вынужденно занимался коммерцией (ряд исследователей, начиная с опубликованной в 1930-е годы статьи, называют Ли Бо «сыном богатого купца»[15] или даже «помещика», однако большинство эту формулировку не поддерживают), но при первой возможности удалялся в отшельническое отстранение от мира и в такой безмятежности прожил до глубокой старости.
Ни историография, ни тексты преданий не сохранили нам достаточно характеристик Ли Кэ, и мы не можем с достаточной достоверностью определить суть его тяги к отшельничеству — были ли это зов души, бегство от треволнений мирской суеты или рациональный план самосохранения. Мы даже не знаем его имени, условно, вслед за сложившейся традицией, прибавляя к родовой фамилии Ли слог «кэ», хотя скорее всего это было лишь метонимическое прозвище, возникшее то ли в Суйе, то ли уже в Шу. В истории он остался как Ли Кэ, прибавив к фамильному знаку прозванье кэ, которое прежде всего означает «пришелец, странник; переселенец; гость»[16], но может иметь и оттенок «купца», «торгового гостя», привозящего товары, что намекает на его занятие в отдельные моменты жизни. То, что это не имя, говорит факт частого употребления этого слова в стихах Ли Бо, иначе, согласно традиции, оно было бы табуировано.
О матери поэта известно еще меньше — ни имени, ни родовой фамилии, лишь слабо аргументированное предположение, что она происходила из широко расселенного на западе страны родственного тангутам племени цян либо была полукровкой с примесью цянской крови. Много соплеменников матери жили и в Шу, куда из западных краев прибыло семейство Ли. Так что не только до пяти лет, но и более длительный период детства Ли Бо вращался в «варварской» среде, что не только дало ему знание языков, но и сказалось на ментальности, восприятии мира, образной и эмоциональной природе.
Необходимо, однако, отметить, что народность цян не стояла на обочине китайской культуры, а была настолько прочно в нее вписана, что, по исследованиям китайских ученых, активно на нее воздействовала. Так, стержневой для китайской культуры, особенно для ее южной чуской части, миф о волшебной горе Куньлунь, этом «китайском Олимпе», локализующемся в ареале Цинхай-Тибетского нагорья, возник именно в преданиях цянов.
В горизонтальном ряду братьев Ли Бо был вторым, а в вертикальной родовой структуре — двенадцатым (это последнее родовое определение «Ли двенадцатый» нередко встречается и в стихах самого поэта, и в обращениях к нему друзей). Об одном из младших братьев поэта известно, что он жил в районе ущелья Санься, а младшая сестра Юэюань («Полнолуние») проживала рядом с родительским домом, где до наших дней сохранилась ее могила (неясно, правда, насколько достоверна висящая в музее Ли Бо в Цзянъю картина, изображающая «Фэньчжулоу», как назывался дом Юэюань). Возможно, Юэюань — не имя, а прозвище, уж слишком глубоко оно вписывается в небесную ауру Ли Бо. Но не обязательно привнесенное извне, легендами, а возникшее внутри семьи — как общий семейный «лунный» настрой (ведь и поэт своего первенца в детстве называл «пленником луны»). Да и луна традиционно соотносится с западом, где родилась сестра Ли Бо.
Возвращение на земли предков
В сущности, между двумя основными версиями относительно места рождения Ли Бо есть лишь одно, хотя и принципиальное, расхождение — само место рождения (Шу или «Западный край»). Сходятся же они в том, что семейство Ли в конце правления императрицы У Цзэтянь (до или уже после рождения поэта), совершив длительный переход через всю страну, прибыло в Шу. Иными словами, родовые корни семьи поэта были углублены в иные районы Китая, и в Шу они стали «пришельцами», «чужаками».
Это немаловажный момент для воссоздания социопсихологического облика Ли Бо: он вырос в среде, где не имел достаточно глубоких корней. Не отсюда ли и его необычная даже для традиционного китайского литератора страсть к «перемене мест», и легкость и бесповоротность расставания с отчим краем, и едва ли не фанатичное стремление социально утвердить свой статус не на локальном, а на самом высоком, над-провинциальном уровне? А Птица Пэн — некий настойчивый мифологический знак самоидентификации Ли Бо, проходящий через все его творчество? Это уже не только не локальный, даже не надпровинциальный, а своего рода надглобальный, вселенский уровень самоутверждения.
Но Птица Пэн далеко не сразу залетела в его творчество и даже в его мировоззрение. Вернемся к собранному семейством большому каравану верблюдов, двинувшемуся через пески по северной части Синьцзяна. Ведь откуда бы ни начался их путь — из Суйе или из Лунси («Западное Лун» в современной провинции Ганьсу) — песков пустыни им было не миновать.
Вариация на тему
На передних верблюдах сидели отец будущего поэта (ему уже было за тридцать) и остальные мужчины, в крытой повозке мать (лет двадцати с небольшим) держала на руках двухлетнюю Юэюань, а на последнем верблюде гордо восседал пятилетний малыш Бо — круглолицый, как луна, и с живыми, как мерцающие звезды, глазенками. С соседнего верблюда присматривал за ним верный слуга семьи, за спиной у него сидел гордый своей высокой позицией сынишка Даньша, сверстник Ли Бо, который потом в качестве слуги-шутуна[17] сопровождал поэта во всех его земных странствиях. То тут, то там возникали миражи — обитель святых бессмертных, объясняла мать, ее мы можем увидеть, но достичь ее нам не дано. Эта недостижимость прекрасного и таинственного глубоко запала в душу будущего поэта.
Куда они направлялись? По старым хроникам, переселенцы с западных земель обычно обосновывались либо в Западной, либо в Восточной столицах, как называли Чанъань и второй по значимости город империи Лоян. Именно туда вели проложенные караванные пути по северным пустыням… Сыну уже порядком поднадоели однообразные пески и утомительная тряска на верблюжьей спине: «Папа, мы здесь и будем жить?» — «Нет, мы двинемся дальше на восток — прямо до столицы Чанъань!» — «Здорово! — завопил Бо, услышав это. — Весело будет играть в столице».
[Гэ Цзинчунь-2002-А. С. 4–5]Сомнительно, конечно, что такая версия разговора чем-то документирована, но, конечно, соблазнительно вложить в голову уже пятилетнего Ли Бо мечты о Чанъане, хотя, учитывая ссыльное прошлое деда и отшельнические склонности отца, можно засомневаться, что тот видел шумную и суетную столицу целью их перехода. Более осторожная версия формулирует маршрут вдали от больших городов и многолюдных трактов.
По пути к Дуньхуану караван миновал Гаочан (современный Турфан), Иу (ныне Хами — тот самый город, рядом с которым одна из версий располагала место рождения Ли Бо), а затем прошествовал к Юймэнь (это уже город Аньси в современной провинции Ганьсу), Цзиньчэн (Ланьчжоу) и, наконец, Циньчжоу (ныне Тяньшуй), город, где во II веке до нашей эры родился один из их древних предков — генерал ханьской эпохи Ли Гуан, который до шестидесяти лет возглавлял пограничные районы, стремительными ударами отражая набеги гуннов, почтительно прозвавших его «летучим генералом», но от собственных властей достойного признания заслуг так и не получил. Через четыре десятка лет Ли Бо с горечью упомянет его в шестом стихотворении цикла «Дух старины».
Столица была уже совсем близко, когда до путников дошли слухи о каких-то беспорядках в Чанъане. Семье Ли с их сомнительным прошлым опасно было туда соваться. Поразмыслив, они решили двинуться на юг — в Шу, отдаленный южный край, еще в III веке силой правительственных войск введенный в состав империи. Там, помнится, у них оставались какие-то дальние родственники. Да и поспокойнее на окраинах империи, где, как понял Ли Кэ, отец будущего поэта, можно будет подняться на склон тихой горушки, найти подходящую пещерку или просто под сосной углубиться в сокровенный канон, а потом, разложив на коленях семиструнный цинь («зеленоузорчатый», как со времен поэта Сыма Сянжу называли этот инструмент в Шу), спеть что-нибудь осенне-печальное.
В Шу можно было попасть двумя путями. Один водный, по Янцзы через ущелье Санься и дальше вверх по течению, но нигде в стихах Ли Бо не встречается упоминание речной дороги в Шу. А вот трудности горных перевалов нарисованы достаточно ярко.
Вариация на тему
Так что, видимо, обойдя с запада угрожавшую им столицу, они повернули на юг. Дорога пошла вверх, в горы, и один из нанятых местных проводников запел известную в Шу песню: «Ай, как трудны дороги в Шу, ох, труднее, чем в небеса». Малыш Бо затрепетал, представив себе, как он карабкается по грозно нависающим ущельям. И так, возможно, песня запала в душу, что через четверть века он написал свой вариант «Трудной дороги в Шу».
Глава вторая К СИНЕМУ ЛОТОСУ (705–725)
Окольными путями
Тяжелый переход на земли предков семейство Ли завершило в уезде Чанлун округа Мяньчжоу, что в полумиле от современного города Цзянъю в Сычуани. Поселение, где они обосновались, именовалось Цинляньсян. Как понимать это название? Сян — деревня, посад. А вот первые два иероглифа в разных текстах записываются разными омонимами: либо «чистый, честный», либо «синий лотос».
Есть версия, что изначально это был Чистый посад, и в память о детстве Ли Бо захотел именовать себя «Отшельником из Чистого посада» (цинлянь цзюйши), однако подставил другие омонимичные иероглифы и в итоге превратился в «Отшельника Синего Лотоса» (Синий Лотос — образное обозначение глаз Будды, принятое в буддийских текстах). И уже задним числом, в память о великом земляке, поселение поменяло иероглифы в своем названии, став Посадом Синего Лотоса. Поэтому, например, позднее стихотворение Ли Бо «К Синему Лотосу в необозримую высь, / Город оставив, пойду одинокой тропой…»[18] можно воспринимать как сцену медитации в буддийском монастыре, но одновременно и как ностальгическое воспоминание об отчем крае, где он прожил больше двух десятилетий.
В этих местах давно существует народное «Поэтическое общество Синего Лотоса», которое ежегодно в осенний восьмой месяц по лунному календарю проводит «Встречи с Тайбо». Здешние жители не допускают и тени мысли, что Ли Бо родился где-то в иных краях, и местные легенды подтверждают их патриотическую гордость. Так, рассказывают, что мать будущего поэта ходила стирать к ближней речушке, и однажды из воды показался золотой карп, вошел в ее чрево, после чего она понесла. Тут возможна связь с высказанным еще в танское время предположением, что Боцинь, имя сына Ли Бо — эвфемизм слова «карп», которое произносится ли, так же как и родовой знак поэта, но записывается другим иероглифом (подробнее об этом см. в главе «Хмельное пустынничество»).
Примечательный результат дало традиционное испытание малыша на празднестве по случаю достижения им первого серьезного жизненного рубежа. Когда мальчику исполнился год, по обычаю, перед ним разложили разного рода предметы, чтобы определить его пристрастия. Ребенок отверг съестное, отвернулся от игрушек — и пополз к «Канону поэзии»[19].
Семья Ли имела кое-какие сбережения и не считалась бедной, но социальный статус ее был низок — пришлые люди с темным прошлым. То ли по этой причине, то ли вообще из-за нехватки школ в этой глуши, а возможно, из-за конфуцианских акцентов в школах, тогда как отец поэта по душевному настрою тяготел к отшельничеству даоского типа, но азы начального обучения Ли Бо получил дома под руководством отца.
Общепринятую конфуцианскую программу, которая была обязательна на служилой стезе, отец перемежал милыми сердцу даоскими текстами. Надо, однако, заметить, что как раз в танское время даоское учение вышло из тени конфуцианства и, пользуясь покровительством царского дома, ведшего свою генеалогию от Лао-цзы, распространилось по стране. Законы того времени предписывали оказывать особое почтение даоским монахам и даже освобождали их от наказания за не особо тяжкие преступления. Две сестры императора Сюаньцзуна, Цзиньсянь и Юйчжэнь, стали даоскими монахинями.
Ли Кэ знакомил сына с примечательностями Шу и Поднебесной, привязанными к старине. Конечно, не все четыре знаменитых сооружения танского времени (Юэцзянская башня, Башня Желтого журавля, Юэянская башня, Палаты князя Тэн), расположенные в разных местах страны, были доступны для малыша. Но и неподалеку от дома, в округе Мяньчжоу, находилась одна из исторических построек. Старательно обучавший талантливого сына отец не мог не показать ему местной реликвии. И чуть позже поэт отразил это в стихотворении «Поднимаюсь на башню», соединив свои впечатления с услышанным семейным преданием о «звезде Тайбо», пославшей луч матери поэта в канун родов: в стихотворении он, поднявшись на башню, дотронулся до звезды. В другом стихотворении Ли Бо вспоминал о горе Пурпурных облаков с огромными многоохватными деревьями, казалось, росшими из самой Древности. Даоский монастырь прислонился к крутым скалам глубокого красного цвета, словно на них застыли пурпурные облака. Отец, конечно, свозил сына и к знаменитому Чертогу меча — остро отточенным горным пикам на границе Шу, сжимающим узкий проход между ними, словно защищая отчий край от вражеских нашествий. Впоследствии эти воспоминания, возможно, воплотились в знаменитом стихотворении «Трудны дороги в Шу».
Сообразительный мальчик уже в пятилетием возрасте (на три года раньше среднего ребенка) постиг, как он сам позже обозначил, «шесть азов»: одни предполагают, что это начальные познания в зодиакальном летосчислении, солнечном и лунном календарях, счете времени; другие видят в этом даос-кие трактаты, возможно, адаптированные для начального обучения. Собственно, в те времена «маленьким» ребенок считался лишь до четырех лет (шестнадцать лет считались уже «средним возрастом», двадцать один — «призывным», а шестьдесят — «старым»). К семи годам малыш знал конфуцианские каноны — Пятикнижие, «Луньюй», к десяти — «Шицзин» и «Шуцзин», но самого его (отцовские гены?) больше тянуло к даоской мудрости — «Лао-цзы», «Чжуан-цзы», «Шань хай цзин». К десяти годам он познакомился со «ста школами», то есть получил представление об основных направлениях мысли, пришедшей из древних времен.
В десять лет, как позже вспоминал племянник поэта, живший в Аньлу, Ли Бо познакомился с «Одой о Цзысюе» Сыма Сянжу, которую прочитал ему отец. Таинственные «семь водоемов» разбудили восприимчивую психику мальчика, и, возможно, в какой-то мере это сублимировалось в его первом семейном поселении в Аньлу, где предание локализовало эти мифологические «водоемы». Вечерами он смотрел в небо, усыпанное мерцающими звездами, и в движении причудливых облаков ему угадывались знакомые по преданиям святые. Через почти полвека он, быть может, вспомнил то детское небо, когда описал свою одержимую устремленность в инобытие:
Искателей сурика, нас ожидает ночлег На утлом челне среди лотоса листьев зеленых. Распахнуто небо полночное, и человек В сверкании звездных потоков стоит, ослепленный.На столе в его комнате стояли «четыре драгоценности» — письменные принадлежности ученого и литератора: кисть, тушь, бумага и тушечница, но на стене висели боевой лук и меч. Эти атрибуты сопровождали Ли Бо в течение всей его жизни.
Азы «танца с мечом» — искусства владения боевым оружием — он начал постигать в пятнадцать лет. Рыцарство достаточно долго тянуло к себе юношу, романтически настроенного, способного четко отграничивать добро от зла и дерзкими и решительными поступками защищать слабое добро от грубого и агрессивного зла. Импульсивность и неуемность были его яркими чертами в такой мере, что увидевший его уже в зрелые годы юный поэт Вэй Вань, долго добивавшийся встречи с кумиром, ошарашенно описал свое первое впечатление: «С горящими глазами он походил на голодного тигра».
В юности рыцарство влекло его еще и своей эстетической стороной. В танский период оно ушло от наружного аскетизма, строгости, подчеркнутой рациональности древности, когда рыцари неузнанными растворялись в простонародной толпе. Танские рыцари (ся) были модниками, они жаждали быть замеченными, одевались ярко и броско, собирались группами, окруженные приятелями, и посещали кабачки и веселые дома или устраивали потешные поединки, а порой и настоящие кровавые побоища. Семья Ли Бо имела достаток, так что юный рыцарь, статный и красивый, внешним видом вполне вписывался в эту среду.
Но только внешне. Внутренне эта бездуховная прослойка молодых шалопаев не могла увлечь его, хотя на его участие в кровопролитных схватках сдержанно намекал уже Вэй Вань, а современные исследователи откровенно пишут, что, «проникаясь рыцарским духом древности, Ли Бо в юности убил немалое количество людей» [Сяо Гуйтянь-2002. С. 119]. Основным занятием танского рыцарства, в основном малограмотных отпрысков знатных семей, были пьяные развлечения с женщинами из веселых кварталов, азартные игры, петушиные бои и драки. Правда, иногда некоторые из них становились со временем доблестными полководцами. Так, жизнеописание танского военачальника Ли Цзи повествует: «В 12–13 лет он воровал, убивал прохожих; в 14–15 совершал тяжкие преступления… в 17–18 превратился в закоренелого преступника… а в 20 стал крупным генералом Поднебесной и возглавлял войска, которые убивали, спасая людей». Эта прослойка влекла к себе литераторов своим наружным романтическим флером, и они воспевали азарт, отвагу, мужество рыцарей.
Ли Бо так и не стал профессионалом, хотя его тренировали известные мастера боевых искусств, но в целом уровень боевой подготовки не поднялся у него до особо значительных высот, и в хрониках сохранились записи как его побед (защита вышивальщиц парчи в Чэнду, с которыми решили позабавиться молодые бездельники), так и неудачных поединков (пленение в стычке с надменными императорскими гвардейцами у северных ворот Чанъаня). Знаменитый в прошлом генерал Пэй Минь убедил Ли Бо «идти широкой дорогой, а не узкой тропкой… Небо даровало тебе талант громоподобной кисти, и нельзя отказываться от поэзии ради оружия».
Рыцарем он остался в своем жизненном кредо — бескомпромиссной борьбе за справедливость, — а также в своих стихах: нет в китайской поэзии другого поэта, столь обильно, красочно и многогранно изобразившего рыцарство как специфическую социальную страту. Собирательный образ рыцаря в произведениях Ли Бо — идеал, перед которым он преклонялся: неустрашимый защитник отечества и обездоленных.
Рыцарство можно рассматривать как вариант «тропы служения», на которую в течение всей жизни не раз пытался встать Ли Бо, и всякий раз не слишком удачно. Но оно могло оттолкнуть его тем, что истинный рыцарь, подчиненный лишь своим внутренним импульсам разграничения добра и зла, должен был оставаться фигурой независимой, не вписанной в государственную структуру с ее ненарушаемой иерархичностью. А Ли Бо всю жизнь в эту иерархию стремился, причем на самые верхние ступени, закрепиться на которых ему мешала, как говорят китайцы, «кость в спине», не позволявшая подобострастно кланяться.
Существует спорная версия, что перед тем, как уйти в горы для отшельнического самопознания, Ли Бо недолго послужил мелким чиновником в уезде (типа нынешнего курьера — за пределами танской табели о рангах, состоявшей из «30 ступеней девяти категорий»). Близ монастыря в Куанских горах в сунские времена (1068 год) была водружена стела с надписью: «Ученый академик Ли Бо по прозванию Тайбо недолго служил в уезде мелким чиновником, а затем пришел сюда, в горы, где десять лет учился». Сейчас стела хранится в мемориале Ли Бо в Цзянъю. В другом тексте должность разъяснена как «писарь по особым делам».
Это упоминание работы в уездном присутствии вызывает у исследователей большие сомнения. Во-первых, из-за возраста (четырнадцать лет); во-вторых, из-за имущественного состояния семьи (она не была настолько бедной, чтобы возникла необходимость посылать юного сына работать), но главное — из-за того, что по танскому законодательству человек, ранее работавший мелким чиновником на уездном и окружном уровнях, не имел права претендовать на участие в экзаменах на степень цзиньши, а уж тем более цзюйжэнь, а значит, и на занятие достаточно высокой должности.
К тому же в иерархичном танском обществе вряд ли важный сановник станет оказывать протекцию мелкому чиновнику. И уж, конечно, попавшего в тюрьму со страшным клеймом «государственного преступника» Ли Бо никто не стал бы вызволять, ставя под угрозу собственную карьеру. Так что вряд ли отец Ли Бо, столь фундаментально обучавший его дома, нашедший ему достойное место для продолжения учебы и известного учителя, мог допустить такую промашку.
Вариация на тему
Когда случилось наводнение и люди стали приходить в уездный ямэнь[20] за помощью, начальник уезда приказал разгонять собравшихся, дабы не причиняли беспокойства. А на следующий день в бурных волнах Ли Бо увидел труп женщины. Потеряв всю семью, накануне она рвалась в ямэнь, взывая о помощи, и, не встретив отклика у черствых чиновников, в отчаянии бросилась в реку. Вскипев в благородном гневе, Ли Бо написал и прочитал во всеуслышание стихотворение: «Черные волосы рассыпались по волнам, / Красное лицо исчезает в набегающей воде. / Что же такое встретилось ей в ямэне? / Конечно, злая, как осень, борода». — «Что за бред! — возопил уездный начальник. — Вон отсюда!» И на этом чиновная карьера слишком горячего и откровенного юноши завершилась.
[Жун Линь-1987. С. 12–15]Ли Бо был жаден до знаний. Как-то он прослышал, что в соседнем уезде есть дом с обширным собранием книг, и отправился туда, с раннего утра до позднего вечера поглощая книгу за книгой. Место было шумное, галдел народ, ржали кони, скрипели телеги, и как он ни старался «добыть тишину среди шума и гама», это плохо удавалось. И тогда, прихватив очередную пачку книг, он ранним утром ушел в горы, поднялся на высокий пик и погрузился в чтение. Это оказалось весьма плодотворным. Когда стали накрапывать дожди, Ли Бо нанял двух парней, соорудивших ему соломенную хижину, где он и перечитал всю местную библиотеку.
Через много лет сельчане назвали этот пик «скалой Тайбо» и построили у подножия «кабинет Тайбо», куда по праздникам приходят люди вспоминать великого земляка. А в Куанских горах есть пик, где пологий камень напоминает стол. Вечерами склоны зажигаются таинственным заревом, словно вспыхивает небесный светильник, и окрестные крестьяне до сих пор говорят, что это Ли Тайбо зажег лампу, чтобы всю ночь читать книги. Именно туда, утверждает предание, Ли Бо приходил заниматься. Ду Фу, во время мятежа Ань Лушаня скрывшийся в Шу от бурных событий в Поднебесной, утверждал: «Седой Ли Бо еще вернется в Куанские горы, где он учился». Местные жители соорудили там кумирню с фигурой поэта в халате чиновника и парными надписями по краям. К сожалению, в годы «культурной революции» реликвии были уничтожены, а еще раньше сильно прорежен прекрасный лес Куанских склонов — в 1950-е годы древесина потребовалась для «малых доменных печей».
На следующий год Ли Бо, крепкому, высокому, чуть не в семь чи ростом[21] парню, исполнилось пятнадцать лет, а в танское время этот возраст считался уже средним и позволял, оторвавшись от дома, уединяться в отшельничестве или отправляться в длительные путешествия, познавая мир. Этим он и воспользовался, на последующие десять лет погрузившись в монастырские обители в глухих горах, а затем и вовсе покинув отчий край Шу. Так же в свое время поступил и его будущий друг, поэт Ду Фу.
Суть отшельничества (китайское слово иньцзюй буквально означает «жизнь в уединении») — не в разрыве с человеческим миром. Уединение тут выступает лишь средством, облегчающим чистое познание «духа древности», «возврат к себе», обретение душой нетленных, не тронутых временем изначальных ценностей, «взращивание мудрости», как сам Ли Бо позже формулировал в «Ответном послании шаофу Мэну из Шоушань», — с тем чтобы внести их в мир, очистить мир, улучшить его.
В завершающем выводе этого ритмизованного «Послания» сформулировано цивилизационное кредо Ли Бо, обретенное как результат постижения изначального Дао, — поставить свой литературный талант и боевой напор на службу «просветления», то есть очищения человечества, ушедшего от истинной, природной, изначальной культуры «совершенномудрых», свободной от напластований приземленного «служения». Отшельничество рассматривалось как рубеж между слиянием либо с социумом, либо с вечностью, что выражалось в терминах «выйти из гор» или «вернуться в горы», и отнюдь не существовало как цельный и непрерываемый период земного бытия: на протяжении жизни человек мог не однажды уйти в горы на месяцы или годы, а затем вновь на какой-то срок «заплести власы», то есть пойти на государеву службу.
Ли Бо не раз уединялся в горах на более или менее длительные сроки — помимо юношеских Куанских гор наиболее известны Лушань и Цулай. Важно отметить, что даоское отшельничество проходило в глуши гармоничной природной изначальности, среди гор, этих чудных каналов, связующих Землю и Небо, с их тайными гротами, имевшими выход в занебесное пространство инобытия, вдали от цивилизационных наслоений, и именно это легло в фундамент поэтического мироощущения Ли Бо. Отшельничество было процессом естественным, как дыхание. Более того, между отшельническим углублением в Дао и общением с бессмертными святыми для него не существовало отчетливой границы.
В чистоте нетронутой природы Ли Бо познавал сокрытое в себе, сливался с природой, и природа принимала его как своего неотделимого сочлена. Живя какой-то период в горах, даос-отшельник не просто проводил время, даже не только «учился» (то есть погружался в трактаты), а духовно вписывался в природную ауру этих гор и через них — в небесное пространство, навеки впечатывался в космическую матрицу. «Горы не бывают большими или малыми, — писал Гэ Хун в „Баопуцзы“, — но в больших горах живут большие духи, в малых — малые». Ли Бо в одном из произведений почти дословно повторил его, хотя элемент различия он, вслед за Чжуан-цзы, все же поддерживал — не по высоте горы, а по ее массе.
В одном из преданий рассказывается, как начальник округа Мяньчжоу заехал в Куанские горы и увидел, что Ли Бо особым свистом созывает стаи птиц, которые смело летели к нему, признавая за своего. Начальник решил обратить этот природный дар во благо собственной карьере — он пригласил Ли Бо в Чанъань, дабы поразить императора. Наивный мальчик поехал, но птицы умысел распознали. Чудесная сказка, но она не вписывается в научное утверждение о том, что до 730-х годов поэт не приезжал в столицу.
Он был упорен и трудолюбив. Об этом ходят легенды. В одной из них рассказывается об уроке, преподанном будущему поэту женщиной, которую он как-то весной встретил в лесу около ручья. Она методично терла о большой камень металлический стержень. «Что вы тут делаете, матушка?» — поинтересовался Ли Бо. «Мне нужно выточить из этого стержня иглу, а то зимой ребятишки замерзнут, у них одежонка рваная». Зимой Ли Бо снова нашел эту женщину — она доточила стержень и зашила детскую одежду. Он запомнил этот урок на всю жизнь и уже знаменитым поэтом, отыскав женщину, почтительно обратился к ней, назвав «учителем». А ручей впоследствии назвали Мочжэньси (Точильный ручей).
С пятнадцати лет Ли Бо уже серьезно пристрастился к кисти литератора.
Вариация на тему
За год до этого, рассказывают, гнал он как-то буйвола мимо дома начальника уезда, и это весьма не понравилось капризной начальственной супруге, однако на ее гневные крики не по годам развитый и не слишком скованный традиционной ритуальностью и иерархичностью мальчик сымпровизировал весьма игривый ответ: «Чей это нежный лик, ко мне склоненный? / Чей голосок летит издалека?/ Уж не Ткачиха[22] ль слезла с небосклона, / Увидев буйвола и пастуха?»
[Ян Сюйшэн-2000. С. 28]Согласно официальным биографиям, начал он с ритмического эссе «В подражание „Оде о ненависти“» поэта V века Цзян Яня: «Взойду поутру на Тайшань, вдали увижу Гаоли[23], шумит могильная сосна, и груды сохлых трав лежат…» Это была искусная имитация произведений из ставшего к тому времени классическим литературного сборника «Вэнь сюань», уже по отзывам современников поэта не хуже стихов самого Сыма Сянжу. Всего за десять лет горного отшельничества в монастырях он написал около сотни поэтических и прозаических произведений, из которых сохранилась лишь малая часть. И отец понял, что пора самодеятельных занятий прошла, — талантливому сыну нужен настоящий учитель, а не простой монах.
Стоит заметить, что учение отнюдь не считалось в обществе самоцелью, а рассматривалось как подготовка к вхождению в разветвленную систему чиновничьего служения. Существовавшая до времен Конфуция система наследования чиновных должностей показалась враждующим между собой китайским царствам опасной и уже при династии Хань (рубеж нашей эры) была заменена на систему протектората. В IV–V веках чиновничью иерархию упорядочили в девять классификационных категорий, а в VI веке начала вводиться система кэцзюй («восхождение по категориям») — охватившая всю страну многоступенчатая система экзаменов, по результатам которых отбирались кандидаты на занятие чиновных должностей на всех уровнях; к танскому времени она превратилась в весьма развитую структуру.
Вариант экзаменов был сразу отвергнут гордым и самоуверенным юношей, ибо он предусматривал незначительное число победителей, выдвигавшихся из толпы претендентов-неудачников; к тому же, даже при благоприятном стечении обстоятельств, это было медленное, ступенчатое продвижение вверх от одного экзаменационного уровня к другому, причем успех определялся не только и даже не столько самими экзаменами, сколько побочными элементами — протекцией на разных уровнях чиновной номенклатуры. Кроме того, в этом варианте крылся опасный подводный камень. В танское время существовали три категории людей, которых не допускали к участию в императорских экзаменах системы кэцзюй: 1) те, кто когда-либо нарушал законы Танской империи; 2) дети рабочих и купцов; 3) уездные мелкие чиновники. Ссыльный предок поэта не был официально амнистирован, бежал из места ссылки в Тюркский каганат, и уже оттуда семья тайно перебралась в Шу. Все это могло открыться и грозило неприятностями. Наконец, познавая не только «путь Дао», но и «путь Будды», Ли Бо знал, что китайский буддизм утверждает возможность достижения «природы Будды» путем мгновенного прозрения (Ли Бо был современником Хуэйнэна, шестого патриарха буддийской школы Чань, сформулировавшего концепцию «внезапного просветления»).
Практиковался и другой вариант как отголосок практики предшествовавших веков. Сегодня это именуется «через заднюю дверь» (и аналогично в современном китайском языке), а в те времена называлось «через гору Чжуннань»: на склонах этой горы в окрестностях Чанъаня жило много даосов, среди которых были фигуры значительные, обладавшие большим весом в придворных кругах (например, ставшая даоской монахиней принцесса Юйчжэнь).
Это выражение родилось после истории с известным поэтом Чэнь Цзыаном (кстати, земляком Ли Бо). В детстве и ранней юности он не прочитал ни одного трактата, предпочитая им забавы и азартные игры, но в семнадцать лет случайно забрел в школу, после чего взялся за учебу, стал писать стихи в стиле Сыма Сянжу, однако на экзаменах его постигла неудача. Тогда он поселился в скиту на склоне Чжуннань, где получил весомые рекомендации и был призван ко двору. Впоследствии знаменитый даос Сыма Чэнчжэнь назвал эту гору «путем к службе».
Сам император Сюаньцзун любил отшельнические склоны гор близ Восточной и Западной столиц и какое-то время непременно проводил там. Их так и прозвали горами «продвижения отшельников». Важно заметить, что этот путь вовсе не был неким «обходным путем», а вливался в структуру ежегодных официальных императорских аудиенций для еще не обретших известности молодых талантов, которые специально подбирались высокими чиновниками по всей стране. Эта система также имела свое наименование — чжицзюй («восхождение методом отбора»).
Импульсивного Ли Бо этот вариант привлекал своей стремительностью, возможностью обойти томительную многоступенчатость экзаменационной системы и «впрыгнуть» сразу в столицу, стать не просто советником, а мудрым наставником императора — именно об этом он мечтал с юности. Не случайно одические произведения дворцовой тематики «Великая охота» и «Зал Просветления» оказались первыми в творчестве юного поэта. Куда бы ни попал в своих странствиях Ли Бо, он прежде всего искал связей для продвижения наверх, рекомендательных писем и в ритмизованных обращениях к начальствующим чиновникам безудержно льстил им, всегда цитировал благоприятные отзывы известных номенклатурных фигур о своих произведениях. Так, Ханю, помощнику губернатора Цзинчжоу, он писал, обращаясь к нему в почтительном третьем лице: «Толпа мне не нужна, а только лишь цзинчжоуский Хань… высоконравствен он, как Чжоу-гун[24], и в Поднебесной все блестящие мужи к нему стремятся, приблизишься к нему — как будто сквозь Драконовы врата пройдешь[25]». «С орлиной статью и тигриным взором» предстает в письме Пэй, помощник губернатора Аньчжоу. Это не звучало самоуничижением — такова была традиция просительных посланий, и Ли Бо не мог ее игнорировать. Он сам замечал: «Забудь о блеске, скрой свое сиянье пред властию могучей», хотя, правда, в другом месте бросал гордо: «Ни перед кем не склоняюсь».
В своих стихах Ли Бо нередко с восхищением поминал тех, кто взошел к вершинам служения именно таким способом, — например, Фан Гуань и Люй Сян, которые в период правления императрицы У Цзэтянь десять лет отшельничали на горе Чжуннань, на выходя из скита. Написанный ими даоский трактат «Фэнчаньшу» был представлен главному советнику императора Чжан Шо, известному покровителю непризнанных дарований, и тот рекомендовал упорных даосов на государеву службу.
Первый наставник
И уж такая юноше выпала счастливая случайность, что в это самое время объявился в тех местах незнакомец лет сорока, статный, высокий, с острым, пронзительным взглядом. Оказался незнакомец весьма известной в Шу личностью — мэтр Чжао Жуй по прозванию Тайбинь, то есть Высокий гость, владевший и литературным, и боевым искусствами[26]. Несколько лет назад он пришел сначала в Западную столицу (Чанъань), затем в Восточную (Лоян), но, не влекомый сладостью карьеры и славы, отказался от тягот службы (на протяжении почти трех десятилетий, с 713 по 741 год, Сюаньцзун неоднократно и безрезультатно приглашал его ко двору), предпочтя отшельническое уединение в пещере в скалистых горах Чанпин под городом Саньтай неподалеку от Мяньяна[27]. Погрузившись в книги, он написал три выдающихся сочинения, наиболее заметным из которых был этико-философский трактат «Канон достоинств и недостатков», провозглашавший интуитивистский путь постижения Дао и методы утопического умиротворения народа в спокойствии и благоденствии (создан около 716 года). Таких, как он, игнорировавших государев призыв и удалявшихся от блистательного столичного двора, почтительно прозывали чжэнцзюнь, что понималось как «благородный муж, призванный на государеву службу, но отказавшийся от нее».
Чжао Жуй был апологетом так называемой «горизонтально-вертикальной школы», возникшей в смутные времена Борющихся царств как учение о формах объединения разрозненных территорий. Оно было разработано вначале учеными сановниками, а затем опустилось в оппозиционные слои и во все времена имело достаточное количество адептов из среды китайских интеллектуалов, которые либо демонстративно удалялись от царствующих домов (Лу Лянь), либо даже пытались насильственно изменить ход истории, как Цзин Кэ, покушавшийся на императора Цинь Шихуана. Такие «оппозиционеры», недовольные современной им властью, в трактатах разрабатывали собственные методы государственного управления, отличные от господствующих[28].
Ли Бо не подпал полностью под влияние наставника, но протестные идеи, несомненно, пустили корни в его менталитет, что отметил уже танский биограф поэта Лю Цюаньбо в надписи на мемориальной стеле. Одним из уважаемых для поэта исторических личностей был Лу Лянь, частый персонаж его стихотворений с весьма высокой оценкой («Лу Лянь был всем известный книгочей, / В былое время живший в царстве Ци. / Так перл луны, восстав со дна морей, / На землю изливает свет в ночи. /… / Как он, я суете мирской не рад, / Отброшу прочь чиновничий наряд»). Лу Лянь упоминается в девятнадцати стихотворениях поэта. С пиететом относился он и к несостоявшемуся убийце Цинь Шихуана: «Когда Цзин Кэ покинул этот мир, / Мужей достойных в мире не осталось» («Другу»).
Учитель и ученик произвели друг на друга благоприятное впечатление. Чжао Жуй увидел стройного юношу с ликом осенней луны, звездным блеском в очах и духом несгибаемости, выплескивающимся из-под бровей. Глаза юноши загорелись, когда гость рассказывал отцу и сыну о недавнем посещении императорской столицы. Ночью Ли Бо долго не мог заснуть, зажег свечу и единым порывом выплеснул звучно-торжественное эссе «Великая охота»: «Огромный, словно лебедь, колокол запел небесным гудом, и государь в распахнутых одеждах из Фениксовых врат неудержимо вылетает…» «У Вас незаурядный сын», — сказал Чжао Жуй отцу, прочитав оду. А позже, «потанцевав с мечом» в саду и увидев, как юноша «слышит звук впереди, а наносит удар сзади, показывает выпад слева, а бьет справа», подытожил: «Это Дракон, Феникс, Тысячеверстый скакун, он могуч, как Великая Птица Пэн»[29]. Полный радости Ли Кэ трижды преклонил колена, совершил девять земных поклонов перед изображением Конфуция и вручил сына новому учителю.
Могучая фигура мыслителя Чжао Жуя не стала проходной на жизненном пути поэта. Именно его влияние оказалось определяющим в становлении мировоззрения Ли Бо на раннем этапе, когда он жадно впитывал поступающие из внешнего мира интеллектуальные и чувственные импульсы. Чжао Жуй стал не только наставником, но и другом Ли Бо. Когда в 726 году, уже покинув Шу, Ли Бо тяжело заболел в пути, именно Чжао Жую послал он свой поэтический монолог, раскрывающий растерянность молодого поэта перед огромным, враждебным и, как оказалось, чуждым ему миром:
Я занесен сюда попутным ветром, Как тучка сирая, как гость чужой. Успех на службе мне еще неведом, А время бег не прерывает свой. Благие помыслы мои увяли, Недуг телесный сокращает дни. Мой вещий цинь[30] в сундук, как рухлядь, свален, Мой острый меч свисает со стены. Как чуский узник, как Чжуан-вельможа[31], Пою родные песни в трудный час. Вернуться странник в дальний дом не может, Крутые горы разделяют нас. Проснусь — и вспоминаю Сянжу с цинем, Засну — и вижу дом, где жил Цзыюнь. Не тянет к странствиям меня отныне, Настала осень, я уже не юн. Покой сосновых рощ тревожит ветер, Лакуны трав вдруг открывает он. Давно я друга старого не видел, Так кто теперь войдет в мой темный сон? Лети с письмом на запад гусь[32] высоко — Не беспокойтесь обо мне, далеком. («Посылаю в Шу Призванному Чжао Жую то, что написал, заболев в Хуайнань[33]»)Главное, на что следует обратить внимание, — это соединение в Учителе даоской безмятежной отстраненности с конфуцианским настойчивым желанием усовершенствовать мир. Те классические деятельные героические фигуры древности, которые постоянно возникали в поэтическом пространстве Ли Бо (Цюй Юань, Лу Лянь, Чжугэ Лян, Се Ань и др.), перешли туда из «Канона» Чжао Жуя, который, при всех своих даоско-отшельнических настроениях, был ориентирован в первую очередь на государственнические идеи Конфуция, соединяя их с уходом к Изначальной Естественности Лао-цзы и корректируя оппозиционными течениями. Определяя «Путь Властителя» как основной путь развития общества, «Канон» утверждал, что нельзя следовать «принципам», не учитывая конкретного времени и ситуации, и от чуткости к знакам времени зависит «умиротворение» или «хаос» в стране. Действия политика должны меняться вслед за переменами времени. Эту гибкость ментальности, отсутствие жесткой ортодоксии воспринял у своего учителя Ли Бо.
Великое Просветление
Вместе с наставником Ли Бо по утопающей в лесной зелени тропе ушел на год к нему в Цзычжоу (современный город Саньтай), после чего вернулся в Куанские горы, где среди сосен, бамбуков и тунговых деревьев на склоне Дайтяньшань притаился монастырь Дамин (Великое Просветление), руины которого сохранились до наших дней.
Вариация на тему из сегодняшнего дня
Часть задней стенки, выложенная из кирпичей танского времени, настолько прочна, что я прогуливался по ней без страха, почтительной мыслью переносясь в восьмой век. Несколько ступеней лестницы у задней стены помнят легкий шаг юного поэта. А некоторые кирпичи и круглые обтесанные черные камни от основания колонн монастыря сегодняшние крестьяне приспособили рядом с Даминсы, обителью Вечности, для крохотного алтаря Желтому Владыке Хуан-ди, моля его о покровительстве. По соседству они строят сельский храм трех религий, где буддообразный Лао-цзы сидит в позе лотоса на черном буйволе, а Конфуций с черной бородкой интеллигента 1920-х годов сжимает в руках как опознавательный знак свое «Великое учение», не обращая внимания на поднесенную ему полуторалитровую бутылку пепси-колы.
Очертания горы напоминают корзину, откуда и возникло название Дакуан (Большая корзина), но монастырским интеллектуалам это показалось грубым, и они поставили омоним куан с иным значением — «исправляющий, преобразующий». В сунскую эпоху название гор вновь подкорректировали — в Даканшань (горы Великого процветания).
В спокойных Куаншаньских горах, чья тишина нарушалась лишь прилетающими из соседнего буддийского монастыря утренним и полдневным ударами пятисотлетнего гонга с надписями на санскрите или большой деревянной рыбины, висевшей под стропилами, да шелестом бамбуков в вечерних порывах ветра, было хорошо заниматься. Весной тунговые деревья покрывались желтыми цветами. Утро начинали с упражнений с мечом, что очень нравилось Ли Бо, и постепенно он начал проникаться «духом странствующего рыцаря». Днем изучал каноны, вечер посвящал литературным занятиям.
Вариация на тему
…Он сел у окна, и взгляд юноши, бродивший по ближнему склону, постепенно превращался во взгляд поэта, пронзивший Куанскую гору и улетевший далеко на восток. Опустились сумерки, выпали росы, загорелись огоньки светлячков. «Такие крохотные, — подумал юноша, — а неодолимые. И дождь их не погасит, и ветер не сдувает, наоборот, они светятся еще ярче. Может, взлети я в небо, стал бы звездочкой рядом с луной». Над вершиной Сяокуаншань (Малой Куанской горы) выдвинулся острый кончик светлого месяца. Поэт видит не глазами, а сердцем, и этот месяц не привязан для него к горе, а скорее к востоку — в той стороне, за горой, есть и крупные озера, и, самое главное, Восточное море, в котором мифология (для тогдашнего китайца — сугубая реальность) разместила пять «островов бессмертных», самым известным из которых была легендарная гора Пэнлай.
Именно там, над островом бессмертных, восходит «юный месяц» начинающего поэта: уже в первом своем стихотворении он поэтическим взором видит этот остров, где святые — его духовные собратья — с нетерпением ждут его (так он писал позже) после завершения земной миссии. Юный Ли Бо с первой же своей поэтической строки заглянул в вечность — «вечность» в положительном ключе, «вечность», в которой он сам существует в отличие от современного ее понимания как чего-то, что отделено от «Я», существует вне «Я», за пределами «Я».
Не названный прямо, но очевидный восток в первом стихотворении Ли Бо «Юный месяц» явно не случаен — в предпоследней строке он откровенно противопоставлен западу («Царский сад» в оригинале — «Западный сад», созданный древним императором для увеселений друзей-литераторов) как земной реалии, и этический контраст тут достаточно четок: святости небесного «востока» противостоит гибельность и разрушительность земного «запада».
Таким образом, уже в первом стихотворении намечена ведущая антитеза всего будущего творчества Ли Бо.
Но отчего его первый поэтический опыт начинается с вечернего пейзажа? Пусть даже это случайность, но запрограммированная. Возможны два объяснения. Во-первых, есть цивилизации, у которых начало дня приходится не на полночь, а на вечер; во-вторых, это стихотворение может быть лишь первой записью, но не внутренним началом, случившимся намного раньше, но не зафиксированным в привычной нам письменной форме. Кроме того, надо заметить, что через все поэтическое творчество Ли Бо проходит явное предпочтение ночи дню.
А воспринимал ли он вообще время как линейный физический процесс? Если для поэта в одном ряду стоят вечер с юным месяцем над далеким, не видным физическому взгляду, Восточным морем и скорбь по убитым в тот момент, когда в обозримом пространстве не шло никаких заметных войн, то соединены они не линейным временем, а явным отсутствием такового, замененного всеобщей чувствительностью к эмоциональной и этической логической связи.
У гениев в рамках их призвания случайностей не бывает — все они диктуются надличностной программой. И потому стихотворение, обозначенное как первое, несомненно должно быть программным и поставлено в символический ряд, пусть даже оно еще слабо, незрело и даже не всеми комментаторами вводится в основной корпус поэзии Ли Бо, отодвигаясь в сомнительные приложения:
Юный месяц встал над морем В сумеречный час росы. Когтем ветер тучи роет, И блестит песок косы. Ах, к чему тут струны эти, Когда сын ушел в поход? Царский сад покинем — ветер К сыну пусть стихи несет.Ретроспективно мы знаем роль образа луны в творчестве Ли Бо. Ночное светило прямо упоминается в 382 его стихотворениях (38 процентов всего сохранившегося наследия), а если добавить к этому еще и косвенные, метонимические упоминания, то наберется 499 — больше половины всего доставшегося нам поэтического богатства Ли Бо (Изучение-2002. С. 308). И это явно не только его частные поэтические пристрастия, не только конкретное воплощение его тяготения к небу, к небесному, но еще и семейная традиция — не случайно «луна» (юэ) уже присутствует в имени его младшей сестры Юэюань, которая и в предания вошла тоже в связи с луной — легенда поселила ее в лунном тереме среди облаков. Луна на протяжении всей жизни поэта была не только его другом, наперсницей, но и неким alter ego, самовоплощением — его называли земной «душой луны».
И вот свой поэтический ряд Ли Бо начинает с луны. Но не просто луны, а чу юэ — «начальной» (то есть молодой, юной; именно потому тут уместен перевод «месяц», тем более что в русском языке это слово мужского рода, и это особо подчеркивает, что поэт отождествляет самого себя с образом «юного месяца»). В первой строке оригинального текста стоит слово — да не испугает оно русского читателя — «жаба». Для перевода оно немыслимо, потому что семантическое наполнение его в двух языках совершенно противоположно: у нас это нечто отвратительно-зловещее; у китайцев — положительное, часто усиленное определением «яшмовая» (то есть прекрасная) и мифологической аурой, в которой «яшмовая жаба» обычно выступает однозначно как метоним луны, хотя в определенных ситуациях (затмение) — как ее антагонист (отгрызает кусочек за кусочком).
Но как луна может появляться над морем для поэта, находящегося в горах Шу, где нет ни моря как такового, ни крупного озера, которые древние китайцы нередко именовали «морями»? Конечно, это мог бы быть и трафарет. К тому времени Ли Бо был уже достаточно начитан и научен ведущему правилу китайского стихосложения — оставаться в рамках традиции, повторять заметные образцы прошлого. И этим выводом можно было бы удовлетвориться, если бы из этого мальчика не развился гениальный поэт. А суть гения — в нарушении традиций, в самовыражении даже при внешней иллюзии штампа, вопреки штампу, который в таком случае перестает быть штампом, превращаясь в индивидуализированный художественный прием.
Стихи Ли Бо — это его дневник. Если, став зрелым поэтом, он не столько живописал случившиеся с ним события, сколько воссоздавал размышления, вызванные этими событиями, то по юношеским стихам мы можем отчетливо реконструировать сами события. Так, в 718 году он отправился в соседний монастырь к другу-даосу. Чаща дерев была так густа, что приглушала удары полдневного монастырского колокола, почти не слышного в глубине. Небольшой, но стремительный ручеек бежал по склону, ниспадая с камней шумными водопадами, где-то лаяла собака, и с листьев падали на редких прохожих капли утренней росы. Но друга не оказалось на месте, и среди пустынных сосен не нашлось никого, кто мог бы сказать, где же он. Взгрустнувший поэт меланхолично изобразил всё это в стихотворении «Шел на гору Дайтянь к даосу, да не застал его», которое нацарапал углем на замкнутых дверях обители. Оно считается первым из стихов, совершенно точно принадлежащих кисти Ли Бо.
Настал час, когда Чжао Жуй понял, что ученик достоин познакомиться с его заветным «Каноном о достоинствах и недостатках» (он упоминается в «Новой книге [о династии] Тан», цзюань 59; вышел отдельным изданием в 1992 году в Шанхае). В нем Чжао Жуй оглядывался на прошлое и определял варианты исторического развития как «путь властителя» (в том числе и в даоском понимании изначального совершенномудрого властителя), «путь гегемона» и «власть сильного государства». Он порицал такой путь правителя, который ведет к «жажде славы» в ущерб мудрости, политическое правление, предавшее забвению Изначальность. Поднебесная, утверждал философ, «не есть Поднебесная одного человека, а есть обиталище добродетельных».
Через месяц Ли Бо задал учителю первый вопрос: «Отчего Учитель упоминает в книге о взлетах истории и смутах времени, но ничего не говорит о нашей великой Танской династии?» — «Познай древнее, — ответил Чжао Жуй, — и познаешь сегодняшнее, деяния в прошлом и настоящем разнятся, а принципы Дао одни и те же».
«Удивительной книгой» назвал Ли Бо «Канон о достоинствах и недостатках», и мысли учителя на долгие годы прочно легли в фундамент его мировоззрения. Он не отказался от идеи «служения», но искал «идеального правителя», руководящего «сильным государством», в котором народ благоденствует. Когда он покинул Шу и столкнулся с реальным миром за границами отшельнического скита, то, заболев в Янчжоу, он в минуту слабости в 726 году зарифмовал свою грусть по поводу недостижимости высоких честолюбивых мечтаний. Это стихотворение он послал именно Чжао Жую.
Финальные строки стихотворения напоминают те слова из трактата «Лунь юй» (гл. 7, § 5), где «стареющий» (то есть теряющий душевные силы) Конфуций сетует, что перестал видеть во сне Чжоу-гуна, одного из почитаемых совершенномудрых людей древности (слово гужэнь в строке Ли Бо имеет двойной смысл — и «друг», и «человек древности»), стоявшего у истоков канонизированного чжоуского ритуала, в том числе и музыки как прародителя всех искусств.
Оправившись и готовясь к поездке в Чанъань в надежде приблизиться к обожествляемому и идеализированному «Сыну Солнца», он в первом стихотворении из цикла «Трудны пути идущего» (731 год) писал уже иначе:
Вино отборное на тысячу монет, Еда отменная на десять тысяч чохов — Ничто меня уж сильно не манит, Сжимаю меч, и на душе тревога. Я мог бы переплыть стремительный поток, На Тайханшань к снегам нетающим подняться, И я бы у ручья с удой дождаться смог, До солнца бы сумел, хоть и во сне, домчаться. Трудны пути идущего, трудны! Куда ведут обрывистые горы? Но час придет, и я не убоюсь волны И выведу свой челн в безбрежные просторы.В монастыре Дамин Ли Бо провел в общей сложности десять лет (с перерывами на визиты в отчий дом и путешествия по Шу), периодически общаясь с Чжао Жуем, после чего Учитель вручил ученику свой меч, доставшийся ему от его наставника, и напомнил слова древних мудрецов: «Прочитай десять тысяч свитков книг, прошагай десять тысяч дорог. Ты проштудировал немало книг, наполненных словами, теперь тебе необходимы книги без слов. Посад Синего Лотоса и Куанские горы слишком тесны для тебя».
Покидая отчий край в 724 году, поэт ответил наставнику стихотворением «Прощайте, Куанские горы», комментируемым исследователями как первый публичный рыцарский обет Ли Бо:
Лазоревых вершин предутренний зигзаг, Лиан обители качанье на ветру. Я много тут бродил в сопутствии собак И возвращался с дровосеком ввечеру… Смотрю на тучку, слышу обезьянью речь, Спугнувши журавля, монах к пруду идет. В любви и чистоте познал я книгу, меч, Сим обетую — просветленья час грядет!Первые восхождения
Весной 720 года Ли Бо, очередной раз покинув обитель, направился в столицу края Шу — Чэнду (город и сегодня называется так же, это центр провинции Сычуань), древний Цзиньчэн, Парчовый град, где производили расшитую золотыми нитями ткань, которую промывали в Парчовой реке.
В окрестностях города находился охраняемый особым эдиктом императора Сюаньцзуна крупный даоский центр на поросшей гигантскими деревьями горе Цинчэн, считавшейся одной из четырех «знаменитых гор» Шу, с пятым выходом в занебесное инобытие (всего у даосов таких выходов было десять). Грот с этим выходом существует и сегодня и называется гротом Небесного учителя. По преданию, здесь бывал сам Желтый Владыка Хуан-ди, в глубокой древности жил святой Нин Фэнцзы, а позднее, во II веке, подвизались «восемь шуских святых», одним из которых был знаменитый Небесный учитель Чжан — Чжан Даолин, утвердивший даоское учение в Шу. В даоской ментальности тридцать шесть пиков этой горы воспроизводили небесную структуру тридцати шести небесных уровней, на каждом из которых в величественном дворце пребывал Властитель этого уровня, и эта аналогия усиливала мистическую ауру горы Цинчэн. По ее утопающим в зелени картинным склонам были разбросаны восемь больших и семьдесят два малых грота даоских отшельников, окруженные высокими соснами и кипарисами, уходящими в небо подальше от умирающих засохших собратьев, бессильно павших на землю. Чуткие лианы, еще недавно преданно обвивавшие могучие стволы, отделились от них, рухнувших, и переползли к юным цветущим красавцам, в чьих кронах, где-то в недостижимой высоте, шелестел ветерок, а меж корней извивался бурливый ручей.
Поднявшиеся сюда забывали оставленный ими вещный мир, опьяненные картиной великой Природы, естественной, как свод неба над головой. На какое-то время Ли Бо уединился на этой горе среди огромных, уходящих в небо могучих стволов наньму — в «бамбуковом кабинете», куда «вход был сокрыт облаками», как он писал в своем стихотворении. Незадолго до его появления на Цинчэн там же, в монастыре Высшей Чистоты на вершине горы, над струящимся ручьем Белых облаков, поселилась новая монахиня — молодая девушка немногим старше Ли Бо. Это была принцесса Юйчжэнь, восьмая дочь императора Жуйцзуна, правившего в 710–712 годах, и сестра Сюаньцзуна, принявшего трон от отца. Свидетельства отшельничества Юйчжэнь на этой горе существуют не только в хрониках, но и в материальных предметах: в годы Юнчжэн (1723–1735) раскопки на Цинчэн открыли предметы танского времени — железный треножник высотой 1,6 метра и весом 1 килограмм и другие предметы, украшенные драконами, символом императорской фамилии. Они однозначно принадлежали принцессе. Ли Бо предположительно уже тогда познакомился с ней. На протяжении жизни они не раз встречались, и поэт посвятил принцессе несколько стихотворений. Именно Юйчжэнь в 725 году рассказала о Ли Бо знаменитому даосу Сыма Чэнчжэню, и тот, встретившись с поэтом, предостерег его от сближения с мирской властью.
Ду Фу живописно изобразил Цзиньчэн (Чэнду), омытый струями дождя и расцвеченный весенними красками: «Добрый ливень знает свой сезон: / Чтобы снова расцвести весне, / Вместе с ветром ниспадает он, / Увлажняя почву в тишине. / Небо в тучах, на тропе ни зги, / Только с лодок огоньки горят. / А наутро — алые цветки / Полонили весь Парчовый град»[34].
Ли Бо, впервые после замедленного, бедного событиями пребывания в горах посетивший крупный город, ощутил притягательность кипевшей в нем жизни, оживленную торговлю в мелочных лавках вдоль широких улиц, на которых могли легко разминуться встречные экипажи, обилие разноплеменных лиц. Порой он даже слышал знакомые «варварские» наречия. Но прежде всего узрел не мелкую суетность, а величественное движение времени:
Парчовый город солнцем озарен. По башне поднимается рассвет: Злаченое окно, резной проем, За пологом — луны крючкастый след. Ступени к небу сквозь листву летят, С тоской я распрощался в вышине, Вечерний дождь давно ушел к Санься, Кружатся два потока по весне. Вот я пришел, на все это гляжу — Как по Девятым небесам брожу.Он сымпровизировал это стихотворение в рассветных сумерках на башне Саньхуа, построенной в честь буддийской Небесной девы за столетие до Ли Бо на берегу Парчовой реки. Сегодня не то что руин не сыщешь, но даже место, где стояла эта башня, точно не установлено. Но напротив городского парка Чэнду построили новенькую имитацию, дав ей то же название Саньхуа — «Башня разбрасывающей цветы».
Вариация на тему
На верхней обзорной площадке рядом с ним оказался молодой монашек, вслух выразивший восхищение благозвучной поэзой. «Хорошие стихи!» — услышал Ли Бо одобрительный возглас. Обернулся — молодой человек в одежде даоского монаха. «Осмелюсь ли узнать славное имя учителя? Вижу, вы тоже не чужды стихотворству». — «Что вы! — ответствовал молодой человек. — Меня прозывают Юань Даньцю, я всего лишь любитель поэзии. Встречал многих, пишущих стихи, но так, чтобы сразу из уст вышло такое, как у вас, совершенное произведение, нет, такого не видывал. Позвольте узнать славное имя высокомудрого брата». — «Вашего младшего брата зовут Ли Бо, — скромно ответил он. — Мои неловкие стихи могут вызвать только улыбку. Отчего бы нам не присесть? Я смогу чему-то научиться у старшего брата». Они нашли тихое местечко на башне, и Ли Бо велел слуге принести вина и закуски… Беседовали долго и не заметили, как кувшин опустел. Оба поняли, как близки их мысли и чувства.
[Гэ Цзинчунь-2002-А. С. 21–23]Так зародилась дружба, прошедшая сквозь всю жизнь Ли Бо. Он посвятил другу четырнадцать стихотворений и еще во многих фоново упоминал его имя. Это немало, учитывая, что, по далеко не полной статистике, Ли Бо в течение жизни имел более или менее близкие контакты с более чем четырьмя сотнями людей.
В Парчовом граде Ли Бо окунулся в мир почитавшегося им поэта Сыма Сянжу, чьим одам пытался подражать. Он поднялся на «террасу циня», где когда-то древний поэт завораживал слушателей переборами «зеленоузорчатого», как он называл свой музыкальный инструмент; нашел место, где Сыма Сянжу и Чжо Вэньцзюнь, не получив благословения родителей и «несанкционированным» браком дерзко нарушив традицию «сыновнего почитания» и покорства, открыли питейное заведение. Впечатленный этой историей, Ли Бо написал «Плач о сединах», взяв сторону не традиции, а чувства, свободной души.
В Парчовом граде Ли Бо ходил по пыльным улицам, засаженным вязами, чьи листочки походили на связки монет, упрямо посещал одного за другим местных чиновников, но никто из них не откликнулся на зов сердца поэта, и он с горечью описал эту весну разочарований в большом городе, где за отсутствием цветов мотыльки садятся на шпильки, украшающие прически красоток.
Лишь однажды ему повезло. Крупный императорский вельможа Су Тин оказался истинным ценителем талантов. Ли Бо преподнес ему свои ритмизованные «дворцовые» эссе (фу[35]) «Зал Просветления» и «Большая охота» и впоследствии с гордостью пересказывал всем его высокую оценку. Вельможа вручил поэту рекомендательное письмо к Ли Юну — известному литератору и каллиграфу, сыну Ли Шаня, знаменитого комментатора поэтического сборника «Ши сюань». Некогда он был обласкан вниманием императрицы У Цзэтянь и высокими должностями, а в это время служил начальником области Юйчжоу. В начале зимы 720 года Ли Бо отправился в Юйчжоу (современный Чунцин), где с трудом добился приема у Ли Юна.
Сильных покровителей Ли Бо не чуждался, более того, активно искал их. Но по ментальности своей не был создан для такого вхождения во власть, мешала, как формулировали уже современники, «кость в спине», не дававшая согнуться в почтительном поклоне.
Юноша был настолько горд, что не передал Ли Юну рекомендательного письма, рассчитывая и без этой подпорки произвести должное впечатление, а необходимую ритуальную уничижительность продемонстрировал лишь в словах: «Ли Бо, человек с гор, принес поклон почтенному начальнику области», — но даже не согнул коленей при этом. Ответом прозвучала надменная фраза: «Не мечтай о недостижимом, ты же в холщовом платье (то есть простолюдин. — С. Т.)». Есть, правда, версия, что, похвалив начинающего поэта в лицо, Су Тин за спиной отозвался о его стихах несколько прохладнее — «незрелый стиль». Это не могло не дойти до ушей Ли Юна.
Не устрашенный высокой должностью, Ли Бо наутро с дерзкой уверенностью в своих силах ответил стихотворением «К Ли Юну», в котором позволил себе именем Конфуция несколько иронично осудить вельможу, не пожелавшего поддержать молодое дарование, с огромным самомнением считающее, что он соизмерим лишь с мифологической Великой Птицей Пэн. Образ птицы-исполина, взлетающей в надзвездные выси на ураганном ветре, был утвержден в китайской культуре даоским мыслителем Чжуан-цзы и у Ли Бо прошел через все его творчество. Эту мысль он примеряет к себе, отвергнутому властью, хотя Конфуций советовал не презирать последующие поколения (в стихотворении Ли Бо — чуть переставленная цитата из девятой главы «Луньюя»: «Рожденных после нас неплохо бы уважить. Как знать, не будут ли они не хуже нас»[36]).
Умный Ли Юн понял, что не распознал в дерзком юноше большой талант. Тем более что к стихотворению — задним числом, явно лишь для того, чтобы уязвить вельможу, показавшему свою слепоту, — Ли Бо приложил рекомендательное письмо Су Тина: «Сей муж таланта блестящего, его кисть не ведает устали, и пусть он еще незрел, но заметен в нем стержень особый. Подучится — и станет вровень с Сыма Сянжу». Когда в начале 740-х годов Ли Юн вновь встретил Ли Бо, он публично раскаялся в былом холодном приеме юного поэта. В 745 году Ли Бо открыто восславил Ли Юна, не побоявшегося оправдать вдову, отомстившую убийце своего мужа. А в начале 758 года, направляясь в ссылку, поэт, проплывая мимо монастыря Сюцзин в Цзянся, где одно время жил Ли Юн, в память о вельможе, к тому времени безвинно погибшем в тюрьме, написал посвященное ему стихотворение «Монастырь Сюцзин в Цзянся» с подзаголовком «в этом монастыре когда-то был дом Ли Бэйхая», то есть Ли Юна.
В Юйчжоу Ли Бо посетил еще одного заметного чиновника, который занимал пост помощника начальника уезда. Тот оценил возможности юного претендента на государственное служение и готов был бы ему помочь, но против воли своего начальства пойти не посмел и выразил свои чувства лишь подарком, достойным таланта поэта, на что Ли Бо ответил восторженным, но непритязательным шестистишием «С благодарностью смотрю на подаренный шаофу[37] Юй Вэнем футляр для свитков, сделанный из бамбука и персикового дерева», описав в стихотворении изящно выписанный на футляре пейзаж с луной, упавшей на речную поверхность из облаков, подсвеченных закатом.
Покинув неприветливые города, Ли Бо словно бы для контраста между суетным земным миром и чисто-безмятежным небесным пространством поднялся на Эмэй, Крутобровую гору, одну из четырех святых гор китайских буддистов. Ее главная вершина Десяти тысяч будд взметнулась на 3099 метров, и там всегда градусов на пятнадцать холоднее, чем внизу. Воздух настоен на густом аромате кедров, неброская красота окутана вуалью и наполнена нервно шуршащими, ниспадая вниз, листами. Не покидающая склонов туманная дымка, подобно кулисам, отделяет четкий первый план от силуэтов вершин в отдалении. Две вершины Эмэй выглядят вспорхнувшими бабочками. Поэтическое сравнение «брови-бабочки» — давнее, а иероглиф «бабочка» очень похож на иероглиф «крутой пик». Красива гора, как красивы глаза, опушенные бровями.
Веками к Эмэй совершали паломничество те, в чьих душах находило отзвук прекрасное и вечное. Отсчет идет от мифического Желтого Владыки Хуан-ди, который посетил поселившихся здесь старцев и побеседовал с ними о путях к вечности. Через много лет Ли Бо, вспоминая, быть может, как где-то тут, на берегу пруда у храма, он внимал струнам циня, на котором наигрывал ему здешний монах, написал стихотворение «Слушаю, как монах Цзюнь из Шу играет на цине». Восхождение оставило глубокий след в душе молодого поэта, и мировоззренчески, и романтически неравнодушного к горам как сакральным путям в таинственное Занебесье.
Вершин святых немало в крае Шу, Но с Крутобровой им сравненья нет. Возможно ли познать ее, спрошу, Тем, кто приходит только лицезреть? Распахнутость небес, зеленый мрак — Цветист, как свиток живописный, он, Душой купаюсь в заревых лучах, Здесь таинством я одухотворен, Озвучиваю облачный напев, Коснусь волшебных струн эмэйских скал. В магическом искусстве был несмел, Но вот — свершилось то, что я искал. Свет облака в себе уже ношу, С души мирские узы спали вдруг, И мнится мне — на агнце возношусь К светилу белому в сплетенье рук.Восторженный мистический романтизм вполне согласуется с целевой формулой жизни поэта, выведенной еще Фань Чуаньчжэном в «Надписи на могиле Ли Бо»: желание «быть услышанным Небом». Однако современный исследователь комментирует это с однозначным земным подтекстом: «Небесные путешествия — средство, служение — цель» [Ли Найлун-1994. С. 117]. А ведь сам поэт признавался, что «к святым горним старцам потянулся душой в пятнадцать лет».
В этом стихотворении, возможно, стоит обратить внимание на финальный образ Гэ Ю в сюжете «вознесения на агнце». Во-первых, предание указывает национальность этого мифологического персонажа — цян, то есть той же народности, к какой традиция причисляет мать Ли Бо; во-вторых, отсутствие у того какого-либо специального даоского тренинга для вознесения, и притом его земная специальность — резчик по дереву: это, конечно, не «узоры» (ни Небесные, ни Земные), но мастерство, близкое искусству. Не оно ли помогло резчику стать святым?
Прощай, отчий край
Разочарованный, Ли Бо вернулся в Мяньчжоу, но тихое очарование родных мест уже было для него подернуто флером отреченности. Это внутреннее противоречие четко отразилось в стихотворении 720 года «Зимним днем возвращаюсь к старым вершинам», где Куанские горы с монастырем Дамин предстали ему некой «уходящей натурой», милым, но по-зимнему пустым пространством:
Вернулся, не отряхивая пыли, На эти ароматные луга Тропой, которую лианы скрыли. Здесь на горах — слепящие снега. Земля остыла, оголились ветви, В теснинах гор повисли облака, Бамбуки юные растут, несметны, А старые стволы несет река. Тот самый белый пес помчался с лаем, Зеленым мхом уж заросла стена, По кухне сирый петушок гуляет, И обезьяна воет у окна. На павшем дереве гнездо повисло, В заборе дыры — тропы для зверья, С постели пыль стряхнув, сгоняю крысу, А из шкафов — древесного червя. Я здесь пытался, среди пятен туши, Стать, как сосна, исполнен простоты. Я снова здесь, и все же будет лучше Уйти в три мира Высшей Чистоты.Несмотря на неудачи в городской карьерной суете, Ли Бо твердо настроился на выход в мирскую жизнь, на преодоление «трудных дорог» государева служения, на высокое признание императорского двора. Именно так надо понимать последние две строки, где даоский термин «три Чистоты» употреблен поэтом не столько в своем прямом значении иерархической лестницы даоской номенклатуры, сколько как обозначение местопребывания небесного Верховного Владыки и в переносном смысле — земного императорского двора.
Кстати, в Куанских горах когда-то стояла железная плита, на которой было указано, что «старые горы» этого стихотворения — это именно Куанские горы с монастырем Великого Просветления и оглашающей воздух мерными ударами деревянной рыбиной (плита хранится в музее Ли Бо в Цзянъю). Но еще большим аргументом в дискуссии о датировке стихотворения послужило упоминание о заснеженных вершинах, ибо в местах его последующего проживания (Аньчжоу, Яньчжоу) не было гор со снежными шапками.
Еще четыре года он пробыл в Мяньчжоу, наведываясь и в монастырь Великого Просветления, но, как ни грустно было расставаться с отчим краем, Ли Бо был обуреваем идеей служения и жажда неведомого неудержимо влекла его. И вот весной 724 года, сопровождаемый верным Даньша, он купил лодку и направился в сторону Юйчжоу (современный Чунцин).
Вариация на тему
Утлый челн, подставив попутному ветру небольшой парус, плывет по Линцзяну, неторопливо приближаясь к Юйчжоу на Вечной реке (Янцзы), слуга Даньша еще раскладывает поклажу в небольшой каютке, а перед глазами молодого поэта еще стоят милые сердцу пейзажи отчего края Шу. Он как бы живет в трех измерениях: вчерашнее, бледнея, цепляется за сегодняшнее, но из глубин души уже вырывается волнующее Завтра, словно бы озаренное лучами восхода. Эти три пласта с самого начала осмысленного бытия и составляли структуру его души.
Юный поэт долго петлял по мелким речушкам отчего края, разрываемый жалостью прощания и решимостью броситься в неизведанное. Поэт рвался туда всем существом и в стихах, написанных в челне, гиперболизировал воображением и высоту корабельной мачты, и пройденное расстояние. Его путь шел по реке Миньцзян вдоль горы Минь, по ее притоку Циншуй, от которой змеился маленький ручеек Цинси, по Пинцяну. Опускалась ночь, и он все оглядывался на Крутобровую Эмэй, над склоном которой, отражаясь в реке, поднималась ущербная луна. Задумавшись, он даже не сразу сообразил: эта половинка — растущий месяц или луна уже на излете, но ему так не хотелось расставаться с ней, что даже вопреки грамматике он написал в стихотворении «луна над горой Эмэй, полколеса, осень», словно эти «полколеса» относятся к осени, разорванной на части его отъездом и слабо кровоточащей. А луна, ущербная, болезненно сморщенная, обессилев, легла на воду, испуганно подрагивая рябью мелких волн, у подножия горы, где, невидимая во тьме, притаилась почтовая станция у моста, уже в пяти ли от устья Пинцяна.
Невдалеке возвышалась над будничным миром огромная голова Лэшаньского Будды, высеченного в скале, — самого большого Будды в Китае, самого большого каменного Будды в мире. Голова — 14,7 метра, уши — 6,2, нос — 5,6, плечи — 28 метров. 71 метр высотой, но ведь это даже не рост его — он сидит, прислонившись спиной к Горе, Уносящейся к Облакам, как можно перевести название Линьюньшань, и обратив лицо к Трехречью — слиянию Миньцзяна, Дадухэ и Циньицзяна. Будда смотрел на пространство, лежащее перед ним, остановившимся взором, обращенным вовнутрь, в те мириады миров, которые он вмещал в себя, и, возможно, в этой-то Вечности он и заметил великого поэта, неспешно проплывшего мимо его каменной оболочки.
Впрочем, статую начали сооружать лишь за двенадцать лет до того, как Ли Бо в первый и последний раз проплыл мимо нее, и вполне возможно, что поэт не только не видел Большого Будду, но даже и не слышал о нем. И сердце его не дрогнуло, когда лодка проплывала мимо.
Вариация на тему
А уже на самой Вечной реке, ближе к Трехущелью (Санься) они заночевали у подножия легендарной Колдовской горы. Маленькая гостиничка была вся пропитана ее духом: облачко-фея над вершиной набухло дождем, взволнованно ожидающим мига, когда сладострастными струями он прольется на нетерпеливого князя, ширма у изголовья перечерчена Вечной рекой, уходящей к верхней кромке изображения, словно и она откликнулась на зов феи с небес. Сун Юй, знаменитый поэт и, как утверждают предания, младший брат великого Цюй Юаня, обессмертил эту гору своей одой о любострастных свиданиях феи горы с чуским князем Сяном. Приподнятый над вершиной камень издавна представлялся проплывавшим лодочникам феей-хранительницей, но они хотели видеть в ней чистый и романтичный образ. Действительно, согласился с ними Ли Бо, зачем это Сун Юй очернил прекрасную благородную даму, дочь Небесного Владыки?
Поэт поднялся на самый высокий из двенадцати пиков Колдовской горы, в который небесный Яшмовый Владыка превратил свою дочь Яоцзи, всмотрелся в облачко, которое, совсем как в оде Сун Юя, застыло на склоне горы, но увидел в нем не фею, не благородную даму, а отчий край, над которым это облачко проплывало час или два назад, и глаза мужественного рыцаря чуть заволоклись дымкой сентиментальных слез. И он тут же начал импровизировать стихотворение в защиту облачка-феи…
Прошел целый год прощальных метаний по отчему краю. Весенним утром 725 года, садясь в лодку, чтобы завершить последний отрезок пути по родным местам, он взглянул на Колдовскую гору и вновь вспомнил оду Сун Юя — уже с большим почтением к древнему собрату, сумевшему преодолеть силу людской молвы. И от этой ли мысли, от воспоминаний ли о покидаемом отчем крае, где он провел два десятилетия, глаза его вновь заволокло слезами.
Вариация на тему
«Рокот Вечной Реки откликнулся на зов Ли Бо: „О, тысячелетний поток! О, великая арена для внуков Желтого Владыки! Из седой древности ты течешь в далекое неизведанное, не обращая внимания на рождения и смерти, на взлеты и падения вокруг тебя! И вот я, Ли Бо из Шу, пришел к тебе, бурнокипящему, под эти величественные струи ветра, летящие от героических предков!.. Меня ждут вершины удач, широкий мир распахивающейся эпохи, гигантская рыба Кунь из Северной Бездны, Великая Птица Пэн, распахнувшая крыла во все Небо и устремленная вперед!“ Ли Бо швырнул меч на землю, и тот посеребрил золотистые волны потока, словно некто опустил небесный занавес. Затряслось-раскачалось солнце, и даже с запада выглянула, пошатываясь, луна… Захмелевший Ли Бо подошел к кромке берега и возопил: „Писать стихи! Пить вино! О, крутые вершины, разливанная Вечная Река, о, ветра и тучи во всех девяти округах страны, солнце и луна, звезды и созвездия! Я жажду неземных свершений, преобразующих мир… Эй, луна, ты пьяна, и солнце пьяно, и Вечная Река пьяна, и я, Ли Бо, тоже пьян…“»
[Ван Хуэйцин-2002. С. 142–143]Головокружительная круговерть Трехущелья была созвучна юному задору поэта. Челн кружил, обходя водовороты реки, а Ли Бо задумчиво смотрел в сторону северного берега, где, скрываясь за горным массивом ущелья Силинся, в Великой Древности угадывались родные места Цюй Юаня и одиннадцать могильных курганов, в одном из которых похоронен великий поэт, а остальные сооружены для того, чтобы преследовавшие его царские клевреты не смогли отыскать подлинный и осквернить его. Уже покинув Шу, он все еще видит отчий край внутренним взором, и у поэта рождается образ нескончаемо сопровождающей его Парчовой реки среди обрамленных розовыми персиками берегов:
В ущелье Лун влекомый, мой челнок Летит, и взгляду не достичь предела, Не прерывался персиков поток От самой речки, что в парчу одета. Вода светла — прозрачный изумруд, Безмерностью сравнима с небесами. Башань пройдем, а там уже плывут, Качаясь, тучки чуские над нами. Там гуси над песками — что снега, Там иволги порхают по ущелью; Лишь минем буйноцветные луга, Нас яркая дерев встречает зелень. Туманный берег покидает взгляд — Ладья стремит к луне над океаном. Из тьмы Цзянлина огоньки летят — Дворец Чжугун, построенный Чэнь-ваном.Но вернуться к родным очагам Ли Бо было уже не суждено. «Вечный гость» (известное речение Лермонтова — не о Ли Бо, конечно, но так точно к нему применимое) отправился в свое вечное странствие. Сначала по просторам Танской империи, затем в потоке времени и, наконец, за пределами времен — в сакральном Занебесье.
Глава третья ПТИЦА ПЭН РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛА (725–727)
Отвязанный челн
«Стремление в широкий мир» — традиционное ощущение взрослеющего и мужающего китайского юноши, жаждущего познания бескрайних просторов и реализации своих замыслов. Для китайского интеллектуала путешествие было не частным делом, а социальной функцией, способом получения информации о мире и передачи социуму информации о себе.
Почти два года (724–725) Ли Бо блуждал по отчему краю, трудно расставаясь с детством, с семьей, с горами и затаившимися в них даоскими и буддийскими монастырями. Внутренне он не порывал с ними, они впоследствии не раз всплывали в его стихах, а в памяти сердца явно пребывали постоянно, но Ли Бо был человеком, который не мог удовлетворяться частным, личным очищением и просветлением, — он жаждал принести чистоту и свет всему миру и в этом видел свою высочайшую миссию. Он «хотел по-птичьи всполошить мир людей и птицей взмыть в Небо» — так сформулировал жизненное целеположение поэта Фань Чуаньчжэн в «Надписи на могильной стеле».
Не случайно мифологический образ Великой Птицы Пэн, сформировавший устойчивую ментальность Ли Бо, оказался стержневым в его поэзии, выражая надмировой, космический характер поэта, презрение к пересудам «мелких птах под забором», высочайшую самооценку, осознание своего нестандартного предназначения, способного изменить направление движения заблудшего мира, упорное, почти маниакальное стремление к грандиозным целям, которые извне могли показаться безумными. Гипертрофированность была ведущей чертой и его характера, и его поэзии: плач у него «сотрясал Небо», смех «гремел в Небесах», песни были «оглушительными», воздыхания «нескончаемыми», тоска «бескрайна, точно осень», седина «в три тысячи чжанов» (в том же стиле он вошел в легенду великаном ростом в семь чи).
Ли Бо жаждал «безумства», которое ломает традиционные пути, нарушает каноны, спутывающие естественность неумирающей Древности, уводящие от Изначальности, и этой предвечной свободой Совершенномудрых он хотел одарить весь мир. Вот почему — а не только в силу заведенного правила — он рвался «к четырем сторонам», центром которых была блистательная имперская столица Чанъань с императором, Сыном Солнца, на священном троне, обращенном лицом к югу.
Здесь, похоже, у меня есть последняя возможность несколькими штрихами дорисовать внутренний образ Ли Бо, ибо дальше он с головой погрузится в текущую жизнь, увлекаемый своим бурнокипящим темпераментом, и нам будет уже не до штрихов и абрисов.
Хотя по меркам эпохи он считался уже вполне взрослым человеком, но определявший структуру его характера поэтический склад, выходивший за рамки обычного, несколько притормаживал стандартное социально-психологическое развитие. Правда, китайский исследователь в специальной работе, посвященной преимущественно анализу психологического облика Ли Бо, на первое место ставит «уверенность в себе», из «пяти моделей» которой («самостоятельное планирование собственной жизни», «осознание себя как части естества», «высокая самооценка», «трансцендентность своего Я», «самопиар»), по его мнению, и складывается личность Ли Бо [Кан Хуайюань-2004. С. 2–4], но я бы рискнул, не отрицая этих моделей в целом, возразить ему в частности, но имеющей принципиальное значение для понимания Ли Бо не просто как человека, не просто как поэта, но как поэта гениального, в котором творческий процесс был абсолютно определяющим в структуре личности.
Думается, что доминирующей чертой личности Ли Бо стоило бы считать не поставленную исследователем на первое место «уверенность», а стоящую у него на втором месте «наивность» [Кан Хуайюань-2004. С. 4–8]. Эта «наивность» не была ни наигранностью, ни инфантильностью, ни патологией. Это была жажда всё познать, всё увидеть, почувствовать, потрогать: любопытство, изначально присущее слитым с Природой бесхитростным существам — птицам, мелким зверушкам, человеческим младенцам. С врастанием во взрослый мир оно остается лишь у творческих натур с открытой, обнаженной нервной системой: доверие к людям, неумение и, главное, нежелание разбираться в тонкосплетениях интриг, трагически замутняющих чистоту души, то есть то, что было для Ли Бо свято. «Наивность младенца, с плачем пытающегося схватить луну» — так охарактеризовал нашего героя современный поэт Вэнь Идо. Иными словами, живущего в мире без искусственных границ, привнесенных извне, без категорической оппозиции «свой-чужой», «можно-нельзя» (а такое противопоставление — стержень классической китайской ментальности).
Эта «наивность» — преимущественно, не земного, а небесного свойства, наивность существа, не припорошенного мирской пылью, сверхъестественная открытость души, ее ранимость, беззащитное тяготение к соприродным существам, в кругу которых он мог ощущать себя как «самость», и отсюда — боязнь одиночества как разрыва связей с соприродными существами, коих в современном ему мире, как, повзрослев, он осознал, осталось не столь уж много. Его стремление к Древности было, конечно, связано и с мировоззренческими моментами, но — вторично, первичным же в этом чувстве было традиционное представление о Древности как о времени патриархально-идиллических взаимоотношений между людьми.
Ну как такому «младенцу» было возможно прижиться при дворе, живущем интригами и коварством?! Ведь он всю жизнь позиционировал себя «рыцарем», поднимающим меч в защиту справедливости. Неискоренимая детскость постоянно толкала его к озорству, шальным выходкам, не подобающим солидному взрослому мужу, к необузданности во всех сферах быта, наслаждения, служения, творчества. С этим «озорством» он не только вошел в общество, но и вторгся в китайскую поэзию, взорвав ее чинное почитание традиций и копирование образцов как главный творческий метод. Камертоном для него была собственная личность, которая произвольно брала из традиции лишь то, что было созвучно ее чистому и естественному дыханию.
Именно в плане свободы формы и самовыражения поэзия Ли Бо «безумна» — как безумен срывающийся с гор неудержимый поток, для которого не существует абсолютного русла, и он упрямо выходит из обозначенных традицией берегов (горы и водопады постоянно возникают в его стихах). Самохарактеристика поэта звучит как куан. Словарь дает перевод «безумный, сумасшедший». Но это отнюдь не медицинская патология (хотя с горькой самоиронией он как-то уронил: «Смеются надо мной, как над безумцем»), а неудержимое стремление преодолеть все сдерживающие начала, разрушить барьеры, быть свободным и вольным, как птица, могучим, как зверь, ведомый Изначальностью естества (иероглиф куан складывается из двух значащих частей «зверь + царь», но «царь», в котором еще заложено звериное, природное начало, «царь» младенческого, практически доцивилизационного периода человеческого обитания, «царь» как владелец окружающего природного пространства и уже вторично — живущих на нем людей). «Безумство», какое Ли Бо подмечал в себе, было сродни изначально-природному свойству, не имеющему привязки к месту и времени, противному устойчивой локализации человеческой цивилизации и самой этой цивилизации, явственно обозначало желание разрушить падшую цивилизацию. «Безумство» его поэзии — в ее «сверхчеловеческой» запредельности выражения любви и ненависти, радости и печали, желаний и отрешения от мира, и этот высочайший накал стиха передается и читателю, «раскрепощает человека», погруженного в стихи Ли Бо [Ли Чанчжи-1940. С. 4].
Ли Бо был в высшей степени активной, деятельной натурой. В этом плане его ментальность не нарушала традиций «самости», присущей методологии древних мыслителей Китая, утверждавших путь познания и обретения через себя, самостоятельно, то есть естественным путем, а не навязанным насильственно извне. Учитывая это, надо чрезвычайно осторожно оценивать стремление поэта найти себе высоких покровителей для должностного продвижения. Хотя устойчивое словосочетание «петь с мечом», обозначающее обращение просителя к сюзерену, встречается у него не только как историческая аллюзия[38], но и в применении к самому себе, знаменитая «кость гордости», мешавшая ему униженно склоняться перед сильным и властным, поднимала его с уровня покорного «просителя», жаждущего быть облагодетельствованным, до высоты равного, желающего получить то, чего он достоин. Иллюстрацией служит хотя бы упомянутый в предыдущей главе эпизод с Ли Юном.
Жизненную философию Ли Бо можно определить как безудержную жажду жизни, обостренное ощущение бытийности, его ценности, его стоимости, стремление охватить бытие во всей его невероятной огромности, не пропустить ничего, не связывать себя ничем. Он не жаждал «обладать», он жаждал «быть», существовать в каждое мгновение в максимально возможной (и невозможной) полноте, расцвеченной всеми цветами палитры.
Вино не столько позволяло ему забыться, не видеть грязи мира, сколько раскрепощало, снимало путы непременной ритуальности в общении, возвращало к самому себе, к Великой Природе, в слиянии с которой он познавал себя и через которую во всей полноте сущего выявлял себя, к бесконечному и неизмеримому Космосу, в яркой вольности которого он нашел для себя достойное место. В стихах он порой ставит жизнь выше искусства: «Под северным окном свои стихи слагаю, / Но десять тысяч слов — глотка воды не стоят» («Холодной ночью, одиноко грустя с чашей вина, отвечаю Вану-Двенадцатому»). «Вольным странником восточного типа», устремленным от «мира людей» к «бирюзовым горам», назвал нашего поэта современный аналитик [Кан Хуайюань-2004. С. 29].
Создается впечатление, что это противоречит постоянной нацеленности Ли Бо на социально-полезный успех. Думается, что это все же не столько метание между конфуцианской прагматичной идеей служения[39] и даоским отстранением от мирской пыли, сколько плод имманентной жизненной активности, неудовлетворенности социальной действительностью и желания вернуть мир на изначальные древние «круги своя».
Ли Бо не втискивается в рамки того или иного мировоззренческого учения, как бы некоторым исследователям ни хотелось жестко приписать его к какому-либо канону, он впитывает в себя всё и поднимается надо всем, оставаясь пришельцем из будущего, слишком поторопившимся «посетить сей мир в его минуты роковые». Его стремление к успеху выражает не желание занять место на иерархической лестнице, а максимальное расширение возможностей для деятельности космического масштаба. «Ли Бо своей душой открытой способен Небо потрясти» — так обозначил он себя в «Письме помощнику губернатора Аньчжоу Пэю». По точному замечанию Ван Шичжэня, в поэзии Ли Бо «религией выступает природа». И пустотность буддистов, и туманность даосов, и государственничество конфуцианцев — всё это, пропущенное через себя, он преобразует в образы. «Его слова — вне Неба и Земли, / А мысли — словно духи нашептали», — сказал поэт танского времени Пи Жисю.
Весной 724 года Ли Бо покинул родной Посад Синего Лотоса и, не отводя глаз от луны, словно бы томно блуждавшей по густым бровям священной горы Эмэй, медленно пустил свой челн в извилистые речушки в направлении Юйчжоу (современный Чунцин) на пересечение с Вечной рекой Янцзы, чтобы больше никогда уже не вернуться в отчий край. «Ох, сколь эти вершины круты и опасны! / Легче к небу подняться, чем в Шу по дорогам пройти», — сетовал он позже то ли на трудные дороги отчего края, то ли на скользкие тропы царева служения.
Жизнь поэта имеет две географии, отражающие перемещение тела и движение души. Человек по имени Ли Бо, или Ли Тайбо, вырос в границах современной провинции Сычуань, в крае Шу, и затем много перемещался по территории Китая, преимущественно Южного. Поэту Ли Бо было тесно и в этих рамках, он ощущал в себе космизм, и даже современники сочли его «Небожителем». Его земная оболочка жаждала служить земным властям, но была ими отвергнута. Его душа беседовала со звездами, на земной пейзаж взирала с Девятого неба, обиталища Верховного Владыки, свободно беседовала с ним, а после ушла в запредельную бесконечность.
Вечным странником Земли, вечным «гостем» (кэ), чужим месту и времени, несозвучным, неприкаянным «маргиналом» оказывался Ли Бо повсюду. «Все его „дома“ — в Аньлу, в Восточном Лу, в Лянъюань — были лишь пунктами его странствий» [Цяо Цзячжун-1976. С. 29]. «Я — отвязанный челн, потерявший причал», — писал он в 753 году в стихотворении «Посылаю историографу Цую», характеризуя свои безостановочные странствия по просторам страны в поисках идеала, так и оставшегося недостижимым, ибо если тот, возможно, и существовал, то не в пространстве, а во времени — или во «вневременьи». Какой же это интересный вопрос, еще ждущий ответа: кто отвязал челн вечного странника Ли Бо?
Это настойчивое, чуть ли не маниакально повторяющееся из стихотворения в стихотворение самоназвание «кэ» переходит границы художественного образа и становится психологической характеристикой той особой ментальности, что была присуща Ли Бо («охота к перемене мест» — так через тысячу лет в иной локализации, обладающей иными культурными и цивилизационными характеристиками, обозначил совсем другой поэт натуру такого же «кэ», всюду чужого, чуждого даже собственной цивилизационной оболочке). И еще один поэт, стоявший несколько ближе к безграничной космичности Ли Бо, словно вспомнил о далеком китайском предке: «Он был пустыни вечный гость…»
Конечно, на разных этапах жизненного пути это самоощущение, передаваемое определением кэ, имело разные акценты, неодинаковую сферу локализации, разной силы связь с философской мыслью и традицией. И разную концентрацию душевной горечи. На начальном этапе странствий это явно была лишь констатация факта: Ли Бо покидал отчий край и стоял у начала пути, представлявшегося ему столь же огромным, как невероятной высоты мифологическое древо Фусан, дотягивающееся вершиной до самого Солнца. Ли Бо был упоен слепящей целью и уверенностью в своих силах, могучих, как у Великой Птицы Пэн, о которой он прочитал у Чжуан-цзы. И, уплывая из привычного Шу, он к тому же знал, что в разных городах, больших и малых, обширной Танской империи укоренились близкие ему родичи из клана Ли, некоторые из которых поднялись уже до таких карьерных высот, что юноша вполне мог рассчитывать на достаточно весомую поддержку.
Так что не только «опора на собственные силы» диктовала Ли Бо уверенность в будущем, но и клановая разветвленность, позволявшая ему в трудный час рассчитывать на помощь близких людей. Из сохранившихся до наших дней девяти с лишним сотен стихотворений Ли Бо более четырех десятков посвящены родственникам, в том числе в тридцати стихотворениях даже указывается степень родства. В «Большом словаре Ли Бо» в разделе «Связи Ли Бо» на пяти страницах перечислены адресаты его стихотворений, носившие фамилию Ли. Не все из них идентифицированы, кто-то вовсе не принадлежит к родственникам поэта, но и оставшийся перечень достаточно внушителен. Многие из них занимали какие-то посты в чиновной иерархии разных городов страны, что формировало внушительный каркас необходимой опоры в жизни для Ли Бо.
Покидая Шу, он был исполнен жажды увидеть весь тот широкий и волнующий мир, о каком до тех пор читал и слышал. Более всего его привлекала прибрежная полоса на востоке материка — древнее царство Юэ с его мудрыми отшельниками и колдунами-мистиками. И он решил, что проплывет всю Янцзы, нигде не задерживаясь, прямиком к невиданным красотам Шаньчжуна. Но когда он миновал Большой проход, как в совокупности именовались мелкие речки Шу и Ба, ведущие к Вечной Реке (Янцзы), его первой волнующей душу целью стало Санься — три ущелья в верхнем течении Янцзы, живописная панорама нескончаемых гор, протянувшаяся от города Боди на западе до города Ичан на востоке на 192 километра. С особым трепетом, жадно вглядываясь в очертания левого берега, проплывал он ущелье Цуйтан, в древности называвшееся Силин — здесь родился великий поэт Цюй Юань. «Обе стены ущелья, — описывал эти места в XII веке поэт Лу Ю, — находятся друг против друга и вздымаются высоко в небо. Они гладкие, будто срезанные. Поднимаешь голову — и видишь небо, похожее на штуку белого шелка» [Лу Ю-1968. С. 84].
Рядом — группа стройных пиков Колдовской горы (Ушань). Именно здесь великий Юй, мифологический культурный герой, с помощью феи Колдовской горы, укрощал водную стихию, разрушительными наводнениями губившую плоды жизнедеятельности человека. В памяти поэта всплыла легенда о двенадцати прекрасных феях, дочерях богини запада Сиванму, которые ясным осенним днем на восьмой луне решили слетать вместе с зоревыми облачками к Восточному морю, а когда возвращались к ущельям, увидели могучего мужчину, раздвигавшего утесы, чтобы дать проход бурной воде, грозившей затопить мир. Это и был Великий Юй.
Яоцзи, самая очаровательная из этих прелестниц, не смогла пролететь мимо и спустилась помочь герою. Помочь-то помогла, но разгневала небесного Яшмового Владыку, и он превратил всех сестер в двенадцать пиков Колдовской горы, вон они высятся по левому борту, и самый высокий пик — это и есть Яоцзи. Сун Юй, младший брат Цюй Юаня, взял да связал ее интимными отношениями с чуским князем, а на самом-то деле ее благородное сердце вместило в себя весь род людской. «Царя Небесного Нефритовая дочь / Взлетает поутру цветистой легкой тучкой — / По сновидениям людским бродить всю ночь. / И что ей Сян, какой-то князь там чуский?!» — с сочувствием к ней написал Ли Бо («Чувства вздымаются»).
А завершалось Трехущелье у города Фэнцзе, где над потоком нависает глыба скругленного, как городская стена, утеса, на ней, рассказывали, сохранилась схема боевой дислокации войск Чжугэ Ляна — героя-полководца, весьма высоко почитавшегося Ли Бо. И он еще долго оглядывался на все уменьшающийся, уходя назад, утес, пытаясь обнаружить эту схему. В голове бродили стихи, но легкий челн так бросало в водоворотах Санься, что не то что кисть в руках удержать — самому бы в лодке удержаться.
Санься уже бурлила за спиной, когда впереди показались две горы по обеим сторонам реки — это были Врата Чу (Цзинмэнь), за которыми привычный горный мир Шу становился пологим, ровным, насыщенным озерами, которые поминал еще Сыма Сянжу. Начинались земли великого древнего царства Чу, сформировавшего особый слой романтической культуры, распространившийся на весь Южный Китай, с такими ее вершинами, как Лао-цзы и Чжуан-цзы, Цюй Юань и Сун Юй. Неискоренимая энергетика древности входила в душу вместе с чарующей красотой берегов, потихоньку вытесняя ностальгическую грусть по оставленным родным пенатам.
Не столь уж большое расстояние преодолел челн Ли Бо, но поэт в стихотворении написал «Издалека приплыл я к Чуским воротам»: не тело его приплыло к этому рубежу издалека, а душа прилетела из седой Древности, из того неуничтожимого царства Чу, что духовно взлелеяло поэта. Бурнокипящие между горами Врат, сжимающими поток реки, волны оборачивались водяными драконами, складываясь в мираж уже недалекой древней чуской столицы Ин, колышащийся в ветрах невообразимо протяженного времени. И лишь на мгновение, но отчетливо, пробежала мысль, что воды реки вокруг челна уже десять тысяч ли плывут вместе с ним из родного Шу — в далекие, неизведанные дали.
На правом берегу Янцзы раскинулся небольшой городок Цзыгуй, так до сих пор и сохранивший свое название — один из вариантов фонетической записи крика кукушки. Этих птиц в Шу было множество, и от их заунывного осеннего вопля сжималось сердце. «Бу-жу-гуй! Бу-жу-гуй! Вернись! Вернись!» — безостановочно кричали птицы, словно обращаясь к Ли Бо. И поэт не смог проплыть мимо, тем более что в городке сохранилась небольшая кумирня Цюй Юаня, дорогого его сердцу поэта.
Живописный бассейн Янцзы — это не только географический ареал. Как и вторая великая водная артерия Китая Хуанхэ (Желтая река), Янцзы в мировосприятии китайцев, в их мифологической прапамяти занимает совершенно особое место. Во второй половине прошлого века в верховьях Янцзы были найдены окаменелости обезьяночеловека — на миллион лет старше знаменитого синантропа из стоянки Чжоукоудянь под Пекином, что поколебало давнее представление о том, что колыбель китайской нации локализовалась в бассейне Хуанхэ, и теперь ее границы значительно расширили, считая, что китайская цивилизация зародилась на территории, очерченной с севера Желтой рекой, а с юга — Вечной. Янцзы, третья в мире после Амазонки и Нила водная артерия, столь протяженна и полноводна, что ее именуют Вечной рекой, Великой рекой, а часто с высшей почтительностью — просто Рекой, единственной и неповторимой.
В китайской культурологии существует особый термин «культура бассейна Янцзы» — даоская, прежде всего, культура со всеми присущими ей «темными» мистическими элементами. В ее основе лежал древний мифологический пласт культуры царства Чу, чье влияние простиралось от района современного города Чунцина в верхнем течении Янцзы на западе до прибрежных царств У и Юэ на востоке. Чу — родина Лао-цзы, великого автора трактата «Дао Дэ цзин» («Канон о Дао и Дэ»), легшего в основу философии даоизма. Наиболее ярко эта культура нашла свое выражение в философском притчевом трактате «Чжуан-цзы», в поэзии Цюй Юаня и Сун Юя, и именно эта часть наследия оказалась среди наиболее почитаемых Ли Бо.
Он сам назвал себя в одном стихотворении «Чуским Безумцем», вкладывая в это определение романтическое опьянение древней культурой, насыщенной мифологией, почитавшей доисторическое сотворение мира, акцентировавшей Изначальное как исток духовной Чистоты, утраченной последующим цивилизационным развитием. Южная чуская культура, до рубежа нашей эры не слишком активно контактировавшая с более северными регионами, не испытала сковывающего воздействия суровых древних чжоуских ритуалов, канонизированных Конфуцием и легших в основу культуры Центрального Китая, была вольнее и раскованнее.
Ли Бо не только изучил этот культурный слой — он был воспитан им, взращен им, тем более что мифы чуской культуры тесно взаимодействовали с мифологическим пластом области Шу, родного края Ли Бо, наложились на культуру царств У и Юэ, где глубокие корни пустили мифы о святых бессмертных с острова Пэнлай в Восточном море. Все это особенно влекло романтически настроенного молодого поэта. Классический памятник «Шань хай цзин» («Канон гор и морей»), романтическую философию Чжуан-цзы, величественные оды Цюй Юаня и Сун Юя, отражающие раннее мифологическое сознание нации, он проштудировал еще в детстве. Образы мифологических героинь этого ареала (фея Колдовской горы, верные жены Шуня и др.) не раз возвращались в поэтические строки Ли Бо.
Впереди, за узким проходом в Чуских вратах лежали земли древнего царства Чу, которое во времена своего расцвета занимало обширное пространство на территории современных провинций Хубэй, Хунань, Цзянси, Цзянсу, Чжэцзян и части земель южнее Янцзы. Они прославились не столько сластолюбивым князем Сяном, томившимся в ожидании феи-тучки, сколько великим именем поэта Цюй Юаня, который жаждал быть рядом с престолом, дабы мудростью своей способствовать управлению царством, но, отвергнутый корыстной и недальновидной властью и сосланный к дальним берегам рек Сяо и Сян, в отчаянии бросился в стремительный поток.
Все это еще не могло породить у юного Ли Бо никаких ассоциаций, осознаваемых нами, дальними потомками уже задним числом, но смутная тревога, возникшая в подсознании, усилила грусть по только что покинутому отчему краю. Он вздохнул, глядя на проплывающие мимо пегие склоны Цзинмэнь, отряхнул воспоминания и, подбадривая несколько приунывшего слугу Даньша, попытался решительно настроиться на близящиеся красоты Шаньчжуна, на романтичные места У и Юэ, на уходящую к небесам вершину Лушань, куда он давно стремился и ради этого готов был приглушить тоскливые воспоминания о родных краях с их надрывным воплем кукушек, призывающих странника вернуться, и с дразнящим ароматом домашней похлебки из свежевыловленных, только что трепыхавшихся рыбешек.
Переход на территорию Чу, где таинственно поблескивали руины древнего дворца, поэт воспринял как пересечение рубежа времени, как слияние времен в один Ком вечного бытия, соединил свое уходящее прошлое с надвигающимся будущим и поставил это на фон непрерывающейся Вечности. Не случайно у него в стихотворении луна висит над океаном, которого нет в тех местах, где плыл его челн, но к которому устремлен поток Янцзы, а этот «океан» в мифологии именуется Восточным морем и над ним вздымаются острова Бессмертных святых.
Уже на выходе из водоворотов Трех ущелий, в небольшом городке на берегу Вечной реки и произошла у него встреча, на всю оставшуюся земную жизнь определившая миро- и самоощущение молодого поэта. О ней стоит рассказать чуть подробнее, позволив себе слегка выйти за пределы сухих хроник.
Встреча Великих Птиц
Вариация на тему
Заночевали в Цзинчжоу, который в стародавние времена именовался Цзянлином и был, по преданию, построен Гуань Юем во времена Троецарствия. Для тех, кто духом был привязан к идеальной Древности, было привычнее называть город Цзянлином (теперь это Ичан провинции Хубэй). Он оставался культурным центром даже во времена политического упадка.
Фонарщики зажгли фонари, в их слабом мерцании заманчиво-таинственно колыхались на слабом ветру синие флажки питейных заведений, а из окон приветственно помахивали женщины трудноразличимого в полутьме возраста. Но не они, а неожиданно встреченный односельчанин У Чжинань увлек Ли Бо в гостиницу, в которой остановился. Название ее Ли Бо воспринял буднично, но сегодня в нем видится мистический подтекст — «Сянь кэ лай» («Заходи, святой странник»). Неужели все и в самом деле предопределено?!
Уже приближение к этому городу вызвало необъяснимое волнение. Видимо, сработало высокочувствительное предвидение, улавливающее плывущие из космоса энергетические колебания еще не наступивших событий. Ведь именно к сакральности, к Занебесью и был обращен философский и поэтический взгляд Ли Бо, а земные дела, хотя нередко и выходили у него на первый план, но тут же своей мелочной суетностью погружали душу в необъяснимую грусть.
В этих краях всё было пропитано Чуской Древностью. Ли Бо вошел на территорию уже не существующего наяву, но нетленного города Ин, столицы царства Чу у южного подножия горы Цзи (поэтому древний город называли также «Цзинаньчэн», «город к югу от Цзи»), увидел руины дворца Чжанхуа, полуразрушенный земляной вал и крепостные рвы чуской столицы (они дошли и до нас), надолго задержался в книгохранилище Вэй-гуна (III век до н. э.), где среди красноватых стен с полустертыми надписями отыскал нетленные оды Сун Юя.
Как раз в это время в паломническое странствие к святой горе Хэншань направлялся знаменитый даос Сыма Чэнчжэнь, отшельник со склонов Тяньтай по прозвищу Сыма Цзывэй; сам он называл себя Мудрецом с белого облака. Проездом в Юэчжоу (современный город Юэян провинции Хунань) он остановился в Цзянлине и жил в монастыре Пурпурного Предела (не примечательно ли, что в одноименном монастыре, только через десять лет и в другом городе близ горы Тайшань, Ли Бо прошел обряд «вхождения в Дао»?). Сыма Чэнчжэню было уже восемьдесят лет, его пытались призвать к себе и императрица У Цзэтянь, и ныне правивший Сюаньцзун, а предыдущий император Жуйцзун, пригласив во дворец, склонился перед ним как перед учителем, но Сыма Чэнчжэнь всякий раз возвращался в свой скит мудрости. Он, как говорили, знает всё на пять сотен лет назад и видит на пять сотен лет вперед.
Знаменитый даос вел замкнутый образ жизни и мало кого принимал, но накануне вечером, заметив, что звезда Чангэн (Тайбо) в восточной части небосклона обрела пурпурный оттенок, Сыма понял, что наутро к нему на поклон придет Ли Тайбо. Уже непосредственно в беседе с молодым поэтом мудрец пророчески сформулировал его суть: «Духом — горний сянь, твой стержень — Дао, ты ликом — словно Дух Святой, витающий в Восьми Пределах». И продолжил, как предположил профессор Гэ Цзинчунь, уже менее торжественно: «Да, на пути государевой службы ждут тебя ямы и рытвины. Ты — как могучая Птица Пэн, коей нужны просторы неба, а не тесные залы».
Образ могучей и неостановимой Птицы Пэн[40] нарисован еще Чжуан-цзы: «В Северном океане обитает рыба, зовут ее Кунь. Рыба эта так велика, что в длину достигает неведомо сколько ли. Она может обернуться птицей, и ту птицу зовут Пэн. А в длину птица Пэн достигает неведомо сколько тысяч ли. Поднатужившись, взмывает она ввысь, и ее огромные крылья застилают небосклон, словно грозовая туча. Раскачавшись на бурных волнах, птица летит в Южный океан…»[41]
Уже много лет, с тех пор как в раннем детстве он открыл книгу удивительных и мудрых притч древнего философа, этот образ будоражил душу Ли Бо. Поначалу это было какое-то смутное, неясное, неотчетливое ощущение, но постепенно контуры его обрисовывались все ярче и явственнее, и этот невообразимо могучий «птеродактиль» стал недвусмысленной самоидентификацией поэта. Уже в 720 году он ввел этот образ в свое творчество и потом создал еще два произведения, в которых он играет смысловую роль, и множество таких, где мифологическое создание присутствует фоново. Нельзя не обратить внимание на то, что это — именно птица, что по ступеням мифологических ассоциаций еще теснее сближает Ли Бо с культурой древнего царства Чу, обитатели которого считали себя «потомками птиц», в отличие от жителей северных регионов Китая, именовавших себя «потомками драконов».
В произведениях Ли Бо Великая Птица Пэн — не простое копирование образа древнего философа, а стремительное его развитие. У Чжуан-цзы Пэн опирается на силу попутного ветра, у Ли Бо — дерзновенно и вольно парит в сакральных Небесах над миром, не нуждаясь ни в ком и ни в чем, не зная никаких ограничений своей свободе. «Мой дух исполнен Небом, мой лик очерчен Дао, обуздывать себя мне нужды нет, ни в ком я не нуждаюсь, где появлюсь, там и живу, мне самого себя довольно» — так уже в 727 году в эссе «Письмом отвечаю шаофу Мэну из Шоушань» очертил поэт психологические характеристики своего пребывания в сем мире.
Лет семь назад он уже упомянул пернатого гиганта в колком стихотворении, посвященном надменному чиновнику:
Пэн-исполин в потоках вихревых Взмывает в занебесные туманы, А спустится, коль ветр могучий стих, — Так вздыбится пучина океана.И к концу земной жизни, уже ощущая начавшийся процесс перехода в вечность, Ли Бо напишет, последним усилием воли соединяя себя с именем Конфуция (Чжун-ни), коему только и было бы дано по достоинству оценить поэзию Ли Бо, как мудро оценивал тот стихи древних, составляя «Канон поэзии» (Шицзин):
О, Птица Пэн, раскрыв громады крыл, Ты взмыла ввысь, да недостало сил, Но вихрь не стихнет десять тысяч лет! Ведь поднялась до дерева Фусан, и эту быль Потомки станут вспоминать века… Но где ж Чжун-ни, что над стихами слезы лил?Короткая вариация на тему
Встреча со старым и мудрым даосом всколыхнула поэта. «Да, он сравнил меня с птицей Пэн, но он сам — еще более редкостная птица Сию с вершины святой горы Куньлунь». Глубинно осмысляя этот образ, вечером он велел Даньша растереть тушь, зажечь светильник и написал «Оду на встречу Великой птицы Пэн с Волшебной птицей Сию» в возвышенном, с поэтически расставленными акцентами стиле «фу» (ритмическая проза, эссе, «стихотворение в прозе»; в отечественной традиции повелось условно называть этот жанр «одой»).
Мимо этого произведения не может пройти ни один исследователь. Но, к сожалению, нам остался не первый, спонтанный вариант, а более поздний, подредактированный уже зрелым поэтом, давшим ему и несколько другое название — «Ода Великой Птице Пэн». Тем не менее в собрания сочинений Ли Бо эту оду ставят если не в раздел «Дата написания не определена», то в период 725 года, условно считая позднюю редакцию и ранний вариант в основном идентичными.
Это не просто одно из произведений Ли Бо, но концептуальное, выражающее его мировоззренческие принципы как структурную конструкцию и его жизни, и его поэзии, и потому его стоит — при всех трудностях восприятия огромной массы мифологических образов, насыщенных пластами аллюзий, — привести хотя бы в отрывках[42].
…Из толщ земных взлетишь Ты к первозданной чистоте, пронзишь покровы туч, вонзишься в бездну моря и вызовешь волну невиданных высот — до тысяч ли. Затем опять взметнешься ввысь на девяносто тысяч ли, оставив за спиной вершин громады и крылья погрузивши в облака, взмахнешь крылом — придет на землю тьма, взмахнешь другим — опять вернется свет. Стремленью Твоему достигнуть Врат Небесных предела нет, в Тумане Изначальном Ты паришь, крылами сотрясая целый мир, сдвигая звезды в небе, покачивая горы на земле, в морях рождая бури. Кто способен преграды Тебе поставить? Кто способен сдержать порыв Твой? Эту мощь и не узреть, и не вообразить.
Небесный Мост[43] объяв за два конца, зеницами сверкнешь, подобно солнцу и луне. Мелькнешь мгновением, а рык громоподобный заставит тучи съежиться и снежный вихрь закрутит… Там, под тобою, три горы священных — они что комья малые земли, а пять озер великих — чаши с зельем. Душе святой созвучен твой полет… О, сколь ты величава, Птица Пэн, простертая от просини Небес до безоглядной пустоши Земли, с Небесною Рекой[44] одной сопоставима… То диво дивное — немыслимо, непредставимо, Великой Тварной силой Естества оно лишь и могло быть создано…
А Птица Велия Сию при встрече изрекла: «О, Велика ты, Птица Пэн, и в этом — твое блаженство. Когда я одесную западный предел крылом накрою, — ошу́ю восточной пустоши не видно. Что мне перемахнуть Земные жилы, Небесный стержень раскрутить?! В тумане непостижности гнездуюсь и пребываю там, где есть Ничто[45]. Давай взлетим вдвоем, крыла раскинем».
Так воззвала она к Великой Птице Пэн — за мною следуй в радости и естестве. И обе Птицы вознеслись в безбрежные миры, а мелкота невидная о том судачить стала под забором.
(«Ода Великой Птице Пэн»)Эта тема в качестве откровенно программного заявления поэта настолько важна, что достойна самостоятельного исследования, но как первый и пунктирный шаг здесь можно наметить две основные координаты: во-первых, соотношение оды Ли Бо с притчей Чжуан-цзы, откуда поэт взял сюжет; во-вторых, место этой оды в ряду других произведений Ли Бо, в которых он обращается к образу мифологического гиганта. Заслуживает внимания и анализ причин возникновения именно этого образа как спонтанной реакции на оценку Ли Бо, данную ему знаменитым даосом.
Онтологически связь с текстом философа ясна — утвержденную им схематичную мифологическую идею поэт развил и мировоззренчески, и художественно. Обращают на себя внимание два важных, концептуальных отличия. У Чжуан-цзы генезис образа Пэн, в сущности, отсутствует, он не доведен до логического первоначала, Пэн в притче философа, проводящего мысль о становлении мира как процесса трансформации форм, есть лишь метаморфоза огромной рыбы из Северной Бездны, а «откуда есть пошла» эта фантастическая рыбина, не уточняется.
Ли Бо четко конституирует Пэн не как продукт сегодняшнего мира, сгустившегося в устойчивые формы, а как порождение первоэфира, находившегося в процессе «сгущения из хаоса», непосредственно вошедшее в сегодняшнюю реальность создание предвечной «Великой Тварной силы Естества», которое обычно соотносится с понятием «природы» и сводится к самому Дао.
Персонаж Чжуан-цзы — индивидуален, и хотя мир вокруг него обрисован легкими штрихами (реакция мелких птах на непонятный для их приземленной ограниченности космический порыв), но связи Пэн с миром нет, она сама по себе, она вольна и свободна, она не только не реагирует на ничтожные для нее выпады, а просто не замечает их в своем величии. Однако свобода Пэн у древнего философа не безгранична — могучим крылам Птицы необходима поддержка ветра, и ее «вечность» начинается лишь за пределами сущностного мира — в Занебесье, на высоте в «90 тысяч ли».
У поэта крылатый гигант, рожденный в мифологические времена, то есть в «доистории», на протяжении почти всего сюжета одинок и до финальной встречи с равновеликой Птицей Сию ни с кем не контактирует. Однако само его существование не является «бытием в себе», а становится «бытием для других», является «прозелитизмом Дао», в сферу которого вовлекаются созвучные ему «святые души». У Чжуан-цзы нет как генезиса Пэн, так и ее целеположения.
Ли Бо, хотя и не ставит в текст важную для его мировоззрения формулу «возвращения Древности», но весь художественный образ стихотворения столь демонстративно ведет к противопоставлению текущей «цивилизационной» суеты — не осложненному и не нагруженному никакой прагматикой «беззаботному» парению этого прасущества в космическом естестве, — что из подтекста невольно и недвусмысленно возникает идея «перестройки» зашедшей в тупик, погрязшей в мелочной сиюминутности цивилизации. И это возможно лишь с помощью изначальной Чистоты, сублимированной в существах, подобных Великим Птицам Пэн и Сию, для которых собственное «величие» (не столько размеров, сколько духа) как независимость и вольность адекватно «блаженству» как естественной форме бытия, но не личному, а всеобщему. Их парение в Занебесье есть акт божественного творения.
И это — та самая цель жизни самого Ли Бо, какую он поставил перед собой, стремясь к императору как к Солнцу. Крайне важно обратить на это внимание — ведь проходящая через всю жизнь поэта жажда очутиться при императоре в качестве его мудрого наставника часто интерпретируется как только узко-конфуцианская составляющая его мировоззренческого комплекса — необходимость «служения» и подъема по карьерной лестнице. Ли Бо, однако, не ставил последовательную политическую и административную карьеру целью своей жизни — это было лишь средством реализации идеалов для максимально полного претворения в жизнь его данных Небом талантов, раскрытия сильного, гордого, прямого характера.
Лишь дважды в своей жизни он был близок к свершению деяний государственно-политического уровня: когда в Чанъане, ожидая императорского указа о зачислении в академию Ханьлинь, присутствовал на высших аудиенциях и даже в чем-то соучаствовал (легендарное свидетельство о разрешении конфликта с туфаньскими послами); и когда уже во второй половине жизни ввергся в военно-политическую авантюру принца Юн-вана, полагая, что спасает трон от посягательств мятежника Ань Лушаня. Оба эти вторжения в политику высокого уровня завершились для Ли Бо провалом: императорский двор он покинул по собственному желанию, осознав свою нравственную несовместимость с теми, кто пролез к кормилу власти; принц же был официально признан изменником, и Ли Бо как соучастник его измены попал в тюрьму и ожидал казни, лишь усилиями друзей замененной ссылкой в отдаленный Елан.
Тем не менее после каждого поражения он пытался возродиться именно в политическом плане. «Ода Великой Птице Пэн» показывает, что поэт мечтал не о совершенствовании существующего мира, а о кардинальном изменении его, о возврате к первоначалу, об осуществлении нового «проекта» как бы с «нулевого цикла», что доступно лишь прасуществам, непосредственно пришедшим из доформенного «Ничто».
Стоит обратить внимание на то, что, в отличие от горького предсмертного стихотворения Ли Бо, в «Оде» не только не говорится о падении Птицы на землю, но даже ветер, способный, по Чжуан-цзы, поддержать полет, упоминается не как активная сила, а лишь как ответная реакция на могущество самой Птицы. Полет Птицы Пэн — это ничем не ограниченная свобода, это наслаждение, высшее, ни с чем не соизмеримое блаженство, и именно это прежде всего привлекло свободолюбивый дух Ли Бо к этому образу.
Мудрый даос уже в 725 году разглядел в Ли Бо «небесную породу». Современный тайваньский исследователь извлек из старых хроник не только то, что акцентировал в своем романтичном эссе Ли Бо, но еще и более сложную оценку его психологических характеристик. Сыма Чэнчжэнь понял мятущуюся натуру поэта: базисно он безусловный даос, отчужденный от современных ему государственных структур, но смирить присущую ему жажду действий, поступков, свершений не в силах, и потому, предрек ему Сыма, «лишь свершив великие деяния, ты придешь ко мне на Тяньтай» — в скит отшельника для полного и окончательного «погружения в Дао». Однако Ли Бо так и не пришел к мудрецу, с горечью осознав, что на трудном и извилистом пути земного бытия тех государственнических «великих деяний», о которых мечтал, он свершить не смог, и утопил свою трагедию в вине.
Признав в собеседнике соприродную вещую Птицу Сию со склонов священной Куньлунь, поэт почувствовал, что его собственный дух рожден не цивилизацией, а изначальной, еще доформенной и тем более догосударственной праматерией. Он витает в таких высотах, куда уже и ветра не достают, а на землю опускается исключительно по собственной воле — раз в шесть лун для краткого отдыха (а что если состоявший из шести десятков лет цикл пребывания Ли Бо на Земле — одна из таких остановок?). Его высшее назначение — не «улучшать», а строить заново по отброшенным, но не утраченным лекалам Небесного Дао. Напомню самохарактеристику Ли Бо: «Мой дух исполнен Небом, мои лик очерчен Дао, обуздывать себя мне нужды нет, ни в ком я не нуждаюсь, где появлюсь, там и живу, мне самого себя довольно» («Письмо шаофу Мэну из Шоушань»). Это было сформулировано в 727 году, когда характеристики мудрого даоса уже пустили прочные корни в самосознание поэта.
Драма земного бытия Ли Бо в том, что осознание именно такого своего предназначения так и не овладело им целиком и безоглядно и в течение жизни он не раз еще срывался к карьерным мотивам, хотя глубинно и осознавал, что «плодов жемчужных» Фениксу не дадут и на благородном Платане не останется для него места — всё захвачено суетливой мелкотой с «рыбьими глазами». Трагедия поэта — в том, что он был личностью, прихотью Провидения оказавшейся там и тогда, где и когда требовалась не личность, а конформная общность. Своей яркой индивидуальностью он выбивался из той номенклатурной среды, в которую рвался, аннигилируя с ней.
В том же 725 году Ли Бо еще раз обратился к образу мифического гиганта, которому ничто не в состоянии поставить преграды на пути к Небесному Дао, — в стихотворении «На Севере — Пучина-Океан», которым он начал свой знаменитый цикл «Дух старины», историософский и эстетический манифест, создававшийся поэтом всю жизнь как последовательное уточнение и прояснение мировоззренческих позиций (в итоговой последовательности цикла это стихотворение стоит под № 33).
Примечательно, что в этом случае перед нами аутентичный текст, одновременный утраченному начальному варианту «Оды Великой Птице Пэн». И хотя по глубине обрисовки произведения несопоставимы, но они достойны компаративистского изучения, которое сможет выявить развитие образа Пэн в творчестве Ли Бо.
К Золотому кургану
После встречи с Сыма Чэнчжэнем Ли Бо не продолжил путь на восток, а, оживив в душе «чуский» дух, повернул обратно на запад. Юэчжоу (современный Юэян) в округе Балин, один из знаменитейших в Китае центров виноделия, соседствовал с памятными местами Цюй Юаня, который был для молодого поэта гражданственным, нравственным и эстетическим ориентиром. И о трагической кончине отвергнутого властью великого поэта, чьи «оды унеслись до самых звезд», тогда как места увеселений его царственных противников обратились в руины, оплетенные лианами, Ли Бо, конечно, не раз задумывался. Озеро Дунтин, куда впадают, к западу от Юэяна, реки Сяо и Сян — район ссылки и гибели Цюй Юаня, — Ли Бо воспринимал с тоской какого-то несформулированного в словах прозрения. Он и рвался туда, мечтая прикоснуться к памяти великого предшественника, и бежал оттуда с туманным предчувствием собственной трагедии, и пытался внести какие-то коррективы в неумолимый ход истории.
Эта первая поездка к озеру Дунтин завершилась печально. Односельчанин У Чжинань, с которым они повстречались еще в Цзинчжоу и вместе продолжили путешествие, вдруг почувствовал себя плохо, и местный врач ничем не смог ему помочь. Смерть жесткой реальностью ворвалась в романтическую поездку поэта, и ему пришлось долго искать кусок земли, который можно было бы откупить у местных властей, чтобы похоронить спутника, как того требовала традиция.
Эта церемония привлекла к себе особое внимание тех исследователей, кто отстаивает принадлежность Ли Бо к ханьской нации. В Западном крае, откуда, считается, родом был поэт, существовало три типа захоронения: сжечь, утопить, отдать на съедение дикому зверью. Ли Бо не прибег ни к одному из этих «варварских» способов, а по-китайски захоронил тело односельчанина в земле и впоследствии не раз навещал могилу. А через несколько лет, когда в стране началась кампания уничтожения беспризорных захоронений, он перенес тело из временной прибрежной могилы на городское кладбище Эчэна (современный Учан). В сущности, по форме это был древний, в танский период уже нелегитимный, способ предания земле — сначала временное захоронение, затем постоянное.
Близилась осень, и пора было двигаться к давней мечте — восхождению на Лушань, что высится к югу от современного города Цзюцзян в провинции Цзянси. По преданию, в период древней династии Чжоу семеро братьев Куан ушли на эту гору в отшельничество, откуда и пошло название горы (лу — жилище отшельника) и нескольких ее вершин, в названия которых включено их имя (куан); позже на Лушань жил отшельник Дамин-гун (Господин Просветленный), прозывавшийся также Луцзюнь, которого навещал сам ханьский император У-ди. С этой знаменитой горой связаны имена и Цинь Шихуана, и даже первопредка Юя. Можно представить себе, что Ли Бо, совсем недавно покинувший родные Куанские горы, название которых записывалось тем же иероглифом куан, бродил по этим склонам, как по зарослям отчего края.
Лушань вызвала у впечатлительного поэта взрыв эмоций, и панорама горы дана яркими импрессионистскими мазками. Живописный фокус стихотворения — водопад, на который поэт смотрит с расстояния. Меж двух острых, как мечи, скал он стеной ниспадает, словно из заоблачных высей, неся Земле заложенную Небом энергию. В этот образ вложены сила природы, мощь и величие естественности. Опустив взгляд вниз, поэт оглядывает скалы, влажные от брызг, и напряжение в его душе, омытой чистотой небесного потока, спадает. Лушаньские скалы представлены неким идиллическим миром, далеким от треволнений будней, жизнь на этих склонах кажется той самой благостной «вечностью», которая выступает во многих стихах прямой альтернативой суетной погоне за карьерными успехами. Не случайно через три десятилетия, спасаясь от всколыхнувшего страну мятежа Ань Лушаня, Ли Бо увозит семью именно на склоны Лушань:
К закату поднимусь на пик Жаровни, Взгляну на юг — там водопад вдали, Обрушиваясь с высоты огромной, Он расплескался на десятки ли. Летит стремительно, как огнь небесный, Слепит искреньем радужных цветов, Вселяя ужас сей Рекою звездной, Низвергнутой из самых облаков. Окинешь взглядом — сколько в этом мощи! Природные творенья — велики! И шторм морской прервать его не сможет, Луна в ночи тускнеет у реки. Из тьмы небесной эти струи пали, Окатывая стены черных круч, На камнях капли-перлы засверкали, Как зоревой передрассветный луч. Люблю бродить по этим чудным скалам, Они душе несут покоя дар, Мирскую пыль стряхну с себя устало — И словно выпью Яшмовый нектар. Мне любо благолепие такое, Где расстаюсь я с суетой мирскою. («Смотрю на водопад в горах Лушань»)Невдалеке высятся пять пиков горы Улао («Пять старцев»), каждый из которых под каким-то ракурсом напоминает кто поэта, напевающего свои стихи, кто старика-рыбаря, кто присевшего отдохнуть монаха. На вершине одного из пиков вырезана надпись «у солнца над облаками». В ущелье за горой таится небольшой храм Синего Лотоса, посвященный не столько Будде, сколько Ли Бо, — говорят, именно здесь стояла его хижина отшельника во второй половине 750-х годов, когда он скрывался от волн аньлушаневского мятежа.
А это стихотворение он написал здесь, в монастыре Дунлинь, что с 381 года стоял на склоне горы Лушань, и поэт преклонил колени перед Буддой, закрыл глаза и отрешился от этого бренного мира, уйдя мыслью в бесконечное пространство космоса:
К Синему Лотосу в необозримую высь, Город оставив, пойду одинокой тропой. Звон колокольный, как иней, прозрачен и чист, Струи ручья — будто выбеленные луной. Здесь неземным благовонием свечи чадят, Здесь неземные мотивы не знают оков, Я отрешаюсь от мира, в молчанье уйдя, И принимаю в себя мириады миров. Сердце, очистившись, времени путы прервет, Чтобы забыть навсегда и паденье, и взлет. («Ночные раздумья в Дунлиньском монастыре на горе Лушань»)Ли Бо был человеком природы как нетронутой естественности, духовной чистоты, и горы в структуре его мировоззрения занимали одно из наиважнейших мест. Они воспринимались как те скрепы, которые соединяют Землю с Небом, еще оставаясь на земле, но уже полнясь духом небесного инобытия. Он ведь вырос среди гор, наиболее почитаемыми из которых были, конечно, Крутобровая Эмэй, одна из четырех святых гор китайских буддистов и «выход в Небо для освобожденной души» даосов, и гора Цинчэн с пятым из десяти даоских выходов в пространство инобытия. «Знаменитые горы» страны были целями его путешествий и объектами его стихотворений: Тайшань, Хуашань, обе, южная и северная, горы Хэншань, Суншань, Хуаншань, Лушань, Тяньтайшань, Чжуннаньшань и др.
Но и малые, неприметные горы кисть поэта делала знаменитыми. Так произошло с Тяньму (горой Матери Небесной), возвышающейся всего на несколько сотен метров к северо-западу от Тяньтай. По легенде, на ее вершине можно услышать пение святой, прозванной «Небесной Матерью». Стихотворение Ли Бо, окутавшее эту малозаметную до того гору флером мистической таинственности, сделало ее известной. Гора Цзюхуа, которая сегодня считается одной из четырех святых гор буддистов, до Ли Бо даже не имела утвердившегося имени — это он увидел в ее девяти отрогах лотос с девятью лепестками, и название гора Девяти цветков закрепилось за ней. А место — дивное: «Необычайность этих гор и удивительная красота их очертаний переданы в словах [Ли Бо] „искусно и тонко выточены“» [Лу Ю-1968. С. 36].
В вечности оставил Ли Бо крохотную, едва не холм, горушку Цзинтин, до него известную лишь знатокам старинной поэзии, потому что на ее вершине поэт Се Тяо соорудил «Беседку почтительности», давшую имя горе. Ли Бо, преклонявшийся перед Се Тяо, часто бывал на склонах этой горы, много стихотворений посвятил ей, а в наиболее известном «Одиноко сижу на склоне Цзинтин» в такой степени аллегорически «очеловечил» ее, что в скупых четырех строках встает философия отвержения суетного человеческого мира и растворения в Природе: гора меня не столь тяготит, как люди, сказал поэт, и комментатор Юй Биюнь увидел в этом «созвучие неживой сущности».
Вариация на тему
Как-то в 727 году, повстречав мирянина, не слишком озабоченного взаимоотношениями Земли и Неба, Ли Бо разговорился с ним и неожиданно понял, сколь разнятся восприятия мира у человека, живущего тяжкими насущными заботами, и у человека духовного, который может не заметить камня на дороге, заглядевшись на заоблачную вершину. «Что вам в этих пустых склонах?» — спросил прохожий.
Ли Бо-человек ничего ему не ответил, только усмехнулся собственным мыслям. Что простому трудяге до мировоззренческих категорий? В суете бренного мира он не понимает, что склоны, заросшие персиковыми деревьями с розовыми цветами, пышно высыпающими весной, — это другой мир. Это как бы отгороженный от бренности «Персиковый источник», куда Тао Юаньмин послал своего рыбака. Но рыбак, покинув благословенные места, вторично уже не смог найти их — к мечте можно прикоснуться лишь однажды.
Ли Бо-поэт, вернувшись домой, взял кисть и сформулировал свой ответ простодушному мирянину, показав, что же влечет его на «Бирюзовый склон». Их краткий диалог, воспроизведенный в стихотворении, примечателен. Прежде всего, цветом горы. Он малореален, и трудно себе представить, чтобы какой-нибудь дровосек именно таким образом охарактеризовал склон горы, где они с Ли Бо повстречались. То есть Ли Бо, пересказывая заданный ему вопрос, вложил в него дополнительный оттенок, идущий уже не от мирянина, а от самого поэта: «бирюза» — даоский цвет, и если мирянин находится просто на горе как физическом объекте, то поэт — в ареале даоского мировосприятия, придающего горе свой мистический, сакральный окрас.
Лушань в такой степени переполнила душу поэта мощью своих каменных громад, нескончаемой высотой струй водопада, пеленой облаков, словно бы проходящих сквозь вершины, упругой аурой духовности, сжимавшейся по мере восхождения, что он задумался о коррекции маршрута. И стремительно продолжил движение на восток — через горы Врат Небесных и трудную переправу Хэнцзян. Впереди лежали территории двух древних царств У (район современного города Сучжоу) и Юэ (южнее Шанхая, вокруг известной горы Гуйцзи) — полоса вдоль моря, насыщенная не только историческим, но и мифологическим прошлым, места легендарных святых и отшельников, еще с юношеских лет притягивавшие Ли Бо как сакральный край очищения души. Посетив позднее этот юэский край, Ли Бо вдохновенно изобразил его:
Ты, говорят, собрался к склонам Гуй, Твой дар Се Кэ их описать сумеет — Десятки тысяч с круч летящих струй, Ущелий, спрятанных в тени деревьев… («Провожаю друга, который собрался посетить горы и воды Юэчжуна»)Перед вступлением в этот красочный и волнующий мир экзальтированная душа поэта требовала отдохновения. И Ли Бо повернул в сторону заложенного чуским правителем Вэй-ваном еще в Конфуциевы времена Золотого кургана (Цзиньлин, современный Нанкин), который Чжугэ Лян охарактеризовал как «жилище властителей». Поэт уже предвкушал, как зайдет в храм Фу-цзы, насладится побеленными матовой луной берегами реки Циньхуай с бликами красных фонарей на воде, пройдется по улицам, где из каждого окна несутся звуки циня и выглядывают веселые девы — «Как лепестки, они слетают с неба, / Готовые с тобою плыть на запад» (стихотворение «Цзиньлиночке»).
На подходе к городу их встретили три горы, рядком выстроившиеся на восточном берегу Янцзы. В древности их называли «сторожевыми» — считалось, что при приближении опасности горы начинают дрожать, предупреждая жителей.
Вариация на тему
Горы замерли, и даже Янцзы текла достаточно спокойно, хотя уже близился сезон зимних штормов. Но был взволнован город, по крайней мере, та часть его интеллектуальной элиты, которая уже успела познакомиться с «Одой Великой Птице Пэн», недавно привезенной попутными торговцами. Произведений такой художественной силы давно не создавалось, и в небольшой гостиничке, где остановился поэт, уже на следующий день собрались каллиграф Чжан Сюй, приехавший по делам из Аньчжоу помощник начальника уезда Мэн (Ли Бо в стихах упорно именовал его шаофу — почтительным эквивалентом официальной должности сюаньвэй) Цуй-Двенадцатый, о котором, к сожалению, ничего не известно, и другие не последние в городе люди, многие из которых стали друзьями Ли Бо и часто появлялись в посвященных им стихах поэта, чем и вошли в вечность.
Поэт импровизировал, Чжан Сюй быстрой кистью каллиграфически записывал, приглашенные музыканты напевали. Как говорится, на три дня растянулся малый пир, на пять дней — большой. Отправились к Белым воротам — району любовных свиданий в Цзянькане, как назывался Нанкин во времена Се Тяо, еще до того, как стал Цзиньлином. И Ли Бо тут же на мотив популярной песенки изобразил в стихотворении томление юной девы, приготовившей духовитое вино из Синьфэна и ожидающей возлюбленного, с которым их «дымки сольются», как в древних жаровнях, по форме напоминающих мифическую гору Бошань. Эта озорная песенка, поговаривали, возникла во времена Ци, одной из южных династий (V–VI века), когда во дворце появилась служанка по фамилии Ян с малолетним сынком, который постепенно превратился в такого бравого красавца, что стареющая императрица не устояла перед его чарами. По народу пошли озорные частушки об их тайных свиданиях, которые начинались со слов «Ян со старухой весело резвятся вместе», и это «Ян со старухой» из изначального «Янпоэр» превратилось в «Янпар» и стало названием любовной песенки о радостно вспыхнувших, как бошаньская курильница, птичках, прячущихся от нескромных взоров в густоте ивовых ветвей у Белых ворот. Ли Бо вытащил этих птичек из тени ветвей и превратил в юную пару, возгоревшуюся томлением не осложненной официальным браком страсти.
Прощались в знаменитом «Западном тереме» на горном склоне в окрестностях города, где за три века до них любил бывать поэт Сунь Чу, — его до сих пор именовали «трактир Сунь Чу». У их ног игриво колыхалась на поверхности реки зрелая луна. Поднимавшаяся от воды прохлада заставляла плотнее запахивать халаты и заматывать шею кисейным шарфом, чтобы через какое-то время сбросить с себя все это и подставить лицо, разгоряченное вином, освежающим порывам ветерка. Из тьмы ночи прилетали звуки робкой флейты, перемешиваясь со стихами, которые друзья вдохновенно напевали друг другу.
Через два десятилетия Ли Бо проведет в этом заведении одинокую ночь со жбаном вина и воспоминаниями о своем любимом поэте V века Се Тяо, а затем опишет ее, мешая тушь со слезами:
В дуновении зябком цзиньлинская ночь затихает, Я один, а вокруг — земли У и Юэ, земли грез, И плывут по реке облака и стена городская, И с осенней луны ниспадают жемчужинки рос. Я луне напеваю, не в силах прервать эту ночку. Трудно встретить созвучную душу в минувших годах. «Шелковиста вода»: стоит только напеть эту строчку — И «во мраке мелькнувшего» Се не забыть никогда. («В „Западном тереме“ у Цзиньлинской стены под луной читаю стихи»)Щедрый, не знающий ограничений, обычно диктуемых рационалистическим разумом, поэт с размахом проводил пирушки для новых друзей. Это серьезно истощало его кошелек, и в дальнейший путь в Янчжоу на рубеже весны — лета 726 года он отправился уже на грани риска. Впрочем, его самого это не слишком заботило, и от напоминаний Даньша он легкомысленно отмахивался. В Цзиньлине он подцепил, как это часто бывало у путешествующих молодых людей, веселую девицу, взял ее с собой и игриво именовал Цзиньлиночкой. А впереди лежал город цветов, винных лавок, танцевальных помостов, яркого разгула — Янчжоу.
Триста тысяч золотых
Уровень благосостояния Ли Бо — не самый важный для историко-литературного анализа вопрос, но он весьма занимает исследователей. К сожалению, в не столь еще давнем прошлом некоторые выводы строились на весьма поверхностных и далеко не научных основаниях, диктуясь идеологическими трафаретами, что набрасывало определенную вульгарно-социологическую тень на восприятие поэзии и облика Ли Бо.
12 августа 1960 года пекинская газета «Гуанмин жибао» опубликовала статью, специально посвященную теме доходов Ли Бо. В статье утверждалось, что, поскольку в Мяньчжоу, где в Шу поселилась семья будущего поэта, существовала промышленная разработка солевых и железных промыслов, то «отец Ли Бо вполне мог заняться торговлей железом» и «нелегальным его вывозом» за пределы края, а сам Ли Бо, подолгу живя в Цюпу (Осенний плес), богатом серебром и медью, «вполне мог заняться сбытом их в Южном Китае». Под нейтральным «вполне мог» четко подразумевалось — «занимался, и тем виновен».
В «Истории развития китайской литературы» Лю Дацзе, вышедшей в 1963 году, утверждается: поскольку в своих путешествиях Ли Бо перемещался между торгово значимыми городами, не исключено, что, будучи мелкопоместным помещиком, занимался он там сбыто-посредническими операциями. И при том еще «якшался с иноплеменными шлюхами и шлялся по кабакам», что-де резко отличало его пьянство от благородного винолюбия Ван Вэя и Ду Фу. Процитировавший все это современный исследователь не находит для оценки другого слова, кроме как «бред» [Цяо Цзячжун-1976. С. 30]. Тем не менее и сегодня продолжает разрабатываться тема источников существования семьи Ли, уже лишенная, к счастью, социологизаторского пыла. Исследователи замечают, что отец Ли Бо, его старший брат, живший в городе Цзюцзян, и младший, живший в Санься, замыкали весьма удобный для транспортировки грузов по Янцзы треугольник, и возможность именно такого занятия для них была весьма вероятной. Ведь нужны были доходы, чтобы содержать разветвленную семью и помогать талантливому сыну, отправившемуся завоевывать мир.
В танские времена странствия интеллектуалов были весьма распространенным занятием, и эту бродившую по свету особую социальную прослойку именовали юсюэ. Этот термин указывал прежде всего на конфуцианцев, ищущих служивого местечка, рыцарей, в дальних уголках страны оберегающих социальную справедливость, и литераторов, охочих до впечатлений. По многим записям того времени видно, что, даже пристроившись на должность, «странники» не задерживались на ней надолго. Видимо, это были люди особого менталитета, встревоженные «охотой к перемене мест», в которой процесс был важнее результата.
Обратим внимание на второй иероглиф в этом термине — сюэ основным значением имеет «учиться», «постигать знания», но также и «перенимать», «воспроизводить». То есть это не просто передвижение с места на место, а путешествие познавательное, расширяющее кругозор, дающее определенные навыки и умения, позволяющее, взглянув на новые места, несколько иначе воспроизводить окружающий мир.
Из людей круга Ли Бо, книжников, литераторов, таким же был Ду Фу, дважды недолго послуживший на чиновном посту, а остальное время странствовавший по свету и умерший в лодке в Хунани. Гао Ши сумел подняться на высокую ступень чиновной иерархии, но до того полжизни провел в скитаниях; Хэ Чжичжан оставил престижный пост воспитателя наследника престола, скрывшись на горе Четырех просветлений (Сымин). «Я отвязанный челн, потерявший причал», — писал о себе Ли Бо. В этом наряду с оттенком горечи сквозит и неизбежность. Это были люди, для которых даже столь высокая и «социально-значимая» «должность», как у мифологического Небесного Петуха, ежеутренне возвещавшего зарю, означала утрату свободы и независимости.
Суть даже не в том, что государственных вакансий в стране было в сотни раз меньше, чем желающих занять их[46]. В этих людях боролись две стихии — государственнические традиции, звавшие их к «усовершенствованию» державы, и вольный стиль жизни в «ветрах и потоках», ориентированный на даоско-буддийские мотивы природной естественности, противопоставленные жестко структурированному государственному администрированию. Об одном из таких вольнолюбивых поэтов Ли Бо с восхищением и преклонением писал:
Мне люб Учитель Мэн. Он смог войти В потоки бытия совсем легко И предпочел служивому пути Забвенье в соснах среди облаков, Был опьянен божественной луной, Беспечными цветами покорен. Склоняюсь пред душевной чистотой, Высоким пиком видится мне он. («Подношу Мэн Хаожаню»)Так на что же могли рассчитывать странники, бродившие по городам и весям? В начале пути — на помощь семьи, дальше — на клановые связи, дружескую взаимовыручку, монастырское гостеприимство. Крайне важно отметить, что местные власти с большей или меньшей охотой, но шли на то, чтобы субсидировать обратившихся к ним за помощью литераторов. Видимо, в традиционно существовавшей в Китае атмосфере всеобщего почтения к Слову чиновничий менталитет, структурированный системой государственных экзаменов, включавших в себя и изящную словесность, диктовал чиновнику если и не искренний, то как минимум карьерный интерес к поощрению литераторов, подчеркивавший его заботу о «воспитании народа».
Не исключено и получение гонораров, во всяком случае, Бо Цзюйи, живший, правда, позже, в переписке с Юань Чжэнем упоминает о получении платы за стихи. Особенно ценились славословия живущим и умершим вельможам, но Ли Бо этим жанром не увлекался. Гонорары передавались либо деньгами, либо натурой, и последнее существовало задолго до Ли Бо, например, легендарный инцидент со знаменитым каллиграфом IV века Ван Сичжи, получившим гуся за переписанный даос-кий трактат, что упоминается в одном из стихотворений Ли Бо.
На рубеже 720–730-х годов, видимо, поиздержавшись на бракосочетание и уже намереваясь вскорости направиться в столицу, Ли Бо обратился к некоему Пэю, занимавшему в Аньчжоу высокую должность чжанши (помощник губернатора), с просьбой о помощи, ибо «совершенно обнищал». При этом он указал уровень своих потребностей: врученные ему перед отъездом из Шу отцом «300 тысяч золотых» (фактически это было не золото, а мелкая ходячая медная монета с дыркой посередине, выпуск которой начался в 621 году), немалая, конечно, сумма (достаточная для закупки 300 тысяч даней[47] риса), а обладание состоянием уже в 100 тысяч даней считалось богатством; помощник губернатора, к которому Ли Бо обращался за помощью, получал в год раз в пять меньше. Возможно, это была часть наследства, которую отец поделил между сыновьями, но братья поэта вложили этот капитал в дело, а Ли Бо — в процесс познания мира, самосовершенствование.
Скорее всего, цифра просителем была намеренно преувеличена, тем более что при весе одной монеты в 4,229 грамма общая сумма, названная поэтом, тянула на 1200 с лишним килограммов, что для путешественника было несколько накладно. Надо, однако, все же заметить, что у путешествующих интеллектуалов расходы были немалые: деньги тратились не только на пирушки, но и на такие недешевые вещи, как лодка с лодочником, кони или, что более вероятно, выносливые ослы (для себя и слуги), весьма распространенные среди путешествовавшего люда в Танской империи, на приличествующую статусу одежду и гостиницу. Хорошая тушь и тонкая бумага (особенно если это была сюаньчжи, бумага из города Сюаньчэн, тонкая до прозрачности и такая гладкая, что кисть, особенно сюаньчэнская же с едва видимыми нежными волосками, скользила по ней, не встречая сопротивления), которые поэтом расходовались в невообразимых размерах, изрядно истончали кошелек.
Вариация на тему
А он еще поплыл в Янчжоу мимо рыбачьих огоньков, ночными светлячками рассыпавшихся по стремнине, мимо склонов, расцвеченных ярко-красными, как щечки у красоток, цветами, послушал в веселом заведении песни этих нарумяненных девиц, и долго ему не хотелось оттуда возвращаться на юг — даже в заветный край Юэ.
В преддверии осенних холодов Ли Бо нанял небольшую лодку с полукруглой, покрытой влагонепроницаемым черным лаком крышей, под которой можно было укрыться от непогоды и провести ночь на бамбуковых лежаках, пока старик-лодочник, что-то тихонько напевая, толкал и толкал длинным шестом лодку мимо Сучжоу, где Ли Бо вспомнил красавицу Сиши на террасе Гусу, к его времени уже полуразрушенной. Там сластолюбивый правитель древнего царства У закатывал пиры в честь своей возлюбленной наложницы.
При этом он написал довольно странное стихотворение, для которого Сиши оказалась лишь поводом, невольным орудием коварных планов печально известного в китайской истории Гоуцзяня, замыслившего переключить внимание Фу-ча, властителя царства У, с государственных дел на прелести девы, что он и осуществил, в конце этого многоходового стратегического замысла прибавив к своему царству Юэ земли соседнего У:
Она росла в Юэ от юных лет Там, где с Чжуло ручей струился, чист. Таких красавиц не припомнит свет, Смущенно лотос прятался под лист, Когда она, склонясь к лазури вод, Стирала пряжи шелковый моток. Зря зубки-перлы и не разомкнет, Лишь в небеса уйдет глубокий вздох. Коварный Гоуцзянь приметил перл — И к У-царю наш мотылек летит, А тот дворец для Куколки возвел Подальше от столичной суеты. Да вскоре рухнула страна Фу-ча… Как ей дойти до прежнего ручья?! («Сиши»)Ли Бо плыл мимо Ханчжоу с чарующими красотами озера Сиху, которые он в стихах сравнивал опять-таки с неповторимой прелестью Сиши, мимо Юэчжоу, все ближе и ближе к горе Гуйцзи, где, стоя на террасе Юэтай, жадно всматривался в едва заметные ближе к берегу моря руины стен времен «Весен и Осеней» Конфуция, к горе Тяньму (Небесной Матери) — в общем, туда, куда он посылал друзей, всякий раз предвкушая наслаждение этими красотами:
Увидишь океан с Цинван-скалы, Курган Силин с террасы Юэтая, Озера там, как зеркала, светлы, И волны-горы в пене пробегают. Там краски осени — Мэй Чэна кисть, Бокал Чжан Ханя — край юэский этот. И на Тяньтай, конечно, поднимись — Там вдохновенье сходит на поэта. («Провожаю друга, который собрался посетить горы и воды Юэчжуна»)Вариация на тему
Поэт жаждал охватить всё, но холодный ветер осени простудил его, сил и денег достало добраться только до монастыря Силин к северо-западу от Янчжоу. Монахи заботливо отпоили, откормили страдальца, и когда он немного пришел в себя, то услышал шуршание пожелтевших листьев, спадающих с замерших в неподвижной ночи веток. На полнеба выкатилось колесо луны! Оказывается, время уже подобралось к празднику Середины осени, когда по всему Китаю на всех склонах расстилались циновки, откупоривались жбаны и желтые лепестки хризантем сыпались в пахучие вина, добавляя им аромата. Ну, как же в этот миг не вспомнить далеких друзей, милую сердцу Крутобровую гору отчего края, над которой взошла та же самая луна, какую он видит сейчас в здешнем небе.
Не спалось, и он вышел во двор, слегка пошатываясь от слабости, добрался до деревянного ложа вокруг колодца и присел на краешек. Ах, опять он один, бедный странник, покинувший отчий край, заблудившийся в этой тьме, объявшей землю. А что это? Земля побелела, неужто холодный иней уже прихватил траву? Ах нет, раздвинув облака, улыбнулась ему старая подруга-луна. На земле у ног распласталось светлое, как иней, пятно, и чем дольше он вглядывался в него помутневшими от слез глазами, тем отчетливее виделся ему засыпанный листьями монастырский двор, но не здесь, а в отчем краю — тот монастырь в горах Куан, где мальчиком он учился, назывался так же, как и этот. Внутренним взором поэт видел усадьбу Лунси у горы Тяньбао в Мяньчжоу и маленький прудик, в котором они с сестрой Юэюань мыли черные от туши кисти после занятий. Поникшая было голова вздернулась вверх, и уже не только Куанские горы увидел он, а и красавицу Крутобровую, очарованную и чарующую гору Эмэй его родных краев. Вот он, его мир, безграничное Занебесное пространство, а не только Земля, крохотная, жалкая, заблудшая дочь Вселенского Космоса.
Пятно луны светло легло у ложа — Иль это иней осени, быть может? Наверх взгляну — там ясная луна, А вниз — и мнится край, где юность прожил. («Грезы тихой ночи»)Ли Бо пробыл в монастыре довольно долго. Он любил эти тихие горные монастыри, вписанные в окружающую нетронутость, они давали внутреннюю подпитку, отвечали на многие мучающие вопросы, и, как далеко не всегда нужно было задавать эти вопросы вслух, так и ответы чаще сами возникали спонтанно в расслабляющемся сознании — вне пределов произнесенных слов.
Ранними утрами он, обойдя позолоченный шест посреди двора, именуемый Яшмовым древом, поднимался на украшенную яшмовыми блестками девятиэтажную пагоду Силин — вплоть до самой верхушки, до квадратного деревянного навершия с метелочками из красных шелковых шнуров, которые словно витали в прозрачном воздухе. Мистически этот подъем воспринимался как восхождение от вещного мира к миру, отбросившему сковывающие внешние формы. Платаны и катальпы внизу замерли, обволокнутые сединой росы, а мелкие мандаринчики и огромные шары помпельмусов, что тут зовут юцзы, обтягивала пленка прозрачного инея, как будто напоминая, что пора из зеленых становиться желтыми и оранжевыми.
Душа словно впитывала изначальные частицы, Первоэфир, у подножия гор замутненный человеческой суетой, и прояснялась, очищалась. Ему казалось, что он поднимается последовательно на каждый из трех слоев буддийского Неба, отбрасывая желания, страсти и обретая глубинную невозмутимость, внутреннее зрение настолько обостряется, что он может различить каждый волосок в белом пучке, растущем между бровями Будды, а через него распахивается весь мир, дотоле спрятанный в тумане полузнания.
Вонзившись в неотмеренную синь, С высот мне открывая даль за далью, Первоэфир заоблачный пронзив, За туч она скрывается вуалью, Весь мир предметный растворен в Ничто, И нет страстей за балкой расписною. Тень на воду отброшена шестом, Слепят каменья, откликаясь зною, Птиц под шатром зашевелился ряд, И капитель зарею золотится. Из дальних странствий возвратился взгляд Душа теперь за парусом стремится. Катальпы — в белых капельках росы, Желтеют юцзы в утреннем тумане… Ах, разглядеть бы Яшмовы власы, Рассея мрак блужданий и исканий! («Осенним днем поднимаюсь на пагоду Силин в Янчжоу»)Новые, обретенные уже в поездке друзья вспоминали о Ли Бо. Шаофу Мэн из Аньчжоу, услышав в праздник Середины осени, что поэт приехал в Янчжоу, обегал все гостинички, расспрашивая и разыскивая, пока ему не указали на монастырский приют в пяти ли от города. С вином и закусками они славно попировали в тени монастырских стен.
Мэн возвращался в Аньчжоу (современный город Аньлу в провинции Хубэй), что в округе Аньлу, и позвал с собой Ли Бо — посмотреть знаменитые семь озер Облачных грез, где в царстве Чу была знатная охота, о ней еще Сыма Сянжу писал в «Оде о Цзысюе». В написанном позже письме помощнику губернатора Цую Ли Бо так и формулирует причину своего приезда в Аньчжоу: «Мой земляк (Сыма Сянжу. — С. Т.) так нахваливал Облачные грезы и семь озер, что я приехал взглянуть на них». А деньги? Что деньги! Они всегда отыщутся. Тем более что в тех краях у Ли Бо жили родственники — как минимум любимый дядя Ли Янбин, племянник Ли Дуань в Сюаньчэне, который и оставил воспоминания, как они с Ли Бо декламировали «Оду о Цзы-сюе».
И не успела еще осень окончательно перейти в зиму, впрочем, отнюдь не морозную, а скорее умиротворяющую, хотя порой и слякотную, как Ли Бо вместе с Мэном, сопровождаемые верным Даньша, отправились в Аньчжоу — место, которому суждено было стать одной из весьма важных точек на карте земных странствий великого поэта.
Глава четвертая ХМЕЛЬНОЕ ПУСТЫННИЧЕСТВО (727–742)
Охота на озере Облачных грез
Весной 727 года Ли Бо добрался до Аньчжоу, где остановился на склоне невысокой возвышенности — безымянной, но в быту именовавшейся Малой горой Долголетия, где погрузился в размышления даоского толка, подкрепляемые неизменным жбанчиком вина, и в частые путешествия по ближним и дальним окрестностям, полным природных красот и мифоисторических глубин. Весна насыщала яркими красками зеленые склоны трех гор массива, рассеченные черными ущельями, по одному из которых змеился дивной прелести ручей, а на гребне другого бирюзовой волной вздымалась из сосен крыша древнего храма.
В это целительное место приходило немало старцев, переваливших через столетний рубеж, но все еще бодро вышагивавших по склонам, поэтому гору и прозвали Долголетней: «Целый город гротов в скале, где старцы готовились в Небожители-сяни» [Фань Чжэньвэй-2002. С. 258]. В сени дерев среди зеленых трав, еще не выцвеченных набирающим силы солнцем, поэт, как благодушно описывал он сам, «возлежал, как на облачке бирюзовом» — в этой многослойной строке скрываются и пейзаж, и психологический настрой, и погружение в даоское отшельническое отстранение от суетного мира. Край был расцвечен целительными фиолетовыми цветками аира, а их двух-трех сантиметровые узловатые корни (до девяти сочленений на одном корешке) составляли непременный компонент даоского «эликсира бессмертия». Аура горного массива насыщалась какой-то космической энергетикой, психологически подпитывая душу и формируя «систему ожидания» чудесного обновления.
Через какое-то время поэт с помощью местных сельчан сложил себе из подножных камней неприхотливое жилище в глуши лесного склона гор Байчжао в 60 ли к северу от города. В нем он ощущал себя отделенным от грубого бренного мира или, лучше сказать, — в некоем ином мире, словно тот рыбак из поэмы Тао Юаньмина, которому посчастливилось набрести на идиллически нетронутый уголок, названный в поэме «Персиковым источником». Свое убежище Ли Бо, внутренне апеллируя к Тао Юаньмину, назвал Пиком персиковых цветов.
Это был один из наиболее насыщенных яркими впечатлениями и глубокими размышлениями период жизни поэта, но в либоведении за ним закрепился одномерный и, мне кажется, не совсем адекватный термин «хмельное пустынничество в Аньлу», извлеченный из эссе самого Ли Бо. Десятилетие в Аньлу настолько извилисто по своим жизненным поворотам и насыщено событиями не проходного, а системообразующего свойства, что, определяя его как четко очерченный период, его бы следовало охарактеризовать иначе. Скажем, «надежд и первых разочарований».
Сегодня в этом месте можно увидеть застывшего в гипсе поэта, а о реконструкции его пустыннической обители сообщали еще семь лет назад [Чжу Чуаньчжун-2003. С. 4].
Много троп проложил Ли Бо в ближних и дальних окрестностях Аньлу, забредал в глухие места, подальше от хоженых дорожек, и, оставаясь один на один с природой, ощущал себя не наблюдателем, а частью ее, вечной и обновляющейся. Это и была та Духовная Чистота, к которой он стремился душой, мировоззрением, образом жизни.
Мне дорого закатное светило И сей родник холодной чистоты, Закат дрожит в течении воды. Так трепетной душе всё это мило! Пою восходу облачной луны… Замолк — и слышу: вечен глас сосны. («Бреду вдоль наньянского родника Цинлэн»)Вариация на тему
Он выходил из дому так рано, что тропы были еще пусты. В верховьях Белой речки на восточной окраине округа Наньян обнаружил прелестный островок посреди стремнины и, вымокнув в холодном горном потоке, забрался на пригорок. Так долго сидел, обсыхая, что рыбки приняли его за часть ландшафта и принялись весело выпрыгивать из воды. Поэту показалось, что он и впрямь не чужак здесь, а слился с природой и душа его плещется в стае рыбешек. Все замерло, лишь ленивые облачка уходили в сторону закатного солнца, пока все не скрылись в наступивших сумерках. Но выглянула луна, весело подмигнула ожидающему ее, расслабленно допивая последние капли из второго… третьего… кувшина, приятелю-поэту и предложила проводить домой. Куда-то в неизвестность отлетели все мечты о столице, о мудрых советах императору. Вот здесь бы и остаться, закинуть уду, как Бессмертный Доу Цзымин, и выловить свою Вечность…
Что мрак ночной, когда вино со мной! Когда я весь — в опавших лепестках! Я по луне в ручье бреду, хмельной… Ни в небе птиц, ни путников в горах. («Разгоняю грусть»)Ли Бо частенько наведывался в недалекий город Сяньян на южном берегу реки Хань к знаменитому поэту Мэн Хаожаню, который был старше его на двенадцать лет (на тот же астральный срок Ду Фу был младше Ли Бо). Петляющая между двумя горами — Тунбошань и Дахуншань, первая из которых, как видно из этих названий, заросла кипарисами и тунговыми деревьями, а вторая производила впечатление огромного массива, — дорога от Аньлу до Сяньяна шла мимо городов Цзаоян и Суйчжоу и потому, обыгрывая названия обоих поселений, именовалась Суйцзао цзоулан, что, опуская тонкости разговорных формулировок, означало попросту Финиковую аллею.
Дом Мэн Хаожаня, тоже «осеннего человека», любившего хризантемы и постоянно возившегося в саду, сажая их, обрабатывая, поливая — и любуясь, отдыхая под старым платаном, повязав голову платком и наигрывая на цине, стоял у подножия Оленьих врат в Цзяньнаньюань (Сад к югу от ручья), пригороде Сяньяна. Когда Ли Бо находил дом пустым, он отправлялся искать хозяина в горы — на склонах тот погружался в вольные «ветры и потоки» естества, стряхивая с себя пыль городской суеты, и Ли Бо охотно присоединялся к нему, задерживаясь в горах по нескольку дней. Шорох сосен волнами струился над ними, и Ли Бо, с волнением глядя на почтенного седовласого Мэна, представлял его себе заоблачным деревом, прямым, зеленым, шелестящим листвой, приветствуя розовые тучки, проплывающие мимо него, не задерживаясь ни на миг.
Жизнь в «ветрах и потоках» разрывала статику каждодневной рутины, была противна «достижению», «обретению», акцентируя спонтанность, движение, непостоянство, перемены. В этих категориях Ли Бо тоже был «запредельным». Показательно сделанное цинским ученым Ван Ци сопоставление ракурса взгляда Ли Бо и Ду Фу в двух однотипных пейзажных стихотворениях, рисующих речную панораму, увиденную с лодки: Ду Фу тщательно рассматривает открывшийся вид с неподвижно стоящего судна; Ли Бо набрасывает стремительные мазки с лодки, несущейся в потоке.
«Жизненный идеал даоизма со времен Чжуан-цзы называли „беззаботным странствием“. Иначе и нельзя было определить состояние сознания, ежемгновенно устремляющегося за свои собственные пределы» [Малявин-1997. С. 99].
Вариация на тему
Попивая духовитое зелье, поэты рассыпались во взаимных искренних любезностях: «Давно слышал Ваше громкое имя, Вы — наш сегодняшний Тао Юаньмин, Ваши стихи — в стиле Вэй и Цзинь, особенно вот это — „От лотосов исходит аромат, / Капель бамбуков звонкая чиста“». Или: «В весенней дреме проглядел рассвет, / А птицы уж давно распелись…» — «Долго искал Вас, но Вы скрылись в потайной пещере». — «Вы, Тайбо, словно мой мудрый младший брат, мы близки, как братья».
Небольшие бронзовые чарки в древнем стиле с вытянутым, как клюв попугая, носиком стояли на трех опорах, воспроизводя форму древнего ритуального котла на треножнике. Поэты подливали друг другу искристый янтарный напиток, и вскоре мир вокруг преображался, деревья утрачивали четкость и устойчивость, а волны реки у их ног начинали казаться густым виноградным суслом, из которого выбраживается хмельное вино. Они вспоминали здешнего посадского начальника Шань Цзяня, отчаянного кутилу, который, захмелев, сворачивался, точно глиняный комок, и засыпал в кустах — ха-ха! — в совершенно непристойном виде — без шапки! «А Чжэн Сюань? Триста чаш в день!» — «За сто лет — триста шестьдесят тысяч!» — «О, могучая сила вина! Что перед ней каменная черепашка памятника? В ней, утверждают, вечность, а она уже почти скрылась под зеленым мхом и покрылась трещинами, вот-вот расколется». — «Нет, лишь чарка-желтый попугай из Юйчжана никогда меня не покинет!»
Через два года Ли Бо проводил Мэн Хаожаня, уезжавшего в сакральность восточной прибрежной полосы У-Юэ, до башни Желтого Журавля и долго следил за клинышком белого паруса, исчезающего на стыке бескрайней реки с еще более просторным небом, а по возвращении в свою тихую хижину, противопоставив бесконечной неизменности Вечной Реки бренность человеческого времени, ускользающего в череде сезонов, легкими штрихами намеков выразил в четырех строках собственную грусть одиночества, которая возникала у него не от отсутствия общения, а больше от редкости такого общения, в котором формируется духовное единство:
Простившись с башней Журавлиной, к Гуанлину Уходит старый друг сквозь дымку лепестков, В лазури сирый парус тает белым клином, И лишь Река стремит за кромку облаков. («У башни Желтого Журавля провожаю Мэн Хаожаня в Гуанлин»)Вряд ли на бескрайней реке больше не было судов, но автор весь сконцентрировался на разлуке с другом и не замечал иных парусов — лишь один белый клинышек, который постепенно становился все меньше и меньше, пока даль не поглотила его, оставив поэта один на один с неостановимым потоком.
Башню Желтого Журавля близ Змеиной горы над Вечной рекой Янцзы (к западу от современного города Ухань) возвели в 223 году на месте, откуда, по преданиям, священные птицы унесли в Занебесное инобытие Ван-цзы Аня и других святых. Здесь можно было насладиться знаменитым вином от Сина и увидеть танец журавлей. Окутанная легендами башня стояла над обрывом, отражаясь в Вечной реке. Несколько ее этажей, обрамленные балконами по всему периметру, завершались глазурованной крышей с загнутыми вверх углами. Это было место прощаний — и радостных, как с легендарными святыми, вознесшимися в Небо, и грустных, как в этом знаменитом стихотворении Ли Бо, пронизанном элегичностью уходящей весны. Вечность, персонифицированная в Вечной реке, проглядывает сквозь вуаль осыпающихся лепестков, напоминающих о бренности земного бытия. Клинышек паруса лодки, уплывающей далеко, в окутанный вуалью древних таинств край У, становится все меньше, а чувство одиночества растет. И остаешься наедине с отмелью Попугаев, где уже и попугаев не осталось, лишь воспоминания о роскошных пирах ханьских времен.
Поэт еще не знал, что одна из его любимейших башен ненадолго переживет его. К XII веку, когда в эти места приехал поэт Лу Ю, ее уже не было: «Говорят, что в Поднебесной она была самой красивой… У Тайбо особенно много удивительных строк, родившихся в этом краю. Ныне башни уже нет… Сохранились только камни с резьбой от колонн башни» [Лу Ю-1968. С. 60]. Восстановили башню только в 80-е годы XX века.
Что ощутим мы, поднявшись на резной балкон новехонького сооружения? Прикоснется ли к нам дух великого поэта? Увидим ли парус уплывающего Мэн Хаожаня? Впрочем, сам Ли Бо, еще не зная научного слова «реставрация», испытывал необъяснимое волнение, всходя на Северную башню Се Тяо в Сюаньчэне, хотя это уже не был оригинал, о чем Ли Бо было прекрасно известно.
На восток от башни притаилось небольшое Восточное озеро, заросшее лотосами. На крошечном островке посреди водоема поставили теремок Син-инь; здесь, говорят, Цюй Юань даровал свободу запутавшемуся в силках орлу — он любил этих сильных и вольных птиц высокого поднебесья. Потомки в память о древнем поэте соорудили небольшую насыпь, назвав ее «Террасой освобождения орла».
Быть может, именно здесь Ли Бо написал стихотворение, в котором столь любимая им яркая красота природы притемнена грустью, контрастирующей с привычным молодому возрасту задором.
Чиста струя, и день осенний ясен, Срывает дева белые цветки. А лотос что-то молвит… Он прекрасен И тем лишь прибавляет ей тоски. («Мелодия прозрачной воды»)Сегодня с башни уже не открывается бесконечная даль, перегороженная новостройками. И она, реконструированная, сверкает радостной сиюминутностью, во внешнем своем виде утратив печальную патину старины. Но тогда на стене еще проступали приведшие Ли Бо в восторг безымянные поэтичные строки о башне, оставшейся на опустевшей земле, о журавле, который уже не вернется, об облаках, вечно плывущих по небу, и о тоске человека, вглядывающегося в пустую отмель Попугаев, в дальние деревья в городе Ханьян на другом берегу, по которым опускается в закат солнце, и на дымку пенистых волн на поверхности реки. Ли Бо восторженно отозвался о стихотворении: рисует «пейзаж, который, кажется, и описать-то невозможно, а он встает перед глазами». Лишь позже он узнал, что это знаменитое восьмистишие его современника Цуй Хао. А сам в память о встрече с Мэн Хаожанем в Сяньяне написал яркий анакреонтический гимн «Сяньянская песнь», пытаясь решительно преодолеть грусть опустевшей души.
Неприхотливая хижина поэта притягивала к себе людей магнитом душевной чистоты и духовной глубины. И не только из ближних городов и селений. Заехал Юань Даньцю, не сидевший подолгу в одном месте, а постоянно срывавшийся, как и Ли Бо, во что-то неведомое. Однажды наведались братья поэта Ли Линвэнь и Ли Ючэн, с которыми тот был особенно близок и часто встречался. Эту встречу Ли Бо навеки запечатлел в знаменитом эссе «В весеннюю ночь с братьями пируем в саду, где персик цветет», живописав атмосферу не развеселой пирушки, а философичной беседы интеллектуалов: «Смотрите, небо и земля — они гостиница для всей тьмы тем живых! А свет и тьма — лишь гости, что пройдут по сотням лет-веков. И наша жизнь — наплыв, что сон!.. Древний поэт брал в руки свечу и с нею гулял по ночам… Мы продолжаем наслаждаться уединением нашим, и наша речь возвышенною стала и к отвлеченной чистоте теперь идет… Но без изящного стиха в чем выразить свою прекрасную мечту?» [Китайская-1958. С. 201–202][48].
Провожая братьев, Ли Бо, хмельной, задремал посреди дороги, и, как назло, именно в этот миг по ней проезжало высокое начальство. Поэта не разбудили даже громкие колотушки и вопли «прочь с дороги!». Это был пример непочтения, и поэту пришлось официально оправдываться (молниеносно распространившиеся слухи трансформировали ситуацию таким образом: «Как, вы не знаете?! Этот ваш „талант из Шу“ оказался каторжником, который зарезал человека на озере Дунтин, а потом бежал в Аньлу…»).
Инцидент удалось замять, но приезжему пришлось как минимум дважды обращаться к большим чинам, помощникам губернатора: в 729 году к Ли — с оправданиями и в 730 году к сменившему его Пэю — с просьбой о финансовой помощи. Есть предположение, что последние деньги он потратил на перезахоронение своего земляка У Чжинаня, встреченного им сразу по выезде из Шу и умершего в пути. Пэй был переведен в Аньчжоу как раз из Шу, так что, возможно, он еще в тех краях прослышал о талантах начинающего стихотворца; тем не менее поэт получил отказ в своей просьбе о помощи и деньги на поездку в столицу доставал по другим каналам.
Однако молва уже донесла, что в подведомственных краях объявился молодой и уже известный поэт, так что ему порой соизволялось получить аудиенцию, обставленную по достаточно высокому ритуалу с беседой за кувшинчиком вина или даже чашечкой более изысканного напитка — чая. Сам губернатор Ма слыл покровителем изящной словесности и благоволил юным дарованиям — в духе общей тенденции в стране, как много позже сам Ли Бо, возможно, с легкой долей сарказма (шел уже 750 год, и на небосклоне Танской империи стали собираться тучи) обрисовал в одном из произведений цикла «Дух старины»:
Талантам многим к свету путь открыт, Резвятся рыбками в кипенье волн, Созвучьем тела с духом стих звенит, Как полный звезд осенний небосклон.В 727 году небо над Ли Бо было еще ясным, и на рубеже осени и зимы многообещающему и к тому же имевшему родственников в Аньчжоу (то есть не забредшему невесть откуда чужаку) молодому поэту, прощупав его на благочинных раутах, предложили очень и очень неплохую партию — девицу из рода Сюй. Имя ее серьезными исследователями не установлено (ведь история фиксировала события мужского общества!), но в преданиях, не слишком озабоченных корректными ссылками на общепризнанные документы, девицу кличут Цзунпу — скорее это не имя, даже не реальное прозвание, а своего рода легендарная оценка, слишком уж оно демонстративно значимо: «Драгоценная родовая яшма». Беллетристы также не оставляют свою героиню безымянной, вымышляя самые разные варианты и соревнуясь в их изящности.
Девушка происходила из знатного рода, имевшего глубокие корни в высокой императорской иерархии, в том числе и в чине цзайсяна (первый министр, главный советник, часто встречается перевод «канцлер»). Уже в правление Сюаньцзуна дюжина представителей четырех поколений этого рода занимала очень высокие посты: один цзайсян, один начальник палаты императорских пиров, один наместник, три начальника областей. В Аньлу род обосновался весьма давно, первое упоминание вошедшего в историю представителя рода относится к VI веку — это начальник области Чучжоу Сюй Цзюньмин.
Сама «Яшма», внучка отставного цзайсяна Сюй Юйши (его высокородное имя Юйши в древнюю эпоху Чжоу обозначало немалый пост смотрителя государевых конюшен) и дочка Сюй Цзычжэна, начальника области Цзэчжоу, получила прекрасное воспитание, знала толк в изящной словесности (впоследствии она нередко выступала в роли первого редактора творений мужа), имела хорошие манеры, была тонко чувствующей и внешне миловидной семнадцатилетней девушкой. Это высокоблагородное семейство, принимая в свой клан Ли Бо, несомненно, первостепенное значение придавало его поэтическому гению, а не возможным успехам на служебной лестнице.
И для поэта высокий статус семьи вряд ли был важнейшим стимулом к этому браку, как походя замечают некоторые исследователи. Дело не только в его собственных намерениях, были они или нет. Социальная структура в Китае по древней традиции ориентировалась на маскулинное начало, и потому брак считался продолжением мужнего рода, в который входила жена, покидая род отца. Однако бывали исключения, когда семья жены принимала мужа в свою родовую структуру, и случай Ли Бо был именно таким. Эти отходы от стандарта не отвергались вовсе, но социум относился к ним подозрительно. «Примак» рассматривался не как самостоятельный глава собственной семьи, а как «сын» в семье тестя, по ритуальному кодексу подчиненный ему, что, конечно, не могло не травмировать независимую душу Ли Бо, уже в те годы оценивавшего себя достаточно высоко. В одном из произведений он писал о себе как о «призванном[49] в семью советника Сюя». В этой фразе можно услышать нотки грустной самоиронии. И, возможно, длительные уединения поэта в хижине в горах Байчжао, частые поездки, а позже внутриклановые трения, выплывшие наружу после смерти тестя, этим тлевшим конфликтом и объясняются.
Тем не менее рекомендации сановитых родственников ему давались, но Ли Бо надолго не удерживался на одном посту — то ли пост казался ему слишком ничтожным для высоких амбиций, раздиравших его душу, то ли «поэтико-неврастеническая» натура толкала к движению, противному застывшему покою. Нельзя не заметить, что этот и последующий браки Ли Бо хотя и имели некий внешний налет «карьерности», но никаких ожидаемых дивидендов соискателю не принесли. В конце концов, при всей сумме своих социальных ожиданий, поэт вовсе не имел чиновной ментальности, а такие люди не удерживались на должностных ступенях любого уровня.
Вокруг обладательницы стольких достоинств, какой была советникова внучка Сюй, не могли не плестись явные и тайные интриги, о чем с удовольствием повествуют и легенды, и даже ученые мужи. К браку как официальному институту семья относилась весьма придирчиво, и многим было по разным причинам отказано. Среди отвергнутых был даже, по научной версии, племянник помощника губернатора Ли, изрядный повеса, любитель петушиных боев и собачьих скачек.
Сложносочиненная вариация на тему
По легендарной версии, это был даже сам помощник губернатора, но другой — Пэй (что, с одной стороны, достаточно сомнительно, учитывая, что упомянутое прошение Ли Бо о финансовой помощи, написанное через три года после этой церемонии, было адресовано именно «помощнику губернатора Пэю», но с другой — это создает психологические основания для отказа в просьбе). Пикантность ситуации заключалась в том, что отвергнутый жених по должности своей был обязан присутствовать на этой элитной свадьбе, и предания повествуют об обмене утонченными колкостями и демонстративном состязании между мужчинами в танцах и пении, в чем верх, разумеется, как и положено непобедимому легендарному герою, одержал Ли Бо. Молодым, символически соединяя их, переплели руки красным шнуром, они отвесили поклоны родителям и под громогласные здравицы скрылись в спальне. И уж очень эффектно в художественно окрашенной биографии поэта, созданной профессором Гэ Цзинчунем, выглядит сцена в спальне, когда под подушкой новобрачной Ли Бо обнаруживает свитки собственных стихов, которые она, оказывается, уже несколько лет собирала.
Совсем другая вариация на ту же тему
«Полнолуние, маленький садик позади дома залит лунным светом. Слуга Цинь-эр, опустившись на колени, с величайшей осторожностью раскладывает на лужайке исписанные стихами листы. Покои барышни Цзяоюэ, дочери сановника Сюя. Служанка Синлань закрывает окно, вдруг, заметив Цинь-эра, в крайнем изумлении громко зовет хозяйку: „Барышня! Барышня! Идите скорее сюда! Слуга-то нашего гостя и впрямь дурачок! Днем, когда солнышко припекает, он вещи не сушил, зато теперь под луной вон сколько всего разложил! Странные какие-то штуки…“ На ее крик к окну подошли пятнадцатилетняя Цзяоюэ и вторая служанка. Барышня, выглянув в окно, стала тихо выговаривать: „Вот уж поистине, Синлань, кто мало знает, тот многому дивится! Всем известно, что только что написанную рукопись ни в коем случае нельзя просушивать на солнце, лишь при мягком свете луны, тогда и тушь не поблекнет, и бумага не потрескается, не покорежится. Только так стихи смогут храниться веками. Выходит, не этот парнишка глуп, а ты дурочка“.
Синлань и сама уже поняла, что сболтнула не то, и быстренько прикусила язычок. Глядя на разложенные под луной листы рукописи, Цзяоюэ задумчиво, как бы сама себе, сказала: „Слышала я, отец говорил, что гость наш — редчайший талант. Хоть бы одним глазком заглянуть в его рукопись!..“
С поклоном поприветствов Цинь-эра, Синлань принялась пылко говорить что-то, явно смутившее юношу. А она тем временем потихоньку подняла с земли два исписанных стихами листа, скользнула к окну и протянула свою добычу госпоже.
„Ах, Синлань! Сейчас же верни их на прежнее место!“ — „Но, барышня… Ой, как небрежно написано! Ну, что плохого, если вы посмотрите?“ Дав себя уговорить, Цзяоюэ поднесла листок поближе к свече и в изумлении застыла, не в силах оторваться от стихов. „Не удивительно, что он сушит рукопись под луной, сами строки излучают лунный свет, словно Небо ниспослало их, ни одному смертному не под силу сотворить такое! Верни скорее эти листы на место, а мне принеси другие, я должна прочитать их все, пусть для этого понадобится украсть, одолжить, даже отобрать силой — мне все равно!“ — „Слушаюсь, барышня, все сделаю“».
(Бай Хуа. Поэт Ли Бо. Киносценарий. Перевела Н. Демидо [Книга-2002. С. 84–86])Перемены в своем статусе Ли Бо почувствовал не сразу. Восточного мужчину, да еще средневекового, тем более поэта, в четырех стенах не запрешь. Свою вольность, свою жажду странствий, свою независимость он не утратил с оформлением брака. Он все так же писал стихи, стремительно и размашисто бегая по бумаге, разве что лучшего качества, сюаньчэнской. А присутствия при этом другого человека даже не замечал, как это обычно и бывало с ним в разгар творческого процесса — в кабачке ли, на пирушке ли.
Вариация на тему
…«А вы разве не помните стихотворение императрицы У Цзэтянь?»
Он тихонько напевал, рифмуя «Бесконечные мысли», как вдруг жена, молча сидевшая в углу, источая аромат благовоний и румян, остановила его этим вопросом. Ли Бо взглянул на нее, не сразу вернувшись в этот мир из заоблачных полетов поэтической мысли, и лишь спустя мгновение улыбнулся: «Ну, конечно, я знаю это прекрасное стихотворение „Дева свершившихся желаний“. Быть может, потому частично и повторил строку из него. Неужели ты заметила? Сколь возвышенная у меня жена!»
Ни в одном из дошедших до наших дней девяти с лишним сотен произведений Ли Бо имя жены не упоминается, но есть стихи, посвященные отдельным женщинам — жене, обратившейся в камень, ожидая мужа с военного похода, или привлекательной соседке из дома с гранатовым деревом, или доступной девице, на которую в подпитии поэт готов «обменять скакуна». Конечно, соблазнительно привязать написанное в 728 году (на следующий после свадьбы год) 27-е стихотворение цикла «Дух старины» к собственному браку Ли Бо: вот, дескать, как он живописует чувства одинокой красавицы, словно бы «от противного» изображая счастливый брак сквозь мечты о нем — виртуальный совместный полет на фениксах-луанях:
Есть в Чжао-Янь прелестница одна В чертоге, что за облаками скрыт, Глаза лучисты — что твоя луна, Улыбкой царство может покорить[50]. Ей грустно видеть увяданье трав, Ветров осенних слышать дикий вой, И струны, под перстами зарыдав, Ей отвечают утренней тоской… Ах, где тот благородный господин, С кем на луанях вместе полетим?!Но признаемся, что в реальности это стихотворение не «о жене», даже не о «женщине во плоти», а скорее об абстрактно-теоретизированной «идее женщины». Жены, запертые на женской половине семейного дома, обычно, в полном соответствии с устоявшейся традицией, не удостаивались места в рифмованных строках. Поэты больше любили писать о вольных девах — публичных женщинах («Красотку приглашу в цветистый челн…» — у Ду Фу), реже называя их без околичностей, а чаще — эвфемизмами типа «дева с восточного склона»: этот образ вошел в поэзию от Се Аня, крупного поэта и видного вельможи V века, который в беспечной юности отшельничал на восточном отроге горы Гуйцзи, больше внимания уделяя не медитированию, а веселым пирушкам в «пещере роз» на склоне. Ли Бо любил не столько стихи Се Аня, сколько его образ жизни, и «восточная гора» достаточно часто появляется в его собственных стихах как топоним, маскирующий не связанную строгими рамками ритуала раскованность «ветра и потока».
Одно из немногих исключений — стихотворение «Плач о сединах», где Ли Бо обращается к истории романтичного и драматичного брака поэта Сыма Сянжу и Чжо Вэньцзюнь, которая еще в молодые годы овдовела и потому обязана была блюсти траур — если и не покончить с жизнью, то по крайней мере не покидать задней половины родительского дома. А она — вопреки традиции, вопреки родительскому протесту — убежала с нищим поэтом в Чэнду, где они открыли винную лавку. Но это еще не всё: когда поэт разбогател и постарел, он решил взять себе молодую наложницу из соседнего Маолина. И вновь Чжо Вэньцзюнь разрушает традицию, не соглашается на такой треугольник, борется за еще не угасшее чувство. Она пишет настолько эмоциональное стихотворение «Плач о сединах», что чувствительный поэт отказывается от мысли о плотских удовольствиях с юной девой и возвращается к постаревшей, но мудрой и духовно близкой жене.
Этот сюжет и до, и после Ли Бо привлекал внимание поэтов. Ли Бо написал свой вариант, так решительно встав на сторону древней «феминистки», что исследователь и впрямь увидел в его позиции «элемент современного сознания», протест «против брака, основанного на плотских удовольствиях, на формальном союзе без духовного единства» [Чэнь Вэньхуа-2004. С. 150–151]. Это, конечно, чрезмерно, но тот факт, что в любовной лирике Ли Бо отчетливо проявляются ростки ренессансного утверждения личности, несомненен.
Вообще-то женская тема — одна из ведущих в поэзии Ли Бо. Суровый конфуцианец Ван Аньши даже брезгливо заметил: «В стихах Тайбо … сплошная грязь, в девяти из десяти стихотворений пишет о женщинах и вине». Но что взять от этого холодного ригориста? Он даже к собственной жене старался лишний раз не прикасаться, так что она вынуждена была, не спрашивая согласия мужа, привести ему юную наложницу, и только тогда у вельможи (и стихотворца, как ни странно) появилась дочь. Кстати, стоит заметить, что женская тема — не отличительная особенность Ли Бо. Исследователь сопоставил количество семисловных четверостиший этой тематики у Ли Бо и его современника Ван Чанлина, и оно оказалось равным — шестнадцать и пятнадцать [Изучение-2002. С. 211].
Обращает на себя внимание, что в стихотворениях последовавшего за женитьбой года главным мотивом Ли Бо ставит уход весны, увядание, старение. Не связано ли это с психологическим переходом от беспечной юности к осознанию им как мужем и отцом чувства ответственности? А разве не говорит о конкретном чувстве к конкретному человеку сохранившийся в преданиях факт «свадебного путешествия» молодоженов к теплым источникам в 75 ли от Аньлу — на Пруд Яшмовой девы, где нежилась мифологическая красавица-фея? Или совместные музицирования и долгие беседы о жизни праотцев, по чьему лекалу надо строить жизнь собственную?
К тому же Ли Бо — это Ли Бо, рамки традиции ему тесны, и он отнюдь не всегда обременял себя педантичным следованием им. Не вписывается в бытовой стандарт, например, одна из его встреч с Юань Даньцю в начале супружеского периода жизни. Не на склоне со жбанчиком вина, не на берегу шаловливого ручья под розовым персиком, а в своем доме принял поэт друга-даоса, и «хозяйкой была Сюй», как особо отметил сам Ли Бо в предисловии к стихотворению об этом визите, то есть жена не скрылась на своей половине дома, а участвовала во встрече друзей как полноправная хозяйка.
В целом ряде его стихотворений под привычными метонимами «далекая», «внутренняя» (то есть живущая на внутренней, женской половине дома) скрывается именно его собственная жена как откровенный адресат стихотворения. Более того, у Ли Бо отыщется лирика, которую без всяких скидок можно отнести к категории «любовной», — и опять-таки посвященная жене. Наиболее выразителен цикл «Моей далекой» из двенадцати стихотворений[51]. Через три года после свадьбы неугомонный Ли Бо отправился в очередное путешествие — к Осеннему плесу, но при этом заглянул в обе столицы (обратите на это внимание — это был не развлекательный вояж, а деловая поездка в надежде приблизиться к реализации своей мечты), и все эти три года разлуки поэт шлет жене письма-стихи, составившие цикл.
Конструкция его достаточно сложна: это беллетризованный дневник, в котором в поэтической форме поэт воспроизводит мысленный диалог с женой. Стихотворения он пишет то от своего имени, то от имени обращающейся к мужу жены, а финальным аккордом становится обмен страстными репликами в рамках одного стихотворения. Бурлящая чувственность, даже откровенная сексуальность («Увидеться с тобою так хочу! / Я сброшу платье, загасив свечу…») кажутся удивительными, если напомнить, что это все-таки VIII век и опутанный условностями Восток. Поэт не ограничивается формальной отпиской — он публично заявляет, что даже его могучая кисть с трудом справляется с кипящими чувствами, не в силах адекватно воспроизвести их:
Я думал, мне строки достанет Сказать, что сердце наполняет, Но кисть бежит — и не устанет, А чувствам нет конца и края.Колдовская гора, в поэзии часто появляющаяся как абстрактный эротический символ, в этом цикле обретает конкретное наполнение — ведь мысли и чувства поэта «тучкой и дождем» летят как раз в те самые края, где в волнующем тумане прячется вершина Колдовской горы с Башней Солнца на ней (дом поэта в Аньлу находился примерно в том же направлении), и вся эта символика, теряя абстрактную обобщенность, выражает конкретную тоску поэта по оставленной дома возлюбленной:
И гора Колдовская, и теплые реки, И цветы, осиянные солнцем, — лишь грезы. Я не в силах отсюда куда-то уехать, Облачка, унесите на юг мои слезы. Ах, как холоден ветер весны этой ранней, Разрушает мечты мои снова и снова. Ту, что вижу я сердцем, — не вижу глазами, И в безбрежности неба теряются зовы.Но цикл замечателен еще и тем, что сексуальная чувственность пересекается в нем с закодированными элементами продуманного эстетического отбора лексики и интеллектуального общения.
Луский шелк, словно яшмовый иней, сверкает, Строки лунными знаками выведет кисть. Вот такое письмо я пошлю с попугаем[52] В дом на Западном море[53], в ту грустную тишь. Напишу этих строчек коротких немного, Только каждое слово — как песня, как стих!Рассчитывая на точное прочтение текста, поэт намеками обозначает жене место своего пребывания: упоминает легкий, мягкий, расцвеченный полутонами утренней зари «луский шелк», показывая, что он находится в Восточном Лу, где производили высококачественную ткань; письмо он предполагает написать не на общепринятом китайском языке, а «лунными знаками», то есть на языке народа юэчжи, к которому, по одной из версий, принадлежала его мать и язык которого, возможно, стала понимать жена. Отбор лексики показывает интеллектуальный уровень жены: письмо — не простая информация, а эстетическое и эмоциональное общение («как песня, как стих»), ждущее адекватной реакции. Наконец, диалогический финал последнего стихотворения говорит о том, что поэт видел в отношении жены к нему не только чувственное тяготение (ей мало мимолетного плотского общения на уровне «тучки-дождя»), а желание более глубокой, духовной связи.
Самое замечательное в этом цикле — это его конкретная направленность, личностная наполненность. Да, адресат лирики — не «Лаура», не «Беатриче», она не конкретизирована, ее имя не названо, она все-таки не утратила своей функциональности, но читатель уже ощущает реальность образа (если не для себя, то для автора), частично индивидуализированные характеристики, присущие «этой женщине», а не «женщине вообще», слышит биение сердца Ли Бо.
Это уже близко к «ренессансной» поэзии. Профессор Л. Д. Позднеева в свое время подчеркнула: «Три крупнейших автора VIII века — Ван Вэй, Ли Бо и Ду Фу — поэты „переломной эпохи“ (Н. И. Конрад), но они и провозвестники новой, ибо в их произведениях уже заложены те явления, которые с конца VIII века станут характерными для творчества целого ряда писателей и обусловят огромный взлет в духовной жизни страны» [Литература-1970. С. 104].
Криптограмма детских имен
В наиболее ранних, еще танского времени биографических материалах упоминаются четыре имени детей Ли Бо: Пинъян, Боцинь, Поли, Тяньжань.
С двумя последними ясности нет. Некоторые полагают, что Поли — это сын от безымянной «женщины из Лу» (с ней Ли Бо сошелся после смерти первой жены), имя же — ностальгия по Западному краю, где весьма ценились изделия из различных кристаллов и стекла, а это имя созвучно слову боли — «стекло» (одновременно оно может быть и обозначением яшмы). В «Старой книге [о династии] Тан» в разделе о западных окраинах империи слово поли стоит в ряду перечисления минералов и кристаллов разных цветовых оттенков.
Имя Тяньжань, словарно означающее «природное, естественное», вообще считается случайной ошибкой современных издателей старых текстов: они неправильно поняли рукопись и не в том месте поставили запятую (которые в древних текстах вообще отсутствуют), и в результате из написанной Вэй Хао фразы получилось перечисление сыновей: «мальчиков назвали Боцинь, Тяньжань, [они обладали] многими талантами»; затем другие исследователи эту фразу перетрактовали иначе и более логично: «мальчика назвали Боцинь, Небом ему дано было много талантов».
Неожиданную версию выдвинул Го Можо в книге «Ли Бо и Ду фу»; Поли — это искаженное Боли (не «стекло», а иное слово, записывающееся другими, созвучными иероглифами), каковым и должно было быть подлинное имя первого и единственного сына Ли Бо, тогда как слог цинь (в имени Боцинь) он считает опиской вместо близкого по начертанию ли. Однако тайваньский автор [Се Чуфа-2003. С. 254–257] полагает, что именно о Тяньжане будто бы вспоминает сам Ли Бо в стихотворении «Гуляю в горах у беседки Се»: «Проходит хмель, луна ведет домой, / И радостно бежит ко мне малыш»; правда, это стихотворение датируется 763 годом, и вряд ли семнадцатилетний внебрачный сын жил в доме дяди поэта, где после болезни остался Ли Бо (в этом же доме он и умер). Да и сомнительно, чтобы отец назвал в стихотворении (не в разговоре) «малышом» великовозрастного парня.
С первыми же двумя сомнений нет — они упоминаются в четырнадцати произведениях Ли Бо, часто с характеристикой «любимые дети». Так, в переданном с оказией стихотворении «Посылаю двум малышам в Восточное Лу» поэт рисует сценку получения этого его послания: «Грациозная Пинъян встретит с цветами, стоя у персика, а малыш Боцинь прислонится к плечу сестры».
Этих двоих детей поэту подарила «Яшма» — уже на следующий год (728) девочку Пинъян и вскоре, возможно в канун или уже после переезда в Восточное Лу (Шаньдун), мальчика Боциня[54]. В их нестандартные имена вложен большой подтекст, показывающий, что Ли Бо не был равнодушным отцом. Эти имена однозначно вводили детей в тот большой и глубокий духовный мир, в каком жил их отец.
Имя Пинъян, отмечают китайские исследователи, воспринимается как мужское: Ли Бо, вероятно, ждал не девочку, а сына-первенца, друга и продолжателя дела отца. Но и в женском варианте оно не является исключением, встречаясь еще в начале нашей эры — таким было имя сестры ханьского императора У-ди, в доме которой он проникся очарованием несравненной танцовщицы Вэй Цзыфу, которая на следующий год стала императрицей; впоследствии слово пинъян превратилось в характеристику искусных танцовщиц. Исследователи связывают это имя дочери с вынесенным из западных краев пристрастием Ли Бо к музыке и танцам, присущим женщинам тех мест[55], и такие персонажи часто попадаются в пространстве его поэзии.
Такое же имя было у третьей дочери Гаоцзу, первого императора династии Тан, правившего с 618 по 627 год (этот факт, кстати, играет на версию отсутствия родства поэта с царствующей династией, в противном случае он не имел бы права дать это имя собственной дочери). Она вышла замуж за доблестного военачальника, да и сама была не просто номенклатурной дочкой, а видной фигурой в высшей военно-административной иерархии и, наделенная ментальностью «рыцаря», сопровождала отца в военных походах, командуя «женским батальоном», как формулируется в «Старой книге [о династии] Тан». Тут можно еще добавить, что у Сюй Шао, деда жены Ли Бо, было то же имя Шао, что и у Чай Шао, мужа принцессы Пинъян, и жил он в те же времена основателя империи Гаоцзу и тоже считался одной из видных фигур становления империи Тан.
Но и это еще не всё в исторической этимологии имени дочери Ли Бо. Столица легендарного правителя Яо в области Цзинь называлась Пинъян (уж не место ли это рождения танской принцессы?). А в Шу до нашего времени сохранились руины «Моста святых Пинъян», построенного в ханьскую эпоху, о чем Ли Бо, конечно, не мог не знать. Кроме того, при Ханях весьма знаменитым было вино «Пинъян», а уж кто-кто, а Ли Бо был ценителем и знатоком хмельных напитков. Профессор Гэ Цзинчунь, интерпретируя объяснение самого Ли Бо, называет еще одно значение: «Пинъян обозначает луну, ровное сияние ее лучей» [Гэ Цзинчунь-2002-А. С. 70]. Прямо это значение в словарях не указано, но, возможно, оно косвенно выводится из такого переносного значения слова «пинъян», как «небольшая пологая возвышенность».
А не пришло ли поэту в голову просто (и сложно) соединить название группы рифм «сяпин», которые не раз встречались в его стихах, с категорией «ян», обозначавшей мужское начало в философской интерпретации мироустройства, а также само Солнце и как небесное тело, и как мировоззренческую структуру, и как метоним императора, к которому он всю жизнь был устремлен? Этакое «сквозь рифмы — к Солнцу»!
Имя сына лежит ближе к поверхности. Боцинь[56] появился на свет по времени ближе к переезду семьи в Восточном Лу или в период зарождения мысли о таком переезде, когда Ли Бо уже внутренне настроился на продолжение жизни на этой части современной провинции Шаньдун, где в период Чуньцю (VIII–V века до н. э.) существовало царство Лу. У основателя династии Чжоу-гуна, канонической фигуры конфуцианской истории, олицетворявшей высоконравственное идеальное правление, был сын по имени Боцинь, получивший от отца в правление восточную часть царства Лу вокруг города Цюйфу (как раз те места, где с 736 года два десятилетия находился дом Ли Бо); в том же городе сохранилась его могила.
Вероятно, существует версия, будто Ли Бо потому дал такое имя сыну, что сам ставил себя как исторически значительную фигуру в один ряд с Чжоу-гуном. Мне такая версия не попалась на глаза, но встретилось ее опровержение: «При всем безумстве характера Ли Бо не так уж вероятно, будто он мог сравнивать себя с Чжоу-гуном» [Чжоу Сюньчу-2005. С. 36]. Жизнь древнего Боциня оборвалась трагически, и это еще одна причина того, почему ряд исследователей сомневаются в такой версии обоснования выбора имени для сына. Однако, если шагнуть за рамки строгой ритуальности, что Ли Бо делал неоднократно, то можно высказать такое психологическое обоснование для этого выбора имени, как присущий поэту пиетет к каноническим фигурам прошлого, тем более к тем, на территории чьих давних владений он построил свой дом.
Еще в танское время было высказано предположение, что имя сына — эвфемизм: «Боцинь было именем карпа». Дальше в оригинале следует продолжение, которое без иероглифики понять сложновато: слово «карп», произносимое ли, созвучно другому ли (слива) в фамилии Ли Бо. То есть в имени сына Ли Бо закодировал свой родовой знак. Хорошо, но при чем же тут «карп»? А притом что, перебравшись в Восточное Лу, Ли Бо обосновался неподалеку от Цюйфу — родных мест Конфуция. Конфуций же своего сына назвал «Карпом»[57] — в благодарность правителю царства Лу, пославшему философу по случаю радостного события большого карпа как символ благопожелания. Дальнейшим прозвищем этого Карпа стало Боюй, что имеет такие значения, как «рыба» и «старший из братьев» (философ ожидал, видимо, продолжения потомства, чего судьба ему не подарила) [Переломов-1992. С. 15–16]. Но у слова бо в древности было еще одно значение — «жертва», «жертвенный», то есть сын Конфуция имел прозвище «Жертвенная (иными словами, благодарственная. — С. Т.) рыба». Помня это, можно перевести имя сына Ли Бо как «Жертвенная птица», что тоже подтекстом апеллирует к древнему философу и его сыну. Кому поэт принес благодарственную жертву, неясно, но смысловые ассоциации напрашиваются. И уже не с Чжоу-гуном, а с Конфуцием, жившим в том же Восточном Лу.
Исследователи намечают и другие параллели: поскольку в имени Боцинь закодирован фамильный знак Ли, то это ведет мысль к другому Ли, который, уходя в западные пустыни, оставил вечности свой бесценный трактат «Дао Дэ цзин» (родовой фамилией Лао-цзы была та же «Слива»-Ли). Сын Ли Бо прожил почти столько же, сколько отец, и умер в 792 году, завершив шестидесятилетний циклический круг. Возможно, в ментальности даоско-ориентированного Ли Бо второй знак имени сына, обозначающий «птицу», не был случайно-проходным, а вводил мальчика в привычное для даосов единство животного (включая человека) мира.
В исторических документах упоминается еще одно детское имя, вызывающее сомнения и дискуссии. В Предисловии к «Собранию академика Ли» поэта Вэй Ваня, которому Ли Бо еще при жизни передал часть своих рукописей, сказано: «[Ли] Бо сначала женился на Сюй, [она] родила одну девочку, одного мальчика, назвали Минъюэ Ну». Го Можо в книге «Ли Бо и Ду Фу», опубликованной в 1972 году, замечая, что названное имя — явно женское, предполагает, что слова «одного мальчика» — поздняя вставка и следует читать: «…родила одну девочку, [ее] назвали Минъюэ Ну»[58]. Полемизирующий с ним исследователь, наоборот, предполагает в этом месте пропуск иероглифа — по его мнению, тут должен был быть повторен иероглиф «мальчик», и тогда фраза звучит так: «…родила одну девочку, одного мальчика, мальчика назвали Минъюэ Ну» [Фань Чжэньвэй-2002. С. 341].
Прямое значение слова ну — «раб, слуга, подчиненный, крепостной»; кроме того, так уничижительно называли себя женщины, обращаясь к мужчине. Слово встречалось в именах, хотя одни считают, что редко, другие — что оно привычно для китайских имен как производное от основного значения. Хотя ключевой частью этого иероглифа является знак «женщина», история знает немало мужчин высокой воинской доблести, носивших это имя, один из них был современником Ли Бо и отважно проявил себя во время мятежа Ань Лушаня в середине 750-х годов. Мужчины не отказывались от этого имени и позже — например, младший брат поэта Бо Цзюйи носил имя Цзиньган Ну. Так что, возможно, в имени Минъюэ Ну и не было никакого значащего подтекста.
Но вот в соединении двух частей смысл все же наслаивается, и не один. «Минъюэ» значит «ясная луна», и эти два иероглифа в поэзии Ли Бо появлялись весьма часто. Ли Бо — самый «лунный» поэт Китая. Луна для него — верный друг, даже возлюбленная (такое очень личное чувство к луне ввел в китайскую поэзию именно Ли Бо), луна — собутыльник. В традиционном мировосприятии луна, сойдя с небосклона, проводит светлый день в глубокой западной пещере, и в этом плане луна для Ли Бо — напоминание о родных краях (ведь и Шу, и Суйе — все они остались в западной стороне). Человека высоких нравственных качеств сопоставляли с луной, подразумевая, что это «перл, сокровище»: именно так Ли Бо в стихотворении № 10 цикла «Дух старины», повторяя определение из 83-го цзюаня «Исторических записок» Сыма Цяня, назвал безупречного древнего книжника Лу Ляня. (Еще раз подчеркну, что в китайском языке слово «луна» не имеет рода, поэтому переводы «луна» и «месяц» вполне адекватны и зависят от контекста.)
Акцент в этом имени стоит на «луне». А что же здесь означает слово ну? В древнем языке оно часто ставилось до или после основного слова, показывая никчемность, мизерность, бесполезность того предмета, который характеризовался этим словом. Фань Чжэньвэй полагает, что это уменьшительно-ласковое окончание основного имени (типа современных эр, цзы или в начале имени — сяо) [Фань Чжэньвэй-2002. С. 343]. Ну, допустим, «Ясный месяц». Чем плохое имя для малыша?
Была в необъятной китайской истории приметная фигура, первой же стрелой сражавшая летящего под облаками орла. И этот меткий стрелок носил то же «лунное» имя Минъюэ. Ассоциации выразительные, тем более учитывая, что одной из причин переезда Ли Бо в Восточное Лу было желание поглубже овладеть боевым искусством, взяв уроки у тамошнего известного мастера бывшего генерала Пэя. Кстати, сын того древнего стрелка по орлам был высоким начальником именно в Яньчжоу, где поселился Ли Бо, и его тут помнили неплохо. Ай да стратег Ли Бо!
О дальнейшей судьбе сына поэта известно немного: прожил жизнь в Данту, нигде не служил, женился, оставил сына, о котором вообще ничего не известно, и дочерей — с ними встречался Фань Чуаньчжэн, сообщивший об этом в сохранившейся до наших дней «Надписи на новом могильном камне почтенного Ли».
Но из одного сборника повествований танского времени к нам пришла легенда, легкомысленным тоном которой возмутился современный исследователь [Чэнь Вэньхуа-2004. С. 27–28][59], и я поделюсь ею с вами.
Легендарная вариация на тему
В пятом году Чжэньюань (790) пятидесятитрехлетний красавец и повеса Боцинь заглянул в храм, где стояли изображения небесных фей. Указав на самую красивую, он усмехнулся: «Вот на такой бы я женился». Когда он «погрузился в вино», к нему явился дух-покровитель храма. Боцинь не растерялся, предложил ему выпить и заговорил о женитьбе на фее, после чего вернулся домой и простился с семьей. Через несколько дней он умер (подразумевается — вознесся к фее).
Вот так небесная аура отца слегка окарикатуренно затронула сына.
Прикосновение к столице
До переезда в Восточное Лу Ли Бо среди своих многочисленных передвижений по городам и весям Китая совершил как минимум две поездки по стране, которые оказались не просто путешествиями, а некими структурообразующими стержнями для раскручивания мировоззрения поэта.
Во-первых, это трехгодичное пребывание на Осеннем плесе, который своей гармоничной природой оказался столь созвучен душе Ли Бо, что произвел на нее гармонизирующее, упорядочивающее воздействие. Хаотично бродившие дотоле в уме мысли о высоком государевом служении (боровшиеся с жесткой оценкой мудрого даоса Сыма Чэнчжэня) начали прорисовываться все более явственно как структурообразующий элемент его натуры. Прохладные приемы у недалеких вельмож не только не охладили, но ожесточили Ли Бо. Один за другим он пишет два стихотворения из цикла «Дух старины», в которых формулирует мысль о социальном предназначении таланта, о жизненной необходимости для творческого человека быть востребованным обществом, а для себя самого видит место не менее чем у «Пруда Цветов», что в данном случае метонимически указывает на императорский двор:
Таинственный исток наверх выносит Лазурный лотос, ярок и душист. Устлала воды лепестками осень, Зеленой дымкой ниспадает лист. Коль в пустоте живет очарованье, Кому повеет сладкий аромат? Вот я сижу и вижу — иней ранний Неотвратимо губит дивный сад. Все кончится, и не найдешь следов… Хотел бы жить я у Пруда Цветов! (№ 26) В саду угрюмом орхидеи цвет Совсем задавлен сорною травой. Весной ее ласкает солнца свет, Но осенью — взгрустнется под луной. Когда падут снежинки свысока, Ее красивый облетит наряд. Без дуновений свежих ветерка Кому повеет дивный аромат?! (№ 38)«730 год был определяющим для Ли Бо… Он, наконец, принял решение направиться в столицу Чанъань. Если тетива натянута, почему же не выпустить стрелу?» [Фань Чжэньвэй-2002. С. 270].
Вторая поездка была как раз и совершена в Чанъань. Большинство исследователей считают, что это произошло в период между 730 и 734 годами. Профессор Ань Ци от категоричного 731 года [Ли Бо-2000. С. 185] перешла, проанализировав цикл «Моей далекой», к «рубежу весны — лета 730 года» [Ань Ци-2004. С. 30]. Такой авторитет, как Чжоу Сюньчу, указывает «примерно в 732 году» [Чжоу Сюньчу-2005. С. 86]. Ян Сюйшэн на основе текстологического анализа стихотворений Ли Бо подтверждает эту дату, считая, что на эту первую попытку утвердиться в столице Ли Бо потратил три года — прожив 731, 732 и 733 годы среди даоских отшельников и монахов на склоне горы Чжуннань [Ян Сюйшэн-2000. С. 73].
Версия 730 года подтверждается упоминанием в стихотворении Ли Бо о сильных дождях над резиденцией принцессы Юйчжэнь, о чем как о зафиксированном метеорологическом явлении сообщают исторические хроники. Юй Сяньхао, не присоединяясь ни к одной версии, объективно излагает суть дискуссии вокруг проблемы, названной «дважды посетил Чанъань» (начало 730-х и начало 740-х) или «трижды посетил Чанъань» (предположение о том, что в середине 750-х годов, после посещения ставки будущего мятежника Ань Лушаня, Ли Бо сделал попытку донести свое ви́дение ситуации в стране до императора, было сформулировано в 1983 году, вызвав дискуссию, подверглось сомнению, но постепенно начало утверждаться).
Профессор Гэ Цзинчунь уверенно называет 734 год, когда, как считает он, Ли Бо сначала приехал в Лоян, где познакомился с Цуй Цзунчжи, одним из шутливо обрисованных Ду Фу «восьмерых святых пития», и сестрой императора Сюаньцзуна принцессой Юйчжэнь, увлекшейся даоской мистикой до такой степени, что стала монахиней[60]. В другой книге того же автора этому сюжету уделено несколько выразительных страниц с доказательствами, почему это произошло именно в 734 году.
Император Сюаньцзун родился в Лояне и регулярно навещал родной город. В 730-е годы это произошло в начальный лунный месяц 22-го года Кайюань (рубеж зимы — весны 734 года), и пробыл он там до 736 года. Для Восточной столицы, как с пиететом именовали этот крупный город, приезд государя был чрезвычайным и волнующим событием, сам он в родном городе чувствовал себя расслабленнее, и Ли Бо мог с большей долей уверенности рассчитывать на аудиенцию. Он часто бывал в Лояне, не раз участвовал в дружеских пирушках в популярном среди интеллектуалов внушительных размеров питейном заведении на берегу реки Лошуй в южной части города у моста Небесного Брода. Потому-то, по мнению Гэ Цзинчуня, осенью 734 года Ли Бо, задержавшись на несколько месяцев среди даосов на горе Суншань у своего давнего друга Юань Даньцю, вхожего в придворные круги, отправился в Лоян.
Течение увлекло Ли Бо пусть не в блистательную Западную столицу (Чанъань), но в Восточную, протянувшуюся вдоль берега Лошуй на десятки ли. Мост Небесный Брод казался тем местом прихотливого счастья, где, по легенде, раз в год — лишь раз в год! — встречаются оторванные друг от друга небесные Пастух и Ткачиха. Об их горькой судьбе можно было вспомнить как раз под мостом, где под звуки залетающей в трактир с улицы флейты, за стертую, но еще не утратившую своей ценности монету или обруч из ослепительно белого нефрита доступны были не только чистое, как небо, ароматное вино в яшмовом кувшине, но и звонкий смех и игривые песни веселых дев.
По пути в Лоян поэт заглянул в буддийское капище Лунмэнь (Врата Дракона) на крутых склонах ущелья, прорубленного, по преданию, мифологическим героем Юем для высвобождения вздувшейся реки, которая постоянно грозила губительными наводнениями. Неспокойная Ишуй уже тысячелетия все так же бурно мчалась к Хуанхэ среди голых скал, нависших над расселиной. Эти диковатые места за три века до Ли Бо возлюбили буддисты, и склоны были испещрены гротами с фигурками Будд, высеченными в скалах. В монастыре Благовонной воды поэт пробыл несколько дней и описал в стихотворении холодную осеннюю ночь стремительных волн на реке и пустых склонов, засыпанных опавшими листами.
Не получив, однако, в Лояне ожидаемого, Ли Бо последовал за государем в Западную столицу Чанъань. Тощий кошелек не позволил остановиться в столичной гостинице, и по протекции Чжан Цзи, влиятельного зятя императора, туповатого и потому опасающегося чужих талантов сына мудрого, но уже умирающего главного советника Чжан Шо, Ли Бо поселился на северном склоне горы Чжуннань в резиденции принцессы Юйчжэнь — известном месте, где, по преданию, стояло жилище Кан-вана, врача древнего чжоуского властителя.
Горный массив Чжуннань (у него существовали и другие названия — Наньшань, Чжуннаньшань, Чжоунаньшань) был одним из важнейших центров даоской мифологии, связанным прежде всего с именем основателя учения Лао-цзы, а также восьмерых святых праотцев, своим посещением освятивших это место. По легендам, именно здесь, в одинокой хижине на одиноком холме, сплошь заросшем кипарисами и тополями, Лао-цзы создал свой святой канон «Дао Дэ цзин» и, оставив его на заставе Ханьгу, удалился в вечность западных песков.
Легенды поместили к подножию Чжуннань и могилу Лао-цзы. Тысячелетиями это был по-деревенски непритязательный чуть заметный курганчик с поминальной табличкой, и только в 1997 году усилиями местных крестьян его обложили обтесанными камнями, придав вид ритуального захоронения над Черной рекой. Сему месту уделяли благосклонное внимание и Сыны Солнца: император Цинь Шихуан повелел возвести тут святилище Лао-цзы, названное храмом Чистоты, а в начале следующего тысячелетия ханьский император У-ди построил кумирню Лао-цзы. При Танской династии ее первый властитель Гаоцзу дважды, в 620 году и 624 году, благоговейно посещал эти святые места.
А на четвертую луну 29-го года Кайюань (лето 741 года) император Сюаньцзун во сне повстречал Лао-цзы, который поведал ему о том, что на вершине Лоугуань горного массива Чжуннань должно появиться каменное изображение патриарха, а в обители Лоугуань — картина, что немедленно и осуществилось. По этому чрезвычайному случаю девиз эпохи был изменен на Тяньбао, что означает «Небесное сокровище», и по стране поползли слухи, считать ли этим «сокровищем» мистическое явление или же введение во дворец фаворитки Ян Гуйфэй, до того не имевшей официального титула «Драгоценной наложницы».
Вариация на тему
Но это мистическое явление еще не произошло в начале 20-х годов Кайюань (730-е), когда Ли Бо впервые появился на северном склоне Чжуннань. С благоговением взошел он на гору, еще во времена династии Чжоу освоенную сливавшимися с Изначальным отшельниками, которые «созерцали звезды и внимали движению эфира», откуда потом и пошло название даоских монастырей — «гуань», то есть «созерцать». Даже туман, погружавший невысокую вершину в мистический сумрак, не прятал одинокой хижины на одиноком зеленом холме вдали от главной вершины Чжуннань, где позже был построен монастырь Лоугуань. В той хижине и ложились на бамбуковые планки пять тысяч иероглифов — канон «Дао Дэ цзин», основа учения даосов. Быть может, замершее в этой обители время и заронило в Ли Бо мысль стать даоским монахом, что он и осуществил спустя десятилетие.
Увы, эта протекция многого ему не дала, потому что сама принцесса чуждой ей атмосфере околостоличной суеты предпочитала другую свою обитель на склоне Хуашань. Ли Бо прожил в заброшенных апартаментах десять дней, всеми забытый, питаясь подножным кормом, и забрасывал Чжан Цзи безответными посланиями, неоднократно пытаясь нанести ему визит, но тот не принимал поэта. Одна отрада — гостеприимный крестьянин, чья хижина стояла на полпути из столицы к Чжуннань. Закатное солнце окрашивало окрестность предвечерним пурпурным сиянием и бросало косые лучи на неприхотливый ужин с дешевым местным вином.
Высочайшая аудиенция не состоялась потому, что была организована спонтанно, тщательно не подготовлена. Пусть Ли Бо и написал блестящее одическое эссе о дворцовом Зале Просветления, которое принцесса при случае показала императору, но наличие поэтического гения, не подтвержденное официальным экзаменом по системе кэцзюй (многовековая структура пошагового отбора чиновников, пронизывавшая всю страну от уездов до финального испытания в специальном зале императорского дворца), не являлось в глазах Сына Солнца бесспорным основанием для приближения и возвышения. Необходимо было продемонстрировать не изящные рифмы, а «государственную мудрость» и, главное, верноподданничество. К последнему Ли Бо был совершенно не приспособлен: у него, напомним, в спине «кость гордости не гнулась».
Впрочем, оба эти «номенклатурные» отшельничества помогли Ли Бо укрепить связи, по крайней мере, с теми из властных сфер, кто духовно был близок поэту, прежде всего с принцессой Юйчжэнь, которой он оставил написанное в ее обители стихотворение и впоследствии посвятил немало рифмованных подношений. На самих же склонах он писал больше пейзажной лирики, чем льстивых панегириков, которые должны были бы способствовать его карьере[61].
Покинув холодную столицу, поэт совершил восхождение на возвышавшуюся недалеко от Чанъаня вершину Тайбо (Великая Белизна), соименную как небесному телу, с коего, по преданию, он и прибыл на Землю, так и самому поэту. Это была одна из восьми гор, весьма почитаемых даосами края Шаньдун, что в те времена означало «к востоку от гор (Тайхан)». Ее склоны усеивали монастыри и скиты отшельников, погружавшихся, «опустив полог», в даоскую мудрость.
Вариация на тему
Пологая дорога в предгорьях, по которой неторопливо цокали копыта ослика, тащившего поклажу: скудную пишу, в основном суховатые, но сытные лепешки, теплую одежду, потому что там, близ шапки вечных снегов, без нее не обойтись, разве что содержимое кувшинов, коих было припасено достаточно, поможет разогреться, — постепенно переходила в узкую тропу, обрамленную разной высоты скалами, где-то прикрытыми деревцами, а где-то выставляющими напоказ темно-серую гладкую поверхность с черными полосами подтеков, точно сделанными гигантской кистью.
Ли Бо поднялся уже достаточно высоко, когда на крутых склонах начали, наконец, появляться сосны, небольшие, скрюченные ветрами, они, вылезя на кривизну склона, изгибали ствол, пытаясь устремиться к небу, для них недостижимому. По глубоким и мрачным ущельям, словно и не замечая их суровости, весело прыгали с камня на камень ручьи, временами вскипая пеной. Стал нарастать какой-то шум, и за поворотом тропы Ли Бо увидел водопад, не срывающийся из-под облаков цельной единой струей, потому что склон себе он выбрал неровный, а, громыхая, разбивающийся о большие камни, но, с усилием вновь собрав разбежавшиеся было брызги в струю, продолжающий падение вниз, где, воткнувшись в пруд, зажатый скалами, успокаивался прозрачной зеленой водой.
В мерный подъем вдруг вторглось какое-то внутреннее напряжение. Пропало ощущение времени, пространства, границ собственного тела. Он словно встал вровень с этими вершинами, с одной из которых небесным оком вечной снежной шапки смотрела на него сама Великая Белизна. Мысль, до того зажатая костью черепа, вырвалась в свободу безграничного пространства и, ринувшись к окружающим скалам, превратилась в грандиозную кисть. Ее движения вверх-вниз, вбок, вправо-влево были подчинены еще не осознанному ритму. Она словно творила бессмертные стихи, созвучные Небу.
Оглядевшись, поэт увидел крутые, гладкие темно-серые скалы, на которых кисть его мысли только что начертала черные линии иероглифов. Это были стихи, которые он оставил потомкам… Но кто прочитает их, кто осознает, осмыслит? Нет уже великого Конфуция, собиравшего неумирающую поэзию Древности.
Когда тучи остались под ногами, Ли Бо примерещилось, что он взлетает над хребтом и уносится в такие выси, где нет никаких преград на пути и откуда лучше бы и не возвращаться. И как намек — огромный плоский камень, мощной силой почти расколотый на две части. «Должно быть, когда-то взмыл с него в Занебесье какой-нибудь святой, и сгустки эфира вонзились в содрогнувшееся тело камня», — подумал поэт.
Через десять лет, когда ему станет невмоготу в имперской столице, он вновь — уже мысленно — совершит восхождение на эту Великую Белизну (стихотворение № 5 цикла «Дух старины») как на собственный тотем, где встретит святого старца и получит от него тот самый рецепт переселения в инобытие, о котором мечтал в стихотворении 733 года «Поднимаюсь на пик Великой Белизны»[62].
А после горы Тайбо лодка увлекла поэта по Хуанхэ к Бяньчжоу, в окрестностях которого раскинулся так любимый им Лянъюань, древний парк для государевых развлечений. От тех времен даже к Танскому периоду сохранились лишь черепки былых пиров меж засыхающих дерев, но поэт внутренним слухом, казалось, воспринимал оды Сыма Сянжу под аккомпанемент его «зеленоузорчатого», как тот именовал свой семиструнный цинь.
В этот период Ли Бо постигла еще одна карьерная неудача. Административная перестройка в империи вызвала необходимость особого инспекционного ведомства, чьим чиновникам вменялось в обязанность следить за легитимностью действий окружных начальников. На эти должности подбирались авторитетные интеллектуалы, и как раз такой инспекторский пост с резиденцией в Сянъяне был предложен Ли Бо. Воспрявший было поэт написал письмо-панегирик ведавшему этой кампанией Хань Чаоцзуну, с чьей подачи пост и был предложен Ли Бо: «Не имей десяти тысяч князей, а имей одного Ханя из Цзинчжоу». Но в этом же письме высоко ценивший себя поэт намекнул, что достоин более высокой ступени служебной лестницы. Покровителю намек не понравился, и Ли Бо не получил даже этой должности.
Неудача вновь обострила негативный взгляд поэта на жизнь столичной вельможной верхушки, и он активизировал свой мировоззренческий цикл «Дух старины», написав резкие стихотворения, весьма контрастирующие с романтически-идиллическими мечтаниями о «Пруде Цветов», процитированными чуть выше.
В стихотворении № 15 он недвусмысленно и настолько прямо, что это весьма четко просвечивает сквозь исторические аллюзии, замечает, что власть приближает к себе не тех, кто мог бы составить славу государства:
Советнику Го Вэю яньский князь Построил золоченые чертоги. Цзюй Синь из Чжао прилетел тотчас, Сам Цзоу Янь явился на пороге. А те, чья слава нынче высока, Меня, как пыль дорожную, откинут. Потратят на забавы жемчуга, А мудрецу — довольно и мякины?! Что ж, Желтым Журавлем, чей путь высок, Взлечу я в выси неба, одинок.А стихотворение № 24 цикла — жесткая инвектива против вельмож, замкнувшихся в своем богатстве и высокомерии, и горечь осознания скудоумия властной верхушки, неспособной отличить истинного мудреца от корыстолюбивого льстеца:
Кареты поднимают клубы пыли, Тропы не видно, в полдень меркнет свет. Вельможи тут немало прихватили Заоблачных дворцов, златых монет. Вон на дороге «петушиный парень»[63] — Нарядная карета, важный вид, И рвется изо рта столь грозный пламень, Что встречный от такого убежит… А кто ж, как Сюй, омывший уши встарь, Понять сумеет, где — бандит, где — царь?В хронологическом собрании Ань Ци эти стихотворения стоят под 731 годом, и важно тут, что это непосредственные личные наблюдения поэта за жизнью придворной верхушки, сделанные не «изнутри», а «снаружи» — «человеком в холщовом платье» (то есть простолюдином), как любил представлять себя Ли Бо.
И все-таки в тот же период начала 730-х годов Ли Бо по-прежнему выплескивает из себя как крик несгибаемой души, как некий свой «символ веры» первое стихотворение из небольшого цикла «Трудны пути идущего»:
Вино отборное на тысячу монет, Еда отменная на десять тысяч чохов — Ничто меня уж сильно не манит, Сжимаю меч, и на душе так плохо. Готов я переплыть стремительный поток, На Тайханшань к снегам нетающим подняться, И я бы у ручья с удой дождаться смог, До солнца бы сумел, хоть и во сне, домчаться. Трудны пути идущего, трудны! Куда ведут обрывистые горы? Но час придет, и я не убоюсь волны И выведу свой челн в безбрежные просторы.Поездка в Бинъюань (современный город Тайюань), совершенная в 735 году с приятелем, отец которого, влиятельный генерал, командовал местным гарнизоном, как впоследствии оказалось, имела для Ли Бо судьбоносное значение. Поэта привела сюда неуемная любознательность: он много писал о войнах, о воинах, о трудном быте солдата, и ему хотелось самому увидеть этот быт, а потому он обшарил в гарнизоне всё и вся. И однажды наткнулся на узника гарнизонной тюрьмы, ожидающего смертной казни, к которой его приговорил безжалостный суд. Ярлык преступника не оттолкнул поэта, и он сначала с любопытством, потом с состраданием расспросил его о причинах столь суровой кары.
Оказалось, что Го Цзыи, невысокого ранга армейский командир, отправился с группой солдат в горы за провиантом (травы и плоды) для своих подчиненных, но к положенному часу не успел вернуться в гарнизон, а это считалось весьма серьезным нарушением воинской дисциплины. Никаких оправданий (надвигалась зима, дождь перешел в снег, горные тропинки превратились в сплошное месиво, и командир не хотел измучить солдат, а собранное следовало доставить, иначе возникнет проблема с питанием) слушать не захотели. Суд был неумолим. Но Ли Бо увидел в Го гуманного человека высоких нравственных принципов и, воспользовавшись «личными связями» (отец приятеля), добился начальственного решения отменить приговор. Сам Го узнал имя своего спасителя лишь задним числом. А в 757 году, когда Ли Бо ожидал в тюрьме своей участи, Го чрезвычайно активно, с риском для собственной карьеры, вмешался в судьбу своего благодетеля.
Эти несколько лет Ли Бо нервно мечется по стране, словно не понимая, куда же ему приткнуться, где душе успокоиться. Порой возвращается домой в Аньлу, но и там ощущает себя неприкаянным и свои горькие мысли о нереальности высоких мечтаний в завуалированной, но достаточно очевидной форме высказывает в ироничном четверостишии о богине Запада Сиванму: она угостила императора У-ди божественным персиком, а когда тот возмечтал посадить его в своем саду, объяснила, что он предназначен не для простых смертных, а лишь для избранных, которые способны ожидать цветения и плодоношения три тысячи лет.
В 736 году Ли Бо вновь навещает друга-даоса Юань Даньцю в горах Суншань близ Лояна, где на крутой вершине, нависшей над мутной Хуанхэ, покоился пришедший из мифологической древности огромный «Камень матери из Ся»: по легенде, мать Великого Юя, ощутив родовые схватки, легла здесь на склон и обратилась в камень, из которого и вышел на свет мифологический герой.
Вариация на тему
Змеей извивалась внизу Хуанхэ, устремляясь на восток, в мистическую Бездну, скрывающую Острова Бессмертных, к западу склонялось солнце, окрашивая в пурпур, цвет даоского инобытия, поросшие лесом склоны. Трое друзей сдвинули чаши. «Выпьем! Не последнюю!» — «А деньги на вино?» — «Ах, что деньги! Коня продадим!» Впервые поэт обнажил нищету своего физического существования, компенсировавшуюся духовным богатством и щедростью трат. Он взрывается в хмельном поэтическом экстазе: «Кисть! Бумагу!» И пишет знаменитое «Выпьем!», своей хмельной лихостью и затаенной печалью близкое «Сянъянской песне»:
Вы видели, как Желтая река с Небес стекала И безвозвратно исчезала в море? Вы видели в больших дворцах власы в зерцалах? — С утра черны, а к ночи в снег их превращало горе. Бери от жизни всё, что радостно и мило, Да не скудеет тот бокал, что обращен к луне! Растрачу всё, чем Небо одарило. Что тысяча монет! Опять придут ко мне. Бычка прирежем, запечем барашка, Три сотни — разом! — опрокинем чаши. Ах, мудрый Цэнь, ученый брат Даньцю, Давайте выпьем-ка и вновь осушим! Ко мне склоните ваши уши, И я вам песенку спою. Что нам дворцы, где яств полны столы?! Пусть трезвость к нам, хмельным, и не придет. Мудрец всегда мирские отвергал дары, Стяжает славу только тот, кто пьет! Как Цао Чжи в пирах Беседки умиленья С вином за десять тысяч — это наслажденье! Ты думаешь, трактирщик, денег нет? Друзей я не оставлю без вина. Возьми-ка дорогого скакуна И шубу в тысячу монет, Пошли слугу ко мне за ними — и налей полней, Чтоб скорбь тысячелетнюю избыть в душе моей.Горечь столичных неудач не смягчается. Двадцать лет Ли Бо ищет могущественного покровителя, который выведет его на столичный тракт, и всё безрезультатно! Как же он не понимает, что высокий карьерный чиновник не пожертвует должностью ради какого-то поэта, пусть и безмерно талантливого, но с неясным, темным происхождением, потомка ссыльных, личности подозрительной? Да за это чиновник получит понижение сразу на три ступени служебной лестницы. Кому это надо?..
Душа погрузилась в океан отчаяния, в тридцать шесть лет появилась седина, спасают лишь вино и путешествия, и поэт то уезжает на восток в Юэ, то стремительно мчится на запад к Юань Даньцю. Этот период носит в либоведении наименование «поход в десять тысяч ли».
Стихотворение «Прощание с другом» отдает полынной горечью. В стихотворении уже нет пространства, простора, всё зажато, ограничено — горами, реками, обрывающимся в разлуке временем, горизонтом, за кроваво-закатной чертой которого исчезающей тучкой скрывается друг. И конь, словно оторванный от стада, жалобным ржанием подчеркнет тяжелое молчание разлуки.
В таком психологическом аспекте уже не столь важно, где написано это стихотворение. По предположению Ань Ци, в Наньяне (нынешняя провинция Хунань); по утверждению шаньдунских ученых, уже в Яньчжоу. Последняя версия интересна тем, что связывает персонаж этого текста с Ду Фу и дает новую датировку их первой встречи.
Ли Бо уже живет в Яньчжоу, и туда навестить отца приезжает Ду Фу. Вот тут-то, а не через несколько лет, в Лояне или Бяньчжоу, судьба, считают шаньдунские исследователи, и сталкивает их. Ли Бо — уже известный мастер, Ду Фу — ученик по сравнению с ним. Один — высок и могуч, чуть простоват и резковат, порывист; другой — среднего роста, худощав, сдержан и молчалив. «Вода и камень, стихи и проза…» Один — в «холщовой одежде» простолюдина, другой — из сановитых кругов… Но уже с первого взгляда им становится ясно, что их энергетические ци содержат одинаковый заряд.
Вариация на тему
Они гуляют вдоль реки Сыхэ, утекающей в сторону Цюйфу, переходят через мост, который еще не имеет не только сегодняшнего названия Девяти святых, а и прежнего, давнего, но возникшего уже после Ли Бо, в память о нем, — мост Хмельного святого, заходят друг к другу в дом, и когда настает час отъезда Ду Фу, садятся на коней, и Ли Бо провожает нового друга до кумирни Яо с ее ханьскими и вэйскими истуканами, выглядывающими из-за стволов старых сосен. За их спинами — деревня Наньлин, где стоит дом Ли Бо (а сегодня — железнодорожный вокзал). От недалеких Песчаных холмов ветер несет желтый песок, и неведомо, от него ли, от грусти ли разлуки глаза друзей заволакиваются слезами. В северном направлении над стеной административной части города, опоясанной двумя окрашенными закатом реками, виднеются зеленые склоны гор, и розовая тучка спешит покинуть небосклон, сжимая сердце провожающего своей сиротской беззащитностью. Как одинокая травинка, вырванная ураганом, как лишенный корней чертополох, уходит друг, взмахнув рукой, в сторону вечерней зари. Жалобно окликают друг друга кони. Время — что поток Сыхэ. Встретимся ли мы еще?
На севере — зеленых гор стена, К востоку — вод излучины видны. Здесь нам с тобой разлука суждена, Травинки ураганом сметены. Летучей тучкой растворится друг, Заката грусть разлив в душе моей, И на прощанье — лишь отмашка рук Да жалобное ржание коней.Заждавшейся жене Ли Бо пишет стихотворение «Долгая разлука» о «пяти цветениях персика» без него (он уехал из дома в 730 году на три года и затем в 738 году еще на два), о том, что «тоска, точно снежные вихри», о тщетном ожидании ветра с востока, несущего весну, об осыпающихся листах, обнажающих мшистые корни.
В 735 году, как сказано в «Старой книге [о династии] Тан», Ли Бо «вновь вернулся вспахивать свое поле». Но это было поле не его семьи, а выделенное еще тестю, в семью которого вошел Ли Бо, и потому, когда умер тесть, а шурин в резкой форме заявил свои права на наследование всего имущества, гордый Ли Бо увез жену с детьми в свое каменное убежище в горах Байчжао.
В Чунлин под городом Цзаоян на полпути между Аньлу и Сянъяном пришлось возделать бесхозный пустырь, который и давал им сезонные средства к существованию. Сянъянские власти выделили поэту из городских запасов зерно для посева, нашли в своих структурах мелкую синекуру, отнимавшую мало времени, но все же дающую какой-то доход. В благодарственном поэтическом письме Ли Бо с горечью заметил: «Еще не подобралась старость, / Но осень рано забелила». В стихах этих лет у него особенно часто встречаются образы осени, опадающих листьев, закатного светила.
На этой ноте завершился романтический период семейной жизни Ли Бо в Аньлу. Когда это произошло? В литературе — большой разнобой: 735 год (Ван Ци, Ван Яо), 736 год (Чжань Ин, Го Можо и все шаньдунские исследователи), 739 год (Юй Сяньхао), 740 год (Ань Ци). Шаньдунцы обратились к архивным записям о подворной регистрации жителей, которая, как сказано в «Старой книге [о династии] Тан», начинается с того момента, как ребенку исполняется год, и повторяется каждые три года.
У Ли Бо в течение жизни было три места длительного семейного проживания: в юности в Шу, после женитьбы в Аньлу и затем в Восточном Лу (после бегства из Лу от мятежников у поэта даже не было постоянного дома!). В Шу он был зарегистрирован в семье отца; в Аньлу — в семье тестя (и в этих двух местах не имел собственного семейного поля). Найдена запись о том, что весной 736 года Ли Бо «покинул двор» в Аньлу и к 12-й луне 24-го года Кайюань (это уже должно быть начало 737 года) получил в Лу как глава семьи, «не имеющий собственности», семейное поле «по месту нахождения дома или рядом с ним». В стихах он называл его гуйиньтянь, что дословно означает «поле на теневом (то есть северном) склоне Гуйшань» (гора в южной части нынешнего уезда Синьвэнь провинции Шаньдун, то есть на территории Восточного Лу около дома Ли Бо).
Вполне возможно, что фактический переезд состоялся не сразу и некоторое время семья жила в каменной хижине Ли Бо в горах Байчжао. И лишь после этого они уехали в Восточное Лу (полоса в границах современных провинций Шаньдун и Хэбэй к востоку от хребта Тайханшань). Танский топоним Шаньдун не идентичен названию современной провинции Шаньдун и очерчен несколько иными границами, хотя оба названия записываются одними и теми же иероглифами; возможно, танский топоним в русском языке стоило бы снабдить разделительным дефисом «Шань-дун». В танское время это обозначало «[территорию] к востоку от горы [Тайхан]», на которой и лежало древнее царство Лу.
Почему именно Лу? Сам Ли Бо объяснял это тем, что хотел поднять свой уровень владения боевым оружием, «поучиться мастерству фехтования» у знаменитого шаньдунского мастера, которого он навестил еще до переезда. В истинности такой формулировки, возможно, скрывающей подлинные причины, есть сомнения.
Впрочем, существует версия, что со знаменитым и мудрым генералом Пэй Минем Ли Бо все же встретился, но тот убедил его не менять «широкий путь» великой поэзии на «узкую тропу» боевых схваток. Ведь сам поэт прекрасно понимал, что «одной стрелой могу я город покорить», как он писал в стихотворении. Итогом этой поездки в Шань-дун было то, что поэта очаровали эти романтичные места и он решил сменить место жительства.
Но нельзя ли предположить, что даоско-ориентированный юг своими более легкими нравами «ветра и потока» расслаблял Ли Бо, склоняя его к поэзии, а государственническое начало в нем сопротивлялось, взывая к долгу служения? Более северные края Шань-дуна были теснее завязаны на строгих чжоуских ритуалах, канонизированных Конфуцием. И Ли Бо поселился неподалеку от мемориала Цюйфу, войдя в незримую и святую для каждого китайца ауру Учителя Куна.
В его отношении к Лао-цзы и Чжуан-цзы, с одной стороны, и Конфуцию — с другой, существовала такая же грань между интимной родственностью и почтительностью, как в его отношении к великим рекам Китая — южной Янцзы и северной Хуанхэ. Если продолжить сравнение, то в стихах Ли Бо Янцзы упоминается гораздо чаще, чем Хуанхэ (соотношение 315 к 121); о мемориале Конфуция он практически не писал, ни находясь в отдалении, ни рядом, хотя самого Учителя поминал (как и его сына Боюя), и часто в равновеликой близости с самим собой.
Эта равновеликость сближается, а порой и соединяется поэтом с самоотождествлением:
Уж боле нет былых Великих Од, Кто их создаст теперь, когда я стар? <…> «Отсечь и передать» высокий смысл Обязан я, чтоб гаснуть свет не мог. Мечтаю, как Учитель, кончить мысль В тот миг, когда убит Единорог. («Дух старины», № 1)Это написано, кстати, в период разрыва с императорским двором, в годы странствий и размышлений не столько о проблемах государства, сколько о проблемах поэтики, гармоничности стиха и его смысле, более важном, чем форма; в период решения личных проблем — именно в 750 году Ли Бо в Бяньчжоу — современный Кайфэн — женится во второй раз.
Уж куда откровеннее представлять себя «современным Конфуцием»?! Но Конфуций был целен, создал школу, воспитал учеников, передавая эстафету своих мыслеуложений, нацеленных на определенные формы государственного строительства.
Трагедия Ли Бо — в его дисгармоничности. Это нечто вроде того, что «поэт в России больше, чем поэт». Родовой потомок Лао-цзы, рожденный в «иньский» осенний вечер, обласканный луной, он тянулся к самоотождествлению с Конфуцием, к «янскому» солнечному свету, и этот дисбаланс рвал его на части. Его жизнь должна была быть другой, гораздо менее социологизированной. И душа рвалась на части, формируя трагическое мироощущение:
Как перл, сверкая, Феникс прилетел, Небесной глубины прорезав синь, Но был отвергнут — вот его удел, Не приняли посланье в Чжоу-Цинь[64]. Отчаявшись, брожу по свету я, Бездомный, одинокий человек. Мне так нужна Пурпурная ладья[65] — Мирскую пыль отрину я навек. («Дух старины», № 4, 754 г.)У самого Ли Бо есть намек на время переезда в Шань-дун: говоря в одном из эссеистических произведений о «хмельном пустынничестве в Аньлу», он прибавляет, что оно «тянулось десять лет». Поскольку 727 год как начало жизни в Аньлу принят всеми, то 736–737 годы можно было бы считать документированной датой переезда в Шань-дун, как это и делают шань-дунские ученые, если бы Ли Бо не был человеком Средних веков и к тому же поэтом и не округлял цифры, порой с достаточно большим отступлением от арифметической точности.
Восточное Лу было ленной территорией в районе Цюйфу, пожалованной чжоуским У-ваном своему младшему брату Даню, известному по титулу Чжоу-гун, то есть Чжоуский князь — канонической фигуре китайской истории. В танское время понятие Восточное Лу подразумевало именно Яньчжоу как область, объединяющую одиннадцать уездов — Сяцю, Цюйфу, Жэньчэн, Сышуй и другие (я перечислил лишь те, которые так или иначе связаны с пребыванием там Ли Бо). Центром этой территории был город Сяцю, где располагались административные учреждения.
Где находился дом Ли Бо? Долгие годы назывался Жэньчэн (современный Цзинин), сейчас говорят о соседнем городе Яньчжоу (в часе езды от Жэньчэна на добром коне), и эту версию особенно отстаивают шаньдунские исследователи, живущие в Яньчжоу, а за Жэньчэн ратуют, и весьма яростно, те, кто живет в Цзинине.
Главным опорным пунктом аргументов цзининцев является то, что в Жэньчэне будто бы существовало лишь одно-единственное питейное заведение (утверждение, кстати, весьма сомнительное), и это был «кабачок Ли Бо», который тот держал, что подтверждено еще в танское время «Записками о кабачке Ли Бо». Судя по тому, что это было лоу — «здание», а не цзя — «дом», заведение имело внушительные размеры, на втором этаже, вероятно, жила семья Ли Бо, а во дворе подрастало персиковое дерево, посаженное хозяином — самим поэтом. Через три года, будучи в Цзиньлине, он нередко представлял себе, как грациозная Пинъян срывает розовые цветки с веток, а рядом с ней стоит подросший малыш Боцинь. Это был только сон, в Восточное Лу улетала лишь душа Ли Бо, невидимая для Пинъян, и по щекам ее текли слезы тоски по отцу. Все это поэт описал в посланном детям с оказией стихотворном письме, включающемся в собрания сочинений под названием «Двум моим малышам в Восточное Лу». Это стихотворение тоже служит для цзининцев доказательством того, что поэт жил в их городе.
В Яньчжоу памятных знаков осталось крайне мало, но местные исследователи сумели вычертить схему, на которой обозначены тогдашний административный центр города и все точки, связанные с Ли Бо. Они определили, что в Лу поэт создал пятьдесят одно стихотворение, из которых тридцать девять — в Сяцю (то есть в Яньчжоу), только два — в Жэньчэне и одно — в Цюйфу.
Место, где стоял дом Ли Бо, по версии патриотов Яньчжоу, находилось к востоку от административного центра Сяцю с резиденцией областного начальника и называлось Наньлин цунь (Поселение у Южного кургана) — сейчас там построили железнодорожный вокзал города, а район называется Линчэнчжэнь. В 1930-е годы там еще стояла плита с надписью «Есть предание, что это древний Ланьлин». Исследователи полагают, что тут произошла подмена созвучий — Наньлин превратился в Ланьлин, и оба названия встречаются в стихах Ли Бо («Славное ланьлинское на травах — / Блеск янтарный в яшмовых оправах…»).
В стихах Ли Бо часто употреблял как место нахождения своего дома словосочетание Лу-чжун, что должно означать «центр Лу», административную часть, то есть Сяцю, окруженную стеной с четырьмя воротами во все стороны света. За три десятилетия до поселения Ли Бо в Сяцю там находилась резиденция известного художника У Даоцзы, который в течение трех лет был тут сюаньвэем (помощником начальника уезда) и частенько исчезал из внимания выше- и нижестоящих, чтобы в глуши склонов или у ручья под стеной Цюйфу узреть сюжет будущего свитка. Чуть севернее восточных ворот, на краю района Шацю (Песчаные холмы), поэт и построил себе дом («Мой дом стоит на краю Песчаных холмов»). В 1993 году обмелевшая река Сыхэ открыла стелу, из надписи на которой явствует, что квартал Шацю здесь действительно существовал. Неподалеку от него через канаву Фэнъяньцюй и сегодня перекинут мосток, называющийся «Цзюсяньцяо» — Мост девяти святых. Предполагают, что изначально в память о Ли Бо он созвучно назывался Мостом хмельного святого — то же «Цзюсяньцяо», но с иным первым иероглифом.
Совсем рядом с домом поэта в окружении высоких сосен, поникших ветвями ив и питейных домов стояла кумирня Яо ханьского времени, а чуть подале, у Каменных врат, где была переправа через Сыхэ, — четыре каменных изваяния III века с надписями, объясняющими их происхождение. Два из них были найдены на дне реки Сыхэ и выставлены в музее в Цзинине, а на фундаменте Каменных врат сооружена дамба. Кумирня пережила Ли Бо, но не выдержала военных баталий и при династии Юань сгорела. В конце династии Мин (XVII век) на этом месте построили Терем Синего Лотоса в память о жившем тут Ли Бо.
Определена набережная реки Сыхэ, по которой среди розового цветения персиков гуляли Ли Бо и Ду Фу, рассуждая о поэзии; впоследствии Бо Цзюйи назвал эту набережную «северным истоком танской поэзии». Близ Наньлина найден район Шацю (Песчаные холмы — в 2005 году я сам бродил там по многочисленным кучам песка, остаткам карьера, а в 50-е годы XX века, рассказали мне, там еще возвышались и холмы), где Ли Бо писал стихотворное послание Ду Фу. Раньше полагали, что это самостоятельный город, а шаньдунцы установили, что «Шацю чэн» означает «город (или стена) у песчаных холмов», то есть Сяцю, центральный административный квартал города, окруженный стеной[66]. Улица же в те времена была еще той самой дорогой, по которой за Ли Бо прибыли посланцы императора и по которой он вслед за ними уехал к своему карьерному будущему, так и не состоявшемуся.
Девушка с цветком граната и глас трубы
Переезд в Лу ознаменовался печальным событием: ослабленная болезнью жена умерла в родовых муках. Пристроив детей у родственников, Ли Бо зачастил в питейное заведение «Хэлань» в Жэньчэне, где, продегустировав местную продукцию, остановился на «Ланьлинском» — сладковатом ароматном зелье, настоянном на травах. Луч вечернего солнца усиливал желтизну напитка, поблескивавшего, как янтарный сколок. Грусть неприкаянности не отпускала поэта. Он тяжело переживал свое одиночество, падение социального статуса с переездом в Восточное Лу, где его известность не была столь широкой, как в южных краях, нехватку средств на тот уровень жизни, какой считал достойным себя («Хмельной пришелец любит овощи осеннего урожая, / Подернутые инеем груши на подносе горных склонов» — строка из его стихотворения, показывающая типичный крестьянский рацион, на который вынужден был перейти поэт). Вспоминал ушедшую жену, покинутый отчий край и поглощал чашу за чашей — чтобы хмельное забытье унесло его в беззаботное детство, иллюзорно реставрировало оборвавшийся счастливый брак.
Кому покажется, что я неубедительно нарисовал настроение поэта, пусть прочитает стихотворение «В гостях» как раз конца 730-х годов. И подумает, как много в стихах Ли Бо сиротливых травинок, цветков, дерев: это же всё о себе, о своей душе, редко слышавшей эхо созвучия.
В заведении поэт и познакомился с местным шэньши лет шестидесяти с чем-то по фамилии Лю, сразу же принявшимся строить амбициозные планы своего будущего с участием знаменитого поэта. Лю жил в соседнем доме, за стеной, и из окна заведения можно было видеть гранатовое дерево, раскинувшее ветви в его дворе. Кроме дерева росла еще у соседа дочь лет семнадцати, и, вероятно, она-то и была главной причиной настойчивого приятельства шэньши с известным поэтом. Девушка обрывала розовые цветы и втыкала их себе в прическу, украдкой поглядывая на окно питейного заведения, сквозь которое любовался ею Ли Бо. Раз, другой, третий… А потом он — поэт, как-никак! — возьми да и напиши на обрывке старого свитка стихотворение: «…Был бы я гранатовою веткой, / Потянулся к платью бы соседки. / Мне, увы, такого не дано — / Лишь гляжу в цветистое окно» («Слава гранату соседки с юго-восточного двора»).
Символика растений — в традициях китайской поэзии: лианы — тягость разлуки, цветы персика — весенние чувства, лотос — осенняя тоска, ива — любовное томление, сосна, кипарис — прямота и верность, красные бобы — думы о любимом… А вот вставить в этот ряд, связав с чувствами, гранатовое дерево да еще в его подвиде, пришедшем, по одной версии, из Кореи, по другой — из Персии, решился только Ли Бо.
Уж не знаю, каким образом — то ли ветер подшутил, то ли кто обрывочек со стола прихватил, — но эти игривые чувства стали известны соседу, случая не упустившему, и девушка с цветком граната в прическе стала приглядывать за детьми Ли Бо, помогать по хозяйству, а Ли Бо углубился в свои стихи, музицирование на цине, встречи с друзьями. И снова потекла у него жизнь — совсем как семейная.
У исследователей нет единодушия: одни пишут, что сыграли свадьбу по всем правилам ритуала, другие — что было это «диким браком», то есть просто сожительством, быстро оборвавшимся, потому что дева с гранатовым цветком оказалась обладательницей вздорного характера. А по городу Цзинин уже тысячу с лишним лет гуляет легенда о дочери трактирщика (в другом варианте — владелице трактира), с которой ненадолго сошелся бесшабашный великий поэт, но, быстро отрезвев, навеки пригвоздил ее клеймом «дура из Гуйцзи».
Как и в Аньлу, поэт нашел себе убежище в горах — в Цулай, к югу от знаменитой горы Тайшань, не больше суток от Яньчжоу на добром коне. Возможно, эти горы он выбрал не случайно — они стояли на территории древнего царства Ци, откуда был родом Лу Лянь, древний исторический герой, которого Ли Бо почитал за независимость и «протестные» настроения:
Лу Лянь был всем известный книгочей, В былое время живший в царстве Ци. Так перл луны, восстав со дна морей, На землю изливает свет в ночи. («Дух старины», № 10)Отведенное Ли Бо как зарегистрированному гражданину Шань-дуна пахотное поле (ему было положено 100 му) он регулярно обрабатывал, и урожай приносил средства к существованию. Туда зачастили друзья, помогавшие поэту в физическом труде, а затем совместно предававшиеся отдыху в пирах и умствующих беседах.
В истории закрепилось их общее прозвание — «шестеро анахоретов с Бамбукового ручья». Кроме самого Ли Бо это были Кун Чаофу, Пэй Чжэн, Хань Чжунь, Чжан Шумин, Тао Мянь — «обитатели лазурных облаков», как именовали людей высокого интеллектуального и нравственного уровня. Они бродили по нехоженым горным тропам, ловили луну в шаловливом ручейке, отдыхали на плоских камнях, нагретых солнцем, время от времени лениво протягивая руку к пустеющему кувшину с вином, наигрывали на семиструнном цине и пели, пели, пели друг другу стихи — известные и любимые и только что сочиненные.
Со стороны могло показаться, что время для Ли Бо остановилось, лишенное активных созидающих действий. «Питие и погружение в Дао играют наркотическую роль» [Чжу Чуаньчжун-2003. С. 124]. Но не в смысле отвлечения от реальности, а как раз наоборот — как средство вхождения в иную реальность, как способ внутренней трансформации. «Ли Бо совершил восхождение на гору Пэнлай… Автор полагает, что Ли Бо, несомненно, побывал на Пэнлае, он не мог пройти мимо этого места, где обретаются бессмертные и святые… Он не только взошел на „высокий холм, напоминающий Куньлунь“, но и беседовал с Морским гостем о дереве Фусан» [Фань Чжэньвэй-2002. С. 324–325]. Так, без тени иронии, написал Фань Чжэньвэй, исследователь серьезный и нестандартный.
А какая тут может быть ирония? И остров святых Пэнлай, и уплывший по реке Хуанхэ в Небо Морской гость, и растущее до самого Солнца дерево Фусан — для нас «сказка», а для Ли Бо все это было реальностью, которой возможно достичь. И когда другой «гость» — купец, с которым Ли Бо познакомился в 741 году, — предложил поэту путешествие по Восточному морю в сторону залива Бохай, отказаться сил недостало. С вершины Лаошань (около современного города Циндао на Шаньдунском полуострове) Ли Бо смотрел на уходящую в бескрайность морскую поверхность — и реально видел островок, от которого по повелению Цинь Шихуана отплыл в Восточное море к Пэнлаю за Эликсиром бессмертия Сюй Фу. Разбросанные чуть в стороне у побережья огромные камни напомнили ему о попытке Цинь Шихуана проложить каменную дорогу через море — туда, где восходит солнце.
А на более южной части побережья, в местах древнего царства Юэ, Ли Бо прозревал все три священных острова бессмертных в пяти тысячах ли от берега. По Восточному морю поэт плавал трижды, и это была для него не «турпоездка», а духовная трансформация в мифологический хронотоп.
На четвертую луну первого года Тяньбао (начало лета 742 года) Ли Бо надолго отправился на священную гору Тайшань и в последующем цикле из шести стихотворений («Восхождение на Тайшань») изобразил этот процесс как перемещение в сакральный мир, общение с обросшими перьями небожителями на белых оленях. Там ему было так хорошо, что в финале он размечтался о «пилюле бессмертия» и «вознесении на Пэнлай».
Характерно, что в самом поэтическом цикле процесс подъема на гору обозначен глаголом ю, который в «земном» смысле употребляется в контексте путешествий, прогулок, а в «небесном» связан с перемещением небожителей (в классификации традиционной поэтики есть категория юсянь, которая в отечественной синологии обычно, основываясь на материале большинства произведений этой тематики, переводится как «путешествия к святым», или, быть может, лучше сказать, «полеты к святым», «вознесение к святым»; у Ли Бо же этот классификационный термин лучше обозначить как «полеты со святыми», — подробнее об этом см. в следующей главе).
То есть всё это время в Ли Бо стремительно развивался процесс очередного погружения в даоско-буддийскую отрешенность от не принявшего его мира людей, полного бед и горечи. Процесс был подкреплен тем фактом, что в старом здании на заставе Ханьгу (современная провинция Хэнань), через которую некогда удалился в пустыню Лао-цзы, оставив начальнику заставы свою рукопись «Дао Дэ цзин», — был обнаружен «амулет Лао-цзы», по случаю чего император Сюаньцзун объявил о смене девиза своего правления на Тяньбао (Небесное сокровище). Древним даоским патриархам были присвоены почетные титулы, некоторые города получили новые названия, поднялся всплеск посещения даоских святилищ и строительства новых храмов.
Вот на таком фоне Ли Бо в компании своих «анахоретов» совершил восхождение на Тайшань — священную для даосов гору, на которой находился второй из тридцати шести сакральных гротов — выходов в инобытие, где «Дух взлетает к четырем пределам, / Как в новый мир меж Небом и Землей» («Восхождение на Тайшань», стихотворение № 3).
Он еще не ведал, что в 741 году верный друг Юань Даньцю получил вызов от императора, на который откликнулся, и в столице они с Юйчжэнь, благоволившей к поэту, раздираемому даоской отрешенностью от мира и конфуцианским служением миру, самым тщательным образом подготовили поворот в судьбе Ли Бо. А Сюаньцзун как раз прочитал в исторических хрониках о ханьском императоре У-ди, коего прославили не столько государственные деяния, сколько велеречивая кисть придворного поэта Сыма Сянжу…
Вариация на тему
На восьмую луну осень затяжелела красноватыми гранатами, которые Ли Бо собирал вместе с сыном, ловко, как обезьянка, прыгающим по толстым ветвям. Это было родовое время Ли Бо, близился праздник Середины осени, который поэт собирался отметить со своими «анахоретами» и уже по этому случаю послал Даньша за свежим, уже нынешнего урожая «Ланьлинским». А может, велел поставить на стол более крепкое белое шаоцзю, то есть водку собственной возгонки? Впрочем, стихи Ли Бо не показывают его пристрастия к избыточно крепким напиткам, разве что как-то он с одобрением вспомнил, что поэт Тао Юаньмин выделенное ему поле засеял просом и собственноручно готовил из него неслабое зелье…
И вдруг на ведущем к резиденции областного начальника тракте, близ которого стоял дом Ли Бо, раздались трубный глас и тяжелый стук копыт. Но он не промчался мимо — ко дворцу, а остановился у дома поэта. Императорские гонцы доставили государев указ: «Не позже десятого дня прибыть в столицу. Промедление подлежит наказанию».
Наконец-то! Сюаньцзун призывал к себе Ли Бо!
«Десять тысяч лет нашему государю! Десять тысяч лет! Десять тысяч раз по десять тысяч лет!» — возопил поэт, опустившись на колени и не помня себя от счастья, но твердо блюдя положенный ритуал.
Ах, как глупа была эта девица с гранатовым цветком в волосах, как же ее прозывали? Лю, кажется. Ну, совсем как жена того Чжу Майчэня из Ханьской древности, которая поспешила уйти от нищего мужа, торговавшего хворостом, а тот вскоре был призван императором У-ди и получил высокое назначение! А вы, дети, представьте себе, что через год я в лиловых одеяниях высокого сановника заеду за вами, чтобы перевезти в столицу. Вы встретите меня радостными песнями и возгласами и накроете обильный стол с жирной курицей и белым вином…
Эта картинка — не авторская выдумка, а мысли самого Ли Бо, просто переложенные в прозаическое повествование: именно так в стихотворении «Перед отъездом в столицу прощаюсь в Наньлине с сыном» Ли Бо, не скрывая ликования, живописал, уезжая по государеву вызову, свое грядущее триумфальное возвращение в дом у Песчаных холмов.
Есть версия, что вызов в столицу пришел годом позже, а после восхождения на Тайшань поэт отправился в Юэ, где на горе Гуйцзи встретился с влиятельным даосом У Цзюнем, который в столице рассказал о Ли Бо наставнику наследника Хэ Чжичжану, и тот уже сумел организовать вызов от императора[67]. Однако пока основная масса исследователей придерживается версии 742 года.
Кажется, начинало сбываться то, во что он, стиснув зубы от неудач, верил десять лет назад, написав стихотворение «Трудны пути идущего».
Глава пятая СОЛНЦЕ СКРЫВАЕТСЯ В ТУЧАХ (742–744)
Десять тысяч лет императору!
Итак, зрелой осенью 742 года, оставив детей в своем доме в Наньлине в пределах города Яньчжоу под присмотром жены преданного слуги Даньша, Ли Бо пристегнул меч и в сопровождении Даньша (какой же рыцарь без слуги?) верхом отправился в далекую Западную столицу Чанъань воплощать давние мечты служения государю во имя совершенствования жизни в империи.
Наивному поэту не приходило в голову, что прямые вызовы от императора были исключительно функциональны, предусматривая необходимость использовать рекомендованного приближенными сановниками человека на каком-то узком конкретном поприще. И отнюдь не на высоком административно-государственном посту — туда вела иная лестница, каждой своей ступенькой прибавляя восходящему по ней определенный профессиональный, житейский и — далеко не в последнюю очередь — карьерный опыт.
Как ханьский император У-ди нашел себе — в том же, кстати, крае Шу — блестящего придворного пиита Сыма Сянжу, так и танский Сюаньцзун, не слишком озабоченный государственными делами, предпочитая им пиры да забавы с наложницами, предвкушал блестки талантливых стихов Ли Бо, посвященных его мудрому правлению и ослепительным красавицам гарема, первой звездой в котором была несравненная Ян Юйхуань — «Тополь с яшмовым браслетом» — родом все из того же края Шу, которая только в 734 году стала наложницей Шоувана, государева сынка, спустя шесть лет перебралась в императорские покои и вскоре прибавила к своей фамилии Ян высший дворцовый титул Гуйфэй (Драгоценная наложница). Это одна из самых знаменитых дворцовых фавориток в истории Китайской империи — не только из-за своей красоты, но и в большей степени из-за трагического жизненного финала.
Столица, которая к началу IX века разбухнет до миллиона человек, стремительно развивалась вот уже полтора века. Ее начали строить еще в конце VI столетия на пустыре невдалеке от руин легендарной столицы Цинь Шихуана — центра первой империи Китая. Но неспокойные века не позволили городу укрепиться, и постепенно он запустел, тем более что и возведен был на возвышенном неудобье, лишенном воды — и для питья, и для транспортных сообщений.
Новый Чанъань, сдвинувшийся чуть в сторону, был богат реками, каналами, озерами и прудами, вокруг которых зеленели парки. Спокойствие столичному городу гарантировала окружившая его каменная стена, на башнях которой день и ночь дежурили вооруженные бойцы, а по городу каждые четыре часа проходили с колотушками дежурные, отмечавшие движение времени сквозь тревожную ночь к занимающемуся рассвету новых надежд.
Развеет дымку утренний петух — Вельможи во дворец спешат толпой, Пока последний лучик не потух На середине башни городской. Небесный свет в уборах отражен, Когда выходят из дворцовых врат, Конь под седлом — стремительный Дракон, И удила злаченые горят. Шарахаются путники с дорог, Надменный дух превыше Сун-горы. А в теремах расставлен ряд треног — Их дома ждут обильные пиры…Так в 18-м стихотворении цикла «Дух старины» Ли Бо живописал заботы придворных карьеристов.
Территория столицы занимала 250 квадратных километров, из которых на восьмидесяти жили горожане, а остальное пространство (в северной части) занимал бесконечный императорский комплекс из нескольких дворцов и парков со своей внутренней каменной стеной, крепостным рвом и восемью внушительными красными воротами. 108 кварталов города с севера на юг рассекались девятью широкими трактами, а с востока на запад — дюжиной более узких улиц. На двух самых широких (до 145 метров), текущих по городу с запада на восток и с юга на север, могли разъехаться несколько экипажей. Путь в закрытый императорский комплекс, красной стеной наглухо отгороженный от остальной части города, преграждали высокие, массивные ворота Чжуцюэ. Через широкую площадь к воротам вела кипарисовая аллея, по которой то и дело тяжело проносились экипажи с самыми важными сановниками в пурпурных халатах, подпоясанных яшмовыми поясами, или с чуть менее значительными вельможами в малиновых халатах, подтянутых золотыми поясами, или с еще более мелкими (в дворцовом масштабе) фигурами в зеленых халатах с серебряными поясами.
В восточной части Чанъаня жила вельможная аристократия, в западной — простолюдины, а внутреннюю южную часть у городской стены занимали поля, сады, огороды. К столичной роскоши тянулся самый разный люд, и население Чанъаня было весьма пестрым, так что Ли Бо мог там услышать знакомый говор «западных варваров» и увидеть не только даоских или буддийских монахов (в начале VIII века там, помимо шестнадцати даоских и более девяноста буддийских монастырей и храмов, существовали также святилища нескольких среднеазиатских религий)[68].
Вскоре после приезда Ли Бо в столицу ему была назначена высочайшая аудиенция. Время было патетичным. В зале Сокровенной Изначальности монастыря Пурпурного Предела выставили недавно обнаруженное сокровище — изображение Лао-цзы на черном буйволе. За полтора года до того, весной 741 года, картина вошла в сон императора Сюаньцзуна и затем мистическим образом возникла на стене обители на горе Чжуннань близ Чанъаня. В ознаменование этого события император и повелел возвести храмы Лао-цзы в обеих столицах и окружных центрах. Все они были сначала названы кумирнями Повелителя Сокровенной Изначальности, затем Пурпурными Пределами, но в 743 году переименованы: чанъаньский стал Высшей Чистотой, лоянский — Высшим Таинством, а монастыри в окружных центрах остались Пурпурными Пределами. В монастыре, по одной из версий, произошло знакомство сорокадвухлетнего Ли Бо с восьмидесятитрехлетним Хэ Чжичжаном, ставшим его другом и в дальнейшем оказавшим на поэта огромное влияние.
Когда вскоре Хэ Чжичжан прочитал написанное десятилетие назад стихотворение Ли Бо «Трудны дороги в Шу», одно из самых свободных, раскованных произведений китайской поэзии[69], он в изумлении поднял брови, четырежды вздохнул и сказал, потрясенный: «Это не человек нашего мира, это святой, низвергнутый с Неба». И прибавил: «Он исторгает слезы у духов небесных». Снял с груди золотую черепашку, знак чиновника высокого дворцового ранга, и, не колеблясь, протянул ее трактирщику: «Неси вино!»
Словосочетание «низвергнутый святой» в танское время было распространенным разговорным обозначением незаурядного человека, но как постоянная характеристика оно прилипло лишь к Ли Бо и закрепилось за поэтом навеки. Его можно рассматривать шире, чем оценку только поэзии, — это, как полагает профессор Сюэ Тяньвэй, «оценка духовности самого Ли Бо, создающая дистанцию между ним и обычным человеком бренного мира» [Изучение-2002. С. 25].
При этом нельзя не подчеркнуть, что «небесная аура» поэта не была озвучена им самим, а воспринята извне, то есть она активно выходила за пределы его личного «Я». И это, думается, еще одно объяснение неприкаянности поэта, его чужеродности как вечного «гостя» (кэ): его воспринимали не как «своего», а как «пришельца», ощущая некий ментально-психологический барьер. Надо заметить, что оппозиция «свой — чужой» во всех культурах стоит достаточно остро, но для китайского менталитета — особенно: это один из системообразующих скрепов национальной ментальности.
Казалось, звезда Тайбо, наконец-то, взошла на небосклон, приблизившись к Солнцу (традиционный метоним императора — Сын Солнца или Сын Неба). На высочайшей аудиенции в раззолоченном зале Дворца Просветления Сюаньцзун соизволил сойти с трона, усадил Ли Бо на «ложе семи сокровищ» и, отпив глоток ароматного бульона, собственноручно, не прибегая к помощи слуг, передал пиалу долгожданному драгоценному гостю. Так скупо повествует об этом Ли Янбин в «Предисловии к Собранию соломенной хижины». А любимая государева фаворитка Ян Гуйфэй угостила поэта редким виноградным вином, доставленным во дворец из западных краев.
Ли Бо без особого промедления был введен в академию Ханьлинь («Лес кистей», то есть литературных талантов), получив один из высших для «академиков» рангов дайчжао. Поначалу он воспринял это как не слишком значительный, но необходимый первый шаг к дальнейшему возвышению. Здание академии прилегало к западной стене Дворца Просветления как единый с ним комплекс, и таким образом поэт мог ощущать себя уже в ослепительном пространстве Сына Солнца.
Вариация из будущего, но на тему
Вместе с Дворцом Просветления, оскверненным мятежником Ань Лушанем, захирела и академия Ханьлинь. В Танскую эпоху этот комплекс еще продолжал функционировать, но при Сунах постепенно начал разваливаться и медленно уходить под землю. Сегодня он спит под крестьянскими полями, слыша уже не песни царственных развлечений, а мычание буйвола, влачащего плуг. Выросшие на межах вековые деревья углубили корни в развалины древних построек, обвивая их, как лианы. Я стоял, прислонившись к стволу такого дерева, и ощущал напряжение корней, пронзающих не метры — века и тысячелетия. Там, внизу, под моими ногами, распластались камни руин, помнящих Ли Бо! Токи энергетических субстанций, выходившие на поверхность, соединяли меня с теми событиями VIII века, в которых надломилась судьба великого поэта.
Время для взлета выпало не слишком удачное. Главного советника Чжан Цзюлина, почитавшего мудрость и талант, сменил откровенный карьерист Ли Линьфу, фигура авторитарная и мелкая, не терпевший книжников, позволявших себе вторгаться в его епархию — вершить дела императорского двора. Да и академию Ханьлинь возглавлял малообразованный Чжан Цзи, неудачный сын привечавшего таланты главного императорского советника начала 700-х годов Чжан Шо, но зато императорский зять, женатый на принцессе Нинцинь, любимой дочери Сюаньцзуна.
Не желавшая признавать тупую власть душа Ли Бо немедленно вошла в конфликт с главой академии, которому явно были чужды «руссоистские» взгляды поэта на абсолютный приоритет «чувства» над «разумом», отвержение «испорченной цивилизации» и эстетизм как основное мерило оценки мира. К тому же устав академии категорически запрещал ее членам пить вино. А Ли Бо демонстративно заявил: «Я на особом положении, государь знает, что во хмелю моя голова становится яснее и стихи пишутся лучше, а писать стихи — моя придворная обязанность, поэтому пить — это рабочая необходимость. К тому же я „винный гений“, и пить вино — моя первейшая жизненная потребность, запретить мне пить — все равно что запретить жить» [Се Чуфа-2003. С. 66].
Вариация на тему
«Первые проблески света на небе. После ночи возлияний, поделив по-братски одну постель на двоих, Ли Бо и Хэ Чжичжан дрыхнут без задних ног. Брезжит рассвет, кто-то настойчиво барабанит по воротам, слышны крики и топот копыт. Побеспокоенный шумом Ли Бо на миг открывает глаза, переворачивается на другой бок и снова погружается в сон. А Хэ Чжичжан уже сидит на кровати, прислушиваясь к возне за окном. „Откройте! Да открывайте же! Скорее! Прибыл императорский посыльный!“ … — „Кто здесь будет господин Ли Бо? Император приказал доставить его во дворец ‘Процветания и радости’, ему назначена аудиенция в павильоне ‘Радения государству’, и ‘небесный конь воспарившего дракона’ ждет у ворот“…
Миновав ворота „Процветания и радости“, всадники стали спешиваться. И тут Ли Бо увидел, как император в сопровождении принцессы Юйчжэнь и своих приближенных вельмож вышел из дворца и самолично стал спускаться по тронной лестнице им навстречу. Генерал дворцовой стражи, помогавший Ли Бо слезать с коня, пал ниц…
Император и поэт, чуть ли не плечо к плечу, вошли во дворец. „Известно ли уважаемому Ли Бо, почему Сын Солнца пожелал видеть его?“ — „Думаю, известно“. — „Да?“ — „Не иначе как император желает поручить мне важные государственные дела, хочет, чтобы я помогал ему править народом, нести мир государству“. — „О? — Император от удивления чуть не лишился дара речи; придя в себя, подвел Ли Бо к Ли Линьфу и Ян Гочжуну: — Вот наши советники. Если речь идет о мире и спокойствии — им нет равных по таланту среди современников… А это — военный губернатор области Пинлу генерал Ань Лушань. — Император остановился перед грозно вращающим глазами военачальником могучего телосложения. — Хотя он, разумеется, не обладает талантами литератора, как наш дорогой Ли Бо, но на пограничных рубежах атакует вражеские города, берет штурмом крепости, казнит предателей, захватывает знамена, подобно бешеному вихрю, сметающему опавшую листву. Среди боевых генералов нет ему равных!.. А на Ли Бо мы возлагаем совсем иные надежды, ни к государственным делам, ни к военной службе отношения не имеющие. Наша страсть — рифмы, наша стихия — песня и танец, так стоит ли уважаемому Ли Бо волноваться, что его таланту не найдется применения? Жалую вам титул Придворного поэта, академика Ханьлинь. Быть все время подле своего императора — разве не более достойное для Ли Бо назначение?!“ — завершил свою речь император.
Лишь после того как принцесса Юйчжэнь легонько подтолкнула Ли Бо в спину, он наконец-то сообразил упасть на колени перед императором: „Ничтожный слуга благодарит за оказанную милость Неба!“».
(Бай Хуа. Поэт Ли Бо. Киносценарий. Перевела Н. Демидо [Книга-2002. С. 105–106])Хэ Чжичжану Ли Бо обязан единственной предоставленной ему в столице возможностью выйти за пределы строго обозначенных обязанностей придворного стихотворца. В хрониках это получило наименование «Набросок ответа на варварское послание». Воинственное племя туфаней, которое танские государи не раз пытались утихомирить, посылая в дар красавиц-наложниц (принцессу Вэньчэн, дочь Тайцзуна, позже принцессу Цзиньчэн, дочь Чжунцзуна), вдруг атаковало город Шибао (современная провинция Цинхай) и разгромило оборонявший его императорский гарнизон, после чего решило восстановить добрососедские отношения. Однако, как повествуется в новелле XVII века[70], высокомерное посольство привезло не смиренную грамоту данника, а грозное послание, к тому же написанное на древнем «варварском» языке, для которого во дворце не нашлось толмача. Именно Хэ Чжичжан вспомнил, что семейство Ли вернулось во внутренние земли Китая из Тюркского каганата и Ли Бо, владевший языками разных народов, вполне мог знать и это наречие. Так и получилось.
Поэт легко разобрался в тексте послания и даже составил достойный императора великой династии Тан ответ[71]. Более того, он произнес длинную речь о необходимости во имя блага простого люда замирения с иноземцами. Возможно, в том же духе, что выплеснулся в стихотворении № 14 цикла «Дух старины», написанном в следующем году:
Одни пески у северных застав, Надолго обнажились рубежи. Над грустной желтизной осенних трав С высокой башни взгляд мой вдаль бежит: Селений приграничных стерся след, Безлюден город в пустоте земли, Костей белесых грудам столько лет, Что уж давно бурьяном поросли. Из-за кого, спрошу, сей край страдал? «Гордец Небесный» нас терзал войной. Разгневался наш мудрый государь, Под барабан солдат отправил в бой. Былой согласья свет померк во зле, Войскам вослед тревога поднялась, И тьмы людей скорбят по всей земле, Ручьями слезы льются в горький час. Печаль солдат объемлет все сильней — Кто жатвою займется на полях? В край варваров отправили парней, Но как же тяжко им служить в горах! Ли Му давно покинул этот мир, Шакалы, тигры здесь справляют пир.Императору мысль пришлась по душе, поскольку он знал о недостаточности у него войск, требующих передышки от бесконечных пограничных столкновений.
Но прежде, с удовольствием смакуют легенды, Ли Бо решил покуражиться над противными ему надутыми вельможами: заставил Гао Лиши снять с него сапоги, а Ян Гочжуна (брата фаворитки Ян Гуйфэй) — растирать тушь. Все это впоследствии дорого обошлось поэту — авторитарная власть не прощает унижений. Когда Сюаньцзун возжелал ввести Ли Бо в особый консультативный совет при императоре, сановники яростно воспротивились, поддержанные обидевшейся на поэта Ян Гуйфэй.
Обида же ее была вызвана вот чем. На рубеже весны и лета 743 года в парковом цветнике дворца Ликования (Синцингун) у Душистого павильона, грузно осевшего на берегу пруда Ликования, раскрылись «короли цветов» — пионы. Чанъань издавна славился ими, и в танское время по весне они заполняли все свободные пространства — деревенские дворы, вельможные усадьбы, монастырские сады, императорские Запретные города. Самые красивые, удивительных цветов и форм, взлелеянные мудростью и зрелостью многотерпеливых монахов, украшали монастыри Добросердия и Западного Просветления: красные, пурпурные, слепяще-белые, розовые, «Лоянские красные», «Обольстительно желтые», «Золотистая пыльца», «Пурпур в тумане»… Когда минуют дожди ранней весны, два десятка солнечных дней и лунных ночей пионы услаждают сердца людей, падких до красоты.
Вариация на тему
Яркой лунной ночью Сюаньцзун вывел свою возлюбленную наложницу в сад, чтобы вместе полюбоваться пышным весенним цветением. Вызвали музыкантов из придворной актерской группы «Грушевый сад», зазвучала популярная в танское время мелодия «Цинпин дяо» — соединение двух разных ладовых тональностей «циндяо» и «пиндяо» из древнего сборника «Юэфу»; позже к этому названию прибавили слово «цы», которое к IX веку начало обозначать вызревший поэтический жанр, формально более свободный, чем «ши». Как вдруг император недовольно останавливает их — моей Драгоценной наложнице среди таких замечательных цветов нужны не старые песни, а новые, свежие слова. И он послал за придворным поэтом Ли Бо.
Его искали по всему городу, пока из одного кабачка не донеслось лихое пение: «Три чаши отворят широкий Тракт, / Большой черпак — мы вновь Природой станем. / И если ты сей вкус вина прозрел — / Храни секрет от тех, кто протрезвел» («В одиночестве пью под луной»). Он уже не держался на ногах и недовольно пробормотал посланцам: «Идите вы все! Я пьян и хочу спать». Вытащенный из кабачка ошалевший поэт в нарушение всех дворцовых ритуалов въехал во дворец на коне. Сама фаворитка Ян Гуйфэй соизволила приподняться с «ложа семи драгоценностей», отставила в сторону чашу с нежным силянским виноградным вином, оставляющим незабываемое благоухание во рту, и собственноручно поднесла поэту отрезвляющую рыбью похлебку с травами. Мальчик из придворной труппы в это время отбивал такт бамбуковым коленцем.
Хмель не затуманил Ли Бо голову, а лишь обострил поэтическую мысль. Он вздернул свою большую седеющую голову, взгляд его прояснился, и на размер той же мелодии он размашистой кистью набросал три четверостишия, которые и исполнил первый актер «Грушевого сада» Ли Гуйнянь, вызвав восхищение и Ян Гуйфэй, и Сюаньцзуна:
Твой лик — цветок, а платье — облака, Росой омыта красота цветка. На Яшмов пик, Нефритовый балкон Спешит к тебе луна издалека. Роса усилит дивный аромат, И фее сна уж государь не рад. Равна тебе ли ханьская Фэйянь? Ее краса — румяна да наряд. Цветок весны прекрасной деве мил, Ему и государь благоволил. Весенний ветр печали отогнал В Душистом павильоне у перил[72].Подстегиваемая вином кисть Ли Бо отошла от более присущего ей простого, без избыточной «красивости» стиля, но Сюаньцзун как раз любил вычурную, несколько изломанную поэзию старых времен Ци и Лян. Он был очарован, самолично взял флейту и принялся наигрывать «Чистые и ровные мелодии», прислушиваясь, насколько подходят к ним новые слова, в которых любимая наложница слилась с «королем цветов» настолько, что небесные феи поспешили спуститься вниз, чтобы полюбоваться феерическим зрелищем. Сама наложница, расслабившись с прозрачной чарой на «ложе семи сокровищ», пригубливала розоватое персиковое вино. Но волна возбуждения сорвала ее с ложа и бросила в танец, несколько даже фривольный; она слегка приподнимала край платья и мелькала обнаженными полными руками, очаровывая Ань Лушаня, сверкающего своими «варварскими» глазищами.
Продолжи поэт в таком же духе, он по лестнице рифм поднялся бы и к «управленческим» высотам, да на беду «его дворцовая поэзия отличалась от орнаментального стиля банкетных стихов, писавшихся к нужному событию» [Owen-1981. С. 116].
Вариация на тему
«Гао Лиши вручил Ли Бо инкрустированную яшмой золотую кисть. „Высокочтимый вельможа Ян! Вы не могли бы подойти ко мне?.. Говорят, вы необыкновенно хорошо умеете растирать тушь, не так ли?“ — „Так и есть! В этом он мастер! Иди, Ян Гочжун!“ — почуяв новую забаву, император решил подыграть Ли Бо. Ян Гочжуну ничего не оставалось, как согласиться: „Ваш слуга всегда к вашим услугам!“ — и он бросился исполнять приказ императора.
Затем настал черед Гао Лиши, который, предчувствуя неладное, хотел было отойти в сторонку. „Уважаемый генерал! — Ли Бо вдруг выставил ногу вперед. — Не сочтите за труд, окажите любезность, помогите мне!“ — „Что медлишь? Помоги Ли Бо снять сапог!“ — окончательно развеселился император. Скрепя сердце генерал стал стаскивать сапоги с поэта.
Ли Бо поудобнее устроился на императорском ложе, всё еще затуманенным взором обвел присутствующих: сияющая улыбкой Ян Гуйфэй облокотилась на перила павильона, упиваясь нескончаемой милостью непостоянного весеннего ветерка. При каждом дуновении ее газовый шарф колыхался, словно нежное облачко, плывущее по небу. Казалось, красавица парит в небесах, рассыпая по земле цветы…
Одним взмахом кисти выводит Ли Бо строфы на размер „Чистых и ровных мелодий“. Ли Гуйнянь подает только что законченные стихи императору. Соприкасаясь головами, Ли Лунцзи и Ян Гуйфэй читают новое творение поэта, восторг их не знает предела. „Великолепно! Изумительно! Неподражаемо! Драгоценная супруга, чем мы можем одарить уважаемого господина Ли? — И, указав на музыкантов, император добавил: — Слушай, сейчас зазвучат сотворенные тобой новые ‘Чистые и ровные мелодии!’“.
Восхищенные Ли Гуйнянь и госпожа Гунсунь рассыпались в похвалах стихам Ли Бо. Заиграли музыканты, затянул песню Ли Гуйнянь, внимая музыке, поплыла в танце Гунсунь. Даже сам император не удержался: взял украшенную яшмой флейту, подхватил мелодию. Красавица Гуйфэй ножкой, обутой в расшитую туфельку, изящно отбивала ритм. Ань Лушань откровенно дерзким взглядом пожирал ее глазами»[73].
(Бай Хуа. Поэт Ли Бо. Киносценарий. Перевела Н. Демидо [Книга-2002. С. 106–110])Стихотворение написано на давно известный мотив древней песни, популярный у поэтов многих эпох, но то, что создал Ли Бо, отлетается от такого рода «дворцовой поэзии». Во-первых, там не названо имя адресата, но никто ни из современников, ни из потомков не усомнился, что «пионы» — это метоним Драгоценной наложницы. Во-вторых, поэт умудрился дать аллюзию чувственных отношений Сюаньцзуна и наложницы такими всем в Китае понятными намеками, как «весенний ветер», «дождь и тучка у Колдовской горы» (в поэтической версии это, увы, сокращено до «феи сна»). «Душистый павильон» — это не только объект в императорском саду, но и сопровождающая это название любовная аура.
По преданию, когда эта прелестная сценка завершилась, к Ян Гуйфэй приблизился коварный Гао Лиши и напомнил ей, что Фэйянь («Порхающая ласточка»), наложница императора Чэн-ди (I век до н. э.), как записано в хрониках, была изящна настолько, что танцевала на подносе, который на поднятых руках держали слуги, так что сравнение с ней пышнотелой Драгоценной наложницы означает не что иное, как скрытое оскорбление[74]. К тому же в танское время вообще предпочитали не упоминать имени Порхающей ласточки, потому что она была низкого происхождения, а семейство Ян тоже поднялось наверх нежданно, благодаря случаю, всего лишь с уровня уездного чиновника.
Как типичный итог коварства, императору был подан донос, что Ли Бо погряз-де в пьянстве, «вместе с Хэ Чжичжаном и другими сколотил группку „восемь святых пития“, где поносят императорский двор и самого государя»[75], а сам метит на высшие посты в государстве. После этого отношение к Ли Бо переменилось, и осенью император уже не предложил поэту, как год назад, сопровождать его к Теплым источникам в Ли-шань, куда он прятался от зимы вместе со своей Драгоценной наложницей. И, конечно, не счел возможным поднять поэта до уровня советника, даже не ввел его в Академию ученых мужей, которая императорским указом была учреждена в 736 году и существовала параллельно с академией Ханьлинь[76].
И если в самом начале своего пребывания при дворе Ли Бо, видя радушное отношение к нему императора, еще мог лелеять мечты о сближении с государем, коему он мог бы способствовать вести страну к процветанию под знаменем Возвращения к Древности, то постепенно приходило отрезвление, заставлявшее всё глубже погружаться в винные испарения, и порой даже к пруду Лотосов пред светлые очи Сына Солнца он являлся, так нетвердо держась на ногах, что Гао Лиши вынужден был поддерживать поэта, помогая ему взойти на императорскую ладью… Впрочем, не исключено, что это был один из тех аттракционов, что обожал бесшабашный Ли Бо.
Так ли, нет, но мысль о том, что в «ближнем круге» он пришелся не ко двору, возникла у него на рубеже весны и лета 743 года, меньше чем через год после появления в столице, и укрепилась уже к осени того же года. Строгая упорядоченность столичного града, внешняя ритуализованная благочинность, столь контрастирующая с вакханалиями, спрятанными за стенами вельможных частных парков, — оттолкнули природно чистую натуру поэта.
Вариация на тему
Ему не спалось, и он вышел на яшмовое крыльцо под колесо луны. На землю уже пала роса, кожаные сапоги спасали от нее, но поэтическое воображение материализовало на этом крыльце отвергнутую господином дворцовую даму, полную грустных мыслей о своем одиночестве. Она стоит там полночи, пока роса не намочит шелковые чулочки, заставив даму вернуться в покои и задернуть мелодичный перезванивающий хрустальный занавес, чтобы даже не видеть этой далекой, бесстрастной луны — ведь та ничем не в силах помочь даме, от которой отвернулся любимый.
Вернувшись в свою холодную горницу, поэт взял кисть, долго вымачивал затвердевшие волоски в туши и неторопливо, задерживаемый легкой, еще не оформившейся, как предметы в предрассветных сумерках, грустинкой, написал стихотворение «Печаль на яшмовом крыльце».
Отрезвление академика
Во граде Ин поют «Белы снега», И тают звуки в синих небесах… Певец напрасно шел издалека — Не задержалась песнь в людских сердцах. А песенку попроще подтянуть Готовы много тысяч человек. Что тут сказать? Осталось лишь вздохнуть — Холодной пустотой заполнен век. («Дух старины», № 21)Та высокая поэзия, которую творит Ли Бо, остается чужой, непонятой «во граде Ин»[77], заполненном «холодной пустотой» и предпочитающем более примитивные и простые забавы. Обостряется противопоставление реального мира — идеальному.
Сей бренный мир не отвергаю я, Он сам меня отринул, мир людской. В ладье святой за грани бытия К восьми пределам унесусь легко. («Провожаю Цая, человека гор»)Двор оказался далеко не столь идеальным, каким представлялся поэту извне, он был мелочно-суетным, постоянно встряхиваемым интригами, и постепенно, с ужасом заметил Ли Бо, он и сам начинает втягиваться в эту грязь.
Но чего же стоило ожидать от этой извращенной цивилизации, сошедшей с праведного пути Естества, отвернувшейся от Небесного Дао? В стихотворении № 46 цикла «Дух старины» он с печалью констатировал упадок некогда цветущей страны, разложение правящей верхушки, отгороженность власти от ненужной ей мудрости.
Вольной душе поэта, его высочайшей самооценке, выламывающейся из регламентации строгих ритуалов, были чужды дворцовые интриги. Да и Сюаньцзун все дальше отходил от дел, приличествующих государю великой империи, и больше предавался даоским медитациям вперемешку со сластолюбивыми развлечениями.
Вариация на тему
«Сюаньцзун узнал ее — это Луэр. Она только в прошлом году появилась во дворце, была недурна собой и в стихах что-то соображала. В общем, выделялась среди дворцовых дам. Когда в тишине медитаций она оказывалась рядом, сердце Сюаньцзуна трепетало. Полмесяца назад у него даже мелькнула мысль, не приблизить ли ее к себе, назначив цайжэнем, смотрителем малых покоев? Но все испортила Ян Гуйфэй.
Вот тут-то дворцовые дамы и привели Луэр, поддерживая ее под ручки, она сама идти не могла, бухнулась Сюаньцзуну в ноги и заголосила: „Прогневала Луэр Небесного Владыку, спаси, государь!“ — „Что случилось-то? — спросил Сюаньцзун. — Расскажи все по порядку“. — „Раба ваша вчера ночью во сне узрела старца, видом, ну, точно Небесный Верховный Владыка, он изложил рабе вашей законы Великого Дао, но говорил так темно, что раба ваша ничего не уразумела. Владыка взял какую-то книгу и велел рабе вашей читать ее, да только раба ваша ни словечка в ней не поняла. Владыка разгневался и попенял рабе вашей, грамоте-де не учена, так зачем тебе глаза даны? А сегодня глазки мои видеть-то и перестали“. — „Приподними-ка голову“, — велел Сюаньцзун. Луэр вытерла слезы и подняла голову с полузакрытыми глазами.
Сюаньцзун смотрел на ее нежное, как персиковый лепесток, личико, удлиненные, как лист тополя, бровки, опушенные длинными ресницами небольшие глазки с приподнятыми, как у Феникса, уголками. И — какая жалость! — скрыты туманной пеленой… Такие прелестные глазки, такие грациозные, так сияли… Драгоценная наложница заметила, с каким сочувствием смотрел Сюаньцзун на Луэр, и в душе заклокотала ревность, но вслух она томно протянула: „Ай-яй-яй, какая жалость! И уже нет в них блеска“.
А Луэр, увидев сочувствие во взгляде государя, припала к его ногам с воплем: „Спаси, государь! Спаси меня, государь!“ — „Что я могу сделать, коли Небесный Владыка лишил тебя зрения!“ — „Государь — Сын Солнца, потомок Небесного Владыки, молю, государь, упроси Небесного Владыку, спаси рабу свою!“».
[Ван Хуэйцин-2002. С. 473–474]743 год — очередной перелом в жизни и миропонимании Ли Бо: третий после 725 года (встреча с даосом Сыма Чэнчжэнем) и начала 730-х годов (безрезультатный визит в столицу). Он взошел на вершину своего карьерного пути, оказался близ обожествляемого Сына Солнца, вместе с которым жаждал повести государство к процветанию. Но миг оказался слишком кратким, хотя и за это время поэт сумел познать его неприглядную сущность. Его юношеские представления об императорском дворе как идеальном вершителе судеб, справедливом и праведном центре власти, стали расплываться, а сам он явно оказался неуместен в этой мелкой карьерной суете.
Сквозь длинное лиловое платье высокого вельможи, которое он всё с меньшим удовлетворением носил в столице, всё больше просвечивало «холщовое платье» простолюдина, что, разумеется, означало не социальную, а духовную страту — чистоту души. Поэт выходил за городские ворота и окунался в розовую духовитость весенних коричных дерев гуй. Их аромат незримым, но осязаемым облаком плыл над зелеными склонами холмов, останавливаясь у городской стены, словно напыщенная столица не хотела пускать его в свою сановитость. Говорят, коричное дерево нашло себе приют на луне. Там, в инобытии, его фимиам созвучен святости Неба. Вельможным же властителям Земли требуются более пышные краски и запахи. Вечность они воспринимают не как инобытие, а лишь как продолжение бесконечного пира.
В сем мире бренном у богатых врат Сажают много персиков да слив. Свисают ветви над тропою в сад, И ветерок весенний шаловлив. Но хлад падет в предутреннюю рань, И славе их придет тогда конец. А древа гуй растут в горах Чжуннань, Спуская до корней листвы венец, Они надежны, тень тебе дарят — Что ж не пускают их в господский сад?! («Пою древо гуй») И циских гуслей-сэ восточный лад, И циньских струнных западный напев — Так горячи, что противостоять Не в силах души падких к блуду дев. Их обольстительности меры нет, Одна другой милее и нежней, Споет — получит тысячу монет, Лишь улыбнется — яшму дарят ей. На Дао-Путь им встать не довелось, Распутством отмеряют жизни срок. Им ли услышать, что Пурпурный Гость С заветным цинем уж зашел в чертог?! («Дух старины», № 55) Взойди на гору, посмотри окрест — Твой взгляд просторы мира не окинет. Лежит холодный иней, пав с небес, Осенний ветер бродит по пустыне. Краса цветов уходит, как поток, Весь мир вещей плывет волной бегучей, Еще сияет солнце, но потом Угаснет в неостановимой туче. Платан обсижен стаей мелких птах, А фениксам остался куст убогий… Ну, что ж, мечом постукивая в такт, Уйду я в горы… Так трудны дороги! («Дух старины», № 39)В этом контексте «Пурпурный Гость» (метоним святого) и мифическая птица Феникс — самоназвания автора, осознающего, что на «священном платане» не осталось места для мудрых фениксов. Боль провалов в политико-административной карьере могла приглушиться лишь слиянием с красотой гор и вод Природы, с чистотой святого Занебесья.
Именно в 743 году и в начале следующего года Ли Бо написал много глубоких историософских стихотворений, вошедших затем в цикл «Дух старины». Поняв, что карьерно-суетная, погрязшая в интригах, страшно далекая от идеально-романтизированной «чистоты» имперская столица — не для него (а ведь многие из тех, кто в одно время с ним были приняты в академию Ханьлинь, уже получили пристойные официальные должности в государевой иерархии), он, официально еще не объявляя об уходе, пользуется своей свободой от чиновных обязанностей и совершает немало путешествий в центры даоской мысли.
Полеты в Занебесье
Горы, инобытие, поиски Эликсира бессмертия, полеты в Занебесье с горними святыми всё чаще вторгаются в поэтические виде́ния Ли Бо. Этой тематике отдано более ста стихотворений — девятая часть его сохранившегося наследия. Мистический ореол гор всегда привлекал поэта, и чаще он недвусмысленно изображает не физический процесс подъема по склону, а сакрально-духовное вознесение, преображающее телесно-материальную основу. Обратился он к этой теме еще в юности — в первых стихах, написанных в Шу. В них восхождение по склону Крутобровой воспринимается восторженно-мистическим панегириком святой горе как возможного пути в занебесное инобытие, иными словами, это еще не «уход», но уже — «приход».
В более поздний период жизни он на первый план выводит противопоставление несовершенного, испорченного земного мира — идеально прекрасному миру Занебесья:
Нас в этот мир заносит лишь на миг — Мгновенное движенье ветерка. К чему же я «Златой канон» постиг? — Печаль седин покрыла старика. Утешусь, посмеюсь над этим всем — Кто вынуждал нас жизнью жить такой? Богатство, слава — не нужны совсем, Они душе не принесут покой… С рубинами оставлю сапоги! Уйду в туман Пэнлайский на восток! — Чтоб мановеньем царственной руки Властитель Цинь призвать меня не смог. («Дух старины», № 20, 3-е стихотворение)В пятом стихотворении цикла «Дух старины» Ли Бо рисует встречу со святым старцем, обретшим высшее совершенство ощущений и возможность перемешаться между миром людей и Занебесьем:
Зеленых кущ Великой Белизны Не покидает сонм ночных планет. Три сотни ли до неба пройдены — И ты отбросил этот мир сует. Черноволосый старец под сосной В снегах, укрывшись тучей, возлежит, Словам, улыбкам чужд его покой, В пещере скальной — сокровенный скит. Я припадаю к праведным стопам, Молю раскрыть мистический секрет. Уста раздвинув, наконец, он сам Мне говорит про Зелье вечных лет. Запечатлев слова в моей душе, Исчез, как огнь небесный, в вышине. Смотрю наверх — и не узреть уже, Все чувства всколыхнулись вдруг во мне. Теперь приму волшебный Эликсир И навсегда покину этот мир.Профессор А. Е. Лукьянов обращает особое внимание на это стихотворение, считая: «Восхождение в вечность Ли Бо начинает по горе Тайбо… — по своему прародителю, так как гора Тайбо участвовала в его поэтическом рождении. Пройдя 300 ли (условный показатель), Ли Бо расстается с миром суеты. Ровно на середине пути он достигает обители старца с иссиня-черными волосами, то есть встречает старца-младенца… Учитывая генетическую связь Ли Бо и горы Тайбо, можно предположить, что в лице старца Ли Бо встретился с самим собой как вечно живым мертвецом и в молениях у подземного гроба открыл самому себе тайну бессмертия. Старец улетучился (вошел в Ли Бо?), и теперь он, Ли Бо, стал старцем-младенцем и занял срединное место в космическом архетипе» [Ли Бо-2004. С. 204–205].
В самих стихотворениях Ли Бо можно отыскать указание на то, что он прибегал к алхимическим практикам даосов, участвуя не только в поисках исходных минералов (киноварь), но и в приготовлении и употреблении Эликсира бессмертия, в результате чего близился к тому, чтобы «стать приглашенным советником тридцати шести Владык», восседающих в тридцати шести дворцах тридцати шести Небес, как формулируется в «Книге [о династии] Вэй».
В тематике «юсянь», весьма распространенной в китайской поэзии даоского толка, соответствующие стихотворения Ли Бо занимают особое место. Его предшественники пространство Занебесья, для них объективно существующее, изображали как недоступное и потому «воображаемое», хотя это «воображение» не было произвольным, а опиралось на мифологию как реальную предысторию.
Ли Бо впервые как бы сам полетел в эти незримые дали, словно бы воочию увидел это пространство и с натуры живописал его. Лирический герой большинства его стихотворений этого направления — это откровенное «Я», то есть сам поэт, рядом со святыми, вполне на равных с ними вознесшийся в Занебесье и изображающий его как окружающую реальность. Эта мысль формулируется целым рядом комментаторов (см., например: Ли Найлун-1994. С. 120). Современный тайваньский исследователь характеризует ее как «некий религиозный мистицизм» [Се Чуфа-2003. С. 137].
Применительно к Ли Бо термин юсянь можно перевести не как «путешествие к бессмертным», а как «полеты с бессмертными» (или «с небожителями», «со святыми», поскольку сянь означает не существо, чья жизнь не имеет предела, а, буквально, «человека горы» — причем в смысле не «человека, живущего на горе», а «горнее существо», «возвышенное существо», обретшее иные психофизиологические свойства, преодолевшее путы времени и пространства). Как до, так и после Ли Бо мало кто из поэтов сам вторгался в это манящее Занебесье и чувствовал себя там настолько свободно, как если бы после долгого отсутствия вернулся в родные места, приветствуемый заждавшимися духовными собратьями.
Куда лечу, Журавль, над синим морем, Стремясь к востоку, где душе вольней? Пэнлай все ближе, и святые смотрят, Встречая песней с Яшмовых ветвей. («Песнь о том, как я лелею мысль о вознесении», 744 г.) С утра я к Морю Пурпура пришел, Багрец зари накинул в поздний час, Ветвь отломил святого древа Жо — Прогнать закат, чтобы скорей угас. На облаке в предельные края Тысячелетней яшмой поплыву, Достигнувши Начал Небытия, Перед Владыкой преклоню главу. Он к Высшей Простоте меня зовет И жалует нефритовый нектар. От отчих мест на много тысяч лет Меня отбросит сей волшебный дар, И ветр, не прерывающий свой бег, За грань небес умчит меня навек. («Дух старины», № 41)Прочитав такие строки, где мифологическая ментальность обретает едва ли не реалистические черты, трудно согласиться с выводами китайских исследователей о том, что, «принимая красоту и абсолютную свободу мира святых сяней, Ли Бо … отрицал возможность достижения его» [Сборник-1990. С. 26].
Область Шу, где Ли Бо прожил два начальных десятилетия своего духовного становления и формирования, находилась под сильным влиянием древней культуры царства Чу, родины Лао-цзы, исполненной ярким и концентрированным даоским духом с характерным для этого учения отвержением строгих государственнических ритуалов, вольностью Естества и ориентацией на доисторическую Древность праотцев. То бессмертие, которое обещал своим адептам даоизм, в отличие от других мировых религий, не было только бессмертием души, отделявшейся от бренного тела, но и тело вводило в вечность путем специального тренинга и приема снадобий или же как некую данность самой Природы.
Учение утверждало также наличие среди людского мира особого рода «живых сущностей», «живых святых», проходивших сквозь столетия. Современником Ли Бо был некий Чжан Го, утверждавший, что родился во времена Яо. В это поверил император Сюаньцзун и пожелал отдать за него свою сестру Юйчжэнь, но Чжан Го отказался, и Сюаньцзун повелел построить для него монастырь Обитель зари. В Суншань жила «живая святая» монахиня Цзяо Ляньши, и Ли Бо, навещая Юань Даньцю, хотел повидаться с ней, но не нашел, о чем и написал стихотворение.
Отец поэта, тяготевший к отшельничеству, не отдал сына в школу, так что Ли Бо не получил системного конфуцианского образования (притом что основные каноны он проштудировал) и тяготел к лежавшим на полках свиткам с трактатами Лао-цзы, Чжуан-цзы, Ян Сюна. В пятнадцать лет он ушел в даоские монастыри учиться — на склоне Дайтянь в 13 ли от дома, на диковинно изогнутой Доудунь в 10 ли от дома — горе, преданием связанной с отшельником Доу Цзыминем (это имя не раз всплывало в стихах Ли Бо), чуть позже какое-то время он жил в обители на восточном пике горы Цинчэн, где, по представлениям даосов, находился пятый выход в занебесное пространство, именно тут в период Восточной Хань жил знаменитый Чжан Даолин, впервые привезший в Шу даоские трактаты. Эмэй, одна из священных вершин Китая, считалась седьмым выходом в Занебесье.
Но не только горы — дома в Шу были пропитаны даоским духом естества и вольности. Вот как юный Ли Бо описывает дом местного чиновника:
Свет дальних гор на двор ложится, В камнях — журчанье ручейка, Вьют гнезда под стрехою птицы, И в дом заходят облака. Святой сяньвэй в лучах заката, Завесив шторою окно, Всем многоцветием объятый, В даоский погружен канон. («Подношу сяньвэю — помощнику начальника уезда Цзянъю»)Императоры династии Тан в миру носили фамилию Ли, записывавшуюся тем же иероглифом, что и у основателя даоизма Ли Даня (Лао-цзы), считая себя его потомками и уделяя его учению особое внимание. В 625 году Гаоцзу, первый император династии Тан, официально утвердил иерархию трех основных учений Китая: первым значился даоизм, за ним шли конфуцианство и буддизм. В 666 году император Гаоцзун специальным указом присвоил Лао-цзы титул Верховного Сокровенного Владыки. Мистически настроенный Сюаньцзун распорядился в обеих столицах и областных центрах построить храмы Владыки, призывал к себе знаменитых даосов, во сне беседовал с Лао-цзы, рисовал его изображения, лично написал комментарий к трактату «Дао Дэ цзин» и повелел каждой семье иметь его.
Среди связей Ли Бо можно отметить контакты, и нередко на дружеском уровне, со знаменитыми даосами, первым из которых следует назвать Сыма Чэнчжэня, прозорливо увидевшего характер Ли Бо и наметившего его жизненный путь. У Цзюнь сначала склонялся к конфуцианству, но, не сдав экзаменов, ушел в даоский монастырь сначала на Суншань, затем на Тяньтай, обрел известность и был призван императором Сюаньцзуном, который ввел его в академию Ханьлинь и назначил советником. В дружбе с ним Ли Бо осознал возможность сочетания конфуцианского служения с даоской вольностью.
Тому же он научился и у Хэ Чжичжана. Это стоит выделить особо. Крупный сановник, Хэ Чжичжан за пределами служебных обязанностей (наставник наследника) исповедовал даоское учение и магические практики, был поэтом и отчаянным кутилой, именуя себя «безумным пришельцем с Четырех просветлений»[78]. Он был старше Ли Бо на сорок два года и на вершине карьеры, заболев, увидел в горячечном бреду небожителя, который призывал его к себе. Выздоровев, Хэ подал императору прошение об отставке (это произошло ранней весной 744 года и стало для Ли Бо одним из сильных побудительных мотивов поступить так же), вернулся в родные места, к горе «Четырех просветлений», стал даоским монахом и распространял идеи Лао-цзы среди окружающих мирян.
Вариация на тему
«Когда ушел из жизни Хэ Чжичжан, Ли Бо страдал несколько дней и, чтобы утишить горе, весной 6-го года Тяньбао (747) собрался в путешествие по горам Тяньму (юг современного уезда Синьчан провинции Чжэцзян) и Тяньтай (на севере уезда Тяньтай той же провинции). Взойдя на вершину, он бросил взгляд окрест. Нагромождения скал, тысячи вершин, десять тысяч ущелий. В порыве ветра с гор зашумели сосны, словно взревели драконы, зарычали тигры. Из расселины била струя водопада, всё было усеяно цветами, как на картине. Ли Бо взобрался на самую верхотуру, узрел, казалось, бескрайнее море на востоке и в полный голос продекламировал: „С горой Сымин соседствует Тяньтай…“ И горы, и реки, похоже, все те же, как тогда, когда наставник Сыма совершенствовался здесь в учении Дао, а потом вознесся в небо бессмертным святым. Ли Бо покачал головой и вздохнул: „Вот бы соорудить здесь соломенную хижину и погрузиться в Дао. Увы, Учитель Сыма уже стал святым, и Юань Даньцю тут нет, и некому быть рядом со мной“».
[Гэ Цзинчунь-2002-А. С. 170–171]В 746 году, в слезах стоя на коленях перед еще свежей могилой друга у подножия горы Гуйцзи, он там же, на склоне, написал стихотворение «За вином вспоминаю советника Хэ», затем ритуально сжег бумагу с полными печали строками, плеснул вино на могилу и трижды низко склонился перед ней, коснувшись лбом земли.
На горе Просветлений в потоках ветров Хэ-Безумец в недавние годы живал. Я когда-то в Чанъане увидел его, «Небожителем падшим» меня он назвал. Влагу в чаше златой возлюбивший давно, От сует упокоился он под сосной, Черепашку свою променял на вино… Свою память о нем окроплю я слезой.«Безумцем» называл себя и Ли Бо — «Чуским Безумцем», вложив в это определение неудержимое стремление к вольности и естеству, к преодолению всяческих рамок, поставив это на мировоззренческий фундамент даоского учения. Есть в этом слове оттенок, созвучный русскому выражению «не от мира сего». «Безумством» обозначалась не только жажда вырваться из пут строгих регламентов официальной жизни, но главным образом то паранормальное состояние, которое обрисовано в стихотворении Тютчева:
…То вспрянет вдруг и, чутким ухом Припав к растреснутой земле, Чему-то внемлет жадным слухом С довольством тайным на челе. И мнит, что слышит струй кипенье, Что слышит ток подземных вод, И колыбельное их пенье, И шумный из земли исход!Тут пора уже внести некоторые терминологические уточнения. То, к чему стремился Ли Бо, исповедуя даоское учение, именовалось словом сянь и имело два уровня: Небесный сянь и Земной сянь. Аналога в русской культуре нет, и потому слово сянь обычно переводят по-разному: «бессмертный», «святой» или, раскрывая обе структурные части, из которых состоит этот иероглиф («человек»+«гора»), как «человек гор», «горний человек», понимая гору не как топографический объект, а как сакральное пространство обитания «сяней».
Однако категория сянь не подразумевала ни бесконечное продолжение существования в его материальных земных формах, ни только нравственное очищение души. Это было непостижимое для простого обитателя земной Поднебесной «другое» бытие, «инобытие» с принципиально иными психосоматическими характеристиками, скорее энергетическими, чем материальными. Завершив процесс перехода (постепенный, ступенчатый или мгновенный), сянь освобождался от сковывающих ограничений внешних форм и границ, выходил из рамок времени и существовал в условном пространстве, не имеющем пределов. Отрешаясь от всего материально-земного, он сливался с миром чувственных образов, имея при этом возможность по желанию временно обретать форму для общения с материальными землянами.
Небесное инобытие для Ли Бо в даоской части его ментальности было теснейшим образом связано с проблемой свободы. Он почерпнул эту идею у Чжуан-цзы, переработав и развив ее. У Чжуан-цзы свобода для земного существа (как людей, так и животных) означала следование установлениям Неба, то есть это «естественная», природная свобода. У Ли Бо она неразрывно связана с личностью, с реализацией ее устремлений, с выбором, с правом распоряжаться своей судьбой (не потому ли он отказывался от участия в многоступенчатой экзаменационной системе, что это ставило рамки его личной свободе, его возможности принимать решения в зависимости лишь от собственного желания?). Весьма ярко это отличие от Чжуан-цзы можно увидеть в образе Птицы Пэн, которая у древнего философа — существо несвободное, зависимое от ветра, а у поэта — символ самости, форма воплощения идеала свободы.
Вот какое описание «Занебесья» дал, опираясь на стихи Ли Бо, современный китайский ученый: «В том сияющем, многоцветном мире святых сяней время застывает, пространство сжимается, объективно существующее единое пространство-время размывается субъективным сознанием. Это — сфера духа, где нет исчезающего времени, где не существует ни рождения, ни смерти» [Ван Юшэн-1994-Б. С. 3].
Проблема времени как ограничения свободы существования была для Ли Бо крайне острой. Это один из часто возникающих компонентов его поэзии — в патетичных ли гражданственных произведениях, в «дневниковой» лирике, в «стихах гор и вод», как в китайской традиции обозначалась пейзажная поэзия, или даже в жанре «полетов со святыми» («путешествий к бессмертным», в привычном переводе), что мы бы приземленно поименовали «фантастикой», а это была форма изложения средневековым поэтом своих сокровенных идеалов, осуществиться которым, полагал он, возможно лишь в занебесной дали.
В поэзии Ли Бо время живет не столько как фоновый штрих, сколько как координата и даже как участник сюжетного события, как творящий субъект, через поэтическое восприятие воздействующий на художественное пространство (в том числе и на личность поэта), окрашивая его в те или иные психологические тональности.
Как конфуцианец он видел движение истории не через череду лет и веков, а в фокусе явленных ею героических образцов культурной цивилизации. Но его поэтический взгляд не реконструировал прошлое, не задерживался в нем, а притягивал к настоящему для морализаторского вывода, тем самым соединяя временные пласты в некую оценочную совокупность, важную, по его представлениям, для сегодняшней действительности. Как даос он жил в природе, жил природой, вчувствовался в природу, ища в ней следы той Изначальности, которая, еще не испорченная удаляющейся от доформенной Чистоты человеческой цивилизацией, существовала в гармоническом единстве чистого естества и высокой культуры первопредков.
В самом слове «ши», обозначающем время, в качестве ключевого элемента (иероглиф есть единство составляющих его значащих графем) стоит слово «солнце», а другой, дополняющий его элемент складывается из знака «земля» и единицы измерения протяженности, то есть время есть та или иная фаза светила в разное время земных суток. Этим самым введена привязка понятия земного времени к небу, к солнцу и к цикличности, становящейся характеристической чертой движения времени.
Но и это слово, в котором все-таки намечены начальные элементы абстрагирования, появляется в стихах Ли Бо чаще в подчиненных, служебных словосочетаниях типа «когда вернусь», а не в сюжетах, где время играет какую-то динамическую, активную, созидающую роль. В последних, то есть там, где поэт обозначает время как своего рода «действующее лицо» художественного сюжета, он обычно прибегает к словам, которые с нашей точки зрения могли бы считаться эвфемизмами, но для человека времен Ли Бо таковыми не являлись, например, «солнце», «свет», «луч» в значении именно времени, активно воздействующего на изображаемый объект (например, «скользящие лучи» как неостановимое время, губительное для человека, или неуловимые «летящие лучи»). Таким образом, поэт придавал времени ту или иную форму существования, тем самым опуская его от высшего, бесформенного состояния, в каком мир находился в своей древней Изначальности, к более низменному состоянию движения от формы к форме.
Привычное для нас линейное восприятие времени, порожденное христианской эсхатологией, было чуждо китайскому поэту. Не отклоняясь от собственных традиционных мыслительных построений, Ли Бо воспринимал время как круговорот шестидесятилетних циклов, из года в год проходящих через неизменные вехи: четыре сезона, двенадцать лунных месяцев, двадцать четыре двухнедельных периода (обозначаемые тем же словом ци, каким называли и незримые частицы энергии, пронизывающие вещный мир), и всё это складывалось в периоды, идущие из седой Древности в надвигающееся будущее.
Это, с одной стороны, был не единый поток, а составная конструкция, которую можно было разложить на составляющие, перемешать, выстроить заново. Но с другой — это была цельность, в которой прошлое не исчезало, а лишь предавалось забвению и могло быть восстановлено. Такое специфическое художественное восприятие времени базировалось на фундаментальной основе общей ментальности, исходящей из бинарного чередования противоположностей инь-ян: «В круговорот инь-ян включается то, что с логической точки зрения несопоставимо… Это не только сменяемость состояний во времени и пространстве в некоей временной и пространственной протяженности, последовательности… но и их одновременность… и внутреннее состояние взаимопроницаемости, присутствия одного в другом» [Дао-1972. С. 162].
Что может означать непреходящее стремление Ли Бо к «возрождению Древности»? Исследователи дискутируют, хотел ли он вернуться в прошлое, заменить прошлым день сегодняшний или заново сконструировать настоящее по лекалам Древности. Так или иначе, но в любом случае это было осознание возможности власти над временем, управления временем, не подчинения ему, а господства над ним. Власти не своей (как смертного землянина), а тех совершенных сверхсуществ, в круг которых Ли Бо стремился душой:
Что-то осень мне тихонько шепчет Шелестом бамбуков за окном. Этот древний круг событий вечный Задержать бы… Да не нам дано.Или, может быть, точнее сказать — осознание потенциальной свободы от времени, возможности вырваться за его пределы, разорвать его путы, покончить с его неотвратимостью:
Кто оперен — тот время покорил, Витает с фениксами на просторе, Небесный свод лежит у этих крыл, Волною дыбятся четыре моря… Мирское всё оставив позади, Как их настичь за облачною гранью?! Наш век — сто лет, и я — на полпути, А дальше всё сокрыл туман бескрайний. Уже не вижу вкуса в пище я, Встречаю вздохом суету дневную. Уйти бы за Цзымином в те края, Где выплавлю Пилюлю Золотую!Время и «земной» Ли Бо явно находились во враждебно-конфликтных отношениях друг с другом. Время вгоняло в свои жестко определенные периоды (земная жизнь Ли Бо и ограничилась одним циклом — шестьдесят лет), подчиняло своим законам, трансформировало в соответствии со своим уставом.
А он по изначальному своему духу был человеком весьма своевольным и диктата ни времени, ни императора («Сына Солнца») терпеть не хотел, выразив свой протест уходом из дворца — в горы как сакральные пути к Небу, в тот «верх», откуда лилось на Землю само Время (прошлое в китайском метафизическом представлении обозначалось глаголом, первичным значением которого был «верх»), в «Занебесье», обретая «свободу духа» и «чувство независимости» [Конрад-1966. С. 262]. Он всегда был готов к решительному повороту судьбы:
С рубинами оставлю сапоги, Уйду в туман Пэнлайский на восток, Чтоб мановеньем царственной руки Властитель Цинь призвать меня не смог.«Властитель Цинь» в данном случае эвфемизм, обозначающий фигуру не исторического Цинь Шихуана, а современного поэту императора Сюаньцзуна, которому он попытался послужить в качестве придворного стихотворца, пока не понял, что это не его Путь.
Погружение в даоские штудии (типа упоминаемого в одном из стихотворений «Золотого канона» — эзотерического трактата о способах изготовления из киновари позолоченных пилюль для перехода в вечное инобытие во вневременном пространстве), которое он предпринял в молодости и не раз повторял в течение жизни, возможно, укрепило в нем мысль о том, что время — это замкнутая сфера, имеющая некие пространственные пределы, за границей которых его действие ослабевает или вовсе прекращается, но там — иной мир, не тот, который люди с неким ощущением ужаса характеризуют словом «безвременье», это скорее «вне-временье», «за-временье», «над-временье».
Иными словами, наше понятие «безвременья» обозначает мир, в котором смешался устанавливаемый течением времени благоприятный порядок, тогда как «вневременье» — уже не «наш» мир, а принципиально иной, со своими нормативами, предназначенными не для человека, а для высших существ, в которых отдельные обитатели Земли могут с соблюдением определенных правил и в заданной постепенности трансформироваться:
…Таинственное — взгляду не догнать, Познавший Дао — неостановим. И мнится мне — срываю Красный Плод И обретаю Золотой Скелет, Перо на теле за пером растет: Я — на Пэнлае много тысяч лет!Тут невольно возникает вопрос о соотнесении времени и пространства. Если в «ином» мире время замедляется или вовсе останавливается, исчезает, то тогда должно исчезать и пространство, функцией которого время является. Каким же образом воспринимать левитацию поэта в Занебесье, где он парит либо в одиночестве, либо с бессмертными его обитателями, достигает «восьми полюсов», обретает гигантские размеры, то есть непривычную для землянина, но все же форму? Не есть ли «инобытие» — виртуальная субъективность, существующая как продукт особо развитого «высшего разума»? Не внеположенного, условно говоря, «Бога», а адепта, прошедшего через этапы созревания сознания и потому достойного этого?
Проблема «инобытия» современным человеком относится к мифологии как «предыстории» и «вымыслу», но миф традиционным средневековым китайцем воспринимался по-другому — как некая «доистория» (а в определенном смысле — и «послеистория»), тот пространственно-временной континуум, который существовал в космической первичности вселенского Дао, имея принципиально иные качественные характеристики, чем наш мир, в том числе и в отношении времени. В завершении земного бытия Ли Бо хотелось видеть конец поисков и блужданий и «возвращение к себе», к той своей истинной сущности, которая находится за границей конечного земного бытия:
Путником случайным мы живем, Смерть лишь возвращает нас к себе, Небо и Земля — ночлежный дом, Где скорбят о вековой судьбе.Уход от привычного восприятия времени многоступенчат, он в чем-то сродни поэтическому «трансу». К строкам поэта Сыкун Ту «Только и знаю: вот утро, вот вечер, / Но различать я не стану часов» академик В. М. Алексеев дает такой парафраз, соединяя метафизическое и поэтическое парение духа: «Довольно теперь отличать утро от вечера, точное время уже неинтересно… Поэт весь отдается зовам неба… и достигает этой небообразной, абсолютной свободы, устремляясь в транс своего духа и воли» [Алексеев-1978. С. 181]. Картина медитации в буддийском монастыре в стихотворении Ли Бо «Ночные раздумья в Дунлиньском монастыре на горе Лушань» может восприниматься не только как религиозный акт, но и как творческий взлет, то есть он сливает эти две формы выхода из времени, ощущая качественное отличие, как мы бы сказали, времени «объективного», присущего земным процессам, и «субъективного», выпадающего из сферы привычного времени.
Те пространства, в которых обитают сяни, можно представить себе в виде ступенчатой конструкции, не отгороженной глухо от нижних земных пределов, куда они являются, обретая былые завершенные формы для общения с землянами, еще не постигшими совершенства восприятия («пяти чувств»). Об иных формах — или полном отсутствии таковых — проскальзывают лишь смутные догадки. Вероятно, на верхних уровнях стабильность форм отсутствует, размеры обитающих там существ не зафиксированы и могут при необходимости сжиматься или бесконечно увеличиваться:
На облаке в предельные края Тысячелетней яшмой поплыву, Достигнувши Начал Небытия, Перед Владыкой преклоню главу.Так описывает Ли Бо свою левитацию в Занебесье, где Верховный Владыка жалует ему Нефритовый Нектар бессмертия, после чего:
От отчих мест на много тысяч лет Меня отбросит сей волшебный дар, И ветр, не прерывающий свой бег, За грань небес умчит меня навек.«Предельные края» в поэтическом переводе передают буквальное «плыву ко всем восьми полюсам», что говорит, как комментирует профессор А. Е. Лукьянов эту строку, о самогиперболизации поэта в процессе сакральной духовной левитации [Ли Бо-2004. С. 206].
Исходя из аксиоматичного утверждения о неразрывной бинарности пространства-времени в китайских мировоззренческих конструкциях, можно предположить, что переход сяня в иное, «занебесное», пространство должен предполагать наличие там некоего качественно иного времени. Ведь по мере продвижения по ступеням даоского аутотренинга человек, которого начинают именовать «постигшим» тайны Земли и Неба, прозревшим явления Тьмы, постепенно меняет свои взаимоотношения с временем, отказываясь от его вех, установленных на Земле:
Средь тучами окутанных вершин Он, беспечален, не считает дней.При этом «постигший» обретает качественно новые возможности:
Он мне люб, Святой Юань, Пьющий из прозрачной речки Ин, Над горою Сун закат багрян, Он летит, петляя меж вершин, Он летит, петляя, Звезды обгоняя, Только свист в ушах — несет его дракон Над рекой, над морем, в небеса взлетая — В Беспредельность, знаю, жаждет прыгнуть он.Таким Ли Бо взволнованно, с явными элементами сопереживания, психологического вживания в образ нарисовал своего друга, ученого даоского монаха Юань Даньцю. Безмятежно занимавшийся самоусовершенствованием в глухом горном скиту, тот был духовно близок Ли Бо, и поэт восхищенно писал о нем, акцентируя не отрешенность, а стремительность, соревнование с самим временем в жажде обогнать Время, выйти за его пределы в нескончаемое Инобытие. Юань Даньцю еще не стал сянем, но стоит на пути постепенной трансформации. Куда? За границы времени-пространства — или, как предположил А. Е. Лукьянов, «в себя», то есть в субъективную виртуальность?
Видимо, скорее эту трансформацию можно представить себе не как пересечение неких «границ», за которыми находится «иной мир», а постепенное изменение внутреннего земного статуса в сакральный, позволяющий включать доселе приторможенные психосоматические возможности человека и обрести гармонию со вселенским миропорядком, после чего присущие человеку в его земной жизни визуальные и психические изменения прекращаются, переходя в статичность вечного бытия.
Зажато небо в пиках Колдовских Там, где слышна башуйская волна. Когда-то люди не увидят их, А неба — не коснутся времена.Крайне любопытна буквальная формулировка последней строки — «на Небе нет времени, которое достигло бы его», «время не достигает Неба», «у Неба не будет предела»; возможна и такая интерпретация — «Небо не падет во Время» (в среднекитайском языке омонимы дао «достигать», «приходить» и «падать», «рушиться» могли взаимозаменяться с синонимичными значениями); не менее выразителен и вариант (опечатка?) в одном из современных изданий, где последние три иероглифа даны в иной последовательности, что можно интерпретировать как Небо «пришло к отсутствию времени». Тут уже явственно слышен намек на «вневременье» Неба.
В это «вневременье» Ли Бо и стремился, ощущая себя чужаком в том реальном времени (и пространстве), в котором пребывал:
Преданье есть, что среди вод морских Пэнлайский остров дыбится горой, На древе-яшме зелены листки И сладок плод, который ест святой. Откусит раз — и нет седых волос, Откусит вновь — и вечно юн и мил… Меня бы кто-нибудь туда унес И больше в этот мир не возвратил.У нас нет документированных материалов, показывающих, почему эта тематика стала наиболее актуальной для Ли Бо именно в этот период. Но допустимо предположение, что жестокое разочарование в дворцовом «бытии», которое до близкого соприкосновения поэт идеализировал и романтизировал, усилило его изначально существовавшее тяготение к «инобытию». Причина явно лежит в социопсихологической плоскости.
Пора было уходить из столицы. Как ни трудно расставаться с мечтой! И по возвращении в Восточное Лу в стихотворениях 746 года о проводах брата и друга, уезжающих в столицу, он признается себе, что душа его разбита:
Как инеем, охвачены власы, Осталось сердце там — в столице. («В Лу провожаю брата, уезжающего в Западную столицу») Из Западной столицы прибыл я, Вы в те же возвращаетесь края. С безумным ветром к деревам Чанъаня На запад улетит душа моя. Прощанья грусть сковала немота, Сведет ли вновь нас жизни колея? Гляжу вам вслед. Уже не вижу вас, Лишь над горой — тумана кисея. («В Цзиньсяне провожаю Вэй Ба, уезжающего в Западную столицу»)А в стихотворении 747 года, написанном в Цзиньлине (современный Нанкин), несмотря на откровенное противопоставление бренности сановитой вельможности — вечности природы, он тем не менее вспоминает имперский центр с тоской и печалью (не столько из-за собственной судьбы, сколько из-за «туч», закрывающих «солнце»-государя):
Здесь было фениксам совсем неплохо. Река течет, а их уж не видать. Дворец давно зарос чертополохом, Покоится в курганах старых знать. Поднялся остров Цапли над потоком, Все те же три горы уходят вдаль… Тускнеет солнце, коли туч так много, Чанъань не вижу, и в душе печаль. («На башне Фениксов в Цзиньлине»)Часть вторая А Я, БЕСПЕЧНЫЙ СТРАННИК, СРЕДИ ЧАЕК — СВОЙ…
Глава первая ИЗ ПАСТИ ТИГРА — В ЛОГОВО ТИГРА (744–752)
Счастливые события в Лянъюань
Император удовлетворил просьбу Ли Бо об отставке и с легкостью отпустил его, даже снабдив грамотой, по которой поэт мог услаждать себя любимым зельем в любом кабачке за счет государственной казны. В хрониках это обозначено устойчивым словосочетанием «вернулся в горы, пожалованный златом». А в преданиях — выросло до «грамоты о денежном довольствии», которая якобы предоставляла поэту право «в какой области объявится, в той области и кормиться, в какой уезд придет, в том уезде и кормиться. С этой грамотой, рассказывают, Ли Бо во многих местах побывал» и за счет казны многих попотчевал, не только друзей, но и случайных встречных, с голодухи жевавших сухие прошлогодние листья.
А в собственном доме в Восточном Лу поэт открыл питейное заведение, известное как «кабачок Ли Бо». Вино он готовил сам, и, возможно, это было вино персиковое — из того самого дерева, которое он собственноручно посадил во дворе. Или рисовое. Может, он и рис для этой цели выращивал, как Тао Юаньмин — просо? «Петух рассветный прокричал — / Взялись домашние за плуг», — позже в стихотворении «Подношу брату Ле» вспоминал поэт. Давал ли кабачок доход, неизвестно, но маловероятно, потому что свой товар впавший в отчаяние поэт в основном сам же и потреблял.
Весной 744 года, на третью луну, когда очнувшаяся после зимы земля покрылась зеленью трав и пышными красками цветов, Ли Бо покинул неприветливый Чанъань. Это было уже его второе расставание с холодной столицей, подтвердившей их несовместимость. Но этот уход был много горше. В начале 730-х годов он был молод и не достиг сорокалетнего рубежа, когда, считалось, благородный муж уже обязан был обрести достаточно крепкое статусное положение. И вот он, казалось, его обрел, стал членом Академии Ханьлинь, вошел в придворный истеблишмент, был близок к императору. Пусть в начале 730-х он уже ощущал грусть непризнания, разгоняя тоску ночными хмельными беседами с верным другом-луной («Что мрак ночной, когда вино со мной! / Когда я весь — в опавших лепестках! / Я по луне в ручье бреду, хмельной… / Ни в небе птиц, ни путников в горах» — «Разгоняю грусть»), но это еще не стало глубинным разочарованием.
В 747 году, набредя на заросшие чертополохом руины некогда величественного моста, сооруженного властителем царства У времен Борющихся царств на Тополином тракте под Цзиньлином, он пишет: «В круговороте Неба и Земли / Дворцы былые обратились в прах» («На перекрестке Тополиного тракта под Цзиньлином»).
На этот раз Ли Бо покидал столицу, весь поглощенный мыслью о неизбежном «вхождении в Дао». Он решил стать даоским монахом с особым статусом, не предусматривающим постоянного проживания в монастыре. Но еще до этого произошло событие, важность которого трудно переоценить: в одном пространственном и временно́м измерении встретились два величайших поэта китайской цивилизации — Ли Бо и Ду Фу. Кто из них «номер 1», а кто «номер 2», дискуссии до сих пор не стихают. И, вероятно, не стихнут, потому что ответ лежит скорее не в эстетической, а в мировоззренческой плоскости: один из них — поэт «небесный», другой — «земной» по основной направленности своих дум и стихотворений. Но такая разнополюсность отнюдь не привела к конфликту их личных отношений, и многолетнюю дружбу великих поэтов можно назвать великим и редким примером душевной гармонии.
Современный поэт Вэнь Идо написал об этом с пафосом, не заслуживающим возможной иронии, ибо он передает романтически-возвышенный дух события: «В нашей четырехтысячелетней истории, кроме встречи Конфуция и Лао-цзы, нет другой такой великой, возвышенной, памятной встречи, как встреча Ли Бо и Ду Фу»; и другая, еще более экзальтированная цитата: «Развернем наше воображение и скажем, что на лазурном небосклоне встретились два светила — солнце и луна, и уж не знаю, сколько людей в нашем бренном мире должны были бы воскурить фимиамы, пасть ниц, ниспосылая молитвы царственным небесам за это счастливое событие» (журнал «Синь юэ», № 6, август 1928 года). Они часто встречались, с грустью провожали друг друга, посылали вослед стихи, тревожились, когда от друга долго не было вестей.
Вариация на тему
«Птицей взлетел в седло Ду Фу, поспешил навстречу[79]. „Позвольте узнать, не Вы ли — уважаемый господин Ли Бо, придворный поэт, академик ‘Леса кистей’?“ — „Он самый, а Ваше имя?“— „Студент Ду Фу“. — „Это — Вы? ‘И как же этот горный патриарх? Что юг, что север — сплошь ковер зеленый…’ Ведь это Ваши стихи? Каков порыв! Поистине, мы можем гордиться молодым поколением!“ — „Ваша похвала смущает меня!“…
Раскатистый хохот Ли Бо громогласным эхом несется по горной ложбине. „Слыхал ли ты хоть раз, чтобы кто-нибудь из блестящих вельмож вот так беззаботно смеялся? Смотри!“ — Он тянет Ду Фу к обрыву взглянуть на проплывающие облака: они как будто слетают с края небес.
Всё яростнее шумит лес, безумствует ветер, наползают свинцовые тучи. Под порывами ветра Ли Бо и Ду Фу качаются, словно вот-вот полетят. И вот приходит гроза. Приветствуя стихию простертыми к небу руками, Ли Бо тянет друга к вершине горы. „Встречал ли ты генерала отважнее нас с тобой? И разве в мире людей есть столь зычные золотые барабаны?“ Раскаты грома вторят хохоту друзей.
Когда разошлись тучи и рассеялся туман, небо на западе украсил парчовый плат вечерней зари. „Брат Тайбо! Вот какой короной должно увенчать тебя!“ — проникновенно сказал Ду Фу. „Ты думаешь? — Ли Бо рассмеялся. Затем развернул друга лицом к востоку, показал на восходящую ясную луну: — Смотри, этой ночью у нас с тобой будет одним верным другом больше!“».
(Бай Хуа. Поэт Ли Бо. Киносценарий. Перевела Н. Демидо [Книга-2002. С. 113][80])Еще одна вариация, несколько в иной тональности, но на ту же тему
«…Ду Фу окончательно заблудился. Пригляделся — на склоне конь пощипывает травку. Есть конь — есть люди. Двух шагов не прошел, как зацепился за что-то, шлепнулся так, что в глазах потемнело. Тыквочка с вином отлетела куда-то. Чуть успокоившись, заметил совсем рядом человека лет сорока в шапке чиновника, серовато-коричневом халате, высоких сапогах. В обнимку с синим кувшином вина в форме павлина он лежал на камне, как на подушке, и лениво приоткрыл глаза, потревоженный падением пришельца… „Ну, что нужно?“ — „Господин… Я не нарочно…“ — „Не нарочно? — недовольно буркнул человек. — Я такой замечательный сон видел, а ты меня разбудил. Ты мне должен компенсировать прекрасный сон!“ Такого Ду Фу еще не слышал. „Что за сон видел господин? И как же я смогу его компенсировать?“
Не вставая, этот странный человек дернул ногой и неторопливо начал рассказывать: „Мне снилось, что я взнуздал ветер, взметнулся над горами, лечу над озером, озаренным луной, вижу солнце, пробужденное Небесным Петухом и встающее из-за моря, петляю между вершинами и реву, как медведь, как дракон, приводя в трепет густые леса и горные ручьи, а черные тучи, пронизанные молниями, встряхиваемые громами, обложили небосклон…“ Рассказывая, мужчина все больше приходил в возбуждение, глаза загорелись чудным блеском, он вскочил и продолжил, возвышая голос: „О, эти тучи черные, набухшие дождем, о, эти водные просторы, окутанные дымкой… Распахнутое небо, и края нет у бездны мрака. В одежде радужной спустился вихрем Повелитель туч. Взревели струны, барабаны, святые онемели, а души, встрепенувшись, взвыли … Вскочил я на оленя, гулявшего по склону, и понесся к хребтам величественным. Ну, можно ль гнуться перед властью и богатством?! И душу перед ними распахнуть?!“ Ду Фу был ошеломлен. Какая ода! Смерчем пронеслась, потоком бурливым, какая образная мощь, Небесной силой вызванная… „О, господин, творящий сны, давайте вместе выпьем!.. Коли вино мое сравниться сможет с Вашим сном, взлетевшим над мирами…“ … „Ну разве нам что-нибудь еще нужно? Ах, да, в Чанъане я слышал, что Ли Бо, этот талантище, отставлен от двора…“ Выпив, незнакомец подхватил: „Но что бы ни было, нельзя отказываться от снов…“ — „Эх, будь я Ли Бо…“ — „И что бы ты сделал?“ — „Бросил бы пить, перестал витать в небесах, а со всей почтительностью и искренностью оставался бы подле государя, усовестил бы его, упросил вникнуть в страдания простых людей Поднебесной… К сожалению, Ли Бо — талант, но не из тех, кто заботится о бренном мире…“ — „Славно сказано! Ну, и подонок этот Ли Бо, два года неизвестно что делал в Чанъане, убить его мало!“ — „Господин, творящий сны, — оборвал его Ду Фу, — Ли Бо — близкий мне по духу человек, я бесконечно уважаю его и прошу не поносить!“ — „А позвольте поинтересоваться, кто же вы?“ — „Я Ду Фу“.
Лучистые глаза незнакомца заискрились радостью, а в ушах Ду Фу зазвенела только что слышанная необыкновенная ода, такая тонкая и возвышенная, полная неземных чувств и мыслей… Кто же в Великой Танской империи способен на такое, кроме… „Брат Тайбо!“».
[Ван Хуэйцин-2002. С. 607–613]После этой встречи Ду Фу пригласил Ли Бо в свой неприхотливый дом у подножия горы Лухунь близ города Яньши (сегодня этот город в провинции Хэнань носит то же название). Здесь, около могил его знаменитых еще со времен Западной Цзинь предков, издавна стояли крытые соломой хижины, поставленные теми, кто, соблюдая траур, годами жил около свежей могилы, блюдя ритуальный пост. В одной из них Ду Фу и организовал себе то, что мы сегодня именуем «дача»[81].
Обычно немногословный, Ду Фу, возбужденный знакомством с таким известным и почитаемым им поэтом, проговорил весь вечер и, смущаясь, прочитал незадолго до этого написанную ироничную «Песню о восьми святых пития», в которой четыре строки были посвящены его гостю: «Черпак вина — и тут же сто стихов, / Он вечный гость чанъаньских кабачков / И даже к Сыну Неба не спешит: / „Ведь я — святой среди хмельных паров!“» — «Как естественно и искусно!» — вовсе не обидевшись на иронию, оценил Ли Бо, любивший свободный песенный стиль, корнями своими уходивший в близкую самому Ли Бо культуру Чу и продолженный в ханьских юэфу.
Но когда Ду Фу, подхватив тему, заговорил о подражании старым образцам, Ли Бо жестко напомнил классическое древнее изречение: «Кто уходит от меня — жив, кто подражает мне — мертв». И объяснил: «Не опутывай себя никакими рамками. Поэзия исходит из сердца и переменчива, как лицо человека».
К моменту первой встречи Ду Фу уже слышал о Ли Бо как о выдающемся поэте, знал, что тот стал важной фигурой при дворе, академиком Ханьлинь. Тем более его очаровали простота и непосредственность, с какой Ли Бо отнесся к нему — не как к еще малоизвестному молодому поэту, а как к духовному собрату. Ли Бо не «снисходил», а, увидев родство душ (при всей разнополюсности поэтических направлений), поставил на один уровень с собой, прозрел будущее величие Ду Фу.
И тот ответил ему верной дружбой — даже в тяжелых испытаниях, какие выпали на долю Ли Бо, когда от него, осужденного, заключенного в тюрьму, отправленного в ссылку, отвернулись многие из тех, кто именовал себя его другом. Они не раз встречались, особенно в Восточном Лу, где в Яньчжоу в течение двух десятилетий был дом Ли Бо и там же жил отец Ду Фу, занимая в округе высокую должность главного советника сыма. Вдвоем, беседуя о стихах и читая их друг другу, поднимались на Южную башню Жэньчэна, которая много позже была надстроена и расширена (а теперь называется Шаолинтай и является одной из главных достопримечательностей Цзинина), гуляли вдоль реки Сыхэ (или Сышуй) по утоптанной дороге, которую позже поэт Бо Цзюйи назвал «северным истоком танской поэзии».
Вместе с Ду Фу и присоединившимся к ним поэтом Гао Ши Ли Бо совершает восхитительную поездку в Бяньсун — территорию по берегам Хуанхэ между городами Бяньчжоу к юго-востоку от современного Кайфэна и Сунчжоу к югу от современного Шанцю. Район Бянь иначе именовался Лян, и именно там когда-то находился Лянъюань, одно из самых любимых мест Ли Бо.
Лянъюань — парк на территории древнего княжества Лян (современная провинция Хэнань), в начале династии Хань, еще до начала нашей эры, построенный лянским князем Сяо, сыном императора Вэнь-ди, для приема гостей и развлечений. Среди именитых гостей этого парка значился и поэт Сыма Сянжу. В танское время руины парка еще не погибли безвозвратно.
Из воспоминаний Ду Фу и Гао Ши, которые в один голос указывают на дурную погоду, на пронизывающий ветер, «капли дождя на мечущихся листьях шелковицы» (из стихотворения Ду Фу «Давнее путешествие»), исследователи, сопоставляя с хроникальными династийными записями, извлекли предположение, что произошло это на девятую-десятую луну, конец осени — начало зимы 744 года. А через два года эта троица вновь встретилась на землях княжества Лян, после чего Ли Бо с Ду Фу съездили в Шимэнь (Каменные врата) в районе Цюйфу, что осталось зафиксированным в поэзии Ли Бо: «Осень, стихли волны на Сышуй-реке, / Склон Цулай лазурью моря засиял» («Провожаю Ду Фу в Каменных вратах на востоке области Лу»).
В памяти Ли Бо Бяньсун оказался крепко связанным с двумя важными событиями его жизни: этим путешествием трех поэтов по дивным красотам, возбуждавшим поэтическое чувство не меньше, чем вино, которое они потребляли в достаточных количествах, и происшедшей через шесть лет женитьбой на госпоже Цзун — верной спутнице Ли Бо до последних дней его земного бытия.
Большинство исследователей считают госпожу Цзун второй женой поэта; Се Чуфа — четвертой [Се Чуфа-2003. С. 258], хотя все же усматривает различия между всей четверкой и разбивает ее на группы по продолжительности совместного существования. Проблема — в разных толкованиях «Предисловия к сборнику академика Ли», написанного поэтом Вэй Хао (другое имя Вэй Вань), где упоминаются четыре женщины, близкие Ли Бо, но отношения с первой и последней характеризуются как цюй, что означает официальный, узаконенный административными процедурами брак с созданием семьи и выделением главе семьи земельного надела, а со второй (из рода Лю) и третьей («женщина из Лу») — как хэ. Это слово комментаторами обычно трактуется как ехэ, что в широком смысле обозначает ненормативный брак (так, женитьба семидесятилетнего Хэ, отца Конфуция, на слишком юной девушке характеризовалась так же, поскольку по установленным традициям разница в возрасте между супругами не должна была превышать десяти лет); в случае Ли Бо это следует понимать как свободное «сожительство», хотя и закрепленное устным согласием родственников и администрации, но не «брак».
И Сюй, и Цзун достаточно часто упоминаются в стихах Ли Бо, «соседка с гранатовым деревом» (та самая Лю) встречается пару раз (чаще с ругательными эпитетами вроде «дуры из Гуйцзи» — как несозвучная душе мужа и опрометчиво быстро расставшаяся с ним), а вот «женщине из Лу» и таких строк не посвящено. Но с этой безымянной женщиной Ли Бо прожил более длительный срок. В ряде исследований указывается, что она родила ему сына (Поли или Тяньжаня), а когда поэт отправился в свою очередную длительную поездку, предложила оставить первых двух детей Ли Бо в ее доме вместе с их общим сыном, обещая присматривать за ними. «Как минимум мы можем сказать о ней, что это был тип мудрой женщины, и в истории семейной жизни Ли Бо она занимает важное место… Но когда Ли Бо заключил официальный брак с госпожой Цзун, она могла остаться лишь как наложница, поскольку была простого происхождения» [Фань Чжэньвэй-2002. С. 355].
Цзун, как и Сюй, была из рода высокопоставленных сановников, ее дед Цзун Чукэ находился в родстве с императрицей У Цзэтянь и трижды, при этой императрице и ее преемниках, претендовал на должность главного советника императора, но, по своим нравственным критериям не вписываясь в паутину дворцовых интриг, не обрел необходимого для полновесной власти авторитета. И внучка по воспитанию и склонностям выпадала из стандартного номенклатурного круга, была образованной, неглупой женщиной, любила поэзию, играла на цине, тянулась к интеллектуалам («познавала Дао, стремилась к святому Бессмертию», — писал о ней Ли Бо; воспитанные в сходных нравственных правилах, они позже очень подружились с Пинъян, дочерью Ли Бо). При этом была прекрасной кулинаркой, сразу пленившей взыскательного поэта местным деликатесом — огромным, на полтора цзиня[82], карпом из реки Хуанхэ с обжаренной до золотистого сияния корочкой, замаринованным в тягучем кисло-сладком соусе; колыхаясь, соус свисал с палочек, как усы дракона (слизывая его с палочек, обычно, смеясь, говорили: «Сначала надо съесть мясо дракона, а потом отведать его усы»). Насладившись лакомством, Ли Бо заметил: «Одежда должна быть старого покроя, а уж есть надо только домашнюю пищу» [Гэ Цзинчунь-2002-А. С. 196].
Имени новой спутницы поэта, как и в случае с первой женой, история нам не оставила, что не удивительно для маскулинно-ориентированной средневековой историографии, но в беллетристике возникают разные варианты. Даже профессор Гэ Цзинчунь называет ее имя (Цзун Цзюэ), но, вероятно, это творческая вольность ученого автора. Согласитесь, такое словосочетание, как «госпожа Цзун», способно разорвать всю художественную пластику, к которой Гэ Цзинчунь стремился, соединяя науку с литературой.
Отвергая «некондиционных» претендентов, она в итоге упустила пору своего цветения (к моменту знакомства ей было за тридцать). Но дождалась дара Небес — великого Ли Бо, оставшись ему верным другом до конца дней, хотя такой единодушно положительной, как в отношении первой жены поэта, оценки у китайских авторов нет. Так, писатель Бай Хуа в киносценарии «Поэт Ли Бо» рисует ее образ весьма резкими негативными мазками:
«Среди десятка домишек, крытых соломой, всего один гордится черепичной крышей — это дом Ли Бо. На веранде новая супруга поэта, госпожа Цзун, втолковывает детям урок, в руке зажата палка[83]. Боцинь и Пинъян стоят на коленях, едва сдерживая слезы обиды…»
[Пер. Н. Демидо. Книга-2002. С. 101]Существует версия, что длительные поездки поэта, накопившись, вызвали протест жены, и она поставила условие — или путешествуешь, или расстаемся. И вольнолюбивый поэт выбрал второе. Это не был официальный развод. Госпожа Цзун ушла к даосам на склон Лушань и «погрузилась в Дао». Лушань она выбрала отчасти потому, что там в монастыре жила Ли Тэн-кун, дочь Ли Линьфу, то есть женщина, с одной стороны, того же социального круга, с другой — той же духовной направленности. Ли Бо сам с почтением относился к этой даоской монахине, вырвавшейся к вольной духовной жизни из придворной духоты.
Однако формальная разлука не помешала госпоже Цзун броситься на помощь мужу, когда тот попал в беду. Она активно обращалась к былым высокопоставленным знакомым, выручая Ли Бо из тюрьмы, а потом вместе с младшим братом Цзун Цзином сопровождала Ли Бо в ссылку. Правда, в последний период жизни поэта в его стихах нет упоминаний о ней, и на этом основании некоторые исследователи делают вывод о том, что они расстались не только формально, что другие подвергают сомнению из-за недостаточной аргументированности вывода. Тот факт, что ее не было рядом с мужем в момент его смерти, — еще не основание для такого заключения. Не приехали и дети (правда, дочь к тому времени, вероятно, уже умерла). Ведь, по мнению большинства исследователей, болезнь поэта была скоротечной и смерть неожиданной.
Этот брак нельзя назвать случайным. Цзун Цзин был учеником Ли Бо, не раз настойчиво приглашал его посетить их дом (родители рано умерли), а сестра, зная стихи поэта, мечтала познакомиться с ним. Для китайских литераторов интеллектуальный уровень жены был достаточно важным критерием оценки. Ли Бо, конечно, не был исключением, хотя в стихотворениях и письмах он на первый план выдвигал ее родовитость. Некоторые авторитетные исследователи даже утверждают, что «для Ли Бо важным было ее сановное происхождение, чем он гордился» [Чжоу Сюньчу-2005. С. 122].
Возможно, сначала Ли Бо поселился в семье жены, где также жили ее брат и сестра. На это указывает тот факт, что, по нравственным нормативам того времени, сестра жены не могла жить в семье ее мужа, если те завели самостоятельный дом. Кроме того, новая жена должна была бы принять на себя обязанности умершей матери ее детей, обихаживать и воспитывать их, но дети Ли Бо от Сюй остались в Восточном Лу, а это могло произойти лишь в том случае, если поэт опять стал «примаком», войдя в семью жены со всеми сопровождающими этот статус правовыми ограничениями.
Через какое-то время, однако, новобрачные поспешили отделиться от родового гнезда, зажив самостоятельно в Юйчжане, почти рядом с Аньлу, где начинался первый брак Ли Бо, только на противоположном, южном, берегу Янцзы. По одной версии, у них родился сын Тяньжань — те самые иероглифы из текста Вэй Ваня, которые одни исследователи считают именем, другие — фразеологическим оборотом, ошибочно интерпретированным. О нем, однако, кроме имени, ничего не известно. А первые двое детей, вопреки традиции, так и остались в Восточном Лу.
В научной литературе бытует мнение, что Ли Бо нельзя считать «семейным» человеком, что он не испытывал чувства ответственности ни за жену, ни за детей (на распространенность такой оценки среди исследователей указывает Чжоу Сюньчу). Тем не менее, путешествуя по городам и весям, Ли Бо не забывал о семье, и по его стихам видно, что этот брак, как и первый, тоже был исполнен чувств и гармонии. Через пять лет после начала совместной жизни он пишет жене из Осеннего плеса:
Я сегодня поеду в Сюньян — Лишних тысяча ли расстоянье. Встречу в лотосах светлую рань, Напишу «Громовое посланье»[84]. Много в жизни печали и слез, Но разлука — особого рода, С той поры, как уехал на Плес, Писем с севера жду уж три года. У меня седина на висках, На лицо не приходит улыбка. Наконец, повстречал земляка, И в руках «пятицветная рыбка»[85] — Золотистой парчи письмена: Как Вы там, вопрошаешь ты чутко… Круч отвесных меж нами стена, Но она не преграда для чувства. («С Осеннего плеса — жене», 755 г.) Уж иней пал на чуские леса[86] — Холодной осенью пахнуло разом, Все золотит осенняя краса, Зеленое скрывается под красным. Прощайте же, певуньи под стрехой, К себе летите в северные дали. Увидитесь ли вы еще со мной? Вернетесь ли туда, где вас так ждали? Ужель забудется сей дивный дом, Проститесь навсегда с жемчужной шторой? Не птица я, уж не взмахну крылом, Чтобы лететь в незримые просторы… Вложу в письмо свое тяжелый вздох И неудержный слез моих поток. («Посылаю жене стихотворение о растроганном хозяине и ласточках, улетающих с Осеннего плеса», 755 г.)Вхождение в Дао
Но нас, кажется, слишком далеко увлек бурливый поток чувств Ли Бо. Вернемся в конец 744 года, когда в канун зимы поэт расстался с Ду Фу и направился в Цичжоу (современный район Личэн провинции Шаньдун), где в монастыре Пурпурного Предела (Цзыцзигун), пройдя обряд «вхождения в Дао» и получив мистический амулет из белой кости, официально становится даосом (без проживания в монастыре, поскольку на такой статус не нужно было получать разрешения административных государственных инстанций) и обретает доступ к тайным даоским текстам, сокрытым от мирян. К сожалению, от этого монастыря не осталось никаких следов, даже место его нахождения точно установить не удалось.
Взаимоотношения Ли Бо с ведущими идейными течениями эпохи достаточно неопределенны и потому служат предметом дискуссий с полярными оценками. Дискутанты пытаются вставить Ли Бо в четкую мировоззренческую структуру и, в зависимости от темы критического обзора, находят у него то почтение, то презрение к Конфуцию, то отрицание даоских тезисов, то углубление в них.
Всё это у Ли Бо есть, но отражает не устоявшиеся взгляды на то или иное учение, а выхваченный из сложной, противоречивой, нестабильной психологической ментальности момент, адекватный лишь самому себе, но не такому титаническому сплетению мыслей, чувств, настроений, каким был Ли Бо. Сегментироваться между конфуцианством, даоизмом и буддизмом для него не представлялось возможным, хотя он и пытался. Но все же взращен он был как даос и на наиболее устойчивом — подсознательном — уровне остался именно даосом. Потому-то он казался чужим в чиновной среде и с государевым служением ничего у него не вышло. Нельзя не подчеркнуть, что конфуцианство, овладев благодаря четкой иерархичной структуре сферой государственного управления, не смогло (или не захотело) подчинить себе сферу эмоционального бытия человека, и потому душа китайца, в первую очередь человека творческого, тянулась к эмоциональной мистике даоизма и буддизма.
Более глубокое слияние с даоским учением стало для Ли Бо не окончательной, но важной вехой его мировоззренческого развития. Не исключено, что тут присутствовал и конъюнктурный социально-политический аспект (хотя это сомнительно, учитывая, что произошло это после разочарования в нравственной ауре императорского двора и решительного разрыва с ним). В танское время даоское учение начинает обретать больший, чем в прежние времена, вес. Танские императоры считали своим предком Лао-цзы, чья родовая фамилия была Ли, как и у них (и как у Ли Бо), многие члены императорской семьи уходили в монахи (например, Юйчжэнь, сестра Сюаньцзуна; даоской монахиней формально стала Ян Гуйфэй, получив имя Тайчжэнь).
В Шу, отчем крае Ли Бо, превалировали даоские взгляды с мистической окраской ухода в «инобытие». Неподалеку от дома будущего поэта на горе Пурпурных облаков стоял даоский монастырь, и Ли Бо не раз бывал там, о чем позже вспоминал в стихах («На горе Пурпурных облаков у дома / Дух даоский никогда не гас» — стихотворение «Посвящаю живущему в горах Сун отшельнику Юань Даньцю»). Подружился с даосом Дун Яньцзы и, сливаясь с естественностью Природы, приручил диких птиц, которые клевали зерно у него с ладони. Позже в горах Наньюэ навестил отшельницу У Цзян, носившую, как поэт позже описывал, «плат лотосов». В горах Суншань безуспешно искал отшельницу Цзяо, которой насчитывалось уже двести с лишком лет, хотя выглядела она на пятьдесят-шестьдесят. Цзяо была сведуща в даоской алхимии, умела задерживать дыхание, долгое время обходиться без пищи. К даосам Ли Бо влекла не только общественная атмосфера времени, но и собственный «стержень Дао».
Временами он сближался и с конфуцианским подходом к месту человека в социальной структуре, особенно на территории Лу, колыбели конфуцианства, хотя уже в то время отпускал поэтические шуточки по поводу того, что конфуцианцев «дела сегодняшние не трогают» (стихотворение рубежа 730–740-х годов «Смеюсь над конфуцианцем»). Полтора года, проведенные при ранее идеализировавшемся им императорском дворе, тем более углубили его разочарование в «мирской пыли». Его взгляды на Конфуция резко колебались между почитанием, даже функциональным самоотождествлением — и, как с остервенением даоского апологета формулирует Ли Чанчжи, «презрением» [Ли Чанчжи-1940. С. 88].
«Вхождение в Дао» было особой процедурой, обставленной четким церемониалом. Ей предшествовала специальная подготовка: претендент должен был обратиться к известному даосу с просьбой написать для него на белом шелке красной тушью тексты тайных трактатов («Пять тысяч знаков», «Три постижения», «Постижение сокровенного», «Высшая чистота» и др.), в нескольких местах перемешав иероглифы так, чтобы непосвященный не смог понять текст. Поэту сделал это известный даос Гай Хуань из Аньлина (современная провинция Хэбэй).
К выбору того, кто в ходе церемонии должен был вручить претенденту трактаты, Ли Бо отнесся весьма серьезно. Считалось, что космическая энергетика Учителя воздействует на судьбу претендента, и Ли Бо обратился к знаменитому на всю страну даосу Гао Жугую, которого почтительно именовали Небесным Учителем; поэт познакомился с ним в Чанъане.
В назначенный час претенденты выстроились друг за другом и, покачиваясь из стороны в сторону, держа руки за спиной, как осужденные на казнь, медленно двинулись к алтарю, обвязанные лентами (в древности это были веревки, впоследствии — бумажные полосы), символизирующими налагаемые на претендента ограничения. На алтаре стоял тот, кто проводил церемонию «вхождения в Дао». Вручив подарок (золотой браслет и медные монеты), Ли Бо торжественно молвил, обращаясь к Гао: «Учитель мой в веках пребудет» (то есть фактически обозначил его как «живого святого»). Гао взял браслет, переломил его и вернул половинку Ли Бо как знак скрепления договора о «вхождении», после чего вручил ему написанные священные тексты. И вслед за другими поэт продолжил движение вокруг алтаря, совершая круг за кругом. Мысленно претенденты представляли себя «гостями Яшмового Владыки», их губы беззвучно произносили обращенные к Небесному Верховному Владыке мольбы о снисхождении.
Обычно так продолжалось от семи до четырнадцати дней и ночей. Ежедневный краткий отдых с глотком родниковой воды и пиалой неприхотливой пищи ждал их лишь при первых лучах рассветного солнца. Некоторые теряли сознание, не выдержав физического и нервного напряжения, и их оттаскивали в сторону. Для них процедура завершалась безрезультатно. Выдержавшим испытание вручали амулет монаха.
Такая жесткость преследовала две цели: отсечь физически и духовно слабых и обострить чувства для абсолютного принятия веры в принципы даоизма и идеи перехода в пространство даоской святости.
Однако Ли Бо пошел на эту процедуру не для того, чтобы полностью отрешиться от мира и уйти в монастырь. Он восхищался Цзюньпином[87], спустившим полог своей отшельнической обители и погрузившимся в сокровенные тайны Дао, которые открывали ему пути и судьбы человечества, но при этом с горечью акцентировал непризнание «бренным миром» мудреца, непонимание глубины его мыслей («некому постичь безмолвия бездны»).
А Ли Бо бездны мудрости, таящиеся в нем, жаждал донести до людей, и не он уходил от мира, а мир отталкивал его. Противопоставить этому он мог лишь преодоление времени и пространства с помощью даоской алхимии, уходом в вечность с возможностью возврата в лучшие времена Земли.
Согласно даоскому тайному учению, реализовать это можно было двумя путями: приемом специального снадобья, приготовленного на основе киновари (сурика), либо удостоившись персонального приглашения от какого-либо святого. И о том, и о другом вариантах Ли Бо много размышлял в своих стихотворениях, не отказываясь от первого, более трудоемкого, дорогостоящего, таящего опасности (киноварь при нагревании выделяет ртуть, отравляющую человеческий организм при избыточной дозировке, что привело к гибели не одного императора, в том числе и в период правления династии Тан; есть версия, что это же было причиной смерти Цинь Шихуана), но предпочитая второй (не напоминает ли это выбор пути ко двору «через Чжуннань», а не через систему ступенчатых экзаменов кэцзюй!). Не стоит, однако, обвинять Ли Бо в сибаритстве — таков уж у него был характер, взрывной, необузданный, «безумный», жаждущий действия, а не ожидания, мгновенного результата, а не постепенного, медленного продвижения. И высочайшее осознание себя, своей миссии, благословленной Небом.
Время от времени он исчезал с горизонта социально-направленных действий, чтобы где-нибудь в потаенном гроте на горном склоне вдохнуть воздух духовной энергетики и вольности, чего ему так недоставало среди мирской пыли. Так, в 750 году он на какое-то время осел на горе Лушань неподалеку от Дунлиньского монастыря, куда часто заходил, садился на коврик перед Буддой, бесстрастно смотрящим сквозь него своими Синими Лотосами, и, упоенный душистыми фимиамами высоких свеч, переносился в пространства и времена, не имеющие границ, не знающие ни побед, ни поражений.
Вариация на тему
Бродя по лесным тропам, уже не на Лушань, а на другой горе и через пять лет после своих лушаньских бдений, вышел он к какой-то лощине. Вечернее солнце окрашивало ее пурпурным закатным светом, и поэту увиделся в его оттенках цвет киновари, которую даосы употребляют для изготовления Эликсира бессмертия. В душе что-то всколыхнулось, и не слышный ушам голос позвал его. Лес вдруг раздвинулся, посреди поляны открылся монастырь. Но странно… Перед воротами подросла трава, никем не примятая. Сквозь щели частокола Ли Бо увидел стену, по которой плотоядно ползли змеи лиан, сквозь мутноватое окно сумел разглядеть пустую залу со свитками на стенах, уже покрытыми пылью. Еще не осознавая, что произошло, он внутренним слухом вдруг услышал неземную музыку, внутренним взором увидел парящие в воздухе цветы, которые, вероятно, разбрасывала Небесная Дева. «О, как это прекрасно! — без слов воскликнул поэт. — Они растворились в Ничто!» И дома дрожащей от волнения кистью он набросал стихотворение:
Тропа заводит в красную лощину, Побеги сосен оплели врата, Лишь птиц следы на лестницах пустынных, И некому впустить меня туда. Сквозь окна вижу пыльные узоры На свитках, ниспадающих со стен. Такое запустенье перед взором, Что хочется уйти в лесную тень. Но благовонье наполняло склоны, Цветов небесных вился ураган[88], Звучала музыка меж гор зеленых, И выл тоскливо черный обезьян. Мне стало ясно: бренный мир оставив, Они ушли совсем в иные дали. («Не найдя монахов в горном монастыре, написал это стихотворение»)Ему самому хотелось вложить меч в футляр, одеться, как даоский монах, подвесить к поясу амулет и мешочек с минералами для Эликсира и, как он написал в стихотворении «Уезжая в Цзяннань, оставляю Цао Наньцзюню», уйти в «безбрежный пурпурный туман киноварных испарений».
Но ведь то же стихотворение начинается с отождествления самого себя с отшельником Доу Цзымином из родных сычуаньских мест (тот отпустил духа воды, выловленного из ручья, обратно, а спустя время дух прислал Цзымину рыбку, в живот которой было заложено послание с рецептом Эликсира бессмертия, выпаренного из «пяти каменных пальцев» с горы Хуаншань; Доу Цзымин исполнил предписанное и через три года получил приглашение в Занебесье). Ли Бо излагает эту историю так, словно она произошла с ним самим: «Когда-то я выловил Белого Дракона / И отпустил его в водный простор. / Я жажду овладеть искусством Дао и покинуть мир, / Взмахну рукой и уйду в безбрежность».
Подобного рода персонажей весьма много в стихотворениях Ли Бо. Ань Цишэн, деревенский торговец снадобьями, который нашел в горах корень аира — крохотный, не больше цуня длиной, но девятиколенный. Поняв, что это корень непростой, Ань съел его и вознесся, потом навестил императора Цинь Шихуана, три дня и три ночи беседовал с ним и исчез, отказавшись от дорогих подношений. Вэй Шуцин, тоже вознесшийся, выпив Эликсир, тоже встречавшийся с императором (ханьским У-ди) и тоже не пожелавший остаться в золоченых палатах. Ван-цзы Цяо (другое его имя Ван-цзы Цзинь), чжоуский принц и искусный музыкант; его свирель, подражавшая голосу феникса, пленила даоса Фу Цюгуна с горы Суншань, и он пригласил принца в свою обитель, откуда тот взмыл на Желтом Журавле в небо, а через тридцать лет прилетел в родные места, где все его видели, но не могли осязать…
Большинство мифологических прецедентов, упоминаемых у Ли Бо, связаны не только с Эликсиром, но и с императорами, которые жаждут принять святого в своем дворце, однако тот отвергает лестное приглашение. Психологический «земной» ассоциативный подтекст, намеренно или подсознательно поставленный поэтом, просматривается тут достаточно явно. Ли Бо откровенно привлекает вольность жизни в первозданном естестве, свобода передвижения святых, возможность общаться с Яшмовыми Владыками всех тридцати шести небесных сфер, заселенных святыми, но от Земли окончательно оторваться он не в силах. Он видит перед собой огромную цель, задачу, которую должен исполнить именно на Земле, и не может даже ради вольного эфира покинуть ее.
Так что у Ли Бо не было мысли стать тяньсянь, то есть «небесным святым», уже полностью «вписанным» в Занебесье, получившим определенный пост в небесной иерархии и практически недоступным для землян (Яшмовый Владыка, богиня запада Сиванму и им подобные). Он хотел стать дисянь («земным святым»), как Ван-цзы Цяо, Гэ Ю, Вэй Шуцин и другие, рожденные на Земле и остановившие тление бренного тела, обретя недоступные простым мирянам чувственные энергетические возможности.
Вариация на тему
Сидел однажды Ли Бо по обыкновению в кабачке и услышал разговор на улице: «Как вы можете, почтенный, в таком возрасте взваливать на себя столько хвороста? Где вы живете?» В ответ раздались звонкий смех и четыре стихотворные строки: «С утра несу хворост на продажу, / Покупаю вино и на закате возвращаюсь. / Спрашиваете, где мой дом? / Пронзив облака, ухожу на лазурный склон». Ли Бо обомлел и спрашивает кабатчика: «Кто это?» — «Старик по имени Сюй Сюаньпин, он живет в глубине гор, но никто не знает, где. Утром принесет хворост, продаст, выпьет и идет по улицам, распевая стихи. Сумасшедший, наверное». Ли Бо выскочил на улицу, но старика и след простыл. «Уж не святой ли встретился мне?!» — возопил поэт. Ночью ему не спалось, всё вспоминал это четверостишие, полвека прожил, а такого гения стиха, кроме Ду Фу, не видел. Это, конечно, святой! Нельзя упустить такой случай!
День за днем, закинув за спину бутыль с вином, он бродил по горам тропами дровосеков. Миновал месяц, а старика и тени не было. Вздремнет на камне, подкрепится невзрачным дичком, подбодрится глотком вина — и дальше. Солнце уже садилось, когда Ли Бо приблизился к подножию горы Пурпурного солнца неподалеку от Хуаншань и на поверхности огромной скалы увидел строки: «Живу в тиши тридцать поколений, / Соорудил хижину на скалистом южном склоне. / Безмятежной ночью любуюсь ясной луной, / Беззаботным утром пью из лазурного родника. / Дровосеки поют на могильных курганах, / Птички из ущелья забавляются перед скалой. / О, радость — не ведать старости, / Забыть о вращении лет!» Стихотворение повторялось трижды. От него словно исходил аромат горных цветов. (В другой работе, несколько иначе пересказывающей легенду, в пятой строке «могильный курган» заменен омонимом с другим написанием, превращающим его в топоним, что позволяет предположить, что святой жил не у Хуаншань, а на одной из гор Лун в провинции Хэнань или Шэньси или даже в провинции Ганьсу, куда некогда были сосланы предки Ли Бо и откуда они бежали в Суйе.)
«Волшебные стихи… — прошептал Ли Бо. — О, воистину это рука святого!» И подумал: встречу старика, трижды поклонюсь ему, пусть научит меня, как войти в Дао.
Уже стемнело, когда с реки, текущей у подножия горы, донесся шум приближающейся лодки. На носу стоял старик с шестом в руках. «Позвольте спросить, почтенный, — обратился к нему Ли Бо, — не известно ли вам, где находится дом Сюй Сюаньпина?» А это сам Сюй Сюаньпин и был. Шестом он указал вперед и усмехнулся: «Там лощина в бамбуках, это и есть дом Сюй Сюаньпина». — «Бамбук растет повсюду, где ж мне искать?» — растерянно спросил поэт, вглядываясь в затянутое сумерками ущелье. А старик пристально посмотрел на него: «А вы…» — «Я Ли Бо». Старик только руками всплеснул: «Ай-я, Ли Бо, поэт-святой! Что я? Я — капля в море поэзии. А вы — океан! Чему мне вас учить? Осмелюсь ли?» — «Старик, я три месяца искал тебя, бродил в ветрах и ливнях. Так трудно отыскать Учителя, и что же, я ни с чем вернусь?!»
И с той поры, на ясной ли заре, на закате ли солнца не раз видали их вдвоем на камне у реки — смеясь, распивали за чашей чашу, нараспев читали стихи.
И сегодня близ Хуаншань еще заметны следы Ли Бо — вам все укажут на «пьяный камень» у ручья, похожий на голову тигра: на нем-то, говорят, и сидели Ли Бо с лодочником, ополаскивая опустевшие чаши в чистейшем ручье, который с тех пор называется «Источник, в котором ополаскивали чаши».
[Жун Линь-1987. С. 119–122]Существуют предания о превращении Ли Бо в святого. Это не только ставшая уже расхожей легенда о финале его земного бытия, когда он во хмелю потянулся с лодки за отражением луны в воде и утонул, а через мгновение вынырнул верхом на ките и вознесся в небо. У поэта Хань Юя есть рассказ о том, как Ли Бо видели сидящим на высокой горе над Бэйхаем, где он долго беседовал с каким-то даосом, после чего они оба оседлали красных дракончиков и унеслись в сторону Восточного моря, где таится обитель святых (Пэнлай и другие острова).
По легенде, Бо Гуйнянь, потомок поэта Бо Цзюйи, на горе Суншань встретил однажды незнакомца, который передал ему приглашение от Ли Бо и повел в глухую чащу, где он увидел человека в свободной одежде и с непринужденными манерами. «Я — Ли Бо, — назвался тот. — Получив освобождение, я стал святым, и Небесный Владыка определил мне жить здесь, и вот уже сто лет живу тут. Ваш предок Бо Лэтянь (второе имя поэта. — С. Т.) тоже обрел святость и живет на горе Утай».
В годы Сунской династии бытовало предание, будто Ли Бо видели в кабачках напевающим свои новые (!) стихи: «Жизнь человека — огонек свечи, / Погаснет свет — уйдет очарованье»; поэт Су Ши считал их настолько совершенными, что написать их, по его мнению, не мог никто иной, кроме как сам Ли Бо[89].
Вновь хочу подчеркнуть, что мифологические персонажи были для Ли Бо не порождением фантазии, а исторической реальностью, и произведения о них вполне вписываются в тематическую группу «стихов об истории». Вторая половина 740-х годов, после ухода из столицы, — как раз и является для Ли Бо временем мифо-историко-философских размышлений. Прежде всего в цикле «Дух старины», но и за его пределами он создает целый ряд выразительных стихотворений, в которых обращается к историческому и мифологическому материалу, препарируя его таким образом, чтобы провести акцентированные ассоциации с днем текущим.
Подобные стихи, традиционно классифицируемые как тематическая группа «юн ши» («стихи об истории»), — давняя традиция китайской поэзии, уходящая корнями в древний «Канон поэзии» («Шицзин»), присутствовавшая уже у Цюй Юаня. Там, однако, история была не центральным объектом, а фоновым. Лишь у Бань Гу (период Восточной Хань, I–III века) впервые появилось стихотворение, прямо посвященное историческому событию; оно так и было названо «Юн ши», что впоследствии стало обозначать тематическую категорию. В дотанское время, однако, такие стихи не занимали значительного места в общем корпусе поэзии, и только в золотой век Танской династии поэты много и серьезно стали обращаться к событиям отечественной древности.
Наиболее интенсивно эту тематику разрабатывал именно Ли Бо. Из сохранившихся девяти с лишним сотен стихотворений более семидесяти произведений прямо и непосредственно говорят об исторических событиях (а есть еще стихи, затрагивающие тему косвенно, и это больше, чем совокупное количество произведений этой тематики, созданных до Ли Бо). История выступает у него либо как прямой объект повествования (событие или персонаж), либо как повод для размышлений, либо как фон вызывающего у поэта всплеск эмоций памятника древних времен, на который он смотрит. Это, конечно, условное разграничение, поэт не регистратор, древность и современность, повествование и чувство в стихотворениях пересекаются, взаимно дополняя друг друга.
Но особенность этой тематики в том, что такие пересечения не лежат на поверхности, и ассоциативный ряд можно выстроить, лишь выйдя за рамки самого стихотворения в более широкий пласт истории (включая мифологию) или в личные мотивы автора.
В 747 году Ли Бо написал два стихотворения, вошедшие в цикл «Дух старины», в которых обратился к такой величественной фигуре древности, как Цинь Шихуан. В одном сквозит грусть осознания бренности земных деяний, даже воспринимаемых как величественные:
Правитель Цинь собрал все шесть сторон, Могуч, как тигр, непобедим герой! Мечом пронзает тучи в небе он, Вассалы все спешат к нему толпой. Ниспосылает Небо свет идей, И льется мудрых замыслов поток: Перековал мечи в «Златых людей», Открыл врата заставы на восток, Воздвиг на Гуйцзи знак высоких дел, С террас Ланъе на мир воззрился сам, А каторжанам строить повелел Себе гробницу на горе Лишань; Послал за Эликсиром вечных лет — Во мгле сокрытое родит печаль; На берег моря взял свой арбалет — Убить кита, что на пути лежал: Как пять святых вершин, тот вдруг возник, Громоподобные подъяв валы, Уходит в небеса его плавник, Сокрыв Пэнлайский холм в морской дали… Взял на корабль Сюй Фу веселых дев И с ними затерялся в тех морях, И в глубь тяжелую земных слоев Лег саркофаг златой и хладный прах. («Дух старины», № 3)А в другое вторгается пафос отрицания: даже такой великий государь, как Цинь Шихуан, не сумел осуществить грандиозные замыслы, ибо пренебрег природными ритмами и человеческими нуждами (весенняя пахота), принес страдания людям, и в итоге — нескончаемая печаль в душе:
Мечом чудесным циньский государь Способен был и духов устрашить. За солнцем ринулся в морскую даль, Велел над бездной мост камней сложить, Набрал солдат, опустошив весь мир, — Десятки тысяч не пришли домой, Затребовал пэнлайский Эликсир — И пренебрег весенней бороздой. Растратил силы, а успеха нет, Одна печаль на много тысяч лет… («Дух старины», № 48)Конечно, всякая интерпретация художественного произведения грешит приблизительностью, и тем не менее нельзя не признать, что метод «речи за пределами слов», собственно говоря, привычный не только для китайской изящной словесности, с неизбежностью подталкивает исследователей к интерпретации как эстетического впечатления, так и предметного смысла. В данном случае комментаторы единодушно видят просвечивающую сквозь обозначенную фигуру древнего императора — не обозначенную, но достаточно отчетливо прорисованную фигуру современного Ли Бо императора Сюаньцзуна с его завоевательными походами и тяготением к мистическим рецептам «инобытия» в заоблачных высях.
Когда весной 747 года Ли Бо вновь отправился в романтичные края своих юношеских грез — У и Юэ, он не смог не поставить свои поэтические впечатления на исторический фон.
В руинах сад, дворец… Но в тополях — весна, Поют, чилим сбирая, девы спозаранку, Лишь над рекою неизменная луна Глядит на них, как прежде на пиры У-вана. («С террасы Гусу смотрю на руины»)Остатки былого великолепия — дворца, сооруженного в период Чуньцю У-ваном, правителем княжества У, на горе Гусу в районе современного города Сучжоу для красавицы Сиши, вызывают у поэта смешанное чувство презрительной жалости к тщете дворцовой мишуры и восторга перед нетленностью естества, в котором сплелись слиянная с природой жизнь и вечное Небо, оком луны взирающее на человека.
Вариация на тему
А не пронзил ли острый взгляд поэта толщу лет, узрев, что тут сотворят потомки через 1300 лет? На освещенной мерцающими, слепящими огнями сегодняшней террасе Гуситай («Терраса древних действ» — не совсем там, где стоял дворец, а в самом городе) грохочет многоцветное «шоу» в стиле «ретро», подкрашенные и разрумяненные танцовщицы демонстрируют ушедшую в века традиционную культуру, а по узким каналам Сучжоу, рыча, мечутся моторизованные гондолы, и лишь одна лодочка, предназначенная для интимных встреч, консервативно управляется традиционным бамбуковым шестом под негромкое пение народных мотивов — этим занимается пожилая супружеская пара на незначительном государственном обеспечении в 600 юаней. А про давно рухнувший дворец древнего правителя никто из веселой толпы и не вспомнил…
В стихотворении стоит обратить внимание на определенную временную дистанцию между объектом повествования и творящим субъектом: поэт акцентирует свою локализацию в сегодняшнем дне, из которого он смотрит в день вчерашний.
Такого рода стихи, негативно живописующие дворцовую жизнь правителей далекого прошлого, никоим образом не противоречат основополагающей мировоззренческой установке Ли Бо, выраженной в тезисе «реставрация Древности», поскольку не ложатся в ее русло. Та Древность, вернуться к которой поэт звал, — это не столько временной пласт, сколько философский принцип следования Дао в духе праотцев. Правда, даже в адрес Яо и Шуня он иногда отпускал осуждающие замечания, а более близкие периоды заслуживали лестной оценки, как, например, расцвет Танской династии:
Сто сорок лет страна была крепка, Неколебима царственная власть! «Пять фениксов» пронзили облака, Над реками столицы вознесясь. Вельмож — что звезд в высоких небесах, Гостей — что туч, летящих мимо нас… («Дух старины», № 46)Но эти панегирические строки славят период, предшествовавший жизни Ли Бо, а сегодняшний день у него чаще покрыт сединой грусти, и даже в любимых местах древнего царства У поэт фиксирует печаль разлук и непонимания. В Цзиньлине в 749 году он приходит к павильону Лаолао, до которого обычно хозяева провожают гостей и расстаются с ними, и пишет, вспоминая для контраста исторический эпизод счастливой для поэта Юань Хуна (эпоха Цзинь, III–V века) случайности — тот был услышан и признан:
Павильон Лаолао печалью прощаний отмечен, И вокруг буйнотравием сорным прикрыта земля. Нескончаема горечь разлук, как поток этот вечный, В этом месте трагичны ветра и скорбят тополя. На челне непрокрашенном, как в селинъюневых строчках, О снежинках над чистой рекой я всю ночь напевал. Знаю, как у Нючжу Юань Хун декламировал ночью, — А сегодня поэта услышит большой генерал? Горький шепот бамбука осеннюю тронет луну… Я один, полог пуст, и печаль поверяю лишь сну. («Песня о Павильоне разлуки Лаолао»)С грустными строками о прощании в павильоне Лаолао как-то произошла такая история. Ли Бо шел по улице со своим давним приятелем Цуй Цзунчжи, и у моста его узнал прохожий: «О, Ли Тайбо, святой, спустившийся с Небес! Ваше имя известно всей Поднебесной!» Сделав несколько шагов, поэт обернулся — прохожий стоял и что-то писал, но не на бумаге, а на широком листе банана. Наутро они с Цуем возвращались мимо того же моста и увидели этот лист банана; он не валялся на земле, а был привязан к опоре. «Посмотри-ка, брат Бо, на этом листе — твои стихи!» Да, прохожий написал на листе стихотворение Ли Бо, но не это, а другое, давнее, «Павильон Лаолао», пронизанное такой же печалью разлук под холодным ветром ранней весны.
Именно в эти годы Ли Бо глубже задумался о проблемах эстетики и написал два выразительных стихотворения, резкими мазками очертив движение поэзии из древности к сегодняшнему времени и существо ее эстетических идеалов (оба стихотворения были включены в цикл «Дух старины» и считаются центральным эстетическим манифестом Ли Бо):
Уж боле нет былых Великих Од, Кто их создаст теперь, когда я стар? Как пали «Нравы»! Лишь бурьян растет На тех полях, где были битвы царств. Друг друга пожирали тигр, дракон, Покуда не сдались безумной Цинь. В стихах давно утрачен чистый тон, Лишь Скорбный человек восстал один, Ян Сюн и Сыма Сянжу в те года Поддерживали вялую волну, Но взлетов и падений череда — И вновь канон стиха пошел ко дну, А с завершеньем времени Цзяньань В узорах слов и вовсе гибнет смысл. Воспряла Древность только в доме Тан, Всё снова стало ясным и простым, Талантам многим к свету путь открыт, Резвятся рыбками в кипенье волн, Созвучьем тела с духом стих звенит, Как полный звезд осенний небосклон. «Отсечь и передать» высокий смысл Обязан я, чтоб гаснуть свет не мог. Мечтаю, как Учитель, кончить мысль Лишь в миг, когда убит Единорог. (№ 1) Взялась уродка подражать красотке — Соседи в шоке разбежались прочь; У шоулинца странная походка — Ханьданьцам смех свой удержать невмочь. Вот песня — складно, только нет в ней правды, Как в мошке, что ребенок малевал; Другой, свой дух растратив без пощады, Макаку из шипов сооружал. Искусно, только что же толку в оном? Роскошно, только пользы миру нет. А воспевавшие Вэнь-вана оды Давно уж канули в пучину лет, Нет больше инца, чей топор, что ветер, Летал искусней всех на белом свете! (№ 35)Излагая в последнем стихотворении целый ряд легендарных сюжетов, Ли Бо показывает свой эстетический идеал — как бы «от противного», утверждая бесцельность, непригодность, бесполезность тех творений, где авторов заботила лишь форма, но не содержание и целевое назначение. В идеале, по мысли Ли Бо, они должны быть гармонично созвучны, как в забытых к тому времени, полагает поэт, древних Одах из «Канона поэзии». Ли Бо сетует, что высокая поэзия давно погребена в дворцовых распрях и нет подобного Конфуцию мудреца, который, пользуясь его методом «отсечь» лишнее и «передать» лучшее, мог бы составить канон, оставив потомкам лишь то, что несет высокий смысл.
Мороз над Багровым Заслоном
Однако этот период завершился для Ли Бо принятием решения, имеющего важное значение не в эстетическом смысле, не в плане его поэзии, а исторически и политически (хотя мудрость и прозорливость Ли Бо именно политически и была недооценена — не только, кстати, современными ему правителями, но и некоторыми сегодняшними исследователями, касающимися этой темы несколько снисходительно).
Впервые после своих чанъаньских «набегов» Ли Бо собирается в дальнюю поездку не столько с целью познать новое, всколыхнуть поэтическое восприятие мира (хотя и это присутствовало в качестве побудительного начала, но не как основное, а фоновое), а в качестве то ли посла (никого не представляющего), то ли разведчика (чья информация важнейшего государственного значения не была воспринята теми, кто принимал решение на правительственном уровне) — он едет в далекую северную область Фаньян на встречу с Ань Лушанем, который прислал к нему своего человека Хэ Чанхао с настоятельным приглашением.
Вариация на тему
За окном свистел полночный ветер, Ли Бо уже спал и сразу не сообразил, что нужно от него этому важному вельможе, вломившемуся среди ночи. Не иначе, император Цинь Шихуан призывает к себе мудрого даоса Ань Цишэна. Ну, что ж, погляжу, что там происходит, а потом, как Цишэн, унесусь летучей звездой, оставив «императору» записку: «Через десять лет ищи меня на горе Пэнлай».
Все эти намеки содержатся в стихотворении «Подношу судье Хэ Чанхао».
Судьба Ли Бо достаточно тесно переплелась с Ань Лушанем, этой известной исторической фигурой. Представитель неханьской «варварской» народности, Ань Лушань, помимо китайского, владел шестью языками «вассалов», то есть малых народностей, состоявших в союзных отношениях с Китаем, достаточно непрочных и нестабильных, поэтому выходцам из них обычно не доверялись высокие гражданские посты в государстве. Он, однако, поднялся не только до уровня так называемого «вассального генерала», но был назначен еще и военным правителем (цзедуши, или «генерал-губернатор») северных пограничных районов — в 741 году Пинлу, а в 744 году еще и Фаньян со ставкой в Ючжоу (район современного Пекина). Ань Лушань постепенно набрал себе достаточно внушительное войско в основном из степных кочевых народностей, преданных лично ему: из почти пятисот тысяч солдат, находившихся в подчинении цзедуши всех десяти погранрайонов страны, около двухсот тысяч входили в войско Ань Лушаня (плюс еще восьмитысячный «особый отряд» наиболее верных степняков).
С этой силой — почти половина всей армии страны — уже нельзя было не считаться, что привело «варвара» в самый ближний круг императорского двора. Сюаньцзун относился к нему доверительно, не сомневаясь в его верности и мудрости, и отвергал все предостережения (наследника престола принца Ли Хэна и Ян Гочжуна, невзлюбившего беспардонного «варвара»), жаловал ему посты и награды, в 750 году тот получил влиятельный титул правителя области Дунпин, сосредоточив в своих руках власть над огромной территорией Северного и Северо-Восточного Китая.
Ань Лушань начал вести себя своевольно и дерзко, не склонялся перед наследником, а, отбивая поклоны императору и Ян Гуйфэй, преклонял колени прежде перед Драгоценной наложницей, а уж потом перед государем.
Вариация на тему
«Вдоль Драконового пруда, в сопровождении свиты и особо приближенных — Гао Лиши, Ань Лушаня, Ян Гочжуна и Ли Линьфу, — в Душистый павильон следовал сам император.
„Высочайший экипаж пожаловал…“ — тихонько шепнул на ушко Ян Гуйфэй евнух. Но она и бровью не повела, даже не подумала обернуться. „Прибыл Высочайший императорский экипаж!“ Притворившись, что поглощена цветами, Ян Гуйфэй по-прежнему продолжала прятать среди душистых пионов свое нежное, напудренное личико.
„Юйхуань, мы пожаловали!“ — не выдержал император. Лишь тогда Ян Гуйфэй соизволила обернуться. С неподражаемым кокетством прикрыла лицо шарфом из красного шелка, настолько тонким, что позволял разглядеть обворожительную улыбку, выражающую бесконечную радость от нежданной милости. „Ваша покорная жена Ян Юйхуань нижайше благодарит императора за визит, желает Священному владыке десять тысяч лет жизни, десять тысяч раз по десять тысяч лет жизни!“ — „Драгоценная Супруга, прошу тебя, встань!“ — Ли Лунцзи готов был сам поднять Ян Гуйфэй с колен, но его опередила одна из дворцовых прислужниц.
„Долгие лета Драгоценной Супруге!“ — Ян Гочжун, Ли Линьфу, Гао Лиши поочередно церемонно кланялись Ян Гуйфэй. Особенно усердствовал Ань Лушань, припав последним к краю платья красавицы. „Недостойный приемный сын Ань Лушань кланяется в ноги Драгоценной Матушке!“ — „Довольно, теперь можешь встать!“ — легонько потянула Ян Гуйфэй его за рукав. Ань Лушань, словно капризный ребенок, немного поупрямился, но все же поднялся».
(Бай Хуа. Поэт Ли Бо. Киносценарий. Перевела Н. Демидо)[90].Находясь в эпицентре всех этих сложных конфликтов, Ли Бо не мог не почувствовать, что за слепящей волнующейся поверхностью кроются темные глубины коварства. Интуиция подсказывала ему, что тут не просто личные отношения, а судьба страны. Сильный, но по природе своей неконфликтный человек, Ли Бо примерно в этот же период в стихотворении «Бой к югу от города» с горечью восклицал: «Поверь: оружье боевое — зло, / Его мудрец без нужды не возьмет!» И потому бесстрашно (и безрассудно) ринулся в эти коварные глубины, чтобы узреть истину и предотвратить беду.
Он оделся странствующим даосом и навстречу надвигающейся зиме десятого года Тяньбао (751) двинулся из милого душе Лянъюань в сторону сурового севера. Он не торопился. И потому, что суета мешает мудрости, и потому также, что ему были чрезвычайно интересны достопримечательности былых эпох этих доселе не виданных им краев за мутной Хуанхэ. В дотанские времена эти места знали мало покоя, и следы разрушительных войн попадались на каждом шагу.
На 10-ю луну одиннадцатого года Тяньбао (рубеж зимы 752 года) он достиг Ючжоу у подножия горы Яньшань к югу от Великой стены (район современного Пекина) — вошел в логово тигра.
Вариация на тему
«От военных шатров рябит в глазах, надрывный плач тростниковых дудок режет ухо. Ань Лушань, опершись на огромный меч, совершает смотр своего конного войска. Яростный ветер треплет наброшенный на плечи плащ, обнажая тяжелые железные доспехи, скрывавшиеся под ним. Ань Лушань сразу узнал поэта: „А, так это дорогой гость императора собственной персоной пожаловал к нам в Фаньян умолять о прощении?! Может, составите компанию презреннейшему из генералов, проведете со мной смотр войск?“
Ни словечка не промолвил в ответ Ли Бо, лишь настороженно взглянул на генерала. „Начали!“ — подняв меч, громко, на языке кочевников-чужеземцев проревел Ань Лушань. Два отряда конников, прикрываясь железными щитами, помчались друг на друга, словно вихрь. Мечи против сабель, секиры против щитов — только искры летят.
„Ну, у кого еще есть такое бесстрашное войско? Кто другой, скажи, способен командовать такой армией? — самодовольно расхохотался Ань Лушань, но, усмотрев враждебность в молчании Ли Бо, вдруг предложил: — Придворный поэт Ли! Я знаю, что в вине вам нет равных, а потому прошу вас выпить со мной!“
У генеральского шатра во всю наяривают музыканты. В центре, на правах командующего, — Ань Лушань, по обе стороны от него, строго по ранжиру — генералы, Ли Бо на самом почетном месте — подле Ань Лушаня. У всех в руках огромные кубки. Воины в доспехах прислуживают пирующим: наливают из бурдюка вино, подают закуску — большие куски говядины на ножах. Лучники выкатили не менее десятка телег с клетками, в которых — пленные. Лучники выстроили телеги в ряд прямо перед Ань Лушанем. Указав острием меча на несчастных в клетках, генерал объяснил Ли Бо: „Все они были важными чиновниками, но уж больно нетерпеливыми, стали докладывать императору, что, дескать, Ань Лушань замышляет мятеж. Догадайся, как поступил император? Мудрый, прозорливый император всех до одного отправил ко мне, в Фаньян, дабы я вместо него отблагодарил их за преданность. Поднимем же кубки!“ — вдруг резко выкрикнул он, первым подавая пример. Все тут же взметнули руки с зажатыми кубками выше головы — все, кроме Ли Бо.
Лучники натягивают тетиву, вкладывают стрелы… „До дна!“ Под дробь военных барабанчиков лучники дружно выпускают стрелы, Ань Лушань и вожди кочевников опрокидывают кубки.
Ли Бо бьет дрожь, словно от лютого мороза. Внезапно барабанная дробь смолкает, наступает зловещая тишина. Пронзенные стрелами тела пленных в клетках напоминают ощетинившихся ежей. Ань Лушань и его свита выжидающе буравят глазами кубок Ли Бо. Он вдруг выплескивает вино на землю, швыряет кубок. С оглушительным звоном ударяется кубок о шлем одного из „варварских“ генералов. Кочевники грозно обнажают сабли. Но Ань Лушань даже пальцем не шевельнул, лишь угрюмо взирает на Ли Бо. Преследуемый тяжелыми взглядами, Ли Бо набрасывает на коня уздечку, медленно, с независимым видом идет к воротам лагеря. Как по команде развернулись степняки, преграждая путь. Однако Ань Лушань жестом остановил их и громко крикнул Ли Бо: „Ступай, донеси на меня! Доложи императору, доложи всему миру, что Ань Лушань поднимает мятеж!“
Сдерживая слезы, чуть подстегивая плетью коня, едет сквозь строй воинов мятежного генерала Ли Бо.
У себя дома, пылая праведным гневом, Ли Бо обращается к Цзун Цзину, жене и детям: „Я должен немедленно бежать, бить во все колокола, донести печальную весть до всех и каждого, стучаться в двери важных чиновников, что отвечают за наши южные рубежи, спросить: почему они не торопятся защищать земли к югу и к северу от Великой реки? Отчего безучастно взирают, словно им и дела нет? Да они просто спасают свою шкуру! Сегодня рушатся горы и реки выходят из берегов, чужой песок кружится над головой, засыпает всё и вся, у народа нет в жизни опоры!“ — „Довольно, наслушалась! Ты в одиночку, безоружный, выдворенный императором из дворца придворный поэт, академик Ханьлинь, ‘Леса кистей’, Ли Бо, неужели ты готов ради него кинуться в омут? Да кто оценит твое благородство? Дважды, полный искренних намерений и радужных надежд, ты являлся в столицу, и что получил?“».
(Бай Хуа. Поэт Ли Бо. Киносценарий. Перевела Н. Демидо [Книга-2002. С. 116–117])[91].Правда, существует версия, что с самим Ань Лушанем Ли Бо не встретился, так как зимой 752 года тот был вызван ко двору. И поэт увидел не самого тигра, а лишь его логово. Но он услышал грозный звон клинков, и этого ему было достаточно, чтобы ощутить исходящую оттуда угрозу.
Свое потрясение от визита в Ючжоу Ли Бо по свежим следам изложил не только в докладах наверх, но и в стихах. «Песнь о коннице варваров в Ючжоу» он начинает с достаточно тревожных и грозных строк: «Дикарь в Ючжоу на коне, / Зеленоглаз, из тигра шапка. / Глумливо мечет парные стрелы, / От которых ни у кого нет защиты». А завершает патетическим восклицанием: «Когда же (зловещий) Небесный Волк будет уничтожен / И сын с отцом обретут спокойствие?!» Звезда Небесный Волк[92] древними воспринималась как предвестие вражеского нападения, агрессии, и здесь это, в один голос утверждают комментаторы, намек на Ань Лушаня, представляющего, по оценке Ли Бо, угрозу для страны и народа.
В том же 752 году Ли Бо написал стихотворение «Не плыви через реку, князь мой» по сюжету древней истории о седовласом безумце, увидевшем на противоположном берегу реки красивый терем и с кувшином вина в руке бросившемся, несмотря на предостережения жены, в воду, чтобы доплыть до него, — и утонул (так изложено в народной песне юэфу[93]). В стихотворении Ли Бо говорится: «Хуанхэ течет с запада, прощаясь с Куньлунь, / Грохочет десять тысяч ли, чтобы прорваться в Драконьи врата. <…> Тигра можно связать, но трудно соперничать с рекой, / И князь все-таки погиб, льется море слез. / У огромного кита белые клыки — точно снежные горы, / Ах, князь мой, князь мой, ты застрял меж клыков, / Моя арфа в печали, Вы не вернетесь» (словом «арфа» тут обозначен стоящий в оригинале струнный музыкальный инструмент кунхоу типа цинь, несколько меньшего размера, существовавший в двух видах — вертикальном и горизонтальном).
По сложной схеме созвучий и аллюзий, разбросанных в цепи старокитайских текстов, «кита» можно воспринять как метоним «изменника». Комментаторы, дискутируя о времени создания стихотворения (есть параллельная версия, что оно написано в конце жизни, после ссылки в Елан), единодушны в том, что воспринимают это стихотворение Ли Бо как аллегорию его безрассудного визита в «логово тигра», к счастью, не завершившегося такой трагедией, как в древней истории.
Два года спустя на Осеннем плесе близ города Чичжоу, около которого есть гора Кучжу (Горький бамбук), Ли Бо пишет «Станс о горной фазанке», который иначе как притчу воспринять трудно:
Над Горьким бамбуком осенняя всходит луна, На горьком бамбуке[94] — фазанки печальная тень, За дикого яньского гуся выходит она: «Меня он на север увозит на склоны Яньмэнь!» Хлопочут подружки, стараясь ее остеречь: «Южанку обманет, как водится, северный гусь, Мороз над Заслоном Багровым свиреп, точно меч, Захочешь в Цанъу, он ответит тебе — не вернусь». «Нет, я с этим гусем лететь не могу, хоть умри!» — Так, слезы на перья роняя, она говорит.Фазан — птица южная, яньский гусь — северная, причем гора Янь расположена как раз в районе Пекина (а Багровый Заслон — старое название Великой Китайской стены), и таким образом здесь на первый план выходит противопоставление «юга» (имперская столица Чанъань по отношению к горе Янь — недвусмысленный юг) — «северу» с его свирепыми, гибельными морозами. В либоведении издавна повелось связывать аллегорический пласт этого стихотворения с сильными, ужасающими впечатлениями поэта от поездки в ставку Ань Лушаня в Ючжоу. Это понятный призыв к «югу» остерегаться коварного «севера», несущего гибель стране.
Этот призыв необходимо было донести до адресата.
Увы, адресат его не понял…
Глава вторая ТОСКОЙ ПОЛНА ДУША (752–755)
Был ли третий Чанъань?
В самом конце 752 года Ли Бо в тревоге и смятении вернулся из Ючжоу. В Бяньчжоу (современный Кайфэн), где его ждала жена, он несколько месяцев приходил в себя, успокаивая развороченную душу в милом ему Лянъюань. А ранней весной 753 года ринулся в Чанъань, надеясь донести до императора свое ви́дение обстановки в стране, которой грозила явно назревавшая смута. Но высочайшая аудиенция не состоялась. Даже на более низком уровне беспокойного поэта принимать не хотели.
Вариация на тему
Погруженный в печаль Ли Бо ни с чем отошел от замкнутых для него ворот дворца Просветления, необычно тяжело вскарабкался на коня и направил его к западным воротам Тунхуа, до которых обычно провожали дорогих гостей, как в Цзиньлине — до павильона Лаолао (в сегодняшнем Сиане ворота городской стены, расположенные несколько восточнее старых ворот закрытого императорского города, называются Чаоян). От них начинается дорога Чанлэ, которая и привела его к мосту через реку Чаньшуй, перекинутому от одного, пологого, берега к другому, столь высокому, что подчас именовали его «горой Чанлэ». С нее можно было увидеть и Академию Ханьлин, и императорский дворец Просветления.
Есть предположение, что именно Ли Бо назвал высокий берег Чанлэ «горой Фанькэ», вложив в это карикатурный намек на Ду Фу, потому что на этой горе он неожиданно повстречал старого друга, столь тощего, что Ли Бо молниеносным экспромтом сочинил четверостишие «Шутя, подношу Ду Фу»[95]: «На вершине горы Фанькэ встретил Ду Фу, / На голове соломенная шляпа, солнце в зените. / „Что ж ты так истощал после нашей встречи?“ — / „Да все корпел над стихами“». И новое название закрепилось[96].
Неподалеку на пристани находились склады, которые служили перевалочным пунктом при перевозке зерна (остатки древней пристани видны до сих пор), когда в засушливые сезоны реки мелели. Рис в это время резко дорожал и был недоступен бедному люду, подбиравшему просыпавшиеся зернышки. Возможно, название Фанькэ, буквально означающее «поедать зернышки», с этими складами и связано.
После их предыдущей встречи в 744 году в Шимэнь Ду Фу вернулся домой в Хэнань, но вскоре отправился в Чанъань попытать счастья на почве государевой службы. Многого он не достиг, потому что, как и Ли Бо, не захотел стать императорским сладкоголосым соловьем и одну за другой писал резкие строки, раздражая всемогущего Ли Линьфу, который демонстрировал их императору с соответствующими комментариями. Незадолго до приезда друга Ду Фу тяжело переболел, от него остались кожа да кости, что и вызвало реакцию Ли Бо («истощал»).
Неизвестно, была ли у них предварительная договоренность о встрече, но, несомненно, рассказ Ли Бо о поездке в Ючжоу нашел отклик у Ду Фу, который столь же негативно относился к «Небесному Волку» (Ань Лушаню) и его придворному покровителю (Ли Линьфу). В стихах Ду Фу можно встретить отзвуки этой беседы.
Это стихотворение служит исследователям аргументом в еще не завершенном споре, приезжал ли поэт в 753 году в Чанъань. Второй аргумент прячется в стихотворении № 46 цикла «Дух старины», созданном, по мнению ученых, именно как следствие нового непосредственного наблюдения за жизнью верхушки и очередного разочарования в ее нравственном облике:
А ныне — петухи в златых дворцах Да игры в мяч у яшмовых террас. Так мечутся, что меркнет солнца свет, Качается лазурный небосклон. Кто власть имеет — тот стремится вверх, Сошел с тропы — навек отринут он. Лишь копьеносец Ян[97], замкнув врата, О Сокровенном создавал трактат.Прежняя датировка (745 год) была отвергнута на основании подсчетов: от основания Танской династии (618) до 745 года прошло 126 лет, тогда как у Ли Бо стоит цифра 140. Профессор Ань Ци выдвинула предположение, что стихотворение было создано в 753 году по впечатлениям третьего приезда в столицу — поэт округлил прошедшие 136 лет до 140. Эту дату приводит и Большой словарь Ли Бо, не выдвигая возражений, хотя сам ответственный редактор словаря профессор Юй Сяньхао не поддерживает версию о третьем приезде поэта в столицу в этом году. Одиннадцатая строка («Кто власть имеет — тот стремится вверх»), по мнению Ань Ци, содержит намек на Ян Гочжуна [Ли Бо-2000. С. 919], который еще в начале 740-х годов служил начальником уезда в Шу, вскоре благодаря сестре (Ян Гуйфэй, императорской фаворитке) был приближен ко двору, а как раз в 753 году сменил умершего Ли Линьфу на посту цзайсяна (высший правительственный пост; главный советник, «канцлер»).
Немало страниц отдает профессор Ань Ци доказательству третьего (увы, также безрезультатного) приезда Ли Бо в Чанъань. По стихам, в первую очередь циклу «Дух старины», она фиксирует динамику отношения поэта к имперской власти — от романтично-восторженного («Трудны дороги в Шу», «Трудны пути идущего») через первые оттенки разочарования, смешанные с самоуспокоением и надеждой («Дух старины», № 22; «Выпьем!»), к трагическому ощущению бездны смуты и неспособности императорского двора остановить падение в пропасть:
Закон Небесный Чжоу-ван презрел, Утратил разум чуский Хуай-ван — Тогда Телец возник на пустыре И весь дворец заполонил бурьян. Убит Би Гань, увещевавший власть, В верховья Сян был сослан Цюй Юань. Не знает милосердья тигра пасть, Дух верности напрасно девам дан. Пэн Сянь уже давно на дне реки — Кому открою боль своей тоски?! («Дух старины», № 51)Это стихотворение настолько откровенно, что цель его разящих стрел в целом понятна даже без комментариев: последний правитель Иньской династии Чжоу-ван (XI век до н. э.) и чуский царь Хуай-ван (328–299 годы до н. э.), отвергавшие и губившие своих мудрых советников, — намек на Сюаньцзуна, великий Цюй Юань, высланный на окраины царства Чу (Ли Бо словно провидел собственную судьбу!), — явное олицетворение автора, а упоминание в этом контексте иньского сановника Пэн Сяня, в отчаянии от разложения власти бросившегося в реку, говорит о горечи одиночества Ли Бо.
Сопоставляя однотипные, но разделенные едва ли не тысячелетием примеры конфликта деградирующей и всеразрушающей власти («пасть тигра») и праведного мудреца, испытывающего нравственные мучения от бесполезности его «верности», поэт недвусмысленно обвиняет современных ему правителей в уходе с истинного Пути, в нарушении естественных Небесных ритмов. Ли Бо, испытавший на самом себе последствия конфликта мудрости с неправедностью, видит в этом позор государственного управления и трагедию страны.
В своих эмоциональных филиппиках против власть имущих поэт доходит до невероятного для более раннего Ли Бо разрушения канонов — он обращается не к традиционной версии легитимной передачи власти от одного легендарного правителя другому, а к побочной, утверждающей преступное нарушение естественного порядка (по этой неофициальной версии трон был узурпирован Шунем, а стареющий правитель Яо брошен в тюрьму, но и смерть Шуня вызывает вопросы — не был ли он убит рвавшимися к власти вельможами).
Это стихотворение опять-таки 753 года «Навеки разлучены», в центре которого — печаль по убиенному мужу наложниц Шуня (дочерей Яо), покончивших с собой. Беспокойный дух горемычных женщин, в легендах получивший имя «сянского», вечно и тщетно всматривается в затуманенный горный массив, так и не в силах отыскать могильный курган:
Ах, эта вечная разлука! Царевны древние Нюйин и Эхуан От вод Дунтинских в направленье юга, Где плещут волны Сяо-Сян, Ушли в глубины — десять тысяч ли. О, как же тяжелы их муки! Сокрылось солнце в туче черной мглы, Завыли обезьяны, сникли духи. Какой же я еще могу добавить штрих, Коль верностью Владыка-Небо разъярен И грома посылает гневный рык?! От Яо — к Шуню, к Юю переходит трон, Правитель без вельмож — рыбешка, не Дракон, Сановник-крыса тигром рвется к власти, Был Яо, говорят, в темницу заключен, А Шунь в глухой степи оставил кости, И в девяти ущельях гор Цзюи Непросто шунев отыскать курган. Роняют девы слезы горькие свои, Бросаясь невозвратно в Сяо-Сян. Найти курган им было не дано, Как плакали они, превозмогая муку! Обрушится курган, а Сян откроет дно — Тогда лишь высохнут слезинки на бамбуках[98].В этот же период было написано стихотворение № 36 цикла «Дух старины», в котором настроенный весьма пессимистически поэт вновь обращается к легендарным сюжетам, сравнивая себя с отвергнутой государем дивной яшмой; он уже готов следовать примеру предков, один из которых (основатель даоизма Лао-цзы) навсегда удалился в пески Западной пустыни, а другой, недооцененный (мудрый ученый Лу Лянь), отверг дары властителя как не соответствующие масштабу его свершений и уплыл на священный остров Пэнлай в Восточном море:
Он был, как яшма, чист … Но в Чу-стране Не поняли. Случалось так и прежде. Не оценили дивный дар вполне Три государя, внявшие невеждам. Прямое древо — под топор идет, Душистый цвет быстрей других сгорает, Где слишком много — Небо отберет, А то, что в бездне, — Дао уравняет. Уплыть бы в синь — Восточный океан. Взмыть облаком пурпурным над заставой, Как царский Летописец и Лу Лянь, — Вот истинный пример высоких нравов!Акцент на аморальности правителей, особенно сильный в произведениях 753–754 годов, показывает новую степень разочарования во власти, до которой он оказался не в силах донести свою тревогу. Уже в Лояне, Восточной столице, он начинает понимать, что между ним и властной верхушкой, озабоченной лишь карьерными хлопотами, лежит глубочайшая пропасть:
Весна приносит на Небесный брод[99] Цветущих слив и персиков восторг, Но то, что поутру еще цветет. Под вечер уплывает на восток. Один поток другим течет вослед, На смену прошлым новый век идет, Кто был вчера, уж тех сегодня нет, И всех к мосту влечет за годом год: Развеет дымку утренний Петух — Вельможи во дворец спешат толпой, Пока последний лучик не потух На середине башни городской. Небесный свет в уборах отражен, Когда выходят из дворцовых врат, Конь под седлом — стремительный Дракон, И удила злаченые горят. Шарахаются путники с дорог, Надменный дух превыше Сун-горы. А в теремах расставлен ряд треног — Их дома ждут обильные пиры И пляски Чжао, аромат румян, Напевы Ци и звуки чистых флейт, Тенистый пруд, игруньи-юаньян[100] В тиши дворцов, куда не входит свет. Им кажется — продлится сто веков Та ночка, что в веселье проводил. Уж кто добился — не уйдет с постов, Уходят те, кто что-то натворил. И больше не придет к ним желтый пес[101], Им кровью воздала Зеленый Перл[102]. А кто из них, расплетши пук волос, Как Чи-Бурдюк, в челне б уплыть посмел[103]?! («Дух старины», № 18)В этом аспекте не столь важно, приезжал ли он сам в Чанъань или передавал информацию через третьих лиц. Важно, что она не нашла заинтересованных слушателей и канула в пустоту.
И когда в конце 754 года поэта нагнало новое приглашение от заинтересованного в нем Ань Лушаня, он отклонил его и больше в «логово тигра» не поехал. Если даже слова его не были услышаны, то кто проникнет в бездну молчания, где сокрыты сокровенные истины? В этот период он написал знаменитое тринадцатое стихотворение цикла «Дух старины» о мудром отшельнике Цзюньпине, осознавшем, что звучащее слово — лишь оболочка знания, далеко не всегда ему соответствующая… Но кто сумеет понять мудрость его молчания?
Когда Цзюньпин отринул мира плен И без Цзюньпина бренный мир оставил, — Прозрел он ряд Великих Перемен И сущего всего Первоначало, Суждений Дао нить сплетал в тиши, За полог пустоты проникнув чувством, Ведь всуе Цзоуюй не поспешит, Глас Юэчжо не разнесется чудный. Взнести до солнца имя свое смог, Но кто его узрит в потоках звездных? Ведь Гость морской от нас уже далек, И некому постичь безмолвья бездны!Городок у реки
После такого сильного удара даже Лянъюань не успокоил сердце поэта, и, когда наступила осень (753 года), «его» сезон, он отправился на юг, где ему дышалось вольнее. Все это он образно и точно живописал в стихотворении, посвященном некоему, видимо, в то время достаточно известному, буддийскому монаху, чье имя осталось только в строках Ли Бо:
Принес меня осенний ветер На пожелтевшие луга, В пути красивых гор не встретил И не смотрел на облака. Но только лишь минуешь Реку — Летят листы в лицо с ветвей, Цзинтин чарует человека Простою чистотой своей. Пронизаны ущелья светом, И горы выстроились в ряд, Я встретил У и Ши, одетых Так, словно здесь Небесный град[104], В пространствах сих народ чудесен, Средь вод и трав исполнен тайн, Хуэй-гун особенно известен, Он освящает этот край. Сметая пыль в высокой зале, Витийствует, и мнится мне — Под тонкой кистью горы встали С изящной рифмой на стене[105]. Пустынничества скрыты смыслы, Красу Линъян живописал. Свод неба над ручьем немыслим, В воде дрожит луны овал. Два пика, Каменный и Желтый, Кто смог столь близко водрузить? Журавль не прилетает долго, Цзыань во тьме пути не зрит[106]. Или в стране не стало места Для птиц, слетающих с небес? Уходят кручи в неизвестность Сквозь плотный облачный навес. Не лучше ль взять дорожный посох, Уйти в наполненность пустот? Нам и луну достичь непросто, И тех, кто в памяти живет. Мы свидимся ль, почтенный старец, На тропках горного леска? Письмо труда Вам не составит, Зато развеется тоска. («Направляясь из Лянъюань к горе Цзинтин, встретил Хуэй-гуна, мы вместе погуляли и поговорили о красотах горы Линъян[107], в связи с чем и подношу ему это стихотворение»)Поверхностному взгляду кажется, что маршруты поездок Ли Бо по стране спонтанны. Порой, в особо напряженные периоды разбалансированной психики, так оно и бывало. Но большая часть сетки маршрутов на карте странствий поэта выстраивается как сопряжение прежде всего так называемых «знаменитых гор» с их чрезвычайной космической энергетикой, а также озер, рек и ручьев, в которых сублимировалась физическая и духовная чистота мира (урбанистический пейзаж, порой врывавшийся в пространство его поэзии, оказывался либо негативным, либо насыщенным духовностью Древности).
Можно предположить, что чувствительные антенны нервной организации Ли Бо искали канал энергии, необходимый ему именно в данный момент для энергетической подпитки, и это был лабораторный эксперимент, а не хаос. Ему необходимо было «раствориться в красоте космоса, слиться с чудом творения». Его пейзажная лирика — не «альбом очаровательных открыток», а рабочая схема земных точек небесной проекции. В земном ландшафте он видел невидимое, потому-то в разных местах Китая остались названия, данные земным объектам именно Ли Бо.
В начальный период земного бытия поэт спиральными кругами ходил вокруг района Чанъаня, куда проецировалась звезда Тайбо, его небесная родина, а затем — вдоль восточного побережья (У-Юэ), примериваясь к острову Пэнлай как земному «перевалочному пункту» для возвращения в Занебесье. Быть может, именно эта внутренняя программа продиктовала ему после амнистии 759 года удивляющее исследователей восточное направление, куда он ринулся, минуя отчий край, рядом с которым находился, и дом, где ждала жена. Он ощутил приближающееся завершение цикла, и ему необходим был космический канал возвращения.
Этому, ставшему последней вехой земных странствий, краю (город Сюаньчэн, небольшая горушка Цзинтин, уезд Данту, чуть северо-западнее — Цюпу, Осенний плес) Ли Бо посвятил немалое количество строк. Двести стихотворений, одна пятая всего сохранившегося их количества, либо написаны на этих территориях, входящих в границы нынешней провинции Аньхуэй, либо посвящены их красотам, задержавшимся в памяти. Восемь раз поэт приезжал сюда. Чаще спонтанно, иногда надолго, а бывало, лишь взглянуть на любимый пейзаж.
Вариация на тему
В 747 году в Цзиньлине он вдруг нанял лодку и поплыл на запад к Данту, чтобы подняться на склон Байби, откуда дивно открывалась сияющая луна. Рекой Гушу, сегодня уже полуиссохшей и грязноватой, через четыре века после Ли Бо восхитился поэт Лу Ю: «Цвет воды настоящий, голубой. Она прозрачна и чиста, словно зеркало. Можно сосчитать снующих туда и сюда маленьких рыбок. К югу от реки живут рыбаки. Край уединенный и восхитительный», и вода не просто пригодна для питья, а «вкусная» [Лу Ю-1968. С. 28, 29]. Не так уж далеко был утес Нючжу, который всегда навевал поэту грустные мысли, и он, чтобы подбодрить себя, вообразил собственную встречу под утесом Нючжу с влиятельным генералом, который окажет ему протекцию… Стало светать, и видение исчезло. Восходящее светило искрилось на диких орхидеях, еще не сбросивших ночную росу. Поэт сорвал голубой цветок, чтобы послать его другу, и на душе стало как-то легче.
В эти места навеки впечатлелась часть души Ли Бо. Пейзаж тут напоминал ему отчий край — Западное Шу, а весной на горе Линъян раскрывался «кукушкин цвет», словно кукушки из Шу так знакомо взывали к страннику: «Бу-жу-гуй!» («Вернись!») Каждый крик птицы отзывался болью в сердце, а когда он приехал сюда в последний раз, уже после ссылки, надломленный, то написал четверостишие, в последней строке которого соединил родной край с трагичной для него цифрой «3» (трехгодичная ссылка, на которую он был осужден): «На третью луну этой третьей весны (то есть поздней весной. — С. Т.) вспоминаю три Ба (три области Шу, именуемые Ба, Западное Ба, Восточное Ба. — С. Т.)».
Пройдя эти края вдоль и поперек, он нередко становился первооткрывателем здешних красот. Три горы и две обширные природные территории обязаны своей известностью его поэтической кисти: Хуаншань, Цзюхуашань (до Ли Бо она была известна под другим названием), Тяньчжушань (в отличие от двух предыдущих гор ее посещали даже императоры, но эстетическую жизнь вдохнул в нее именно Ли Бо, до него ее больше знали как Потаенную гору); Цзинчуань, двухсоткилометровая полоса гор и тихих ручейков с мифологической аурой вдоль реки Цзинчуань, которой Ли Бо посвятил два десятка стихотворений, и, наконец, Осенний плес — Цюпу, который поэт воспел в четырех десятках стихотворений, соединенных порой в большие циклы.
Наибольшей его любовью пользовался город Сюаньчэн с близкой к нему небольшой возвышенностью Цзинтин и уезд Данту. Эти районы воспеты в шести десятках стихотворений. В Сюаньчэне и на склонах Цзинтин неподалеку от города Ли Бо уносился мыслью к одному из тех поэтов прошлого, кого он чтил как своих достойных предшественников, — Се Тяо. За три века до Ли Бо тот служил тут на высокой должности начальника округа Сюаньчэн (а потом, всего тридцатишестилетним, погиб в тюрьме, оклеветанный), любил бродить по склонам Цзинтин, на Зеленой горе построил себе хижину в лесу. Лянский император У-ди высказался о поэзии Се Тяо так: «Три дня не почитаешь его стихов, и во рту горчит». А теоретик поэзии и сам поэт Шэнь Юэ (V–VI века) счел, что «таких стихов двести лет не было». Пейзажная лирика Се Тяо была созвучна Ли Бо, который любил читать стихи поэта, вставлял строки из них в свои собственные сочинения и завещал похоронить его на Зеленой горе.
Если в нашем XXI веке читатель заедет в Сюаньчэн, то, быть может, ничего особо приметного там и не заметит. Пропыленный провинциальный городишко, в основном двух-трехэтажный, но кое-где уже вспучивающийся посверкивающим на солнце стеклобетоном в десяток этажей. Но в VIII веке он был девственно прелестным, уютно прикорнувшим меж двух речушек, взявших город в кольцо (прозвание «город у реки» было его фирменным титулом).
Ли Бо часто поднимался на городскую Северную башню Се Тяо, простоявшую века уже после Ли Бо, в 1937 году спаленную пожаром Японо-китайской войны, нелепой и кровавой, как все войны, но потом восстановленную. Этого будущего Ли Бо не знал, он думал о прошлом — о том, что Се Тяо, этот человек прошлого, был для него самым что ни на есть реальным другом, духовным братом, каких сегодня встретить трудно.
Увы, ныне это современная имитация, однако и Ли Бо поднимался не на оригинал: от построенного Се Тяо на горе Линъян «высокого кабинета» к танскому времени остались руины, и в память о поэте уже в начале танской эпохи «кабинет» был восстановлен, но перенесен чуть севернее и назван «северной башней Се Тяо». С этой башни, сейчас уже вошедшей в городские пределы, и мы можем взглянуть на мир с той самой точки, с какой смотрел на него Ли Бо, — и вспомнить самого Ли Бо. Правда, вместо очаровательной осенней панорамы «синей бездны» и «двух потоков» с «двумя мостами» вы увидите со всех четырех сторон новостройки с хоботами башенных кранов.
Городок у реки — как на дивной картине: Очарована синею бездной скала, Два моста — разноцветие радужных линий, Два потока — сверкающие зеркала. Закурились дымки, холод цитрусам страшен, Затихают платаны в осенней красе. Так кого же мне вспомнить на Северной башне? — Пусть в ветрах прозвучит стих почтенного Се! («Осенью поднимаюсь на Северную башню Се Тяо в Сюаньчэне»)Но город есть город, цивилизация, отвернувшаяся от чистых веяний Древности, порождает неправедность, искусственность. Хотя «строфы младшего Се» (Се Тяо), еще не заваленные грудой «поделок», подают проблески надежды. Но утишить встревоженную душу способна лишь природа, влитая в Изначальность Дао. Об этом они беседовали с Ли Хуа, дядей Ли Бо, человеком тоже непростой судьбы. Что делать в этом искореженном мире? Служить, несмотря ни на что, и своим присутствием облагораживать мир, как формулировал когда-то Конфуций, или отвернуться от власти, чуждой Древнему Порядку, расплести чиновный пук волос и уйти в надвременье «трех рек и семи озер»?
Что ушло — то ушло, День вчерашний покинул нас. А душе тяжело От тревог, что волнуют сейчас. Ветер гонит и гонит бездомных гусей… Может, чашей утишится эта тоска? На Пэнлайской горе[108] строфы младшего Се Меж поделок возможно еще отыскать. И становится снова душе веселей, Воспарим и обнимем луну в небесах, Перережем ручей… А поток всё сильней! Снова чашу осушим… Всё та же тоска… Нет, не так, как мечталось, я прожил свой век! Пук волос распусти — и плыви, человек… («За прощальным вином на башне Се Тяо в Сюаньчэне напеваю стихи дяде Хуа, текстологу»[109])Неподалеку от Сюаньчэна малой каплей Земли приютилась очаровательная тихая горушка Цзинтин (ее высота всего 286 метров). По ее склонам любили бродить и Се Тяо в V веке, и Ван Вэй, и Мэн Хаожань, и Ли Бо в VIII. В одном из стихотворений того же 753 года, посвященных другу, который через пять лет, как и Се Тяо, был казнен по ложному обвинению, Ли Бо связывает воедино себя, Се Тяо и эти прелестные склоны:
Уходит ввысь Цзинтинская гора, Я здесь живу, как завещал поэт В стихах, как будто созданных вчера, Хотя его уже столетья нет… («Гуляя в Цзинтинских горах, посылаю историографу Цую»)Вариация на тему
Сторонний взгляд вряд ли сумел бы заметить там нашего поэта, он обычно скрывался в зеленой глуши, отстранясь от людей, погрузившись в себя, к чему обычно и стремился здесь, на Цзинтин. Эта горушка — не из «знаменитых», сюда не тянутся потоки суетных паломников. Тихо и пусто вокруг, ни птиц, ни тучек, ни спутников. Он один. Он одинок. Осенний вечер 753 года, к краю небосклона устремилась последняя стая птиц, в закатных лучах вдали чуть просматриваются башни городской стены Сюаньчэна, обрамленной зеркалами рек с перекинутыми через них радужными полусферами мостов, под которыми неторопливо проплывает сиротливый парус, исчезая за горизонтом. И поэт остается один, совсем один. Ему тоскливо.
В таком настроении китайские поэты обычно поднимались на пустынные склоны, ведь они знали, что космическая энергетика гор втянет их в свои каналы. И тогда вернется ощущение наполненности жизни. Вот она, гора, она смотрит на него, как бы приглашая в сопутники по этому очарованному и чарующему пространству живой «неживой» природы. Вот он, истинный друг, который не изменит. И понимает тебя, твою душу, не тратя лишних слов. Вдвоем они могут так, молча, войти в вечность. А скоро взойдет луна, улыбнется им, и гора ответит сдержанным шорохом сосен, из-за спины поэта выглянет его тень, и вчетвером они славно просидят до рассвета. Мы все едины, мы все одно — гора, луна, тень, я сам, сосна, уснувшие птицы, плывущие облака…
Через тысячу с лишним лет трепетные потомки на этом склоне построят один из мемориалов Ли Бо с памятником у въезда, садом камней у подножия и небольшим «Павильоном одиночества Ли Бо», чтобы, призадумавшись тут, понять, какими простыми штрихами поэт передал свое одиночество в преходящем суетном мире движения и благость покоя наедине с недвижной вечной горой, в молчании которой — бездна чувства.
Где-то в этих краях Ли Бо встретил старого знакомца по Шу — монаха из буддийского монастыря Линъюань (в округе Сюаньчжоу), в одном стихотворении назвав его просто по имени — Цзюнь (а в другом прибавив фамильный знак — Чжун Цзюнь). Тридцать лет назад тот был приписан к обители Белой воды на Крутобровой горе Эмэй. Монах был замечательным музыкантом, и звуки его «зеленоузорчатого», как после Сыма Сянжу стали в Шу называть семиструнный цинь, пробуждали девять колоколов на горе Фэншань[110]. Та, первая, их встреча была высоко-возвышенной.
Вариация на тему
«Монах взял цинь, и они пошли к Обители чистых звуков. На небо выкатилось колесо ясной луны, большое и круглое… Ли Бо показалось, что он вошел в мир святости… Монах, подогнув под себя ноги, сел на черный камень у журчащего ручья, положил цинь на колени и, пройдясь по струнам, заиграл „Ветер в соснах“… Ли Бо словно захмелел, обезумел, как когда-то Конфуций, который после услышанной мелодии три месяца не прикасался к мясу… „Оцените, господин Тайбо“, — произнес монах. Ли Бо стряхнул дурман и заплетающимся языком вымолвил: „Звучит еще лучше, чем в комнате. Лишь сейчас до меня дошла глубина этой фразы — ‘Когда человек сливается с небом, он искусно творит само Естество’“… — „Монах в этой мелодии подражал природе, вдохновлялся небом, и красоту ее можно воплотить лишь среди природы“».
[Гэ Цзинчунь-2002-А. С. 29–30]Молодой монашек превратился в почтенного и уважаемого старца, выдающегося даже среди «Слонов» и «Драконов», как почтительно именовали буддийских подвижников. Новая встреча с ним взволновала Ли Бо своей духовной наполненностью:
На тумане белых туч над Цзинтин Словно выписан зеленый утун[111], И в зерцале мелких речек у стен Неземную вижу я высоту. Обитают здесь Драконы, Слоны, Цзюнь почтенный — он велик среди них, За Рекою его рифмы слышны, Ветр несет их до просторов морских. Ваши чувства — круг луны на воде. Ваши мысли — жемчуга меж камней. Не Чжи Дунь[112] ли мне вдруг встретился здесь, Чтоб открылась суть не-сущего[113] мне? («Посылаю почтенному Чжун Цзюню из монастыря Линъюань в округе Сюаньчжоу»)Вариация на тему
Где произошла их новая встреча, неизвестно. Это могло быть и на горе Линъян, в лесной тиши которой таился буддийский монастырь, а могло быть и на Цзинтин, которую больше любили даосы, понастроив тут монастыри. Они поднялись по склону навстречу сумеркам, откупорили оплетенные черной лентой кувшины с душистым вином местного сюаньчэнского умельца-винодела старика Цзи, вспомнили юность в далеком и милом Шу. А потом монах взял свой «зеленоузорчатый». Встрепенулись сосны, налетели облака. Да, это напоминало не простенькую песенку «Деревенщина из Ба», а глубокую, сложную мелодию «Белый снег солнечной весной», которую не всякий поймет и оценит[114].
Цинь сладкоголосый сжимает монах, Пришедший с самой Крутобровой горы, И вот для меня зазвучала струна — Чу! Шепот сосны в переливах игры. Потоками звуков омыта душа, Откликнулся колокол издалека. Гора погружается в ночь не спеша, И, мрак нагнетая, плывут облака. («Слушаю, как монах Цзюнь из Шу играет на цине»)Именно тогда Ли Бо глубинно осознал, сколь тесно связаны между собой искусство и природа. Раздвинь искусственно воздвигнутые стены комнаты до бескрайнего мира, и в мелодию твоего стиха вместе с шепотом сосен, свистом ветра, лётом облаков войдут звуки небесной музыки, не слышные непосвященным существам.
Ли Бо понимал толк в музыке, и его оценка — это почти профессиональный отзыв, тем более когда речь идет о цине. Этот инструмент был для поэта другом сродни луне — столь же чист и прекрасен. Он и сам играл на цине весьма искусно и любил перебирать струны у раскрытого окна за чашей ароматной «Весны»[115] в каком-нибудь маленьком кабачке.
Вариация на тему
Однажды, уже в преклонном возрасте, он задумчиво наигрывал, представляя себе, как гармонии звуков откликаются цветы с дальних склонов и птицы летят на чарующую мелодию. И вдруг видит прелестную девушку, застывшую под окном. Ей ничего не надо — только слушать этот напев волшебных струн, и в глазах у нее стоят слезы любви. Заметив взгляд поэта, девушка вздрогнула и убежала. А назавтра вновь оказалась под окном. И послезавтра, и еще много дней…
Не я придумал эту романтичную историю — она веками бродит по Китаю. Правда, в легенде происходило это в Цзиньлине (Нанкин), да столь ли это важно? И чем завершилась история, тоже не имеет значения (для нас с вами, не для Ли Бо). Важна оценка музыкальности поэта. И хочется ей верить больше, чем сухому замечанию исследователя, не подкрепленному аргументами: «Ли Бо не был утончен в музыке» [Се Чуфа-2003. С. 57].
В Сюаньчэне Ли Бо до конца 755 года прожил в доме двоюродного брата Ли Чжао, помощника губернатора Сюаньчжоу, но не сидел на одном месте, чего он вообще не терпел, а объехал весь округ, центром которого и был город Сюаньчэн.
Вариация на тему
Ли Чжао был заботлив и внимателен к брату, страдавшему от одиночества, и однажды, когда тот уехал к Циньси, послал ему пару белых журавлей, считавшихся сакральными существами, уносившими святых в инобытие Занебесья. Их белые крыла вздымались и опадали за окном, и казалось, что поэт уже где-то на краю земли и в воздухе парят хлопья снега. Ночью ему приснилось, что они с братом сели на этих журавлей и унеслись в Небо. Он одновременно летел на журавле — и следил с земли за собственным полетом, пока уменьшающаяся точка не исчезла вовсе из поля зрения земного человека.
Осенний плес
География поездок Ли Бо по стране показывает его беспокойный характер, мятущуюся душу. Его постоянно тянуло в дорогу. Часто это было не столько в жажде новых впечатлений (одни и те же места он навещал по многу раз), сколько из-за неустойчивой нервной системы, стабильно стрессового состояния, под давлением надежды, что «за перевалом» станет лучше, и он бросался из одного конца Китая в другой, не предвидя следующих поворотов своих маршрутов (вспоминается пушкинское: «Плывем… Куда ж нам плыть?»).
Сначала он отправился на гору Хэншань (в современной провинции Хунань), где тогда жил его давний приятель даос-кий монах Юань Даньцю, с которым он познакомился еще в 720 году в Чэнду, тоже большой непоседа. А после этого через полстраны поехал в Янчжоу, Цзиньлин (Нанкин) и южнее — вплоть до чарующей его (и не только его) горы Гуйцзи.
В Янчжоу его, наконец, нагнал молодой поэт Вэй Вань (позже он сменил имя на Вэй Хао), давний почитатель Ли Бо. Потомок легендарного Юй-гуна, который, корзиночка за корзиночкой, перетаскивал мешающую ему гору, он унаследовал упорство предка, и от подножия горы Ванъу три тысячи ли следовал по пятам за своим кумиром. «О, творец великих стихов! Наконец-то я, Вэй Вань, нашел вас!» — экзальтированно воскликнул он, склонившись в низком поклоне. Почувствовав к нему доверие, Ли Бо пригласил юношу прогуляться в лодке по реке Циньхуай, потом они поехали в Цзиньлин, а при расставании оставил ему часть своих стихотворений, чтобы составить из них сборник (что тот и сделал после смерти поэта, предварив книгу предисловием, из которого исследователи почерпнули много ценной информации о Ли Бо).
В уезде Лиян, куда он приехал по приглашению другого почитателя, начальника уезда, поэт заинтересовался местной легендой о некоей праведнице, которая тридцать лет не выходила замуж, потому что полдня ухаживала за больной матерью, а полдня полоскала в ручье шелковые ткани, зарабатывая на пропитание, как вдруг увидела мужчину, с трудом выбравшегося на берег. Это был У Цзысюй, который бежал от преследований чуского властителя, убившего его отца. Он умирал от голода, и женщина, преступая ритуальные нормы, отдала ему последнюю пищу, оставив мать без еды, а сама бросилась в пучину вод. Вернувшись победителем, У Цзысюй пришел на берег реки, где повстречалась ему эта женщина, и бросил в воду золотые слитки в память об этой истинной праведнице. Впечатлившийся Ли Бо сделал стихотворную надпись на могильной плите в память о «героине долга, всколыхнувшей страну».
Янцзы путешественник пересек у переправы Хэнцзян. Река тут, как всегда, сердилась. Еще за несколько ли до этого места она величественно покоилась в пологих берегах, как вдруг они вспучились Небесными вратами — двумя утесами один напротив другого, сжавшими поток. Разгневанная Вечная Река сделала крутой поворот на север, а потом вновь продолжила свой нескончаемый путь на восток, но такая заминка, конечно, не пришлась ей по нраву, и она заволокла даль седой пеной водоворотов.
Вариация на тему
Погода стояла ужасная, как часто бывает в этих местах, особенно поздней осенью. Морской прилив вошел в Янцзы и грозно двинулся на запад. К Хэнцзяну он подошел уже несколько ослабленным, но все равно седые шапки волн взлетали, казалось, выше башни Вагуань, а она поднималась на 240 чи [116] над притихшей землей. «Что, морская фея летит[117]?» — спросил Ли Бо у смотрителя переправы, вышедшего ему навстречу из павильона (восстановленный, он сейчас стоит в мемориале Ли Бо в городе Мааньшань, провинция Аньхуэй). Тот улыбнулся: «Небесные Врата [118] качаются». Но тут же посерьезнел: «Вон, взгляните, луна одета в корону туч, значит, жди тумана и сильного ветра. Чувствуете, земля дрожит? Это цзиньлинские три кургана трясутся. Хорошего не жди, в такую погоду наши кормчие сидят на берегу». Нетерпеливый поэт с силой рубанул воздух, словно мечом рассек, и сник. Делать было нечего, пришлось ждать у реки погоды…
Я не придумал этот диалог, я его слышал достаточно отчетливо: его пересказал нам сам Ли Бо в знаменитых шести «Стансах о переправе Хэнцзян». Можете проверить, есть даже два перевода — академика В. М. Алексеева и автора сего жизнеописания в книге «Пейзаж души».
Продолжение вариации на тему
Данту уже был недалеко. Дивной ночью рассиянная осенняя луна, круглая, как бронзовое зеркало, опустилась на воду и легла, словно на мягкое облачко. Да только «Душа всклокоченная мечется / И свиста осени не слышит». Лодка, покачиваясь, миновала скалу Нючжу, с которой была связана долгие годы травмировавшая его давняя история молодого поэта Юань Хуна: много веков назад с лодки напротив этой скалы он читал в пустую и темную ночь свои еще мало кому ведомые стихи; оказалось, что их услышал влиятельный генерал, стихи тому понравились, и он помог поэту обрести имя и положение… Ах, где вы, сегодняшний генерал Се? Поэт Ли Бо, конечно, не безвестен, но хотелось бы большего. Заоблачный полет Птицы Пэн всю земную жизнь не позволял Ли Бо успокоиться.
А у самого подножия скалы он углядел старого знакомца — уже не такой и молодой клен, съеживший в ожидании приближающейся зимы свои листы. В 739 году его еще тоненький ствол был единственным, кто проводил отплывающего от Нючжу поэта, уже познавшего, сколь глуха стена власти, до которой «человеку в холщовом платье» так сложно достучаться. Где преклонить главу? Снова в путь, в путь, в нескончаемый «путь в десять тысяч ли»…
Утес Нючжу над Западной рекой, Куда-то с неба тучки скрылись все, Взойду на лодку, наслажусь луной… Здесь Небо помнит генерала Се! Увы мне! Я бы мог стихи читать, Да кто услышит их в тиши ночной?! Когда я утром парус подниму, Лишь клен махнет прощальною листвой. («Ночью у горы Нючжу думаю о былом»)А еще через девять лет клен, уже вымахавший в высокое и стройное дерево, с осенней грустью прошелестит последнюю земную песнь седому поэту, в хмельном отчаянии бросившемуся у скалы Нючжу в ночные волны…
Находясь не столь далеко от Цюпу — Осеннего плеса, средоточия рек и озер вокруг Янцзы в среднем ее течении, вокруг современного города Чичжоу провинции Аньхуэй, — Ли Бо не мог туда не заехать. А заехав, задержаться, как он уже делал это не однажды. Осенний плес — одно из любимейших его мест, покорявшее простором и вольностью. «Осенний плес… бескрайний, точно осень» — так охарактеризовал его Ли Бо в «Песнях Осеннего плеса», неожиданно и точно соединив в одном образе пространство и время. «Не стоит приезжать сюда, друг мой, / Сжимает сердце обезьяний вой» — это в тех же семнадцати «Песнях Осеннего плеса».
И все же он приезжал и приезжал сюда. Что-то первозданное, еще не выветрившееся, неудержимо манило его. Здесь не хотелось разговаривать, здесь не нужны были слова, здесь шла беседа с Природой, с Изначальностью: «В цветенье персиков на горных кручах / Я, будто рядом, слышу голоса./ Давай, монах, без слов простимся лучше / И к белой туче устремим глаза» (последняя, семнадцатая из «Песен Осеннего плеса»). Недвижные воды отражали всклокоченные седые волосы, и, когда пробегал легкий ветерок, колыхнувшаяся рябь удлиняла их на тысячи чжанов, словно это была нескончаемая протяженность его тоски. Он казался себе травинкой, побеленной инеем холодной осени, согнувшейся под его тяжестью, и даже не верилось, что придет весна, травинка оживет, выпрямится, зазеленеет.
В те дальние времена, которые еще помнили Конфуция как своего современника, ютилось на этих землях небольшое царство Вань, от которого сегодня ничего, даже нетронутого простора, не осталось — только память потомков да иероглиф вань на номерных знаках автомобилей провинции Аньхуэй. А во времена Ли Бо это тридцатикилометровое пространство, осенью сливающееся в одно сверкающее зеркало воды, вспухавшее многочисленными горами и горками, исчерченное реками и ручьями, шевелящееся летающей, плавающей, ползающей, бегающей живностью, прячущейся в густых зарослях, расширяло сердце, будило мысль, снимало напряжение суеты цивилизации. Бамбук, щедро заполняющий просторы Осеннего плеса, казался поэту волшебной «пищей Феникса», и в сумерках на замерших ветках дерев ему чудилась лунная Сорока, птица счастливых влюбленных, прилетевшая сюда отдохнуть после напряженной работы по возведению моста в небе для разлученных Пастуха и Ткачихи.
Вариация на тему
Как-то по весне заглянул он в знакомый кабачок пропустить чашу-другую, а за соседним столиком сидит крестьянин с корзиной, из которой выглядывает необыкновенной красоты птичья головка: вся в снежно-белом оперении, а клюв и глаза очерчены красным. «Что за птица?» — не выдержал поэт, очарованный ее необычной красотой. «Серебристый фазан. Живет на крутых скалах, гнездится на ветках сосен. Поймать ее нелегко, а еще труднее выкормить».
Серебристый фазан! Ли Бо вспомнил Миньшань, горы юности, где он сумел приручить такую птицу, слетавшую к его ладони. «Продай мне птицу!» — «Э, господин, не так всё просто. Приходи сюда завтра поутру, птица прилетит к тебе, я пошлю ее». Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не было ни птицы, ни крестьянина. И поэт отправился искать его в горной глуши. Заплутал, вышел на какого-то белобородого старца, и тот послал его по направлению к горе, за которую заходит солнце. Через три ли повернул направо и вышел к деревушке, где этот ловец и жил.
«Ради птицы, — поразился тот, — господин забрался в такую глушь?» — «А я, — рассмеялся Ли Бо, смахнув пот со лба, — не от мира сего. Если захочется чего-нибудь, не успокоюсь, пока не достану». — «А прозывают-то как господина?» — «Ли Бо я, двенадцатый в роду». — «Ах, — всплеснул руками крестьянин, — Ли Тайбо, который пишет стихи! „Пятно луны светло легло у ложа…“ — напел он. — С десяти лет знаю вас, господин». И он подарил поэту серебристого фазана, а когда тот не захотел брать бесплатно, догнал и чуть не насильно вручил, попросив: «А вы напишите мне стихи!»
Вернувшись к себе, Ли Бо, вслушиваясь в гортанные крики фазана, неторопливо бродившего под окном, написал: «Как я хотел бы под луной гнездиться, / Встречать рассвет в опавших лепестках. / Ах, стать бы этой серебристой птицей / И жить, резвиться там, в глухих горах». Бумагу с этим стихотворением он привязал к лапке фазана и выпустил птицу. Она вернулась к крестьянину, а тот, растроганный, отыскал поэта и вернул ему серебристого красавца.
[Жун Линь-1987. С. 35–40]Ли Бо, быть может, больше, чем кто-нибудь из китайских поэтов, был слит с Природой и вводил ее в свои лирические стихи, глядя на нее не «снаружи», а «изнутри», — как естественная ее часть. «Другом луны, приятелем ветра» назвал его цинский ученый Лю Сицзай [Чэнь Вэньхуа-2004. С. 108].
Пейзажные миниатюры Ли Бо — это шедевры слияния того, что видит глаз, с тем, что чувствует душа, сплав внешнего с внутренним, сиюминутного с вчерашним и с вечным. При этом они могут быть традиционно сдержанны, но часто рвут оковы формальной поэтики. В таких пейзажных миниатюрах китайские поэты обычно бесстрастны, тогда как Ли Бо, по оценке известного японского исследователя его творчества Мацуура Томохиса, «взлетает над обыденным, откровенно руша всяческие рамки» (цит. по: Чэнь Вэньхуа-2004. С. 113). А сунский автор напрямую соединял пейзажную лирику Ли Бо с его устремленностью в заоблачное инобытие: «Стихи Ли Бо гнездятся среди ветра и луны, трав и деревьев, и без них его бессмертный дух не сможет перевоплотиться».
Бесцельные, казалось, блуждания по окрестностям постепенно обретали всё более четкие очертания. Душа расслаблялась, отгораживалась от карьерных срывов и начинала жаждать вольного эфира. Проведя короткую ночь на покачивающейся лодчонке местных старателей, поэт в предутренние сумерки уходил с ними на поиски сурика, который мог принести ему желанное инобытие. Ли Бо тщательно проштудировал «Золотой канон» с тайными рецептами приготовления эликсира бессмертия. Но порой закрадывались сомнения — тот ли это путь? Может, и сурик не нужен? Ведь свободен дровосек, чей топор раздается с вершины, уходящей в небо…
От Желтого пика нас гонит рассветный петух. Чтоб к озеру Ся нам добраться в закатную пору. Из темного леса торчит серебристый бамбук — То струи дождя исчеркали застывшую гору. Искателей сурика, нас ожидает ночлег На утлом челне среди лотоса листьев зеленых. Распахнуто небо полночное, и человек В сверкании звездных потоков стоит, ослепленный. А утром — к Далоу, где сурик мы сможем найти На тропах извилистых или в лощинах тенистых… А что если мне к старику-дровосеку уйти И рубкой деревьев заняться в заоблачных высях? («Ночую на озере Креветок», 754)Вариация на тему
Поднявшись на горушку, что очертаниями похожа на потянувшееся к небу легкое строение (ее так и прозвали — Далоу, Большая башня), он устраивался на мшистом валуне с семиструнным цинем на коленях. Волосы, у служивого люда обычно собранные в тугой пук на затылке, свободно рассыпались по плечам, как у отшельника-даоса, пренебрегающего условностями бренного мира и самим этим миром. Лиловый халат (не сочтите это неким домашним шлафроком, уж так мы привыкли несколько коряво переводить название сего парадного одеяния высокого вельможи), уже несколько поистертый, выглядел несвежим, но все еще не отброшен и не заменен, как Ли Бо любил говорить, простонародным «холщовым платьем».
Громким, заполняющим все ближнее пустое пространство голосом с легкой хрипотцой усталости и с заунывностью неискоренимой печали он, перебирая струны, напевал только что сочиненные строки из поэтического цикла:
Осенний плес, бескрайний, точно осень, Пустынный, наводящий грусть на всех. Заезжий путник грусти не выносит, Влечет его по горным склонам вверх. Смотрю на запад — там дворцы Чанъаня… («Песни Осеннего плеса», № 1)Нельзя сказать, что тоска отпускала его тут полностью, но она как-то мягчела, не била в одну, самую болезненную точку, а растягивалась, расплываясь, обволакивая дымкой осенних туманов. В его напевах звучала печаль «отлученного», как некогда определял свою невостребованность во властных структурах его великий и далекий предшественник Цюй Юань, чуть стушированная слиянием с природой, еще не утратившей чистоты Изначального. Он пел не для кого-то, он пел для себя, это был голос его души:
Осенний плес… Тоской полна душа. Осенний плес… Мне не нужны цветы, Хотя ветра и солнце — как в Чанша И, словно в Шань, блестит поток воды. («Песни Осеннего плеса», № 6)Упоминание Чанша тут не случайно — это намек на те красоты междуречья Сяо-Сян, среди которых покончил с собой Цюй Юань, разуверившийся в праведности властных структур. Осень и зиму 754 года Ли Бо провел на Осеннем плесе.
Вариация на тему
В небольшом домишке старого даоса на склоне горы гулял ветер, и с ним всю ночь шепталась жесткая подушка, в дыры прохудившейся крыши выглядывала стреха, высматривая далекие звезды, а под утро на больших белых обезьян нападал страх, и они оглашали округу печальным воем, перекрывая шелест ручья и шепот ветра в соснах.
У Чистого ручья повстречал он такого же ошалелого странника, прибредшего издалека, с юга — из Гуйяна, где полно диких фазанов. Это напомнило прибрежную полосу на востоке вокруг горы Гуйцзи, очарованное место, где когда-то вольно раскинулось царство Юэ. Пристроившись под раскачивающимися в ветре стволами бамбуков и укутавшись от ночной зябкости собольей шубой, одной на двоих, они опростали пару жбанчиков местной «Весны», и слегка захмелевший собеседник продемонстрировал, как он умеет подражать хриплому голосу фазана. В чистоте ночи крику ответило эхо, и поэту представилось, что это фазанка из далекого Юэ откликнулась на зов:
Я укрою вас собольим палантином, Предложу вина нефритовую чашу, Хлопья снега растворяются в кувшине, И, конечно, холод ночи нам не страшен. Гость мой прибыл из далекого Гуйяна, Запевая, по-фазаньи он клекочет, Бамбучок танцует с ветром неустанно, И фазанка из Юэ ответить хочет. Ах, как славно эту песенку мы спели! Так зачем же нам какие-то свирели? («Снежной ночью у Чистого ручья на Осеннем плесе гость с чашей вина напевает песню о горном фазане»)В наступившем рассвете Чистый ручей, прозрачный, как душа, и студеный, как утренние заморозки, искрился под лучами восходящего светила, петляя у подножия меж склонов, по которым, как на цветастых ширмах, вычерчивали зигзаги проснувшиеся птицы. Ли Бо побрел вдоль берега, стараясь не смотреть на замершую поверхность, в которой отражались его взлохмаченные седые пряди. Все вокруг сияло красотой первозданности, но на один миг наступало ирреальное самоотождествление с Цюй Юанем, который, отринутый слепой властью, последний раз взглянул в воды Сяо и навсегда исчез в речной пучине.
В три тысячи чжанов — моя седина, Она, как тоска, бесконечно длинна, И в зеркале вод — словно иней осенний… Не знаю, откуда явилась она? («Песни Осеннего плеса», № 15)В уезде Цзин блуждания Ли Бо случайно пересеклись с каким-то монахом. От ручья у подножия горы они поднялись по склону Шуйси к монастырю и распрощались. Монах излучал такое освобождение от суетных забот мира, что показался поэту воплощением знаменитых даосов прошлого, неземным существом, спустившимся на мгновение и под вопли чутких обезьян вознесшимся обратно в свое бескрайнее и беспечное Занебесье.
Откуда ты, монах, пришел в Шуйси, Где лик луны плывет меж берегов? Чуть рассвело, ты, молвив мне «прости», Поднялся по ступеням облаков В недосягаемую высоту Над сотней сотен гор, меж звезд и лун, Беспечный, как когда-то был Чжи Дунь, Ветрам отдавшись, словно Юань-гун. Увидимся ль когда-нибудь, монах? Вой обезьян в ночи вселяет страх. («Прощай, монах с вершины горной»)Здесь, на Плесах, казалось, и люди жили какие-то особенные. Или это Ли Бо попадались такие? Его острый глаз всегда выхватывал из одномерной толпы человека нестандартного. Вот, например, Лю, помощник начальника уезда. Ли Бо познакомился с ним не в официальной обстановке, а за чашей вина на ароматном пленэре, когда выглянувшая из-за туч луна опустила луч в янтарный напиток. Этому эстету здешнего благолепия показалось мало, и, едва назначенный, он, помимо дел в своем ямэне, занялся благоустройством территории, засадив ее персиками и сливами, чем и пленил заезжего поэта.
Общение для Ли Бо было воздухом, без которого он не мог дышать. Горькие строки о печали одиночества диктовались, конечно, прежде всего непризнанием со стороны властных структур, но также и непостоянством тех, к сожалению, не столь малочисленных, из людей, кто набивался в друзья, пока поэт был в фаворе, и холодно отворачивался, когда ситуация менялась. Порой им овладевало отчаяние абсолютной пустоты, выходом из которой было лишь перемещение в инобытие Занебесья, откуда к поэту приходили родственные импульсы.
Ли Бо был щедр и отзывчив, охотно покидая «лежанку Чэнь Бо»[119] не только для старых и проверенных друзей или родственников, но и для новых знакомых. Он сразу поддавался очарованию собеседника и вослед ему посылал стихотворение, часто не просто любезное, но панегирическое:
…Ты — наш Хуэйлянь[120], прими бокал вина, Ты — наш Ма Лян, семейный Белобровый[121]. Нет строк про мост у моря у меня, Да и про мост над речкой нет ни слова[122]. («Провожаю брата Чуня вдоль реки Цзинчуань», 755 г.) …Почтенный Шэн в краях сих знаменит, Он ярко излагает свою мысль, Забыв себя, для всех людей открыт, Не думая стряхнуть мирскую пыль, Чист, как луна на глади темных вод, Как белоснежный лотоса цветок… («Вместе с дядей, начальником уезда Данту[123], пришли в павильон Цинфэн к почтенному Шэну, настоятелю монастыря Перевоплощения»)Любопытно в этом плане сопоставление количества стихов, посвященных друзьям, у Ли Бо и его друга и современника Ван Чанлина: 19 у первого и 41 у второго [Изучение-2002. С. 211]. Но не спешите делать выводы: следует заметить, что подсчитывались только семисловные четверостишия, так что в этот разительный контраст не входят ни пятисловные четверостишия, ни стихотворения других форм. Так что для обобщения о «холодности» поэта — это еще не аргумент. Стоит сначала подсчитать количество более длинных, в восемь и более строк, стихотворений, посвященных друзьям. И я уверен, что тогда мы придем к другому выводу: пространства в четыре строки для Ли Бо было недостаточно, чтобы выразить переполняющие его чувства дружбы. Его ранимое сердце нуждалось в ответной дружеской энергетике, чтобы выйти из гнетущего одиночества, подтвердить свою сопричастность группе, и он посылал друзьям достаточно мощный импульс в ожидании адекватного эха.
Дурманное зелье
Дружеские встречи неотделимы от дурманящего зелья. Всё, кроме своей парящей души, Ли Бо готов был отдать для приятельской пирушки. Очистить душу от горечи, конечно, удавалось, но лишь на краткий миг.
Ведь даже травы по весне растут Наперебой у Яшмовой палаты[124], А мне ветра весны тоску несут, И сединой виски мои объяты. Со мной в компании лишь только тень, Хмельная песня в рощи улетает. О чем шумите, сосны, целый день? По ком тут ветер меж ветвей рыдает? Взошла луна, и я пустился в пляс, Запел, перебирая циня струны. Кувшин вина меня один лишь спас, Не то заполнился б тоской угрюмой. («В одиночестве пью вино», 737 г.)Вино — неотъемлемый элемент китайской культуры[125]. Его именовали «дар Небес». В древнем памятнике «Чжоуские ритуалы» встречается слово «человек [при] вине», почтительно обозначающее специального чиновника, ведающего питейным делом. В классическом «Каноне поэзии» слово «вино» встречается шестьдесят три раза, а безымянный автор песни о жене, которая предлагает мужу вино, облегчающее мирские страдания, тем самым уже соединяет хмельное зелье с чувством, с внутренним самоощущением человека, одухотворяет его. Считается, что с конца Ханьской династии вино превратилось в духовный атрибут литератора, стимулирующий его энергетику и возвращающий свободу, которая была ограничена в реальном бытии. Даже до танской эпохи едва ли не каждое стихотворение в той или иной степени затрагивало эту тему [Гэ Цзинчунь-1994. С. 50]. А уж в танское время поэзия без вина в значительной мере утратила бы свое очарование. Ее так и именуют «хмельной», и наиболее ярким ее представителем считается Ли Бо [Ян И-2000. С. 71].
Весь танский Китай, особенно территории к югу от Янцзы, был увешан синими флажками питейных заведений, влекуще полощущимися в легких дуновениях ветерка. Там предлагали молодое и старое, виноградное и зерновое, цветочное и плодовое, деревенское и «жгучее» вино, переливающееся всеми цветами радуги, — прозрачно-белое, мутно-белое, зеленоватое, лазурное, желтое, янтарное, проблескивающее лучиками пурпурной зари. Преимущественно пили слабое вино, но кое-где, например, в Чэнду, возгоняли и крепкое «белое вино», то есть водку шаоцзю градусов под сорок. Знаменитыми производителями считались Синьфэн, Чанъань, Чанша, Цзиньлин, Чэнду, Балин, Ланьлин, Лу, Шу, Уся. В названиях большинства из них стояло слово «весна». В любимом Ли Бо городе Сюаньчэн делали «Старую весну». Было много цветочных настоек — «Вино из сливовых цветов», «Виноградное желтое вино», «Вино из лепестков груши», «Вино из желтых хризантем», «Вино из цветков граната». Питейная утварь поражала таким разнообразием, что ему непросто отыскать эквиваленты в русском языке.
Шу, отчий край Ли Бо, издревле славился виноделием. В древних книгах вино называли «славной водой Инского края (территория вокруг Ин, столицы древнего царства Чу. — С. Т.)». Центр Шу город Чэнду был одним из основных производителей шуской «Весны», откуда это название и покатилось по стране.
О качестве вина говорит такой факт: в 1995 году у Львиной горы близ города Сюйчжоу в современной провинции Цзянсу при археологических раскопках захоронения ханьского времени (рубеж нашей эры) были извлечены запечатанные кувшины «Ланьлинского» вина из Восточного Лу, которое не слишком сильно утратило свой превосходный вкус и нежный аромат, опьяняющий еще до того, как вы успеете пригубить его. Оставшиеся от ученой дегустации сосуды переданы в музей провинции Цзянсу. «Славное ланьлинское на травах — / Блеск янтарный в яшмовых оправах…» Если вам распечатают эти сокровища, вы сможете хотя бы слегка войти в хмельную ауру Ли Бо.
Важно, что даоское учение ставило вино в ряд сакральных атрибутов своей мистической традиции. Жертвенное возлияние вином в раннем даоизме сопровождало обряд возведения в высокий духовный сан. Позже словосочетание «даос [при] жертвенном вине» стало определять одну из шести категорий духовности (остальные пять — «даос небесной истинности», «даос духовной святости», «даос горной обители», «даос, покинувший дом», «даос, живущий дома»). Для даосов вино противостояло мирским запретам и регламентациям, свойственным буддизму и конфуцианству, приносило освобождение духа сродни принятию «эликсира бессмертия». Образы канонизированных даоских святых были неотрывны от пития.
И потому в танское время наряду с мифологическими «восемью бессмертными» появилась другая восьмерка, в которую молва включила лихих выпивох — Ли Бо и его друзей Хэ Чжичжана, Ли Шичжи, Жуян Ванцзиня, Цуй Цзунчжи, Су Цзина, Чжан Сюя, Цзяо Чжуя, — окрестив их «восемью святыми пития». При этом, однако, рядовых адептов даоской религии призывали воздерживаться от злоупотребления дурманным напитком, грозя карами за «нанесение вреда» обществу, семье, природе, человеку. Тем не менее не какие-нибудь падшие пропойцы, а вполне респектабельные интеллектуалы готовы были отдать трактирщику за вино свое имущество (Ли Бо предложил коня, Ду фу — одежду), знаки высокого сановного отличия (Хэ Чжичжан снял с себя «золотую черепашку»).
В прозвищах поэтов, которые либо им давала молва, либо они придумывали их сами, слово «вино» было одним из самых распространенных: Ван Цзи называл себя «ученым мужем доу вина»[126], Юань Цзе — «винным смердом», Пи Жисю — «хмельным рыцарем», Бо Цзюйи просто прибавлял к имени определение «хмельной».
За Ли Бо закрепилось прозвание «хмельной сянь» («хмельной святой», «хмельной гений»), вероятно, наложившееся на определение «гений стиха», и такое представление о Ли Бо как о «двойном сяне» закрепилось у потомков. Сильно преувеличивая, но уловив суть поэзии Ли Бо, поэт и сановник XI века Ван Аньши, недолюбливавший предшественника, сказал: «У Ли Бо — сплошная грязь, в девяти из десяти стихотворений пишет о женщинах и вине». А танский поэт Пи Жисю в «Семи стихотворениях о любви к Академику Ли Бо» назвал его «духом звезды вина». Современный поэт Чжэн Гу в стихотворении «Читая сборник Ли Бо» повторил: «Звезда стиха, звезда вина / Соединились в нем одном…»
Ли Бо был не только любителем, но и знатоком вина, в своих частых поездках по стране непременно дегустировал местные сорта, плодово-ягодным винам предпочитал виноградные, что лишний раз намекает на его среднеазиатские корни. В танское время культура виноградного виноделия, позже утраченная, была в расцвете, занесенная из западных краев, и в Чанъане Ли Бо особенно любил заходить в кабачки тюрков. Он водил дружбу с известными виноделами, посвящал им стихи. Каждый свой приезд в Сюаньчэн непременно отмечал в заведении старика Цзи. Покидая весенний Цзиньлин в свой первый приезд туда, он созвал новообретенных приятелей в старый кабачок над рекой, весь пропитанный винным духом, молодая хозяйка, стряхивая с волос тополиный пух, поднесла кувшины, сдвинули чаши и наполнили их вновь. Впереди поэта ждал еще более веселый город Янчжоу, и он был устремлен туда, как поток реки, утекающий на восток, чтобы больше не вернуться к истокам.
Более того, Ли Бо можно назвать «теоретиком пития», ибо если до него поэты славили вино и опьянение, не мудрствуя лукаво, не ища сему объяснения и оправдания, то Ли Бо первым сформулировал:
Я знаю мудрость, что несет вино, Оно в безбрежность душу раскрывает. («В одиночестве пью под луной», № 4)И обосновал питие как благое действо — не только наслаждение, расцвечивающее скудное бытие, не только способ нравственно отгородиться от мирской пыли, но возможность ощутить духовное удовлетворение от самого бытия, способствующее слиянию с Великим Естеством (и в этом — его основное отличие от предшествовавшей «хмельной поэзии»):
Не будь столь любо Небесам вино — Там не было бы Винного созвездья, Не будь Земле столь сладостно оно — Нам Винный не был бы родник известен. Вино приятно Небу и Земле, Так перед Небом этот грех не страшен. Ты святость обретешь навеселе, Ты мудрость обретешь от доброй чаши. («В одиночестве пью под луной», № 2)Ли Бо не уподоблялся Жуань Цзи, который беспробудно пил шестьдесят дней, или Лю Лину, который пил, пока не сваливался замертво. Само вино и даже его воздействие для Ли Бо были вторичны, ему было важно, где, когда и с кем пить. Для пития он предпочитал позднюю весну, когда широко распахнувшиеся цветы услаждают глаз и насыщают воздух ароматами, а шальные птицы, ожившие после зимы, влетают в кабачки и едва не садятся на столы.
Кувшин обвязан шелка лентой черной, Не медли, парень, поскорей налей. Кивают мне цветы со склонов горных — Настало время чаше быть полней. Так выпью у окна в закатном свете, Ко мне заглянет иволга опять. Хмельной гуляка и весенний ветер — Друг другу мы окажемся под стать. («Жду не дождусь вина»)Вариация на тему
Как-то начал он регулярно получать подношение — жбанчик отменного вина — от поклонника его стихов Ван Луня, богатого винодела из уезда Цзин недалеко от Осеннего плеса[127]. И вот как-то Ван Лунь приезжает к нему и спрашивает: «Господин любит путешествовать?» — «Люблю». — «А не хочет ли господин посетить местечко, где на десятки ли — персиковые цветы обрамляют прозрачный омут?» — «Отчего бы и нет?» — заинтересовался поэт. «А еще у нас там десять тысяч винных лавок», — продолжает заинтриговывать Ван Лунь. Поэт немедленно собрался, уже представив себе этот дивный уголок земли, где в розовом сиянии он идет из кабачка в кабачок, поглощая по чаше-другой «Поздней весны», настоянной на лепестках персика. Приехали — а там лишь одно персиковое дерево во дворе единственного кабачка. Ван Лунь заливисто смеется: «Омут персиковых цветов — это название нашей деревни, а Вань (цифра 10 тысяч) — фамилия кабатчика, который продает мое вино „Поздняя весна“». Ли Бо оценил розыгрыш, в которых и сам был мастаком, и остался на несколько дней, проведенных весьма и весьма весело.
Когда он уезжал, на причале собралась вся деревня, люди взялись за руки, пели песни и притоптывали ногами. Расчувствовавшийся поэт тут же сочинил экспромт «К Ван Луню» и протянул новому приятелю. Тот продолжал снабжать поэта своей продукцией, а поэт его — своей, и из одного стихотворения мы узнали, что винодел построил себе одинокую хижину на берегу омута, где время от времени отшельничает.
В подпитии Ли Бо любил вспрыгнуть на осла, которых путешествующие поэты предпочитали лошадям, менее выносливым, и отправиться по какому-нибудь случайному направлению.
Вариация на тему
Однажды осел, медленно перебирая ногами, потащил его к горе Хуашань. Задремавший на крупе поэт и не заметил, как въехал в уездный центр, проскочил сквозь начальственные ворота и, конечно, попался на глаза надутому вельможе, считавшему себя большой шишкой. «Это кто же столь непочтителен?!» — взревел оскорбленный вельможа. Ли Бо очнулся, взглянул на него осоловелыми глазами и мгновенно превратился в «безумца», готового к любому озорному розыгрышу.
«А подай-ка мне кисть и бумагу!» Начальник лишился дара речи, а подчиненные автоматически среагировали на приказной тон. И Ли Бо написал: «У меня нет ни рода, ни имени, мой Небесный удел — вино, выпив, я блюю, и как-то сам государь отер мне губы, обмахнул веером». Вельможе стало ясно, что перед ним — знаменитый придворный академик, и он сам согнулся в почтительном поклоне. Впоследствии эта история стала сюжетом для живописного свитка «Ли Бо верхом на осле», а еще через какое-то время кто-то приписал на свитке рифмованные строки: «Святой сидит на осле, как на ките, / Смотрит на пыльный мир, думая об острове бессмертных Ин в Восточном море…» «Бешеным служивым» назвал Ли Бо сунский поэт Су Ши.
Не подумайте, однако, что поэт «упивался до чертиков». То мутноватое мицзю, которое в ту пору в основном и пили, было (подтверждаю личной дегустацией в славном крае Шу!) не крепче сегодняшнего пива. Хотя в некоторых ситуациях Ли Бо требовал и крепкого «белого» — так, например, он живописал праздничный стол по случаю долгожданного вызова к императору в стихотворении 742 года.
В маленьких трактирчиках при дороге обычно подавали местное вино, и в каждом новом месте Ли Бо выбирал то, что понравилось, — и торопил принести сразу целый кувшин. За окном поднимались вверх зеленые склоны, на ветках весело щебетали птицы, словно бы беседуя с поэтом, весной на миг раскрывались яркие цветы, к лету уже роняя лепестки, а осенью скукоживались травы, и в созвучии с этими природными ритмами жил поэт. Не всякое вино вдохновляло, но порой он легко импровизировал что-то с учетом местных реалий и стремительной кистью оставлял четверостишие на стене кабачка. Особенно проникновенно раскрывалась хмельная картина, если ее окрашивала глубокая меланхолия одиночества. Хотя Ли Бо постоянно окружали друзья и приятели (по крайней мере, до тех пор, пока на него не обрушилась высочайшая опала) и он, судя по стихам, явно оказывался душой компании, но, видимо, тщательно скрываемое внутреннее ощущение поэта близко к тому, о чем проговорился Надсон: «Наиболее одиноким я чувствую себя в толпе».
По приблизительным подсчетам Го Можо, из сохранившихся 1400 стихотворений Ду Фу свыше 300 (16 с лишним процентов) живописуют винопитие; у Ли Бо таковых несколько меньше — около 170 [Го Можо-1972. С. 196]. Гэ Цзинчунь произвел свои, более детальные, уточняющие подсчеты, учитывая наличие в тексте как слов «вино» и «выпивать» (в разных синонимических вариантах), так и «хмелеть», «сбраживать», «кувшин», «чаша», «чарка» и прочее в том же духе, и насчитал у Ли Бо 385 стихотворений, так или иначе связанных с хмельным питием, — более 30 процентов всего корпуса произведений.
Но главное — не в количестве. «Хмельные» стихи Ли Бо сброжены, как само доброе вино, бурлят огромной внутренней энергетикой, немерно экстатичны и вызывают восхищение читателей и благоговение исследователей, гиперболизирующих их романтическую мощь до уровня … «симфоний Бетховена». В знаменитой «Сянъянской песне» исследователь видит, как «вино пробуждает у поэта невероятную силу воображения» [Гэ Цзинчунь-1994. С. 53].
Ведь по натуре своей Ли Бо был весьма экзальтированным человеком, лишь время от времени надевая на себя маску конфуцианской сдержанности. Похоронив односельчанина У Чжинаня, он так рыдал у свеженасыпанного холмика, что у проходящих мимо случайных прохожих сжималось сердце.
Вино было для Ли Бо прежде всего средством забвения и поэтического вдохновения, оно раздвигало границы жестко очерченной действительности, формируя иную, особую реальность, которая оказывалась точнее и глубже «трезвой» реальности, затуманенной ритуальностью, долгом, обязанностями и останавливающейся на внешнем абрисе объекта.
Более того, вино соединяло его с космосом, и этот способ разрыва с бренным миром и ухода в пространство обитания святых оказывался гораздо более действенным, чем магические даоские практики. Или тесно сливался с ними, продолжая, усиливая, ускоряя их воздействие. Ведь прием корня аира лишь через четыре месяца оказывал воздействие на духовную структуру, лишь через семь лет седые волосы вновь становились черными, через десять лет лицо становилось розовым, как цветок персика, и только на двенадцатом году ты обращался в «истинное существо», входя в вечность.
А раз уж, выпив, ты и мудр, и свят, — Зачем же улетать нам к горним сяням? Три чаши отворят широкий Тракт, Большой черпак — мы вновь Природой станем. («В одиночестве пью под луной», № 2)Вино порой было элементом игры, куража, аттракциона, мистификации. Не всегда поэт, казавшийся пьяным, был пьян на самом деле, нередко он притворялся таковым для того, чтобы «сыграть роль», совершить то, что трезвому не простится.
Как-то постучал он в ворота высокого сановника и передал бамбуковую дощечку (инструмент самопредставления, аналог нашей визитной карточки), на которой было написано «Ли Бо, который ловит в морях гигантских черепах». Заинтригованный вельможа, приняв поэта, поинтересовался: «И как же вы их ловите?» — «Из радуги делаю леску, из луны крючок». — «А наживка?» — «Неправедные мужи Поднебесной».
В другой раз, придя в возбуждение от встречи со старым другом да еще возвращаясь в вольную жизнь после ссылки, он гипертрофированно изобразил степень своих ощущений в такой форме: «Я для тебя готов обрушить Башню Журавля…»(«В Цзянся подношу Вэй Бину из Наньлина»). Это стихотворение вышло за пределы восприятия только адресатом: некий юный поэт Дин, восприняв его с опасной буквальностью, страшно испугался за судьбу известной Башни Желтого Журавля и назвал Ли Бо неизлечимо сумасшедшим. Поэт не прошел мимо этого выпада и снисходительно ответил: «Ну, обрушу я эту высокую Башню, / С чего тогда святые станут улетать в Небо? / Желтый Журавль пожалуется Яшмовому Владыке, / И тот вернет Башню на место./…/ Вот подожди, завтра протрезвею, / И поищем с тобой весеннее сияние» («Протрезвев, отвечаю Дину-восемнадцатому на его выпад насчет падения Башни Желтого Журавля»).
Вариация на тему
…Ли Бо с усилием приподнял осоловевшие глаза. Над заостренной вершиной воссияла луна, чуть пересеченная тучками, весело подмигивая хмельному поэту. А кто это там, напротив? Перебирая струны, погрузился в себя… Ах, да, горний старец, отшельник с соседнего склона. Рядом с ним в траве валяются опустевшие кувшины, и ночной ветерок почти не ощущаемым дуновением колеблет окружавшие их черные шелковые ленты. Какая воля! Какая свобода! Какая легкость в душе, воспарившей надо всей мерзостью суетного мира! «Уснуть… И ты иди спать. А с утра я пошлю Даньша за вином. Цинь не забудь. Завтра споем вот это». Ли Бо сорвал с кувшина ленту и легкой, не то что веки, кистью набросал на ней несколько строк:
Мы пьем с тобой в горах среди цветов: Фиал вина, еще, еще один… Иди к себе, а я уж спать готов, Вернешься завтра, взяв певучий цинь. («С Постигшим истину пьем в горах»)Парой штрихов легкого, изящного четверостишия он очертил атмосферу дружеской пирушки, которая продолжается до тех пор, пока друзья в состоянии наслаждаться не столько питием, сколько музыкой, ибо вино — лишь фон для духовного общения, а музыка — высокое парение духа. В среде интеллектуалов такое отношение к вину как соучастнику творческого процесса было широко распространено. Художник У Даоцзы, не выпив, не брался за кисть. Каллиграф Чжан Сюй опрокидывал чашу за чашей, пока сознание его не мутнело, и лишь после этого подходил к чистому листу бумаги. Протрезвев, сам удивлялся отточенным линиям сотворенных им надписей. Поговаривали, что ему помогают духи, и называли «полоумным Чжаном».
Еще дальше пошел сунский художник Бао Дин, рисовавший тигров. Он тщательно прибирал комнату, запирал двери, завешивал окна, оставляя лишь тонкий луч света, падавший на приготовленный лист бумаги. Выпивал доу вина, сбрасывал одежду и становился на четвереньки. В нем словно бы происходило преображение в тигра, он сливался со своим объектом. Выпивал еще доу — и брался за кисть. Тигры на бумаге выходили, как живые, только что рычание не раздавалось.
Воистину, как проницательно точно сформулировал Цюй Юань в оде «Старик рыбак»: «Вокруг все пьяны, только я и трезв!» Великая фраза! Так мог выразиться только человек, для которого вино — лишь инструмент слияния с Естеством. И о Ли Бо говорили, что он всего более трезв, когда пьян. Ведь, как сказал уже после Ли Бо поэт Оуян Сю, «для хмельного старца не вино главное, как для горы главное — не высота, а святость».
Часть третья ТАК ДЛЯ КОГО Ж СВЕТЛА СИРОТСКАЯ ЛУНА?
Глава первая Узник дворцовых интриг (755–759)
И вновь Лушань
Порой, возносясь со святыми в психоэнергетическое пространство космоса, Ли Бо видел и чувствовал то же, что и находясь на земле. В стихотворении «Направляясь в Шаньчжун, скрываясь от мятежа, подношу Цую из Сюаньчэна» он писал: «На Центральной равнине — шакалы и волки, / Полыхают святые кумирни». А в стихотворении № 19 цикла «Дух старины» отмечает ту же картину под собой, паря на сакральном Гусе вместе со святым Вэй Шуцином:
И мне примстилось, что в пурпурной мгле Летим, запрягши Гуся, все втроем. Я вижу, как к Лояну по земле Мчат орды дикие сквозь бурелом. Там реки крови разлились в степях, Вельможные уборы на волках.Тревожные предчувствия поэта сбылись — обретший силу северный наместник Ань Лушань повернул своих воинственных степняков против легитимной власти. В 9-й день 11-й луны 14-го года Тяньбао (конец 755 года) его стопятидесятитысячная армия двинулась на юг. Шлейф пыли тянулся на тысячу ли. Ань Лушань легко овладел городом Фаньян, форсировал Хуанхэ и в 13-й день 12-й луны (это было уже начало 756 года) занял Восточную столицу Лоян. Лишь после этого двор осознал серьезность ситуации и поднял войска, которые возглавил градоначальник Цзююаня Го Цзыи, давний знакомец Ли Бо. Он потеснил мятежников обратно к Фаньяну, но успех был временным. Ань Лушань вернулся в Лоян и в начале 15-го года Тяньбао (рубеж зимы — весны 756 года) провозгласил себя императором новой династии Великая Янь. Немало высоких сановников, забыв о верности Сыну Солнца, перешли на его сторону, а бывший начальник Ли Бо, глава академии Ханьлинь Чжан Цзи, занял пост главного советника («канцлера»).
Сюаньцзун с ближним кругом в растерянности бежал через западные ворота Запретного города Яньцюмэнь в отдаленное Шу, чтобы укрыться в Чэнду. По пути он «кидал кости шакалам», надеясь умерить кровожадный пыл мятежников. В Мавэй, где у теплых источников под успокаивающие напевы бамбуковых флейт прошло столько дождливых осеней и зим с Драгоценной наложницей, он, спасая свою жизнь, «даровал смерть» Ян Гуйфэй, послав ей недвусмысленный красный шнурок для лилейной шейки, а ее брата Ян Гочжуна отдал на растерзание мятежникам, но это не смягчило их ожесточения.
В канун мятежа Ли Бо был в Цзиньлине, а узнав о событиях, бросился в Лянъюань спасать жену и попросил друзей вывезти детей из Восточного Лу. Это был естественный шаг человека, осознающего свою личную гуманистическую, а не только общественную миссию. Но душа его была неспокойна, и тревога за судьбы страны усугублялась пониманием невозможности что-то предпринять: всё это он предвидел, пытался предупредить верховную власть, но его не услышали. В цикле стихотворений «Пишу в пути, спасаясь от беды», он с грустью вспоминает Лу Ляня, отшельника, рыцаря, политического деятеля периода Чжаньго (403–221 годы до н. э.), который искусно предотвратил военное нападение царства Цинь на царство Чжао, и констатирует собственную беспомощность: «И у меня стрела Лу Ляня есть, / Но я не в силах выстрелить, как он» (стихотворение № 3). А в знаменитой «Песне о свирепом тигре» оправдывается: «Не мог не скрыться в южном крае от варварских копыт».
Го Можо весьма резко порицает «паникерство» Ли Бо, недопустимое, «когда стране грозит гибель», квалифицирует это как «величайшую ошибку Ли Бо» и называет его «беглецом». Такой жесткий пассаж авторитетного ученого, бросающий трудно смываемую тень на великого поэта, справедливо вызывал осуждение со стороны профессора Ань Ци. Стоит, однако, заметить, что в 1972 году, когда Го Можо опубликовал книгу «Ли Бо и Ду Фу», он не мог ни обойти этот общеизвестный факт биографии Ли Бо, ни дать ему иную оценку, находясь под давлением тогдашнего социально-политического накала в КНР. Спасибо, что хотя бы с такими издержками он напомнил обезумевшей стране об ее величайших гениях, которых не стоило бы «сбрасывать с парохода современности».
Кроме того, очевидно, что, предприняв после визита в «логово тигра» в Ючжоу попытки воззвать к императорскому двору, Ли Бо понимал, что, раз его не воспринимали как государева советника в расслабленное мирное время, его доводы тем более не услышат в минуту угрозы для трона. Не пику же ему, в конце концов, взять в руки? И годы не те, и статус иной, и оценка своих сил много выше. И все же, как мы увидим дальше, первой же предоставленной ему возможностью активно включиться в развитие событий Ли Бо воспользовался. Ведь, как он в том же году написал в стихотворении «Песнь бравому молодцу из Фуфэн», сейчас «Не время, как Чжан Лян, уйти к Чи Суну, / Поймет меня лишь Желтый камень у моста», что языком историко-мифологических аллюзий означало, что сегодня недопустимо медитировать в глухих горах, а надо быть в гуще актуальных событий.
Но пока он метался по стране: проскакивал «малые павильоны», надолго не задерживался у «больших павильонов», которые в танские времена стояли на трактах через каждые пять и десять ли, горячил усталого коня, перекидывался короткими словечками с шурином Цзун Цзином, временами оборачивался назад, где в повозке дремали их жены. Сначала его потянуло в любезные сердцу места У-Юэ, достаточно далекие от военно-политических страстей, кипевших в околодворцовых пространствах. В начале лета он добрался до округа Юйхан, который еще полтора десятилетия назад именовался, как и в наше время, Ханчжоу. Заболев, задержался там до осени. А потом метнулся на запад — сначала ненадолго в Сюаньчэн, после чего осенью 1-го года Чжидэ (756) осел в районе горы Лушань на склоне вершины Пяти старцев.
Ли Бо с грустью смотрел на выглядывающие из зелени над девятью рукавами великой Янцзы ее пять пиков, напоминающие то поэта, то монаха, то рыбака с удой, и вспоминал, как побывал здесь еще в 720-х годах, только покинув родное Шу Этот дивный пейзаж сразу же так впечатлил его, что он написал четверостишие «Смотрю на вершину Пяти старцев близ горы Лушань»:
Вон там — пять скал, сидящих старых человечков, Златые лотосы под сферой голубой. Видна отсюда прелесть вся Девятиречья. Уйду от мира к этим тучам под сосной.Вариация на тему
Вот он и скрылся у этих сосен под бегущими облаками, только не от мира людей, а от пожара войны. Но и от мира, мирского, бренного — тоже. Он подолгу сиживал за каменным столом в своей хижине, покрытой соломой, или потерянно бродил по склонам, собирая лекарственные травы. Хижину, огороженную бамбуковым частоколом, поименовал «Кабинетом Отшельника Синего Лотоса», вложив в это пышное название, так не соответствующее скромности жилья, множество смыслов: и ностальгию по родному Шу, по Посаду Синего Лотоса, где стоял родительский дом, по юности с горящими, жгучими надеждами и замыслами, и прощание с миром страстей человеческих, принесшим ему столько страданий и не заслуживающим ничего иного, кроме как полного и окончательного отречения (Синий Лотос — поэтический символ Будды). И все же…
Еще одна вариация на ту же тему
«Утренний туман застилал гору Жаровни, и сквозь него пробивались лучи солнца, окрашенные багровым цветом. Со скалистых камней Жаровни срывался водопад, прорезая туман, и зрелище было редчайшее. По горной тропе брел дровосек с вязанкой за плечами и пел: „К закату поднимусь на пик Жаровни, / Взгляну на юг — там водопад вдали“. Ли Бо остановился, прислушался. Дровосек-то напевает слова его стихотворения „Смотрю на водопад в горах Лушань“. Сердце всколыхнулось радостью, и он с тихой улыбкой принялся пощипывать усы. Тридцать с лишним лет назад он был здесь, на Лушань, и написал это стихотворение, оно распространилось среди людей и вот стало горной песенкой дровосеков. День клонился к вечеру, и Ли Бо забросил за спину котомку с травами, подхватил мотыгу и пошел к дому».
[Гэ Цзинчунь, 2002-А. С. 219–221]Морщины души разгладились. Не такой уж он и отверженный. Пишет же не какую-нибудь простенькую «Деревенщину из Ба», а «Белый снег солнечной весной», настоящие стихи, не каждому, казалось бы, доступные, а вот смотри — простой трудяга напевает!
Поэт в поход собрался
Тем временем при дворе и в тесно окружающих его ближних пространствах происходили странные события, которые исследователи сегодня не в состоянии достаточно однозначно прояснить, выдвигая разные гипотезы, преимущественно психологического характера.
В пятнадцатый день седьмой луны пятнадцатого года Тяньбао (лето 756 года), уже находясь в Чэнду, император Сюаньцзун своим указом разделил направления обороны между принцами: наследник Ли Хэн возглавил войска, которым надлежало выдвинуться в северные области к Хуанхэ и освободить обе столицы, а Ли Линь[128], больше известный по своему титулу Юнван, должен был оборонять земли южнее Янцзы. Тут важны не детали полномочий, а сам факт: Сюаньцзун выступил как единоличный властитель страны и верховный главнокомандующий.
Однако за три дня до этого принц Ли Хэн издал свой указ, в котором односторонне провозгласил себя императором Суцзуном, а отца — «Верховным правителем», что фактически означало отрешение того от престола, и сменил девиз правления на Чжидэ. Сюаньцзун своим указом поддержал это решение, но лишь через месяц. Среди его аргументов звучал и такой: «Путь до императора далек», что опасно в быстро меняющейся военной ситуации.
Возможно, «если взглянуть с позиций усмирения мятежа, принц поступил рационально» [Сюэ Тяньвэй-2002. С. 50], ибо «на небе не может быть двух солнц». Но двор уже давно жил во взаимном недоверии и подозрительности, так что этот неожиданный волюнтаристский шаг принца рассматривается историками не как случайность, а как логическое завершение круговорота интриг при танском дворе, для чего мятеж и напряжение военной борьбы стали прекрасным поводом.
Выказывая отцу внешние знаки почтения, новый император сосредоточил «поиски врага» на брате, ибо тот начал исполнять указ Сюаньцзуна с подозрительной быстротой, собрал войска в Цзиньлине и вскоре двинулся на восток, проигнорировав распоряжение нового императора вернуться в пределы Шу. Возможно, он осознавал стратегическую важность южных областей, которые всегда были житницей страны. А может быть, вынашивал некие тайные планы. Ему ведь как раз перевалило за сорок, когда, по Конфуцию, «благородному мужу» положено было четко определить свой социальный статус.
Еще из Цзиньлина принц послал Вэй Цзычуня, давнего знакомца Ли Бо, гонцом на Лушань к поэту, призывая его присоединиться к борьбе с мятежниками. Ли Бо был в замешательстве. Вряд ли он что-то знал о вскрывшейся язве конфликта между царственными братьями и считал Юн-вана полководцем, которого легитимный император поставил во главе войска. Однако события собственной жизни диктовали ему осторожность в общении с высшей властью. Хотя он не мог не понимать, что это, возможно, его последний шанс прикоснуться к механизму государственного управления, о чем он мечтал всю жизнь. Но определенного ответа гонцу не дал, и вскоре тот явился во второй раз, и опять поэт ушел от решения. На протяжении трех месяцев Юн-ван трижды посылал гонца.
Вариация на тему
Ли Бо осторожничая, тем более что жена, через деда хорошо знакомая с коварством двора, предостерегала, отговаривала — стар-де, куда тебе, уже не раз гоняли из столиц («Я собрался в поход, а жена меня держит», — задним числом признался Ли Бо в стихотворении «Простившись с женой, отправился в поход»). Сорок лет, убеждал себя Ли Бо, я склонялся ко вратам Пэнлая, не в силах дать волю желаниям, и вот настал момент, когда я могу отдать жизнь своей стране, осуществить то, о чем мечтал всю жизнь, взять в руки меч, уничтожить бунтарей, развеять мрак. А свершив всё это, я вернусь домой! И он все-таки отправился в ставку принца, позже зарифмовав этот бурный поток чувств в стихотворении «В штабе флотилии вечером подношу всем советникам штаба».
А может быть, знал он и о тайном дворцовом конфликте, и о вынашиваемых там планах? И решил принять в этом участие на стороне Юн-вана. Всплыли из юности «протестные» идеи, которые преподносил ему его первый наставник Чжао Жуй, смешались с явным недовольством разложившейся властью, и забродило желание поменять ее. Кто ведает, не прислушается ли она к его мудрым советам? И «князь» бросился в реку, не думая, что бурливая волна может накрыть его. Избыточной осторожностью он явно не страдал.
Юн-ван встретил поэта пиршеством отнюдь не военной роскоши. Между чарками они обсуждали стратегические планы обороны страны, и Ли Бо был в упоении. Свершилось все-таки! Он взлетел в те сферы, где принимаются судьбоносные для страны решения! В творческом вдохновении поэт излагал главнокомандующему патриотическими силами свою стратегию создания для мятежников ловушки, концентрации сил на востоке, в Цзиньлине, и одновременного удара по ним со всех сторон, с суши, с реки, с моря.
А поздним вечером, подогреваемый опустошенными кувшинами, в своей каюте на флагманском корабле под драконовым штандартом[129] он стремительной кистью набросал одиннадцать стихотворений цикла «Песнь о восточном походе принца Юн-вана»:
Поход восточный возглавляет принц Юн-ван, Драконьим стягом государя осиян. Чуть двинулся корабль, как волны улеглись, Затоном тихим стали реки Хань и Цзян. (Стихотворение № 1)Исследователи подходят к этому циклу как к одному из первичных исторических источников, находя, что поэт дает точную хронику похода (указывая, что он начался в первый месяц второго года Чжидэ, то есть в самом начале 757 года), отмечает характеристику мятежников, их жестокости и зверства, от которых чиновники бегут на восток, а народ — на юг, осквернение могил императорских предков, констатирует полную легитимность Юн-вана («драконий стяг» подчеркивает, что поход был санкционирован императором), обозначает маршрут похода из Цзянся через Учан, Сюньян к Цзиньлину и его стратегический замысел — ударить по мятежным степнякам с моря, а затем освободить обе столицы.
К этому циклу надо подходить с осторожностью. В хрониках Танской династии Юн-ван оценивается с точки зрения имперского видения — как ослушник государевой воли, нарушивший, во-первых, границы той территории, какую ему отвел для военных действий Сюаньцзун (до Цзиньлина он еще двигался в рамках указа, а легкий сдвиг к северу в сторону Янчжоу был уже выходом за пределы дозволенного), а во-вторых, не подчинившийся приказу брата, ставшего императором Суцзуном, вернуться в Шу. Эти его действия интерпретировались (и продолжают интерпретироваться некоторыми современными исследователями) как намерение создать сепаратное карликовое государство с центром в Цзиньлине, что раскололо бы страну и нейтрализовало действия по усмирению мятежа Ань Лушаня. И потому тысячу лет этот поэтический цикл Ли Бо считали однозначным, открытым, прямолинейным славословием в адрес Юн-вана, выступившего фактически против императора Суцзуна и потому квалифицируемого как «заговорщик», «преступник».
В результате стихи оценивали как позорящее поэта произведение. Даже мудрый философ Чжу Си обвинил Ли Бо в том, что тот «склонил голову». Еще в 70-е годы XX века Го Можо интерпретировал отдельные строки как сочувственное описание планов Юн-вана по захвату Лояна, что противоречило указу Сюаньцзуна и укладывалось в определение «заговорщик».
Конечно, будучи включен в штаб Юн-вана, тем более воспринимая его миссию как спасение страны, Ли Бо не смог обойтись без идеализации принца-полководца, особенно в стихотворении № 9, где он поднимает Юн-вана выше ханьского У-ди и даже Цинь Шихуана и трепетно ставит рядом с Тайцзуном, одним из первых императоров династии Тан, а себя — со стратегом Чжугэ Ляном, которого почитал весьма высоко (возможно, эта избыточная гиперболизация и заставила исследователей подвергнуть сомнению принадлежность стихотворения № 9 цикла кисти Ли Бо).
В 50-е годы XX века Цяо Сянчжун впервые указал на аллегорические намеки в этих четверостишиях, но сказано это было вскользь, а развито лишь к концу прошлого века. Тогда цикл стал восприниматься более многопланово. В исследовании Ань Ци все одиннадцать стихотворений тщательным образом анализируются именно как аллюзия, зашифрованное откровение о событиях в стране и даже о коллизиях внутри царствующего дома [Ань Ци-2004. С. 236–243]. В такой интерпретации цикл тоже рассматривается не столько как поэтическое произведение, сколько как своего рода рифмованный «политологический анализ» и — самое главное — как объяснение собственному порыву, построенное на исторических аллюзиях: Ли Бо вновь вспоминает «Се Аня с Восточной горы», но уже не по первой части его жизни, отмеченной хмельными развлечениями с веселыми девицами, а по второй, когда он стал важным сановником при цзиньском императоре У-ди и возглавил войско, добившееся успеха в разгроме врага.
Ли Бо пробыл во флотилии строптивого принца чуть больше месяца. Мы так и не знаем, расшифровал ли он тайные стратагемы честолюбивого Юн-вана, проникся ли к ним сочувствием или внутренне отверг, но фактически он сопровождал принца до самого конца его похода.
Этот виток жизненного сюжета на протяжении веков оценивается по-разному: то ли поэт был вынужден к этому настойчивостью принца; то ли призыв отвечал его собственным побуждениям; то ли был продиктован активной жизненной позицией и не угасшей жаждой подвигов; то ли исходил из патриотических побуждений — спасти страну, защитить народ, в чем сказалась его «рыцарская» закваска; а возможно, устав от неудач на служебном поприще, он видел в этом свой последний шанс. Более всего у исследователей успехом пользуется первая версия — настойчивость Юн-вана. У некоторых она сочетается и с другими причинами. Так, сунский поэт Су Ши считал, что Ли Бо подчинился воле Юн-вана, на что, однако, он «пошел без колебаний».
Крушение мира
Всплывший наверх из закулисных глубин жесткий, непримиримый, ставший даже кровавым конфликт в царственном семействе должен был потрясти Ли Бо. Не однажды он критиковал столичные нравы, замечал моральное падение дворцового круга, радеющего лишь о своих удовольствиях, а не об укреплении страны, но святость и высоконравственность престола оставались фундаментом его социального мировоззрения. Еще четыре года назад, возмущаясь низкими забавами вельмож внутри Запретного города, он с гордостью констатировал крепость самой структуры, нанизанной на стержень Сына Солнца — обожествляемого императора:
Сто сорок лет страна была крепка, Неколебима царственная власть! («Дух старины», № 46)И вдруг с ужасом видит трещину, расползающуюся по этому стержню. Даже с «двумя солнцами», то есть с двумя императорами (севшим на престол сыном и фактически отстраненным отцом), что, в общем-то, звучало не совсем обычно для традиционной структуры, Ли Бо примирился, по крайней мере на словах, в панегирическом цикле «Западный поход Верховного правителя в Южную столицу», написанном в конце 2-го года Чжидэ (середина 757 года).
Эпопея Юн-вана к тому времени завершилась. Новый император, увидев, что под власть непокорного принца подпал едва не весь Южный Китай и он нацелен на освобождение столицы, воспринял его не как борца с мятежниками, а как внутреннего бунтовщика, соперника, способного сместить его самого с трона. Поэтому, когда Юн-ван не подчинился приказу Суцзуна вернуться в Шу, тот объявил его изменником, преступником более тяжким, чем даже Ань Лушань. К тому времени мятежный генерал, захвативший Лоян и объявивший себя императором новой династии Янь, был убит приближенными, которые возвели на трон его сына Ань Цинсюя. Восстание, грозившее самому существованию империи, пошло на убыль, и настала пора разобраться с «внутренним врагом».
Итог был для принца плачевным. Войска Юн-вана, узнав, что их полководец объявлен преступником, разбежались, не оказав сопротивления выступившим против них солдатам, верным Суцзуну. В районе Данту армия была разбита, Юн-ван бежал, в Цзянси был схвачен, заключен в тюрьму и на двадцатый день 2-й луны 2-го года Чжидэ (757 год) поспешно казнен в Даньяне. Суцзун отреагировал на это с привычным для власти лицемерием — он-де такого указания не давал, и исполнитель Хуан Фусянь был понижен в должности, но, когда позднее общая ситуация в стране улучшилась, раскаяние Хуана было принято, а Юн-ван посмертно реабилитирован. Реабилитация коснулась и высших военных чинов его армии, но не нашего несчастного поэта.
Спешно покинув ставку принца, Ли Бо решил вернуться на Лушань, задержался в горах Сыкун у озера Тайху, но в Пэнцзэ (на территории современной провинции Цзянси) был опознан: на городских воротах висел указ о розыске «преступника Ли Бо, 57 лет. Лицо белое, усы. Участвовал в мятеже Юн-вана, бежал… Кто опознает его, должен сообщить местным властям. Вознаграждение — 100 лянов серебра». Не помогла даже бамбуковая корзина, нахлобученная на голову. Его узнали, схватили и доставили в тюрьму в городе Сюньян (современная провинция Цзянси).
Его вина — «участие в бунте и измена» — была сформулирована так, что смертная казнь оказывалась неминуемой. В танском законодательстве первым пунктом списка «десяти тяжких преступлений», не подлежащих амнистии и смягчению наказания, как раз и значилась «измена».
Еще даже и не слышавший об этой трагедии друг Ду Фу чутким сердцем почуял беду и написал стихи к Ли Бо, в которых есть такая безжалостная к власти строка: «И все ему желали смерти». А молодой почитатель поэта Вэй Вань характеризовал случившееся так: «Вы необдуманно влезли в грязь дворцовых распрей, став невинной жертвой… Вы — страдалец, как и те выдающиеся литераторы древности Цюй Юань, Цзя Чжи…»
Вариация на тему
История и до Ли Бо знала немало подобных инцидентов, когда объективно невиновный человек оказывается жертвой непонимания, неправедности, злостной клеветы. Тот же Се Тяо, в тридцать шесть лет погибший в тюрьме, — его, вне всякого сомнения, вспомнил поэт, когда за ним лязгнул в замке покрытый пятнами ржавчины ключ. Это не было сладкоголосым пением Феникса, и лужи на полу, казалось, уже вели к Желтым источникам, в подземное царство Князя тьмы Янь-вана. Но одно дело сочувствовать другому, древнему ли поэту, другу, родичу, а другое — когда под колесо безжалостной политической распри попадаешь ты сам. И все твои прекраснодушные мечты о совершенствовании империи, гармонизации нравов, благосостоянии людей — всё оказывается отгороженным от тебя грубым камнем тюремных стен. Даже солнце, с трудом протискивавшееся в узкое, как щель, окошечко под потолком, в ужасе скрылось за черной тучей, и посыпал дождь. Горы, вздымающиеся вверх, словно руки, взывающие к Небу в мольбе о милости к невиновному, птицы, грустно заглядывающие в опустевшее окно трактира, где еще недавно сидел, попивая «Весну», благодарный слушатель их мелодичного пения, гроты отшельников, таящие во тьме мистический выход в инобытие… — всё это осталось там, позади, перечеркнутое клацаньем грязного замка.
Ах, этот страшный смерч, опустошительно пронесшийся по всем восьми пустошам[130] страны, всколыхнув Великую Бездну, погубив весь мир, все десять тысяч вещей!
У Ли Бо было много влиятельных друзей. Но он не стал обращаться к ним с просьбой о спасении. Тонкая, ранимая душа, он был щедр на проявления дружбы и всю жизнь ждал в ответ того же, но редко получал импульсы истинного чувства. А сейчас, понял он, сейчас тем более бесполезно ждать.
И написал:
Сколь зыбок этот мир, вся тьма вещей, Нет постоянства в жизни и для нас. Вот Тянь и Доу: кто из них сильней — К тому бежали холуи тотчас. В переплетенье жизненных дорог Так просто с дружеской тропы сойти, Черпак вина бы сблизиться помог, Да недоверие в душе сидит. Затух у Чжана с Чэнем дружбы свет, И Сяо с Чжу развел небесный путь. Цветенье веток птиц к себе зовет, А рыб ничтожных — пересохший пруд. О чем грустишь, пришелец в мир земной, Лишившись благосклонности людской? («Дух старины», № 59)Конечно, истинный друг не отвернулся от отверженного. Взволнованный Ду Фу обратился к Ли Бо со стихами: «Студеный ветер на краю земли. / Мой благородный друг, здоров ли ты? / Мои стихи бы до тебя дошли, / Когда б не осень и не хлад воды». Но что мог сделать он, так и не добившийся карьерных высот при дворе?! Более того, он и сам подвергся опале именно в этот же период.
А вот Гао Ши… Когда-то они втроем — с Гао Ши и Ду Фу — совершили восхитительную прогулку в Лянъюань, где, возбужденные вином и мыслями о прекрасной Древности, наперебой читали друг другу свои стихи. В то время Гао Ши был прежде всего поэтом с тощим кошельком и романтичными взглядами. А сейчас… Сейчас это видный вельможа, к которому не подступишься со жбанчиком местного вина. К нему обращались не по имени, а по должностному рангу — Гao-чжунчэн. Он был помощником губернатора города Янчжоу и цзедуши (наместником) области Хуайнань. За активное участие в подавлении мятежа был замечен и отмечен, так что замолвить словечко за придавленного властью поэта ему ничего не стоило, и такое заступничество, несомненно, имело бы вес. А тут как раз их общий знакомый Чжан-сюцай отправлялся из Сюньяна к Гао Ши, и Ли Бо послал с ним давнему другу поэтический привет в двух мало что значащих вежливо-почтительных фразах, однако обратился к старому другу не по имени, а по рангу — Гао-чжунчэн. И никаких просьб! Правда, Гао Ши в весьма осторожной форме просьбу о помиловании высказал, но не посмел настаивать, когда император резко ответил ему, что Ли Бо следует наказать еще строже, чем Юн-вана. На государственном посту, если ты не хочешь потерять его, надо сначала защищать себя, а уж потом других. И в дальнейшем никаких дружеских чувств к Ли Бо, напоминающих об их былой духовной близости, Гао Ши не выказал, так что приходится признать психологическую проницательность Ли Бо. «Гао Ши сделал выбор между политикой и дружбой», — справедливо констатирует современный исследователь [Изучение-2002. С. 284].
Совсем иначе показал себя Го Цзыи. Их отношения нельзя было квалифицировать как «дружбу», а скорее как дуплекс «благодетель — облагодетельствованный», и контакты между ними были редкостью. Когда-то, больше двадцати лет назад, Ли Бо приехал в приграничный город Тайюань, и в счастливый для них обоих миг судьба свела его с Го Цзыи, узником гарнизонной тюрьмы, ожидающим смертной казни. Поэт увидел в Го гуманного человека высоких нравственных принципов и добился отмены приговора.
К 757 году Го Цзыи, успешно поучаствовав в подавлении мятежа, командуя целой армией, был назначен на достаточно высокий пост градоначальника Цзююаня. Хотя Ли Бо к нему не обратился, но тот, прослышав о его беде, подал прошение напрямую императору: «Ли Бо — мой благодетель, и я готов все свои должности и награды отдать за его спасение».
Спешно примчалась жена и, используя старые дедовы связи в верхних структурах, обратилась за помощью к новому главному советнику Цуй Хуаню, прямому и порядочному человеку, не только заявлявшему, что необходимо «поддерживать таланты», но и осуществлявшему это практически. Ли Бо сам дважды писал ему из тюрьмы: «Вернусь ли я к своей творящей кисти?» (стихотворение «Узник Сюньяна — к министру Цуй Хуаню»); «Бокал подъемля, я вздохну — / Ведь он наполнен кровью» (стихотворение «К министру Цую — послание о ста печалях»). Писал он и другим сановникам: «Как вспомню отчий дом — чело прикрою, / Слезой кровавой землю увлажню» (стихотворение «Станс о великом гневе посылаю Вэй-ланчжуну[131]»). «Плачут птицы среди бела дня, / Обезьяны ветру подвывают. / Прежде слез не выжмешь из меня, / А теперь они не иссякают», — писал он давнему другу Сун Чжити, младшему брату известного поэта Сун Чживэня и отцу Сун Жосы, начальника его любимой области Сюаньчжоу, в стихотворении «В Цзянся прощаюсь с Сун Чжити»[132].
Совокупными усилиями друзей, не все из которых отвернулись от опального поэта, Ли Бо был вызволен из тюрьмы, казнь отменена, но чем она будет заменена, еще не было известно. «Всемилостивейший эдикт» по случаю возвращения Сюаньцзуна в Чанъань в третий день двенадцатой луны второго года Чжидэ (757) возглашал переименование Чэнду в Южную столицу, пятидневное всенародное «хмельное гулянье» и широкую амнистию, что было воспринято с ликованием во всех слоях общества, потому что со времен жестокого императора Цинь Шихуана в стране так повелось, что в будничные периоды публичные сборища более чем трех человек считались нарушением общественного порядка и строго карались.
Но в эдикте содержалась оговорка, что под амнистию не подпадают те, кто принимал участие в мятеже Ань Лушаня. И формально эта оговорка распространялась и на Ли Бо, по каковой причине он не имел права даже на участие в «хмельном гулянье» и утешался чтением «Исторических записок» Сыма Цяня.
Не дожидаясь официального императорского решения, он покинул Сюньян и отправился в район гор Суншань, где начальник уезда Сосун (на территории современной провинции Аньхуэй) Люй Цю, еще даже не знавший об «императорской милости», не побоялся подставить под удар свою служебную карьеру и позволил Ли Бо отдохнуть в глуби гор вверенного ему уезда в хижине знакомого отшельника.
О, достаточно бурь и потрясений! Феникс вырвался на волю, и отныне:
Умчи меня на склоны, Белый Конь, — Петь о ростках, взошедших на полях.Так Ли Бо написал в 45-м стихотворении цикла «Дух старины», обращаясь к образам неувядающего «Канона поэзии». Казалось, его душа улеглась в идиллическом штиле.
Однако, несколько оправившись, он вознамерился присоединиться к армии Сун Жосы, который направлялся добивать остатки бунтарей Ань Лушаня. Но психологические перегрузки ослабили его истощенный организм, который, вероятно, уже подтачивала обострившаяся через несколько лет болезнь, и он слег.
Тем временем пришел государев эдикт, которого добились влиятельные друзья поэта. Смертная казнь была — в виде исключения — отменена. Но «высочайшей милости» недостало на полную реабилитацию Ли Бо, ему лишь понизили наказание на одну ступень.
На вечное поселение…
По танскому законодательству следующей после смертной казни формой наказания была ссылка. Они подразделялись на три категории: низшая — на два года за тысячу ли от столицы, средняя — на два с половиной года за полторы тысячи ли от столицы и самая суровая — на три года за три тысячи ли от столицы. Поэту в виде «особой милости» определили третью категорию — поселение на три года в Елане, обозначив его как «спецссыльного».
Сегодня однозначно не определено, где находится это место. Существуют самые разные предположения, вплоть до того, что Елан — это нынешний город Чунцин. В такой версии получается, что судьба завершила круг путешествий поэта по стране, вернув его почти в места юности. Но основная масса исследователей поддерживает другую версию: при династии Хань так называлось небольшое государство, которое к танским временам стало административным центром одноименного уезда в округе Чжэньчжоу на северо-западе нынешнего уезда Чжэнъань провинции Гуйчжоу в районе города Цзуньи, и эта географическая точка отстоит от Чанъаня на 3270 ли, что как раз и соответствует категории наказания Ли Бо. Путь до Елана от столицы занимал примерно три года, и эта цифра не раз встречается в стихах Ли Бо (хотя он отправился из более близкого Сюньяна, но называл этот временно́й промежуток как символ тяжести наказания).
Танское законодательство четко ранжировало маршруты ссыльных по способу передвижения (на коне, на осле, в повозке, пешим ходом, в лодке по течению или против) и, соответственно, скорости (расстояние, преодолеваемое за день) исходя из общей установки: две тысячи ли должны были быть преодолены за сорок дней. Оговаривались и чрезвычайные обстоятельства, осложняющие движение (болезнь, например, а в случае Ли Бо — водовороты Санься. «Пороги — нагромождение мелких камней, которые выступают над водой на несколько десятков чжанов», — описывал Санься в XII веке поэт Лу Ю [Лу Ю-1968. С. 84]). Верхом на лошадях положено было преодолеть 70 ли в день, на ослах или пешком — 50, в повозках — 30, в малых лодках против течения — 30, в больших — 40 ли.
Жена приехала проводить мужа в ссылку.
Вариация на тему
«Ли Бо взглянул на горы и реку, озаренные луной, и вздохнул: „Ах, какая сегодня прекрасная луна!“ — „У мужа было такое стихотворение, — откликнулась Цзун Ин[133], — ‘И зеркальцем луна, с небес слетая, / Легла на воду в облачный мираж’[134]. Вот точно такой же пейзаж“. — „Помнишь? Я написал это, покидая Шу, а сейчас по водам Шу поплыву в Елан… А ведомо ли тебе, Цзун Ин, что, когда я молча стоял в монастыре Удан у камня на склоне, я чувствовал, что ты бродишь под луной, бормоча мои стихи, и сердце переполнялось любовью к тебе… И когда я проходил обряд ‘вхождения в Дао’, мне казалось, что ты следишь за мной из окна[135]. Эти твои взгляды помогли мне выстоять. В твоих глазах — вся моя жизнь!.. Благодарю тебя за твою любовь — и давай выпьем!.. О, моя Ин, я не принес тебе радости и счастья, одну только боль и разлуки…“ — „Ах, муж мой, ты — совесть мира, душа гор и рек нашей священной земли, ты рожден для Великой Танской империи, для всех людей Поднебесной, для каждого живого существа. Ты дал мне любовь, полжизни я прошла рядом с тобой, и мне хотелось бы раствориться в строках, стекающих с твоей кисти, идти с тобой до края Земли… Жизнь прошла не напрасно!“ — „Вот за это твое ‘не напрасно’ надо выпить!“».
[Ван Хуэйцин-2002. С. 900–901]Не вызывает у исследователей сомнения тот факт, что Ли Бо не отбыл наказания полностью, друзья добились включения его в эдикт, аннулирующий ссылку. Вопрос в том, в какой момент эдикт достиг поэта и дал ему возможность уже свободным подданным всемилостивейшего императора отправиться на восток. Некоторые исследователи доказывают, что Ли Бо успел добраться до места ссылки, обосновался там в соломенной хижине крестьянина и послал жене стихи с горькими сетованиями на отсутствие писем из Юйчжана, куда она вернулась, проводив мужа в ссылку.
Но это же стихотворение можно трактовать иначе: расставшись с женой, он пишет о печали разлуки с ней еще в пути к Елану, который заброшен «за край неба», так далеко, что и гуси-вестники не несут ему писем (стихотворение «Направляясь на юг в Елан, посылаю жене»). Так воспринимают этот текст большинство комментаторов.
Более распространенной среди исследователей является версия о том, что Ли Бо не достиг точки назначения, и от города Боди, где его догнал императорский эдикт, немедленно повернул обратно в сторону Цзянлина — того самого города, где в юности почтенный старый даос сравнил его с Великой Птицей Пэн.
Вариация на тему
Итак, на рубеже третьего года Чжидэ и первого года Цяньюань (весна 758 года) Ли Бо начал свой путь к месту ссылки с двумя сопровождающими — чиновниками лет по сорок, высоким и краснорожим Сунь И и белокожим коротышкой Лян Гуем. Они сурово молчали, воспылав ненавистью к «государственному преступнику». Уж лучше бы кандалы надели, с тоской думал Ли Бо, сидя на носу лодки и следя, как уходят назад еще так недавно свободные для него берега, монастыри на склонах, встречный парус, и губы беззвучно нашептывали стихи, а конвоиры считали, что их подопечный молится, взывая к Небу о пощаде, и злорадно думали: «Молись, молись, ничто тебя не спасет».
Однако угрожающая формулировка назначенного наказания, которую можно было понять и как «вечное поселение», была по сути гораздо менее жесткой. От ссыльных такой категории отворачивались лишь самые опасливые из чинуш. А, например, бывший главный советник Чжан Гао послал поэту два комплекта одежды, расшитой парчой. Старый друг Чжан Вэй, поднявшийся до ранга министра, закатил Ли Бо обильный пир на Южном озере под Сякоу (современный Ханькоу) и попросил придумать озеру новое название, на что поэт, ритуально плеснув вина в волны, ответствовал: «Раз чиновники любят это озеро, назовем его Чиновничьим» (сегодня оно называется Лотосовым и находится в одноименном парке недалеко от Уханя). Приятель Ван из уезда Ханьян (район Уханя), которому Ли Бо посвятил не одно похмельное стихотворение, заждался, и поэт скорой кистью набросал ему:
Я похож на птицу куропатку: К югу улетаю без оглядки. Тошно стало — выпили в Ханьяне, Под луною нам тепло и сладко. («Во хмелю читаю стихи ханьянскому Вану»)Душа размягчалась. «Очистилось небо, луна над рекой прояснилась, / И сердце притихло, как чайка на глади морской», — написал он в стихотворении «Подношу ханьянскому регистратору Фу». Это лирическое стихотворение инспирирует у сегодняшних исследователей не только психологические эмоции и эстетические оценки, но и социополитические формулы: «небо» воспринимается как подтекстный намек на императора Суцзуна, от мудрости и прозорливости которого зависит судьба индивида, в частности, Ли Бо, но также и адресата стихотворения, который как раз впал в немилость и был понижен в должности. Государственнический настрой Ли Бо не позволил ему держать зло на императора, несмотря на то, что формально, в прямой и недвусмысленной формулировке указа, тот так и не снял с поэта клейма «преступника», и «даже перед кончиной Ли Бо не был обелен». Какое может вообще быть чувство к Сыну Солнца, не «первому среди равных», а Единственному, поднятому над миром людей?! Это высшее существо нельзя было воспринимать с человеческими характеристиками и иметь по отношению к нему какие-либо земные чувства. Вряд ли, скажем, человек того времени осознавал, что между Сюаньцзуном и императрицей У Цзэтянь есть такое отличие, как пол: первый был мужчиной, а вторая — женщиной.
Весной 759 года, миновав Цзянлин, где его тепло встретил старый друг судья Чжэн, Ли Бо вступил в узкий проход Санься (Трехущелье), стискивающий Янцзы, заставляя поток метаться и бурлить, вспениваться волнами и круговоротами. Опасливые корабельщики за двое суток и ста ли не проходили. По обоим берегам сотня за сотней ли тянутся цепи гор, одна круче другой, закрывая небесные светила, — днем не видно солнца, в полночь скрыта сияющая луна. На правом берегу, уже на выходе из последнего ущелья, — родина Цюй Юаня. Лодка кружила, обходя водовороты реки, а поэт задумчиво смотрел в сторону северного берега, где, скрываясь за горным массивом ущелья Силинся, из Великой Древности выступали родные места Цюй Юаня и горький могильный курган. Это святое имя тревожно бродило в мыслях Ли Бо, и он написал несколько стихотворений, где связывал судьбу древнего поэта со своей. И все же в глубине души он осознавал, что «Цюй Пина[136]оды унеслись до самых звезд,/ А царский терем занесен давно землей» («Пою на реке»).
А вот там — Колдовская гора, так близко от отчего края Шу, почти родные места. Многажды он бывал тут, и гора не раз вплывала в пространство его поэзии, то в экзальтированно-романтичном контексте, то в негативном, осуждающем, саркастическом — в зависимости от настроения и ситуации. Теперь он вспомнил давнюю песню лодочников, которые, с трудом преодолевая бурное течение, невыносимо медленно проплывали мимо горы Желтого буйвола (Хуанню), тяжело нависшей над Вечной Рекой:
Три утра огибаю Хуанню, Еще три ночи… Бесконечен путь. Три раза прибавляю день ко дню, Тоска такая, что и не вздохнуть. («Минуя Санься»)Качаясь в бурных водоворотах, лодка почти не двигалась, и камень на вершине, своими очертаниями напоминающий человека, который с усилием тянет буйвола, казалось, замер с той же веревкой в руках, какая ограничивала свободу Ли Бо. Не случайно он вставил в текст цифру «3» и трижды настойчиво повторил ее — это те самые три года, что были определены ему на пребывание в глухой ссылке вдали от неизменно волнующей его социально-политической жизни страны. В этой ужаснувшей его цифре — тоска «отлученного», как поименовал себя в схожей ситуации великий Цюй Юань.
А по правому борту из утреннего тумана появился вознесенный на высокий склон живописный, вечно закутанный в облачную дымку, чарующую поэтов, город Боди. Он был построен в начале периода Восточная Хань (первое столетие нашей эры) Гун Суньшу, прозванным Белым Драконом. По преданию, Белый Дракон, один из пяти Небесных Владык, повелитель западного неба и дух звезды Тайбо (sic!), считался покровителем города и жил в колодце.
Кто-то сочтет это случайностью, но поэт сошел на берег, заглянул в кумирню высоко чтимого им Чжугэ Ляна, воскурил фимиамы, трижды склонился перед изображением героя и, ведомый таинственными силами (уж не духом ли звезды Тайбо?), направился к постоялому двору, намереваясь задержаться там и передохнуть немного. И именно там увидел императорский указ об амнистии.
Среди нескольких императорских эдиктов конца 750-х годов, объявлявших амнистию (по случаю «наречения титулом Верховного правителя», по случаю «облегчения великой засухи» и просто по случаю весны — эти эдикты издавались ежегодно), более всего к Ли Бо подходит вариант с засухой (конец весны 759 года). В каждом эдикте содержались оговорки, исключавшие те или иные категории осужденных (прежде всего тех, кто повинен в «государственной измене» и в «десяти наиболее тяжких преступлениях», а также, например, только посаженных в тюрьму, но не ссыльных, а Ли Бо к тому времени уже был переквалифицирован в ссыльные). Эдикт «засухи» был наиболее мягким, и под его-то действие и подпал поэт.
Вариация на тему
Эту высшую милость он воспринял, как «птица, выпущенная из силка». Тяжесть «десяти тысяч гор» свалилась с плеч. Уже не на казенную лодку, а на купленный легкий челн Ли Бо вернулся свободным и, вознося хвалу Небу и императору, повернул назад, на восток. Оставшиеся на берегу конвоиры глядели вослед поэту, который оказался не столь уж страшным и опасным, и на их лицах впервые нарисовалось некое подобие улыбки: «Удачи Вам, господин!»
Бурлят, сталкиваясь друг с другом в водоворотах, волны Вечной Реки. По обоим берегам галдят суетливые макаки, а челн летит, не останавливаясь, и их вопли сливаются в один сплошной гул. Рука потянулась к кисти, и он зарифмовал это клокотание сердца, этот волнующий прилив крови, это возвращение к жизни, этот обрыв тоски и печали, эту возрожденную жажду действия. Как контрастирует стремительность стихотворения «Спозаранку выезжаю из города Боди» с томительностью совсем недавних строк о нескончаемости горы Желтого буйвола, которые он писал, еще угнетаемый сознанием своей обреченности!
А впереди лежал тот самый Цзянлин, где полвека назад мудрый даос предостерегал поэта от сближения с властями. И вновь он забыл об этом предостережении, наивный и романтичный пиит. Он опять рвется к рулю управления страной, возносит хвалы и благодарности Сыну Солнца, в пылу восторга не заметив, что клеймо преступника государев указ с него не снимает…
Почему он повернул на восток, а не в Шу, родные места, которые покинул тридцать четыре года назад, не в Юйчжан, где с нетерпением ждала его жена?
Он, мятежный, вновь жаждал бурь и бежал туда, где они бушевали.
Глава вторая УНЕСЕННЫЙ КИТОМ (759–763)
Последние метания
Казалось, временно́й шестидесятилетний жизненный цикл поэта закруглился — из Шу вышел, в Шу вернулся. Но он даже не заметил этой откровенной символики бытия, подающей ему недвусмысленные знаки. Он тут же забыл о совсем недавно высказанном в стихотворении «Направляясь в Елан — о листах подсолнечника» благоразумном желании «вернуться в свой сад», чтобы «сберегать свои корни», как это в естестве Природы делает подсолнечник.
Быть может, Цзянлин, куда он в стремительном челне полетел после ознакомления с указом об амнистии, ассоциировался у него не столько с предостережением против опасного сближения с власть имущими, сколько со сравнением его с мифологической Великой Птицей Пэн, заоблачный полет которой оказывает сильнейшее воздействие на жизнь Земли. Подобно этой Птице, поэт вновь распростер крыла. К тому же Цзянлин — это места древнего царства Чу, культура которого взлелеяла и вдохновляла Ли Бо.
Но всё далеко не так однозначно. Царство Чу неотрывно связано с великим поэтом Цюй Юанем, который тут не только возвысился как государев советник, но и, оклеветанный, был отправлен в ссылку, где, не в силах терпеть нравственное падение верхов, бросился в холодные волны реки Сян — несколько южнее Цзянлина. А выше по течению — родные места Цюй Юаня и его могильный курган. И так судьба древнего поэта слилась в восприятии Ли Бо с его собственной, что от Цзянлина он ринулся назад, к рекам Сяо и Сян, к озеру Дунтин, в которое они впадают.
Живописное озеро Дунтин (2740 квадратных метров), окаймленное по горизонту зигзагом зеленых гор, столь огромно, что солнце, восстав из его вод, в них же и садится. Оно производит странное впечатление — это цепь озер, одно внутри другого, рассеченных остриями холмов, выглядывающих из-под воды. Берега обильно поросли бамбуком, их тут множество видов, в том числе и пятнистый, который упоминается в финале одного из стихотворений Ли Бо. В древности это озеро именовалось «водоемом Облачных грез», а свое нынешнее название оно переняло у вздымающейся перед устьем реки Сян горы Дунтин, позже переименованной в Царскую (Цзюньшань). В этих местах сам воздух наполнен легендами, и Ли Бо, эмоционально погруженный в Чускую Древность, старался извлечь ее зовы из любых образов и ассоциаций. Ему казалось, что над озером вечно плывет духовно-возвышенная мелодия божественного циня, чьи струны перебирает сам мифологический Хуан-ди — Желтый Владыка.
Вариация на тему
В городе Юэян, что в округе Юэчжоу, к нему почтительно приблизился крепкий мужчина лет сорока, назвавшись двенадцатым потомком рода Ся. Это сразу сблизило их — Ли Бо ведь тоже считался двенадцатым в роду Ли. Коммерсант по характеру деятельности, Ся был чуток к поэтическому слову и когда-то еще в Цзянлине, восторженно сообщил он поэту, восхитился талантом Ли Бо, прочитав ходивший тогда по рукам список «Оды Великой Птице Пэн». Они поднялись на знаменитую деревянную трехэтажную западную башню городской стены, возвышающуюся над озером Дунтин, в великих и трагических местах Цюй Юаня. Построенная в III веке, рухнувшая и восстановленная лишь в 716 году, она именовалась Южной башней, пока Ли Бо в стихотворении не назвал ее Юэянской, и это название закрепилось за ней. Берега окрест густо заросли деревьями, а прямо из поверхности озера Дунтин любопытствующими духами вод выглядывали небольшие холмы. На востоке горы уходили к небу, подножие башни окутывала водная дымка, напоминающая облачка, и Ли Бо почувствовал себя в Занебесье. Даньша приволок туда жбанчик известного в округе балийского вина. Во тьме угадывались очертания Царского холма напротив устья реки Сян, напоминая о древней трагической истории. Однако ночь скрадывала время, и было неведомо, какого века волны разбиваются о городскую стену. Тем более что где-то там, в направлении горы Цзюи, скрывался курган первопредка Шуня, погибшего здесь то ли от вражеской стрелы, то ли от предательского копья.
Ночью город исчез, только ты здесь, мой друг, Тихо плещутся воды, вливаясь в Дунтин. Грусть мою прихвати, гусь, летящий на юг, Поднимись ко мне, месяц, из горных лощин. Мы сойдем на плывущие к нам облака, По бокалу вина поднесут небеса, И порыв освежающего ветерка Унесет нас, хмельных и веселых, назад. («Вместе с Ся-двенадцатым поднимаемся на Юэянскую городскую башню»)Облокотившись о перила, Ли Бо смотрел в ночь и сквозь мрак, казалось, видел над поверхностью озера чуть угадывавшийся Царский холм, вставший напротив устья сливающихся рек Сяо и Сян труднопреодолимой для них преградой на пути к озеру, к морю, в широкий мир. Обостренное воображение поэта сформулировало в этом некий личностный образ: как эти трагические реки, он полон хрустально-чистой живительной влаги, в которой так нуждается «дунтинское» пространство страны, но сурово вздымающийся над поверхностью холм не дает возможности выплеснуть ее из своих недр. Этот образ потом долго преследовал поэта, оформившись в строки:
Сровнять бы подчистую Царский холм И Сян-реке открыть простор Дунтина! Тогда над озером осенним днем Упьемся вусмерть мы вином Балина. («Захмелев, мы с дядей, шиланом, катаемся по озеру Дунтин»)В Царском холме как топонимической реалии просвечивают образные намеки на конфликт и Цюй Юаня, и самого Ли Бо с властью[137].
Над южным озером ночная мгла ясна. Ах, если бы поток вознес нас к небесам! На гладь Дунтин легла осенняя луна — Винца прикупим, поплывем по облакам. («Вместе с дядей Хуа, шиланом из Ведомства наказаний, и Цзя Чжи, письмоводителем Государственного секретариата, катаемся по озеру Дунтин»)Исследователи дискутируют, что означают эти два небольших цикла — просто любование природой или некий скрытый подтекст — и отчего нет в тексте откровенного слова «тоска», хотя просвечивает оно достаточно явно.
Не думаю, что текст содержит какие-либо загадки. Дунтин — озеро трагической ауры; ночной мрак полон тревоги; свобода — свободой, но, возможно, Ли Бо, наконец, осознал, что ярлык «государственного преступника» официально с него не снят и он так же далек от неприветливой власти, как и его спутники по прогулкам (все они подверглись опале), как и трепетно чтимый ими всеми Цюй Юань. И вино — не форма отдохновения, а лекарство от тоски, способ сбросить с себя и ритуалы, и «тяжесть тысяч гор», и тягостные мысли о неудавшейся карьере государева наставника.
В лесу бамбуков пир сегодня наш, Со мною дядя мой, шилан-«мудрец». Вместил в себя три чаши твой племяш — И хмель его расслабил, наконец. («Захмелев, мы с дядей, шиланом, катаемся по озеру Дунтин»)То, что в переводе приблизительно передано глаголом «расслабил», в оригинале обозначено словосочетанием «чист до безумия» — но это, конечно, не жаргон банных завсегдатаев, а характеристика душевного очищения от социальной регламентации, от стискивающего виски болезненного «надо», это обретение внутренней свободы для индивидуальных «безумств», не болезненных, но полных живой, естественной жизни («бытийности», по словарю современной философии). Не зря, пируя в лодке, он вспомнил про «лес бамбуков» — именно там расслаблялись поэт Жуань Цзи с племянником и их друзья, известные как «семеро мудрецов из бамбуковой рощи» рубежа III–IV веков, в память которых компания Ли Бо в Аньлу в 740-е годы поименовала себя «шестью анахоретами с Бамбукового ручья».
Однако, прослышав о новом мятеже — Кан Чуюаня и Чжан Цзяяня, — Ли Бо стряхнул с себя «безумства», спешно покинул Дунтин и бросился вновь в Цзянлин. С полдороги вдруг повернул к Чанша и поднялся на гору Цзюи, где, по преданию, похоронен первоправитель Шунь. Боюсь, в этом месте и в это время Ли Бо вспомнил не канонический образ Идеального Героя, а побочную неофициальную версию типичного дворцового конфликта, приведшего к насильственной гибели правителя, которая фактически уничтожила, дезавуировала все его деяния во благо страны и народа. Уж если таковы великие правители идеальной древности, то чего же ждать от их сегодняшних потомков!
И в стихотворении «Посылаю Лушаньскую песенку советнику Лу Сюйчжоу» он в сложном контексте, сплетая Конфуция с Чжуан-цзы, ушедшее с текущим, самого себя сегодняшнего с вчерашним, от которого отказывается, воскликнул: «Я — как тот напевающий Чуский безумец, / Что смеется над Фениксом, Куном с холма». А в эссе «Ясная осень скорби» в отчаянии написал: «О, я уйду! Сколь ненадежен мир людей! Найти бы снадобье — и скрыться на холме Пэнлайском!»
Мир Ли Бо раскололся. Он и раньше не производил впечатления монолита, иссеченный трещинами противоречий, но их смягчала гипертрофированная социальная активность, неутихающая жажда высоких государственных деяний. Отказы допустить его к рулям управления еще не воспринимались как трагичный обвал. Но то, что произошло с ним в последние годы, означало фактически десоциализацию, что Ли Бо психологически не в силах был вынести.
Исследователи отмечают, что в эти последние годы земного бытия Ли Бо особенно много пил, физически разрушая себя, но поэзия его, пропитываясь винными парами, расцвела новыми красками. Он приглушал тоску, рвал путы ритуала и в глубинах души все еще пытался обнаружить свободное и естественное, не тронутое губительной цивилизацией ви́дение природного мира, в котором жаждал раствориться.
Чуть припозднился, правда. Для нового рождения сил уже недостало.
Самое длинное в его творчестве стихотворение «Небесной милостью сосланный после мятежа в Елан, подношу Вэй Лянцзаю, начальнику области Цзянся, воспоминания о былых странствиях» (166 строк), приближающееся по широте художественного замысла к эпичности поэмы, оценивается как «произведение, масштабностью равное устремленной к морю Вечной Реке» [Ли Гуаньлянь-1986. С. 156]. Не отрывая участи человека от судьбы страны, Ли Бо бесхитростно излагает свой жизненный путь, в начале которого «святой тронул мою макушку, и я устремился к бесконечности бытия, но затем пришлось мне пройти через радости и страдания мира. Учился владеть мечом, но разве меч может противостоять десяти тысячам врагов? Письмена завоевывают пространство всех четырех морей. Но путь на запад был столь долог, что я постарел, травинка, прихваченная инеем. Нет мне покоя, ночами тревожусь за судьбы страны. О, где же стрелок Хоу И, что одной стрелой собьет с неба звезду варваров?!»
Ах, он все еще видел в себе мифологического «стрелка Хоу И», и потому, когда осенью 762 года Го Цзыи прислал к нему гонца с известием, что бывший аньлушаневский генерал Ши Сымин убит собственным сыном Ши Чаои, который встал во главе мятежных войск и двинулся на Центральную равнину, Ли Бо, забыв о своих годах, болезнях, неснятом клейме «преступника», порывах к «Пэнлайскому холму», вновь преодолел разумное сопротивление жены и бросился в ставку генерала Ли Гуанби, возглавившего войска, направленные на окончательное подавление мятежа. Только так, полагал Ли Бо, он может полностью снять с себя ярлык «сподвижника Юн-вана».
Небольшая проходная вариация на тему
Он сорвал со стены свой старый меч и подбоченился: «Ну, как, я еще не стар?» — «Не стар, не стар, — рассмеялась жена, — если не видеть морщин на лице и седой бороды».
В утешение упрямый поэт оставил жене стихотворение. Он вспомнил, что в собрании древних песен Юэфу была одна, чье название как раз и подходило к ситуации и месту, где происходил у них с женой этот разговор, — «Юйчжанская песнь». И написал про белого коня, который нетерпеливо ржет при виде боевых знамен, а белый тополь, взгрустнув под осенней луной, поутру роняет листы на склон Юйчжанской горы; мой громадный корабль двинется вперед, рассекая волны, а эту песню я оставлю тебе, но остерегись напевать ее, потому что тогда в волосах у солдат, загрустивших по оставленным домам, появится седина.
Вариация на тему
И уж так, видно, Небу было угодно, что доскакали они с верным и тоже постаревшим Даньша до того самого Сюньяна, где Ли Бо томился в темнице как «опасный преступник», купили там лодку и, подгоняемые течением Вечной Реки, направились на восток, где восходит солнце. И вновь судьба оказалась безжалостной к наивному романтичному поэту. Напряжение долгого перехода, осенние ветры, холодные бессонные ночи обострили слабость и болезнь, и Ли Бо еле добрался до Цзиньлина. О военном походе уже нечего было и думать. Сил хватило лишь на то, чтобы выйти за пределы городской стены и постоять у могилы Цзиньлиночки, о которой он не забыл. Он вытащил из связки рукописей стихи, когда-то ей посвященные, и сжег их, ритуально развеяв пепел над скудным холмиком, поросшим дикими травами.
Конец! Это был его последний в земной жизни шанс, а у него недостало сил воспользоваться им…
Уже был, наконец, посмертно амнистирован принц Юн-ван (в начале лета 762 года). Спустя время очередь дошла до его генералов, а уж потом до Ли Бо. Новый император Дайцзун, наследовавший скончавшимся скоропостижно и весьма подозрительно один за другим отцу и сыну (Сюаньцзун умер в пятый день 4-й луны 3-го года Баоин (762) в Палатах Священного Дракона в возрасте семидесяти восьми лет, и существует подозрение, что его убили по тайному приказу Суцзуна, который и сам умер через 13 дней в возрасте пятидесяти трех лет) и обозначивший девиз своего правления как «Широкая добродетель» (Гуандэ), почтил его придворным титулом «левого секретаря» (цзошии).
Успела ли дойти до поэта эта утишающая его мятежную душу весть (или не утишившая бы — уж слишком мал титул по сравнению с тем, на что замахивался Ли Бо)? Во всяком случае, почтительно указанный в надписи на надгробной плите, сделанной Фань Чуаньжэном в 817 году, титул не упоминается в «Предисловии к Собранию Соломенной хижины», написанном дядей поэта Ли Янбином сразу после его кончины[138].
Старая птица с перебитым крылом
В Цзиньлине Ли Бо пробыл недолго. Грозно близилась зима, средства подходили к концу. Он сильно обнищал к концу жизни, а помогали ему не столь охотно, как прежде, круг друзей резко сузился, чиновники не забывали о висевшем на нем клейме, которое могло кинуть тень на их собственные посты.
Увы мне, горестно размышлял больной поэт, с тоской вглядываясь в небо. Я — точно старая птица Чжоучжоу, о которой писал Хань Фэй-цзы. Голова тяжелая, а хвост куцый, и крылья ослабли. Вон в небе летят стаи птиц, хоть кто бы подсобил, поддержал, так хочется добраться до Желтой реки, испить из нее, она ведь льется на Землю с Неба и чиста, как в первозданные времена. Но летят летуны мимо, и никому до меня нет дела.
В такой печальной тональности Ли Бо написал последнее в своей земной жизни стихотворение цикла «Дух старины» (там оно значится как № 57). Он устал бороться за Человека и получать удары от тех, кто исправляться не желал, он устал метаться по стране, истощая свою духовную магию. И начал понимать, что пришел слишком рано и должен покинуть этот мир.
Дом и жена далеко, путь нелегок, и он подумал о близком Данту, где в 760 году окружным начальником с резиденцией в Данту назначили его родственника Ли Янбина, который был ему не только дядей, но и близким другом. «И больше Цзиньлин мне не нужен, / Хочу с ним скорее проститься, / Услышав, как фениксы дружно / Жалеют несчастную птицу», — написал он дяде, объясняя необходимость приехать к нему («Подношу дяде Янбину, главе Данту»).
Вариация на тему
Силы были на исходе, и болезни влетали в него, как в старую, ветхую, исполосованную щелями хижину, едва прикрытую полусгнившей соломой. Он едва добрался до дядиного дома в Данту, полгода приходил в себя. Дышать становилось все труднее, и потому он редко вставал. В полузабытьи уносился сновидениями то во Дворец Просветления в Запретном городе Западной столицы, уже недостижимо далекой от него, то во дворец Небесного Верховного Владыки на горе Куньлунь, скрытый от пропыленного мира многослойными облаками, который становился к нему всё ближе.
Почти двадцать лет назад, покинув неприветливую имперскую столицу, поэт навестил Небесного Владыку, пожаловавшего ему напиток бессмертия в нефритовом кубке, и в отчаянии от земных неудач он чуть было не отпил глоток, который унес бы его на десять тысяч лет от этих надутых вельмож («Дух старины», № 41). Но ведь и от друзей, от родных и близких людей тоже унес бы, и потому он заставил себя воздержаться. А сейчас — выпьет!
Неизбывна его печаль — эй, хозяин, плесни-ка мне чашу своей доброй «Весны», и мы забудем, что сейчас осень, дождит и с утунов в речные потоки слетают пожелтевшие листья, невозвратно утекая на восток. А меня ждет запад. Нет, ты послушай-ка мой стон о нагрянувшей печали. Напевы семиструнного циня да чаша духовитого зелья — вот наша последняя радость. А кто еще в мире поймет мою душу?! Моего славного предка генерала Ли Гуана ханьские правители отправили в приграничную глушь и забыли, великого Цюй Юаня чуский царь сослал подальше от себя.
О, неизбывная печаль! На высокие должности надо подниматься, пока волосы еще черны, а если уже поседели, оставайся незаметным книжником. Так, в полусне, сложилась у него «Песнь печали».
Лишь к осени чуть полегчало. Осень была его временем. Осенними ночами не спалось, луна, как-то по-особенному круглая, сияла ослепительно, словно, улыбаясь, звала к себе. В Чунъян, девятый день девятой луны — праздник «двух девяток», — грешно было оставаться в постели. Во всех девяти областях Китая люди с кувшинами вина сейчас поднимаются на склоны, усаживаются среди кустов кизила, а прохладный ветерок срывает желтые лепестки диких хризантем и бросает их в чаши, чтобы зелье стало еще душистее. Вспоминают друзей, родных, и кажется, что они рядом, что ты не одинок, и становится весело, хочется посмеяться, сплясать, пусть даже ты один. А разве ты один? Вот ветерок заигрывает с тобой, касается шляпы, срывает ее, и пук волос рассыпается по плечам, как у свободного человека, сбросившего обузу чиновничьего ритуала.
Ли Бо с трудом поднялся на склон Драконьей горы и просидел там до темноты, следя за солнцем, опускающимся за дерево Фу-сан, и приветствуя выглянувшего старого друга луну. Дома он опишет это в двух четверостишиях, в одном из которых пожалеет бедные желтые хризантемы, которые в этот день по всему Китаю подвергаются нашествию несметного количества людей, наслаждающихся «двумя девятками»[139] и губя при этом последние цветы осени.
Десять лет назад в такой же славный денек девятой луны, когда солнце уже не изливает на землю палящий жар, а окутывает мягким теплом, он поднимался на этот же склон, тоже один, тоже печальный, но еще не расставшийся с надеждой, и там же, в горах, среди сосен, растущих из седой древности в седую вечность, написал:
Ну, что за дивный облачный денек! Чисты ручьи в сияющих горах, В кувшине зелье — что зари глоток, Настоянный на желтых лепестках. На камнях, соснах — седина веков, Поднялся ветер, загудел струной. Взгляну в фиал — и на душе легко, И усмехаюсь над самим собой. Сбил ветер шляпу. Я хмелен совсем. Мир — пуст. Так песней помяну друзей. («Праздник Девятого дня»)А сейчас ему было одиноко и тоскливо. Все чаще вспоминалось былое, подернутое дымкой ностальгической идеализации. Друг собрался в столицу попытать карьерного счастья, и Ли Бо, воодушевляясь, молодой кистью набрасывает картину величественного столичного тракта, уходящего в вышину Девятого Неба, высокий трон, на коем восседает Лев Золотой, обсуждая с мудрейшими тайны бытия… И все же — вернись, ибо нет ничего лучше диска луны, ярко сияющей над Крутобровой горой в незабываемом Шу (стихотворение «Пою луне горы Эмэй, провожая шуского монаха Яня, направляющегося в Центральную столицу»).
И потому, чуть лучше почувствовав себя к исходу весны 763 года, Ли Бо опять собрался в дорогу. Не в Шу, это слишком далеко, но все-таки в прошлое. Не то что неуемная душа звала в нескончаемую дорогу, хотя и это чувство все еще владело им, но захотелось ему пообщаться с духом любимого им Се Тяо в Сюаньчэне. Уже шесть раз навещал он эти места — больше, чем какое-нибудь другое в Поднебесной, — поднимался на Северную башню городской стены, в точности повторяющую ту, что когда-то была возведена Се Тяо, вполголоса напевал стихи, словно общаясь со столь созвучным ему поэтом, бродил один по склонам Цзинтин, навещал грустно запустелые руины дома Се Тяо на Зеленой горе.
Зеленая гора накрыта тьмой, Жилище Се почтенного в тиши, Бамбуки не тревожит шум людской, В пруду луна белесая дрожит, Засыпал двор давно засохший лист, Колодец рухнул, серым мхом сокрыт. Лишь ветерок гуляет, свеж и чист, Да под камнями ручеек журчит. («Десять стихотворений во славу Гушу»)Вариация на тему
Свежий ветерок (Ли Бо вкладывал в это понятие не только природный смысл, но и социально-психологический — «чистые нравы» в этом обиталище высокой поэзии, призванной очищать человеческий мир) возвращал силы, развеивал грусть, неизбежно возникавшую, когда Ли Бо видел, что дом поэта забыт и заброшен, а пропыленному миру его чистые строки о «шелковой воде» уже как будто и не нужны…
Вот и старый Цзи, трактирщик, покинул сей мир, спустился к Желтым источникам. Верно, и там продолжает гнать свою «Позднюю весну». Мы оба с тобой мастера, ты — мастер доброго вина, а я — мастер винопития. Мы оба стары, только ты уже там, а я пока здесь. Но что это меняет? Скоро, совсем скоро мы вновь с тобой встретимся — и уж как весело отметим эту встречу доброй чашей! Нет жизни, нет смерти, есть лишь временное, случайное пребывание то тут, то там. «Путником случайным мы живем, / Смерть лишь возвращает нас к себе, / Небо и Земля — ночлежный дом, / Где скорбят о вековой судьбе» («Подражание древнему», № 9).
Наш Цзи и у Истоков хочет «Весной» наполнить много чаш, Да нет Ли Бо еще в той ночи — Кому вино свое продашь? («Оплакиваю славного сюаньчэнского винодела старика Цзи»)Пока еще нет. Но скоро появится, горько усмехнулся поэт, представляя себе кабачок в подземных владениях Янь-вана, Князя Тьмы. Прошлое все настойчивее овладевало его мыслями и становилось будущим. В начале лета в глуши лесов вокруг Сюаньчэна распустились маленькие лиловые цветки, пламенеющие в опускающихся сумерках, ловя последние лучики ускользающего заката. Их называли тут «кукушкин цвет», и поэту показалось, что из далекого Шу голосисто закуковали кукушки: «Бу-жу-гуй! Бу-жу-гуй! Вер-нись! Вер-нись!» Как это было давно! Всплыли перед глазами Шу, край юности, и сама эта юность, цветущая, полная надежд. Отчего-то было это щемяще горько. Он написал всего четыре строки («В городе Сюаньчэн смотрю на кукушкин цвет»), двадцать восемь иероглифов-слов и шесть из них — цифры, но какие! В третьей строке — три единицы, в четвертой — три тройки. Столь лаконично-емко, что русский язык не справляется с энергетикой оригинала, и можно его только пересказать: «Раз вскрикнет, раз вспомню, раз оборвется сердце,/ На третью луну третьей весны [поздней весны] вспомню Три Ба [родное Шу]». В этой троекратной цифре «один» стонет его кровоточащее сердце — я одинок, одинок, одинок! И не в силах забыть эту ссылку — на три года, три года, три года! На три года оторвали меня от людей, вычеркнули из жизни! И вот я умираю…
Уход Небожителя
С веток дерев посыпались листья, похолодали ночи, по утрам на травах печальной сединой лежал белый иней. Приближалась одиннадцатая луна первого года Гуандэ (самый конец 763 года), и состояние Ли Бо резко ухудшилось[140]. Усилился кашель, в груди клокотал гной, дышать становилось все труднее, словно не хватало воздуха, — легкие, иссеченные кавернами, не справлялись. Го Можо предположил, что это было воспаление легких на фоне длительного хронического пиоторакса.
Немало исследователей, и Го Можо в их числе, с суровым ригоризмом упоминают болезнь Ли Бо, сводя ее истоки к алкоголю, который, как известно, яд (но в то же время и лекарство — все зависит от дозы, а дозировка — штука тонкая и индивидуальная…). «Ли Бо умер в вине» — так даже называется глава одной из работ [Се Чуфа-2003. С. 235]. У одного из ближайших потомков Ли Бо позднетанского поэта Пи Жисю в стихотворении «Академик Ли» есть строки: «Он страдал от гноя в боках, / И его хмельной дух вернулся к восьми пределам (то есть на Небо. — С. Т.)».
Да, Ли Бо не ограничивал себя в удовольствии испить душистого зелья, хотя нельзя не заметить, что непомерные его количества, которые он со смаком расписывал в вольнодумных строках, — не более чем façon de parler. К сожалению, после ссылки он и в самом деле начал пить гораздо больше. Но этот факт должен навести исследователя на мысль о том, что погружение в алкоголь и развитие болезни шли параллельно, равно вызываясь некоей общей причиной.
Медицине давно известно, что соматические недуги часто вызываются душевной и нервной перегрузкой, а те в свою очередь являются реакцией организма на условия окружающей действительности. Стресс у любого человека может вызвать болезни не только самой нервной системы, но и любых жизненно важных органов. Тем более у таких реактивных, легкоранимых существ, как личности творческого труда.
Методичные срывы карьерных надежд и начинаний на протяжении всей жизни усугубляли психосоматическую ситуацию Ли Бо. Для него это были не просто неудачи — это были удары по жизненным целям, которые он считал крайне важными для себя. Вот где истоки его болезни. Могучий организм, быть может, продолжал бы в какой-то мере компенсировать служебные провалы, если бы не последовал такой ощутимый удар, как обвинение в «государственной измене», тюрьма, ссылка.
Это он-то, ежесекундно радевший о благе страны, мечтавший всю свою энергию вложить в процветание государства, — «государственный изменник»! На таком негативном психологическом фоне всё — сырой каземат, грязная старая лодка, увозившая его на край света в Елан, — всё это должно было через отрицательную психологическую ауру с удесятеренной силой разрушать организм.
Существуют разные версии относительно последних дней поэта. Побочные, основанные либо на слабо достоверных источниках, либо на оригинальном прочтении старых текстов, говорят, что слабеющий поэт вернулся не к дяде в Данту, а на Драконью гору, где у него был свой дом; что он упал в воду, с трудом выплыл, добрался до своего дома и умер там; что, выбравшись на берег, он там же и умер, и его тело подняли на Драконью гору и похоронили.
Согласно версии, принятой большинством, Ли Бо умер в Данту в доме своего дяди Ли Янбина, начальника уезда. Официальность этой версии подтверждается гравюрами на «дороге духов» в мемориальном парке вокруг могилы Ли Бо на Зеленой горе, где на одной плите из черного мрамора выгравирована сцена передачи умирающим поэтом своих рукописей дяде.
Вариация на тему
«Ли Бо показалось, что он очнулся… „Позвольте помочь вам“, — услышал он мягкий женский голос… „Куда мы направляемся?“ — „Туда, откуда ты прибыл“. — „А откуда я прибыл?“ Женщина в зеленом лишь усмехнулась, и через мгновение они остановились на поляне, полной свежих цветов и ароматов. Со всех сторон на него смотрели феи. Чудный свет излучали цветы, по воздуху плыл густой туман, и среди колыхающейся пустоты проявлялись беседки, террасы, башни, дворцы. „Я бывал здесь!“ — воскликнул Ли Бо…
Туман рассеялся, и он увидел, что стоит около треножника в форме летящего дракона на Зеленой горе Циншань… „Откуда он прибыл?“ — прозвучал улыбчивый голос, и тут же возникла волшебная, божественная музыка, идущая словно из глубины души… Женщина в зеленом сказала Ли Бо: „Ты помнишь, когда-то здесь мы наблюдали торжественный выезд императора?“ — „Помню. И Чэнь Цзыан[141] проходил тут“. Они двинулись дальше, вышли к густым купам цветущих дерев. „Это не то место, где я бывал. Ты заблудилась?“ — „То самое, просто с тех пор здесь вырос глухой лес… Присмотрись, это то самое место!“ Женщина в зеленом легонько потянула его за руку, и он вдруг взлетел в черноту ночи. Увидев переливающийся свет звезд и луны, преисполнился радости и начал вращаться в пустоте неба. „Мы летим к луне!“ — сообщила ему женщина в зеленом. „Замечательно!“ — воскликнул Ли Бо и вдруг услышал внизу какой-то шум, опустил голову и увидел несметные полчища степняков Ань Лушаня… „Я пойду усмирять мятеж! Надо отыскать Го Цзыи!“ — „Не спеши, ты уже не можешь туда спуститься“. — „Мне надо! Я должен быть на передовом рубеже…“
Видение вдруг обернулось черной дырой, которая поглотила Ли Бо…»
[Ван Хуэйцин-2002. С. 933–936]Ли Янбин хотел сообщить печальную новость жене и сыну поэта, но не успел. Госпожа Ли жила далеко от Данту, а Боцинь оказался в отъезде (дочь к тому времени умерла). Так они и не приехали, и кое-кто из последующих исследователей неоправданно поспешил сделать неутешительный для семейных отношений поэта вывод.
В чем-то они правы. Ли Бо не прижился на этой Земле. Устремленный к людям, он так и не ушел от одиночества. «Он изрекал Небесные узоры, / А меж людей казался всем чужим», — через сто лет написал поэт Пи Жисю.
Вариация на тему
Ли Бо подозвал дядю и вытащил из-под подушки связку рукописей: «Всю жизнь возил с собой, не расставался ни на мгновение. Это самое дорогое, что останется после меня. Не суждено было стать советником в Западной столице, хотя почтительно прикоснуться к дереву Фусан мне довелось. Взлетела могучая Птица Пэн до Среднего Неба, да сил недостало, и рухнула Птица на землю. Я поэт, и этого у меня никто не отнимет, и десять тысяч лет потомки станут передавать мои стихи от поколения к поколению. Да поймут ли? Нет уже в мире мудрого Конфуция…»
Все это он не сказал, не прошептал, а слабым голосом напел дяде как последнее в своей земной жизни стихотворение «Песнь о близком конце». Его последнее видение — Великой Птицей Пэн он уносится к заоблачным восьми пределам, задев крылом священное древо Фусан, за которым скрывается Солнце… Но понять тайный смысл сего деяния дано было бы лишь Чжун-ни (Конфуцию), а среди современников такого нет…
О, Птица Пэн, раскрыв громады крыл, Ты взмыла ввысь, да недостало сил, Но вихрь не стихнет десять тысяч лет! Ведь поднялась до дерева Фусан, и эту быль Потомки станут вспоминать века… Но где ж Чжун-ни, что над стихами слезы лил?В некоторых списках стихотворение называется «Песнь о близкой дороге». Какой дороге? Куда собрался старый, слабый, больной, но все еще неугомонный Ли Бо?
Быть может, на давнюю и родную звезду Тайбо, как повествуют нам легенды? Ли Бо сошел с лодки, чтобы поймать луну, и вода накрыла его с головой… Позднетанский поэт Хань Юй в своем стихотворении поставил Ли Бо в ряд «трех гениев, возвратившихся в воду», то есть утонувших (к Ли Бо он прибавил Цюй Юаня и Ду Фу). Среди многочисленных легенд об этом событии есть и такие.
Вариация на тему
На тело поэта, прибитое волной к берегу, наткнулась местная крестьянка. Он был как живой, рот приоткрыт, будто он собрался заговорить, правая рука согнулась в локте самым естественным образом, борода не намокла, на ней лишь поблескивали капельки воды, и даже шапка не слетела с головы. Но самое удивительное заключалось в другом — его нашли не ниже, а выше по течению, то есть тело медленно плыло не на восток, куда несся поток реки, а на запад, туда, где за горами, за долами лежал отчий край поэта.
[Жун Линь-1987. С. 151]Еще одна вариация на ту же тему, но сильно отличающаяся от предыдущей
Погрузившись в воду, через мгновение он вынырнул верхом на ките, в последующих вариантах трансформировавшемся в фантастическую рыбоптицу Кунь-Пэн, которую Ли Бо не раз вспоминал в своих стихах, и понесся в заоблачные выси. «Смотрите-ка, святой! Он не умер! Не умер!» — заволновался народ на берегу. Да, на хребте фантастического существа сидел Ли Бо в белой одежде. Тут-то всё стало ясно: он уносится в Лунный дворец, где его ждут травы бессмертия.
[Жун Линь-1987. С. 148–149]
Он так мечтал об этом! Быть может, и даже, наверное, больше, чем о сановитых собраниях мудрецов у подножия государева трона.
Светило ночи и светило дней Без устали вершат круговорот. Средь тьмой объятых суетных людей Никто так бесконечно не живет. Преданье есть, что среди вод морских Пэнлайский остров дыбится горой, На древе-яшме зелены листки, И сладок плод, который ест святой. Откусит раз — и нет седых волос, Откусит вновь — и вечно юн и мил… Меня бы кто-нибудь туда унес И больше в этот мир не возвратил. («Вольный стих»)Последняя вариация на последнюю тему
…Белая цапля сиротливой снежинкой опустилась на стылую воду осенней реки. Ей было так же одиноко и неуютно, как и старому поэту, который, всем телом ощущая необычную слабость, кряхтя, вылез из повозки. Не оборачиваясь, махнул вознице — не жди, вот-вот барабаны оборвут предвечернюю суету, в Данту закроют ворота, и придется тебе на всю ночь засесть в какой-нибудь харчевне под осыпающейся земляной стеной, где дрянное мутноватое винцо даже подогреть не удосужатся, каждые два часа прислушиваясь к колотушкам страж, пока монахи из ближайшего монастыря на всю округу не возвестят, какая нынче погода, а под гром утренних барабанов стражники не распахнут городские ворота.
У берега, куда привез его возница, стояла лодка — расписная, узорчатая, с крышей на столбах ближе к корме, никаких этих современных новшеств вроде стульев, с которых того и гляди свалишься, особенно в подпитии, к борту прислонено, правда, складное варварское сиденье, но это так, для фасона, куда удобнее сидеть на циновках, подогнув под себя ноги и упираясь коленями в пол. Коли овладеет тобой телесная слабость, подложи под локоть подушку или опустись на фарфоровое изголовье с магнитным стержнем, успокаивающим и расслабляющим.
«Ну, давай», — махнул Ли Бо угрюмому лодочнику, и тот скупыми движениями кормового весла направил лодку в одномерную темноту реки, куда-то туда, где ежилась от осеннего холода белая цапля. Цепляясь за чуть вздернутые уголки крыши, низко склоненные ивы пытались удержать лодку, остановить ее движение во тьму, да не удалось, и тогда они, точно почувствовав важность события, плеснули с листьев вечернюю росу вослед удаляющемуся поэту, как обычно поступали те, кто хотел в торжественный миг выразить свое почтение юбиляру, — выливали из кубка вино по направлению к нему.
Три-четыре гребка, и деревья, кромка пристани, ажурные беседки вдоль линии берега слились в одну темную пластину — занавес, отгородивший от Ли Бо весь пройденный земной цикл: пять раз по двенадцать, шестьдесят лет, оставшиеся позади со всеми их тяготами дорог, мишурой столичных дворцов, чуткой тишиной леса на горном склоне, плавно раскачиваемой задумчивыми ударами храмового колокола.
Зачем больной, измотанный возвратным из ссылки путем, отправился он на этот берег? Родич отговаривал, пугая всяческими земными опасностями. Но что ему земное?! Он не сказал дядюшке про странный сон.
Был ему сон намедни. Белый сон. Ли Бо любил белый цвет, но понемногу, мазками, вроде этой белой цапли, что спустилась на темную воду, а тут во весь сон — ослепительный свет, Великая Белизна, столь противоположная мистической тьме, коей сейчас поклоняются на Земле. Он не нашел слов, чтобы выразить это словами, он лишь почувствовал, что это — его.
И тут еще эта настырная ворожея на улице. Синяя юбка, белая кофта — он хорошо запомнил сочетание красок: белый взрыв в синеве дневных небес. Нет чтобы, солидно сгорбившись, восседать перед столиком с зерцалом или гадательными костями, она глянула на него и, что-то узрев в чертах лица, как зачарованная, двинулась за ним по улице, будто не было там других, более богатых клиентов, проникновенным шепотом, еще даже и не потребовав оплаты услуг, предупреждая: «Тела твоего не вижу, исчезает оно, и на западе ждет тебя ослепительное сияние и встреча с могучим небесным духом».
Пряные ароматы насыщали воздух. Ли Бо много путешествовал в жизни, всякого навидался, наслышался, нанюхался, но в дивных благовониях, необычных для этих мест и этого времени, не различил ничего знакомого… Или, может быть, нечто очень и очень далекое, из какой-то иной жизни, смутное.
Но пора уже, кажется, подкрепиться. В лодке для этого всё было приготовлено. Дядюшка постарался, велел заранее доставить корзину со снедью. Конечно, ничего жирного и острого — и болезнь не позволяет, и Будда не велит. Сырая крошеная рыба, варварские лепешки из рисовой и пшеничной муки, таблетки чая, которые еще надо было растереть и смешать с имбирем, а потом сварить в котле на жаровне, установленной в углу. Какие-то сосуды — возможно, дядюшка велел приготовить ослабевшему Ли Бо рисовый отвар и кислое молоко, чтобы восстановить иссякающие силы.
Да еще торчит из корзины кувшин, верно, с добрым ланьлинским. В вине — много радости и силы. «Настоящий человек идет под водой и не захлебывается», — говорил Чжуан-цзы. Он явно хмельного «настоящего человека» имел в виду. Душа, омытая вином, обретает цельность и законченность, как кусок зеленой, с прожилками, яшмы. Маловато, правда, поосторожничал дядюшка, добрая душа. Ну, ничего, в широком, как озеро Облачных снов, рукаве у него было кое-что припрятано.
Не обмыть ли руки, подумал поэт. Этот ритуал, в общем-то, совершают все добродетельные конфуцианцы перед важной церемонией. Но разве что-то предстоит Ли Бо? К тому же он из Шу, а про шусцев шутят, будто их моют лишь дважды: при рождении и после смерти. И все же он зачерпнул забортной воды и задумчиво ополоснул руки. Ах, да, гадалка предсказывала встречу с небесным духом. Вот всё и сходится.
Когда сегодня возница катил его к берегу, они проехали сквозь красные ворота, странно поднявшиеся на пустынной сельской дороге. Три проема меж четырех столбов, над ними навес в рост человека, но кто ж поднимается туда — лестницы-то никакой не видно, а поверху — золоченая надпись: «Врата Дракона». Ничего особенного, он и не обратил на них внимания. А сейчас вспомнил и подивился. По старому преданию, тот, кто пройдет сквозь Врата Дракона, поднимется в иные сферы. Конечно, это не вход в экзаменационный зал и не специальное ему, Ли Бо, приветствие, сооруженное благодарными почитателями. Никто и не знает, что он в городе. А кто прослышал, старается держаться подальше от него, опального придворного академика. Мало кто знает, что милостью императора он освобожден от ссылки и, не доехав до Елана, повернул обратно в сторону моря, к Цзиньлину. Вот и друг Ду Фу пишет в стихах, что видел во сне Ли Бо, да не ведает — живого или уже покинувшего сей мир. Словно предвидя сегодняшнее путешествие по реке, Ду Фу с опаской поминает волны над глубинами, где обитает дракон, который может проглотить Ли Бо.
Тем временем в небе показалась желтая плошка луны и разлила свой свет по водной глади, еще слабый, как осенний светлячок. И все же он очертил пологий берег, утес, растворяющийся в черноте неба, и старый клен, который Ли Бо помнит еще стройным юным деревцем.
На берегу нахохлилась цапля, поджав для тепла ногу. Берег густо порос бамбуком, и Ли Бо захотелось тут задержаться, ведь духи бамбуковых рощ любят исполнять людские желания. Если, конечно, не спят или не заняты каким-нибудь более важным делом — отлучились в веселый квартал к девицам или расселись за столом с игральными костями.
Он с улыбкой махнул лодочнику, чтобы сушил весло. Правда, иных желаний, кроме как достать кувшинчик с ланьлинским, у него не было, а это он всегда умел осуществлять без помощи духов. Что и не преминул сделать. И повторил. И еще раз… Лодочник, обрадовавшись передышке, тоже достал себе чашку — из старой тыквы с неровными, обломанными краями.
Ли Бо шагнул к борту и только было распахнул халат, чтобы облегчиться в реку, как облачка окончательно расступились, полностью открыв круглый диск луны, и с неба выкатилась к лодке дорожка света. Оправляться в сторону луны считалось совершенно недопустимым, и Ли Бо повернулся было к другому борту, как вдруг лунная дорожка вспучилась, в ней что-то плеснуло. Рыбам в это время положено спать, но это явно был карп. «Уж не луна ли шлет мне послание? Зовет к себе?» Он странным образом вспомнил свое старое стихотворение, где светлое пятно у ног взывало к исчезнувшему — или недостижимому? —
Сияние луны простерлось к ложу. Иль это иней осени, быть может? Наверх взгляну — сияет там луна, А вниз — и мнится край, где юность прожил.Но сейчас краем юности ему представляется не далекое Шу, а сама небесная Великая Белизна, какими-то смутными, неясными нитями притянутая к нему. В прошлом? В будущем? Отчего? Зачем? Он и сам не знает.
Тьма накрыла все девять областей страны. Разве только во взбунтовавшихся степняках дело? А этот страшный ураган, который унес с собой — уж, конечно, не в сладостную обитель бессмертных Пэнлай — несколько кварталов блистательной Западной столицы! Потом — засуха, которая жестоко скручивала листья на деревьях в сухие трубочки, шуршавшие при малейшем дуновении. И тут же — ливень, но не тот благодатный, что в силах напоить истосковавшуюся землю, а избыточный, беспрерывный, шестидесятидневный поток, словно вновь разверзлись в небе дыры, которые латала Нюйва. В общем, не так что-то в этой империи. И не нужен он ей.
Кувшинчик очень скоро подошел к концу, в нем не больше шэна[142]. В былые дни Ли Бо для хорошей встряски требовалось доу вина — десять шэнов. В досаде он с силой хлопнул кулаком по борту, так что лодка вздрогнула, дернулась и сама, без вмешательства лодочника, поплыла потихоньку — прямехонько по лунной дорожке, будто увозила своего пассажира к небесному светилу из окутавшей его тьмы.
Легкий ветерок заигрывал с поверхностью воды, и рябь дробила дорожку на прихотливые штрихи света и тени. На такую голову, как у Ли Бо, даже побеленную временем, всего-то шэн вина подействовать не мог, но поэт явственно услышал неземной красоты «музыку Шуня». В искусстве звуков он, большой мастер игры на семиструнном цине, знал толк, но такого не слыхивал. Будто сам Небесный Владыка наигрывал ему последнюю мелодию земного бытия.
Воздух вокруг него сгустился настолько, что лежал в груди тяжелым камнем. Ли Бо еще не успел осознать, что произошло, и продолжал судорожно цепляться за уходящий воздух. Он словно очутился внутри круга, за пределами которого остались опустевший кувшин, прикорнувший лодочник, нахохлившаяся цапля… — всё, кроме полосы света. То, что осталось там, казалось близким, родным, и ему жалко было с ними расставаться.
Но воздух стал таким плотным, что казался и вовсе не воздухом. В какое-то мгновение Ли Бо ощутил себя единой материей с окружающей его массой, еще недавно бывшей воздухом, и больше не чувствовал тяжести. Он обрел легкость необыкновенную. Стало как-то комфортно, как после десятка чаш «Ланьлинского».
Полоса света от ног Ли Бо уходила дальше, вверх, к луне, и узоры неба вокруг ночного светила сдвинулись в медленном круговороте, всё убыстряя и убыстряя движение. Поначалу казавшиеся очень далекими, они приближались, вовлекая Ли Бо в свой пьянящий танец, и вот уже он тоже сдвинулся с места, шагнул на манящую дорожку и сомнамбулически пошел по направлению к луне. Мутная пелена спала с глаз, и он увидел вокруг себя плещущиеся волны «Ланьлинского», и ноздри пощекотал тонкий аромат пряных трав.
Две фигуры в радужных одеждах возникли из тьмы инобытия в колеснице из пяти облаков, сопровождаемые Белым Драконом, и пригласили Ли Бо присоединиться к ним, чудище пошевелило хвостом, раздвигая тучи, и помчало Ли Бо вверх, будто на высокую гору, туда, где торжественно распалялся, слепя его еще земные глаза, невыносимый свет Великой Белизны. Уже через мгновение глаза привыкли, и Ли Бо последним усилием мысли подумал, что он, похоже, не уходит, а возвращается…
Сквозь блаженную полудрему лодочнику показалось, что его пассажир перешагивает через борт, протягивая руки к луне, бело-черными штрихами раздробившейся на поверхности воды, и исчезает. Но воду ничто не возмутило.
Одежда пассажира лежала на дне лодки. Только одежда, без тела. От нее исходил тот самый аромат благовоний, которым еще мгновение назад был напитан воздух, опять вернувшийся к состоянию привычной осенней ночной сырости. «Познал Дао», — пробормотал ошарашенный лодочник про своего пассажира. Он слыхал, конечно, что ученые даосы в конце земного пути растворяются в познанном ими Дао-Пути, но впервые реально столкнулся с этим явлением.
«А как же его дух? Тела-то нет. Пустой гроб на родину не отвезешь, в могилу не закопаешь. Куда прилетать духу? Без могилы он, что же, останется неприкаянным — мертвым, как говорят? Вот ведь бедняга — прошел земной круг, и что от него осталось?!»
Так ли всё это было? Кто ведает?
Непременно спрошу об этом самого Ли Бо в Небесной Стране…
Каденция ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕБОЖИТЕЛЯ
С кончиной бренного тела не завершились блуждания неприкаянного духа Ли Бо. Он жаждал покоиться рядом с домом его любимого Се Тяо — на Зеленой горе. Сделать это сразу не удалось, и его похоронили на восточном склоне той самой Драконьей горы в Цайшицзи, куда он поднимался незадолго до смерти в осенний праздник Чунъян и прощался с далекими друзьями и близкими. Долгие десятилетия невысокий, не больше метра, заброшенный могильный холмик, обнесенный неприхотливым крестьянским плетнем, постепенно разрушался ветрами.
Тем не менее надпись на памятной стеле, поставленной в 790 году, утверждала: «В каждом доме есть списки стихотворений [Ли Бо]». И на основании этих слов исследователь делает вывод, что через четверть века после смерти поэта его слава распространилась по всей стране и его стихи присутствовали в каждом китайском доме. «В истории Китая, вероятно, один лишь Ли Бо обрел подобное широкое признание» [Фань Чжаньвэй-2002. С. 177].
Явно намечен разрыв между славой и статусом!
Увы, нам не дано ощутить обаяние его поэзии в полном объеме — из каждых десяти написанных им произведений сохранилось лишь одно. То, что пришло к нам, собрано при следующей, Сунской династии. Но уже с танского времени к характеристикам его наследия неизменно начали прибавлять эпитет «необыкновенный», «чудесный»: «Ах, какой необыкновенный, непостижимый талант этот Ли Бо!» (Бо Цзюйи) Ли Хуа в надписи на мемориальной стеле развил Хэ Чжичжана: «Он был больше, чем земной человек, он был равен Небу». «Душой, воспарившей над миром» назван Ли Бо в «Старой книге [о династии] Тан», что современный комментатор расшифровывает как «несоприкосновение с жизнью социума» [Ян Сюйшэн-2000. С. 196], иными словами, он оказался выше социума и в его стихах нашла свое истинное выражение не окружавшая поэта действительность, а его собственный внутренний мир, действительность эту не принявший. Не случайно с именем Ли Бо связано большое количество изустных преданий, ставших неотделимой частью того образа поэта, что закрепился в ментальности нации и пришел к нам.
Современный исследователь Хэ Няньлун пишет о «трех составных частях Ли Бо как культурного феномена — социум, поэзия, легенды»; первое показывает нам «бессознательное Я» Ли Бо, второе — его «внутреннее Я», осознанное Эго, третье — «сверх-Я», вошедшее в сознание потомков как знаковое обозначение культуры в социокультурной ментальности нации [Изучение-2002. С. 18, 21].
При династии Сун «оценка Ли Бо упала, и Ван Аньши поставил его четвертым после Ду Фу, Хань Юя и Оуян Сю». Но, во-первых, резко негативное отношение жесткого ригориста и конфуцианца Ван Аньши к Ли Бо известно, и это его личный взгляд, а не оценка эпохи; во-вторых, другие крупные сунские литераторы, и их большинство, не обошли почтительным вниманием великого предшественника. Поэт Су Ши в стихотворении отозвался о нем так: «Из чаши Неба пил прозрачную росу и, крылья распахнув, взмыл на Пэнлайский холм».
В XI веке поэт Го Сянчжэн, живший в уезде Данту, на закате лет ушел на Зеленую гору и около могилы Ли Бо соорудил себе отшельническую хижину. В то время на горе еще оставались следы дома, где жил Се Тяо, и носившего его имя пруда. Го родился в 1034 году, когда, по легенде, его мать увидела во сне Ли Бо (ох, эти легенды, сколько в них еще неосознанного, сокрытого от нас! И почему всякого заметного человека сопровождают сны как квинтэссенция его существа, как предвестие идущего, как знамение?!).
Го не сразу осознал свое предназначение и, в отличие от Ли Бо, не уклонился от экзаменационного испытания, получил первое ученое звание цзиньши, поступил на службу, но в двадцать лет оставил ее и поселился в Сюаньчэне. Его соседом был известный поэт Мэй Яочэнь, к которому он однажды вломился верхом на тощей кобыле, во всю глотку распевая только что написанное стихотворение Оуян Сю «Высока гора Лушань». Это было совершенно в духе отчаянного Ли Бо и произвело впечатление на старого поэта.
А когда тот прочитал стихи самого Го, воскликнул: «Ну и талантище, воистину в тебе воплотился Ли Бо!» — это невероятно впечатлило Го Сянчжэна и определило его дальнейший жизненный путь. В стихах другого поэта Чжэн Се, посвященных Го Сянчжэну, были такие строки: «Всем показалось, что вновь родился Ли Бо… Да нет уже в мире почтенного Хэ [Чжичжана], кто сможет его узнать?» Тем не менее определение «воплощение Ли Бо» прочно закрепилось за Го. На Зеленой горе Го Сянчжэн, как он сам объявил, «вошел в тело Ли Бо», написал «Собрание Зеленой горы» из 1400 стихотворений, сто из которых прямо или косвенно связаны с Ли Бо, а сорок одно прямо создано на рифмы Ли Бо. По стилю и духу они очень походили на поэзию великого предшественника.
В XIII веке были собраны изображения Ли Бо на камне, павильоны и беседки, связанные с его именем. К XVII веку написано 1100 стихотворений, посвященных ему. В первой половине XX века во взглядах на Ли Бо столкнулись две концепции. Ху Ши считал его человеком, оторвавшимся от мира, воспарившим над ним, певцом абстрактной свободы, не существующей в реальной жизни, а витающей в некой «естественной», внецивилизационной, выси, и «его стихи не пересекаются с нами, а витают в небесах» (цит. по: Изучение-2002. С. 31–33). Ли Чанчжи, напротив, видел в Ли Бо человека реального мира с такими же радостями и печалями, но со «сверхчеловеческой болью… безмолвной печали, болью вечной, ибо он существовал в реальном мире, который ему не поддавался… А он не мог, как Тао Цянь[143], отвергнуть всё, кроме вина», и в итоге Ли Бо «потерял всё» («Так ничего я и не смог достичь»), оказался разодранным противоречиями; «в нем горело желание жить в этом мире, но его терзала боль невозможности жить в этом мире», и «ему остались лишь безмолвие и пустота» [Ли Чанчжи-1940. С. 88–91].
За пределы родной страны стихи Ли Бо вышли уже в танское время, в оригинальных иероглифических текстах появившись в Японии и Корее, где старая китайская письменность весьма почиталась интеллектуалами. Запад познакомился с ними лишь в XIX веке, и надо отметить, что среди интерпретаторов были такие масштабные поэты, как Эзра Паунд (на английский по подстрочникам япониста Феноллозы) и Николай Гумилев (с французских подстрочников), а позже Анна Ахматова (тоже с подстрочников, но уже с китайских). Высочайшую оценку дал китайскому гению академик В. М. Алексеев; его стихи выходили по-русски в переводах А. Гитовича, Л. Эйдлина, Э. Балашова.
А заброшенная могильная насыпь, окруженная неказистым деревенским плетнем, простояла практически в безвестности полвека, откровенным своим видом демонстрируя разлад между «вывеской» официозной оценки и реальным опасливым отношением. Увидевший насыпь в начале IX века поэт Бо Цзюйи с болью описал «жалкий могильный холмик, заросший дикими травами», того, чьи «стихи сотрясали Небо и Землю».
Отчего же так?
Известный исследователь Ли Цзылун осторожно выдвинул такую версию: поэт не умер в доме своего дяди, а утонул в реке [Изучение-2002. С. 608–614]. Собственно, так повествует и легенда, но Ли Цзылун перевел изустную версию в научную. Он обратил внимание на то, что ни в прижизненных, ни в ближайших по времени биографиях ничего конкретно не говорится о причине смерти, кроме туманной «болезни» у Ли Янбина, который обозначил это еще при жизни поэта (о смерти Послесловие не упоминает). Лу Ю, путешествуя по Шу, еще видел позже утраченную стелу, на которой говорилось о смерти в результате болезни.
Лишь один позднетанский автор указал, что Ли Бо «пьяный утонул в реке». Спустя век поэт Пи Жисю написал стихи о «хмельной душе, вернувшейся к восьми пределам». Ли Цзылун сопоставил тексты в «Старой книге [о династии] Тан» и более поздней «Новой книге [о династии] Тан» и обнаружил, что в разделе «Биография Ли Бо» первой книги было сказано: «Утонул, выпив слишком много» — а во второй книге этой фразы не оказалось.
Ученые квалифицируют это как «цензуру чиновников»: официальные лица не могли принять версию смерти в реке как противную ритуалу, оскорбительную для демонстративно-ритуального возвеличивания поэта. И даже в научных кругах вплоть до конца второго тысячелетия превалировала версия болезни, а упоминание питейных излишеств и смерти в реке считалось ненаучным.
Канон «Ли цзи», жестко регламентировавший ритуальную обрядность, запрещал хоронить утопленников и совершать над ними поминальную церемонию, утопленников положено было сжигать на том месте, где найдено тело. Утопленники вычеркивались из социальной иерархии в такой степени, что это сказывалось на их потомках, которые ограничивались в правах.
Так что чиновники на государственных постах, чтившие конфуцианские каноны, не могли соединить память о великом поэте с подобной неканонической версией его гибели. Возможно, по этой же самой причине неудачной оказалась карьерная судьба сына Ли Бо, сломалась личная жизнь внучек, заброшенным, вопреки славе поэта, стоял его могильный холм.
Быть может, Ду Фу знал об обстоятельствах гибели друга больше, чем высказывал, и его стихотворный «сон», который раньше датировался 757 годом, следует отнести к 763 году? И тогда лодка, в которой плыл Ли Бо, и его погружение в воду — не сон, а факт? А другой «сон» Ду Фу, где Ли Бо сидел верхом на ките? Слишком уж разительны совпадения.
В те стародавние времена в нижнем течении Янцзы водились дельфины — их особый вид «байцзи» (Lipotes vexillifer), приспособившийся к речной воде. Позже они исчезли, и считалось, что вид вовсе вымер, но недавно китайское агентство новостей «Чжунго синьвэньшэ» сообщило об их возрождении. Дельфины принадлежат к семейству китообразных, но с особыми повадками и необычным вниманием к человеку. Они часто спасают тонущих, вынося их на спине на берег, любят играть в воде, высоко выпрыгивая над поверхностью. Если всю эту информацию сложить, то выкристаллизуется сюжет о дельфине, вынесшем утонувшего поэта на берег, и о людях на берегу, наблюдавших за этой картиной, трансформировавшейся в легенду о вознесении…
В 817 году на месте захоронения поэта появился Фань Чуаньчжэн, сын друга Ли Бо, нанял человека, который привел могилу в порядок, и, вопреки строгим ритуалам, совершил на могиле прощальный обряд. Несколько лет, обращаясь и к уездным властям, и к местным жителям, он разыскивал внучек поэта (их имен в истории не осталось). Оказалось, что после смерти их отца Боциня старший брат уехал и сгинул, женщинам одним было трудно и голодно жить, и им пришлось выйти замуж за местных крестьян, чьи имена история совершенно неожиданно сохранила, — Чэнь Юнь и Лю Цюань.
По описаниям Фаня, женщины «были одеты в крестьянские одежды, казались неприметными», но речь лилась легко, показывая, что это «потомки литератора». А скрывались они, не называли своих имен, прятались от чиновников потому, что стыдно было показать людям нищету рода их великого деда (формулировка Фаня, но, быть может, они опасались репрессий из-за неканонической гибели деда). Гордо отказались от предложения Фаня найти им других мужей из богатых семей, чтобы достойно продолжить род Ли Бо. Единственная просьба, которую они высказали ему, — перенести могилу с горы Луншань на Зеленую гору, где и хотел покоиться Ли Бо.
Эту просьбу Фань выполнил, а в прежней могиле оставил одежду поэта[144]. Собственно говоря, это напоминает вариант с захоронением У Чжинаня во «временной могиле» и последующим перенесением в постоянную, что сделал для друга сам Ли Бо, — нелигитимный в танском Китае древний способ захоронения. Так поэт неожиданно прикоснулся к лелеемой им Древности. И в веках остались два захоронения Ли Бо — на Драконьей горе в Цайшицзи и на Зеленой горе в Данту, где в XX веке могилу окружил просторный мемориальный парк.
А на вторую луну третьего года периода Хуэйчан (ранней весной 843 года), в правление танского императора Уцзуна великого поэта, позволившего себе преступить строгие ритуальные нормативы, «простила» и высшая земная власть. Высокого ранга чиновник Пэй Цзин, потомок того самого генерала Пэй Миня, который убедил Ли Бо не менять кисть на меч, был послан совершить уже официальную траурную церемонию у могилы Ли Бо.
В XII веке на Зеленой горе побывал поэт Лу Ю и в своих путевых заметках «Поездка в Шу» записал: «Все чиновники собрались в циншаньском (Циншань — „Зеленая гора“. — С. Т.) храме Ли Тайбо… Храм находится в пятнадцати ли к северо-западу от горы Циншань. Могила поэта позади храма, где возвышаются небольшие холмы — отроги гор Циншань. Когда был основан храм — неизвестно. Есть круглая мемориальная плита, выполненная танским Лю Цюаньбо, и стела о восстановлении храма… Тайбо изображен с черной повязкой на голове, в белой одежде и парчовом халате… В небольшом селении на юге горы сохранился фундамент жилища Се Сюаньхуэя (Се Тяо. — С. Т.)… Взглянешь на юг — раскинулась равнина, которую не охватишь взором, а рядом с домом струящийся источник, причудливые камни, зеленая бамбуковая роща. Поистине чудесное место! А через ли с лишним добрались до скита… Перед скитом маленький пруд, который называется Сегунчи (Пруд господина Се). Вода вкусная и холодная. Хотя разгар лета, [пруд] не высох. На самой вершине есть небольшая беседка, называется Сегунтин (Беседка господина Се). Вниз поглядишь — кругом горы. Они словно драконы вздыбились» [Лу Ю-1968.С. 30–31].
Дом семейства Ли у горы Тяньбао, в память о времени изгнания именовавшийся Усадьбой Лунси, был воссоздан в XVIII веке. Рядом с домом — могила сестры поэта Юэюань, оформленная как невысокий курган, обрамленный каменными стенками со стелами, на которых выгравированы сцены из жизни семьи: «брат с сестрой», «всё семейство» и т. д., а неподалеку — отдельный дом, где жила уже взрослая Юэюань.
В глубине двора сквозь прямоугольный проем в стене, окружающей дом, издали заметна среди склонившихся бамбуков строгая белая фигурка молодой женщины с прической, собранной в вертикальный пучок. Спина выпрямлена, голова поднята. Она излучает какую-то нежную неземную чистоту и очевидное прикосновение к вечности рядом с великим братом. Современным скульптором, видимо, владело понимание глубинной неслучайности имени сестры поэта, показывающей, что вся семья Ли Бо имела какое-то психологическое тяготение к ночному светилу. В отдалении сооружена «Кумирня Ли Бо» с памятником поэту. Тут же — небольшой, всего метр в поперечнике и глубиной в два метра, «Пруд для смывания туши», где брат с сестрой промывали кисти после занятий. Поверхность пруда безостановочно бурлит от бьющего со дна ключа.
В столичном музее Гугун хранится драгоценная реликвия — полотнище размером 2,85×3,81 метра со сделанной самим поэтом каллиграфической надписью «Терраса Шанъян», выполненной, по оценке цинских мастеров живописи, «ясной, отчетливой» кистью, словно «воспарившей над мирской пылью, напитанной горним духом святых сяней». Оно хранилось в частной коллекции и в 50-е годы XX века было владельцем подарено Мао Цзэдуну, а потом передано в музей. Текст неполон, сохранились лишь первые три строки, описывающие пейзаж с высокими горами и длинными реками, и подпись: «Написано на террасе Шанъян в 18-й день. Ли Бо».
Весной 2006 года рядом с домом поэта в Цзянъю открыли мемориальный парк Ли Бо. С верхнего этажа трехэтажной башни «Зал Ли Бо» открывается широкий вид на священные для китайской культуры места. В парке — несколько скульптур поэта, искусственная стена в виде горного склона с его стихами, привратная арка и скала, на которых воспроизведена сделанная рукой Дэн Сяопина каллиграфическая надпись «Отчий край Ли Бо». В целом получилась именно усадьба достаточно состоятельного шэньши, что отражает сегодняшний почтительный взгляд на поэта (и мнение некоторых исследователей о состоятельности семьи), но, вероятно, не реальный ее имущественный уровень тысячу с лишним лет назад.
А от утеса Нючжу вверх поднимается мемориальный парк Ли Бо Цайшицзи, территориально входящий сегодня в город Мааньшань. Посетитель парка поднимается по горе, словно по основным вехам жизни Ли Бо: сюда из разных районов перенесены реконструированные павильоны, беседки, башни, связанные с именем поэта. Они окружают место первого захоронения, ставшее «Могилой одежды и шапки Ли Бо». Оба места упокоения Ли Бо равно почитаются потомками. «Могила одежды», ранее чужеродным телом неприкаянно ютившаяся во дворе местной начальной школы, в 1972 году была перенесена на соседний южный склон горы Цуйло, и известный каллиграф Линь Саньчжи сделал вертикальную надпись на могильном камне: «Могила одежды и шапки танского поэта Ли Бо».
Над Воловьей отмелью (Нючжу) у вечной Янцзы, откуда Ли Бо, хмельной, 1300 лет назад бросился в воду ловить уплывающего собутыльника-луну, а через мгновение вынырнул уже бессмертным небожителем, оседлавшим гигантскую рыбоптицу кунь-пэн, чтобы вернуться на свою небесную родину — звезду Тайбо, — вознесся рукотворный стальной Ли Бо. Знаменитый скульптор Цянь Шаоу в свое творение из нержавеющей стали вложил откровенную идею вознесения: поэт раскинул руки, и ветер раздул просторные рукава так, что напоминают они крылья фантастической птицы Пэн — могучего существа, вынырнувшего из мифологического пространства в мир Ли Бо и покорившего его своей неземной чистотой и мощью.
Финальная вариация на тему за пределами самой темы
«„После тигра остается шкура, после человека — имя“. Часто слышал эти слова от отца, теперь повторяю своим детям…
Сегодня, думая об отце, растер тушь на камне, чтоб предпослать несколько строк бережно собранным мною строфам Лиханьлиня. Прав был отец: не все в них понятно, видно, каждому знаку великой кисти свой срок и свой возраст…
Слезы брызнули на зимнюю бумагу, рукав халата стал мокрым. Не помню, сколько сидел так, сокрушаясь, скорбя о горькой судьбе отца, восхищаясь величием его духа…
Вот он поднял глаза: сразу вобрал в зрачки небо с Млечным Путем, луной, звездами, в бесконечный путь устремился туда, где ни формы, ни узора — только четыре стороны света, верх и низ, минувшее и сегодняшнее, где длительность и длина подобны двум балкам, лежащим крестом в основании кровли.
Вот он опустил глаза: сразу вобрал в зрачки землю, все деревья и травы, коим присуща жизнь; всех птиц, рыб и зверей, коим присущи жизнь и сознание; всех людей, коим присущи жизнь, сознание и долг-справедливость. Здесь от слова до слова можно загнать коня, но попробуйте вонзить между знаками острие ножа — железо сломается. У кого, скажите, язык так свеж и необъятен? Кто еще одним взмахом кисти повесил на крюк завесу между бытием и небытием?
Как же я, неотесанный, смел подумать, что отец станет попусту водить кистью, бессмысленно марая бумагу? Как я, слепец, не разглядел перемены и движения, линии и узоры? Печалюсь и корю себя, что не смог увидеть сокровенное в строках отца, хотя столько раз держал их перед глазами и читал громко, нараспев. Как же после этого называться почтительным сыном? Ведь этот свиток — память об отце, он протянул его мне через всю Поднебесную, словно посох слепцу. Какого знака ни коснешься зрачком, каждый отзывается, как колокол. Как он велик! Поднял голову — небо, опустил голову — земля.
И сейчас в ином мире, среди бессмертных, отец поднимает глаза… опускает глаза…»
[Варжапетян-1989. С. 194–196]И может быть, нам еще посчастливится обнаружить новые свитки со стихами великого китайца — списки со списков. Бумага истлеет, а поэзия неким чудным способом преодолеет сотни, тысячи разрушительных — и соединяющих лет…
Лян Сэнь[145] ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛИ БО И ЛЕГЕНДЫ О ЛИ БО
В китайской истории Ли Бо, вне всякого сомнения, — личность наиболее легендарная. Его легендарность включает в себя, во-первых, легендарный характер его жизненного пути, свойств его личности, его поэзии, то есть это как раз и есть «легендарный Ли Бо»; во-вторых, пересоздание его образа и придание яркости легендарным элементам его романтичной жизни в стихах, его воспевающих, в статьях, биографиях, пьесах, прозаических произведениях потомков.
Тот Ли Бо, каким мы его знаем и представляем сегодня, состоит не только из его собственной фигуры и его произведений, но еще и из того пересозданного образа, какой складывался в течение более чем тысячелетия. Нам трудно судить, что в дошедшем до нас образе Ли Бо и в оценках его поэзии является результатом непосредственного восприятия читателей, а что привнесено восхищением и размышлениями других. В большей части рассуждений о поэзии Ли Бо и о нем самом, которые дошли до нас, легендарностью в основном подменяется прочтение самих стихотворений Ли Бо.
Легендарность Ли Бо проявляется в нестандартности его родовой истории, в его образе жизни и поступках, в сложности и многообразии его облика как мыслителя, в эмоциональном темпераменте, необычности его духовной структуры, выдающемся таланте; все это было притягательным для искателей чудес, побуждало их к пересозданию облика Ли Бо и добавляло в этот облик немало прелестных деталей.
Тысяча с лишним лет отфильтровали оценочный и эстетический подход потомков к легендам о Ли Бо. Хотя восприятие и оценки Ли Бо не у всех исследователей совпадают, но в целом они едины в признании его таланта, приятии поэтики и личностных свойств.
В первоначальных оценках, одобрительных ли, отрицательных ли, неизменно присутствовало слово ци («удивительный, чудесный, исключительный»): «чудо из чудес» (Инь Фань), «талант велик, слова невероятны» (Цянь Ци), «о, сколь чудесен сей талант» (Бо Цзюйи). Или еще один поэт танского времени Пи Жисю: «Его слова — вне Неба и Земли, / А мысли — словно духи нашептали. / Его читаешь — и душа взлетает в Небо, / Объемлет все земные океаны». Такого рода высказываний чрезвычайно много, и все они акцентируют «чудесное» в Ли Бо.
Так называемое «чудесное» говорит о незаурядности, в первую очередь о категориальном уровне художественного «Небесного гения» Ли Бо. В древней китайской литературной критике слова «Небесный гений» встречаются не часто, но слава Ли Бо как Небом данного гения возникла уже в Танскую династию.
Понятие «Небесный гений» в традиционном Китае было не только абстрактной оценкой, но и конкретным признанием способностей писателя. Цинский Сюй Эръань писал: «Небесным гением я назову Ли Бо, земным гением — Ду Фу» («О Танской поэзии»); Ван Чжидэн говорил: «Ли Бо был одарен Небом, возможности Ду Фу идут от человеческого» («Предисловие к Полному собранию Академика Ли по категориям»). В двух вышеуказанных оценках, конечно, присутствует тенденция возвышения Ли Бо и принижения Ду Фу, но основной подтекст заключен в признании разного характера художественных дарований Ли Бо и Ду Фу, что точно растолковывается словами сунского Ло Дацзина: «Ли Тайбо выпьет доу вина, тут же возьмется за кисть — и сто стихов готовы, а Ду Фу долго вздыхает, правит — и одного слова не завершит» («Яшмовая роса в Воробьиной роще»), «Ли Бо выпьет доу вина — тут же сотня стихов», «ловко сотворит тысячу стихов» (Ду Фу), «Во хмелю сочиняет юэфу, на одном дыхании — десяток стихов» (Пи Жисю), Ли Бо «на царском пиру выпьет тысячу чаш — и одной кистью ответит на письмо туфаней» (Гуан Сю). Всё это — одобрительные оценки тонкого таланта и мышления Ли Бо. И это еще не всё. «Его слова летят за пределы и Земли, и Неба, — говорил о нем Ду Фу, — его мысль летит в пространство духов и божеств»; а Гуань Сю написал о «творящей кисти гения»; минский Ху Инлинь считал, что Ли Бо «улетает к духам и божествам и тайн полон безмерно».
Очевидно, что в этих первых оценках в «Небесном гении» Ли Бо видели, помимо тонкости таланта и ума, могучую творящую силу художественного воображения. Это не только высочайшая оценка, но и понимание его художественной индивидуальности. Начиная с Ду Фу, в истории звучало бесконечное множество восторгов по поводу необычного Небесного гения Ли Бо.
Исключительность Ли Бо выразилась и в его прозвании «святой, низвергнутый с Неба», данном ему Хэ Чжичжаном в начале периода Тяньбао, когда он прибыл в столицу. Он и сам себя называл «Отшельником Синего Лотоса», «Низвергнутым святым», «Низвергнутым святым, отшельничающим у Золотых ворот дворца»[146]. Эти прозвища получили в то время широкое распространение и потом за тысячелетие короновали поэзию Ли Бо «лавровым венком» из коричных веток. Удивительно уже определение «святой», и еще более удивительно — «низвергнутый». По этому поводу минский Ли Дунъян с юмором заметил: «Святые явно позавидовали таланту Ли Бо, иначе зачем бы им низвергать его на землю?» («Восходя на башню Низвергнутого святого в Цайши»). Такое прозвание поднимает Ли Бо над бренным миром, окрашивает его необыкновенной духовностью. Подтекст этого прозвания «низвергнутый святой» проистекает из самооценки Ли Бо. В его стихах трижды встречается самоназвание «большой отшельник», а в других местах он сопоставляет себя с отшельником Дунфан Шо — и всё это наложено у него на дворцовый фон. Пусть так, но понятие «святой» не может восприниматься с обыденной точки зрения, поскольку Ли Бо при дворе держался независимо, не опутывая себя моральными нормативами традиционного вельможи. Ли Бо называл себя «большим отшельником», но тот, кто уходит в отшельничество, не может придерживаться правил, приличествующих сановнику, и в конце концов Ли Бо не нашел себя в политической жизни двора.
Прозвания «низвергнутый святой» и «большой отшельник» с очевидностью показывают дух и характер отстраненности от двора, отдаленности от мирской обыденности. После смерти Ли Бо современники в надписях на могильных камнях, в предисловиях к собраниям именовали его «высоким мужем». В это понятие заложены два смысла: во-первых, то, что при жизни Ли Бо официально не служил; во-вторых, то, что при дворе он не отступал от своего особого независимого характера. С этой точки зрения понятия «высокий муж» и «низвергнутый святой» можно считать идентичными. В период династии Тан к Ли Бо относились почтительно, взирали на него с отдаления и обращали внимание прежде всего на его отличие от рядовых людей.
Чрезвычайный резонанс имело еще одно прозвание Ли Бо — «гений вина». Упоминая душевные пристрастия и духовный облик Ли Бо как «гения вина», люди говорили о «наследии Тайбо». В Китае большинство поэтов издревле имели тяготение к вину, но сколько бы поэт ни пил, он не достигал известности «гения вина» Ли Бо. Потомки, кроме разве что небольшого количества людей вроде сунских Ван Аньши и Су Чжэ, проявляли большой интерес ко взаимоотношениям Ли Бо с вином. После Танской династии было создано немало неофициальных биографий Ли Бо, прозаических и сценических произведений, живописных свитков, стихотворений о нем, где значительное место прямо или косвенно занимала тема вина. Во многих местах Китая сегодня можно увидеть вывески над трактирами или марки вина типа «Винный дом Тайбо» или «Наследие Тайбо». Винолюбов история знает немало, но столь прославлен, пожалуй, один лишь Ли Бо. Пусть все эти выражения «триста чаш одним глотком», «тоска найдет — я осушу две тысячи даней[147]» гипертрофированны, но питейные возможности Ли Бо были велики.
Интересовало людей, однако, не то, сколько выпил Ли Бо, а его способность, выпив, создавать поразительные стихи. Кто заинтересуется «одной чашей вина», если после нее не возникнет «тысяча стихов» (стихотворение Ду Фу «Не видимся») или «Сто стихов» после «доу вина» («Песня о Восьми гениях пития» того же Ду Фу)? Цинский Чэн Даюэ в своих строках с точностью классификатора отмечал: «Знаменитый поэт возвышается над поколеньем, / Даже то, как он пил, утвердилось в веках» («В порывах ветра пью у кумирни Тайбо в Цайши»). Танский поэт Чжэн Гуцэ восклицал: «Зачем звезда поэзии с звездой вина / Слились однажды в господине Ли?! / Три тысячи стихов создаст, хмельной, / Оставив людям, словно луч луны» («Читая сочинения Ли Бо»).
Изумительный образ — сопоставить отчаянное винолюбие Ли Бо и его поэтический дар со звездой огня и звездой поэзии!
Но еще больший интерес вызывает тот факт, что хмельные поступки Ли Бо нравились людям. В «Песне о восьми гениях пития» Ду Фу написал о Ли Бо: «Черпак вина — и тут же сто стихов, / Он вечный гость чанъаньских кабачков / И даже к Сыну Неба не спешит: / „Ведь я — святой среди хмельных паров!“». В позднетанское время, при Пяти династиях, было создано немало изустных преданий, прозаических и сценических произведений на эти сюжеты, как Ли Бо в императорском дворце в Чанъане сочинял стихи и унижал сановников; в них немало легендарного, но по духу своему они близки к тому, о чем Ду Фу писал в своих стихотворениях.
В истории получили распространение и другие легенды такого типа: выпив, Ли Бо бросился в воду ловить луну, оседлал кита и взмыл в небо. Так, сунский Чжоу Цзыфань написал: «Тайбо, талант высокий, в подпитии / Схватил луну средь волн в реке / И возвратился во дворец нефритовый Владыки Неба». Ю Мао, поэт периода Южная Сун, написал: «О, Низвергнутый святой, / Славен ты из века в век! Облако и ветер оседлав, / Взял луну, умчался на ките» («У могилы Ли Бо»). Такая формулировка распространилась в начале Южной Сун, и во все последующие эпохи поэты повторяли ее. Изначально эта легенда была записана в «Предисловии к Танскому собранию» Ван Динбао периода Пяти династий. На самом-то деле после смерти Ли Бо в Данту и Ли Янбин в Предисловии, и Фань Чуаньчжэн в Надписи на могильном камне достаточно четко упомянули об этом, чего не могли не знать потомки. Мифологического характера легенда о том, что Ли Бо воплотился в мире, сойдя с Золотой звезды Тайбо, тоже была обозначена Ли Янбином и Фань Чуаньчжэном. С точки зрения земного человека рождение Ли Бо не было обычным, и потому болезнь и смерть тоже избежали заурядности.
Ли Бо называл себя «безумцем», и современники и потомки именно так и воспринимали его. В истории китайской литературы встречалось немало поэтов, которых именовали «безумцами», особенно в период расцвета династии Тан, поэтам даже нравилось так именовать себя. Но ни один из них не славил себя таким образом и в таком количестве, как Ли Бо. В истории остались разные суждения по поводу «безумства» Ли Бо. Например, сунские литераторы Ван Аньши, Ло Дацзин, Су Чжэ, исходя из поэтических канонов конфуцианства и принципов чиновного служения, отрицали поэтический стиль Ли Бо и необузданность его поэзии.
Иной была позиция Су Ши, который, хотя и считал Ли Бо «безумным служивым», но не требовал от него критериев политика как «благодетеля человечества». Он главным образом указывал на то, что «основой служивого должен быть дух ци», в этой фразе и заключено его понимание духовной сущности Ли Бо. Под «духом» он имел в виду индивидуальные склонности. Индивидуальность, доведенная до высшего предела, как раз и порождает у «безумного служивого» склонность к «сотворению Поднебесной».
Скитальческая жизнь Ли Бо гармонически сливалась с его талантом и характером и, сочно окрашенная в романтические тона, привлекала к себе широчайший интерес. Так, неслыханным событием был воспринят вызов Ли Бо к императору только из-за его поэтической известности. Сыма Сянжу был призван к ханьскому У-ди за свою знаменитую «Оду о Цзысюе», но это не было началом его пути служения, и по духовной важности ситуация несопоставима с тем, что произошло с Ли Бо. Судя по записям Ли Янбина, Фань Чуаньчжэна и других, когда Ли Бо впервые попал во дворец, он встретил совершенно необычный прием со стороны императора Сюаньцзуна. В период династии Цин был популярен рассказ о том, что литератор Ю Дун был обласкан императором Канси, и в «Неканонической истории Танской поэзии» цинского автора Шэнь Дэти об этом сказано так: «Хотя Священный Правитель пожаловал ему не слишком высокий пост, но назвал его почтенной знаменитостью, и потому слава его в Поднебесной могла сравниться лишь со славой Ли Бо».
Но более всего популярностью пользовались истории о том, как Ли Бо заставил Гао Лиши снять с него сапоги, и о «взаимовыручке» Ли Бо и Го Цзыи. Эти два сюжета, особенно история с Гао Лиши, со времен династии Сун воспроизводились в поэзии бесчисленное количество раз. И не только в поэзии — были еще живописные, прозаические и сценические произведения. Уж на что сунский Ли Ган отвергал стихи Ли Бо, считая их «низкосортными», но и он с восхищением писал: «Низвергнутый святой во хмелю не убоялся сделать из Гао Лиши слугу!» («Прочитав эпизод, рифмующийся со „слугой“, в Собрании Ли Бо»).
Однако эти две истории, передававшиеся из уст в уста, фактически «имели причины, но не имели реальных обоснований». Происшествие с Гао Лиши зафиксировано во множестве неофициальных собраний танского времени: «Заметки под сосной у окна», «Дополнения к истории страны», «Обрывочные заметки при закатном солнце», а также в «Старой книге [о династии] Тан» и «Новой книге [о династии] Тан». Сюжет о «взаимовыручке Ли и Го» впервые встречается в «Надписи на камне у могилы господина Академика Ли», сделанной Пэй Цзином в позднетанский период, и помещен также в «Новой книге [о династии] Тан». Эти два сюжета возникли достаточно рано и зафиксированы официальной историей, так что многие относятся к ним без тени сомнения. Но подозрения в достоверности все же есть. Ли Бо был гордым и искренним поэтом и все важные события своей жизни вводил в стихи. Если бы эти две важные и почетные для него истории произошли в действительности, он непременно отразил бы это в поэзии, но о них у него ничего не написано, значит, всё это вымысел[148].
Тем не менее нельзя не обратить внимание на их широкую популярность, для чего, вероятно, причины были. Позднетанские поэты во многих стихах, славящих Ли Бо, касались этих двух историй из неофициальных записей. Ко времени Северной Сун они вошли в «Старую…» и «Новую книгу [о династии] Тан», придав им официозное обоснование. Надо сказать, что поэты и ученые, с пиететом относившиеся к Ли Бо, были не из тех, кто легкомысленно игнорирует официальную историографию. Но, хотя из изложений этих историй у Ли Бо, Ду Фу, Вэй Хао, Ли Янбина и других нельзя вывести никаких аргументов, никто не сомневается в их достоверности, что само по себе достойно размышлений. История с Гао Лиши вполне соответствует характеру Ли Бо, а популярность сюжета о «взаимовыручке» с Го Цзыи отвечает тому сочувствию, с каким люди относились к несчастьям Ли Бо в поздние годы его жизни.
Вышеприведенные несколько легендарных сюжетов показывают, что потомки осознанно придавали жизни Ли Бо романтическую окраску. Легенды как таковые не документальны, но созвучны характеру и мироощущению Ли Бо, и потому с литературоведческого ракурса логичны. Ли Бо — большой поэт-романтик, и поэты последующих поколений именно в таком ключе и относились к нему, что нельзя не назвать справедливым.
«Небесный талант», «сосланный святой», «гений вина», «безумный служивый»… Все эти прозвания — не что иное, как суть понимания Ли Бо потомками, это, можно сказать, концентрированное выражение легендарности Ли Бо и легенд о нем, и самой яркой их особенностью является акцент на гордой независимости поэта, на его бытии над пылью мирской.
Можно сформулировать так, что легенды о Ли Бо намеренно избегали жизненных перипетий, несчастий, неприкаянности поэта и преувеличивали одухотворенность и легкость его бытия. Но и в самом деле, даже не приукрашивая, реальное существование Ли Бо было в высшей степени незаурядным. Поэты последующих эпох, сочувствуя собрату в его несчастьях, создали немало трогательных стихотворений. Два из них особенно берут за душу. Это «Мне снится Ли Бо» Ду Фу, где есть такие строки: «Уборы вельмож полонили столицу, / И ты там один прозябаешь». Второе — это «Стихотворение о могиле Ли Бо», написанное Бо Цзюйи: «Могильный холмик Ли Бо над брегом Цайши / Полями задавлен и дикими травами скрыт. / О, бедные кости скитальца у Желтых истоков, / Чьи строки когда-то сотрясали Небо и Землю! / Увы, такова уж всегдашняя доля поэтов, / Но даже меж ними несчастнее вас не сыскать».
Ли Бо как «низвергнутый святой» вызывает преклонение, а его неудавшаяся жизнь — сочувствие.
Перевод с китайского С. Торопцева
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЛИ БО
701 — Ли Бо родился в городе Суяб (Суйе) Тюркского каганата (около современного города Токмок, Киргизия). Есть версия, что это произошло уже в Шу (современная провинция Сычуань).
705 — семья перебралась во внутренний Китай, в область Шу, где поселилась в Посаде Синего Лотоса близ современного города Цзянъю.
715 — обратился к литературному творчеству — сначала к ритмическим эссе («Великая охота» и «Зал Просветления»), а затем и к поэзии. Первое стихотворение («Юный месяц») написал в монастыре Великого Просветления в Куанских горах, куда ушел на учебу и где в общей сложности пробыл почти десять лет.
720 — посетил столицу края, город Чэнду. Там познакомился с юным даоским монахом Юань Даньцю, дружба с которым прошла сквозь всю жизнь Ли Бо. Некоторое время живет с даоскими отшельниками на святой горе Цинчэн, где знакомится с дочерью императора принцессой Юйчжэнь, ушедшей в монахини. В этом году в его поэзию вошел образ мифологической Великой Птицы Пэн, позднее ставший символом самоидентификации Ли Бо.
724 — расставшись с монастырем и своим наставником мыслителем Чжао Жуем, отправился в прощальное путешествие по Шу.
725 — весной Ли Бо покидает Шу и больше уже никогда не возвращается в отчий край. В этом же году в городе Цзинчжоу (современный Ичан) он встречается со знаменитым и мудрым даосом-отшельником Сыма Чэнчжэнем, который предсказал ему: «Ты ликом — словно дух святой… Ты — как могучая Птица Пэн, коей нужны просторы неба, а не тесные залы». После встречи с монахом Ли Бо пишет знаменитую «Оду Великой Птице Пэн». В этом же году начинает крупный поэтический цикл из пятидесяти девяти стихотворений, создававшийся в течение всей жизни, — историософский и эстетический манифест «Дух старины».
725–727 — посещает заветные места великого Цюй Юаня (озеро Дунтин, реки Сяо и Сян, Трехущелье Санься), поднимается на гору Лушань, плывет на восток, где в древности находились царства У и Юэ. Затем посещает города Цзиньлин (современный Нанкин) и Янчжоу.
727 — начинается десятилетнее «хмельное пустынничество в Аньлу», Ли Бо женится на девице из вельможного рода Сюй, которая родила ему дочь Пинъян и сына Боциня, отшельничает в горах Байчжао, навещает известного поэта Мэн Хаожаня в Сяньяне, путешествует по стране.
730–732 — едет к Осеннему плесу (современная провинция Аньхуэй), заезжает в город Сюаньчэн, связанный с именем его любимого поэта Се Тяо (V век). Создает любовный цикл «Моей далекой», посвященный жене.
731 — впервые приезжает в столицу Танской империи Чанъань в надежде получить аудиенцию у императора и стать одним из ближайших его советников. Живет на святой горе даосов Чжуннань в резиденции принцессы Юйчжэнь. Создает крупноформатное стихотворение «Трудны дороги в Шу», поразившее столичных интеллектуалов.
736 — создает одно из наиболее экспрессивных стихотворений «Выпьем!»: «Бери от жизни всё, что радостно и мило, / Да не скудеет тот бокал, что обращен к луне! / Растрачу всё, чем Небо одарило. / Что тысяча монет! — Опять придут ко мне…» Этот период карьерных неудач и хмельного метания по стране в либоведении носит наименование «поход в десять тысяч ли».
737 — перевозит семью в Восточное Лу (современная провинция Шаньдун), поселяется в городе Яньчжоу недалеко от мемориала Конфуция в Цюйфу. Вскоре умирает жена, и через какое-то время Ли Бо сходится с девицей Лю, но ненадолго, потому что у девицы оказался вздорный характер, и поэт окрестил ее «дурой из Гуйцзи». С друзьями, которых молва нарекла «шестью анахоретами с Бамбукового ручья», весело проводит время на горе Цулай в пирушках и декламации новых стихотворений.
741 — плавает вдоль восточного побережья Китая, где мифология разместила острова Бессмертных.
742 — в начале лета поднимается на священную гору Тайшань, в последующем цикле «Восхождение на Тайшань» из шести стихотворений изобразив этот процесс как перемещение в таинственный сакральный мир «инобытия». Осенью получает долгожданный вызов к императору, входит в состав академии Ханьлинь («Лес кистей», то есть литературных талантов) и получает один из высших для «академиков» рангов дайчжао.
744 — подает императору прошение об отставке и весной покидает холодную столицу. Но с мечтой о высоком служении не расстается и в следующем году в стихотворении «В Цзиньсяне провожаю Вэй Ба, уезжающего в Западную столицу» (то есть в Чанъань) признается: «Из Западной столицы прибыл я, / Вы в те же возвращаетесь края. / С попутным ветром к деревам Чанъаня / На запад улетит душа моя». В этом году (в Лояне или Кайфэне) произошла первая встречали Бо с Ду Фу. Вместе с присоединившимся к ним поэтом Гао Ши они совершили поездку на территорию древнего парка Лянъюань близ Кайфэна. В самом конце года Ли Бо прошел в монастыре Пурпурного Предела близ современного города Цзинань обряд «вхождения в Дао», позволивший ему стать даоским монахом без проживания в монастыре.
750 — в ходе длительной поездки по стране Ли Бо заезжает в город Бяньчжоу (современный Кайфэн) к своему бывшему ученику Цзун Цзину и женится на его сестре.
751 — едет на север в Ючжоу (район Пекина) в ставку Ань Лушаня, влиятельного сановника, и возвращается в потрясении, осознав, что тот готовит мятеж против легитимного государя.
752 — пишет жесткую «Песню о северном ветре», ясно предупреждая беззаботный «юг» (имперская столица Чанъань) о готовящемся мятеже.
753 — едет в Чанъань, пытаясь добиться высочайшей аудиенции, чтобы донести высшей власти свое видение тревожной ситуации в стране, но его отказываются принимать даже на уровне сановников. Горькие размышления о падении правящей верхушки выразились в целом ряде стихотворений цикла «Дух старины», написанных в этом году.
755 — едет на восток в Цзиньлин (современный Нанкин) и Янчжоу, где его нагоняет молодой поэт Вэй Вань, несколько лет пытавшийся встретиться со своим кумиром. Ли Бо передает юному другу часть своих рукописей, из которых тот позже составил небольшой сборник.
756 — Ань Лушань поднимает войска против государя и провозглашает новую империю Великая Янь. Ли Бо вывозит семью к подножию горы Лушань, откуда его вызывает к себе в ставку принц Юн-ван, возглавивший сопротивление мятежникам.
757 — во внутридворцовом конфликте принц Ли Лин, старший сын императора Сюаньцзуна, смещает отца с трона и провозглашает себя новым императором, а брата (Юн-вана) объявляет изменником и казнит. Ли Бо с клеймом «государственный изменник» брошен в тюрьму, где в трагической печали ожидает казни.
758 — усилиями друзей казнь заменена ссылкой в отдаленный город Елан (близ современного Цзуньи).
759 — в городе Боди, на полпути в ссылку, Ли Бо настигает императорский указ об амнистии, и он поворачивает обратно на восток («Покинул поутру заоблачный Боди, / К Цзянлину сотни ли челн мигом пролетит, / Макаки с берегов галдят на всем пути, / Но тяжесть тысяч гор осталась позади»).
760 — еще не доплыв до Цзянлина, Ли Бо вдруг поворачивает назад — к озеру Дунтин, в места Цюй Юаня. Большинство друзей отворачиваются от опального поэта, и в написанном в этом году стихотворении цикла «Дух старины» он сравнивает себя с мифической птицей Чжоучжоу, которая мечтает о дальнем полете, но крыла ее ослабли, а молодые собратья уносятся вдаль, забыв о старой и больной птице.
762 — узнав о новой вспышке мятежа аньлушаневских генералов, Ли Бо бросается в ставку правительственных войск, но ослабленный организм не выдерживает напряжения, и поэт с трудом добирается до Данту, где отлеживается в доме своего дяди Ли Янбина, назначенного начальником области.
763 — несколько отойдя от болезни, едет в Сюаньчэн, город его любимого поэта Се Тяо (V век), откуда возвращается осенью. В предчувствии конца передает дяде рукописи, которые, не имея постоянного дома, всегда возил с собой, и нашептывает ему последнее в своей жизни стихотворение «Песнь о близком конце», в котором провидит свою будущую славу, несмотря на трагическое непонимание современниками. Глубокой осенью Ли Бо умирает в доме дяди в Данту (по легенде, он утонул, пытаясь во хмелю выловить луну в реке, и вознесся на мифическом Ките в сакральное Занебесье). Похоронен на Драконьей горе в Цайшицзи (современный город Мааньшань). В начале IX века прах был перенесен на Зеленую гору, а на месте первого захоронения осталась «Могила одежды и шапки Ли Бо». Сегодня вокруг этих двух могил существуют два мемориала величайшего поэта Китая.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Ли Бо в простонародной одежде. Средневековая картина
Священная гора Тайбо
Дом Ли Бо в Посаде Синего Лотоса близ современного города Цзянъю (провинция Сычуань)
Факсимиле стихов Ли Бо
Великая Птица Пэн. Современная картина
Ли Бо и его жена. Современная картина
Панорама гор Чжуннань
Павильон над могилой Лао-цзы
Шесть отшельников с Бамбукового ручья. Современная картина
Средневековое изображение Ли Бо
Ли Бо и Ду Фу. Современная картина в музее Яньчжоу
Дорога вдоль берега реки Сыхэ, по которой гуляли Ли Бо и Ду Фу, читая стихи
Ли Бо созерцает природу. Средневековая картина
Императорский дворец в Чанъани. Современный макет
Ли Бо читает письмо варваров. Лубок XIX в.
Император Сюаньцзун играет на флейте, Ян Гуйфэй танцует. Резное изображение на мраморе
Ян Гуйфэй. Современная картина
«Душистый павильон» в императорском дворце в Чанъане
Ли Бо слушает игру на цине. Современная картина
Хмельной Ли Бо. Современная картина из музея в Цзянъю
Старинный кубок
Ли Бо улетает к звездам. Современная картина
Могила Ли Бо на Зеленой горе
Открытие мемориала Ли Бо в Цзянъю
Могила одежды и шапки Ли Бо в Мааньшане
Памятник Ли Бо в Цзянъю
БИБЛИОГРАФИЯ
Произведения на русском языке
[Алексеев-1978]: Алексеев В. М. Китайская литература. М., 1978.
[Антология-1958]: Антология китайской поэзии: В 4 т. М., 1958.
[Бежин-1987]: Бежин Л. Е. Ду Фу. М., 1987.
[Варжапетян-1989]: Варжапетян В. В. Путник со свечой. — В кн.: Варжапетян В. В. Дорога из Рима. Повести. М., 1989. С. 109–196.
[Восток-1982]: Восток — Запад. Исследования, переводы, публикации. М.,1982.
[Генкель-1926]: Генкель Г. Г. Грезы и думы Востока. Л., 1926.
[Гуревич-1972]: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
[Дао-1972]: Дао и даоизм в Китае. М., 1972.
[Китайская-1958]: Китайская классическая проза в переводах академика В. М. Алексеева. М., 1958.
[Книга-2002]: Книга о Великой Белизне / Сост. С. А. Торопцев. М., 2002.
[Конрад-1966]: Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1966.
[Кривцов-1993]: Кривцов В. А. Эстетика даоизма. М., 1993.
[Ли Бо-2004]: Ли Бо. Дух старины. Поэтический цикл / Сост. и пер. С. А. Торопцева. М., 2004.
[Ли Бо-2005]: Ли Бо. Пейзаж души. Поэзия гор и вод / Сост. и пер. С. А. Торопцева. М., 2005.
[Литература-1970]: Литература Востока в Средние века. Ч. 1. М., 1970.
[Лукьянов-2000]: Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2000.
[Лу Ю-1968]: Лу Ю. Поездка в Шу. Л., 1968.
[Малявин-2001]: Малявин В. В. Китайская цивилизация. М., 2001.
[Малявин-1992]: Малявин В. В. Конфуций. М., 1992.
[Малявин-1997]: Малявин В. В. Молния в сердце. Духовное пробуждение в китайской традиции. М., 1997.
[Переломов-1992]: Переломов Л. С. Слово Конфуция. М., 1992.
[Переломов-1998]: Переломов Л. С. Конфуций. «Луньюй». М., 1998.
[Позднеева-1967]: Позднеева Л. Д. Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967.
[Постоянство-2003]: Постоянство пути. Поэзия эпохи Тан в переводах B. М. Алексеева. СПб., 2003.
[Серебряков-1991]: Серебряков Е. А. Китайский поэт Средневековья Ли Бо в народных преданиях // Ученые записки Ленинградского университета. Филологические исследования. Востоковедение. Вып. 17. Л., 1991. C. 109–118.
[Стужина-1979]: Стужина Э. П. Китайский город. М., 1979.
[Торчинов-1999]: Торчинов Е. А. Даоизм. СПб., 1999.
[Торчинов-2001]: Торчинов Е. А. Даоские практики. СПб., 2001.
[Три-1960]: Три танских поэта. М., 1960.
[Удивительные-1954]: Удивительные истории нашего времени и древности. М., 1954.
[Фишман-1958]: Фишман О. Л. Ли Бо. Жизнь и творчество. М., 1958.
[Чуский-2008]: Чуский Безумец Ли Бо / Сост. и пер. С. А. Торопцева. М., 2008.
[Эйдлин-1970): Эйдлин Л. З. Танская поэзия. — В кн.: Литература народов Востока. М., 1970. С. 130–175.
[Юэфу-1959]: Юэфу. Из древних китайских песен. М.;Л., 1959.
Произведения на английском языке
[Owen-1981]: Owen S. The Great Age of Chinese Poetry. The High Tang. New Haven and London, 1981.
[Owen-1996]: Owen S. The End of the Chinese Middle Ages. Stanford Univ. Press. California, 1996.
[Walley-1950]: Walley A. The Poetry and Career of Li Po. L.-N.Y., 1950.
[Yip-1969]: Wai-lim Yip. Ezzra Pound’s Cathay. Princeton Univ. Press. Princeton, 1969.
Произведения на китайском языке
[Ань Ци-1981]: Ань Ци. Ли Бо: поиск по всем направлениям. Сиань, 1981.
[Ань Ци-2001]: Ань Ци. Тайны поэзии Ли Бо. Сиань, 2001.
[Ань Ци-2004]: Ань Ци. Неканоническая биография Ли Тайбо. Пекин, 2004.
[Ань Ци, Сюэ Тяньвэй-1982]: Ань Ци, Сюэ Тяньвэй. Хроника жизни Ли Бо. Изд-во Цилу, 1982.
[Ван Хуэйцин-2002[: Ван Хуэйцин. Ли Бо. Пекин, 2002.
[Го Можо-1972]: Го Можо. Ли Бо и Ду Фу. Пекин, 1972.
[Гэ Цзинчунь-1994]: Гэ Цзинчунь. Ли Бо и культура вина в эпоху Тан // Хэбэй дасюэ сюэбао. 1994. № 3. С. 50–58.
[Гэ Цзинчунь-2002-А]: Гэ Цзинчунь. Жизнь Ли Бо. Чжэнчжоу, 2002.
[Гэ Цзинчунь-2002-Б]: Гэ Цзинчунь. Некоторые проблемы изучения Ли Бо. Баодин, 2002.
[Жун Линь-1987]: Жунь Линь. Предания о Ли Бо. Наньтун, 1987.
[Изучение-1991]: Изучение Ли Бо в Китае: 1990. Сборник: В 2 т. Цзянсу, 1991.
[Изучение-1993]: Изучение Ли Бо в Китае: 1991. Сборник. Цзянсу, 1993.
[Изучение-2002]: Изучение Ли Бо в Китае: 2001–2002. Сборник. Хэфэй, 2002.
[Изучение-2007]: Изучение Ли Бо в Китае: 2006–2007. Сборник. Хэфэй, 2007.
[Иноуэ Сэй-1984]: Иноуэ Сэй. Жизнеописание Ян Гуйфэй. Сиань, 1984.
[Кан Хуайюань-2004]: Кан Хуайюань. Ли Бо. Аналитическая критика. Чэнду, 2004.
[Ли Бо-2000]: Ли Бо. Полное собрание сочинений в хронологической последовательности с комментариями. Чэнду, 2000 (сост. и коммент. Ань Ци, Янь Ци, Сюэ Тяньвэй, Фан Жиси; под общ. ред. Ань Ци).
[Ли Гуаньлянь-1986]: Ли Гуаньлянь. Ли Бо. — В кн.: Биографии выдающихся деятелей китайской нации. Пекин, 1986. С. 101–163.
[Ли Найлун-1994]: Ли Найлун. О формировании у Ли Бо сознания «падшего небожителя» и формах его выражения // Гуандун шэхуэй кэсюэ. 1994. № 6. С. 117–121.
[Ли Чанчжи-1940]: Ли Чанчжи. Даоский послушник поэт Ли Бо и его боль. Гонконг, 1940.
[Мацуура Томохиса-1989]: Мацуура Томохиса. К вопросу о комментариях к поэтическому циклу Ли Бо «Песни Осеннего плеса» // Ли Бай сюэкань. Вып. 1. Шанхай, 1989.
[Пэй Фэй-1994]: Пэй Фэй, Лю Шаньлян (сост.). Сборник материалов по Ли Бо: В 3 т. Пекин, 1994.
[Сборник-1990]: Сборник статей об изучении Ли Бо. Вып. 2. Чэнду, 1990.
[Се Чуфа-2003]: Се Чуфа. Жизнь Ли Бо в стихах и вине. Шицзячжуан, 2003.
[Сюэ Тяньвэй-2002]: Сюэ Тяньвэй. Рассуждения о Ли Тайбо. Сиань, 2002.
[Танака Кацуми-1974]: Танака Кацуми. Ли Бо. Тайбэй, 1974.
[Тысячелетний-2003]: Тысячелетний дух поэзии Ли Бо на дорогах Шу. Сборник статей. Чэнду, 2003.
[Фань Чжэньвэй-2002]: Фань Чжэньвэй. Происхождение, браки и семья Ли Бо. Харбин, 2002.
[Хэ Няньлун-2002]: Хэ Няньлун. Исторический первообраз Ли Бо // Цзянхань дасюэ сюэбао (жэньвэнь шэхуэй кэсюэ бань). 2002. № 1 С. 11–16.
[Цзян Чжи-1995]: Цзян Чжи. Еще раз о рождении Ли Бо в Цзянъю в Сычуани // Мяньян шичжуань сюэбао (чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань). 1995. № 9. С. 38–41,55.
[Цзян Чжи-2001]: Цзян Чжи. Ли Бо в Шу. Исследования. Мяньян, 2001. [Цяо Цзячжун-1976]: Цяо Цзячжун. Рассуждения о Ли Бо. Цзинань, 1976.
[Чжоу Сюньчу-1996]: Чжоу Сюньчу. Загадки «поэта горних высей» Ли Бо. Тайбэй, 1996.
[Чжоу Сюньчу-2005]: Чжоу Сюньчу. Ли Бо: биография; исследования. Нанкин, 2005.
[Чжу Чуаньчжун-2003]: Чжу Чуаньчжун. Под сенью стихов Ли Бо. Ухань, 2003.
[Чэнь Вэньхуа-2004]: Чэнь Вэньхуа. Ли Тайбо: стихи и вино. Пекин, 2004.
[Юй Сяньхао-1982]: Юй Сяньхао. Ли Бо. Исследования. Сиань, 1982.
[Юй Сяньхао-1995]: Юй Сяньхао (ред.). Большой словарь Ли Бо. Наньнин, 1995.
[Ян И-2000]: Ян И. Ли Бо и Ду Фу. Поэтика. Пекин, 2000.
[Ян Сюйшэн-2000]: Ян Сюйшэн. Дополнения к исследованиям жизни Ли Бо. Чэнду, 2000.
Примечания
1
Источники ссылок указаны по кодовой системе; полностью библиографические данные приведены в конце книги.
(обратно)2
Для отечественной синологии привычнее написание «даосское», однако, по моему мнению, корнем тут должно быть понятие «Дао», а не обозначение его адепта-даоса, и потому это прилагательное следует писать с одним «с», а название самого учения — без «с» (даоизм, то есть «учение о Дао», а не «учение даосов»).
(обратно)3
Родовое имя великого философа, более известного как Лао-цзы.
(обратно)4
Хорезм.
(обратно)5
Поднебесная (Тянься): в узком смысле собственно Китай, в широком — весь мир.
(обратно)6
Другие названия — Тайбо, Чангэн, Цимин; сегодня мы зовем ее Венерой.
(обратно)7
В современном языке это слово произносится «бай», поэтому сегодня в Китае имя поэта звучит как Ли Бай.
(обратно)8
Цзюань — бумажный свиток с текстом или картиной, единица измерения объема книг в древнем и средневековом Китае.
(обратно)9
Помощник губернатора.
(обратно)10
Так в древней китайской географии именовали земли западнее пустынь Синьцзяна.
(обратно)11
По договору о границе эти места в 1864 году отошли к России; сейчас там, на берегах реки Чу, расположен Токмок, один из городов Республики Кыргызстан. Руины Ак-Бешим примерно в десяти километрах от Токмока — это и есть место, где находился Суяб.
(обратно)12
В книге [Три-1960. С. 129–130] название стихотворения переведено неточно — «Бой южнее Великой стены».
(обратно)13
В традиционной китайской историографии хронология формировалась из названий правящих династий и девизов правления (няньхао), провозглашавшихся каждым императором при восхождении на престол и в связи с важными событиями в стране.
(обратно)14
Цзян Чжи — профессор Юго-западного педуниверситета, родился в Цзянъю, то есть он земляк Ли Бо и даже учился в школе у подножия тех самых Куаншаньских гор, где 1300 лет назад в монастыре Даминсы «погружался в Дао» его великий «односельчанин».
(обратно)15
В основном аргументация базируется на такой «логической» связи: область Мяньчжоу при Танах была производителем и экспортером золота и железа, на чем и мог разбогатеть отец Ли Бо.
(обратно)16
Известен случай, когда после долгого пребывания в столице, где он был высоким вельможей, Хэ Чжичжан вернулся домой на склоны Гуйцзи, и сын, смеясь, назвал его кэ, то есть это не обязательно «чужак», хотя и это звучание слышно в слове.
(обратно)17
Специальное обозначение слуги, состоящего при «книжнике», ученом.
(обратно)18
Здесь и далее цитаты из Ли Бо даны в переводе автора книги.
(обратно)19
«Шицзин». В отечественной литературе более распространен перевод «Книга песен». Это действительно было собрание народных песен, но канонизированных Конфуцием как образец для поэзии.
(обратно)20
Ямэнь — присутственное место, учреждение.
(обратно)21
Современники писали о Ли Бо как о высоком человеке, но подобная цифра (1 чи = 30 см) превращает его в некое подобие великана, возвышающегося над среднестатистической массой соплеменников. Такой рост поэта упоминается лишь в легендах и историческими источниками не подтверждается.
(обратно)22
Старинное название звезды Вега. В китайской мифологии Ткачиха (Чжинюй), разлученная со своим возлюбленным Пастухом (Нюлан), встречается с ним лишь раз в году на Небесном мосту, который сооружают сороки.
(обратно)23
Древние захоронения к югу от горы Тайшань. Впоследствии это слово стало образным обозначением процесса погребения или могилы.
(обратно)24
Каноническая фигура конфуцианского пантеона.
(обратно)25
Образ карьерного возвышения или жизненного успеха.
(обратно)26
Достоверной хронологии его жизни нет, предполагается, что он родился в 680-х годах и умер после мятежа Ань Лушаня, в 760-х годах.
(обратно)27
В числе реликвий этих краев сохранилась «скальная пещера Чжао Жуя» около буддийского монастыря Циньцюань, где уже в годы поздней Тан была поставлена мемориальная стела, не сохранившая надписей. Возможно, это надгробие Чжао Жуя.
(обратно)28
Та часть древнего учения, которая нашла свое выражение в идеях Чжао Жуя, наставника Ли Бо, может быть названа «протестной».
(обратно)29
Это было первое соединение имени поэта с величественным мифологическим персонажем, в тот момент юношей еще глубоко не осознанное.
(обратно)30
Свой музыкальный инструмент поэт именует почтительно гу цинь (букв. «древний цинь»), такие семиструнные инструменты, сделанные из хорошо высушенной древесины платана, упоминались уже в древних чжоуских гимнах.
(обратно)31
Персонажи древних историй о людях на чужбине, вспоминающих родные края.
(обратно)32
Гусь в классической поэзии — образ вестника, символ письма.
(обратно)33
Название территории к югу от реки Хуайхэ в районе города Янчжоу, севернее Нанкина.
(обратно)34
Это стихотворение переведено автором в содружестве с профессором Пекинского педагогического университета Ся Чжии.
(обратно)35
У нас принято не совсем адекватно переводить этот термин как «оды».
(обратно)36
Перевод А. Е. Лукьянова.
(обратно)37
Почтительное обращение к помощнику начальника уезда.
(обратно)38
В хрониках Воюющих царств есть сюжет о некоем бедном рыцаре Фэн Сюане, который за неимением музыкального инструмента аккомпанировал себе ударами по лезвию меча и пел о своей бедности, надеясь на милосердие сюзерена.
(обратно)39
Жизненные вехи Ли Бо созвучны установленным Конфуцием рубежам: «В 15 лет я устремился к учебе; в 30 лет стал самостоятельным; в 40 лет освободился от сомнений; в 50 лет познал веления Неба; в 60 лет стал правду различать на слух; в 70 лет следую желаниям сердца и не нарушаю правил» («Луньюй», гл. 2, 4 — цит. по: Лукьянов-2000. С. 287). Тридцатилетним он устремился на государеву службу (добившись ее, правда, лишь после сорока), в сорок разочаровался в идеалах; в пятьдесят с небольшим совершил опасно-авантюрную поездку в стан Ань Лушаня в попытке спасти страну; после шестидесяти его слух обострился к истине, но дожить до последнего рубежа ему не было дано.
(обратно)40
В англоязычных переводах это китайское мифологическое создание заменяют мифологическим же, но арабским «Roc», то есть «Рух» [Valley-1950. С. 7].
(обратно)41
Перевод В. В. Малявина.
(обратно)42
Целиком ода напечатана в книге [Чуский-2008].
(обратно)43
Радуга.
(обратно)44
Млечный Путь.
(обратно)45
Имеется в виду философское понятие «наполненной пустоты», в которую заключен целый мир; нечто вроде «нулевого состояния» в классической квантовой механике.
(обратно)46
В «Новой книге [о династии Тан]» отмечалось, что в период Кайюань (первая половина 700-х годов) «в поисках службы по стране бродило тысячи две людей, а получали служивые должности лишь десятки».
(обратно)47
Мера объема, около 100 литров.
(обратно)48
Перевод В. М. Алексеева. Возможно, тот оригинал, с которого академик делал свой перевод «В весеннюю ночь пируем в саду, где персик и слива цветут», имел чуть иное название, но в сегодняшних собраниях произведений Ли Бо нет слова «сливы» и, наоборот, стоит слово «братья».
(обратно)49
Поэт использовал тот же глагол, каким обозначается вызов к императору.
(обратно)50
Традиционная формула, в древности характеризовавшая очарование знаменитой императорской наложницы Сиши, а позже закрепившаяся в поэзии как образ женской красоты.
(обратно)51
В прежних переводах ([Три-1960], где помещены три стихотворения (№ 7, 10, 11) из этого цикла) адресат в названии цикла сформулирован неясно («О тех, кто далеко»).
(обратно)52
Еще один намек на Западный край, откуда был родом Ли Бо: считалось, что попугаи из внутренних земель Китая улетели на его западные окраины.
(обратно)53
Это можно воспринимать просто как указание на западное направление, где находилось Аньлу, но можно в этом увидеть и конкретный намек на озеро Дунтин в тех же местах.
(обратно)54
По версии Го Можо, они были погодки — Пинъян родилась в конце 727 года или начале следующего, а Боцинь — к концу 728 года. Это наиболее распространенная версия. Другие исследователи без особых оснований сдвигают рождение детей на десятилетие вперед — 737 год и 739 год.
(обратно)55
Родившись среди тюрок, Ли Бо больше обычного любил музыку, пение, танец.
(обратно)56
Первый слог «Бо» только в русской транскрипции созвучен имени отца, в оригинале же это — разные иероглифы.
(обратно)57
Поэтому потомки Конфуция, вплоть до нынешнего, семьдесят седьмого, колена, не едят карпа.
(обратно)58
У этой версии нет широкой поддержки среди китайских исследователей, но в ряде работ имя Минъюэ Ну однозначно и безапелляционно относят к дочери.
(обратно)59
Он добавляет, что не все восхищались великим поэтом. Так, крупный ученый эпохи Мин Ли Жихуа характеризовал его весьма брезгливо: «Ли Бо всю жизнь писал стихи, любил слова, вино и женщин и еще любил болтать о святых и духах, а больше всего не терпел мирской обыденности».
(обратно)60
Другие авторы полагают, что и с тем, и с другой поэт познакомился еще в Шу.
(обратно)61
Факт первого, еще до официального вызова, посещения столицы стал предметом дискуссий, и один из наиболее веских аргументов в пользу его реальности был найден в стихах Ли Бо: в разных произведениях он пишет в одном случае о том, что уезжал из Чанъаня по воде, в другом — по суше, что рассматривается как подтверждение двукратного, по крайней мере, приезда в столицу.
(обратно)62
Существует вызывающая горячие дискуссии версия о том, что, покинув Чанъань и поднявшись на гору Тайбо, поэт на два года уехал в родное Шу. Психологически всё это стыкуется: разочарование в столице, желание «залечить раны» на тотемной вершине, ностальгия по отчему краю.
(обратно)63
В те годы при дворе были широко распространены петушиные бои, и вельмож, в угоду императору устраивавших их, именовали «петушиными парнями».
(обратно)64
Феникс (фэн) — здесь мифическая птица, которую Желтый Владыка Хуан-ди послал к Вэнь-вану с повелением основать новую династию на смену неправедной Инь. Далее идет перенос смысла на Ли Бо, чей призыв к государю был отвергнут (древние столицы Чжоу и Цинь находились в районе современного Ли Бо Чанъаня).
(обратно)65
Волшебный экипаж, на котором человек, приняв эликсир бессмертия, покидает мир.
(обратно)66
Их цзининские оппоненты в ужасе цитируют поэтов более позднего, цинского времени, описывавших Шацю как квартал публичных домов, получивший свое название от захоронения в этом месте одной из здешних девиц, и риторически вопрошают: мог ли поэт поселить семью рядом с публичными домами, растить там детей? И как такое непотребство терпел народ Яньчжоу?!
(обратно)67
Эту версию подвергает сомнению Чжоу Сюньчу в солидном исследовании [Чжоу Сюньчу-2005. С. 94].
(обратно)68
Описание Чанъаня основано на материалах из книги [Стужина-1979].
(обратно)69
Датировка этого стихотворения вызывает споры у исследователей. Некоторые считают, что это произведение еще юношеского периода, другие возражают — столь художественно мощное творение явно выходит за рамки юношеской незрелости, о чем в 720 году в Чэнду упоминал Су Тин. Есть предположение, что написано оно не только по воспоминаниям о родном крае, но и по впечатлениям от поразившего поэта своей мощью и величием водопада на горе Лушань.
(обратно)70
Сокращенный вариант перевода новеллы см. в Книге-2002, а полный — в Удивительные-1954.
(обратно)71
Туфани — это тибетцы, чей язык коренным образом отличается от тюркского, так что Ли Бо вряд ли мог его знать. Есть версия, что на самом деле это были послы из небольшого государства Тухара в Средней Азии неподалеку от реки Амударья, то есть в том самом «Западном крае», где родился Ли Бо, что и объясняет его знакомство с их наречием.
(обратно)72
Принадлежность этого цикла Ли Бо вызывает сомнение исследователей, но в Полное собрание [Ли Бо-2000] он включен.
(обратно)73
У некоторых исследователей проскальзывают намеки на будто бы существовавшую тайную интимную связь дерзкого «варвара» с красавицей Ян, что достаточно сомнительно, учитывая прозрачность дворцовой жизни и несметное количество доносителей, жаждущих извлечь выгоду из очернения других. Тем не менее у самого Ли Бо есть стихотворение «Притча», переполненное глубоко скрытыми намеками на «зеленый тополь» и «морскую ласточку» (а «ласточка» — это то самое слово янь, каким впоследствии Ань Лушань обозначил свою новопровозглашенную династию), которые «парочкой влетают под полог» и мечтают «улететь в город Ляо» — образование из двух областей, Ивовой и Умиротворенной (последнее название записывается тем же самым иероглифом ань, что стоит в родовом знаке будущего мятежника). Так что в намеках Бай Хуа, видимо, доля правды все же есть.
(обратно)74
До Сюаньцзуна красотой наложницы считалось изящество вплоть до худобы, а этот сластолюбец предпочитал женщин более весомой комплекции, потому и сменил хрупкую Мэйфэй на пышнотелую Ян Гуйфэй, о которой ее соперница за спиной злобно шипела: «Жирная служанка!»
(обратно)75
Состав этой «восьмерки» перечислен полностью только у Ду Фу в шутливом стихотворении; в летописных источниках называют Хэ Чжичжана и еще одно-два имени.
(обратно)76
В связи с этим, возможно, неправомочным является титулование Ли Бо в ряде посмертных надписей на стелах как «ученого академика Ханьлиня» — здесь лишним оказывается слово «ученый».
(обратно)77
Название близкой Ли Бо древней столицы царства Чу; здесь это метоним танского Чанъаня.
(обратно)78
«Четырьмя просветлениями» называлась гора у города Нинбо в провинции Чжэцзян, рядом с горой Тяньтай. На ее вершине стоял большой четырехугольный камень с отверстиями наподобие окон, через которые проникал свет солнца и луны; в этих краях жил Хэ Чжичжан до своего возвышения и на эту гору удалился отшельником, покинув двор.
(обратно)79
Авторы научных биографий Ли Бо склоняются к мысли, что эта первая встреча произошла не в горах, а в городе — либо в Восточной столице Лоян, куда Ли Бо направился из Чанъаня, либо в Бяньчжоу (недалеко от современного Кайфэна), куда Ду Фу приехал на похороны матери. После этого они направились в Шимэнь (Каменные врата) в Яньчжоу. Есть предположение, что именно в этом городе, но значительно раньше, и произошло знакомство великих поэтов — в Яньчжоу крупным чиновником служил отец Ду Фу, сын навестил его, а Ли Бо, по одной из версий, в 736–737 годах перевез семью в Яньчжоу, и они гуляли вдоль Сыхэ в розовых облаках персиковых деревьев по берегам.
(обратно)80
Добавлен кусок, не вошедший в опубликованный [Книга-2002] сокращенный вариант сценария.
(обратно)81
Мемориальные парки Ду Фу в городах Чэнду и Саньтай называются «Соломенная хижина Ду Фу».
(обратно)82
Цзинь — мера веса, примерно 0,5 килограмма.
(обратно)83
В это время дочери было уже за 20 лет, а сыну либо около того (по версии Го Можо), либо лет 14–15, так что домашние уроки, да еще с палкой, представляются маловероятными.
(обратно)84
Поэт Бао Чжао в этих местах написал сестре «Письмо с Громового берега».
(обратно)85
Рыба (обычно карп) — символ письма, поскольку письма вкладывались в пакеты, очертанием напоминающие рыбу. С определением «пятицветный» в традиции выступают императорское приглашение на аудиенцию, а также священный дракон; здесь это подчеркивает трепетное отношение к письмам жены.
(обратно)86
Юйчжан расположен на территории, в древности занятой царством Чу.
(обратно)87
Янь Цзюньпин — гадатель из Чэнду периода династии Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.); среди людей он обрел известность точными предсказаниями и мудрыми советами, но был отвергнут двором и, став отшельником, погрузился в даоские каноны, уединясь в пустой хижине.
(обратно)88
Ароматное облако, дождь цветов: буддийские термины благой вести, в данном случае — вознесения монахов на «три Неба».
(обратно)89
А почему бы и нет? Ведь нам известна только десятая часть написанного поэтом.
(обратно)90
Кусок, не вошедший в опубликованный [Книга-2002] сокращенный вариант сценария.
(обратно)91
Добавлен кусок, не вошедший в опубликованный [Книга-2002] сокращенный вариант сценария.
(обратно)92
Сириус.
(обратно)93
«„Опасна, князь мой, переправа!“ / Но он не слушал и поплыл. / Он утонул в реке глубокой — / И в вечной скорби я живу» ([Юэфу-1959. С. 9]. Пер. Б. Вахтина).
(обратно)94
Здесь это, в отличие от первой строки, не гора, а сорт бамбука.
(обратно)95
В изданном в 2000 году под редакцией профессора Ань Ци Полном собрании сочинений Ли Бо, как и в «Большом словаре Ли Бо» (С. 180), это стихотворение отнесено к 745 году, однако поэт в 744 году покинул Чанъань, и через четыре года в «Неканонической биографии» Ань Ци изменила датировку. Версия о посещении Чанъаня в 753 году была выдвинута в начале 1960-х годов и реанимирована через двадцать лет в статье Ли Цунцзюня, однако до сих пор остается предметом дискуссий. Гэ Цзинчунь в своем документально-художественном варианте биографии Ли Бо придерживается такой версии: поэт решил ехать в Чанъань, но по дороге встретился в Лояне с градоначальником Восточной столицы Вэем, который не посоветовал ему ехать в Западную столицу и пообещал доложить императору о соображениях Ли Бо.
(обратно)96
Другие исследователи локализуют этот топоним в окрестностях Яньчжоу, не утруждая себя иной аргументацией, кроме «автор считает».
(обратно)97
Древний философ и поэт Ян Сюн здесь выступает как метоним самого Ли Бо и других истинных талантов.
(обратно)98
В этих краях растет «пятнистый бамбук», раскраску которого легенда связала с трагической историей этих царских дев. Небезынтересно упомянуть трактовку этого стихотворения профессором Ань Ци, которая считает, что в образе двух опечаленных женщин скрывается намек на судьбу Ли Бо и Ду Фу, жаждавших быть мудрыми советниками государя, но «навеки разлученных» с имперским двором происками «крыс» (Ли Линьфу и прочих). — [Ань Ци-2004. С. 179–180].
(обратно)99
Участок Млечного Пути, но здесь это — название моста над рекой До в юго-западной части Лояна напротив императорского дворца.
(обратно)100
Вид уток, именуемых «неразлучницами», в поэзии обычно употребляется в том же смысле, что русское «голубок и горлица»; здесь это образ и любовных утех, и богатства усадьбы.
(обратно)101
История Ли Сы, мелкого чиновника княжества Чу, который стал видным вельможей, но потом был брошен в тюрьму, а перед казнью мечтательно сказал сыну: «Хотел бы я сейчас с желтым псом поохотиться на зайцев».
(обратно)102
Красавица-гетера цзиньского Ши Чуна (III век) по имени Люй Чжу (Зеленая Жемчужина), которую безуспешно домогался влиятельный вельможа. Оклеветав Ши Чуна, он бросил его в тюрьму и казнил, но Люй Чжу, чтобы не достаться соблазнителю, покончила с собой, выбросившись из окна.
(обратно)103
Видный сановник княжества Юэ по имени Фань Ли покинул своего государя, когда счел его действия постыдными; он расплел чиновную прическу, сменил имя на Чи Ицзы (Чи-Бурдюк) и уплыл на утлом челне из столицы.
(обратно)104
Предположительно, необыкновенно разодетые некие известные поэту жители Сюаньчэна.
(обратно)105
Живописные свитки с каллиграфической стихотворной надписью на стене.
(обратно)106
Намек на избранничество Хуэй-гуна, достойного стать святым, за которым прилетит Желтый журавль, как за легендарным Доу Цзымином.
(обратно)107
Гора к юго-западу от города Сюаньчэн.
(обратно)108
По легенде, на мифическом острове-горе Пэнлай хранились тайные тексты даосов. В годы династии Восточная Хань (25–220) дворцовую библиотеку называли Хранилищем Лао-цзы, или Пэнлайской горой даосов.
(обратно)109
Ли Хуа, известный литератор, работал в императорском Библиотечном приказе сверщиком рукописных текстов.
(обратно)110
Образ чистого, тонкого звучания, сформированный в древнем трактате «Шань хай цзин» и развитый философом Ле-цзы.
(обратно)111
Платан.
(обратно)112
Ученый монах периода Цзинь, известный своими глубокими комментариями к буддийским текстам.
(обратно)113
Философское противопоставление «бытия» и «небытия».
(обратно)114
Образ из древней оды «Сун Юй отвечает чускому князю на вопрос».
(обратно)115
Это слово входило в названия многих танских вин.
(обратно)116
1 чи = 30 сантиметрам.
(обратно)117
По легенде, чжоуский У-ван во сне увидел фею Восточного моря, которую выдали замуж за духа Западного моря, и она с плачем направлялась на запад, а за ней летели сильный ветер, волны и ливень, после чего эти явления стали связывать с появлением феи.
(обратно)118
Две горы напротив друг друга на противоположных берегах Янцзы в районе города Данту, сжимающие поток.
(обратно)119
Встречающееся в стихах Ли Бо традиционное выражение, означающее радушный прием гостя, берет начало из истории высокого чиновника периода династии Хань, который жил уединенно, редко принимал гостей и лишь иногда вставал с лежанки, чтобы принять особо дорогого гостя.
(обратно)120
Хуэйлянь — младший брат поэта Се Линъюня. Здесь это метоним Ли Чуня, адресата стихотворения.
(обратно)121
Среди пяти братьев семьи Ма в царстве Шу времен Троецарствия своими талантами выделялся Ма Лян, прозванный Белобровым за светлые брови.
(обратно)122
У Се Линъюня есть посвященное брату Хуэйляню стихотворение «Поднимаюсь на мост у моря…», а в древнем классическом сборнике «Вэнь сюань» помещено стихотворение Ли Лина, посвященное Су У, со строкой о мосте через реку.
(обратно)123
Ли Минхуа.
(обратно)124
Яшмовая палата: церемониальный зал с таким названием существовал при Ханьской династии, здесь это метоним императорской академии Ханьлинь, о которой в то время еще мечтал Ли Бо.
(обратно)125
Надо заметить, что среди множества «духов», населявших окружающий китайца мир («духи гор», «духи рек», «духи цветов» и т. д.), нет исконно национального «духа вина». Первый «производитель вина» Ду Кан периода Восточной Чжоу (VIII–III века до н. э.) был исторической (или мифологической) личностью, но не «духом», хотя в его честь было построено несколько храмов.
(обратно)126
Доу — мера емкости, равная 10,35 литра; в художественных текстах обозначает просто черпак вина.
(обратно)127
В ряде исследований он значится начальником уезда Цзин.
(обратно)128
Шестнадцатый сын Сюаньцзуна, человек высокого роста, свирепой наружности, с косым взглядом и необузданным характером. Родился в 710-х годах, в 726 году пожалован титулом Юн-ван. Его мать умерла рано, и фактическим воспитателем Ли Линя был его старший брат Ли Хэн. Резиденция Юн-вана находилась в Цзинчжоу, на землях древнего царства Чу («дворец чуского вана», как писал Ли Бо в стихах).
(обратно)129
Дракон — символ императорской власти, а Юн-ван рассматривался как исполнитель государевой воли.
(обратно)130
То есть по всей стране.
(обратно)131
Ланчжун — высокий чиновник внутренней охраны императорского дворца.
(обратно)132
Это стихотворение датируют по-разному — тюремным периодом или же 736 годом. В первом случае неясны слова о «прощании в Цзянся», во втором же своим пронзительным прозрением поражают процитированные строки.
(обратно)133
Исторические анналы не сохранили имен как первой, так и второй жен Ли Бо, однако в художественных целях писатели произвольно домысливают их.
(обратно)134
Стихотворение «Прощаясь [с Шу], плыву за Чуские врата», написанное в 725 году.
(обратно)135
Названы разновременные события, происходившие с поэтом еще до встречи с будущей женой.
(обратно)136
Цюй Пин — второе имя поэта Цюй Юаня.
(обратно)137
В качестве некоего социопсихологического курьеза можно привести мнение некоего исследователя о том, что данное стихотворение показывает, как поэт радеет о благе народа, призывая сровнять холм: распахав тут поле, можно увеличить пахотную площадь. Другой же считает, что пьяный поэт зарвался настолько, что мечтает о дармовой выпивке.
(обратно)138
Существует версия, что, узнав о реабилитации Юн-вана, Ли Бо сам подал прошение о получении должности при дворе и успел узнать об императорском указе. Об этом упоминал уже танский автор надписи на каменной стеле Лю Цюаньбо.
(обратно)139
Девятый день девятой луны — осенний праздник.
(обратно)140
В течение длительного периода смерть Ли Бо датировалась концом 762 года. В последнее время появились новые интерпретации старых материалов и предложена совершенно иная хронология жизни Ли Бо, не получившая, однако, широкой поддержки (705–766 годы). Версия сианьского профессора Янь Ци, который в 1990 году на основании контент-анализа последних стихотворений Ли Бо в сопоставлении с материалами старых хроник датировал смерть Ли Бо зимой 763 года, нашла авторитетных сторонников, введена в «Полное собрание сочинений в хронологической последовательности с комментариями» под редакцией профессора Ань Ци и в «Большой словарь Ли Бо» и на сегодняшний день может рассматриваться как наиболее достоверная.
(обратно)141
Поэт VII века, односельчанин Ли Бо.
(обратно)142
Около литра.
(обратно)143
Поэт Тао Юаньмин.
(обратно)144
По одной из легенд, это было расшитое парчой одеяние высокого придворного вельможи.
(обратно)145
Лян Сэнь — доцент факультета китайской литературы Центрального университета национальных меньшинств, Пекин; член секретариата Китайского общества изучения Ли Бо. Статья написана специально для этой книги.
(обратно)146
В древности отшельники, жившие в императорском городе, именовались «большими отшельниками», в горных лесах — «малыми отшельниками». (Прим. авт. статьи).
(обратно)147
Мера объема; 1 дань = 100 литрам.
(обратно)148
Сохранилась лишь малая часть из написанного Ли Бо. Кроме того, хотя его стихи откровенно «дневниковы», но поэт все-таки не хронист и рифмует далеко не каждое событие своей жизни, на что могут быть самые разные причины. (Прим. пер.).
(обратно)
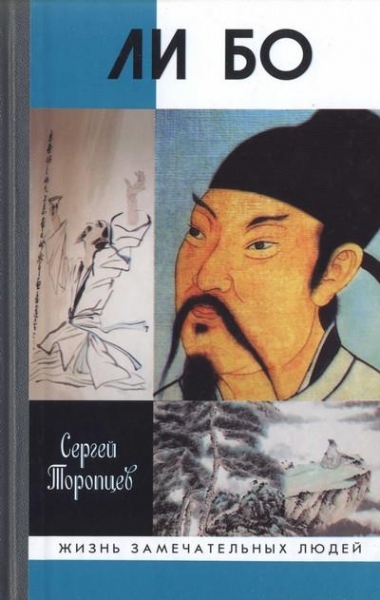



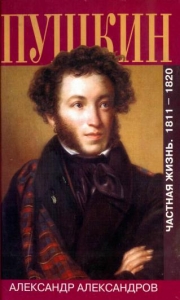
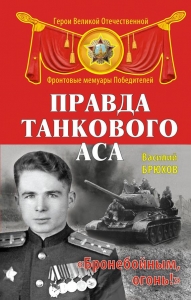
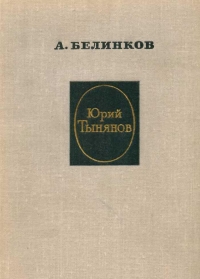


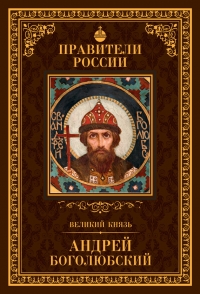
Комментарии к книге «Ли Бо: Земная судьба Небожителя », Сергей Аркадьевич Торопцев
Всего 0 комментариев