Александр Стесин Вернись и возьми
© Стесин А., 2013
© Оформление. «Новое литературное обозрение», 2013
Вернись и возьми
Obosomakotere nam brebre
Obeko aburokyire[1].
Из текстов «Говорящего барабана»Часть I. Бриджпорт
1.
«Чужестранец подобен ребенку: все замечает и мало что понимает», — гласит африканская пословица. Весь первый месяц я работал в дневную смену, понемногу приглядываясь и привыкая к новой жизни. Благотворительный госпиталь Сент-Винсент, находившийся среди развалин и трущоб городского гетто, выглядел на удивление ухоженным. В просторном вестибюле стояло механическое пианино, которое одаривало дневных посетителей ностальгическим попурри. В больничном ларьке продавались открытки и плюшевые игрушки — на случай, если кто пришел навестить больного с пустыми руками. На втором этаже располагались конференц-зал и небольшая библиотека. По утрам из репродуктора доносился умиротворяющий голос штатного священника. Голос обращался к пациентам и работникам госпиталя, наставляя их проповедью или вдохновляя молитвой. Сам священник, оказавшийся долговязым человеком с волосами, глазами и кожей одного и того же пепельного оттенка, в белом халате поверх рясы, появлялся, точно по мановению волшебной палочки, всякий раз, когда дело доходило до сердечно-легочной реанимации. Раз за разом, приступая к грудным компрессиям под писк мониторов и перепалку медсестер, я видел его осанистую фигуру, ждущую в дверях палаты с готовностью в любую минуту прочитать молитву за упокой. «И вы здесь, отец Дэн?» — «Да вот пришел подстраховать…»
Полгода назад я подал документы в одну из международных организаций, занимающихся медицинской благотворительностью, получил назначение в Гану, но в последний момент поездка сорвалась. И вот теперь, подписав годичный контракт с католическим госпиталем, обслуживающим городок под названием Бриджпорт в ста милях от Нью-Йорка, неожиданно оказался в той самой Гане.
О том, что это Гана, я узнал на собеседовании с возглавлявшей приемную комиссию Викторией Апалоо. Выслушав мое старательное бормотание о «Врачах без границ», о давнем увлечении культурой ашанти и еще бог знает о чем, Апалоо одобрительно кивнула. «Можешь считать, что тебе повезло. У нас в больнице работает много врачей из Африки, причем большинство — как раз из Ганы. Тут, можно сказать, центр ганской диаспоры, я другого такого места в Америке и не знаю. Так что у тебя будет возможность подготовиться: выучить язык и вообще… А через год, если захочешь, мы тебе и без Красного Креста запросто подыщем работу в Аккре или в Кумаси».
Ганцы составляли примерно половину ординаторского коллектива. Вторая половина делилась на африканских соседей (Нигерия, Гамбия, Камерун), представителей индийского субконтинента и остальных. Доктор Виктория Апалоо, дочь верховного судьи Республики Гана, заведовала ординаторской программой, а ее муж, Кофи Аппия Пэппим, — отделением реаниматологии и интенсивной терапии. Они и организовали здесь «ганский филиал», несмотря на приглушенные протесты старорежимных коллег, через не могу усвоивших азы политкорректности. По слухам, один из потесненных зубров все же не удержался и за несколько дней до ухода на пенсию выразил свои мысли на закрытом собрании: «С тех пор как эти двое захватили власть, наша ординатура год от года становится все чернее и чернее».
Пэппим славился фотографической памятью и невероятной способностью производить любые арифметические подсчеты в уме со скоростью калькулятора. Раз в неделю он проводил семинары по реаниматологии. Его лекции, которые посещали и конспектировали даже седовласые светила, были отшлифованы не хуже, чем текст из учебника. При этом было известно, что Пэппим никогда не готовится заранее и не повторяет одну и ту же лекцию дважды. Единственным, что повторялось из раза в раз, было короткое лирическое отступление, история под занавес о человеке, некогда преподававшем Пэппиму реаниматологию в Гане. «Этот человек любил делать трехчасовые доклады, — рассказывал Пэппим, — и, переходя к следующему пункту, всегда говорил ну, и в заключение…, и все вздыхали с облегчением, пока наконец не поняли, что и в заключение у него — просто вводная фраза… Итак, в заключение…»
В местной ганской общине Пэппима любили единогласно и столь же единогласно жалели о том, что он выбрал в жены представительницу племени эвэ. Говорили, что женщины эвэ известны своей авторитарностью, так что Пэппиму волей-неволей приходится подчиняться Апалоо — как дома, так и в больнице. Сам он принадлежал к племени ашанти и, как многие ашанти, обладал благородной внешностью. Его вполне можно было бы представить в роли вождя или честного политика на обложке журнала «Тайм» («Человек года»). Да и пестуемый им образ африканского мужа (в обоих значениях слова) был под стать: приветливость и мягкость в обращении, сочетающаяся с внутренней жесткостью, консервативность взглядов, абсолютная серьезность отношения к семье и работе, точное знание, как надо и как не надо.
На фоне отпугивающей безупречности мужа импульсивная и суетливая Апалоо вызывала скорее симпатию. Даже в ее так называемой авторитарности было что-то располагающее. В больнице она имела власть, но популярностью не пользовалась, о чем и сама говорила во всеуслышание. Вообще говорила все, что думает, — часто на повышенных тонах. Мне нравился ее африканский акцент, гласные, растягиваемые таким образом, что кажется, человек всегда говорит с улыбкой, даже когда ругается. Замечательные фонетические ошибки — почти что оговорки по Фрейду: в словосочетании antisecretory medications[2] вместо antisecretory звучало anti-secretary[3], а слово therapist[4] она произносила так, что слышалось the rapist[5].
Во время утренних пятиминуток Пэппим слушал отчеты ординаторов, одновременно читая новости с веб-сайта «Гана-ньюз». Казалось, он вообще не слушает, но стоило ординатору ляпнуть что-нибудь не то, как Пэппим тут же начинал отчаянно мотать головой: «Все неправильно, все неправильно. Разве это респираторный алкалоз? Перепроверь, пожалуйста, по формуле Винтерса». Под его руководством в отделении реаниматологии не допускалось ошибок, не было сбоев. Даже Смерть работала по строгому расписанию, дожидаясь ночной смены, когда рядом не окажется никого, кроме дежурного ординатора и вездесущего отца Дэна.
К.М., 53 года. Кардиомиопатия и застойная сердечная недостаточность, болезненное ожирение и диабет, гипертензия воротной вены, почечная болезнь в последней стадии… Перечень его диагнозов тянется, как железнодорожный состав, чьи вагоны невозможно пересчитать, не сбившись со счету. В больницу он попадает не реже чем раз в три недели. Лучшее, что мы можем предложить ему, — это паллиативная помощь. Одышливый и отечный, он лежит на животе и, вскинув брови, доверчиво смотрит на интерна. Миссис М., не менее отечная и одышливая, сидит у изголовья, сосредоточенно поглощая журнальные сплетни. «На что жалуетесь?» Приподнявшись на локтях, М. со знанием дела просит повысить ему дозу мочегонного и выписать справку — «для работы». Глядя на него, невозможно поверить, что он в состоянии справляться с какой бы то ни было работой. «А кем вы работаете?» — «Охранником».
Молодые врачи в Сент-Винсенте, как и везде, спешили на работу ни свет ни заря в отутюженных белых халатах, вкалывали по восемьдесят часов в неделю, набрасывались на залежавшуюся бесплатную пиццу, заводили романы с медсестрами, поносили начальство и пациентов, варились в собственном соку. Пожилые врачи ходили без халатов, отечески похлопывали по плечу молодых, никогда не помня, как их зовут, внушали доверие пациентам, гоняли накатанный репертуар прибауток и любимых случаев из практики, неусыпно следили за новостями биржи, отставали от времени. Пациенты, в большинстве своем не имевшие медицинских страховок и потому поступавшие с обострениями уже давно перешедших в хроническую стадию заболеваний, задерживались и возвращались, привыкали к постельному режиму и больничной пище, готовились к худшему и, выходя на непродолжительные прогулки в сопровождении сиделок, с рассеянным удивлением оглядывались на механическое пианино.
«В общем, Сент-Винсент — неплохое местечко, только сегрегации многовато», — резюмировал нигериец Энтони Оникепе. Худощавый парень с близоруким прищуром и аккуратной козлиной бородкой, он почему-то напоминал мне молодого Чехова с хрестоматийных фотографий (если Чехова представить нигерийцем). Даже круглые очки, которые он то и дело прикладывал к переносице не надевая, походили на чеховское пенсне. А может быть, он просто ассоциировался у меня с Чеховым из-за своего имени: Энтони Пол. Во всяком случае, пьес он, кажется, не писал и о русском тезке знал так же мало, как я о его любимом Сиприане Эквенси.
К моменту нашего знакомства Оникепе отбывал второй год «ординаторской повинности». Он стал моим первым напарником, когда после месяца легкой жизни меня перевели на ночную смену. До этого мы встречались несколько раз на консилиумах, но толком не познакомились. Говорили, что на государственном лицензионном экзамене он набрал какое-то неслыханное количество очков и получил поздравительное письмо чуть ли не от самого министра здравоохранения.
— Босс! — поприветствовал он меня в начале нашего первого дежурства.
— Кто?
— Ты, кто же еще. Ты — босс, ты уже третью неделю тут дежуришь, а я только заступаю.
— Да, но до этого я дежурил в дневную, под присмотром Пэппима. Это не то же самое.
— Не переживай, босс, все будет нормально.
Мы расположились в ординаторской.
— Так ты, я слышал, собираешься в Гану. Но ведь ты же из России. Зачем тебе Гана? Если уж приспичило куда-то ехать, то почему бы не в ту же Восточную Европу?
— Нельзя все время смотреть в одном направлении — шея одеревенеет.
— О, ты уже и поговорками начал говорить. Совсем как африканец. Слушай, а в России люди ходят с оружием или без?
— Да вроде без. Как-никак в мирное время живем.
— А-а, — протянул он с явным разочарованием и открыл ноутбук.
— То есть кто как, наверное… Хулиганов везде хватает.
— Это уж точно, — он разом оживился и отвел глаза от ноутбука. — У нас в Нигерии такое бывает, что этим неженкам-американцам и не снилось.
— Могу себе представить, — я снова попал не в ту тональность. Взгляд моего собеседника уже скользил по экрану ноутбука. — Вернее, нет, не могу, конечно, представить себе, как у вас там, в Нигерии. Неужели прямо так с оружием все и ходят? И стреляют? Среди бела дня?
Ноутбук захлопнулся.
— В общем, слушай. Еду я как-то домой с работы. В бардачке, понятное дело, смит-вессон. Время позднее, дорога пустая. Вдруг вижу: хвост за мной увязался. Я сразу смекнул, что это такое. Киднеппинг. У нас это в последнее время часто встречается. Охотятся на врачей, адвокатов, на состоятельных людей, в общем. Берут в заложники, и семья выплачивает сколько есть. Короче, едут они за мной всю дорогу, не отстают. Главное, фар не включают. А я их специально повез окольными путями, чтобы проверить. Часа два катались. И вот вывез я их на окраину города, там уж совсем безлюдно. Всё, думаю, парни, покатались, и хватит. Резко торможу — они в меня чуть не врезались. Достаю смит-вессон, открываю окошко и — бац, бац! — делаю два предупредительных выстрела в воздух. Ты бы видел, с какой скоростью они развернулись и начали от меня улепетывать! Или вот еще. Просыпаюсь я раз ночью, слышу в саду у нас какое-то шебуршание. Подхожу к окну, смотрю: так и есть, грабитель. Беру отцовскую винтовку, открываю тихонечко дверь на балкон. Ни с места, падла! Он стал как вкопанный, пялится на меня. Говорит: что ты собираешься делать? А ничего, говорю, не собираюсь делать. Так постоим. Утром мой батя проснется — вызовет полицию. Стой, говорю, и жди. Если шевельнешься, прикончу тебя в два счета. Так до утра с ним и простояли.
— А потом?
— А потом все, как я сказал. Проснулся отец, вызвал полицию, повязали ворюгу… Ну, теперь твоя очередь. Как там, в России?
Я принялся перебирать размытые акварели детской памяти в поисках какого-нибудь подходящего эпизода. Блеклое воспоминание о том, как на большой перемене сражались с вихрастым Лешей Даниловым из шестого «Б», не вдохновляло. Наконец, так и не вспомнив ничего остросюжетного, я решил обратиться к чужому опыту и стал пересказывать лагерные страшилки, которых наслушался на Северном Урале. Пересказывал через пень-колоду, так и не решив, от чьего лица ведется повествование. Энтони подбадривающе кивал, периодически хмыкал и цокал, а дослушав до конца, выразил удовлетворение и повторил, что «неженкам-американцам такое не снилось». Я с важным видом поддакнул. Каждый из нас был доволен тем первым впечатлением, которое сумел произвести на другого. Оставалось только достать традиционную чекушку и выпить за русско-нигерийское братство. Вместо чекушки Энтони извлек из портфеля упаковку овсяного печенья. «Будем считать, что это печенье у нас вместо ореха кола. В Нигерии этим орехом принято угощать в знак дружбы».
Заголосили пейджеры. «Срочный вызов, срочный вызов!» — подхватил настенный динамик. — Восьмой этаж, палата тридцать один». Энтони торопливо завернул остатки печенья в салфетку и, сунув в нагрудный карман, махнул: айда. «Главное, не нервничай», — бросил он, пока мы неслись по коридору.
К нашему прибытию в палате уже царила неразбериха. Мониторы и прочие устройства звенели на все лады. Медсестры сновали туда-сюда, перекрикивали друг друга, безуспешно пытались выпроводить рыдающую семью. Протискиваясь к постели больного, я тормошил то одного, то другого из присутствующих медиков в попытках получить хоть малейшие сведения: я, как и Энтони, видел этого пациента впервые. Но толку ни от кого было не добиться, а медкарта, как всегда, куда-то запропастилась. И тогда я увидел Энтони Оникепе в действии. Он стоял в боевой стойке — широко расставив ноги, слегка запрокинув голову — и спокойным голосом отдавал распоряжения. Пока я, путаясь в формулах, вычислял оптимальные параметры для ИВЛ, он уже диктовал эти параметры респираторному терапевту, шпарил дозировки и последовательность введения нужных препаратов. Мельком взглянув на распечатку ЭКГ, моментально назвал редкий тип аритмии и связанный с ним синдром. Через пять минут он и без медкарты уже знал всю историю болезни. Когда давление и пульс были стабилизированы, он повернулся ко мне.
— Ну что, босс, надо ставить подклюк. Ты умеешь?
— Умею. Но ты, если что, подстрахуй, ладно?
— Э-э… Видишь ли, мне противопоказано прикасаться к катетерам, скальпелям и прочим процедурным штуковинам. Это опасно для меня самого, не говоря уже о пациенте. У меня, босс, руки из жопы растут. На тебя вся надежда.
В это верилось с трудом. Скорее всего, он предоставил мне катетеризировать подключичную вену, чтобы я почувствовал, что и от меня есть какая-то польза.
— Сколько лет ты проработал врачом до поступления в здешнюю ординатуру? — спросил я, когда мы возвращались в ординаторскую.
— В Нигерии-то? Да всего полтора года.
— Тогда давай колись: в чем секрет твоего мастерства?
— А я шахматист… То есть был шахматистом, когда в школе учился. И на уроках вместо того, чтобы слушать, все время в уме партии проигрывал. На ходу сориентироваться нельзя, тем более когда вокруг тебя галдят медсестры. Этого никто не умеет. Надо заранее проигрывать все возможные партии. Кто больше партий знает, тот и гроссмейстер.
На следующий вечер все повторилось точь-в-точь: овсяное печенье, маловероятные истории о стычках с нигерийскими бандитами (этих историй у моего напарника было пруд пруди, и рассказывал он их взахлеб, как насмотревшийся боевиков третьеклассник). Затем дребезжание пейджеров, перебежки от одного срочного вызова к другому, медицинское всеведение Энтони и моя беспомощность, якобы компенсируемая успешным введением центральных катетеров. То же самое было и на третий день, и на четвертый. Через неделю уже почти не верилось, что в жизни бывает что-то еще. В дневное время я отсыпался. А к вечеру, с трудом пробудившись, напяливал хирургическую пижаму и белый халат, накачивался кофе, шел по опустевшему этажу мимо пропускного пункта и справочной будки, где пожилой вахтер, день и ночь указывающий посетителям, как пройти в стационар, привычно тычет указательным пальцем в пустоту коридора, будто пытается ее проткнуть или нажимает на какую-то невидимую кнопку. В пятом часу утра обычно наступало затишье. Я укладывался на скрипучую койку в дежурной комнате и пытался заснуть, положив пейджер рядом с подушкой. Hо сон, как вода, послушная закону Архимеда, не давал погрузиться в себя до конца и в какой-то критической точке засыпания выталкивал сознание обратно на поверхность.
«Чтобы я здесь твоих ругательств больше не слышал! Вернешься за решетку, там будешь материться!» Сизоносый лендлорд Берни орет на одного из жильцов. «Ишь ты, блюститель порядка нашелся! Да у тебя в здании крэком торгуют направо и налево, ты у меня, сука, сам скоро сядешь!» Они топчутся у входа в подъезд, набычась и напирая грудью, но до драки не доходит. Оба в стельку. «Эй Джей! Эй Дже-э-э-й!» Это неугомонная Лиз из квартиры 3А кличет свою собаку. Лиз — вольная птаха со справкой («шизоаффективное расстройство»). Без работы и без пособия. С жилплощадью она только потому, что подруга лендлорда Берни. Ее прокуренный голос можно услышать в любое время суток, и всегда — один и тот же надрывный зов. Эй Джей не отзывается.
Через дорогу виднеются декорации в стиле «после бомбежки». Лет тридцать назад там начинали строить что-то основательное, да так и не начали. Реалии гетто — это почти родное, знакомое чуть ли не с детства. Свои первые два года американской жизни я провел в «черном» районе Чикаго, там и английский выучил, в связи с чем некоторое время говорил с русско-негритянским акцентом. Те же измалеванные граффити кирпичные здания, зарешеченные окна с выбитыми стеклами, лианы пожарных лестниц.
Огорошенные безденежьем и культурным шоком родители были готовы почти на всё, но, взглянув на эти фасады, кое-как сориентировались и подыскали нам комнату на троих в студенческом общежитии. Так что о том, как выглядят пресловутые «проджекты» изнутри, я узнал только год спустя, когда впервые попал в гости к пуэрториканцу Масео, моему не то чтобы закадычному, но единственному о ту пору другу. Увидав меня на пороге, отец Масео не стал скрывать своего удивления: «Эй, Масео, ты что, совсем спятил, сынок? На хера ты притащил сюда это белое чмо?» — «Да какой же он белый, пап? Он — Russian».
Когда запас нигерийских небылиц наконец иссяк, Энтони переключился на разговоры за жизнь, которые неизбежно сводились у него к обсуждению расовых отношений.
— Ну и как тебе наше богоугодное заведение? — спросил он, подводя беседу к излюбленной теме.
— Пока что мне все нравится, — отчеканил я как истинный американец.
— Да, Сент-Винсент — неплохое местечко. Только сегрегации многовато.
— В каком смысле?
— В прямом. Ты думаешь, у нас тут дружба народов, медики-всех-стран-соединяйтесь? Черта с два. Африканцы отдельно, индусы отдельно, евреи отдельно. Врачи и медсестры порознь. Каждый обороняется и держится своих. Ты еще не знаешь всех наших подводных течений. Даже среди африканцев. Тут правят ганцы, а я — нигериец. Нигерийцы и ганцы друг друга терпеть не могут.
— Ну, у соседствующих народов, кажется, всегда так.
— Верно. Только нигерийцы — это не народность, а пятьдесят народностей. То же самое и в Гане.
— Но ведь ганцы взяли тебя в ординатуру.
— Взяли. Но считаться со мной здесь стали только после того, как я получил высший балл на их ординаторском экзамене.
— Да, я уж наслышан об этом экзамене. Ты там, насколько я понял, побил все рекорды.
— Было дело. — Энтони хлопнул себя в грудь, погрозил кулаком невидимому врагу и потянулся за овсяным печеньем. С минуту он молча жевал, как будто с трудом припоминая, о чем только что собирался говорить. — Сегрегация, сегрегация… Да! Тут ведь вот еще что: у каждого человека должна быть своя этническая неприязнь. Должна быть хоть одна группа людей, которую ты не любишь. Всетерпимость — это выдумка бывших линчевателей. Человек не может жить без предрассудков. Я, например, недолюбливаю арабов и персов. Могу даже сказать почему.
— Ну и почему?
— Из них выходят плохие врачи. Они наплевательски относятся к пациентам.
— Хорошо, а что ты в таком случае скажешь об африканцах?
— Африканцы к пациентам относятся хорошо. Африканцев, если ты, конечно, не отпетый расист, легко любить, пока не сойдешься с ними поближе. Наш конек — личное обаяние.
— Да ты, похоже, никого не любишь. Кроме пациентов.
— Ну что ты, я не мизантроп. Это — к Нане. Ты, кстати, знаком с Наной?
— С какой из них?
— С медсестрой. Нана Нкетсия. Она у нас в реанимации по ночам работает.
— Нет, кажется, не знаком.
— Тогда пойдем, пока пейджер молчит, я вас познакомлю.
Наной в Сент-Винсенте называли всех и каждого. На языке чви нана означает вождь. Среди молодежи это слово используется в качестве дворового обращения, что-то вроде «начальник». «Нана, — кричали друг другу лихие ганские парни, — завтра на ковер к Пэппиму!» Во втором значении «нана» — это бабушка. Ашанти и другие аканские племена часто называют детей в честь предков, причем обозначение родственной связи тоже является частью имени. Скажем, если имя бабушки, в честь которой назвали внучку, было Эси, то девочку так и будут звать: Нана Эси — Бабушка Эси. Во взрослом возрасте вторая часть обычно отбрасывается и остается просто Нана — распространенное женское имя.
— Нана Нкетсия!
— Ога![6]
— Этэ сэйн![7] Вот познакомься: Алекс, мой новый напарник. Бывший сибиряк и будущий ганец.
— Бывает, — сочувственно сказала Нана.
У нее были огромные зеленые глаза и темно-оливковая кожа. Я попытался угадать составляющие фенотипа: вряд ли она была чистокровной африканкой, но и на мулатку не похожа, скорее какая-то островитянская примесь. Так или иначе, это была красавица каких поискать.
— Нана у нас принцесса в изгнании. Мало того, она исключительный кулинар. Чем ты нас сегодня угостишь, Нана?
— На тебя не напасешься. — Нана открыла медсестерский холодильник и достала кастрюлю с яствами.
Пока Нана распределяла еду по бумажным тарелкам, Энтони принес из палаты чистую простыню, постелил ее на полу, и через пять минут мы сидели уже не в дежурке, а в африканском оби, где, принимая гостей, разламывают орех кола и рисуют мелом ритуальные узоры. «Чувствую, сейчас нас вызовут», — вздохнул Энтони, все время ждавший от жизни какого-нибудь подвоха. И оказался прав.
Мануэля С., 46 лет, доставили в травмпункт вместе с супругой. Встав спозаранку, С. зарядил револьвер, выстрелил в собиравшуюся на работу жену, затем застрелился сам. «Скорую» вызвал их сын, Мануэль-младший. Каким-то чудом оба супруга остались живы, но глава семьи об этом никогда не узнает: его привезли уже в состоянии церебральной смерти и теперь держат на вентиляторе исключительно в качестве потенциального донора для пересадок. Мануэль-младший растерянно переминается с ноги на ногу, стоя рядом с носилками, на которых лежит его мать. С трудом выдавливая членораздельную речь, она дает ему указания: «Позвони в школу, скажи, что заболел. Позвони бабушке, скажи, что останешься у нее».
2.
— Ну, что у вас тут?
— Да вот, доктор, пациент порывается сбежать, говорит, что опаздывает в школу. Может, пять миллиграмм галоперидола?
Желтушный дистрофик с раздутым пузом и запекшимися губами, лавирующий между белой горячкой и синдромом Корсакова, — привычное зрелище в любой городской больнице. Однако в Сент-Винсенте их количество было поистине рекордным. По ночам к ним наведывались невидимые гости, и скромный католический госпиталь превращался в «лес тысячи духов». Даже в ординаторской не удавалось укрыться от этой фата-морганы — только и слышишь, как из одной палаты всю ночь доносится: «Лэрри, это ты? Лэрри!», а из соседней: «Дядя Патрик? Где дядя Патрик?» С тех пор как из Бриджпорта вывели последнее крупное предприятие, алкоголизм стал основным занятием мужского населения города.
Человек-скелет лет пятидесяти метался в кровати, силясь высвободиться из медицинских наручников.
— О-о, так это же наш старый знакомый Джон Макпадден! — почти обрадовался мой напарник. — Я его три недели тому назад в приемнике откачивал. Как самочувствие, Джон?
Человек-скелет перестал метаться, злобно посмотрел на Энтони и сказал неожиданно твердым голосом: «Мне надо в школу».
— Зачем тебе в школу, Джон? Посиди дома, завтра пойдешь. Я тебе справку выпишу. Скажем учительнице, что ты заболел.
Как ни странно, увещевания подействовали. Пробормотав что-то обиженно-невнятное, больной еще пару раз дернул наручники и устало опустил голову на подушку. Через три минуты он уже спал.
— Ну что? — оскалился Энтони. — Как тебе мой пациент?
— Делириум тременс, страшное дело.
— Ошибаешься, босс. Он бросил пить полгода назад. Это — энцефалопатия. У него печень отказала, а заодно и все остальные органы. Когда он к нам поступил, хирурги думали делать анастомоз, но теперь об этом, конечно, речь не идет. Если его положить на операцию, он на операционном столе и умрет. А без операции умрет тем более. Шах, мат. Я уже говорил с его сестрой — она у них принимает все решения. Согласилась на хоспис. Но он, я боюсь, и до хосписа-то не дотянет.
— А что из себя представляет сестра?
— Сестра у него хорошая. И брат хороший, Брайан. Они его каждый день навещают. Надо будет завтра пораньше прийти, чтобы их застать. Брайан живет в Колорадо, неделю назад прилетел. Жалко их очень.
В паллиативном отделении, куда Макпаддена вскоре перевели из реанимации, уход за пациентом вели в основном медсестры. Чтобы периодически менять капельницу с морфием в ожидании смерти, врачи не нужны. Каждый вечер мы с Энтони заходили к нему на пять минут по пути на дежурство. Джекки Макпадден, дежурившая у постели брата денно и нощно, давала нам подробные отчеты.
— Мне кажется, ему становится лучше. Еще вчера он нас с Брайаном не узнавал, а сегодня утром говорит: «Завещаю вам свое богатство в размере недопитого «Джонни Уокера»». Сказал, что нас любит, что мы — единственное, что у него есть. — Джекки вытерла слезы. — И еще сказал, что проголодался. Жаль, что ему нельзя.
— Чего нельзя?
— Есть…
— Разве его здесь не кормят?
— Медсестра сказала, что врачи запретили давать ему пищу. Она говорила про какой-то больничный протокол, я толком не поняла.
— Какой протокол? Энтони, ты когда-нибудь слышал что-нибудь подобное?
Но Энтони уже не слушал. Пробормотав что-то вроде «я сейчас», он зашагал по направлению к медсестринской. В этот момент его лицо походило на догонскую маску разъяренного духа, и молоденькая медсестра шарахнулась в сторону.
— Это вы ведете уход за пациентом Макпадденом из сорок седьмой палаты?
— Да, доктор… Что-нибудь случилось?
— Будьте любезны, принесите ему еды. Прямо сейчас.
— Извините, доктор, но это не ваш пациент, — уверенно возразила медсестра, оправившись от моментального испуга. — Завотделением, доктор Рустам Али, дал нам четкие указания. Мы имеем право давать больному только обезболивающее, а больше ничего. Это ведь пациент хосписа.
— «Хоспис» не означает морить человека голодом.
— Доктор Али дал нам четкие указания.
— Дай ему поесть, дура.
Десять минут спустя медсестра вернулась в сопровождении щуплого человечка, передвигавшегося чарли-чаплинскими шажками, как будто его ступни поссорились и демонстративно отворачиваются друг от друга.
— В чем дело? — сурово спросил человечек.
— Хотелось бы узнать, почему больному, который просит есть, отказывают в пище.
— Наша медсестра вам уже все объяснила. Мы оказываем паллиативную помощь, то есть снимаем боль. Питание может продлить выживаемость, а это в данном случае не является нашей задачей.
— Вы это всерьез? — поинтересовался Энтони. Его воображение, кажется, уже шарило в мысленном бардачке в поисках смит-вессона.
Али поджал подбородок, придавая лицу выражение скорби.
— Да ты пойми, Энтони, — заговорил он задушевным тоном, — я такой же идеалист, как и ты. Но это безнадежный больной, он должен был скончаться еще в реанимации. Как бы мы ни старались, мы для него ничего не сможем сделать, ты сам это прекрасно знаешь.
— Как скажете. Завтра мы представим этот случай перед административной комиссией.
— Послушай, Оникепе, тебе не надоело строить из себя мать Терезу? У нас благотворительный госпиталь с весьма ограниченным бюджетом. Мы и так тратим на этих людей больше, чем можем себе позволить… Ты всё сводишь какие-то личные счеты, а мне это неинтересно. Мой тебе совет: не раскачивай лодку. Вылетишь из ординатуры, вот и все.
Через три дня Макпаддена не стало. Благотворительный фонд Сент-Винсента помог семье усопшего с оплатой похоронных расходов.
3.
С появлением Наны наша рутина изменилась: теперь мы каждый вечер гостили у нее в медсестринской. Энтони приходил в гости с овсяным печеньем, а я — с учебником ашанти-чви. В перерывах между вызовами я усердно осваивал диалоги и элементарную грамматику. Нана экзаменовала и поправляла произношение. Энтони сидел на полу, увлеченно печатая что-то на своем ноутбуке. Временами он прерывался, чтобы позлорадствовать: «Ну что, полиглот, не дается тебе их ганский язык? Надо было учить йоруба». С ганским языком у меня и впрямь было туго, особенно с произношением: мой речевой аппарат наотрез отказывался артикулировать все эти носовые и огубленные звуки. Кроме того, чви, как и многие африканские языки, — это язык тональный, и тут меня подводило ухо, по которому прошелся медвежий выводок. Будучи произнесенными с неправильной интонацией, мои слова приобретали самый неожиданный смысл. Например, я хотел сказать «хорошо», но, перепутав высокий тон с низким, говорил «вентилятор».
— Вентилятор? — переспрашивала Нана. — Ты хочешь сказать, что тебе жарко?
— Да нет, не «па!па!», а «па!па» — хорошо, хороший…
— Что? Папа? Чей папа? Доктор, я вас не понимаю.
— Квэйду вура, тэ со![8] — отвечал я единственной фразой из разговорника, которая получалась у меня без промашки.
Пожилой африканец в цветистой полотняной рубахе прохаживается по приемной и с видом посетителя музея разглядывает настенные памятки и дипломы.
— Доброе утро, доктор, как самочувствие?
— Хорошо, спасибо. Как ваше?
— Откуда мне знать? Вы доктор, вы и скажите, как я себя чувствую. — Он подходит к окну. — Пусто на улице, как будто вождь умер.
— Что-что?
— Поговорка такая. У нас в Гане в прежние времена, когда вождь умирал, полагалось отрубить семь человеческих голов и похоронить их вместе с ним. Кто пожертвует головой ради вождя? Тот, кто еще ни о чем не знает. Выйдет человек на улицу, тут его стража и хватает. Кто поумнее, сразу сообразит: если не хочешь отправиться в Город мертвых вместе с вождем, в день похорон сиди дома. Сейчас-то все изменилось, вместо голов деревянные маски кладут. Но поговорка осталась. В следующий раз услышишь, будешь знать, о чем речь.
Я поглядываю на часы.
— Госпиталь Сент-Винсент… — задумчиво произносит ганец. — Католический. И дипломов-то сколько, почетных грамот! Чуть ли не на каждой стенке.
— Вас что-то не устраивает?
— Да вы не обращайте на меня внимания. Я просто старый солдат, а солдаты, как известно, большим умом не отличаются.
У меня звонит пейджер, и я отвлекаюсь.
— Что-то доктор совсем потерял ко мне интерес, — обращается он к невидимому свидетелю. — Может, я для него недостаточно болен?
— Простите, что отвлекся.
— Прощаю. Но не понимаю. Вот я вчера пришел в вашу поликлинику, потому что у меня болел живот. А сегодня мне говорят, что у меня диабет.
— Это действительно так, мистер Смит. Я просмотрел результаты ваших анализов.
— Вот как? Беда-то какая… Я ведь, знаете, в вашем городе проездом. Заехал навестить кое-кого из знакомых. Завтра уезжаю.
— А где вы живете? В Гане?
— Где только не живу.
— Хорошо, я выпишу вам рецепт на глюкофаж. А когда вернетесь домой, обязательно обратитесь к диабетологу.
— Непременно, доктор. Я вижу, вы — настоящий знаток своего дела. И госпиталь ваш мне понравился. Кстати, передайте от меня привет Нане Нкетсии. Знаете такую? Она у вас тут, кажется, прачкой работает.
— Не прачкой, а медсестрой. Передам.
…
— Слушай, Нана, мне тут один пациент попался. Из Ганы. В регистратуре он записался как Джон Смит, но что-то непохоже. Отрекомендовался «старым солдатом». Очень странный тип.
— Ну и что?
— Как что? Ты разве его не знаешь? Он просил передать тебе привет.
— Вот ты и передал.
— Не томи, квэйду вура.
— Это мой дядя, полковник Нкетсия. Он приехал навестить каких-то своих знакомых, а заодно и обо мне разузнать. По поручению отца, не иначе.
— А почему под чужим именем? Он что, от кого-то скрывается?
— Да нет, просто придуривается. Пытается убедить себя, что он все еще важная персона.
Нана Эфуа Аба Анна Нкетсия родилась и выросла в богатой части Аккры, в доме, который, судя по фотографиям, правильнее было бы назвать дворцом. Ее дед по материнской линии, Буду-Артур Нана Кобина IV, был верховным вождем племени фанти и одним из сподвижников африканского борца за независимость Кваме Нкрумы. Когда Нкрума был избран первым президентом свободной Ганы, дед занял пост ректора Лагонского университета, продолжая при этом исполнять обязанности оманхене[9]. Главным образом обязанности заключались в том, что во время торжественных церемоний его наряжали в королевское платье и проносили на паланкине через ликующую толпу. Эти церемонии — шествие масок, клич говорящих барабанов, жертвенные обряды — Нана описывала так же трепетно, как Энтони — свои гангстерские подвиги. С каждым разом ее воспоминания становились все более красочными; трудно сказать, что в них было придумано, а что нет. Как гласит присловье ашанти, «когда жрец пускается в пляс, всё, что он говорит, — чистая правда».
Отец Наны владел крупной компанией, импортирующей лекарства, а также сетью аптек, разбросанных по всему Центральному региону. Он был ганцем только наполовину: бабка, в честь которой назвали Нану, была уроженкой Канарских островов. В свое время брат отца, полковник Нкетсия, был влиятельным политиком и лидирующим кандидатом на пост президента. После военного переворота Джерри Ролингса в 1979 году Нкетсия бежал в Англию, где ему удалось получить политическое убежище. В Англии он занялся фотографией и несколько раз выставлялся в одной из лондонских галерей.
Я все время ловлю себя на том, что «притягиваю за уши» общность детских воспоминаний. Сталкиваясь в Америке с людьми из самых отдаленных точек мира, я старательно высматриваю в их рассказах некий исходный опыт, который роднил бы китайца или индуса с выходцем из России. Наверное, это и есть менталитет эмигранта, сколько бы я ни убеждал себя, что я — не эмигрант. В школьных рассказах Наны искомых узнаваний было сколько угодно. Тут не приходилось ничего додумывать. Все было знакомо и в то же время утрировано до пародийности. После того как Ролингс провел государственную реформу образования, из школьной программы в Гане полностью исключили все пережитки колониального периода — в первую очередь европейскую историю и литературу. Химию, физику и биологию сократили до одного предмета под названием «точные науки». Зато ввели историю африканского освобождения, а также основы сельского хозяйства и скотоводства. Школьники учились отличать по цвету и запаху десять видов почвы; узнавали о выведении новых пород домашнего скота, об усовершенствованных технологиях дойки. Проводились соревнования классов по выращиванию помидоров. Следующим шел предмет «жизненные науки», на котором учили класть кирпичи и работать с мачете. В шестом классе девочки шили фартуки, а в седьмом — готовили в этих фартуках традиционные похлебки, которые уписывал весь преподавательский состав. Летом учащихся посылали на практику — выкапывать ямс. И т. д. и т. п. Все знакомо, от линеек и доски почета до байки о том, как на рождественских каникулах учитель истории повел старшеклассников в поход, где напился пальмового вина, после чего его искали всю ночь и нашли к утру мирно спящим в чьем-то огороде. Чем больше я слушал, тем труднее мне было представить себе это африканское детство, где королевские церемонии и украшенный золотом паланкин сочетались с уборкой картошки и пионерскими песнями у костра. Правда, песен под гитару как таковых в рассказах Наны все-таки не было. Вместо них фигурировали пионерские пляски под барабан.
Когда дочери исполнилось четырнадцать лет, родители, слабо верившие в преимущества новой системы образования, решили последовать примеру самого Ролингса: перед тем как учредить реформу, глава правительства предусмотрительно отправил собственных детей учиться за рубеж. Ближайшим родственником Нкетсии за границей был осевший в Лондоне брат отца, но обращаться к нему представлялось опасным. Бывший полковник, хоть и переквалифицировался в фотографы, продолжал оставаться политической persona non grata. Словом, Нану отправили в штат Вирджиния, где жила тетушка Майя, она же — афроамериканская писательница Майя Анжелу, вторая жена покойного деда Кобина IV. В Вирджинии Нану отдали в дорогую частную школу, где она оказалась единственной негритянкой. «Можешь себе представить, как мне там было уютно». Впрочем, в среде американских негров, с которой она столкнулась позже, African princess встретила не больше понимания, чем среди белых южан.
После окончания школы Нана поступила в Пенсильванский университет, где без энтузиазма училась то на психолога, то на экономиста. И вот в один прекрасный день на нее снизошло озарение, вызванное газетным объявлением. Агентство такое-то предлагает медсестринские курсы и нанимает на работу в должности «странствующей медсестры». Есть, оказывается, и такая профессия. От обычной медсестры это отличается условиями контракта и тем, что в роли первичного работодателя выступает не больница, а частное агентство по трудоустройству. Агентство занимается поиском временных вакансий. Подписывая долгосрочный контракт, ты соглашаешься ежегодно менять место работы и жительства. Конкретные условия зависят от места, но в основном это работа в реанимации в ночную смену. «Я не очень люблю общаться с людьми, — говорила Нана, — а ночью в реанимации никого нет, только пациенты, да и те, как правило, заинтубированы. И в то же время я делаю доброе дело, приношу пользу». — «Вот-вот, я же говорил тебе, что она — мизантроп», — невпопад вставлял Энтони.
Узнав о столь нетрадиционном выборе профессии, отец Наны приехал в Америку наставить дочь на путь истинный («в мире белых людей наши дети должны становиться врачами либо адвокатами»). Но не тут-то было. Две недели семейной драмы не сломили дух новоиспеченной traveling nurse. Вернувшись в Гану, отец объявил, что лишает Нану наследства. С тех пор они не общались.
Мне хочется раз за разом погружаться в незнакомую среду, пребывать в растерянности, испытывать дискомфорт, связанный с невозможностью объясниться на чужом языке. Попадая в новое пространство, я не хочу ощущать себя ни туристом-лириком, ни путешественником-первопроходцем. Я хочу повторить мучительный опыт двадцатилетней давности — заново пройти через эмиграцию, начать с пустоты. Диагнозы, которые я готов сам себе поставить, лежат на поверхности: изживание детской памяти, необходимость мнимого контроля над прошлым. Но ведь дело не только в этом.
Одно из последних предотъездных воспоминаний: Юра Дворкин с первого этажа, усердно косящий под советского рокера, отращивающий патлы, обзаводящийся телагой и вареными джинсами. На плече — кассетник с Наутилусами и «Группой крови». Через два месяца он переедет в Хайфу (фотографии с шаурмой и кальяном, первая работа на бензоколонке, израильская армия и т. д.).
Это была зима девяностого года; Юре было тогда тринадцать или четырнадцать. Я — на два года младше, смотрел снизу вверх. Запомнилось как нечто необъяснимое: его предстоящий отъезд и пубертатное желание наспех совпасть с последней модой московского двора, подготовиться к новой фазе жизни, которая начнется и закончится здесь без него.
4.
Когда Осейи и Амма Овусу, у которых недавно родился сын, объявили о том, что собираются устроить Эдин тоа, весь разноцветный коллектив от румына до китаянки подрядился участвовать в проведении этой пышной церемонии, хотя никто понятия не имел, в чем она заключается.
— Насколько я понимаю, это Праздник имени, — догадался Энтони, — у йоруба тоже есть что-то подобное. Когда человек рождается, он приводит в мир своего личного бога, иначе говоря, свое предназначение. На седьмой, что ли, день после рождения ребенка приносят к старейшине. Тот наблюдает за младенцем, пытаясь угадать его бога, и выбирает подходящее имя.
— Интересно, Энтони Пол, кто был тот мудрый старейшина, который назвал тебя в честь русского писателя?
— Опять ты со своим русским писателем. Мои родители к прорицателю не бегали, у меня вообще-то отец — профессор лингвистики, а мама была биохимиком. Просто им понравилось имя Энтони, вот и всё. А Пол — это европеизированное Абаола, так звали моего деда.
В назначенный день мы явились минута в минуту, хотя Нана и выражала определенные сомнения относительно того, что традиционная ганская церемония может начаться вовремя. Хозяин дома, встретивший нас на пороге в нижнем белье, подтвердил ее опасения и, немало удивившись («Вы что, на дежурство пришли? Когда зовут на три, имеется в виду: приходить не раньше половины шестого!»), отправил в близлежащую кофейню «Старбакс». Таким образом, в течение следующих двух часов у меня была возможность узнать во всех подробностях о значении Эдин тоа в культуре ашанти, заодно наблюдая, как Энтони сверлит взглядом белокурых красоток за окном кофейни и все больше раздражается дотошностью Наниного экскурса.
Согласно аканской традиции, первые семь дней жизни ребенок проводит с матерью в специально отведенном помещении, откуда им не полагается выходить. Это — испытательный срок: если дитя умрет, не прожив и недели, значит, его душа посетила мир живых, чтобы только взглянуть и, удовлетворив любопытство, возвратиться в мир духов. Поэтому ребенка, умершего в течение первой недели, не оплакивают. Если же на восьмой день младенец жив, значит, он полюбил лицо и голос женщины, которая его родила, и решил остаться, чтобы сделать ее счастливой.
Утром восьмого дня ребенка приносят к старейшинам и дают ему имя, точнее — имена. Первое имя знаменует день недели, в который он родился. Мальчика, чей Эдин тоа пришелся на пятницу (фиада), назовут Кофи («пришедший в пятницу») и т. д. Каждому дню недели покровительствует то или иное божество[10], так что старейшинам аканских племен — в отличие от йоруба — не приходится угадывать личного бога, достаточно свериться с «гороскопом». Второе и третье имя — в честь кого-нибудь из предков; дальше — имя, выражающее пожелания родителей своему чаду; и наконец — имя рода. В колониальный период ашанти часто давали детям ничего не значащие имена, чтобы отвадить богов-покровителей: дескать, это не настоящее, не на всю жизнь. Имя, данное в рабстве, не может быть настоящим, так как рабство не может быть истинным предназначением человека.
Складные стулья были расставлены по периметру комнаты, и, по очереди здороваясь с сидящими, каждый новоприбывший совершал круг почета — обязательно против часовой стрелки. К шести вечера все были в сборе. Вопреки моим ожиданиям, ни румына, ни китаянки в комнате не оказалось; помимо нас с Энтони, на церемонии присутствовали только ганцы. Доктор Пэппим, выступавший в роли старейшины, вышел на середину комнаты и, достав из кармана шпаргалку, развел руками: это вам не лекция по реаниматологии.
Каждое имя есть уникальное сочетание звуков. Если имя выбрано правильно, это сочетание звуков резонирует с душой человека и придает ему силы. Наше предназначение заложено в нас Творцом, и мы исполняем Его замысел, откликаясь на зов, пробуждаясь для жизни всякий раз, когда нас называют по имени. Какой сегодня день? Сегодня воскресенье — квезиэда. Бабушка Воскресенье, дедушка Воскресенье, сегодня перед вами младенец, который встретил с нами утреннюю звезду. Его мы называем Квези.
С этими словами Пэппим взял спящего сына из рук Аммы и, трижды подняв на вытянутых руках, поднес к столику, на котором стояли бокалы с водой и вином и лежали несколько ракушек. Положив ракушки на лоб младенца, Пэппим окропил его губы водой: «Если скажешь нсуо[11], пусть это будет нсуо». Затем окропил вином: «Если скажешь нса[12], пусть это будет нса… Аквааба![13] Братья и сестры, я поздравляю вас всех!»
Завершив церемонию, Пэппим ретировался в облюбованное кожаное кресло и продремал в нем оставшуюся часть вечера. Между тем гости переместились к столу. Старший ординатор Йау Аманкона предварил трапезу еще одной торжественной речью, но на этот раз ораторство не сопровождалось возгласами «Ампа!»[14] — каждое слово витии камнем падало в колодец всеобщего голода.
Одно за другим потянулись праздничные блюда: арахисовая похлебка с индюшкой и копченой рыбой, пальмовый суп с козлятиной и листьями ямса, блюдо из перемолотых семечек африканской дыни, красный рис джолоф, кускус из сброженной маниоки в банановых листьях, жареные плантаны с имбирем и фасолью в пальмовом масле. И — какой же праздник без фуфу! Фуфу — это патриотическая гордость, «щи да каша» западноафриканской кухни. Густое пюре из кокоямса, плантанов или маниоки, похожее на белый пластилин — как по виду, так и по вкусу. Пластилин скатывают в шарики. Шарики полагается макать в мясную похлебку и разом проглатывать. «Ел без фуфу — вообще не ел», — утверждают знатоки этого дела.
Расходиться начали за полночь; в третьем часу утра в комнате еще вовсю продолжались оголтелые пляски под бой твенебоа, оплетенного ракушечными ожерельями. Казалось, во всем многоэтажном доме есть только два человека, способных спать под этот грохот как ни в чем не бывало, — Квези и доктор Пэппим.
На следующий день остатки угощения, расфасованные в пластиковые емкости, очутились на прилавке магазинчика «Африкана эдуому»[15], находившегося через дорогу от больницы.
Кэрен Б., 36 лет. Алкогольный цирроз печени. Симптомы болезни — желтуха, асциты — проявились еще месяц назад. Первые три недели было «терпимо»; за день до поступления началась кровавая рвота. В больнице ей сделали неотложную склеротерапию варикозных вен, но через несколько часов кровотечения возобновились, отказали почки. Гематокрит не поднимается выше критического уровня, несмотря на многочисленные переливания крови. Время оповестить родных. Около полуночи я делаю междугородний звонок в Массачусетс, где живут ее родители.
Сколько раз я видел в онкологической клинике, как родные восьмидесятилетнего старика или старухи умоляли врачей сделать все возможное, до последнего момента отказываясь верить фактам. Но я ни разу не видел, чтобы родственники просили сделать все возможное для сравнительно молодого человека, умирающего от цирроза.
— Понимаете, я просто не хочу, чтобы она продолжала мучаться, — говорит мать Кэрен.
— Я понимаю. Мы остановим инфузии препаратов, которые поддерживают ее давление, отключим искусственную вентиляцию легких и поставим капельницу с морфием. Она не будет чувствовать боли.
— Как вы думаете, сколько она может прожить… после того, как вы все отключите?
— Пару часов, может быть, меньше. Но ведь это не к спеху — все отключать. Мы можем подождать и до завтра, и до послезавтра. Я имею в виду, мы можем дать вам возможность с ней попрощаться.
— Спасибо вам, доктор, но… лучше не надо. Мы — люди пожилые, нам тяжело… Кроме того, завтра у ее отца день рождения. Просто позвоните нам, когда все закончится.
В четвертом часу утра поступил ожидаемый вызов. Медсестра встретила меня в дверях палаты: «Извините, доктор, я вызывала вас подтвердить наступление смерти, но, кажется, поторопилась. Теперь уже недолго: среднее артериальное давление — ниже пятидесяти. Минут десять-пятнадцать, не больше… Подождем вместе, ладно?»
Я стою между изголовьем кровати и монитором, слежу за редеющими бугорками кардиограммы. У меня кружится голова. На подоконнике лежит принесенная кем-то из близких фотография пятилетней давности: розовощекая красавица Кэрен, лучась навсегда запечатленным счастьем, обнимает улыбающихся родителей на курортном фоне. Десять-пятнадцать минут превращаются в сорок пять.
Медленнее, медленнее — как будто умирает не она, а монитор, через силу выдавливающий гудки. Я слышу, как медсестра, стоящая за моей спиной, лопочет что попало, лишь бы заглушить нарастающий хрип агонального дыхания. Медленнее, медленнее. Асистолия. Всё… Нет, не всё: еще один-два припадочных вздоха — пузырящееся дыхание мертвеца. Теперь всё. Я проверяю зрачки, прикладываю стетоскоп к груди. «Смерть наступила в четыре часа двадцать семь минут», — говорит моим голосом посторонний.
5.
Продовольственный магазин и чоп-бар «Африкана эдуому», которым владели радушные Бенад и Маоли Онипа, выполнял функцию социального клуба: по вечерам сюда стекалась вся западноафриканская община Бриджпорта. Старики занимали позиции за приземистым столиком для овари[16] и, засеяв лунки игральными ракушками, начинали неспешный обмен новостями. Молодежь толпилась возле установленного в дальнем углу караоке, пританцовывая и горланя неизменное «Эйе ву дэ анаа, эйе ме дэ паа».
— Ий! Эхефа на уасвиа чви каса?[17] — удивился Бенад Онипа, когда, впервые заглянув в «Эдуому», я обратился к нему на ломаном аканском наречии.
— Меуо ннамфоо асантени на уономчьерэ мэ какраа-какра[18].
— Юу-у, матэ. Эсвиани, энье аквааба![19]
Довольно скоро «Эдуому», находившийся в двух шагах от Сент-Винсента и кирпичной трехэтажки, где я снимал квартиру, стал для меня вторым домом или третьей вершиной равностороннего треугольника, внутри которого я проводил все свое время, поскольку больше в Бриджпорте податься было некуда. «Католическая миссия, хижина, чоп-бар — всё как надо. Еще добавить революцию да малярию, и будет полный африканский набор», — отметил язвительный Оникепе.
Каждую пятницу Маоли стряпала африканскую пищу и угощала постоянных клиентов. Несколько раз, во время тридцатичасовых дежурств, я получал эсэмэс: «Доктор Алекс! Брат Бенад и сестра Маоли знают, что ты сегодня дежуришь и наверняка голодаешь. Спустись, пожалуйста, в вестибюль». В вестибюле меня ждал Бенад с улыбкой до ушей и кастрюлей дымящегося риса джолоф. Денег он не брал и, раздраженно отмахиваясь от купюр, которые я пытался ему всучить, повторял девиз племенного сожительства: «Если птицы рядом гнездятся, значит, птицы друг другу еще пригодятся». Стало быть, белая ворона — тоже ворона, часть стаи. Я растроганно примерял к себе эту птичью истину, тем более что и в моем «оперении» уже имелось кое-что ганское: под Рождество Нана и Маоли подарили мне по вышивной рубахе кенте.
— Доктор Алекс, когда заканчивается твое дежурство? — спросил Бенад, в очередной раз вручая мне кастрюлю со вкуснятиной.
— Завтра утром.
— Тогда завтра вечером приходи к нам в «Эдуому». Познакомишься со знаменитостью!
— Какая такая знаменитость?
— Ганский поэт. Тридцать лет, а уже целую книгу стихов написал. В газете его сравнивали с Воле Шойинкой[20].
Поэта звали Принц Нсонваа. Он и выглядел классическим поэтом или киноактером, играющим большого поэта на большом экране. Водолазка, задумчиво-выразительное лицо, обрамленное наждачной небритостью. Если бы Принц Нсонваа был белым, у него обязательно была бы челка. Прослышав от хозяев, что я — Russian poet, изучающий чви, Принц торжественно объявил, что обязуется — если я, конечно, не против — регулярно присылать русскому коллеге свои творения, а также преподавать ему (то есть мне) основы языка чви по переписке.
В тот же день я получил первый образец его творчества. Стихотворение называлось «Senea w’awofo ahwe wo ama wo se afifiri no, ese se wohwe won ma woonom dee tutu»[21]. Сам текст был не намного длиннее названия и, по существу, лишь перефразировал нравственное предписание в форме императива. Помимо стихотворения, к имейлу прилагались: аудиофайл с авторским чтением и причудливо-иероглифический рисунок, значение которого, видимо, обыгрывалось в данном сочинении.
— Тебя трогают эти стихи? — спросил я у Наны, показав ей шедевр моего нового знакомца.
— А тебя? Если тебя интересует ганская литература, почитай лучше Айи Квеи Арма и не морочь мне голову.
На протяжении следующих полутора недель поэт исправно присылал мне ежеутренние стихи с аудиофайлами и рисунками, а по вечерам — короткие письма на чви с заботливым переводом в скобках после каждого предложения. Наконец, очевидно, устав от этой обременительной переписки, Нсонваа деловито спросил, не согласится ли «менвиа Алекс»[22] помочь ему с переводами стихов на английский для публикации в антологии. Получив утвердительный ответ, поблагодарил и пообещал прислать весь корпус через денек-другой, после чего исчез.
Позже я узнал, что подобные назидательные тексты, сопровождаемые иероглифическими узорами, — вполне традиционный «смешанный жанр». Узоры называются адинкра; с каждым узором связан определенный обряд, а также какая-нибудь пословица или идиома. Говорят, коллекция некоего этнографа, собиравшего адинкра по всему аканскому региону, насчитывала больше тысячи пиктограмм. Одна из главных функций поэзии — развивать и интерпретировать символику адинкра. А поскольку вся словесность у ашанти до недавнего времени была устной, без аудиозаписей тут не обойтись. Не читать надо, а слышать. Недаром глагол тэ имеет не одно, а как минимум четыре значения: говорить, слышать, чувствовать, обитать.
Что касается пословиц, то для западноафриканских племен они — больше чем просто народная мудрость. Это и свод законов, и магические заклинания, и своеобразная форма ораторского искусства. «Слова — пища для души, а пословицы — пальмовое масло, с которым едят эту пищу». «С мудрецом говорят поговорками». «Иногда пословица — это твой меч, иногда — твой щит». Африканский талмуд пословиц и поговорок. Так, два престарелых ашанти, завсегдатаи «Эдуому», могут часами вести беседу, целиком состоящую из иносказательных афоризмов.
— Что скажешь, Коджо, какие новости?
— Что сказать, Кофи… Когда крыса находит фуфу, она ест фуфу, но пестик и ступку в крысиной норе не упрячешь. Если пальма гнется, значит, земля шепнула ей дурную весть. На каждой ветке по птице — дерева не видать. Слишком много нарядов, точно на похоронах.
— Не всякое облако приносит дождь, — парирует Кофи. — И потом, даже самый острый нож не разрежет собственной рукояти.
— Так-то оно так, но если бревно кладут в реку, оно не превращается от этого в рыбу. Тот, у кого нет одежды, всегда участвует в танце Асафо. На базаре бороду не продашь. Как сказал пес, если я упаду, а ты встанешь, будем считать, что это игра.
— Эй, Коджо, что Господь пожелал, человек не отменит. Закрой мертвецу глаза — и увидишь духа. Обращаясь к Богу, начни с обращения к воздуху.
Неискушенному слушателю вроде меня может показаться, что они просто состязаются в словоблудии. Однако информационный повод всегда присутствует. В данном случае речь идет о неудачной поездке: Коджо только что вернулся из Нью-Йорка, где гостил у детей. Дети, говорит он, живут теперь своими заботами и принимали старика не так, как требует обычай. Кроме того, в Нью-Йорке им, похоже, живется плохо, хотя они всячески стараются это скрыть. Коджо злится, Кофи пытается его вразумить. Впрочем, главное здесь все-таки форма, а не содержание. Ритуал диалога, пища для души, завезенная в Бриджпорт из африканской деревни. Непроглатываемый, словно шарик фуфу, комок ностальгии.
Родные и близкие, соседи и родственники соседей, облаченные в черные и красные платья, напоминающие римские тоги, выгружаются из микроавтобусов, рассаживаются по кругу, раскрывают большие зонты с оборками. Многочасовое действо, разворачивающееся в центре круга при активном участии зрителей, называется овуо ачведье[23] — по названию одного из узоров адинкра.
Атмосфера — при всей серьезности повода — скорее праздничная. По аканской традиции так и должно быть: если «виновнику торжества» посчастливилось дотянуть до почтенной старости, его похороны — это прежде всего праздник жизни. Песни, пляски, даже своеобразный капустник, в котором обыгрываются эпизоды из жизни усопшего… Но самое невероятное — гроб в форме рыбы, привезенный из Ганы и наверняка стоивший заказчикам большей части семейных сбережений. Как нетрудно догадаться, покойный был хозяином рыбной лавки.
К микрофону подходит харизматичный священник в темных очках, как у агента спецслужбы. Проповедническое крещендо, пестрящее словами исцеление и спасение, нарастает вровень с дождем, точь-в-точь как в романе Чинуа Ачебе («одежда, словно в страхе, липла к телу…»). Время от времени дождь ненадолго утихает, как бы прислушиваясь, и через несколько минут припускает с новой силой. Наконец проповедник уступает стихии и, все еще на взводе, нараспев приглашает собравшихся перейти под навес. Паства снимается с мест, поправляет намокшие складки драпировки, передвигает стулья.
6.
Гамбиец Джеймс Кларк выучил русский только за то, что на нем говорила первая любовь, в свое время учившаяся во ВГИКе. Кроме того, он свободно владел как минимум пятью африканскими языками: малинке, фульбе, волоф, чви и неправильным английским. Знание русского ограничивалось у него отдельными фразами, но фразы эти — из уст африканца — были поистине замечательны. Когда нас представили, Кларк протянул мне руку со словами: «Zhiteli vol’nyh pastbisch privetstvujut vas!» В другой раз, возмущаясь только что прочитанной болтовней какого-то политического обозревателя, подытожил: «V «Izvestijah» net pravdy, v «Pravde» net izvestij». Между тем на одной шестой он никогда не бывал, да и русскоговорящая кинематографистка осталась в далеком тропическом прошлом.
Когда-то, давным-давно, он учился в Гане — на одном курсе с Пэппимом и Апалоо. Был свидетелем на их свадьбе. После мединститута эмигрировал в Америку, поступил в ординатуру в Нью-Йорке. Поступил, да не закончил — повздорил с одним из старших коллег. После этого он перебрался в Англию, где мотался из больницы в больницу, подвизаясь в качестве locum tenens[24]; затем ненадолго вернулся в Гамбию и вот к пятидесяти годам, женившись на американке, снова приехал в Штаты и — по протекции друзей юности — получил место в ординатуре Сент-Винсента.
К бывшему однокашнику и нынешнему начальнику, неизменно величавшему его «дядя Джимми», Кларк обращался с почтительным «доктор Пэппим», с помощью мимики стараясь обозначить в этом обращении уместную долю шутки. По утрам, рапортуя Пэппиму о проделанной за ночь работе, Кларк покрывался бисером пота, и его речь становилась похожей на бормотание гоголевского персонажа. При виде этой сцены — отчаянно потеющий Кларк, упитанная невозмутимость Пэппима — я вспоминал рассказ Наны о том, как в начальной школе она могла запросто приказать однокласснице из малоимущей семьи, чтобы та донесла до дому Нанин портфель или сбегала посреди урока в кафетерий за плюшкой… Словом, голова у меня была занята не тем, чем надо, так что когда приходила моя очередь рапортовать, я начинал мямлить и путаться еще больше, чем мой напарник.
Он был дотошен во всем, что касалось заполнения бланков, выписок, рецептов и проч. В первый же вечер он показал мне, как и что следует заполнять:
— Я люблю, чтобы все записи велись определенным образом. Документация всегда должна быть в порядке. Иначе хлопот не оберешься.
— Хорошо, Джеймс.
— Называй меня лучше дядя Джимми или просто Джимми. Никаких формальностей. И вообще, ты — босс, а я — твой помощник, — сказал он в точности как Оникепе. — Мне бы, главное, закончить чертову ординатуру, а там — трава не расти.
— Ну так ведь ты и заканчиваешь через полгода. Недолго осталось.
— Для меня шесть месяцев здесь — это слишком долго. За три года я успел возненавидеть этот госпиталь и все, что с ним связано. Я мечтаю только об одном: о непыльной работе в Мэриленде, где живет моя жена… Если б я мог прокрутить жизнь на несколько лет назад, ни за что не уехал бы из Гамбии. А если бы мог вообще начать сначала, не стал бы заниматься медициной.
— А чем бы ты тогда занимался?
— Чем-нибудь полезным. Стал бы ремесленником.
Среди заправлявших в стационаре немолодых «сестричек» дядюшка Джимми имел надежную репутацию старого добряка. Каждый вечер, совершая дежурный моцион по этажу, он приветствовал их непритворно-приторными «дорогая моя!» и «добрый вечер, прекрасная леди!».
Когда выдавались свободные полчаса, Кларк уединялся в каком-нибудь закутке и моментально задремывал, сидя на стуле и прислонившись к стенке. На вопрос, почему бы ему не улечься в дежурке, где стояли две относительно удобные койки, отвечал, что предпочитает «быть начеку».
Разносторонне начитанный, всегда и обо всем имевший подробное мнение, он мог быть интересным собеседником, но, как все уставшие и живущие через силу люди, часто повторялся. Его любимыми присказками были: «В Европе этого никогда бы не позволили» (когда речь шла о восьмидесятичасовой рабочей неделе и прочих мытарствах американского ординатора) и «Африка — прóклятый континент» (речь могла идти о чем угодно).
— Почему же прóклятый? Ты ведь сам говорил, что жалеешь о том, что уехал из Гамбии.
— Durnoe, da rodnoe, — произнес Кларк, в очередной раз демонстрируя недюжинные познания в области русской словесности. — Наши политики любят напоминать, что Африка — наша общая мать. У вас, наверное, это тоже в ходу? Я имею в виду всю эту «материнскую» риторику.
— «У нас» — это где?
— Да где угодно. В Америке, в России… Когда я слышу про это «материнство», у меня срабатывает профессиональный рефлекс: я сразу начинаю думать о болезнях, передающихся по наследству. А болезней в Африке больше, чем где бы то ни было. Приедешь — увидишь… Прóклятый континент. Я бы мог там жить, если бы не уехал, потому что знаю правила игры. Первое правило: когда дерутся слоны, больше всех страдает трава у них под ногами.
— Этэ сэйн! — Вихрем ворвавшийся в комнату Йау Аманкона от души рыгнул и шлепнул на стол медкарту. — Можете меня поздравить. Мне опять подсунули Флору Кабезас.
— Кто это ее к нам пустил? Мы же сто раз уже объясняли в пункте первой помощи, что ее надо гнать взашей.
— А она новый способ изобрела. Надышалась пыли в каком-то подвале, чтобы спровоцировать астматический приступ. Никуда не денешься, надо класть. Пока лежала в приемнике, все уши медсестрам прожужжала: и это у нее болит, и то болит. Те не выдержали и дали ей морфий. Теперь ее не выгонишь.
— Да, хорош у нас список пациентов, — отозвался Кларк, — наркоман на наркомане. Вот на что уходят деньги налогоплательщиков.
— Пока я не попал в Америку, даже представить себе не мог, что такое бывает, — неистовствовал Аманкона. — В Гане люди толпами подыхают от инфекций, так ни разу и не побывав у врача. А тут — болей не хочу. Всё есть — и лекарства, и оборудование. Приходишь в травмпункт, говоришь, мол, живот болит, и тебя сразу кладут в стационар. Кормят, поят… И что? Вместо того чтобы жить как следует, они торчат на морфии, выклянчивают его, валяются всю жизнь в больнице, лишь бы кайф поймать. Мерзость.
— Ну, медики, положим, тоже не без вины, — рассудил мудрый Кларк. — Как ты правильно сказал, дядя Йау, если больной в Америке жалуется на боль, его первым делом сажают на морфий. Это, кстати, к нашему предыдущему разговору, — Кларк повернулся ко мне. — В Европе такого никогда бы не допустили…
— А я и не говорю, что виноваты только пациенты. Виноваты врачи, которые с ними миндальничают. А еще больше виновато судопроизводство, которым нас все время запугивают. Дело в системе. И в тех, кто ею управляет. Заговор, он и есть заговор.
— Какой заговор? Еврейский? — Я уже слышал от кого-то из ординаторов, что Аманкона одержим теорией еврейского заговора, но для собственного удобства решил, что это шутка.
— Я ничего не говорил. Но ведь все всё понимают…
— Осторожно. Алекс-то, по-твоему, кто? — предостерег его старший товарищ.
— Ну и хорошо, — моментально нашелся Аманкона. — По крайней мере, если будет необходимо, ты всегда сможешь воспользоваться поддержкой тех, кто наверху.
— Пользуюсь, Йау, только и делаю, что пользуюсь их поддержкой. Катаюсь как сыр в масле.
— Да ладно, что ты. Евреи, не евреи — какая разница? Я ведь не об этом. Я о том, что они там наверху — кто бы они ни были — решают наши судьбы.
— Ампа! Когда дерутся слоны, больше всех страдает трава… — затянул свое дядюшка Джимми.
— Да, но евреи — все-таки слоны.
Назойливое повторение прозвучавшей пять минут назад пословицы окончательно вывело меня из равновесия:
— Евреи всегда наверху. И носы у них — как хоботы.
Аманкона натужно улыбнулся:
— Друг мой, когда ты соберешься в Гану, обязательно дай мне знать. Я тебя свяжу со своими, приедешь как к себе домой. Тебе у нас понравится.
— Да я и не сомневаюсь, что мне понравится в Африке… Жаль только, евреи ее колонизировали и разрушили традиционный уклад жизни.
— Пойду-ка я проведаю своих пациентов, — вздохнул Кларк. — Нам не за то платят, чтобы мы весь вечер в ординаторской лясы точили.
Мы вышли в коридор.
— Зря ты с ним так. С Аманконой ссориться глупо. Он у нас большой человек, ога, как говорят нигерийцы.
— И что мне теперь, молчать? Мне с ним детей не крестить, через полгода меня в этом госпитале уже не будет.
— Все равно не стоило его обижать. Ты ведь, наверное, не знаешь, что он не только врач, он еще и священник. Перед тем как поступить в мединститут, он окончил семинарию.
— Да плевал я на вашу… — Поймав его предупреждающий взгляд, я осекся. Действительно ведь наплевать.
До конца дежурства — три часа, даже меньше. Скоро можно будет идти домой. Покурить и спать. «Докета сэ менкода сеисие ара»[25]. Из-под прохудившегося покрова предутренней темноты клочьями лезет грязноватая подкладка сугробов. Два окна на шестом этаже соседнего здания поочередно вспыхивают сиреневым отсветом телеэкранов, как глаза чащобного чудища из шизофренических сказок Амоса Тутуолы. Эти сказки подсунул мне Энтони для ознакомления с фольклором йоруба. Я сделал над собой усилие и прочел их за один вечер — примерно так же, как из уважения к хозяйке проглатывают несъедобную пищу. Одно место, впрочем, запомнилось: то, где главный герой, отправившийся в Город мертвых, чтобы повидать своего покойного брата, прибывает наконец в пункт назначения и встречается с тем, кого искал. Оказывается, что покойник, бывший при жизни священником, ведет службу и здесь, продолжая вселять в души прихожан надежду на жизнь после смерти.
У.Д., 38 лет. Боль за грудиной, отдающая в левое плечо. Требуется исключить инфаркт миокарда. Стандартный протокол: ЭКГ плюс три тропониновых теста. В соответствии с протоколом мы должны продержать пациентку в больнице в течение восемнадцати часов, хотя в данном случае причина симптомов известна и без всяких тестов: У.Д. курит крэк. Рассказывает, что до августа прошлого года употребляла также и героин. Неделю назад «сдалась» наркологу. «Что побудило вас обратиться за помощью?» — «Я хочу, чтобы мне вернули моих детей». Детей трое. Я осматриваю пациентку: иссушенное тело, кожа да кости. «Вы что, вообще не питаетесь?» Мотает головой: «Давно ничего не ела». Губы собираются в тоненькую улыбку, но тут же начинают дрожать, по щекам текут слезы.
По истечении положенных восемнадцати часов я уговариваю начальство, что ее еще рано выписывать. Конечно, ломка — это не повод держать больную в Сент-Винсенте, для этого есть наркологическая лечебница. Но все-таки состояние нестабильное. Тахикардия, рвота, да мало ли что. Через три дня терпению начальства приходит конец, и мы оформляем выписку в наркологический диспансер. «В следующий вторник придете к нам в поликлинику. Я записал вас на прием». — «Хорошо, доктор, спасибо вам за все…» Та же тоненькая улыбка, от которой сжимается сердце.
Через полчаса меня вызывает медсестра: вместо обещанных санитаров за У.Д. приехал жених, говорит, что отвезет ее сам. Неопрятный мужик лет пятидесяти, обильно надушенный дешевым одеколоном. Вид безумный, видно, что не только торгует, но и сам торчит.
— Вы же сказали, что едете в лечебницу.
— Раз сказала, значит, еду, — на лице уже совершенно другая улыбка.
— Вы уверены?
— Эй, мистер, ты как разговариваешь с моей невестой!
— Успокойся, бэби, все в порядке. — Она целует своего защитника в шею и наскоро собирает вещи трясущимися руками.
«Вот на что уходят деньги налогоплательщиков», — говорю я медсестре, когда мы выходим из палаты. Но поза видавшего виды медика у меня выходит криво, идиотская впечатлительность желторотого ординатора налицо. Соглашается: «Конечно, доктор».
7.
В начале зимы мы узнали о предстоящей ревизии: какие-то важные лица из государственного ведомства, о неограниченных полномочиях которого можно было судить по количеству букв в аббревиатуре, собирались разглядывать сквозь лупу всю подотчетную деятельность госпиталя. От результатов экспертизы зависело будущее Сент-Винсента.
Весь декабрь нас по очереди вызывали на приватные разговоры с начальством. Начальство запирало дверь кабинета, предлагало чай или кофе, засим начинало выуживать подноготную, особенно интересуясь оценкой работы коллег. По пятницам вместо пэппимских семинаров в конференц-зале теперь устраивались административные собрания, из которых я понял, что финансовые дела у нас идут хуже некуда. Врачей призывали не заказывать лишних тестов, экономить на томографии, обходиться по возможности без профилактических процедур. Дошло до того, что нас попросили не выбрасывать прочитанные номера медицинских журналов, а сдавать их в больничную библиотеку, чтобы администрация могла сэкономить на подписке.
Для непримиримого Энтони Оникепе предревизионная суматоха стала сигналом к действию. «Эти хмурые сверху, они не просто так. Я этого балагана еще в Нигерии насмотрелся: если санитарный инспектор заглядывает под кровать, он ищет там орешки кола, а не личинки москитов. Но допросы, которые учиняет наше руководство, очень кстати. Надо воспользоваться случаем». Идея, созревшая в голове моего приятеля, была до неприличия завиральной: речь шла ни много ни мало о гражданской войне с сопутствующими чистками и террором. Для подрывной работы нужна ячейка единомышленников, и Энтони воззвал к африканским собратьям по ординатуре, приплюсовав к ним для кворума и меня. «Наша медицина — это тонущий корабль, — говорил зачинщик, вдохновленный речами Обамы, на первой сходке в «Эдуому». — Чтобы спасти положение, надо не макулатуру в библиотеку таскать, а избавить медицину от тех, кто не должен ею заниматься». Первой жертвой предполагаемых чисток должен был стать человек с чарли-чаплинской походкой, доктор Рустам Али.
Вскоре по почтовым ящикам Сент-Винсента разошлось открытое письмо, адресованное генеральному директору госпиталя. Авторы письма (в конце стояло пятнадцать ординаторских подписей) выражали готовность содействовать разработке новых стратегий, направленных на повышение качества медицинского обслуживания. Далее следовал ряд предложений, связанных с заполнением реквизитов и прочей чепухой административно-хозяйственного порядка. Последним пунктом шла филиппика против Рустама. Заведующего паллиативным отделением обвиняли в халатности, в неоднократно проявлявшейся профессиональной некомпетентности и, наконец, в человеческой черствости, недостойной врача. Собственно, все это было чистой правдой.
Грозы не воспоследовало. Не было даже отдаленных раскатов. Только мелькавшие от случая к случаю фразы «наши листовщики» и «трибунал Оникепе» свидетельствовали о том, что письмо было прочитано. «Не хотят по-хорошему — не надо. Это только начало!» — упорствовал глава трибунала. Наконец отметившихся в письме повстанцев начали приглашать по одному на аудиенции за закрытой дверью.
«Алекс, аквааба, во хо тэ сэйн!» — заулыбалась Виктория Апалоо. Слева от нее восседал председатель совета директоров Ричард Гольдфарб, а по правую руку — посрамленный Рустам Али собственной персоной. Весело переглянувшись с коллегами, Апалоо пошла в атаку: «Я думаю, Алекс, ты уже слышал от своих друзей, что мы устраиваем перекрестные допросы, да и вообще используем самые что ни на есть брутальные методы, чтобы добиться от вас чистосердечного признания и раскаяния в содеянном. Вас, ребята, послушать, так у нас тут прямо испанская Инквизиция! Вот что значит чрезмерное увлечение художественной литературой. Честно говоря, меня огорчило ваше послание. Речь идет о серьезных вещах, о том, что наша больница еле сводит концы с концами. А вы всё играете в детские игры, сводите какие-то личные счеты… Пора подрасти, ей-богу. Но вызвала я тебя не за этим, а просто чтобы сказать: все в больнице очень довольны твоей работой. Даже медсестры, а они у нас, как ты знаешь, самые придирчивые. Словом, я тебя поздравляю. Мо вайадье![26] Кроме того, я хотела представить тебе нашего нового заведующего ординаторской программой, доктора Рустама Али. Со следующего месяца я передаю ему бразды правления». При этих словах преемник отмерил чайную ложку улыбки.
Как и следовало ожидать, о «трибунале Оникепе» больше не было ни слова. Историю с письмом замяли, а обещанная ревизия так и не состоялась.
Через месяц приемная комиссия занялась рассмотрением заявлений на будущий год, и в больнице стало известно о негласном постановлении не принимать больше африканцев — по крайней мере в ближайшие год или два. После всего случившегося эта новость никого не удивила. Удивляло то, что идея новой «расовой квоты» исходила, как вскоре выяснилось, от самой Апалоо.
Третий день подряд снится одно и то же. Заоконный шум превращается в знакомую мантру дежурного пейджера: «Код 99! Код 99! Палата номер…» «Код 99» — это позывные SOS, вызывающие смесь тошноты и адреналина на уровне павловского рефлекса. Я бегу по лестнице, по коридору. Странная аберрация: сон, не переиначивающий, а с точностью воспроизводящий реальные события. Как будто есть один-единственный сценарий, и отступления от него невозможны даже во сне.
В центре сна — шестидесятилетний латинос, бессловесный, приземистый нелегал из тех, что работают за наличные и живут по семеро в одной комнате; о чьем существовании узнают только при поступлении в больницу. Это пациент, которого мы с Энтони безуспешно откачивали в течение часа… Трудно поверить: семь месяцев тому назад.
В тот день он попал к нам вместе с женой. У обоих диабет. Анамнез, умещающийся в несколько строк, — один на двоих: накануне купили в супермаркете торт, чтобы отметить годовщину свадьбы. Диабетический кетоацидоз. Ее положили в палату на седьмом этаже, его — на восьмом. Через час после поступления с ним случился обширный инфаркт.
Снится испуганная старуха в домашних шлепанцах и васильковой ночнушке. Как во время СЛР[27] санитары прикатили ее в инвалидном кресле с седьмого этажа и как, увидев сгрудившихся медиков, она стала звать мужа, кричать, чтобы его не убивали, а когда ее подкатили к нему, гладила по руке и уговаривала проснуться. «Нет, это никуда не годится. Ей нужно дать успокоительное и отвезти обратно», — вмешался Пэппим. До этого он только молча наблюдал за происходящим.
Несколько раз пульс удавалось восстановить, но через две-три минуты дефибриллятор снова фиксировал асистолию.
— Надо связаться с детьми, — скомандовал Пэппим. — Есть у них дети? Все это бесполезно, но правила надо соблюдать. Нам требуется разрешение от кого-нибудь из членов семьи, чтобы остановить реанимацию.
— У них нет детей.
— Братья, сестры, еще кто-нибудь?
— В медкарте не указано никаких контактов. Может, у супруги спросить, если она еще не уснула?
— Можно попробовать. Значит, один из вас идет тормошить супругу, а остальные продолжают СЛР. Вперед.
К тому моменту, как я спустился на седьмой этаж, чтобы выяснить, есть ли у них родственники, успокоительное уже успело подействовать. Снится, как она смотрит на меня спокойно-отсутствующим взглядом, кивает, не понимая моих слов, и невпопад отвечает вопросом: «Ему уже лучше?» Как сиделка укладывает ее спать… Пэппим, снимающий очки и устало трущий глаза: «Ладно, можно не продолжать».
Возвращаясь в ординаторскую, я слышу, как из больничного репродуктора — по логике все того же голливудского монтажа — доносится шкатулочная мелодия колыбельной: это значит, что на пятом этаже, в отделении акушерства и гинекологии, только что родился ребенок.
8.
После дежурства я, как обычно, зашел в «Эдуому», держа наготове радостное «этэ сэйн», но уже в дверях понял, что сегодня никакого этэсэйна не будет: Энтони с носорожьим видом промчался мимо меня, оставив Нану обескураженно сидеть за столиком.
— Какая муха его укусила?
— Энтони сделал мне предложение, — с расстановкой сказала Нана.
— О-го… Судя по его виду и по отсутствию кольца, ты ему отказала.
— Какое кольцо? О чем ты говоришь? У нас это не принято. Но вывод правильный.
— А я и не знал, что у вас с ним… отношения.
— Отношения исключительно дружеские. Просто одиноко ему, вот и все. Энтони нужен человек, который будет его слушать и вытаскивать из депрессий.
— Его можно понять.
— Конечно, можно. Мне нужно то же самое. Следовательно, мы друг другу не пара. Примерно это я ему и сказала.
— И что он?
— Попросил, чтобы я старалась не попадаться ему на глаза.
— Может, отойдет?
— Не думаю. Нигерийским мужчинам отходчивость не свойственна. Оно и к лучшему. Мне здесь в любом случае пора закругляться. Особенно после истории с артеренолом.
— Что за история с артеренолом?
— А я разве тебе не рассказывала? Это еще на прошлой неделе случилось. Я отлучилась на пять минут в медсестерскую, а когда вернулась, увидела, что у моего пациента вместо ванкомицина висит капельница с артеренолом.
— То есть кто-то ошибся?
— Ошибиться в данном случае могла только я. Но я этого не делала.
— Ты шутишь.
— Зачем мне шутить? Если бы я не заметила, был бы «код 99».
— Кто же мог такое сделать?
— Уж не знаю кто. Доказательств у меня нет.
— А подозрения?
— Недоброжелатели всегда найдутся, а уж среди медсестер особенно.
— Ты Энтони все это рассказывала?
— Боже упаси. Он бы, чего доброго, взялся, как он это любит, вывести злодеев на чистую воду. И сделал бы только хуже. Не надо мне никаких разбирательств. Надо просто собрать вещи и тихо уйти. Попрошу в агентстве, чтобы меня досрочно перевели. Кажется, это можно. Будешь навещать меня в Аризоне, или куда там меня теперь пошлют.
— Ты что, правда решила уехать?
— «…И пришло разрушение»[28]. Нам, африканцам, не привыкать. Я, кстати, так и не спросила: почему тебя так тянет в Африку?
— В Африку?..
— В Африку, в Африку. Туда, где негры живут. Что с тобой?
— Не знаю, по привычке, наверное.
— Что — по привычке?
— В Африку тянет по привычке. У меня это идея-фикс еще с первого курса мединститута.
— А тогда почему тянуло?
— Жажда экзотики, юношеский максимализм.
— Ну-ну.
— Не знаю я, Нана, почему меня постоянно куда-то тянет. То есть знаю, наверное. Я ведь эмигрантское отродье, в Америке русский, в России американец. Человеку, который не здесь и не там, надо ехать в Африку. Преодолеть закон исключенного третьего.
— Понимаю: санкофа.
— Что?
— Сан-ко-фа. Как бы ты это перевел?
— Вернуться, чтобы взять… Вернуться, чтобы что-то взять.
— Правильно. Санкофа — это из адинкра, из наших символов. Я вот тоже всю жизнь живу, как будто это все — так, на время, а в один прекрасный день я все брошу и благополучно вернусь домой. Хотя где этот дом, я понятия не имею. Надо, мне кажется, сменить установку. Пожить без костылей. Тогда никакая Африка не понадобится… Но в Гану ты все равно поезжай, тебе там понравится. Вон ты уже как на чви болтать начал — зря, что ли, старался?
Через неделю она уехала. За день до ее отъезда я договорился с Маоли, и мы устроили отвальную. Супруги Онипа, как всегда, приготовили пир на весь мир, но праздник получился на тройку — много случайного народу, какое-то машинальное и бессмысленное оживление, всё не так. Дружба с Энтони угасла сама собой. В больнице мы пересекались редко. Периодически созванивались, вкратце сожалели, что давно не виделись, давно пора наверстать, но на этой неделе никак, может быть, на следующей, в общем, держим связь… Нана присылала из Аризоны письма, которые подписывала «Nochka», пытаясь воспроизвести запомненное со слуха русифицированное обращение. Не «Ночка», а «Наночка»! «Nochka» means «Little night». Little night? That’s even better.
Воскресным утром за окном голосит неотложка, и через пять минут отряд парамедиков в синих джемперах, с носилками наперевес штурмует квартиру, возвещая о своем прибытии воинственным «CLEAR!» — «Дорогу!». WHAT IS HER NAME? WHAT IS THE PATIENT’S NAME? «Хёр нэйм?» — переспрашивает мама. HER NAME, HER NAME! DOES ANYONE HERE SPEAK ENGLISH? Они хотят знать, как ее зовут. Хёр нэйм из Соня…
Сонья, Сонья! Ражий парень с ирландским трилистником на запястье выволакивает пациентку на середину комнаты, разрезает ночнушку, наклеивает присоски для ЭКГ. Его напарница поднимает с пола пустой пузырек из-под снотворного. DID SHE TAKE THIS? SONYA! WHY DID YOU TAKE IT, SONYA? Отзываясь на имя, искаженное иностранным произношением и обезличенное смертью, бабушка Соня коротко всхлипывает, но возвращается в сон, как будто решив, что обращались не к ней.
Часть II. Эльмина
1.
— American? Красный Крест? Нет? Все равно аквааба, мы тебя ждали, — тараторит фельдшер, уступая мне место. — Видел толпу пациентов в приемной? Все эти люди ждут тебя!.. Ну, до завтра. — И, перекинув халат через спинку стула, направляется к выходу.
— Но мне никто так и не объяснил толком, что к чему…
— А чего объяснять-то? — фельдшер оборачивается в дверях, делает суровое лицо. — Есть лекарство от мар-лялии[29], есть амоксицир-лин. Что еще? Больных будешь вызывать вот по этому списку. Ничего сложного!
В этот момент из-за спины фельдшера, в узком проеме между косяком и дверью, появляется миниатюрная женщина с тремя детьми. Женщина явно рассчитывает прошмыгнуть в кабинет мимо фельдшера, но тот резко подается вбок и, прижав ее всем своим весом, рявкает себе под мышку:
— Хван на афрэ уо? Оби афрэ уо?[30]
— Докета на уафрэ…[31]
— Докета дье, нэни абрэ. Кочвен коси сэ эбефрэ уо, уэй?[32]
— Дээби, ме сеэсеи хо[33], — вмешиваюсь я.
Фельдшер удивленно оглядывает меня и, сердито причмокнув, вваливается обратно в кабинет — видимо, решив, что, хотя сложного ничего и нет, оставлять меня без присмотра все же не стоит. Заняв свое прежнее место (для меня нашелся другой стул), фельдшер небрежно машет пациентке, которая, впрочем, и без его команды уже переступила через порог и теперь — за неимением третьего стула — переминается у входа, окруженная голопузым выводком.
— OК, бра, шеше бээби атена асэ. Уамманье?[34]
Женщина подталкивает к «следовательскому» столу свой детсад: речь пойдет не о ней, а о них. Сама же заходит с другой стороны и, наклонившись, пускается в объяснения — скороговоркой и шепотом. Здесь так принято. О симптомах болезни, даже если это — обычный насморк, пациент сообщает врачу на ухо. Даже если рядом нет никого, кто бы мог (а уж тем более захотел) подслушать.
…То же самое торопливое бормотание я услышу два дня спустя, когда, гуляя по городу после окончания работы, встречу ее на улице. «Тсс… Тсс… Мистер… Уокае ме анаа?»[35] Я рад встрече: как-никак она — моя первая пациентка в Эльмине. Вернее, не она, а ее двухлетний Айзек, которому я с торжественным видом выписывал рецепт на таблетки от малярии. Теперь Айзек спит в цветастом платке у нее на спине, а еще двое — мальчик и девочка — шлепают рядом. И теперь, следуя за мной по всему городу, она будет повторять одно и то же — сначала весело, потом все более уныло и неотвязно, в то время как я буду улыбчиво делать вид, что не понимаю, хотя что уж тут непонятного: Айзек три дня ничего не ел, эком дэ но паа[36], вот она и просит мистера помочь, предлагая взамен «услуги»… Но я буду цепляться за свое непонимание, буду врать себе, пока наконец не сдамся и не попытаюсь откупиться от стыда несколькими купюрами. Но, получив деньги, она не исчезнет, а наоборот — еще настойчивей станет тянуть меня куда-то домой, где ждут обещанные услуги. И тогда я шарахнусь от нее: «Дээби, дээби, менхийя…»[37] — и внезапно проснувшийся Айзек дернется от мушиного укуса, чудом удержавшись в наспинной люльке.
Клиника, где я оказался в качестве врача без границ, находилась по адресу Трансафриканская магистраль, дом три. Дом четыре принадлежал семье Обенг, у которых я, как и другие волонтеры, приезжавшие до меня, снимал комнатушку — с доплатой за наличие вентилятора и кровати. Остальные дома, расположенные вдоль этой тихой улицы с громким названием, не были пронумерованы, так что любой из них мог бы запросто стать первым домом на Трансафриканской магистрали, если бы хозяевам взбрело в голову обзавестись соответствующей табличкой. Но вопрос о первенстве не интересовал домовладельцев; на тесно сгрудившихся жилищах красовались вывески иного толка. Парикмахерская «Иисус». Магазин электротоваров «Сила Господня». Травяная аптека «Бог в помощь». Каждая лачуга размером с дачный сарай служила одновременно жилым домом и помещением для бизнеса, торговой точкой. Вся улица (да что там улица — весь город, а то и вся страна) выглядела как одна бесконечная барахолка или коммунальный коридор, где самые разные вещи выставлены на всеобщее обозрение. Чего только не увидишь среди сугробов хлама по краям грунтовой дороги — от нижнего белья до холодильников; от картонных колонн и прочей бутафории, выкрашенной под мрамор, до завернутых в банановые листья батончиков кенке[38]; от облицовочной плитки до автомобильных капотов, похожих на отрубленные головы океанских чудищ, в комплекте с фарами, радиаторами и бамперами.
Разрыв между вывеской и действительностью может быть сколь угодно велик. Так, над входом в хижину, крытую плетенкой из пальмовых листьев, крупно выведено «Автопарк» или «Библиотека». Название ни к чему не обязывает, обязательно лишь воззвание. Бензоколонка «Аминь», продмаг «Аллилуйя». «Дже Ньяме»[39]. «Энье маходэйн»[40]. В рыбацком городке Эльмина, насчитывавшем около двадцати тысяч жителей, действовало более сотни церквей — и всего одна поликлиника.
Каждое утро, начиная с семи часов, женщины, навьюченные больными детьми и предметами розничной торговли (дитя — на спине, товар — на голове), занимали очередь у окошка регистратуры. К половине девятого очередь превращалась в толпу и те, кто еще час назад стоял в двух шагах от цели, теперь оказывались в задних рядах. Оттесненные наплывом, они вставали на цыпочки, чтобы издали заглянуть в недосягаемое окошко. Убедившись, что в окошке по-прежнему пусто, издавали причмокивающий звук, выражавший крайнее недовольство. «Куафье! Эдьен на уооном джуэне хо? Уово аниву? Уово kommon sensa?»[41]
Фельдшер Бен — тот, что толковал мне про «марлялию», — испарился в первый же подходящий момент, бросив с порога заведомое «меба сеэсеи»[42]. Только его и видели. Теперь я делил кабинет с тетушкой Бретой, молодящейся толстухой с безостановочной мимикой и волосами, заплетенными в мелкие косички. Медсестра с тридцатилетним стажем, Брета вышла на пенсию три года назад, а еще через год вернулась в клинику на добровольных началах.
— Врачей-то у нас нет, — объясняла она, виновато разводя руками.
— То есть как нет?
— А вот так. Нету, и всё. Одни фельдшера да медсестры. Нам еще три года назад обещали прислать доктора из Кейп-Коста, до сих пор ждем. Ну вот, теперь зато ты приехал.
— Это что же, я единственный врач на всю Эльмину?
— Ампа, папá. Уо нкоаа[43].
Мы сидели за одним рабочим столом, друг напротив друга, и тянули медкарты из общей стопки. Основная часть доставалась Брете: за то время, которое требовалось мне для осмотра одного пациента, Брета успевала осмотреть пятерых. Иногда она обращалась ко мне за консультацией.
— Папá!
— Тетя Брета!
— Имеется пациент со свинкой… Амоксициллин?
— Почему амоксициллин? Зачем?
— Ама ти но…[44]
— Но ведь свинка — вирусное заболевание.
— А-а… Ну и что тогда, артеметер?[45]
Время от времени до окружной администрации доходили слухи о печальных последствиях Бретиной «терапии». Однако администрации было недосуг разбираться, а сама Брета сокрушалась, но не теряла веру в свое призвание. Все, чего ей недоставало по части медицинских познаний, она добирала воспитательной работой. Гроза чумазых школьников, вечно врывавшихся в кабинет без почтительного «мепаачеу»[46], и нерадивых мамаш, вечно обращавшихся за помощью на три дня позже, чем следовало, Брета нравоучительствовала urbi et orbi, то и дело срываясь на крик, стуча кулаком по столу или хватаясь за стоявшую рядом швабру. Разумеется, в этих эскападах было немало игры на публику, но рано или поздно поборница чистоты нравов и вправду выходила из себя, распалялась не на шутку — зачастую без всякого повода. «Буэ уэнум нэ каса!»[47] — орала Брета, отчего страдавшая заиканием школьница заикалась еще больше, а ее подбородок, отчаянно дергавшийся в речевых потугах, дрожал всё мельче — вот-вот заплачет.
— Тетя Брета, хватит!
— Извини, папá, не хотела тебя пугать.
В те благословенные минуты, когда Брета не бушевала и не выставляла провинившихся пациентов за дверь, она преимущественно жевала. «Брета дье, опэ лайф, оди нэнум»[48], — подтрунивала медсестра-практикантка Абена, которая и сама-то была всегда не прочь подкрепиться. Каждое утро, пока долготерпеливая очередь виляла растущим хвостом перед окошком регистратуры, эти двое запирали дверь кабинета и с церемониальной неспешностью выставляли принесенный из дому завтрак: оладьи из бобовой муки или пряную кашу со странным названьем «Том Браун». По пятницам Брета стряпала также «бриби соронко»[49], а однажды — по случаю дня рождения Абены — приготовила даже праздничное «ато» из толченого ямса с пальмовым маслом, яйцом и вяленой рыбой: ганский эквивалент именинного пирога. Извлекая из сумки многочисленные кульки и промасленные свертки, она превращалась в сущую Пульхерию Ивановну: казалось, ничто на свете не доставляет ей большего удовольствия, чем закармливать нас с Абеной своими деликатесами. «Фа какра био, папá, вунху брибья тэсэ уэи уо Америка, о-о…»[50]
Переход реальности на другой язык повергает в состояние, схожее с нарушением внутренних часов в организме, — в точности как переход на другое время. Все происходит в несколько замедленном темпе, фиксируется отчасти. Ты идешь по улице или сидишь в придорожном чоп-баре среди людей, вокруг которых клубится туман непонятной речи. Ты привыкаешь к этой пелене, постепенно перестаешь ее замечать и поэтому не сразу понимаешь, в чем дело, когда однажды в пелене обнаруживается прореха, внезапный участок ясности.
Кажется, весь фокус в том, чтобы заучивать не отдельные слова, а целые пласты речи. Запоминать и воспроизводить непривычную для европейского уха просодию; обживаться в пространстве тонального языка, где «мо!джа» означает «кровь», а «мо!джа!» — «вы оставили». Осваивать диалоги, сплошь состоящие из поговорок. Увлекательный мир идиом. Взять хотя бы телесные фразеологизмы, которые используются здесь для обозначения абстрактных понятий, составляют основу словообразования. Существительное анидасоо (надежда) происходит от выражения «Мэни да со сэ», означающего «Я надеюсь, что…», а в дословном переводе — «Мои глаза легли на то, что…». Слово анивуо (стыд) — от «Мэни аву» («Мои глаза умерли», т. е. «Мне стыдно»). Таким образом, стыд — «мертвоглазье». Смелость — «тяжелогрудье», жадность — «горькобрюшье», печаль — «забывчивосердье». Мировосприятие проступает сквозь повседневную речь, как монетный профиль — сквозь штриховку на тетрадном листе.
Этот опыт адаптации у меня — третий по счету. В одиннадцать лет я эмигрировал с родителями в Америку, в двадцать один — отправился корчить из себя свободного художника в Париж, а сейчас мне тридцать один. Никакого корня тут не извлечь — разве что узнаваемость ощущения, связанного с погружением в новый язык. Точнее сказать, в безъязычье.
2.
Фельдшер Бен не вернулся ни через два дня, ни через три недели. Его загадочное исчезновение прошло почти незамеченным, как это часто бывает в Африке, где люди давно привыкли к засилью необъяснимого. Припоминали или воображали, что припоминали, будто накануне отлучки Бен кого-то о чем-то предупредил. То ли что едет в Кумаси проведать племянника, то ли что решил вернуться в родную Нигерию. Во всяком случае, рассуждали коллеги, если б случилось неладное, нам бы наверняка уже было о том известно.
Как бы то ни было, следы медицинской деятельности Бена, ни в чем не уступающей знахарству тети Бреты, продолжали обнаруживаться повсюду. Так, однажды утром приемная огласилась победоносным кличем «Эбэуо ммофра!»[51] и на мой стол легла «путевка в жизнь» в виде замусоленной справки из центральной лаборатории Такоради-Секонди. При ближайшем рассмотрении справка оказалась свидетельством о высокой оплодотворяющей способности ее обладателя. «Семенная жидкость в норме». Заключение размашистым почерком.
— Что ж, это прекрасная новость. Скажите, а у вас были причины подозревать обратное?
— Мепаачеу, аанэ[52]. Понимаете, мы с женой три раза делали ребенка, и все три раза был выкидыш. Мы подумали, что это окобайе, так что когда у нас родился Кофи, мы сделали надрезы[53], как положено. Но Кофи мы тоже не удержали, он умер через неделю, а в следующий раз опять был выкидыш. Тогда мы пошли к доктору Бену, и он направил меня на анализ… Ньяме адом, Ньяме адом[54], теперь все будет хорошо.
Историй было много, одна абсурдней и трагичней другой — сплошное раздолье для новоиспеченного медика, желающего почувствовать себя спасателем и экспертом. Врач без году неделя, я с удовольствием приноровлялся к интонации просвещенного «большого брата».
— Тетя Брета!
— Папá!
— Вчера вечером к нам поступил пациент по имени Джозеф Обимпэ. Вот его медкарта. Вы принимали этого пациента?
— Принимала, папá.
— Интересный случай. Годовалый ребенок отправил в рот целую упаковку родительского слабительного. Со всеми вытекающими последствиями.
— Точно, папá. Последствий вытекло много.
— Вот-вот. Мне казалось, в таких случаях первым делом ставят капельницу и вводят физраствор. Вы ввели физраствор, тетя Брета?
— Мепаачеу, доктор, в нашей аптеке не было физраствора. Но я дала ему метронидазол.
— Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Метронидазол — антибиотик, его назначают при кишечных инфекциях. Разве у нашего пациента наблюдаются признаки кишечной инфекции?
— Наблюдается понос… Уако тойлет.
— Но ведь мы-то знаем, из-за чего уако тойлет. Знаем, тетя Брета?
— Знаем, доктор. Из-за слабительного.
— Так с какой стати мы прописываем ему метронидазол?!
Тетя Брета виновато улыбалась. Брета Одоом, годившаяся мне в матери, не обижалась на мой начальственный тон и не напоминала о том, что не далее как на прошлой неделе я пропустил язву Бурули, приняв ее за ожог… Все они улыбались, признавали свое невежество, благодарили приезжего доктора за преподанный урок. И продолжали упорно верить в то, что малярия вызывается избыточным употреблением в пищу маниоки, а вовсе не плазмодиевой инфекцией. Продолжали направлять пациентов на анализы семенной жидкости и прописывать метронидазол. «Ведь соглашаются же, благодарят… Прикидываются дурачками. А на самом деле это они нас держат за дураков, — заключил врач-педиатр из Канады, с которым я разговорился однажды в автобусе по пути из Аккры. — Ничего не меняется и никогда не изменится…»
Но канадец ошибался. В их готовности благодарить и соглашаться не было ни тени лукавства. Однако то, что белокожему представляется содержанием, для африканца — всего лишь форма. То, что кажется неизменным, может измениться в любую минуту самым непредвиденным образом. Незащищенность — руководящий принцип, фундамент, на котором строится жизнь со всеми ее поверьями и вековой инертностью. Это свойство климата, изначальная данность окружающей среды. Аборигены Эльмины продолжали гнуть свою линию, потому что, поменяв одно, надо было бы поменять и все остальное, и никакой заморский светоч не смог бы дать им гарантию, что столь кардинальные изменения приведут к улучшению, а не наоборот.
После работы я шел гулять по поселку, останавливаясь у каждой хижины, откуда меня окликали по имени полузнакомые люди.
— Ий, доктор Алекс! Вуко хэ? Уопэ адиди бриби? Уопэ сэ мепам адье ама уо?[55]
Никто не одинок, все охвачены заботой и сплетней. Никогда не запираемые двери лачуг выходят в общий двор, где женщины стряпают еду на углях или стирают нарядные платья в сточных канавах. Пятилетние дети таскают младших братьев-сестер на спине, и никто не боится отпустить ребенка гулять одного, потому что весь мир состоит из родни, из дядюшек и тетушек, всегда готовых прийти на помощь (или отшлепать чужое дитя, как собственное, если дитя нуждается в воспитании)… При этом потомство заводят «с запасом» — из расчета, что выживут не все, спасибо, если половина. Что ни день, из близлежащих селений слышится узнаваемый клич говорящих барабанов: «Ммара! Ммара!» Барабаны предупреждают мертвых, что среди них произойдет рождение…
В одной из хижин мне сшили африканский костюм, в другой — рубаху и батакари[56]. Радушные хозяева угощали супом из улиток абунобуну, супом из окры, супом из земляных орехов. После трапезы гостя принято приглашать в дом для подробных бесед о том о сем; в моем случае — для обоюдной вежливости и неловкого молчания. Уставясь в тарелку с супом, я думал о той Африке, которую выбрал себе в качестве мечты чуть ли не на первом курсе мединститута. О мечте, притягательной своей несбыточностью; устремленной в неведомое пространство… И вот я здесь.
Базарная площадь в преддверье джуа[57], утреннее столпотворение: женщины с грудными детьми, проповедники и колдуны, козы, куры, прочая живность. Посреди площади прямо на земле лежат мальчик и девочка. «Доктор Алекс, бра ха!» — одна из торговок подзывает меня и показывает на детей. Что-то с ними не то — не взглянешь, доктор? Слезящиеся полузакрытые глаза, учащенное дыхание, толстый оранжевый налет на языке… Куда смотрит их мать? — Не мать, а матери — они у них разные. — От базарной толпы отделяются две женщины с товарными подносами на головах.
— Сколько времени они у вас так лежат?
— Мепаачеу, нна ммьенса. Эйе бонэ?[58]
— Да, очень серьезно. Эсе сэ моко клиник сеэсеи ара[59]. У меня сейчас срочный вызов, но я вернусь не позже чем через час и буду ждать вас в приемной. Слышите, я буду ждать вас в клинике через час. Эйе бонэ па-па-па-па-па-па![60]
— Ибэба, ибэба[61], — энергично кивают женщины. Скорее всего, не придут.
Прежде чем вернуться в клинику, мы с Абеной должны нанести визит в цирюльню на противоположном конце площади: это и есть мой срочный вызов. Пятнадцатилетняя девочка, помощница парикмахерши, жалуется на маточное кровотечение… Сегодня утром у нее случился выкидыш после того, как тридцатидвухлетний сосед, от которого она и забеременела, переусердствовал, удовлетворяя свои мужские потребности. Повитуха применила «народное средство» — видимо, что-то вроде спорыньи, — но кровотечение не прекратилось, и старшая парикмахерша, озаботившись здоровьем подопечной, послала за доктором. В больницу они не хотят, но на лечение на дому согласны. «Лечение» — это сильно сказано. Изотонический раствор, эргометрин и антибиотик — минимум того, что предписывает современная медицина, и максимум возможного здесь. Умелая Абена помогает провести гинекологический осмотр, проверяя на сохранение частей плода в полости матки, пока за васильковой ширмой мылится мыло и пенится пена, продолжаются бритье и стрижка.
3.
На фоне однообразных халуп, сколоченных из трухлявых досок, крытых толем пополам с соломой или ржавым листовым железом, обнесенное штакетником бунгало «Суматра-хаус», принадлежащее Фрэнсису и Люси Обенг, казалось если не королевским дворцом, то как минимум особняком колониального наместника. Дед Люси, выстроивший этот коттедж с полвека назад, был видным общественным деятелем, внесшим немалый вклад и т. д., о чем свидетельствовал кенотаф посреди участка. Половина дома сдавалась приезжим медикам. Вторая половина была отведена под музей, посвященный африканским солдатам-вольнонаемникам, которые сражались в голландской Ост-Индии в середине XIX века. Цена входного билета — пять ганских седи — была умеренной: в коллекции имелось достаточно интересных экспонатов, включая старинные дагерротипы, рукописи и даже чучело дикого индонезийца в натуральную величину. Тем не менее за все время моего проживания в «Суматра-хаусе» не побывало ни одного посетителя.
Чтобы не терять форму, попечительница музея проводила экскурсии для своей трехлетней дочки Юнис, а заодно и для меня. Раз за разом я слушал про вольнонаемников, про историю племени фантсе, перенесшую, словно волны эпидемии, высадки португальских работорговцев, голландских золотоискателей и, наконец, английских миссионеров-колонизаторов. Про двух принцев, Квези Боаче и Кваме Опоку, отданных на откуп европейцам.
«Их увезли в Голландию, чтобы сделать из них голландцев. Но Кваме Опоку, сколько он там ни жил, все грустил по дому. Его дыханье ломалось, как у нас говорят. И в душе у него все было перевернуто вверх дном, как в доме, где побывал грабитель. И тогда голландцы решили отправить его домой. Возвращается Кваме в Эльмину, и как раз в этот день умирает король ашанти. Кваме пишет к обаахема[62] в Кумаси[63], что вот он вернулся и готов занять трон. Но тут выясняется, что он, пока жил в Голландии, разучился говорить на чви. А тот, кто не знает языка, как он может стать королем? И обаахема отвечает: ты — наследник престола, но прежде чем ты предстанешь перед старейшинами, ты должен вспомнить родной язык. И дает ему срок. Но Кваме живет в эльминской крепости, окружен одними аброфоо[64] — где ему вспомнить чви? И когда он понял, что не сможет вернуться в Кумаси, он покончил с собой, и теперь похоронен у нас в Эльмине…
А Квези Боаче, он — не то, что Кваме Опоку. Все, о чем он мечтал, — это стать европейцем. Он ел их еду, носил одежду, и его душа была радостью. Он и вел себя как голландский принц. Но Боаче — это ганский принц, не голландский. И когда прошло достаточно времени, голландцы сказали: ты — ганский принц, возвращайся к себе на родину. А Квези-то уже знал все, что случилось с его братом, он им говорит: не хочу, чтоб со мной случилось то же, что с Кваме, не хочу возвращаться, мое место здесь. И голландцы не знали, что с ним делать, и в конце концов они дали ему участок земли на Суматре и отправили его туда. Там он и умер…»
Иногда слушателей оказывалось больше: как и во всех относительно благополучных африканских домах, у Обенгов постоянно обреталась стайка «своих». «Свои» не были родственниками (родственники тоже имелись, но, обзаведясь собственными семьями, навещали значительно реже); это были полуслучайные люди в поисках домашнего очага, зашедшие на огонек и оставленные в качестве домашней прислуги. Со временем они становились почти частью семьи. Двенадцатилетняя Филомена помогала Люси на кухне и заботливо присматривала за Юнис. Четырнадцатилетний Дэниел выполнял «мужскую» работу по дому. Он мечтал играть на электрооргане в какой-нибудь большой церкви. Каждый вечер он упражнялся на детском пианино, которое подарили Юнис на день рождения.
Старшим из домочадцев был сторож Кваме. Ни чви, ни английского он не знал, говорил исключительно на фантсе[65]. Я с трудом понимал его речь, все эти «дз» и «тс», свойственные местному выговору и не свойственные ашанти-чви. По возрасту он был скорее «дедушка Кваме», но никто его так не называл. Называли «Кваме Большой» (в противоположность студенту-медику, который тоже носил имя Кваме — «Кваме Маленький»). Если учесть комплекцию сторожа, это прозвище звучало вполне издевательски. Беззубый и безволосый доходяга в джинсовом комбинезоне на голое тело, он появлялся к ужину, но есть никогда не ел, а досиживал до того момента, когда подавали еду, после чего тихо уходил и уводил детей. Детей было двое — мальчик и девочка, улыбчиво-молчаливые, как он сам. Некоторое время назад жена Кваме неожиданно бросила семью (говорили: сошла с ума, сбежала в другой город, видимо, прихватив, что было). С тех пор Кваме Большой ночевал на крыльце у Люси. Кто-то из моих предшественников подарил ему противомоскитную сетку; сторож подстилал ее вместо циновки и укладывал на нее детей. Сам он спал прямо на бетонном полу, под грохот «проповеднического» радио, которое врубал на полную громкость перед тем, как улечься.
Чем они питались, где и как жили в дневное время, Бог весть. Как вообще живут люди изо дня в день? Чужая жизнь — потемки, особенно там, где электричество отключают каждые пять минут. «Уж лучше бы отключили насовсем! — сетует в камеру местный житель по имени Данква или Менса, эпизодический, но обязательный персонаж ежевечернего выпуска новостей. — Уж лучше бы отключили насовсем. По крайней мере тогда мы могли бы срезать провода электропередач и разжиться хорошей медной проволокой!» В некоторых деревнях именно так и делают… За один прошлый год было зафиксировано несколько сотен смертельных случаев.
Раз или два в доме появлялись и вовсе посторонние люди, калики перехожие, обращавшиеся к хозяйке на неповторимом пиджин-английском:
— Ий, сестра, мой меньшой и я-то, мы пойдем путь поедем. Сам что знаю сказать, сестра, что состряпай нам, оу, поедем возьмем в дорогу.
— Я что думаю, брат, что состряпаю будет скоро, — отзывалась Люси, ничуть не удивляясь вторжению незнакомцев.
Как истинная африканка, Люси Обенг понимала время по-своему — в каком-то «интуитивном» смысле. Кажется, за всю свою сознательную жизнь она ни разу не сверилась с часами. Время было неделимым потоком, где каждодневные события и дела — встретить Юнис из школы, приготовить обед, сделать задание по биологии (заочные курсы) — естественным образом перетекали из одного в другое. Надо ли говорить, что, живя таким образом, Люси никогда не спешила и никуда не опаздывала? Но что в данном контексте может означать фраза «будет скоро»? Нюансы временны́х понятий заложены в языке, и тут у ашанти закручено похлеще, чем у любого Бергсона. Так, аканское слово da имеет два значения: 1) «день», 2) «никогда». При удваивании гласной получается слово daa, которое означает «всегда» или «каждый день». Итак, da или da bi da — это «никогда», а daa — «всегда». При этом da bi (где bi — неопределенный артикль) означает «когда-нибудь», а daabi означает «нет». Взаимопроницаемость «да» и «нет», «когда-нибудь» и «никогда», вся эта диалектика — не больше чем часть обыденной речи. И далее: можно выстроить целый синонимический ряд слов, означающих «вечность» (daapem, beresanten, afeboo) или указывающих на отдаленное будущее (da bi, daakye, akyire). А вот слова, означающего «скоро», в языке чви просто не существует, и носители языка вставляют английское soon, — если вообще оперируют этим понятием.
Незнакомцы размещались на кухне и принимались ждать обеда. Узнав, что я из Америки, приступали к расспросам:
— Нам говорили, что в Америке стариков отправляют в отдельные дома, где их никто не навещает. Это правда?
— Как вам сказать…
— У нас такого бы не случилось. Здесь стариков почитают. Это связано с нашей религией.
— С христианством?
— Нет, с той, которая была раньше. Знаешь историю про старуху и Бога?
— Вы имеете в виду — про старуху, которая толкла фуфу? Эту сказку я когда-то слышал от Наны. В незапамятные времена небо было близко, Бог был рядом. И вот старуха-прародительница стала толочь фуфу и, орудуя пестом, то и дело задевала Бога, живущего этажом выше. Некоторое время Бог мужественно терпел эти тычки, но в конце концов не вытерпел и переехал на верхние этажи. С тех пор до него не достучаться.
— Уайе адье, вуним ньинаа[66]! — одобрил мои познания неожиданно появившийся на пороге хозяин дома. — До нашего африканского Бога не достучаться, но старость близка к Переходу, а значит — к Нему. Овуо ачверье баако мфоро. Слышал такую пословицу? А? Я говорю: Овуо ачверье баако мфоро. Лестница смерти не рассчитана на одного. Уходящий наделяет готовностью всех живых.
4.
Фрэнсис Обенг был учителем младших классов. По утрам, разбуженные чуть свет истошным кукареканьем соседского кокоопаньин[67], мы начинали параллельные сборы: я — в больницу, он — в школу. Он — розги и туго набитый портфель, я — стетоскоп и справочник инфекционных заболеваний. Он — в накрахмаленной белой рубахе и джинсах «Wrangler», я — в относительно белом халате, опрысканном противокомариной дрянью. Засим вышагивали по бездорожью мимо киосков «Tigo», «MTN» и «Vodafone» (когда-нибудь, когда процесс культурной глобализации выйдет на финишную прямую, фотопейзажи Америки, Африки и Европы будут отличаться друг от друга названиями телефонных компаний, чьи рекламные лозунги узурпируют жизненное пространство).
Школа представляла собой длинную деревянную постройку с крупными незастекленными проемами, нечто среднее между бараком и беседкой. В классной комнате на самом видном месте висел плакат с изображением персонального компьютера; основные части были помечены жирными стрелками. Вот монитор, вот процессор, вот клавиатура. Данная диаграмма была единственным способом ознакомить учеников с анатомией ЭВМ, так как шансы увидеть этого зверя вживую были крайне невелики. Впрочем, отсутствие компьютера — дело двадцатое. В педагогическом инструментарии не хватало и других, куда более доступных вещей. Ни карты с глобусом для будущих путешественников, ни колбочек с чашками Петри для юных натуралистов. Ни стандартных учебников как таковых. Попросту говоря, в школе не было ничего. Или почти ничего. Что-то, наверное, все-таки было.
Стены, парты, школьные формы — все было выкрашено в коричневый и желтый. Выбор цветов был неслучаен: что-то, связанное с символической расцветкой кенте или с иероглифами адинкра. Ганские традиции — это клубок, который запросто не распутать: любая цветовая гамма соответствует какому-нибудь ритуальному танцу; танец отсылает к одной из многочисленных пословиц; пословицу не понять, если не знать того или иного эпизода из истории ашанти…
«Мысль африканцев устанавливает равновесие между всеми вещами посредством системы символов. Цепь символов ведет нас путем гармонической игры оттенков и неуловимых переходов от арфы к тканью, от одежды к слову творца, от демиурга к обломкам». Эту формулировку я вычитал у африканиста Марселя Гриоля. Она показалась мне точной, и я зачитал ее Фрэнсису. «Все верно, — подтвердил учитель, — я тоже недавно читал что-то такое: у белых развито абстрактное мышление, а у нас — символическое. Символ — это сунсум![68]»
Фрэнсис любил «сунсум», любил вести многочасовые беседы о духовном, ибо был не только преподавателем, но и пастором по совместительству. В этой второй ипостаси и видел свое истинное предназначение. Поэтому уроков в школе он почти не вел, от учеников требовал в первую очередь, чтобы те не мешали ему готовиться к вечерней службе. И пока усмиренный розгами класс корпел над очередной «классной работой», пастор Обенг отлучался в учительскую, где размышлял, разглагольствовал, вопрошал о духе.
— …Символ — это сунсум. Знаешь, что такое сунсум?
— Тень?
— Нет, тень — это сунсумма. A сунсум — это дух. Сунсум отличается от сунсумма, как хонхом[69] отличается от хонам[70]. Все дело в произношении.
— Юу-у, матэ[71].
— Уоатэ?[72] Тогда идем дальше. Дух — сунсум, a душа — кра.
— Матэ.
— Уоатэ?
— Матэ.
— Что ты услышал? Сунсум и кра — не одно и то же. Кра — это живая душа, а сунсум — проводник, через него кра появляется в мире. Про сунсум можно сказать, что он тяжелый или легкий, про кра так сказать нельзя. Можно сказать: «его кра пахнет заботой, дыхание не может коснуться земли». Или вот пример: если я говорю о человеке «у него хороший сунсум», я говорю, что он добрый. А если я говорю «у него хорошая кра», это означает, что он удачливый. Уоатэ?
— Матэ.
— Что ты услышал? Сунсум — от слова сум[73]. Когда я засыпаю, мой сунсум покидает тело и идет, куда ему нужно. Он может поехать в другой город или встретиться с тем, кого больше нет. Кра остается и наблюдает издали. Поэтому я вижу сны. Сунсум может уйти и вернуться, а кра — нет. Когда уходит кра, человеку не за что удержаться.
По вечерам, представ перед паствой харизматической церкви, школьный учитель перевоплощался в исступленного проповедника, и его сиплый голос, усиленный микрофоном, переполнял полуподвальное помещение сейсмическим клокотанием.
— Во имя Исус-са-а-а!!
— Аминь!!
— …И-и-исус-са-а-а!
— Ампа!
— Я сказал: Иисус-с-са-а!
— Учи, апостол!
— А-аллилу-й-йя-а-а!
— …Братья и сестры, — обратился Фрэнсис к пастве, — сегодня я хочу представить вам нового прихожанина. Этот прихожанин — наш гость из Нью-Йорка, обруни[74]. Не просто обруни, а доктор обруни. Доктор Алекс. Он приехал сюда, чтобы лечить и молиться вместе с нами. Сейчас он скажет вам несколько слов…
Вот они, учительские замашки, неистребимое желание застать врасплох, вызвать к доске того, кто заведомо не готов… Я оглядываю толпу, и мой взгляд останавливается на участливой улыбке сторожа Кваме. Батюшки, и он здесь. Взяв микрофон, я мямлю что-то благодарно-невразумительное, но, по счастью, мой лепет немедленно утопает в нарастающей какофонии песнопений и заклинаний. Стуча в бубны, закатывая глаза и воздевая руки, прихожане заходятся в религиозном экстазе, ради которого и пришли. Особенно усердствует сторож, пляшущий из последних сил, то и дело машущий мне: давай с нами. Со стороны действо выглядит и звучит диковато, но вот мне начинает казаться, что я улавливаю мелодию, а еще через некоторое время — различаю слова и даже подпеваю сам. «Сэ мейарэ аа, ма мэ нко, ма мэ нко…» — «Если я захвораю, дай мне уйти, дай мне уйти…»
...Врачевание в цирюльне заняло все утро, и я был уверен, что тетки с базарной площади, если и были в клинике, давно отправились восвояси. Однако: «Папá, тебя какие-то женщины спрашивали. Я им сказала, что доктора нет и им лучше прийти завтра. Но они сказали, что будут ждать. Мне кажется, они хотят, чтобы ты посмотрел их детей. С детьми плохо, папá, с мальчиком особенно. Я померила температуру — сорок один. Я их отвела в процедурную. Ты уж ими там займись, а я тебя тут подменю». Спасибо, тетя Брета, спасибо, спасибо!
Эту партию, Энтони, я заранее не проигрывал, но кое-чему за время ночных дежурств от тебя научился. Во всяком случае, последовательность ходов в дебюте не вызывает сомнений. Первое: ввести физраствор, сделать инъекцию хинина, поставить свечи с парацетамолом. Второе: анализы крови на уровень гемоглобина и лейкоцитов, толстый мазок, тест Видала… Только что-то никто не торопится выполнять мои распоряжения. «Эсе сэ уоoном чуа, докeта, эдру но бо йе дэйн додо…» Сначала матери пациентов должны оплатить лечение, выкупить медикаменты. Но у матерей денег нет и быть не может. В конце концов, десять седи меня не разорят. Лаборант Кведжо отводит меня в сторонку.
— Доктор Алекс, я не собираюсь говорить тебе, что тебе делать, но у нас так не принято. Доктор не должен платить. Это нехорошо для тебя и для них, поверь мне.
— Верю, Кведжо, но, прости, в данный момент мне проще заплатить. Я заплачу, а ты, будь добр, проверь мазок и тест Видала.
— Нет, доктор Алекс, лаборатория закрыта. Пусть приходят завтра.
— Кведжо, я услышал и я благодарен тебе за совет. Но я предпочитаю заплатить. В том числе и лаборатории. Сколько я должен лаборатории, Кведжо?
Кведжо отворачивается и называет цену механическим голосом: пять ганских седи. Где пять, там и семь. Пока Кведжо угрюмо возится с анализами, я выкупаю две таблетки ципрофлоксацина (на случай, если это брюшной тиф); о внутривенных антибиотиках в Эльмине говорить не приходится. «Это лекарство может помочь. Я прошу вас проследить, чтобы дети приняли таблетки и ни в коем случае их не выплевывали». Теперь узнать о переливаниях крови (на случай, если малярия). У нас их не делают, это понятно, но что, если удастся связаться с Центральным госпиталем в Кейп-Косте?.. Через пять минут, не дозвонившись до госпиталя и вернувшись в процедурную, я застаю душераздирающую сцену насильственной кормежки: крошки от ципрофлоксацина размазаны по недовольной рожице пациента. «Если брыкаются, значит, выздоравливают», — подбадривает Абена.
Но брыкается только девочка; состояние мальчика ухудшается со скоростью состава, летящего под откос. После хинина и двух литров физраствора он даже не открывает глаз, только еле-еле морщится в ответ на болевые стимулы. Все это время одна из медсестер зудела о зряшности наших стараний, и теперь в моей голове впервые проносится мысль о том, что старуха, возможно, права; и одновременно с этой мыслью мать мальчика начинает рыдать — видимо, и она только что поняла. «Ты сама во всем виновата, — срывается Абена, — раньше надо было думать!»
Посыльный приносит листок с результатами анализов: «Заражение плазмодием, паразитемия 4+. Гемоглобин 6,5 г/дл». Это значит: без переливания крови — пиши пропало. До Центрального госпиталя черта с два доберешься, к тому же у меня заканчиваются деньги, на такси не хватит. «Что же у вас, авураа — или как мне вас величать, — совсем ни копейки? Одеты вроде прилично. Неужели нет ни гроша для собственного ребенка? Или вы настолько привыкли, что белый доктор все устраивает и оплачивает? Да как вам не стыдно, в конце концов?» Мать ребенка безденежна и безутешна. Не вполне понимая, что делать дальше, я покупаю еще литр физраствора, ампулу хинина и запас жаропонижающего.
— Двенадцать ганских седи, — с расстановкой произносит аптекарь.
— В прошлый раз было десять!
— В прошлый раз хинин был местного производства. Но тот хинин закончился, остался только импортный. Двенадцать ганских…
— Да я понимаю, что не нигерийских!
— Оставь, я заплачу, — неожиданно вмешивается Кведжо.
5.
«Неудивительно, что вас это удивляет», — говаривал один мой знакомый из прошлой жизни. Удивление не удивительно. Удивительна забывчивость, позволяющая за какой-нибудь месяц привыкнуть к тому, что годами казалось невероятным. К тропическим зарослям и проселочной дороге, вымощенной кокосовыми скорлупками. К львиноголовым гекконам, шныряющим по дому в качестве питомцев. К больничному приему — по пятьдесят пациентов в день: тиф, малярия, дракункулез… К тому, что есть полагается руками, точнее — правой рукой, из общей миски, а спать — на циновке. К руинам колонизации и отсутствию канализации.
К тому, что гостеприимство обозначается словом ахохойе, которое дословно переводится как «здесь-бытие». К этому «здесь-бытию» на краю света, где сосед в разноцветной пижаме и феске может в любой момент нагрянуть с визитом и, ни слова не говоря, развесить белье у тебя во дворе или состряпать себе еду на твоей плите из твоих же продуктов. Где в три часа ночи раздается петушиная побудка, а в шесть утра — дискант соседских «лазутчиков»: по традиции младшему в семье надлежит начать день с обхода всех хижин в округе, справиться о здоровье каждого из соседей и, вернувшись домой, представить подробный отчет. Где «болезни духа» лечат снадобьем из обезьяньих костей, а уж если и это не помогает, жители деревни снаряжаются в многодневный поход и, по очереди взваливая больного на спину, тащат его за тридевять земель — в ближайший медпункт.
К послеобеденным историям Люси и проповедям Фрэнсиса, к обязательным сказкам про паука Анансе, которые могли затянуться на два часа, а при участии студента-медика Кваме Бремпонга — и на все четыре. Никто, включая Юнис, не относился к этим сказкам серьезней, чем Кваме Маленький. Его серьезность была сочетанием исследовательской въедливости с простодушной впечатлительностью. Если бы не медицина, из него мог бы выйти хороший этнограф-африканист.
Кваме приехал из штата Нью-Джерси по той же волонтерской программе, что и я. «Как, еще один Кваме?» — удивилась Юнис. И правда: к моменту прибытия американского гостя в доме Обенгов уже имелся не один, а целых два Кваме — сторож на крыльце и принц на музейном портрете. С принцем Кваме Опоку американского Кваме роднил не только субботний день рождения[75], но и определенные факты биографии. Подобно легендарному тезке, Кваме Бремпонг был уроженцем Кумаси, вывезенным из страны в детском возрасте; и так же как Опоку, всю жизнь мечтавший о санкофа, американский Кваме прибыл в Эльмину, чтобы найти свои корни и заново выучить родной язык.
Для ганцев он был обруни-бибини — чернокожий обруни, африканский неафриканец. Каждый год сотни, если не тысячи таких же чернокожих обруни совершают паломничество в нищий городок на побережье Гвинейского залива, где в 1482 году была построена первая в Африке невольничья крепость. Пять с половиной веков спустя эта крепость никого не пугает; воображению приходится как следует потрудиться, чтобы приблизить ужас исторического контекста. В прохладном небе над бастионом носятся стрижи. По левую руку виднеется дикий пляж, разлетающиеся брызги огромных волн. По правую руку — причал и рыбацкий поселок, за которым начинается сама Эльмина, кажущаяся отсюда столь живописной. Рыболовные сети, шхуны и пироги, красно-бурая латеритная почва. Запах дыма и жареной кукурузы. Детвора гоняет в футбол, пока те, кто постарше, режутся в шашки или чинят допотопный «фольксваген». Местные ловкачи встречают заморских братьев у крепостной ограды, предлагают экскурсии, продают брелоки и подвески с мемориальной надписью: «Форт Эльмина 2010 — в память об участи, что постигла наших предков». Я сфотографировал сувенир крупным планом, но покупать не стал, тто есть повел себя, как подобает обруни. Кваме лишь покачал головой и двинулся дальше.
Администратор клиники, смешливый и жуликоватый мистер Кооси, определил новоприбывшего волонтера ко мне в «отделение» (до этого отделение состояло из меня и Абены).
— Раз обруни, два обруни, — сказал Кооси, прихахатывая, — теперь вы сможете говорить по-английски, сколько вам влезет!
— Адэн? Ибэка фантсе[76], — гордо ответил я.
— Чале, ше, обруни фитаа йи сисиуо![77] — захохотал администратор, изо всех сил тряся безответного Кваме.
Все общение в клинике происходило на чви, и именно это обстоятельство послужило нам с Кваме поводом для дружбы. Можно сказать, что мы нашли общий язык, которого оба не знали — каждый по-своему. За год, проведенный среди ганцев, я научился довольно бегло изъясняться на аканском наречии, но стоило местному жителю немного ускорить темп речи, как я моментально терял нить беседы. У Кваме все было наоборот: родители всю жизнь говорили с ним на чви, а он, как и большинство эмигрантских детей, отвечал по-английски. В результате он абсолютно все понимал и решительно ничего не мог сказать. Получился идеальный тандем: я переводил с английского, Кваме — на английский. Местный житель глядел на нас, как на цирковое чудо, и издавал гортанное «ий!», выражавшее крайнее удивление.
По вторникам все лавки в городе закрывались в полдень — обычай, связанный с культом бога воды, почитавшегося наравне с «И-и-сус-са-а». Закрывалась и клиника, но рабочий день на этом не заканчивался: наша помощь была востребована в другом учреждении, именуемом в народе «домом отдыха». Учреждение находилось в поселке Анкафул на расстоянии тридцати километров от Эльмины.
Около часу дня по Трансафриканской магистрали проезжала маршрутка тро-тро; из окна с пассажирской стороны высовывался голый по пояс подросток и выкрикивал пункт назначения: «Анкафул, Анкафул, Анкафул!» Салон тро-тро был так забит, что казалось, еще одно тело смогло бы войти сюда разве что в расчлененном виде. Тем не менее место всегда находилось — где-нибудь между старичком с козой на руках и другим старичком, обнимающим телевизор. Более того, на протяжении следующих тридцати километров маршрутка продолжала останавливаться на каждом углу и подбирать пассажиров. Подросток-заправила собирал проездную плату, показывая размер тарифа на пальцах одной руки, как будто беспрестанно играя в «камень — ножницы — бумагу». При этом другая его рука сжимала гнилую веревку, на которой держалась пассажирская дверь.
Дорога шла у самого берега, огибая участки, засаженные арахисом и маниокой, бугорки окученного ямса, укрепления из песчаника и гальки. Два шелестящих звука — звук прибоя с одной стороны и отдаленный шум шоссе на Аккру с другой — сливались в единый всепроникающий шелест.
— Всё далеко, — сказал Кваме, — хотя и кажется очень знакомым.
— Привыкнешь. Тебе-то сам Бог велел. Через месяц будешь как рыба в воде.
— Хм… У моего отца такая поговорка есть: «как рыба в воде, только в кипящей…»
— Это потому что тропики. Жарко.
— Разве? По-моему, сегодня терпимо.
— Да нет, это шутка была: в кипящей воде, потому что в тропиках… Ладно, проехали.
— А-а, ну да… — Кваме прислонился к стеклу, — Нет, все-таки знакомого мало… Я смотрел один фильм, не помню, как он назывался. Там главному герою отшибло память, но никто из его близких об этом не догадывается. Просто человек возвращается в прежнюю жизнь, принимает в ней участие, подстраивается под ожидания родных, никого и ничего при этом не узнавая.
— Конечная остановка! — Подросток-заправила отпустил веревку, спрыгнул со своего облучка и принялся помогать высаживающимся пассажирам.
…Очевидно, с таксистом, подъехавшим к дверям клиники и утвердительно кивнувшим в ответ на мою безумную просьбу отвезти нас в Центральный госпиталь (а почему не на Луну?), договорился Кведжо. Или Абена. Что не я, это точно. Я лишь тупо перетряхивал и перехлопывал все карманы — нет, не звякает. Брезгливо поморщившись, таксист сделал успокоительный жест рукой: в следующий раз заплатишь.
В машине мальчику полегчало — то ли подействовала дополнительная доза хинина, которую я, вопреки правилам дозировки, ввел перед выездом, то ли просто ненадолго «отпустило», как это обычно бывает при малярии. Во всяком случае, он уже не так смахивал на постояльца морга, что значительно усложнило мои переговоры с дежурной по приемному покою.
Я: Этому пациенту срочно требуется переливание крови.
Она: Вы прекрасно говорите на чви!
Я: Спасибо. Вот результаты из нашей лаборатории. Как видите, откладывать нельзя.
Она: Впервые вижу обруни, который так здорово знает чви! Нет, вру, у одной моей приятельницы был зять из Германии, он тоже неплохо говорил на чви. Но это понятно: у него была ганская жена. Вы тоже женаты на ганке?
Я: Вы что, меня не слышите?
Она: И-и, да это же новичок, свежая рыбка! Откуда же тогда такой чви?.. Вы не волнуйтесь, доктор. Больной в надежных руках. Мы сделаем всё, как вы сказали.
Я ей не верю. И не только ей. Или я не видел, как безденежная мать доставала из сумочки новый мобильный телефон? Ладно, пойду погуляю по территории госпиталя, а через час вернусь проверить.
Через час дежурная сидит, где сидела, а ребенок лежит на тех же носилках, где я его оставил. Единственное, что изменилось в обстановке за время моего отсутствия, — это уровень шума: к дежурной пришла подруга, а к мальчику прилетели мухи, и теперь они жужжат в унисон.
— Скажите, вы собираетесь делать ему переливание?
— Конечно, собираемся. Сейчас принесут капельницу, и сразу будем делать.
— В таком случае скажите мне, пожалуйста, какая у него группа крови и кто будет донором?
— Да что вам от нас нужно? — Дежурная переходит на английский. — Вы приезжаете в нашу страну — зачем? Я знаю зачем. Вы печетесь об африканском ребенке, для вас он — символ, и если он выживет, это будет вашей победой. Я это понимаю, но мы — не те, с кем вам надо бороться… Сейчас почти восемь вечера, прием посетителей окончен. Вы не работаете в этой больнице и должны уйти. Если хотите, можете прийти за своей победой завтра утром. Начиная с восьми утра.
Дежурная сдержала слово; через несколько дней шестилетнего Квези Овусу-Боатенга, окончательно выздоровевшего, выписали из больницы.
6.
От остановки «Поселок Анкафул» до самого поселка — добрых пять километров. Этот отрезок пути закрыт для любого транспорта, кроме двухколесного и парнокопытного. В благоприятное время года, между харматтаном[78] и сезоном дождей, иной смельчак на внедорожнике нет-нет да отважится попытать удачу — и вот деревенские сорванцы уже несутся навстречу с праздничным улюлюканьем: результат автозабега им известен заранее.
Какой-то остроумец окрестил это место «Невозвращенцами» («Нкоамма»), прикрепив к стволу раскидистого дерева одум картонный указатель: «Нкоамма ко уэним тээ»[79]. Смысл названия открывается не сразу, а метров через сто, когда из тропического чернолесья выплывает глинобитное здание с двухъярусной окраской: темный низ, белый верх. Это здание — детдом, а название — отсылка к традиции. К легенде о детях-духах окобайе, сиречь «возвращенцах»; к обычаю ограждать новорожденного от болезней с помощью ритуальной скарификации. Увы, никаких окобайе со шрамами на щеках — символами родительской заботы — здесь не увидишь. Наиболее распространенные среди детдомовцев имена — Йэмпэу («Тебя-не-хотели») и Адийэа («Тот-кому-горевать»). Это они, Йэмпэу и Адийэа, бросаются навстречу редкому автомобилю в надежде сбыть товар (жвачки, брелки, печенье, питьевую воду), с которым их каждый день отправляют в мир — после или вместо занятий. Это они сидят по краям дороги возле разнообразной завали, выставленной на продажу. Впрочем, не только они. Сверстники из близлежащих деревень промышляют тем же самым.
Это «лесные» деревни: по мере удаления от побережья тропический лес становится все гуще, все больше растений, имеющих название только на чви и на латыни. Здесь начинаются джунгли, в которые почти не проникает свет, и поэтому, пока находишься в них, жары не чувствуешь, но пот течет в три ручья. Деревенские целители знают этот лес как свои пять пальцев. Если продолжать на север, экваториальные леса сменятся саванной, пальмы — баобабами и деревом ши, корнеплодные культуры — просовыми, зеленый цвет — песком Сахеля, прямоугольные постройки ашанти — круглыми саманными домиками и суданской архитектурой песочных мечетей, христианство — исламом, английский язык — французским. Если продолжать на север, говорил Фрэнсис, можно никогда не вернуться. Фрэнсис Обенг — не из деревни, но и он при желании мог бы водить экскурсии по джунглям не хуже иного колдуна-травника. Вот дерево очвере, чья кора используется для лечения астмы; вот шейн-шейн, чью кору дают жевать при родах (деревенский вариант окситоцина). Вот прекесе, испытанное средство от гипертонии. Вот целебный гриб домо, растущий на масличной пальме. Вот шерстяное дерево, спальное дерево, дерево-ночь… Вот первозданная глушь и африканская теодицея, переложение «Божественной комедии» на местный язык: «…Вскоре я очутился на окраине леса, и тьма этого леса была богом».
Мы ночевали в лесных деревнях пару раз, когда процедуры в «доме отдыха» чересчур затягивались и последняя тро-тро на Эльмину отчаливала без нас. Коммерсанты мал мала меньше окружали новоприбывших обруни и обруни-бибини, за версту распознавая сговорчивых покупателей. Я машинально нащупывал бумажник, хотя опыт жизни в Африке уже неоднократно показывал: здесь не Европа; несмотря на невообразимую нищету, в Гане, как правило, не воруют. Двери домов и машин не запирают. Так что можно наконец ослабить оборону карманов. Но привычка — вторая натура; и кошелек несколько раз выпадал из кармана — именно из-за моего беспрестанного нащупыванья. Тогда за спиной раздавались оклики: «Мистер, мистер, эйе уо деа…»[80] Дети возвращали мне оброненное богатство, и торговля поделками продолжалась.
Выходило, что без свистульки за пять седи, без сувенирной ракушки, подписанной «To our American friends», и без пожертвований в пользу несуществующей футбольной команды нам не уйти. То, что футбольная команда — разводка чистой воды, не было секретом даже для самого легковерного обруни. Но когда пострел от горшка два вершка вдохновенно рассказывает о своей футбольной мечте и просит ничтожного вспомоществования для осуществления оной, сама природа, сама генетическая память, пропитанная «бременем белого человека», подсказывает облагодетельствовать дитя. В конце концов, не затем ли ты и приехал, чтобы умиляться, раскошеливаться и вновь умиляться? Другое дело, когда просителем оказывается переросток по имени Бенджамин, знакомый по предыдущим визитам в эту деревню. Вот он окликает меня, как будто видит впервые, и — все тот же немудрящий зачин: «My name is Benjamin. What is your name?» Мое имя ему нужно, чтобы, улучив минуту, когда я отвернусь, начертать его фломастером на непременной ракушке, а затем извлечь уже готовый сюрприз из кармана рубахи. «To our American friend Alex». Пять ганских седи. Этот трюк сработал и в прошлый раз, и в позапрошлый. Но сегодня меня не разжалобишь.
— My name is Benjamin. And what is yours?
— Ме дин дэ обиара[81].
— What is your hobby? — продолжает Бенджамин. Но и эту преамбулу я уже слышал: сейчас заведет про футбольную мечту.
— Кусэ, Бенджамин, энне на ми сика суа[82].
— But what is your hobby? — не унимается «футболист», продолжая говорить со мной по-английски так же демонстративно, как я с ним — на чви. — What is your hobby, my brother?
— Ме соно дае сэ мебейе футболер, нансо мехийя сика би…[83]
Бенджамин останавливается, смотрит на меня взглядом затравленного животного и достает из кармана ненадписанную ракушку.
— На, возьми, это подарок, деньги мне не нужны…
— Бенджамин, я не могу взять у тебя эту ракушку. Понимаешь, у меня действительно нет при себе ни цента…
— Это подарок, обруни, я хочу, чтобы ты его взял. Хочу, чтоб ты взял.
— Хорошо, Бенджамин, если тебе от этого будет легче…
Легче не будет.
Топоним «Невозвращенцы» имел отношение не только к воспитанникам детского приюта. Дорога в Анкафул, ближайшая родственница «голодной дороги» Бена Окри, обнаруживала еще два социальных института: психиатрическую лечебницу и режимную территорию. Последняя, хоть и была окружена забором с колючей проволокой, охранялась скорее для виду. Считалось, что за заключенными присматривает божок-надзиратель, неизменно заставляющий беглецов возвращаться. На самом же деле никто и в мыслях не держал устроить побег, так как бежать арестантам, по правде сказать, было некуда. Семья и община ни за что не примут назад человека с судимостью, даже если он был осужден без вины. Можно окопаться в джунглях, жить чужаком в одной из бесчисленных деревень. Но условия проживания в тюрьме мало чем отличаются от свободы в лачуге с кровлей из шифера и голой землей вместо пола.
И вот «невозвращенцы» всех мастей — узники в синих робах, охранники в хаки, детдомовцы в чем мать родила — выходят на дорогу, чтобы купить-продать что-нибудь съестное или поглазеть через ограду на неприступное зодчество: поместье — не поместье, санаторий — не санаторий… Несколько одноэтажных корпусов по периметру территории с ухоженным двориком в центре. По легенде, популярной среди детдомовцев, там живут «офри на онву дэбида»[84].
— Ты знаешь, что альбиносы никогда не умирают?
— Врешь!
— Нет, не вру. Они не умирают, а просто исчезают. Никто никогда не видел мертвого альбиноса!
«Мека нокра, омфи му, ммом оту йера»[85], — слышалось всякий раз, когда я шествовал мимо крутолобого Йэмпэу и большеглазой Адийэа, своим появлением снова подтверждая их догадку, что «там живут альбиносы». Они провожали меня до ворот, всё стараясь заглянуть вовнутрь. Что там внутри? Ни подглядеть, ни подслушать. Белокаменную стену, тянущуюся вдоль ограды, прорезают сводчатые проходы, забранные косой деревянной решеткой. Это и есть пресловутый «дом отдыха»: первый и едва ли не единственный в стране лепрозорий.
Рабочий день в лепрозории начинался с обхода — не пациентов, а медицинского персонала во главе с угрюмцем исполинского роста по имени доктор Брюс-Таго. Этикет общения в закрытом учреждении требовал поздороваться с каждым из членов коллектива, от лаборанта до специалиста по изготовлению протезов, и уж затем предстать перед главным, дабы испросить у него разрешение приступить к работе. Гигант Брюс-Таго мрачно кивал или просто отворачивался в знак согласия. Сама работа была вполне рутинной: проверять дозировку дапсона, следить за нормальным заживлением раны после ампутации. Проводить осмотр и назначать лечение, не выходя из оцепенения, которое овладевало мной тотчас по прибытии в Анкафул. Больные, одетые в униформу болотного цвета (тот же покрой, что и у арестантской одежды), таращились из-под лимонного тюля противомоскитных сеток. Львиные лица, скрюченные конечности, нескончаемая тишина. Надо поспешить, чтобы управиться с работой до темноты. Выйти на свет и звук.
Звук доносился из соседней деревни и принадлежал ударному инструменту, точнее, целой группе ударных инструментов. Первой его услышала Абена, сопровождавшая нас с Кваме во время поездок в Анкафул.
— Хэ! — возмутилась Абена. — Скоро Бакачуэ, а они в барабаны бьют!
— Бакачуэ?
— Праздник такой. У нас за месяц до Бакачуэ вводят запрет на стук. Нельзя бить в барабаны и толочь фуфу после шести вечера. А эти, вишь, расшумелись, как будто не знают. Хэ!
— А что это за ритм? Асафо?
— Не, это атумпаны. Говорящие барабаны.
— А о чем они говорят, ты не знаешь?
— Не знаю. Я их язык плохо понимаю.
О говорящих барабанах, предназначенных для коммуникации на больших расстояниях, я знал из научно-популярной литературы, но не подозревал, что это искусство практикуется до сих пор. Барабанщик использует сложную систему ритмических фраз, имитируя интонации и фонемы человеческой речи. Существует даже канон стихотворных текстов, сочиненных специально для атумпанов.
Выйдя на звук, мы оказались свидетелями настоящего театрального действа. Ряженые танцоры, перкуссионный ансамбль, говорящий барабан, повествующий о событиях из истории племени. Но самым удивительным был состав участников: среди актеров, как и среди зрителей, были только дети. Более того, этот самодеятельный театр автономной Республики ШКИД не только не предполагал участия взрослых, но и исключал саму возможность их присутствия: впервые за все время моего пребывания в Гане на обруни не обратили ни малейшего внимания.
В девяносто пятом году мы жили на окраине Олбани, в двух шагах от богемной кофейни «Кафе Дольче», куда я отправлялся чуть ли не каждый вечер — разумеется, с целью писать стихи. Стены кофейни были украшены причудливыми геометрическими узорами; в них всегда можно было уткнуться невидящим взглядом, напуская на себя творческую отрешенность. Пялиться в стенку в поисках повода, часами разглядывать зигзаги и перекрестья. Жизнь бессюжетна, это да, но человеку, желающему убедить себя в обратном, легко найти подтверждение в мелочах. И вот случайность перестает быть случайной, потому что через пятнадцать лет странствующая медсестра Нана Нкетсия будет втолковывать мне смысл этих пиктограмм, которые окажутся символами адинкра. И настенные декорации из далекого «Кафе Дольче» всплывут в памяти и выйдут на первый план, как будто в них и вправду кроются ответы на все вопросы, включая те, которые я так и не удосужился сформулировать.
…Пиктограмма в форме квадрата, заполненного ромбовидными клетками в семь рядов, называется «Фие ммосеа» («Щебень двора»): «Если твои стопы в крови от щебня, это щебень с твоего двора».
Пиктограмма в форме двух якорей, слитых воедино. Это «Акоко найн» («Куриная лапка»): «Когда курица давит свой выводок, она не желает ему смерти».
Четыре раскрытых глазка «Матэ масиэ»: «Что услышал, то сохранил».
Узор из концентрических ромбов внутри квадрата «Ани брэа»: «Как глаза ни красны, огню в них не вспыхнуть».
Панцирь жука, обрамленный двумя лепестками («Одо ньира фиэ куайн»): «Любовь помнит дорогу домой».
Птица, пытающаяся дотянуться клювом до собственного хвоста; в клюве у птицы яйцо («Санкофа а йенчи»): «Если забудешь, вернись и возьми, это не стыдно».
Два зерна фасоли, повернутые друг к другу («Ньяме бриби во соро»): «Господь, если тайну хранишь в небесах, дай мне сил дотянуться».
7.
Ночью я почувствовал все, что положено чувствовать в начале (горечь во рту, покалыванье в конечностях), но не сразу понял, в чем дело. До этого мне везло, и, уверовав в чудодейственность профилактики, я счел себя вне опасности, несмотря на то что весь предыдущий месяц «болотная лихорадка» косила жителей Эльмины почти поголовно: сезон дождей был в разгаре. С усилием проглоченный комок спускался по пищеводу, распухая загрудинной тяжестью, пока не превратился в сгусток боли в области солнечного сплетения, как при ударе под дых. Я приподнялся до полусидячего положения — боль начала спадать. Ньяме адом, обойдется.
К утру малярия уже вовсю хозяйничала в организме. Меня знобило и бросало в пот. Горячечные лилипуты, вооруженные ударными инструментами, трудились на костоломной ниве, бурили череп. Но все это было ничто по сравнению с уютной всепоглощающей летаргией. Любое движение казалось непосильным, а главное, совершенно ненужным трудом. Будь что будет, пусть стучат молоточки, ползут мурашки и красные кровяные тельца лопаются, как мыльные пузыри. Тело чувствует боль, но сунсум отправляется спать, идет, куда ему нужно, пока кра наблюдает издали, ибо не вправе вмешиваться, и у меня не хватит воли, чтобы открыть глаза и дотянуться до сумки, в которой лежат припасенные впрок таблетки.
Я буду спать, изредка выныривая на звук барабана «ммара! ммара!», но вскоре этот саундтрек сменится чем-нибудь из хип-лайф, хит-парадными Дэдди Лумбой, Ар-Ту-Бис или Офори Омпонсой, напоминающими о чоп-баре, где мы заседали с Кваме и Абеной, потягивая пиво «Star» под сиреневое мигание цветомузыки.
Манврэ фри нэ мфенсэрэ тумм, Анаджо сунсумма тэнтэйн, Тэсэ нкае анкаса кумм Канеа а эво абонтэйн…О заправке «Shell», где отоваривались водой и телефонными картами, и заправщик Баду всякий раз говорил, что запишется ко мне на прием, не потому что был болен, а просто так — чтобы доктору было приятно. О девушках из Такоради со смешными именами Love и Charity, учившихся в университете Кейп-Коста по специальности «поставщик продуктов питания», тайком расспрашивавших меня про семейное положение Кваме и посылавших ему записки с намеком на матримониальные планы. О другом чоп-баре, где справляли день рождения Абены, а потом гуляли по ночному Кейп-Косту с ней и ее подругой Пэт, покупали келевеле[86] у уличных торговцев, и навстречу нам шли молодые люди, тоже парами или кучками, и, сливаясь с этим народным гуляньем, я испытывал чуть ли не подростковый трепет, как в пятом классе, когда дружба с сердцеедом Костиком обернулась возможностью «гулять с девчонками», с Юлькой Жарковской и Ксюшей Султановой, салютуя автомату с газировкой, бочке с квасом и остальной атрибутике ностальгии-точка-ру. Как давно это было? И на каком языке? С некоторых пор друзья и соседи по московскому детству в моих снах оказываются англоязычными, а люди из нынешней жизни — наоборот. И тем и другим не хватает слов, и, погружаясь в безъязычье, память призывает на помощь мотив, музыкальную паузу, бред моментальной рифмовки.
…Обиа нтена ха, ме кра. Мату квайн ашеше ми ньйом. Нантэ йи, адамфо, ко бра. Ка чре ме сэ ибэшья бьйом…Вечер наступает внезапно: в шесть часов не было и намека на угасание, а к семи уже окончательно стемнело. В этом особенность экватора. Резкость световых переходов. Между тем время суток, чей свет ассоциируется у меня с Эльминой, — это именно сумерки. Воздух, переполненный детскими голосами, запахом дыма, однообразным ритмом песта, толкущего фуфу, кудахтаньем кур. «Кейп-Кост, Кейп-Кост, Кейп-Кейп-Кейп-Кейп!» — выкрикивает зазывала, высунувшись из проезжающей мимо тро-тро. «On your mark! Get set! Go!»[87] — командует телевизор, транслирующий спортивное соревнование. «Аномаа! Кесье! Кроу!»[88] — вторят дети, занятые катанием велосипедного обода с помощью палки. Пахнет пальмовым маслом, сушеной рыбой, забродившей кукурузной мукой. Со стороны залива собираются тучи.
«Какая завтра у нас ожидается погода?» Пожимает плечами: «Очена на эбеше…»[89] Прогноз погоды — это «для беленьких», так же как беспрестанное фотографирование жизни. Так же как и туризм. Если африканец отправляется в другую страну, то только в качестве переселенца. Любой отъезд — надолго, если не навсегда. Отсюда — столь щепетильное отношение к ритуалу сборов и проводов, ко всему, что с этим связано.
И отсюда же, возможно, безошибочная логика словообразования: существительное nkerabea («судьба») происходит от глагола kera («прощаться») и в дословном переводе означает «способ прощаться» или «место для прощания». Смещение тонов производит смысловое смещение: если kera (интонация на понижение) — это «прощаться», то kera! (восходящая интонация) — это душа. А само существительное nkera — «прощание» при аналогичном смещении превращается в nkera! — «послание», «весть». Все зависит от модуляции голоса, от судьбы, вобравшей прощанье и весть, и душа восходит к прощальному глаголу, восклицает «Прощай!» на птичьем языке чви.
Тропический воздух кажется непреодолимым. Как будто все время дышишь предвестьем грозы или предчувствием лихорадки. Все дело в незащищенности, стало быть — в свободе. Свобода — угроза момента. Взгляд, брошенный туда, где тебя не будет. Как бы санкофа наоборот. Это в детстве казалось: можно избежать чего угодно, если только заранее четко представить себе, как оно будет. Где то, чего с самого начала ждешь и боишься? Ближе и ближе. При том что нигде.
…Энкрайн, мафа уо тро-тро На маше уо чале уаче. Тена йи, м’абрабо фофро. Мэсанба, ме до, дааче.* * *
— Долго я спал?
— Куда уж дольше. — Нана прикрепляет пакет с физраствором к торшеру в моей бриджпортской квартире. — Эк тебя развезло… Хорошо, хоть вовремя догадался позвонить Оникепе.
— Разве я звонил?..
Вместо ответа Нана достает из кармана сложенный вчетверо лист бумаги; развернув, демонстрирует его на манер иллюзиониста. Прижимает к листу ладонь, обводит ее фломастером, как это делали в детстве, и, положив лист — рисунком вниз — мне на грудь, поясняет: «Грелка».
2009–2011По ту сторону Сахары
1. Касабланка — Аккра
В день, которого ждал больше года, я стою в очереди на посадку в аэропорту имени Кеннеди. Передо мной и за мной — толчея чернокожих людей двухметрового роста со шрамами на лицах и жировыми складками на загривках. Делегация из Ниамея, Республика Нигер. Оттеснив бледнолицего коротышку («Sorry, brother, sorry!»), они напирают на передние ряды, широко жестикулируют и тараторят на языке джерма. Они летят домой. Я — осуществлять свою альберт-швейцеровскую мечту, вариант эскапизма. Я лечу туда же, куда и они; но сейчас, в который раз суя руку во внутренний карман куртки, чтобы проверить, все ли на месте, я ловлю себя на том, что завидую им, потому что внезапно тоже хочу домой, не могу унять дрожь в коленках. «…Объявляется посадка на рейс авиакомпании «Аэрофлот», следующий по маршруту Нью-Йорк — Москва…» Перед соседней дверью выстраивается очередь, бурлящая русской речью, и я мысленно шлю им дружеский привет из Ниамея.
Африканская очередь продолжает расти, рассерженно виляет длинным хвостом. Я чувствую, как кто-то дышит мне в затылок, и неожиданно улавливаю обрывки телефонного разговора на знакомом мне языке (год прилежных занятий не прошел зря!). Резко обернувшись, я упираюсь в вопросительный взгляд пассажира из Ганы.
— Yes?
— Уо нсо вуко Нкрайн анаа?[90]
— Чале! Вуфри хе-о? Ефрэ уо сейн?[91] — лицо ганца расплывается в улыбке. В этот момент, в окружении людей, говорящих на джерма, он готов увидеть во мне своего. Меня зовут Квабена[92], а его — Кофи[93]. В голове проносится коронная фраза из фильма «Касабланка»: «Луи, я думаю, это начало прекрасной дружбы».
Самые дешевые рейсы в Западную Африку — транзитом через Марокко. Остановка в Касабланке может продлиться несколько дней, поэтому марокканские авиалинии предоставляют бесплатное проживание в гостинице при аэропорте «Мохамед V». Кофи рассказывает, что в прошлый раз в связи с нелетной погодой ему пришлось провести в этой гостинице восемь дней.
— Я думал, я с ума сойду, Квабена. Каждый день, каждый день они нам обещали: завтра вылетаем. И так — всю неделю.
— А на город ты хоть посмотрел?
— В том-то и дело. Нас, африканцев, в город не пускают. Говорят, нужна специальная виза. Так что завтра, когда прилетим в Касабланку, ты со своим паспортом пойдешь смотреть город, а я со своим — буду тебя ждать в гостинице. Только ужин не пропусти. У них там в гостинице есть бесплатный буфет. Там все дают — и рис, и курицу. И есть можно сколько хочешь. Так что смотри, не опаздывай.
* * *
В восемь утра мы в Касабланке. Лабиринт аэропорта полон людей, жаждущих указать новоприбывшему путь, провести — в обоих значениях слова. Не подскажете, где находится банкомат? Нет, не подскажет, но может проводить. За бакшиш, разумеется. И, получив согласие, «провожает» до банкомата, возле которого и стоял все это время, заслоняя его своим туловищем.
Первое, что бросается в глаза человеку, прибывшему с севера, — это насыщенность красок: синее-синее небо, белые-белые стены, смуглые-смуглые лица. Когда же, распрощавшись с Африкой, я вернусь сюда по пути обратно в Нью-Йорк, то замечу прежде всего высотные здания и несметное количество попрошаек. Ни того, ни другого в Гане ты не увидишь.
На платформе станции Каса Вояжер меня встречает очередной энтузиаст, предлагающий показать Касабланку за несколько долларов. Очевидно, что здесь есть какое-то надувательство, но с гидом, каким бы то ни было, лучше, чем без, тем более что времени у меня мало. Я соглашаюсь, и в течение следующих пяти часов мы маршируем по городу, наспех обозревая основные достопримечательности: аляповатый Корниш, громадную мечеть Хасана II, дворец паши. Проводник, жуликоватый малый в спортивном костюме, добросовестно рассказывает и показывает, отвечает на все вопросы, то ли действительно зная, то ли выдумывая на ходу. В его компании мне спокойней: следить приходится только за ним. Время от времени за мной увязываются разномастные охотники на туристов, но мой хват делает им знак рукой, давая понять, что меня окучивает он.
Наконец мы добираемся до медины[94]. «Зайдем в лавку к моему приятелю. Может, что-нибудь купишь…» Кажется, это и есть ожидаемый подвох. Мы заходим в лавку, битком набитую кувшинами, кальянами, коврами и кошельками. Все цены крупно выведены фломастером, и к каждой, как будто в качестве сноски, сверху приписан едва различимый нолик. Это значит, что товар стоимостью в тридцать драхм при ближайшем рассмотрении дорожает ровно в десять раз.
— Главное — не торопиться, — начинает хозяин лавки, человек средних лет с брезгливой физиономией, плешью в виде тонзуры и молитвенной шишкой на лбу, — правильный выбор требует времени. Выпьем чаю. Позвольте спросить, вы кто по профессии?
— Врач.
— О, поздравляю. Позвольте налить вам чайку. Вы, надо полагать, путешествуете по Марокко?
— Нет, еду в Гану.
— О да, понимаю вас. Я слыхал, у них там в Африке страсть как нужны врачи. Ну что же, мсье врач, позвольте мне предложить вам волшебную аптечку Аладдина.
С этими словами он достает из-за пазухи пыльную шкатулку и с минуту возится с ней, пытаясь вымучить какой-то фокус, связанный с открыванием-закрыванием потайных отделений. Однако шкатулка не поддается.
— Извините, мне пора.
— Как, с пустыми руками? — Ленивая брезгливость сменяется смутной угрозой.
Мой проводник залпом допивает свой чай, подходит к двери и становится в позу трактирного вышибалы. Я бросаю взгляд на бракованную шкатулку. На ценнике — пятьдесят драхм. Стало быть, сейчас он укажет на точку-нолик и запросит пятьсот[95]. Вот и весь фокус.
— Заверните.
* * *
Грудастая негритянка не спеша прогуливается по перрону, везя за собой два исполинских чемодана, как если бы она совершала вечерний моцион в сопровождении амбалов-охранников. Когда вагонный сезам с шипением открывается, я помогаю ей запихнуть ее телохранителей в багажное отделение. Освободившись от груза, она подсаживается ко мне и с ходу сообщает, что зовут ее Кумба, работает в Эмиратах, а родом из Ниамея, и сегодня летит домой повидать родных. За окном мелькают предместные пейзажи и оцинкованные кровли лачуг. Через несколько минут кондуктор объявит конечную станцию — аэропорт. Кумба, уже не церемонясь, кивает на чемоданы: помоги. Я повинуюсь. Таким образом, к ее свите охранников прибавляется еще один.
К стойке регистрации не пробиться. Двое разъяренных молодчиков долго доказывают свою правоту хрупкой сотруднице авиакомпании. «Сенегальцы!» — сообщает мне Кумба заговорщицким шепотом. Наконец подходит наша очередь. Ошалевшая от сенегальского натиска сотрудница «Роял Эр Марок» впивается в Кумбин билет, несколько раз переворачивает его, словно выискивая едва различимый шулерский нолик, и, не найдя того, что искала, выносит суровый приговор: «Ваш самолет улетел вчера». Кумба обиженно выпячивает нижнюю челюсть, похожую на выдвижной ящик.
— Что же мне теперь делать?
— Это уж вам решать. Можете переночевать в Касабланке, а завтра утром позвонить в «Эр Марок».
— Как ночевать? Где? У меня нет ни денег, ни знакомых…
И как бы в ответ на ее вопрошание перед стойкой снова возникают близнецы-сенегальцы и, ни слова не говоря, перехватывают Кумбины чемоданы. Не вполне понимая, что происходит, я робко пытаюсь вмешаться, но меня отшивают быстрым жестом. «Спокойно, мсье, это наша сестра. Мы ей поможем». Кумба устало кивает. В этот момент кто-то кладет мне руку на плечо, и я слышу сильно исковерканную русскую речь: «Проститэ, ви з Россиэ?» На подобные вопросы, задаваемые сомнительными персонажами в сомнительных местах, у меня уже выработалась защитная реакция. Когда ко мне обращаются по-русски, я оказываюсь стопроцентным американцем, а когда принимают за американца, сразу перехожу на русский. Но сейчас вопрос оказывается столь неожиданным, что я застываю с открытым ртом, и мой визави, долговязый негр с плохими зубами, принимает мое молчание за согласие. «Ви проститэ, я — з Мали, но я тоже жит в Россиэ. Я учи́т там ю-рис-пру-денса. Быт авокат!»
Озираясь, я понимаю, что ошибся фильмом: это давно уже не «Касабланка», а кадры из фантасмагории Бертолуччи «Под покровом небес», где-то ближе к развязке. Но мое путешествие только начинается, и в противоположном конце зала я замечаю спасительную фигуру давешнего попутчика, ганца по имени Кофи. Он тоже замечает меня, весело машет. Узник захудалой гостиницы, он не терял времени даром и уже успел обзавестись нигерийской подругой. В Нигерии, как и в Гане, говорят по-английски; под покровом марокканских небес этого более чем достаточно для дружбы. С недоверием оглядев шатию из французской Африки, Кофи берет меня за локоть: «Пойдем, Квабена, занимать места. Нам скоро лететь».
* * *
В Аккре меня обещали встретить, но с момента посадки прошло уже больше часа, а встречающих нет как нет. Все это время благородный Кофи не отходил от меня ни на шаг. «Я так скажу, Квабена, ждем еще полчаса, и если их нет, едем ко мне». Через пятнадцать минут в опустевший зал ожидания вбегает человек, размахивающий табличкой с моим именем. «Sorry, brother, sorry!»
Погрузившись в миниатюрный «фольксваген», мы выезжаем из аэропорта и попадаем в мир по ту сторону Сахары, в существование которого невозможно поверить. По краям дороги пасутся козы, горят костры, бегают голые дети. Люди с корзинами на головах бросаются под колеса автомобиля в надежде продать товар. Начинай привыкать: тебе здесь жить.
2. Кейп-Кост — Кумаси
За три недели до моего путешествия в Гану ординаторский коллектив Сент-Винсента мобилизовался, единодушно решив, что меня необходимо подготовить к предстоящей поездке. Главным образом подготовка состояла в том, что мои товарищи наперебой предлагали мне разнообразные варианты туристического экстрима: «Ты ведь не только работать едешь, но и на красоты посмотреть!» Нигериец Энтони Оникепе агитировал слетать на выходные в Лагос, ганцы Осеи и Амма Овусу — в исторический город Кумаси. Мне диктовали телефоны бесконечных друзей и родственников, знакомых адвокатов и автомехаников — всех, чья помощь может понадобиться и с кем я во что бы то ни стало должен связаться сразу же по прибытии.
— Мой старший брат все устроит, — уверял Энтони. — За шестьдесят баксов в день мы наймем тебе шофера и охрану.
— Охрану?!
— Полицейский патруль. У нас так можно: купить на день полицейского.
— От кого же он меня будет защищать? От бандитов или от других полицейских?
— Ну да, ну да, что-то вроде того. Короче, если купить полицейского, тебе будет проще перемещаться. Безопаснее, а главное — быстрее.
— Слушай, а может, мне все-таки не стоит летать на выходные в Лагос?
— О чем ты, босс? Лагос — это центр всего, оазис в пустыне! Да ты там у них в Гане со скуки помрешь, у них в столице ни одного кинотеатра нет!..
Городом без кинотеатров оказалась не Аккра, а Киншаса, столица Демократической Республики Конго, через силу поблескивающая бульваром Тридцатого Июня. Но это выяснилось потом. И уже потом, проехав врачом-туристом от Кот-д’Ивуара до Сахары, я узнал, что «оазис» — это не аберрация, не единичное явление в пространстве и времени, а африканская норма жизни. Повсеместная победа над здравым смыслом. Заброшенный футбольный стадион посреди саванны, непонятно кем и когда построенный на расстоянии ста километров от ближайшего населенного пункта. Или выступление малийской рок-группы — виртуозных эпигонов Джимми Хендрикса — на окраине вымершего Тимбукту, на фоне военной базы, охраняемой двумя-тремя истуканами в зеленых беретах. Они и есть единственные слушатели, хотя музыканты стоят к ним спиной, как будто играют для совершенно иной аудитории. Для какой? Кроме жидкой стайки детей-беспризорников, тоже стоящих спиной, на улице нет ни души. Огромное безлюдное пространство, заметаемое белым песком. Сто лет одиночества. В четыре часа дня с минарета слышится утробный призыв муэдзина, заунывное «Алля-аху акбар» сливается с рок-гимновыми аккордами «All Along the Watchtower»…
Накануне отъезда Осеи и Амма вручили мне сотовый телефон с ганской сим-картой, походную сумку, которая на местном сленге «Ghana must go» и купюру в двадцать седи («…Без денег тебя не отпустим, и слышать ничего не хотим, в Гане исправных банкоматов — днем с огнем, так что бери и не думай, это не обсуждается…») В итоге все произошло ровно так, как они предсказывали. Единственный банкомат на весь аэропорт Котока оказался неисправным. Встречавший меня посыльный от медицинской организации опоздал на полтора часа и, если б не мобильная связь, вряд ли вообще разобрался бы, где и кого встречать. Словом, приятного было мало, если не считать ганских пограничников и таможенников, оказавшихся самыми дружелюбными представителями власти из всех, с кем мне когда-либо приходилось сталкиваться. «Докета, ко со на сайаре»[96], — торжественно произнес человек с автоматом, заглянув во въездную анкету, где была указана моя профессия. «Докета-докета, бо ме панье о-о!»[97] — весело пропел человек в резиновых перчатках — и даже не поинтересовался содержимым на удивление вместительной «Ghana must go».
Один из номеров, по которым мне следовало позвонить тотчас по прибытии, принадлежал Джозефу Кинсли, приятелю Осеи, живущему где-то в окрестностях Кумаси. Звонить человеку без повода все-таки неудобно, и я тянул волынку в течение трех недель. За это время повод не подыскался, но растущее чувство неловкости перед Осеи наконец пересилило чувство неловкости перед незнакомым абонентом.
— Кто? Алекс? Ий, Алекс, акваба-акваба-акваба! — зазвучали в трубке знакомые нотки, — Что же ты так долго не объявлялся? Осеи и Амма мне уже трубку оборвали! Ну как ты там?
— Хорошо, Джозеф, спасибо! Привыкаю…
— К здешней жизни? Ий! К ней даже я еще не привык, а я тут родился! Так ты где обитаешь?
— В Эльмине. Это недалеко от Кейп-Коста.
— Эльмину знаю, ахэ! Я за тобой приеду в следующую пятницу.
— Куда приедешь, в Эльмину? Из Кумаси?
— Из Кумаси. Заберу тебя к себе на выходные.
— Так это же шесть часов езды в один конец! Да еще по таким дорогам…
— Об этом не беспокойся. Жди меня в следующую пятницу, часов около… Ий, Алекс! Осеи говорил, что ты выучил чви. Адамфо ба а, омма дэбида ммрете пэпэапе[98]. Понимаешь?
— Понимаю: жду тебя в следующую пятницу между полуднем и полуночью.
— Уайе адье, уайе адье паа! Энье эчьире[99].
В пятницу Джозеф приехал за мной, как и обещал, между полуднем и полуночью. Нет, он не шоферил в течение шести часов по смертельным ухабам — он вообще не водил машину, полностью полагаясь на всеафриканский маршрутный транспорт. Маршрутка тро-тро доставила Джозефа в Кейп-Кост, а оттуда — пять-шесть километров по прибрежному шоссе, час ходьбы от силы. Энергии моему новому знакомому было не занимать, и, может быть, поэтому он выглядел значительно моложе своих тридцати пяти. Худой, если не сказать субтильный молодой человек. Слегка приплюснутое лицо, глаза навыкате. Клетчатая рубашка с вымокшими подмышками и мешковатые брюки со стрелками — форма одежды советского интеллигента. Традиционное рукопожатие с прищелкиваньем. Приветственная улыбка до ушей, выдающая широкую межзубную щель. «Ий, Алекс, я вспомнил, что в этой деревне у меня есть друзья. Я думаю, и они меня помнят. Вот мы у них чего-нибудь перекусим и сразу поедем…»
После обеда и послеобеденных посиделок нас проводили до станции, где мы погрузились в рейсовый автобус Эс-Ти-Си: Джозеф рассудил, что заморскому гостю негоже трястись в тро-тро. Любая автобусная поездка в Гане начинается с молитвы. Водитель и пассажиры хором обращаются к Всевышнему, ходатайствуя о беспрепятственном проезде и благополучном прибытии. Но это только начало: ни один рейс Эс-Ти-Си не обходится без проповедника, создающего шумовой фон на протяжении всей поездки. Треть пассажиров внимает и подбадривает, остальные глядят в окно или делают вид, что спят. Наш проповедник оказался седовласым и зычноголосым старцем с глазами, опустошенными онхоцеркозом. «Отумфо! Обоадье! Оньянкопон!»[100] Я поднял книжное забрало. Джозеф уставился в кириллицу на обложке, как будто высматривая в ней тему для разговора. С задних рядов уже доносилось ожидаемое «шэ, обруни!»[101] Это — первая фраза, которую выучивает пришелец.
Обруни в Гане, мунделе в Конго, тубаб в Мали и Сенегале. «Тубабу, кадо! Тубабу, кадо!»[102] — попрошайничают дети, высыпая из саманных жилищ по берегам Нигера. «В ожидании кадо», — каламбурит один из тубабов. Местные жители незлопамятны: чужестранца, даже белого человека, которого у них есть все основания ненавидеть, встречают по-доброму — настолько, насколько это вообще бывает. Но «лес духов» не жалует тех, чьи предки прошли здесь с огнем и мечом, и, при всем гостеприимстве хозяев, белому туристу в Западной Африке приходится туго, а уж тому, кто приехал пожить, — и подавно. Тем не менее на дорогах Ганы и Мали, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуара то и дело сталкиваешься с бледнолицыми сородичами, издалека узнаешь собрата под боевой раскраской противосолнечного крема.
Видавшие виды туристы-первопроходцы, розовощекие студенты из Голландии или Швеции или добровольцы-спасатели вроде меня, претендующие на взгляд изнутри, лезущие из кожи вон, чтобы доказать свое отличие от прочих обруни… Есть и еще одна категория: те, кто приехал сюда, чтобы остаться. Люди с урючной кожей, давно перешедшие из статуса обруни в статус невозвращенцев. Эти старожилы знают Африку как никто — и как никто ощущают себя в ней чужими. Странно: за все время ни один из них так и не выучил язык коренного населения. Как будто изоляция изначально входила в их планы или принималась как данность. Как будто затем и ехали, чтобы испытать всю полноту одиночества там, где это понятие так же чужеродно, как слово «скоро».
* * *
Ближе к вечеру за окном автобуса замелькали форпосты бывшей столицы Конфедерации Ашанти. Двускатные крыши построек доколониального периода, флажки асафо. И, конечно, рынок Кеджетия, занимающий площадь в шесть квадратных километров и насчитывающий около одиннадцати тысяч лотков.
Те, кто бывал в этих краях, знают: рынок — средоточие здешней жизни, сплав традиции и современности, лабиринт, не знающий себе равных. Дело в том, что за пределами двух основных городов, Аккры и Кумаси, в Гане нет магазинов. Вернее, нет помещений, опознаваемых как магазины в европейском понимании. Когда хозяйке нужно то или это, она идет в хижину к дядюшке Кофи или тетушке Эджоа, у которых то или это имеется в количестве, предполагающем возможность купли-продажи. Если же нужно и то, и это, хозяйка идет на рынок. Что непосвященному видится босховским адом, для африканской хозяйки — вотчина и родная стихия, рай секонд-хенда.
Здесь перекраивают старые школьные формы, нижут бусы, выдалбливают калебасы. Мастерят светильники из консервных банок. Автомобильные запчасти переплавляют в кухонную утварь и музыкальные инструменты, а из шин изготавливают резиновые сапоги и сандалии. Гончары, кузнецы, кожевники, шорники, столяры — ремесленники всех сортов и возрастов — демонстрируют свое мастерство на глазах у бесчисленных зрителей и немногочисленных покупателей. На прилавках выложены плоды труда: статуэтки, маски, запонки, гребешки, нагрудные украшения, изделия из бронзы, золотые гирьки и табуреты вождей, резные доски для овари, атрибуты восьми аканских кланов и семи материнских рек, фигурки животных, барабаны и флейты, головные уборы из леопардовых шкур. Сушеные змеи и летучие мыши, коренья и листья, банки и склянки, настойки и порошки, рога и копыта, застывшие в мунковском крике головы обезьян: мы пришли в лавку аптекаря. Дальше — швейный цех, дружный стук допотопных машинок «Зингер». Кое-где попадаются даже традиционные станки для производства кенте.
Продовольственная секция: сверканье огромных ножей над глыбами мяса. Индюшки и куры, козлятина, копченая дичь, улитки и крабы, плоды масличной пальмы и дерева ши, грибы и орехи кола на глазированных блюдах, крупы и специи, всевозможные фрукты. Невероятная картина африканского изобилия.
Раз в несколько месяцев жена Джозефа совершала набег на центральный рынок, взяв в помощники кого-нибудь из домочадцев мужского пола. Там, проворная и решительная, сновала от лотка к лотку, маневрируя в толчее людей и коробок, на ходу обмениваясь приветствиями с сотней знакомых продавцов и ткачих. Спортивное ориентирование в торговом лабиринте. Что-то в этом есть исконно африканское, родственное искусству шамана-охотника, знатока невидимых троп в непроходимых джунглях.
Впрочем, это только для обруни в Африке все сводится к джунглям. Не пора ли разуть глаза: джунгли давно закончились, и теперь моему объективу одна за другой предстают достопримечательности цивилизации — королевский дворец, резиденции Яаа Асантеваа и Премпеха II.
Заглядевшись на заоконные красоты, я и не заметил, как в автобусе наступила драгоценная тишина. Пассажиры спали. Еще пять минут назад их вразумлял неистовый проповедник, но теперь он и сам закемарил, откинувшись на сиденье в последнем ряду. Полуоткрытый рот, закатившиеся глаза. Протиснувшись между баулами, я дотронулся до запястья и с ужасом понял, что не ошибся: старик был мертв.
3. Кумаси
Воскресным утром, в последний день 42-дневного цикла календаря ашанти, улицы Кумаси огласил рев леопарда. Можно было подумать, что показной хищник, сладко зевавший на радость посетителям городского зоопарка, усыпил бдительность стражей и вырвался из неволи. Но: «Это не зверь, это такой барабан, — успокоил Джозеф. — Ашанти изобрели его для острастки англичан, когда их войска брали наш город». Через несколько минут по главной улице, ведущей во дворец Манхийя, промчались черные «мерседесы», сопровождаемые вооруженными мотоциклетчиками: королевский кортеж. Автоматная очередь повторила предупредительный сигнал «леопарда». Сегодня — Аквезидае, публичная дворцовая церемония, венчающая окончание календарного цикла.
У ворот Манхийя нас встретил человек в расписной тоге. Представился одним из вождей, живущих при дворце. «Церемония еще не началась, — сказал нанб[103], — у вас есть как минимум полтора часа. Погуляйте по королевскому саду, пофотографируйте. Если хотите, я проведу вас и все расскажу».
Дворцовая архитектура была выполнена в традиционном стиле ашанти: анфилада двухэтажных зданий и арок; колонны, высветленные по пояс — темный низ, светлый верх. Гуляют павлины. На одной из тропинок, огибающих сад, нас остановила беззубая старуха с тотемным посохом. Заговорила в рифму:
— Мобету куайн ако Нкрайн?[104]
— Айн[105].
— Энти ме нэ мобеко[106].
— Мепаачэу, йенко Нкрайн коси очена анаджо[107].
— Ю-уу. Моджвене пэ а, ка чрэ ме. Ме нэ мобеко[108].
Как реагировать? В Гане встречные и поперечные всегда что-нибудь предлагают. Пойдем со мной, покажу тебе город. Приходи в гости, угощу пальмовым супом. Оставь телефон — мой приятель, у которого есть мопед, свозит тебя на Вольту. Хочешь, выйду за тебя замуж, рожу трех детей; хочешь, приеду к тебе в Америку; хочешь, пущу к себе жить… Трудно определить, когда это шутка, когда — «разводка», а когда — африканское чистосердечие. Беспроигрышная тактика иностранца — принимать любое предложение за обман. Заняв оборонительную позицию, ты не окажешься в дураках, останешься невредим. Правда, и контакта с окружающей средой у тебя тоже не будет. Побывав в другом мире, ты будешь знать о нем не намного больше, чем знал до поездки. Но — безопасность превыше всего. Страх и брезгливость подсказывают, что от безумной старухи лучше держаться подальше.
— Нвианом бо чвере а, нвиа обаа бесу[109], — внезапно изрекла старуха, обращаясь куда-то в сторону. — Ма м’аходжо уо, ка нокра даа[110].
— Мепаачэу, эна, матэ[111].
— Мо нэ Ньяме нко[112].
— Кто это? — спросил я у вождя, когда мы отошли на несколько шагов.
— Это вдова покойного асантехене Опоку Варе.
— Вдова короля?
— Да. После смерти короля все его жены остаются жить во дворце.
* * *
Бьют барабаны. Накрапывающие атумпаны и громоподобные хвалебные тамтамы выстукивают головокружительную морзянку, сообщающую о прибытии старейшин. Местная знать и духовенство один за другим проходят во двор через боковую арку. Говорящие барабаны объявляют имя и звание каждого новоприбывшего. На каждом — кенте, чей узор символизирует принадлежность к одному из восьми тотемных кланов, а также к одной из семи материнских рек. Клановая принадлежность проявляется даже в разговорной речи: говорящий использует те или иные грамматические формы в зависимости от того, к какому колену акан он принадлежит. Так в русском языке имеются глагольные окончания мужского и женского рода, указывающие на пол говорящего или того, о ком идет речь.
Когда вожди рассядутся, глашатай осэн запечатлеет в памяти каждое кенте и, вернувшись в королевские покои, представит повелителю подробный отчет. Кенте, в котором выйдет король, не должно быть похожим ни на одно другое. Пока его величество выбирает наряд, подданным полагается принять участие в традиционных песнопениях.
Входит свита: королевский лекарь с целебными травами на золотом блюде, хранитель дворцовых ключей асафуахене, палач обрафоо, стражи в головных уборах из леопардовых скальпов, казначеи санаахене с золотыми слитками на головах, жрецы апрафоо с плетками из слоновьих хвостов (чтобы отмахиваться от злых духов), оруженосцы, горнисты. Входит королевский толмач очеаме. Входят визирь и глава совета старейшин. За ними — бывший президент Ганы Джон Кофоор. Последним входит младший сын короля, он же «хранитель королевской души» (окра), в шляпе из орлиных перьев. По традиции сын короля не может стать наследником престола. В матриархальном и матрилинейном обществе акан наследника выбирает (номинирует) сестра монарха, Обаахема. Кандидатуру, которую выдвинула Обаахема, подтверждает или отвергает большинством голосов совет старейшин.
Наконец носильщики аконнюа-соани вносят королевский трон, члены королевской семьи исполняют ритуальный танец кете, и над головами присутствующих проплывает долгожданный паланкин, обмахиваемый павлиньими веерами. Начинается прием ходатайствующих. «Сегодняшний прием будет короче обычного, — объявляет очеаме. — Как вы знаете, сегодня наши «Блэк Старз» играют с Австралией. Его величество, как и все люди Ганы, будет смотреть матч». Go, Ghana, go, Ghana, go, go, go! Чемпионат мира по футболу в самом разгаре.
Кумаси основал жрец Окомфо Аноче. Кумаси означает «под деревом кум». Священное дерево кум, разновидность африканского дуба, простояло много веков и неожиданно рухнуло у всех на глазах в XIX веке — незадолго до вторжения белых в столицу Конфедерации Ашанти. Король Премпех II призвал жрецов истолковать предзнаменование. Предвещает ли гибель дерева скорую гибель Кумаси? Не осмеливаясь ни подтвердить, ни оспорить королевское предположение, жрецы посоветовали выбрать двух рабов донко и привязать их к шесту на окраине города. Если эти рабы умрут сразу, молвили жрецы, значит, ашанти одержат победу над белым войском. Если же будут умирать долго, значит, государству ашанти суждена погибель. «В таком случае, гибель Кумаси будет возмездием за смерть, которой я предам неповинных рабов», — догадался король. «Чему быть, того не миновать», — отвечали жрецы.
4. Лагос
Чинуа Ачебе, Воле Шойинка, Амос Тутуола, Даниэл Фагунва, Сиприан Эквенси, Габриэл Акара, Кристофер Окигбо, Джон Пеппер Кларк, Бен Окри, Чимаманда Адичие, Увем Акпан. Это далеко не полный список нигерийских писателей, чьи имена известны по всему миру. Можно сказать, что современная африканская литература родом из Нигерии. Почему именно из Нигерии? Специалист-культуролог наверняка указал бы на богатый фольклор народов йоруба, игбо и хауса; на древность мистических преданий ориса, обнаруживающих на удивление много общего с индуизмом и каббалой; на традиционный театр эгунгун. Плюс — трагическое прошлое страны, история кровопролитий от колонизации до Биафры. Да и нынешняя действительность предоставляет немало материала для надсадной поэзии и суровой прозы. А может быть, дело просто в численности населения: чуть ли не каждый четвертый африканец живет в Нигерии. Много народу, вот и литераторов много. Как бы то ни было, успехи Нигерии в области изящной словесности впечатляют.
Примечателен (но, возможно, не удивителен) еще и тот факт, что самая литературно одаренная из африканских стран — еще и самая бандитская. «Never trust Nigerians», — предостерегал ганский учитель Фрэнсис Обенг. Нигерию можно и нужно бояться. И уж если тебе довелось оказаться в гуще событий, где пятизвездочные отели Икойи делят жилплощадь с трухлявым самостроем на фундаменте из экскрементов, в городе, чьи кликухи — Гиди, Лас Гиди — неизменно ассоциируются с кодовым «419»[113]; словом, если судьба-айанмо, покорная трансцендентному богу Олодумаре, занесла тебя в Лагос-сити, держи ухо востро, руку на пульсе, нос по ветру. И потрудись выучить хотя бы несколько ключевых выражений на местной фене. А нет — сиди и помалкивай, ибо ты — ойибо[114], свежая рыбка. А свежей рыбке в Нигерии… Стоп. Во-первых, не Нигерия, а Найджа. Официальное название сойдет разве что в качестве рифмы, как в хитовой песне Уанди Коул: «We dey come from Nigeria, multiply like bacteria…»[115]
Итак, идиоматика пиджин. Вместо универсального «how are you?» на улицах города слышится «how now?» или «how body?». Варианты ответа: «body fine oh», «I dey», «no skin pain», «no shaking», «body in dey cloth». Как тело? Тело в обертке. «What did you say?» — недоумевает ойибо. «Wetin dey talk?» — в свою очередь переспрашивает местный.
Открывается дверь, и по утреннему двору опрометью проносится pikin, опаздывающий в школу. Дебелая родительница желает ему счастливого пути («Go-come!»), грозится «slap dis nyash», если еще раз опоздает. И, всучив кулек с завтраком, добавляет: «Pick am carry am go». Серийные глаголы, одна из особенностей грамматики йоруба, чви и других нигеро-конголезских языков, бесшовно переходят в западноафриканский извод английского. Так же как и многочисленные междометия, все эти «oh», «dey», «а-be». Стандартный английский у жителей Лагоса не в чести. Но и перегибать палку, щеголяя своим знанием пиджин, тоже не стоит: сойдешь за нахала, наживешь wahalla, то есть неприятности. Далее — везде.
Пока моторикша, под завязку набитая пассажирами, тюками, домашним скотом и прочим грузом, буксует в многочасовом go slow (лучше бы уж было go by leg!), мы открываем тетрадку и продолжаем составлять свой словарь-разговорник.
Dash — щепотка. Она же — подарок, налог или штраф, в зависимости от обстоятельств. Любимое слово нигерийской полиции и таможни.
Molpol — мент (сокращенно от mobile policeman). Для русского уха звучит почти узнаваемо: молпол — это молчел с большим автоматом. Разумеется, в обращении следует употреблять не молпол, а ога, что в переводе с йоруба означает «начальник».
Nepa — электричество. На самом деле это — аббревиатура (NEPA). Изначально она расшифровывалась как Nigerian Electric Power Authority (Нигерийское управление электрической энергией), но народ привык понимать по-своему: Never Expect Power Always. Ожидай всегда: электричества — никогда. «NEPA done die-o a-be?» («Как там электричество, уже отключили?») — форма приветствия, не менее распространенная, чем «how body?».
Chop — рубать, то бишь есть. Этот сленг нам знаком и понятен. Проголодавшись, спрашиваем не ресторан, а чоп-бар. Только не тот, где подают суп из собачатины, известный как «404» (не путать с «419»).
Впрочем, «404» — далеко не главная гастрономическая достопримечательность. Нигерийская кухня достаточно сложна и разнообразна, если не сказать изысканна. Вот некоторые из популярных закусок: плантановые оладьи, шашлыки суйя, гигантские черные улитки игбин, холодное блюдо из козьей головы исиэву, запеканка из фасолевой муки с яйцами и мясным паштетом, вяленая акула в соусе эгуси из перемолотых семечек африканской дыни. На горячее — густые супы на основе плодов масличной пальмы, настоянные на листьях всевозможных тропических растений, приправленные острым перцем, сушеными креветками, пастой из семян рожкового дерева или сброженным кунжутом огири. Пользуются спросом и блюда, проникшие сюда из Центральной Африки: камерунское ндоле из горького листа с ореховой пастой или габонский бородавочник в тягучем огненно-красном соусе из раздробленных косточек дикого манго. Неутомимая хозяйка чоп-бара разносит и собирает посуду, ругается, хохочет; то развлекает, то воспитывает клиентов, круглосуточно лавируя между столиками в парах перечной похлебки.
В глубине двора установлен переносной телевизор, точь-в-точь допотопная «Юность». Когда дают электричество, на экране разгораются страсти мыльных опер. Любовные интриги, семейные драмы. Массовая продукция «Нолливуда». До поры до времени эта клюква воспринимается как малобюджетное подражание западным шоу. Даже панорама города на заднем плане подозрительно похожа на Нью-Йорк, хотя по идее все действие происходит в Лагосе. Но вот в сюжет вклинивается колдун, и прямолинейный реализм неожиданно сворачивает в сторону фантасмагорий Бена Окри. Главный герой превращается в курицу; во рту у героини вырастает странное растение. Такого в Америке не увидишь. Гарантированный хеппи-энд, как правило, носит характер религиозного прозрения: на помощь отчаявшимся героям приходит пастор, и те отрекаются от Маммоны, пробуждаясь к истинной вере. Колдун тает в воздухе, как Бастинда из «Волшебника Изумрудного города». «Praise to Jesus»[116], — вздыхает хозяйка чоп-бара и возвращается к своей посуде.
Когда все разойдутся, опустевший чоп-бар наполнится отголосками внешнего мира; невидимая жизнь мегаполиса просочится между штакетными планками и растечется по двору. Лагос — газ, заполняющий любое пространство и принимающий его форму. Преступный, коррумпированный, жесткий и в то же время приветливый, общительный, артистичный, по-африкански жизнерадостный город с шестнадцатимиллионным населением, растущим со скоростью шестьсот тысяч в год. Город и его обитатель притираются друг к другу, приспосабливаются к любым условиям, особенно в Африке, где, кажется, нет никакого контраста между расчетливостью и безрассудством, жестокостью и добродушием, легкостью и надрывом. Все существует по каким-то другим принципам, и чужестранцу-ойибо, склонному к поспешным выводам и красивым обобщениям, начинает казаться, что дело тут в широте; что у людей, живущих на экваторе, совершенно иное ощущение реальности, потому что для них никогда не наступают весна-осень, дни не становятся длиннее или короче и смерть держится на одной и той же дистанции от человека на протяжении всей его жизни.
5. Аккра
Все узнавания — рынок Канешие, площадь Кваме Нкрумы, арка Независимости — из окна автомобиля. За все время я так ни разу и не погулял по Аккре — за исключением фешенебельного пригорода Осу, где мы несколько раз пили пиво в ресторанчике «Асанка локалз». Да если бы и гулял, наверняка не запомнил бы, как добраться из точки А в точку Б. Но зато я до сих пор помню названия всех районов и улиц; видимо, это — оборотная сторона топографического кретинизма. Впрочем, некоторые из них запомнить совсем несложно. Например, спальный район под названием Russia, соседствующий с поселениями племени га. Для многих жителей Аккры это — единственная Russia на свете. Так некоторые уроженцы американского штата Джорджия не подозревают о существовании другой Джорджии, родины Пиросмани и «Киндзмараули». После десятка безуспешных попыток объяснить свое происхождение я смирился с тем, что меня называли выходцем из местной Раши (это вызывало всеобщий хохот).
Я бывал в Аккре чуть ли не каждые выходные: от «моей» деревни до столицы было около трех часов езды. Останавливался либо у родителей Наны Нкетсии, с которыми она наконец помирилась, либо у знакомого врача-кардиолога по имени Квези Даква. Квези жил с младшим братом и невесткой в снимаемой в складчину землянке на окраине города. Все трое работали в Корле Бу, одном из лучших медицинских центров в Западной Африке. Медицинский институт при Корле Бу — альма-матер большинства моих ганских коллег по ординатуре в американском госпитале Сент-Винсент. Несколько лет назад весь поток выпускников под началом Виктории Апалоо и Кофи Пэппима перебазировался в штат Коннектикут, оставив Корле Бу на попечение самоотверженного семейства Даква. Из-за нехватки врачей в главном госпитале страны Квези и его домашним нередко приходилось дежурить в две смены. При этом их суммарного дохода едва хватало на квартплату. «Я уже который год уговариваю их перебраться к нам в Америку. Не хотят, и все тут!» — жаловалась Апалоо.
Сам Квези жаловался разве что на недостаток медикаментов и неискоренимость африканских поверий («Моим пациентам кажется, что, если человек попал в больницу, значит, ему конец. Поэтому они никогда не обращаются за помощью вовремя, и в результате их дурацкая примета всегда сбывается…»). Разговоры о том, насколько тяжело приходится ему и его семье, моментально и безоговорочно пресекались. У них в доме говорили об американской политике, о ситуации на Ближнем Востоке, о футболе — словом, о чем угодно, кроме изнурительной неустроенности их собственной жизни. Будучи привержен ганским традициям фанатичного гостеприимства, Квези стремился заполнить мои приезды «культурной программой» и не на шутку обижался, когда я предлагал хотя бы частично покрыть стоимость театральных билетов или счет в ресторане, который явно был ему не по карману. Мне становилось не по себе от этого бессребреничества, и я предпочитал по возможности гостить у Теодора и Арабы Нкетсия, потомков верховного вождя фантсе, живших в колониальном особняке с целым штатом прислуги. Те были не менее гостеприимны, но хотя бы могли себе это позволить.
После примелькавшейся нищеты, деревенской и городской, мир Нкетсия представал неправдоподобным вымыслом. Это была Аккра белокаменных зданий за бетонными оградами, ухоженных садиков, взлелеянных цветников, закрытых клубов и частных школ с видами на университеты Америки и Европы. Наряду с коренной элитой здесь обитали приезжие, от фармацевтического магната из Германии до хипповатой Эми Зиммерн, выписанной из Калифорнии в качестве гувернантки. «В Гане можно жить, — говорила Эми, отправляя в рот круассан. — В каком-то смысле белому человеку, если он знает, чего хочет, легче добиться своего здесь, чем у себя дома. Здесь тебе никто не будет вставлять палки в колеса…» Может быть, она, как и я, ни разу не гуляла по городу, и может быть, у нее были на то причины.
По Аккре вообще не особенно гуляют, хотя здесь есть свой парк, есть несколько обязательных достопримечательностей. Но выходца из Раши не интересовал очередной музей Революции — тем более что и времени на его посещение не оставалось из-за плотного социального графика. Дело в том, что Одоква, старшая сестра Наны, только и делала, что таскала меня с собой на светские рауты, где знакомила с бесчисленными бывшими одноклассниками, ныне преуспевающими и строящими грандиозные планы. Все они занимались бизнесом и все как один метили в политики. Лидеры нового поколения: образованные, предприимчивые, владеющие несколькими языками. Африканцам языки даются легче, чем европейцам. Видимо, это связано с навыком, приобретенным в раннем возрасте. Племена, живущие бок о бок, говорят на совершенно разных наречиях, и средний африканец с детства владеет четырьмя, а то и пятью языками.
Как и следовало ожидать, встречи одноклассников Одоквы оказались копией западных корпоративных вечеринок, где принято посасывать коктейли и устанавливать полезные связи, — с той разницей, что после трех-четырех часов, отведенных на деловое общение, гости здесь не расходятся по домам, а переходят к танцевальной части программы и отплясывают до глубокой ночи.
Журфиксы, устраиваемые родителями Наны, были иного толка. Сюда приходили люди заслуженные: бывший представитель Ганы в ООН, ганский посол в США, профессор африканской истории из Нигерии. Приходили и другие, менее именитые, но более разодетые; Одоква заглазно называла их буга-буга[117]. Заслуженные гости приходили больше поесть, чем потанцевать. Рано или поздно все разговоры сворачивали в сторону религии. «Сядь поближе, — говорил мистер Нкетсия, обращаясь к нигерийскому профессору, — поделимся опытом, сверим карты…» И нигериец начинал длинный рассказ о том, как за свою активистскую деятельность студенческих лет был внесен в черный список ЦРУ, о чем случайно узнал по прибытии в Штаты. И как обратился к Всевышнему и постился три дня. И на той же неделе в вашингтонском подвале случился пожар, и сгорела папка с проклятым списком. «Йеде Ньяме асэ»[118], — отзывался хозяин, и сидящие за столом хором произносили молитву.
«Африка тебя не отпустит, помяни мое слово, — сказал Нкетсия в мой последний приезд. — Когда-нибудь ты захочешь вернуться, и тогда — запросто приезжай и живи у нас». Я выдержал торжественную паузу и сложил руки лодочкой. Вот и закончился мой «ганский» год. Завтра — Абиджан, оттуда — в Бамако: путешествие по Западной Африке перед возвращением в Нью-Йорк. Дальше — воспоминания. Перемалывание африканских баек в устной и письменной форме, постепенное забывание чви, периодические ночные звонки. На проводе — бриджпортский друг Коджо или медсестра Абена, работавшая со мной в Эльмине, знающая меня исключительно под именем Квабена («мальчик, родившийся во вторник»). Через две недели Абена выходит замуж за Ато и, как только что выяснилось, меня ожидают на свадьбе в качестве свидетеля. Конечно, Абена, я приеду первым же поездом из Нью-Йорка. Мефа кетеке но бэба. Слово кетеке имеет два значения: «поезд» и «гиена». Это — один из характерных для языка чви «двойных омонимов»: с одной стороны, гудок паровоза, напоминающий вой гиены; с другой — само звучание слова ке-те-ке, передающее стук колес. Мефа кетеке но бэба. Абена готова поверить, что я не шучу. Что из Нью-Йорка в Эльмину и вправду можно добраться на поезде. Саа? Кетеке бэйн?[119] За всю жизнь она ни разу не видела ни поезда, ни гиены. Самое популярное транспортное средство в Гане — маршрутка тро-тро, а самое распространенное животное — акрантие, большая тростниковая крыса, родственница дикобраза. Суп из акрантие считается здесь деликатесом. Помню, как Абена приготовила этот акранти-квайн накануне моего отъезда; он оказался одним из самых вкусных блюд, которые я пробовал в своей жизни.
6. Аккра — Абиджан
Кот-д’Ивуар, он же Берег Слоновой Кости, граничит с Ганой, но попасть туда стоит немалых усилий. Пользоваться наземным транспортом не рекомендуется в связи с неспокойной ситуацией на границах. Лучше лететь, но и тут все непросто. Позвонив в представительство авиакомпании «Эр Ивуар», чтобы узнать расписание рейсов, я услышал приятный женский голос: «Если вас интересует статус потерянного багажа, нажмите на единицу». Меня интересует другое, но других вариантов, кажется, не предусмотрено. «…Нажмите на единицу», — повторил после паузы бархатный голос. Я послушался. «Неправильный выбор», — сообщил голос, уже мужской, и автоответчик отключился. Ничего не попишешь, надо ехать к ним в офис, который почему-то открыт исключительно по субботам, с десяти до одиннадцати утра. «Эйе Абибиман о-о»[120], — развела руками Одоква.
В офисе меня поприветствовала девушка приятной внешности — видимо, та самая, чей голос был записан на автоответчик. Да, конечно же, можно узнать расписание. Выкупить билет тоже можно, но не сегодня, так как у авиакомпании «Эр Ивуар» закончилась бумага и билет мой никак не распечатать…
И все же в назначенный день я сел в самолет. Сдал багаж, предъявил талон, занял место. И не просто место, а рядом с африканской знаменитостью. Но это выяснилось потом, а сначала на борт взошел долговязый ивуарец, впоследствии оказавшийся малийцем, и поместил в багажное отделение предмет в чехле. Судя по форме, предмет был либо огнестрельным оружием, либо струнным инструментом. Судя по артистической внешности владельца, скорее — второе. За пять минут до его появления я и сам поместил в это отделение инструмент — приобретенную в аэропорту сувенирную домру. Ивуарец-малиец аккуратно подвинул мою музыку и положил свою рядом. Вслед за ним в узком проходе появилось еще несколько человек с музыкальной кладью. И наконец пред очи пассажиров предстала она, царица Савская. Золотой тюрбан, подведенные сурьмой глаза, гордая осанка. Меня разбирало любопытство.
— Вы — музыканты? — поинтересовался я у ивуарца-малийца и сам подивился глупости заданного вопроса.
— Музыканты.
— С гастролей?
— Угу. Выступали в Лондоне, потом в Аккре. Теперь домой едем.
— А какой у вас стиль?
— Мандинг[121], разумеется.
— Понятно… А где вас можно послушать?
— Спроси у него, — малиец ткнул пальцем в усатого человека, сидящего через проход. — Эй, Бабакар! К тебе вопрос.
— Я вас слушаю.
— Он хотел бы узнать, где и когда нас можно послушать.
— Да, я хотел бы узнать, когда и где их… вас…
— Ваше имя, пожалуйста.
— Мое? Александр…
— Спасибо, Александр, за проявленный интерес. Меня зовут Бабакар Туре, я официальный менеджер Бабани Конэ и ее коллектива. Следующий концерт состоится седьмого августа в Бамако. Если вы оставите ваши координаты, мы будем рады сообщить вам точный адрес.
Какие такие координаты? Взяв протянутый мне блокнот, я записал свой номер телефона в Гане.
— Ты сам-то откуда будешь? — внезапно включилась в разговор Бабани Конэ.
— Из России… Но не из той, которая в Гане.
— ?
— В общем, я из Нью-Йорка.
— А в Абиджан надолго?
— Да нет, проездом. Я в Мали собираюсь.
— Вот как? Абисимила![122] На бамбара говоришь?
— Нет.
— Надо учиться. Скажи: «Аукá кенэ́».
— «Аукá кенэ́».
— «Торó ситэ́».
— «Торó ситэ́».
— «Ани́ сокомá».
— Знать бы еще, что все это значит…
— За один урок всего не узнаешь.
— Потом, — зашептал мне на ухо ивуарец-малиец, — мы тебя потом пригласим… к себе.
Самолет пошел на посадку. В иллюминаторе замелькала зелень экваториальных лесов, покрывающая землю бескрайней нежностью. Бабани Конэ опустила на глаза темные очки, которые были спрятаны под тюрбаном, и откинулась в кресле.
В Абиджане, уже не обруни из деревенской миссии, а просто туристы, мы перво-наперво отправились пить кофе, от которого успели отвыкнуть за время пребывания в Гане. Я вертел головой, не переставая удивляться внезапной смене декораций. И вкусу настоящего кофе, и европейскому интерьеру кофейни, и европейским же ценам. Когда-то этот город нарекли западноафриканским Парижем. Но это было давно, задолго до нынешней диктатуры и перманентного военного положения.
Стены заведения украшали деревянные маски племени сенуфо вперемежку с черно-белыми фотографиями. На одной из фотографий был запечатлен пожилой полисмен с мартышкой на плече. Я вспомнил «Обезьяну» Ходасевича: «В тот день была объявлена война». Новая война в Кот-д’Ивуаре не заставила себя ждать; к декабрю миротворцы ООН уже патрулировали город.
7. Бамако
«А Хампате Ба нашего вы читали?» — спрашивает полковник Майга. Амаду Хампате Ба я читал. Вернее, пробовал читать. И второго местного автора, Ямбо Уологема, тоже пробовал. Все-таки жемчужина малийской литературы — это эпос «Сундьята», датируемый чуть ли не XIII веком. «Сундьяты» вполне достаточно. Что же касается современной литературы Мали, то ее скудость особенно наглядна в сравнении с той же Нигерией, где вот уже полвека продолжается литературный бум. Но если писать книги нигерийцам удается лучше, чем кому бы то ни было, то об успехах нигерийского кинематографа говорить не приходится: бесчисленная продукция пресловутого «Нолливуда» не тянет даже на уровень школьной самодеятельности. В Мали все наоборот. В Мали нет писателей, но лет тридцать назад здесь появилась целая плеяда талантливых кинематографистов, и с тех пор на международных кинофестивалях Африка представлена тремя соседями: Мали, Сенегал, Буркина-Фасо (единственное исключение — чадский режиссер Махамат-Салех Харун с его несомненным шедевром «Сухой сезон»). Кроме того, по всей Африке, равно как и за ее пределами, слушают удивительную малийскую и сенегальскую музыку, тогда как нигерийская музыка — это довольно однообразные афробит и хай-лайф, постепенно переродившиеся в подражание американскому ритм-энд-блюзу. Причины этого водораздела неочевидны. Может быть, дело в колониальных зонах влияния (здесь французы, а там англичане), а может, в чем-то еще. В исконном различии культур, например. Ведь основные культуры Западной Африки — это йоруба, акан и мандинг. Литературоцентричные йоруба и акан — на юге, среди экваториальных лесов. А здесь — в Мали, Сенегале, Буркина-Фасо — пески Сахеля и люди мандинг; музыка и кино; суданская архитектура. Фульбе, волоф, джерма и многие другие племена впитали культуру мандинг, став частью могущественной империи. «Да, мандинг могуществен», — соглашается полковник.
Полковник Абдурахман Майга — бывший министр внутренних дел Мали; губернатор Дженне, Мопти и Сикассо; посол в Египте и Гвинее. Шестьдесят лет назад, в возрасте двадцати пяти, он стал одним из командующих Армией освобождения. Нынешний президент Мали[123] — его протеже и приемный сын. Биологических детей у полковника восемнадцать, а приемных — около сорока. Большинство из них квартирует в его «гарнизоне», разбитом на несколько корпусов. Мог ли я представить себе все это три года назад, когда вел пациента, доброжелательного старичка-африканца, попавшего к нам в больницу во время частного визита в Нью-Йорк? «Если окажетесь в наших краях, доктор, непременно приезжайте в гости. Мы с женой будем рады вас принять». Вот я и приехал. Со мной — Юля, Олег и Алла, прилетевшие из Нью-Йорка, поддавшись на мои уговоры принять участие в автопробеге Бамако — Тимбукту. Мои спутники не знали, на что подписывались, и теперь, глядя на их понурые лица, я чувствую себя виноватым и понимаю, что зря втянул их в эту авантюру.
У полковника три жены. Та, что была с ним в Нью-Йорке, импозантная женщина с американским именем Сэлли, оказалась средней. Средняя жена — спутница жизни, сопровождающая государственного мужа в официальных и неофициальных поездках по миру; старшая — мать семейства и хранительница домашнего очага; младшая — скорее приемная дочь, чем жена, как по возрасту, так и по отношению к ней.
В комнате у старшей жены воркует телевизор. На стене висит огромный портрет полковника в молодости. Кажется, сама она в молодости была красавицей. Ее знакомят с гостями, но принять участие в дальнейшей программе вечера не приглашают. Откланявшись, мы следуем за Тон-тоном — так называют полковника домочадцы — в гостиную. Эта комната представляет собой нечто среднее между поражавшей детское воображение картинкой из книги «Тысяча и одна ночь» и стереотипической обстановкой в квартирах московского «нового купечества» конца восьмидесятых. Те же фарфоровые слоники, настенные ковры. Нагромождение бархатных подушек, тюфяков, оттоманок с тигровой обшивкой. Гарнитурная стенка уставлена золотыми кувшинами и прочей блестящей утварью. В воздухе клубится удушающий туман благовоний. Мы рассаживаемся по тигровым диванам. Полковник, в парадном камзоле и тюрбане, хлопает в ладоши, и в комнату запускают многочисленных сыновей, биологических и приемных. Старший биологический сын, Муса Майга, учился в Ленинграде. Говорит по-русски. Но его здесь нет — он живет в городе Мопти. Стало быть, о нем позже.
Хлопает в ладоши, и в комнату вносят блюда с копченой бараниной. Каждому из гостей прислуживает одна из дочерей полковника — с тазиком и чайничком для мытья рук (есть надо, как и в Гане, правой рукой). «…Да, мандинг могуществен…» В период правления Мансы Мусы (XIV век) годовое жалованье придворного составляло 250 килограммов золота. По официальным данным 2010 года, средний годовой заработок в Мали — около ста долларов. Но что такое средний заработок? То же, что и средняя температура по больнице… В нашем государстве, доктор, есть свои проблемы, но с точки зрения истории и культуры, Мали нет равных на всем африканском континенте. Вы упомянули мандинг, но вы забыли про еще более древнее государство — Гану. Современная Гана, хоть и названа в честь той Ганы, не имеет к ней ни малейшего отношения. Та Гана — это не ашанти, а предки мандинг. Древняя Гана находилась именно здесь. Когда Гана пришла в упадок, на ее месте возникло царство Мали. Это уже мандинг. Принц Сундьята разгромил Сумангуру, царя сосо, и основал династию Кейта. Знаете певца Салифа Кейту? Он — их прямой потомок. Сундьята Кейта основал государство Мали ровно тысячу лет назад. Его власть простиралась от Судана до Сенегала. Когда Манса Муса (а он был внуком Сундьяты) совершил хадж, его караван вез с собой полторы тонны золота и в его свите было восемьдесят тысяч душ. Он пересек Сахару, добрался до халифата через Каир. В каждом городе, куда он прибывал в пятницу, он приказывал строить мечеть. Кроме того, будучи милосердным, Манса Муса каждый день освобождал по рабу, так что к концу паломничества в караване оставались только свободные люди.
Снова хлопает: новая смена блюд… «Не серчайте, доктор. Мы не знали точной даты вашего приезда, поэтому не успели как следует подготовиться. Женщины состряпали закуски на скорую руку. Завтра будет настоящий ужин. Я пришлю за вами машину к семи часам». Прощаемся по-малийски, пятикратно прикладываясь к щекам. В прихожей — фотографии в рамке: в обнимку с Нельсоном Манделой и Ясиром Арафатом.
* * *
После Ганы все впечатления от Бамако — на уровне сходств и различий. В основном различий. Там — океан и джунгли, зеленый цвет; здесь — выгоревший песок и красная глина, вместо взъерошенных пальм — стволы баобабов, похожие на юбки с воланами. Больше драпировки: хиджаб, паранджа (там христианство, а здесь ислам). Больше мопедов («китайщины» за триста долларов) и меньше автомобилей (те, что есть, — сплошь подержанные «мерседесы»). Больше грязи, но значительно меньше хлама — металлолома, макулатуры, прочего вторсырья. Хлам — это богатство; по сравнению с Мали Гана — богатая страна… Больше зодчества, замысловатых построек, многие из которых, впрочем, не были и никогда не будут завершены. Меньше шума, уличной брани и хохота. Люди, сидящие на улице, медленно выдыхающие табачный дым, с готовностью откликаются на приветствия, но — в отличие от ганцев — сами на контакт не идут.
Хочется сказать: больше солнца, но меньше света. Почему так? Климатические условия? Состояние экономики? Разница между английской и французской колониальной политикой? Разница между христианством и исламом? Что до ислама, то он проник в Мали около тысячи лет назад, тогда как деятельность христианских миссионеров в Гане приходится на XIX век. Между тем в Гане почти не осталось следов прежней религии, вытесненной табличками «Иисус — мой Спаситель» и возгласами «Аллилуйя!». В Мали же — ровно наоборот: перед каждой хижиной сидит деревянный идол, колдун приносит в жертву фетишу черную курицу; магометанство подчиняется анимизму. То ли культура акан оказалась более восприимчивой к новой вере, чем мандинг, то ли сама христианская вера ближе африканскому сознанию — вопреки радикальным идеям Малкольма Икса.
После ужина у полковника мы подались в центр города в поисках клубов с живой музыкой, которыми так славится Бамако по версии «National Geographic». Поиск привел нас на проселочную дорогу, утопавшую в нечистотах; по краям дороги тянулись кособокие сараи, украшенные неоновыми вывесками. Это и была та улица, где, по словам местных жителей, кипит ночная жизнь города. Изнутри сараи выглядели несколько презентабельней, чем снаружи. За баром — работницы с каменными лицами. Смотрят мимо, ждут клиентов. На заднем плане мелькают бульдожьи челюсти сутенеров — судя по всему, ливанцев. Кроме них, опекунов из Бейрута, в баре только местные… Внезапно за стойкой появилась белая, чье «лица необщее выраженье» казалось уж очень знакомым. И впрямь: услышав русскую речь, обернулась.
Зовут Катя. Из Днепропетровска. Что, спрашивает, тут делаете? Путешествуете? По Бамако? А на что здесь смотреть? Не на что. Сама-то? На заработки приехала, по рабочей визе. Обещали, что устроят в бар для европейцев, а теперь говорят, что у них и нет тут такого бара. Врут, я думаю. Я ведь говорю по-английски, speak English, а они тут все — только по-французски. Пятый месяц жду, чтоб меня перевели… — На заднем плане появляется ливанец с квадратной челюстью. Катя чувствует его затылком. — Ну, вы, короче, еще приходите. У нас тут весело.
7. Мопти
В городе Мопти мы остановились в гостинице класса «А» — с кондиционерами и колониальным душком. В обеденный час бóи в униформе лениво прислуживали белым господам, пока чета волнистых попугаев с обрезанными до основания крыльями делала безуспешные попытки взлететь на нижнюю ветку карликовой пальмы. Это было двойное шоу. Белые господа, как под гипнозом, неотрывно глядели на мучавшихся птиц и, периодически спохватываясь, прикрывали нездоровый интерес фиговым листом возмущения: что за чудовищное живодерство! Чернокожая прислуга от души веселилась, с неменьшим интересом наблюдая за реакцией белых. Прислуги было много, и у каждого здесь было свое дело: наливатель сока (но не воды), открыватель правой двери (но не левой)… Разделение труда в этой гостинице было доведено до абсурда.
Вечером, добравшись до переговорного пункта, я позвонил по телефону, записанному на листке с вензелем министра Майги, и сквозь шипение и чавканье, как на граммофонной записи из шиловских архивов, услышал угадывающуюся через слово русскую речь.
— Да, Саша, привет! Отец мне уже сказал: ты в гости. Я рад, — хрипел русскоговорящий абонент с отдаленно кавказским акцентом. — Дай мне адрес отель, где вы. Я буду тридцать минут!
Через полчаса у входа в гостиницу нас поприветствовал сухощавый человек с грустными глазами и хулиганской спичкой в зубах. Протянул руку: Муса Майга, для своих — Мусевич. «Поехали, ребята. Будете мои гости. Этот отель вам на хер надо!» Муса повернул ключ зажигания, и в салонных динамиках запела Алёна Апина.
— Ну, что вам сказать, — начал наш новый знакомый с какой-то чересчур знакомой интонацией. — Спасибо отцу. Если не отец, я никогда не был бы Ленинград. А Ленинград, — Муса многозначительно поднял палец, — это мое.
Когда-нибудь кто-нибудь из африканских экспатов опишет от первого лица опыт негров в Советской России. А пока в коллективной памяти, доставшейся по наследству от людей предыдущего поколения, всплывают разве что ключевые имена и образы-стереотипы: вездесущий Африк Симон или Нгуги ва Тхионго, фигурировавший в стенгазетных виршах в качестве рифмы для пинг-понга, пока его не заменил Кинг-Конг (тоже, в общем, африканец). Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, где плохо учились и быстро спивались дети африканских царьков. И — уже в девяностые годы — чернокожие привратники в ресторанах или «шоколадные зайцы» шоу-бизнеса. Долгосрочные гости столицы, которых видели, но не различали, и уж точно не знали, чем они жили и что стало с ними потом. Эта история ждет своего рассказчика. А лучше — сценариста. Даром, что ли, малиец Сулейман Сиссе, чья картина «Свет» в свое время завоевала первый приз каннского кинофестиваля, учился во ВГИКе, чуть ли не на одном курсе с Тарковским. Муса — не Сулейман Сиссе, но в тот вечер его биография, рассказанная в лицах, с хрипотцой, блатным жаргоном и уместными инъекциями русского мата, казалась готовым киносценарием, а сам он — лучшим кандидатом на главную роль.
Спасибо отцу. Полковнику Армии освобождения, губернатору Мопти и Сикассо, послу и министру. Все под ним ходили, даже самые богатые и влиятельные. В те времена у него еще не было этих дурацких принципов. Мог подсадить, помочь, когда это было нужно. Один звонок решает все. А для родного сына и двух не жалко. Сына определили в школу-интернат в Алжире. С математическим уклоном (способности!). После школы вернулся в Мали, понял, что ловить нечего, и рванул в Ленинград. Из Африки тогда набирали. Лучшие годы — там, одиннадцать лет. С восемьдесят шестого по девяносто седьмой. Институт, потом аспирантура. И не только это. В институтской общаге не очень-то разживешься, но где наша не пропадала. Освоившись и подучив язык, удачно загнав присланный полковником видеомагнитофон и еще кое-что, купил «Жигули», новенькую «пятерку». И пошло-поехало. Хотелось новых ощущений и впечатлений. Посмотреть Россию. Как там у вас поговорка? Шила в заднице не утаишь.
В поезде дальнего следования — случайный попутчик, ветеран Афгана. Владимир Иванович Пономаренко. Разговорились в тамбуре, переместились в вагон-ресторан. Малиец угощает, и все идет чередом, как вдруг — проверка документов и багажа. Ветеран засуетился. У Мусы — дипломатический паспорт (спасибо отцу!), его шмонать не станут. Предложил новому знакомому перебросить вещи к себе в купе. Тот — с благодарностью. По прибытии в Ленинград вызвался подвезти до общаги. А через пару месяцев вышел студент как ни в чем не бывало из дому, идет себе через скверик, и тут — крутой поворот. Четыре мускулистые руки хватают его и волокут в машину с затемненными стеклами. Пономаренко, Владимир Иваныч. «Что, Муса, помнишь еще меня? А у меня для тебя работенка…» Работать негром в козырной гостинице «Спутник». Головокружительное восхождение по карьерной лестнице: официант, затем бармен, крупье и, наконец, метрдотель. Это тебе не щи хлебать в общежитской столовке. Это новая жизнь. Двойная. В дневное время — учеба спросонья, а по ночам — приключенческий фильм, криминальное чтиво. Жилистый негр с вечной спичкой в зубах, хриплым голосом и недюжинной смекалкой. Колоритный типаж. Такие люди нужны всегда и везде, а здесь и сейчас — особенно. И Собчака обслуживал, и Япончика. Знал назубок, кто что пьет; умело проигрывал им на бильярде. Был за своего. Видел такое, о чем не расскажешь. Покровитель доверял во всем, говорил, если кто косился: «Это мой негр Мусевич. При нем можно». Большим человеком оказался покровитель, Владимир Иваныч. Начинал как «аптекарь», по всему Ленинграду «аптекой» своей приторговывал. Но не погорел, как другие, и к середине девяностых встал в полный рост, занялся легитимным бизнесом. А в девяносто седьмом, почуяв неладное, решил перебазироваться в Лондон. «Поедешь со мной в Лондон, Мусевич?» Зовут — значит, надо ехать. Но тут приходят новости из Бамако: заболел полковник, Абдурахман Майга. Сыновний долг, не отвертеться. Накрылся твой Лондон.
А полковник — ничего, оклемался, старый хрыч, здоровей всех здоровых. И для старшего сына своего теперь телефонную трубку не снимет, словечка не замолвит. «Каждый должен сам прокладывать себе дорогу». Принципы, твою мать. А кому нужен в Мали крупье и метрдотель, профессиональный негр из «Спутника»? Инженер-строитель из ЛИИЖТ тоже не нужен. В Мали строят одни иностранцы, ливийцы какие-нибудь да ливанцы, а те только своих и нанимают, всю рабочую силу с собой привозят. Четыре года сидел без работы, пока не отыскалась вакансия в этой чертовой дыре Мопти. В 2001-м сюда перебрался, так с тех пор тут и живет, и строит. Ну да ничего. Со временем все устроится, иншалла, все будет. Многое уже есть. Грех жаловаться.
Чем дальше, тем больше это повествование, где безошибочно усвоенные язык и суждения России девяностых годов сочетались с темпераментом и ужимками африканского фольклора, напоминало сеанс одновременной игры. С одной стороны, за последние десять лет мы были чуть ли не первыми, с кем он мог поделиться воспоминаниями о своей российской жизни, и наше присутствие в его доме было подтверждением, что эта жизнь существует, что он действительно знал когда-то другую реальность, был ее частью. Мы были призваны в свидетели и в то же время были воплощением его мечты: что кто-то из тех, в чьей среде он провел столько лет в качестве дикаря-африканца, однажды окажется в его среде, увидит его в роли хозяина, а не гостя.
Постепенно возвращаясь из России в Мали, из остросюжетного прошлого в размеренную жизнь семьянина, Муса достал альбом свадебных фотографий трехлетней давности. В основном это были безулыбчивые групповые портреты, десятки мрачно-торжественных лиц, среди которых не оказалось ни одного знакомого: ни полковника, ни других членов семьи жениха на свадьбе не было. Что-то у них там не заладилось; какая-то семейная драма положила конец отношениям и начало обиде, ощутимой как подтекст всей биографии «блудного сына».
После свадьбы двери съемного коттеджа, в котором обосновался Муса, открылись не только для красавицы жены, но и для двух шуринов, двадцати-с-чем-то-летних увальней, коротавших молодость перед телевизором. В Африке, где все зиждется на устоях клановой системы, нахлебничество принимается как данность. Принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» бытовал здесь за много веков до рождения исторического материализма. Но — то ли потребности шуринов оказались слишком велики, то ли деспотических способностей Мусы не хватило на то, чтобы утвердиться в роли безусловного патриарха… Так или иначе, симбиоза не наблюдалось; было видно, что хозяин дома едва терпит присутствие иждивенцев, а те, насилу выполняя его поручения, всем своим видом показывали, что не признают его за власть, и тем самым, возможно, лишний раз напоминали, как далеко ему до отца, полковника и министра, заслужившего беспрекословное послушание и трепет домочадцев.
В конце концов Муса махнул рукой на нерадивых помощников и принялся сам хлопотать по хозяйству, заботливо ухаживая за гостями («Подожди, Саша, там пол грязный, я принесу тебе тапочки»). Накрыв стол на веранде, он вынес праздничное блюдо с запеченной рыбой-капитана, выловленной накануне из реки Нигер, и разлил по стаканам малийский чай, самый настоящий чифирь, от которого общее мироощущение сразу заметно улучшилось.
И вот мы сидим за чаем и анекдотами на ночной веранде, точь-в-точь на подмосковной даче, но под другим небом, где кроны пальм в темноте похожи на тающие следы от салютных выстрелов; и гостеприимный хозяин со спичкой в зубах рассказывает нам о своих похождениях: одна из бесконечных африканских историй, чье особое очарование — в том, что ты никогда не можешь быть уверенным в их правдивости, но при этом ни на секунду не сомневаешься в искренности рассказчика.
8. По реке Нигер
Адама Тангара, тридцатилетний красавец в холщовой рубахе с вышивкой у ворота, сидел вполоборота к обессилевшим от жары и диареи путешественникам, заговаривая амебную хворь экскурсоводческими байками, пока пожилой шоферюга с испитым лицом угрюмо крутил баранку раздолбанного джипа. Время от времени он обращался к Адаме на бамбара:
— Яли миного бэ алоу на?
— Бала спросил, не хотите ли вы пить, — переводил многоязычный Адама.
Получив вежливый отказ (мы уже были научены горьким опытом употребления этой «натуральной воды» из пластмассовых пакетиков), Бала понимающе кивал или ударял себя в грудь правой рукой. В отличие от Адамы он практически не владел французским, да и вообще избегал общения, особенно в трезвом виде. Впрочем, время от времени он обретал дар речи, неожиданно выступая в роли защитника бледнолицых туристов. Так, когда по прибытии в одну из деревень к нам подскочил очередной ловец тубабов[124] с протянутой рукой и приевшейся скороговоркой «cadeau, cadeau, cadeau»[125], Бала осадил доходягу хриплым басом:
— Quel cadeau?[126]
— Cigarettes… — тихо уточнил проситель.
— Il faut les acheter…[127] — задумчиво проговорил Бала, глядя поверх своего растерявшегося визави.
В дневное время он всецело отдавался работе, виртуозно маневрируя среди рытвин и барханов, а по вечерам, заглушив мотор, немедленно отправлялся к «своим», которые обнаруживались повсюду. Приняв на грудь, становился душой компании, и его внимательные глаза начинали весело слезиться. Где бы мы ни останавливались на ночлег, даже в самой отдаленной деревне, Балу тотчас принимали как почетного и долгожданного гостя. Позже выяснилось, что наш забулдыга-шофер был не просто так, а самый настоящий шаман, прошедший через все стадии посвящения в сообщество жрецов бамбара. В былые годы он месяцами скитался по саванне, днями не ел и не спал, исполняя предписанные ритуалы, проникая в иные миры путем аскезы и медитации. В стране песочных мечетей и плохо соблюдаемого сухого закона Бала Траоре был одним из хранителей прежней веры, а молодой Адама был его учеником.
Обо всем этом мы постепенно узнали от словоохотливого гида, предварявшего каждый рассказ о священных обрядах опасливой оговоркой: «Подробностей я вам рассказывать не буду, чтоб не случилось беды». Может, он и сболтнул лишнее, и проницательный Бала, хоть и не мог понимать, о чем его протеже так упоенно лопочет по-французски, сразу смекнул, в чем дело, когда в один прекрасный день рулевая ось нашего джипа разлетелась надвое во время езды и машина чудом не перевернулась, взлетев на бархан. Авария случилась по дороге в Тимбукту, если только это можно назвать дорогой. Никакой трассы там не было и в помине, ни людей, ни машин, и мы отправились по пустыне пешком, запасясь ядовитой водой в пластмассовых пакетиках, а к вечеру попали в песчаную бурю и еле-еле нашли убежище в палаточном лагере кочевого племени белла. Как раз накануне нашего прибытия один из белла размозжил череп соплеменнику, переспавшему с его женой, так что визит наш пришелся весьма некстати.
В тот вечер невозмутимый колдун Бала впервые вышел из себя и обрушился на молокососа-ученика, навлекшего гнев неведомых нам божеств. После этого инцидента рассказы о фетишах и обрядах прекратились дней на пять. Но груз молчания тяжел, и к концу недели Адама снова разговорился, разумеется, не вдаваясь в подробности. Правда, на сей раз он делился исключительно собственным опытом, старательно избегая упоминаний о наставнике. То ли речь «от себя и о себе» — в рамках дозволенного, то ли гнев богов пугал нашего проводника меньше, чем гнев Балы.
Фетиш — это задание, рассказывал Адама. Учитель доверяет фетиш ученику, когда видит, что тот в состоянии справиться с возлагаемой на него ответственностью. Принять фетиш значит взять на себя определенные обязательства. Разные фетиши требуют разных жертв.
— Ты имеешь в виду жертвоприношения?
— Иногда. Зависит от фетиша. Есть такие фетиши, которые, если ты их принимаешь, требуют, чтобы ты никогда не лгал. Или чтобы не спал с женщиной. Или, например, никогда не думать о некоторых вещах. Управлять мыслями. Потом — еще более сложные… Когда мне было двадцать лет, мне доверили сильный фетиш. Поначалу он мне помогал. У меня стали получаться вещи, которые до этого никогда не получались. Но потом он стал будить меня по ночам. А потом младшая сестра зашла в мою хижину, когда меня не было дома, и случайно нашла мой фетиш… Никто не должен видеть твой фетиш. И то, что она увидела, ее испугало. Я ушел в лес и принес жертву, чтобы смыть вину. Но это не помогло. Тогда я понял, что не могу больше с ним справляться, потому что он стал сильнее меня. Я вернул его учителю, и больше фетишей у меня не было.
— А зачем ты принял тот фетиш?
— Это очищение… Теперь я очищаюсь через растения.
— Это как?
— У меня есть сто рецептов. Я делаю отвары и в них купаюсь. Поэтому я с детства ничем не болею, и по ночам мне снятся сны, в которых я вижу своих предков.
— А откуда ты знаешь, что это твои предки?
— Я про них все знаю. Тангара — это одна из десяти семей. У бамбара есть десять главных семей. Траоре — тоже одна из них. Главные семьи — это правители.
— Потомки Сундьяты?
— А ты что-нибудь знаешь о Сундьяте Кейте?
— Ну как… Знаю, что он был первым царем бамбара. И что Салиф Кейта — его прямой потомок.
— Потомок, но не наследник. Сундьята был крестьянином-полководцем. А Салиф — гриот[128]. Какой же он правитель? У нас правители должны воевать или возделывать землю. А гриоты — это другие. Если землю будут возделывать другие, толку не будет.
— Но ведь ты и сам не занимаешься ни земледелием, ни военным делом.
— Я охочусь. Правители могут быть еще и охотниками, а из охотников получаются целители, потому что они знают растения и видят, как лечатся животные. Можно сказать, я учусь на врача.
— А чем же должны заниматься «другие»?
— Другие — это гриоты, кузнецы и рабы. Среди кузнецов есть обычные ремесленники, а есть те, которые делают обрезания мальчикам и девочкам. Потому что у мальчика надо обрезать женскую плоть, а у девочки мужскую. Главный кузнец — это наш главный жрец. У бамбара так. А рабы — это даже не бамбара, это белла. Белла когда-то были бамбара, но потом они попали в плен к туарегам и потеряли свои корни. Поэтому теперь они — рабы. А про гриотов все знают… Знаешь про гриотов? Гриоты — это поэты и адвокаты. Они хранят историю, и если назревает конфликт, мы вызываем гриота, чтобы он рассудил, кто прав. Есть еще такое правило: если фульбе или гриот приходит к тебе с просьбой, ему нельзя отказывать.
— Погоди, а фульбе тут при чем? Ведь это другое племя.
— Фульбе нельзя отказывать, потому что они считаются двоюродными братьями бамбара. А гриотам нельзя отказывать, потому что они гриоты. Поэтому они у нас часто на высоких постах. Попросил гриот, чтобы его племянника устроили работать, например, в какую-нибудь фирму, значит, надо выполнить. Все говорят «коррупция», а это никакая не коррупция, это традиция… Мали-мали! — Адама поднял стакан.
— Santé![129]
— Вот-вот, по-французски говорят «santé!» или «tchin-tchin». Немцы, те говорят… Как они говорят? «Prost», да? А у нас говорят «мали-мали». Знаешь, откуда это пошло? Это когда наш бывший президент приехал в Китай, китайский президент принимал его у себя и за обедом сказал «tchin-tchin». А наш-то решил, что он сказал «Chine-Chine!»[130]. И чтобы показать, что и он не хуже, ответил: «Мали-Мали!» Вот с тех пор у нас все так и чокаются: «мали-мали!» Кроме мусульман, конечно. Мусульмане не чокаются, они только молятся.
* * *
Поломка джипа заставила нас несколько изменить маршрут, но, как известно, все пути ведут в Тимбукту, в том числе и водные. В портовом городе Сегу мы наняли полубаркас, дабы пуститься в плаванье по реке Нигер, знаменитой своими смертоносными микроорганизмами. Говорят, стоит белому человеку окунуть руку в мутно-зеленую воду Нигера, как с руки немедленно начинает сходить кожа, точно от серной кислоты. На коренных жителей это проклятие не распространяется, как явствует из обыденной картины портовой жизни: голые люди вперемешку с грузовыми машинами и домашним скотом день-деньской купаются в великой реке. Тут же, на берегу, располагается городской рынок, зрелище не для слабонервных. На рынке пахнет навозом, помоями, тухлой рыбой. Полчища мух облепляют разлагающиеся трупы животных. Толпы калек и торговцев облепляют меня, диковинного тубаба. На земле разложен товар: громадные соляные слитки, сушеные листья баобаба, ослепляющая цветовая гамма зловонных специй. За продуктовой секцией — изделия из керамики, калебасы, одеяла и накидки. Выделка шкур, гончарное производство, кузнечный цех. Тощие подмастерья лет десяти-одиннадцати орудуют тяжелыми молотами, сооружая баркасы.
Ближе к вечеру наша лодка была готова, и мы поплыли на север, периодически причаливая к берегу, где виднелись глинобитные деревни, населенные племенами бозо и фульбе. Солнце не садилось, а буквально растворялось в жарком бесцветном небе над целлофановыми пакетами, которые свисали с веток баобаба наподобие елочных игрушек. Баобаб — царь Сахеля. Из его листьев готовят слизистый соус, из плодов — вязкий напиток молочного цвета, основной источник витамина С, а из коры вьют веревки. Попросту говоря, кроме баобаба, здесь ничего не растет.
Всюду пространство. Люди в балахонах и широкополых соломенных шляпах, бредущие по линии берега-горизонта, издали машут проплывающему баркасу. Деревенские женщины в нарядных платьях толкут зерно на фоне пыльного запустения. Дети выбегают навстречу пришельцу, доверчиво и бесцеремонно берут за руку и, установив контакт, возвращаются к своим занятиям. Бозо — рыбаки, а фульбе — скотоводы, но бытовых различий между поселениями тех и других невооруженным глазом не разглядеть.
Надо сказать, что если рыболовный промысел на берегах Нигера вполне естественен, то такой род деятельности, как скотоводство, кажется абсурдом, ибо из подножного корма здесь имеется только песок. Когда же, проплывая мимо какой-нибудь деревни, ты наводишь бинокль на стадо коров, спустившееся к водопою, удивление перерастает в ужас: перед тобой живые скелеты, олицетворение голода. Вот одна из коров в изнеможении опускается на песок, и ее немедленно окружает толпа улюлюкающих детей. Ты поражаешься детской жестокости, тому, с какой радостью они сбегаются посмотреть на смерть животного. Но ты ошибаешься: корова вовсе не собиралась умирать. Через несколько минут толпа расступится, и ты поймешь, что стал свидетелем невероятного: у существа, находящегося на грани издыхания, родился теленок. Чу́дны дела Твои, Господи. Наблюдающий за жизнью парнокопытных в Мали может увидеть немало чудес. Например, то, как молодой бычок поднимается на задние лапы, чуть ли не залезает на дерево, чтобы пощипать полуувядшие листья. И все-таки главная загадка — почему вообще фульбе упорно продолжают заниматься скотоводством. Ни о мясе, ни о молоке там не может быть и речи.
— Для чего они держат этих коров?
— Священное животное. Оно напоминает им о плодородии тех земель, откуда они пришли.
— А откуда они пришли?
— Этого никто не знает. Мы даже не знаем их настоящего имени. В разных местах они называют себя по-разному: фульбе, фулани, пёль. Но они говорят, что когда-то у них было свое царство, которым правил человек по имени Усман. А где и когда это было, не помнят. У нас говорят, что память фульбе — это теленок, сосущий вымя мертвой матки.
В каждой деревне над круглыми жилищами из кирпича-сырца возвышался фасад песочной мечети, кое-где облицованной сланцем. Конические башенки и минареты, пронизанные торчащими наружу балками перекрытий. Чем ближе знакомишься с архитектурой суданских мечетей, тем труднее понять, как это сделано, как вообще могло возникнуть. И в самом деле, откуда взялись эти колонны, пилястры и арки, продольные и поперечные нефы, невероятные замки из песка? Ведь во всех остальных проявлениях рукотворный мир обитателей внутренней дельты Нигера до предела минималистичен — и, кажется, не может быть другим, учитывая условия, в которых развивалась их цивилизация. Интерьер традиционного жилища отсылает к пещерному быту далеких предков; максимум комфорта — это подстилка из ткани боголан на земляном полу. С другой стороны, может быть, это и естественно: чем сложнее здание веры, тем проще быт. В подтверждение моих домыслов на окраине одного из поселков нам неожиданно предстала современная пятиэтажка, непонятно кем и когда построенная. Как и следовало ожидать, дом пустовал: ни рыболовы-бозо, ни скотоводы-фульбе даже не посмотрели в сторону современности, предпочитая свое незамысловатое зодчество.
* * *
Недавно, уже в Нью-Йорке, я вспомнил ту пустующую пятиэтажку на берегу Нигера, когда попал в квартиру соседа по лестничной клетке. Сосед, выходец из Гвинеи (не путать с Экваториальной Гвинеей и Гвинеей-Бисау), — не рыболов и не скотовод, а преуспевающий нейрохирург, смолоду живущий в Соединенных Штатах. Тем не менее, пройдя в гостиную, я увидел все тот же пещерный быт: несколько подстилок на полу и полное отсутствие мебели. Единственным предметом интерьера был антикварный стул, видимо, оставшийся от предыдущих жильцов. За стулом я и пришел, поскольку ожидал в тот вечер гостей и, как всегда, в последнюю минуту обнаружил нехватку сидячих мест. «Бери, конечно», — пробормотал мой сосед и стал растерянно водить глазами в поисках означенного стула, чье одинокое присутствие нельзя было не заметить. Доморощенный собиратель народных мудростей, я вспомнил изречение, которое не раз слышал от ганцев: «если у человека отнять все, к чему привыкли его глаза, он перестанет видеть». Хотя тут было скорее наоборот.
9. Тимбукту
Пока неутомимый Бала возился с автомобилем, перевязывая разлетевшуюся ось баобабовым тросом, мы слонялись по поселку Бамбара, единственному населенному пункту в радиусе ста километров от Тимбукту. Саманные жилища сбились здесь в небольшие группы; каждая группа стояла тесным кругом, как будто собираясь потолковать о чем-то не касающемся посторонних. К одной из сгрудившихся хижин была прикреплена дощечка с надписью «Отель». Быстро смерив нас оценивающим взглядом, хозяин хижины залучился гостеприимством: «Вам повезло, мсье, в нашем отеле имеется свободный номер». Номер оказался земляным гротом, в глубине которого покоилась присыпанная песком циновка, а рядом — холодильник, установленный, видимо, в качестве декорации: об электричестве в поселке и не слыхали. Над входом было выцарапано «Комната № 1».
— Нельзя ли взглянуть на комнату № 2?
— Извините, мсье, но ее еще не построили. Может быть, вы хотели бы посидеть во дворике? У нас есть фанта. Хотите? Эй, Муса! Ибраима! Живо!
Голопузые Ибраима и Муса принесли теплую фанту, и мы провели остаток дня за игрой в пробки, равно увлекательной для африканской детворы и бывших советских школьников. Адама поминутно отлучался справиться о починке и наконец появился в сопровождении Балы. «Триумф!» — объявил Адама. Колдун-триумфатор скромно улыбался; на нем была туристическая футболка с торжественной надписью «I have been to Timbuktu and back».
Для англичан и французов «Тимбукту» — слово-идиома, квазитопоним, эквивалентный русскому «Тьмутаракань». Тридевятое царство у черта на куличках. Край света, куда русский пастух Макар, в отличие от пастухов фульбе, никогда не гонял телят; где теряются следы средневековых экспедиций Льва Африканского. Хроники XVIII века упоминают первопроходца из Англии, потратившего полжизни на путешествие и казненного туарегами всего через несколько дней после прибытия в этот город, чье название в переводе с языка тамашек означает «место встречи у старушечьего колодца в дюнах».
Первым европейцем, вернувшимся из Тимбукту, стал француз Рене Кайе, предусмотрительно изучивший Коран и принявший мусульманскую веру, дабы избежать незавидной участи английского предшественника. Это было в 1828 году. Но еще раньше, за пять столетий до европейцев, в Тимбукту побывал магрибинец Ибн Баттута, автор первого малийского травелога.
«В сих диких местах, — писал магрибинец, — люд питается трупами собак и ослов, жены ходят нагими, посыпая тело песком и пеплом, а гриоты перекрикивают друг друга и не проявляют должного почтения к своему государю. Однако же есть у них и достоинства, и вот главное: честность. Путнику не надобно страшиться ни воров, ни грабителей, и случись чужестранцу умереть в этом городе, и буде даже он приговорен к смертной казни, скарб его оставят в целости и будут хранить, доколе не прибудут забрать его ближние. Ибо негры ненавидят несправедливость более, чем всякий другой народ… Когда же повстречал я здесь юношу в оковах и вопросил, не убийца ли, благоверные ответствовали, что отрок сей закован лишь затем, чтобы усерднее учил Коран…»
Визит Ибн Баттуты пришелся на период расцвета: в XIV–XV веках Тимбукту по праву считался цитаделью знаний. В университете, состоявшем из трех медресе, обучалось двадцать пять тысяч талибов[131]; в громадной городской библиотеке хранились тысячи манускриптов. Эта библиотека существует до сих пор: средневековые трактаты по философии, астрономии, юриспруденции, химии и медицине лежат на полках в свободном доступе. Каждый посетитель волен листать драгоценные страницы, рассыпающиеся от одного дуновения. Что же касается педагогических методов, столь поразивших арабского путешественника XIV века, любовь к кандалам не угасла и по сей день. На городском рынке резные колодки проходят по ведомству женских украшений. «Потому что женщинам вредно быстро двигаться», — с готовностью поясняет торговец.
Нынешний Тимбукту — город, занесенный песком и пылью Сахары; город, где нет ни каменных зданий, ни асфальтированных улиц. От висячих садов до куличей-минаретов соборной мечети Джингеребер все построено из песка и на песке; песок — и фундамент, и пол внутри помещений, где, как принято считать, он помогает удержать прохладу. Редкие прохожие — чернокожие сонгаи или синеглазые туареги, с ног до головы завернутые в индиговые покрывала, — бесшумно проплывают мимо, мелькают в отдалении, пешком или на ишаках. Ныряют в дверные проемы песочных зданий.
Центральную часть города занимают палаточные станы. Кочевые палатки племени белла — из плетеной соломы, туарегские — из выдубленной верблюжьей кожи. Здесь же расположились огороженные колючей проволокой бараки военной базы, а чуть дальше — автопарк: несколько проржавевших джипов со спущенными шинами, вросшими в песок. Куда оживленнее выглядит «парковка» для ишаков, служащих основным транспортным средством.
На бельевых веревках, протянутых между палатками, развешены кошачьи шкуры: свежевание кошек — любимая детская забава. Дети жарят кошек и ловят ящериц, которых едят сырыми. Два раза в день в печах, установленных чуть ли не на каждом городском углу, пекут хлеб из муки пополам с песком, а по праздникам подают тукассо — манную запеканку с луковым соусом.
Песок скрипит на зубах, попадает в глаза. Поднимается песчаная буря. Во время бури все окрашивается в ровный розово-бежевый цвет. Даже запах благовоний, которыми надушено здесь любое помещение, неизменно ассоциируется с этим цветом.
— Хочу шоколадный круассан, — говорит Алла, просыпаясь в гостинице «Караван-сарай», отошедшей во власть пауков и ящериц. — В путеводителе было написано, что в Тимбукту можно купить pain au chocolat.
— Ты все перепутала. Это в Кот-д’Ивуаре был pain au chocolat, помнишь? А здесь ничего такого нет. Кроме того, сейчас ветер, на улицу выходить нельзя.
— Хочу pain au chocolat, — повторяет Алла, отрешенно глядя в окно, — я устала от этого места.
И, замотавшись туарегскими платками, мы выходим в пустынный город в поисках круассана.
По результатам недавнего опроса, проведенного в Великобритании, тридцать четыре процента англичан уверены, что Тимбукту — мифический город, которого на самом деле никогда не существовало. Что-то вроде Китежа или Камелота. Возможно, люди, составившие путеводитель по Тимбукту для серии «Lonely Planet», принадлежат к этим тридцати четырем процентам. Во всяком случае, очевиден тот факт, что в Тимбукту они не бывали.
* * *
Широкая песчаная улица вела к мечети Сиди Яхья, а оттуда — за черту города, куда не то через три часа, не то через трое суток должен был подтянуться встречавший нас караван. Пройдя не то три километра, не то триста, потерявшись в безлюдном пространстве, медленно ссыпáвшемся в воронку песочных часов Сахары, мы прибыли на место встречи (где тот колодец и где та старуха?), и, что самое удивительное, прибыли минута в минуту. Издалека было видно, как четыре фигуры в дрожащем мареве движутся нам навстречу; еще немного, и мы подойдем вплотную и уткнемся в огромное зеркало, смыкаясь с собственным отраженьем.
«Салям алейкум! — сказало зеркало. — Наши верблюды вон там».
Поначалу езда на дромадере напоминает американские горки; об удовольствии не может быть и речи. Каждый бархан сулит опасность вылететь из седла. Но мудрое животное подстраивается под неопытного седока, и, понемногу привыкнув, ты начинаешь чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвлечься на лирический вздох. Где-то вдалеке скулит гиена, ветер перебирает ветки безлиственного кустарника, наступает вечер. В голову лезет белиберда стихов, ты хватаешься за какую-нибудь строчку, кажущуюся удачной, и, не имея возможности записать, долго держишь ее в уме, как ириску — за щекой, пока она, подтаяв, не утратит своего вкуса, оставляя только приторное послевкусие.
Наше сопровождение состояло из погонщика с тремя сыновьями, десяти, двенадцати и четырнадцати лет. Молчаливый погонщик с седеющей бородой и отчаянным взором вполне мог бы сойти за бойца «Аль-Каиды», если бы не сыновья, чье шумное веселье шло вразрез с его угрюмостью и придавало ей несколько комический оттенок. Дети только и делали, что дурачились, заставляя иностранцев повторять непонятное и, судя по всему, неприличное слово «вузрада». «Вузрада, вузрада!» — кричал двенадцатилетний заводила. «Ву-у-зра-да-а!» — подхватывал десятилетний. Старший сын старательно натягивал маску серьезного мужчины, но через минуту-другую маска начинала трещать по швам, пока наконец не лопалась от взрыва хохота. Боец «Аль-Каиды» незлобиво поглядывал на первенца. Через два года тому сделают обрезание, выдадут мужской тюрбан тагельмуст, и он поведет свой первый караван от Тимбукту до соляных копей по другую сторону Сахары (расстояние в 800 километров покрывается по нескольку раз в год). Взрослая жизнь — сплошное кочевание по пустыне.
Как известно, верблюд — корабль пустыни. А колючие кустарники, коими усеян участок Сахары, прилегающий к Тимбукту, — не только топливо, но и буйки. «Если бы вся пустыня была такой, как здесь, нам и звезды не понадобились бы. По колючкам сориентироваться даже ребенок может…» За прибрежной полосой буйков нет, и челноки-кочевники, испокон веков перевозящие соляные слитки с одного берега на другой, передвигаются по ночам, ориентируясь по звездам. «Звезды — это наша грамота. Не зная грамоты, в пустыне не выживешь. Что нужно туарегу? Репей для верблюда, уголь для чая, соль для торговли, гостинец для детей, звезда для ориентира…»
Если звездную грамоту здесь знают все, то грамота в традиционном понимании — туарегское письмо тифинаг, восходящее к финикийскому, — преподается исключительно женщинам. И неспроста: одна из наиболее примечательных особенностей туарегского общества заключается в том, что, будучи мусульманским, оно матрилинейно и моногамно, причем согласно традиции жена выбирает мужа, а не наоборот. Что никак не мешает бытованию колодок, избавляющих женщину от соблазна быстро двигаться (возможно, они преподносятся в качестве свадебного подарка от свекрови).
…Вузрада, вузрада!.. За барханом показался низкий шатер из козьих шкур, поддерживаемый шестью опорными кольями и обнесенный плетнем из колючих веток. Не успели мы спешиться, как из-за шатра выбежала орава чумазых детей, разом устремляясь в атаку. Очевидно, мы застали их в разгаре игры «в войнушку», и нас с Олегом мгновенно записали в добровольцы. Вражеские силы зашли с обоих флангов. Рослый мальчик лет десяти обхватил меня за талию, готовясь выполнить бросок через плечо; другой, лет семи, ловко запрыгнул на закорки. Трое воинственных шкетов повисли на Олеге. Еще несколько бойцов, оказавшихся нашими союзниками (интересно, между какими «немцами» и «нашими» шло сражение?), ринулись на выручку, но тут из жилища вышел старшой, и театр военных действий пришлось свернуть.
Это был настоящий моджахед: пышные усы, темно-голубая сахарская накидка; инкрустированный меч за поясом, стягивающим шаровары пижамного покроя; на руках — серебряные кольца и каменные браслеты-обереги. Вид экзотичен, взгляд грозен. Добро пожаловать. Располагайтесь. Поужинаем, отдохнете с дороги, а потом приступим к делу. Вы извините, плохо говорю по-французски, но я ведь правильно понял, что один из вас — врачеватель?
По-французски он изъяснялся лучше большинства малийцев. В разговоре на бытовые темы его французская речь казалась почти безупречной, если не считать странного избытка архаизмов: вместо «доктора» — «врачеватель», вместо «больного» — «расслабленный». «Расслабленных» в туарегском лагере было много. За ужином Мохаммед — так звали нашего моджахеда — объяснил, что во время постоя в Тимбукту весь клан наносит визит знакомому лекарю, но случается это не чаще чем раз в год, а в остальное время лечатся только чаем. Многие болезни можно стерпеть. Например, стригущий лишай, которым поголовно страдают местные дети, или сыпь, на которую уже давно жалуется мать Мохаммеда. Ко всему этому можно привыкнуть. Но два месяца назад на лагерь обрушился новый недуг. Людей лихорадит и рвет в течение нескольких дней, потом как будто отпускает, но еще через три-четыре дня все начинается по новой. От притираний, прописанных знахарем из Тимбукту, становится только хуже. Особенно тяжело переносит болезнь жена Мохаммеда. Субтильная девушка, почти ребенок, она лежит на песке, завернувшись в три одеяла, и не дает осмотреть себя, стесняясь чужого мужчины. На вопросы, связанные с естественными отправлениями, отвечать отказывается. Говорит: болит голова, ломит тело. Больше всего похоже на возвратный тиф. К счастью, в моей походной аптечке — неиссякаемый запас антибиотиков. Я делаю шаг в сторону палатки, где оставил сумку с медикаментами, и вдруг чувствую, как что-то или кто-то впивается в мою штанину. «Не двигайся! — командует Мохаммед. И, заботливо отцепляя чертополох от штанины, добавляет: — Колючки — это уже по моей части».
Когда с медосмотром было покончено, Мохаммед отвел меня в сторону, сказав, что хочет обсудить нечто важное.
— Я не хочу навязываться, — начал он извиняющимся тоном, — но если наши гости не против, то после того, как мы выпьем чаю, я и мои товарищи хотели бы показать вам кое-что из наших поделок… Понимаешь, у нас не принято попрошайничать, мы продаем товар. Соль и поделки — это все, на что мы живем. Прости, что…
— Тебе совершенно не за что извиняться, Мохаммед. Мы с удовольствием посмотрим ваши поделки, — успокоил я моджахеда. Накануне поездки мы с Аллой, Олегом и Юлей условились пожертвовать каравану сумму в сто долларов. Адама подсчитал, что этих денег должно хватить им чуть ли не на полгода.
Отправив детей и женщин спать, туареги раздули угли, заварили чай. Олег достал бутылку виски. Усевшись на мягком песке, мы стали пить — кому что велит обычай — и повели беседу — кто на каком умеет. Мои друзья говорили по-русски, Адама и Бала — на бамбара, мы с Мохаммедом — на ломаном французском, остальные участники дискуссии — на тамашек. Ни с чем не сравнимая тишина пустыни повелевает человеку говорить вполголоса. Покой и воля, как нигде на Земле.
Деэн, дэсык, карат, акоз, самос, адыс, аса, ата, тыза, мара. Обучив гостей счету до десяти, хозяева перешли к звездной грамоте. «Аманар, Аззаг, Вили», — говорили они, указывая на небесные тела. Уголь для чая, репей для верблюда, звезда для ориентира. И табак. Туарегский мужчина не признает вдоха без табачного дыма. А уж в «курительных» фокусах им и вовсе нет равных. Когда в межъязыковой беседе возникала пауза, жители пустыни принимались демонстрировать нам свое цирковое искусство: жевание зажженной сигареты, выпускание дыма в форме верблюда, глотание огня. Один, самый завзятый фокусник, наполнял легкие газом из зажигалки и, поднося пламя ко рту, превращался в огнедышащего дракона.
Все это должно было быть преамбулой к обещанной торговле. Но вот уже скоро рассвет, а о поделках никто и не заикнулся. В четвертом часу утра, устав ждать сигнала, мы решили поинтересоваться сами. Туареги как будто не ожидали такого поворота событий. Выслушав переведенный Мохаммедом вопрос, они насупились, напряженно засовещались, после чего стали снимать с себя кольца и браслеты-обереги, раскладывая их перед нами.
— Мохаммед, ты же говорил, что вы хотите продать нам товар. Но это — ваши собственные украшения. Мы вовсе не думали вас раздевать!
— Это все, что у нас при себе есть. Эти вещи — очень хорошего качества. Пожалуйста, посмотрите. Нам бы очень хотелось, чтобы вы что-нибудь купили.
— Хорошо. Только давайте по-быстрому. Хочется хотя бы пару часов поспать перед дорогой.
— Тогда выбирайте. Но учтите, что по туарегскому обычаю надо назвать три цены. Первая — наша, вторая — ваша, третья — сходная.
Мы выбрали несколько колец и козьих ножек, рассчитывая заплатить за них приготовленные сто долларов. Посоветовавшись, туареги объявили первую цену — ту, на которую ни один покупатель не должен соглашаться. Семнадцать тысяч КФА[132], то есть примерно тридцать два доллара. Поторговавшись для приличия, мы сбили цену до пятнадцати тысяч. Негоцианты смотрели на нас с сожалением: таких неумелых покупателей они еще не встречали. Теперь наша задача — найти способ тактично всучить им оставшиеся семьдесят долларов. Мохаммед поднес указательный палец к губам, давая понять, что собирается взять слово.
— Мы назвали три цены. По обычаю третья цена — последняя. Но мы не удовлетворены. Сегодня вы лечили мою жену, потом пили с нами чай. Мы не удовлетворены этой сделкой и хотим назвать четвертую цену. Десять тысяч КФА.
— Спасибо, Мохаммед, но мы не согласны на такую цену. Вы оказали нам царский прием, мы провели в пустыне ночь, о какой и не мечтали. Нам хочется отблагодарить вас. За ваши украшения мы заплатим пятьдесят тысяч КФА. Пожалуйста, примите эти деньги. Нам будет очень приятно.
Мохаммед перевел мою речь, и караванщики снова зашушукались. Шушукались минут пять. Наконец, фокусник, изображавший дракона, поднялся и, приложив правую руку к груди, обратился к нам на тамашек. Вместо перевода Мохаммед сгреб все оставшиеся украшения и пододвинул их к нам. Спасибо, братья.
Через два года туарегские повстанцы, объединившиеся с алжирским руководством «Аль-Каиды», захватят власть в северных районах Мали; международные СМИ переполнятся репортажами о ежедневных перестрелках на улицах Тимбукту, на телеэкране будут мелькать знакомые виды… Невозможно поверить, что все это — там, где мы были всего-то два года назад. «Отель-бутик», в котором мы останавливались, превратился в штаб-квартиру террористической организации, а командир воинской части, гордо демонстрировавший Алле и Юле свой АК-47 («Не хотите ли, девушки, подержать?»), наверняка пустил любимую игрушку в дело. Что если и Мохаммед с компанией оказались в рядах головорезов, промышляющих похищением иностранных туристов? Неужели те же самые люди?
В ту ночь в Сахаре выпало несколько капель дождя, впервые за много месяцев. Спать в палатке было душно, и мы улеглись прямо на песке — под путеводным небом. В пять утра на горизонте вырисовались два силуэта, совершавшие утренний намаз. А к половине шестого моджахеды уже сидели в полном составе на почтительном расстоянии от нашего лежбища, терпеливо дожидаясь пробуждения. На индиговых платках, разостланных у их ног, лежал новый товар.
10. Бандиагара
Летом 1990 года закончилось мое советское детство, а годом позже — и сам Советский Союз. Рухнула Берлинская стена, поднялся железный занавес, началась другая эпоха. И ровно в то же время на другом конце света, на гористом плато Бандиагара, к северо-западу от Верхней Вольты и южнее излучины Нигера, жители наскальной деревни Ндалу покинули свои прежние жилища, которые росли прямо из горной породы наподобие сталагмитов, и спустились в долину. Таким образом, в истории племени, никогда не слыхавшего ни о каких США и СССР, тоже наступил новый период. Правда, для них этот год не был 1991-м. Трудно определить, каким он был по счету. Не потому, что «на проклятом острове нет календаря», а потому, что догонское летоисчисление настолько сильно отличается от нашего, что формула перевода тут невозможна в принципе. Анизотропия пространства-времени — неоспоримый факт при условии, что имеется некая единая система координат, с помощью которой эту анизотропию можно показать. В случае с догонами речь идет не о математическом времени, а о сомнительной бергсоновской «длительности», с помощью которой, конечно же, ничего показать нельзя. Тем не менее лавирующий между западным временем и догонской длительностью Адама уверял, что переселение произошло именно в 1991 году.
До этого переломного момента догоны Ндалу, как и предшествовавшее им племя пигмеев телем, селились в прямоугольных постройках, расположенных террасами в несколько ярусов на уступах Бандиагары. Издали догонская деревня, выбитая в скале, похожа на многоэтажное здание. Вступая в новую фазу жизни (т. е. пройдя очередной обряд возрастной инициации), человек переселялся с одного этажа на другой — по восходящей; время текло не столько вперед, сколько вверх. Наконец, дожив до почтенной старости, он оказывался так высоко над землей, что уже едва различал очертания деревьев, растущих в долине. Верхний этаж принадлежал старцу-огону, верховному жрецу племени. Выше огона было только кладбище: захоронения совершались с помощью приводных канатов и медных шкивов, поднимавших тело усопшего в недосягаемые выси, где птичьи базары испокон веков делят жилплощадь с духами предков.
В долине поселения были разбиты на небольшие квадраты, обрамленные каменной кладкой и обведенные канавами, в которые стекалась вода для орошения, поступавшая из дождевых ям-резервуаров. В целом картина деревенской жизни догонов была полной противоположностью всего, к чему я успел привыкнуть за время пребывания в Африке; первым, что бросалось здесь в глаза, были маниакальные чистота и порядок. Рядом с прямоугольными домиками-коробкáми располагались круглые амбарные постройки с коническими крышами из соломы. К амбарам были приставлены деревянные лестницы в десять ступеней с резными изображениями мифических животных на каждой ступени. Двери амбаров были украшены резными антропоморфными фигурками. Кроме того, в деревне имелась «аллея идолов». Огромные деревянные истуканы, отделанные замысловатой резьбой, стояли в три ряда лицом к посетителю. Посещать эту аллею разрешалось только членам определенной возрастной и кастовой группы. Были и другие запретные участки: площадка для гадания по лисьим следам, священный термитник. Совет старейшин заседал в каменной тогуне[133] с соломенной крышей в несколько слоев, опирающейся на резные столбы. Потолок тогуны находился на высоте полутора метров от земли, если не меньше. Адама объяснил, что это сделано для того, чтобы старейшины, занимающиеся решением важных вопросов и часто вступающие в горячие дебаты, не имели возможности выпрямиться в полный рост и перейти от полемики к рукоприкладству.
Однажды в Аккре, в доме Нкетсия, где за обедом полагалось говорить о духовном, глава семьи задал тему для дискуссии: стали ли африканцы гуманнее после того, как приняли христианскую веру? Странный вопрос, особенно если учесть, что в истории Африки, как до, так и после принятия христианства, гуманность повсеместно соседствует с крайними проявлениями жестокости и человеконенавистничества. Что, впрочем, можно сказать и об истории христианского мира в целом. Но речь не об этом. Догонская деревня может служить контрольной пробой в мысленном эксперименте Нкетсии: ни христианство, ни ислам здесь не прижились. Тем не менее альтруизм, который заложен в иудеохристианской традиции в форме нравственных предписаний, существует у догонов в виде поверий. Так, например, врожденные дефекты и увечья считаются здесь доброй приметой. «Калека — главный из домочадцев». Жители деревни верят, что, если семья будет как следует заботиться об увечном, к ней обязательно придет счастье. И так далее.
Адама, умудрившийся пройти в Ндала какой-то важный обряд посвящения, был вхож в довольно закрытый догонский мир, несмотря на то что принадлежал к другому племени. Через него получили ограниченный доступ и мы. Нас поселили на крыше одной из хижин, что считается высшим проявлением гостеприимства. И правда: по ночам на крыше не так душно, как в самой хижине, но спать все равно невозможно из-за инфернальных концертов, устраиваемых неусыпной домашней живностью. Каждую ночь воздух Бандиагары переполняется зловещей какофонией, померкшее пространство квохчет, блеет, завывает, кричит и стонет. Горное эхо многократно повторяет ишачьи и птичьи позывные, утрируя их так, что недолго уверовать в духов андумбулу и прочую нечисть.
По утрам блеянье сменялось многоголосием приветственных возгласов. Догонское ступенчатое приветствие — обязательный ритуал, повторяющийся по сто раз на дню. Выйдя из хижины поутру и повстречавшись с соседом, воспитанный человек не ограничится «добрым утром» или дежурным «как спалось?». От восхода до заката догоны только и делают, что приветствуют друг друга в развернутой форме. Звучит это так:
— На сэо? (Как ты?)
— Сэ! (В порядке!)
— Умана сэо? (Как семья?)
— Сэ!
— Нини сэо? (Как дети?)
— Сэ!
— Баара сэо? (Как работа?)
— Сэ!
— Сэсэ. (Теперь твоя очередь.)
— На сэо?
— Сэ!
— Умана сэо?
— Сэ!
— Нини сэо?
— Сэ!
— Баара сэо?
— Сэ!
— Мнга! (Ну слава Богу!)
— Мнга!
Иногда нас будил барабанный бой, доносившийся из-за скалы на краю деревни, где была расчищена площадка для ритуальных танцев в масках. Догонские сакральные церемонии — одно из самых красочных зрелищ на всем земном шаре. Словами не описать, с помощью фото— и видеокамеры — тоже.
Деревенские завтраки состояли преимущественно из чая, зато обеды были столь же обильны, сколь и неудобоваримы. Основное блюдо местного рациона называется «то» и представляет собой густую баланду из просяной муки пополам с песком и щебнем (по словам Адамы, наличие песка — знак высокого качества). Бледно-зеленый комок то заливают баобабовой слизью, которую заправляют чем-то вроде толченой воблы (заменитель соли и источник белка) и перекисшими семенами какого-то кустарника, придающими всему блюду запах несвежего тела. Впрочем, эта деревенская трапеза прошла мимо меня, так как я к тому времени уже успел подцепить лямблиоз и сам был бледно-зеленого цвета.
Приехавшему в Африку с медицинской миссией предстоит, кроме прочего, привыкнуть к скорости чередования ролей: здесь он будет попеременно оказываться то врачом, то пациентом, пока два эти состояния не достигнут некоего неустойчивого равновесия. Как ни крути, «врачи без границ» — это оксюморон. Опыт медицинской работы на этом континенте четко указывает человеку на границы его возможностей. Что же касается границы между лечащим и больным, она ощущается тем отчетливей, чем больше вероятность оказаться по другую сторону — не сегодня, так завтра.
Пока я бодрился и убеждал себя, что здоров, мы ходили по догонским деревням, приглашая жителей выстраиваться на осмотр, делая перевязки, пересыпая в руки пациентов горстки таблеток — с подробными и скорее всего неправильно переводимыми инструкциями к применению. Но хождение продлилось недолго: на второй или третий день лихорадка взяла свое. Меня положили на повозку, запряженную двумя тощими волами, и повезли на лечение к какому-то знахарю, владевшему древним искусством притираний каритэ. Знахарь натер меня с головы до ног маслом дерева ши, сделал точечный массаж и посоветовал в течение нескольких дней воздерживаться от употребления в пищу обезьяньего мяса.
Надо заметить, что в предыдущей деревне нам и впрямь повстречался охотник на обезьян; правда, отведать обезьянины он нам, слава Богу, не предлагал. Зато познакомил со своим «питомцем», рассказав при этом историю, показавшуюся нам, неженкам, душераздирающей, а ему самому — трогательной и забавной. Питомец был детенышем самки, убитой нашим охотником. Найдя детеныша сидящим рядом с тем местом, где накануне полегла его мать, охотник решил взять его к себе, и с тех пор тот жил в охотничьей хижине, сплошь увешанной скальпами и шкурами сородичей. Есть питомец не просил и от предлагаемой пищи в основном отказывался, целыми днями играя с крохотным зеркальцем, в котором, по-видимому, искал себе друга. «Вот и сейчас сидит в углу, никого не замечает», — охотник ткнул пальцем в угол хижины, где действительно сидела дрожащая обезьянка, лишенная материнского тепла и получившая взамен собственное отражение, от которого боялась оторваться.
От чудодейственного каритэ мне несколько полегчало, и к вечеру я снова примкнул к коллективу. Мы резались в манкала, болтая с Адамой о планах на жизнь. Оказалось, что планов у него громадьё.
— В будущем году, иншалла, открою свой ресторан, заработаю денег. А через год приеду к вам в Америку. Поживу у вас годик-другой, там посмотрим. Осталось только стулья найти.
— Какие стулья?
— Как какие? Для ресторана!
С Адамой легко было подружиться. Он был одним из тех по-настоящему красивых людей, которые всегда производят на окружающих хорошее первое впечатление, и по мере сближения это впечатление становится только лучше. Беседуя с таким человеком, охотно веришь, что при всех внешних различиях у вас должно быть немало общего. На самом деле мы совпадали только по возрасту (я — на год или два старше). По существу, мы были людьми одного поколения, живущими в разные эпохи. Эта очевидная мысль не приходила мне в голову, пока речь не зашла о точных науках.
— У бамбара есть семь миров, — начал Адама, — у догонов — четырнадцать. А у вас сколько?
— Извини, я не совсем понял твой вопрос.
— Что же тут непонятного? В нашей вселенной, — Адама показал на небо, — есть семь миров. В догонской — четырнадцать. А сколько в вашей? Разве вас не учат этому в школе?
— Видимо, нет…
— Тогда вот что, в соседней деревне живет один из моих учителей. Завтра пойдем к нему, он все объяснит.
Вселенная жителей Бандиагары состояла из четырнадцати миров, каждый из которых имел свои собственные небо, солнце и луну, даже своего бога. При этом все миры были нанизаны на одну и ту же центральную ось и потому вращались одновременно — когда в одном, а когда в противоположных направлениях: что-то вроде кинетической скульптуры Колдера. Солнце каждого мира окружала спираль из восьми витков красной меди, а землю — комета-змея, прикусившая собственный хвост.
Наша Земля — это сжатое до степени воплощения божество по имени Амма. При воплощении Амма исторг из себя ком глины, и тот принял форму женского тела. Акт творения был совокуплением бога с женским телом Земли, а мешавшая этому акту крайняя плоть — термитником. Срезав термитник, Амма нарушил порядок вещей в несотворенном мире, изменил предначертанный ход событий. Времени еще не было, но все, чему суждено было сбыться, уже имелось в зародыше, соответствуя первозданному «правилу близнецов».
Что такое «правило близнецов»? Мумиеобразный старец, в чью тогуну нас с Олегом привели для ознакомления с догонской космогонией (девушкам было велено ждать снаружи), задумчиво пошамкал губами. Адама перевел беззвучную речь ментора: будучи одинок, демиург Амма был олицетворением пустоты, но вот пустота издала звук, и у нее появился двойник. Совпадение звука и пустоты породило влагу, а влага — взрыв, из которого произошли вещи и их символы. Все, что происходит в мире символов, повторяется в мире вещей, и наоборот. Каждой твари — по паре, каждому эйдосу — по предмету.
Итак, молодожены Амма и Земля ждали рождения близнецов. Но вместо двойни на свет появилось непарное существо, бледный лис Йоругу. Огорченные родители решили предпринять еще одну попытку и на этот раз произвели ожидаемых близнецов-андрогинов Номма, единосущных самому Амме. Явившись в форме полулюдей-полузмей, Номма сплелись в совершенном единстве, сделались водой и словом, чтобы растечься повсюду. С их рождением «правило близнецов» было восстановлено, и с тех пор каждый рождающийся на Земле получает в награду две души, мужскую и женскую. Женскую душу мужчины полагается отделять от тела путем обрезания; мужскую душу женщины — путем эксцизии[134]. Первое явление слова было водой, второе — нитью, третье — кажущейся смертью седьмого отпрыска Номмо, пресуществившегося в своего родителя, чья настоящая смерть должна была наступить позже.
Тем временем бледный лис Йоругу, осужденный на вечный поиск своей женской души, захотел овладеть нитями слов, из которых состояла одежда его матери. Превратившись в муравья, Земля погрузилась в собственное лоно, но порочный лис сорвал словесный покров и совершил инцест. В результате кровосмешения Йоругу получил доступ к мыслям отца, т. е. дар провидения. Разгневанный Амма отвернулся от оскверненной супруги, предпочитая творить в одиночестве. Но и этого было недостаточно для искупления греха, совершенного Йоругу. Чтобы восстановить порядок во вселенной, демиургу потребовалось принести в жертву свое потомство. Амма отправил на небеса двуединого Номмо, снабдив его при этом летательным аппаратом, чтобы тот мог время от времени навещать свою старуху-мать — отвергнутую Аммой Землю.
С этого места начинается самое интересное. Дело в том, что инопланетянин-экспат, постепенно освоившийся с управлением летающей тарелкой, повадился возвращаться в родную Бандиагару, раз за разом открывая догонам тайны астрономии. Миф мифом, но как объяснить тот факт, что изолированное африканское племя, не имевшее ни телескопов, ни контактов с окружающим миром, с давних времен располагало подробными сведениями о траектории движения Сириуса В (по-догонски: «По толо»); о том, что этот спутник состоит из сверхплотного вещества и что период обращения Сириуса А и В вокруг общего центра масс («Сиги толо») составляет чуть больше пятидесяти лет; о том, что ось Полярная звезда — Южный Крест лежит в одной плоскости с осью галактики и почти перпендикулярна ей — с расхождением примерно в семь градусов; о строении Солнечной системы (включая точную информацию о спутниках Юпитера и кольцах Сатурна); о существовании белых карликов и спиральных галактик? Стоит упомянуть, что некоторые из догонских догадок, записанных группой французских этнографов-африканистов при первом контакте в 1950 году, были подтверждены западными астрофизиками лишь в начале восьмидесятых. Тридцать лет спустя экзальтированные эзотерики и высоколобые приверженцы рационалистического подхода по-прежнему сходятся на том, что догонская астрономия — одна из удивительнейших загадок человечества.
11. Киншаса
Молодой человек в спортивном костюме расхаживает взад-вперед по пустырю, держа в руках Библию, и, слегка пританцовывая, зачитывает по слогам. Он читает себе под нос и вроде бы не нуждается в слушателях, но не проходит и трех минут, как вокруг него собирается жидкая толпа зевак. Один из присутствующих, тощий старик в банном халате, тоже начинает пританцовывать. Ритмично пошатываясь из стороны в сторону, полуприседая и колотя себя в грудь, он заводит что-то надрывное на языке лингала. Тем временем еще два участника уличного ритуала сосредоточенно ломают фанерные ящики, чтобы соорудить костер. Каждый священнодействует по-своему, не мешая и не замечая других. Но вот на другой стороне улицы завязывается драка, и все присутствующие срываются с мест, бегут что есть сил — то ли унести ноги, то ли принять участие.
На бульваре Тридцатого Июня — авария. В груде железа угадываются останки двух легковых машин. Галдящие активисты-свидетели одолевают жандарма, неторопливо составляющего протокол. Все это происходит прямо посреди проезжей части. Два потока машин объезжают ДТП с обеих сторон, не притормаживая. «Скорой помощи» нет как нет; кажется, ее никто и не ждет.
Будучи африканским мегаполисом, Киншаса с избытком наделена всеми ожидаемыми атрибутами: разноцветные лачуги, горки фруктов на колченогих столиках, маршрутки с голыми по пояс «провожатыми» на подножках, оравы беспризорников и вооруженные до зубов люди в беретах, корявые вывески и нарисованные от руки рекламные плакаты, толпы горожан, привычно ждущих общественного транспорта на солнцепеке в час пик. Бульвар Тридцатого Июня — главная улица города, окаймленная несколькими высотными зданиями и пальмовыми шпалерами. Из окон машин доносятся звуки ндомболо. Сочетание унылых многоэтажек в советском стиле и этой беспечно-солнечной музыки почему-то кажется вполне органичным. Так же как смесь французского и лингала, на которой изъясняются местные жители: все наполовину понятно, почти постижимо.
За высотным зданием «Маюмбе» начинаются жилые кварталы. Молодежь в пестрых формах орудует граблями и лопатами, жжет листья; это — салонго[135], детище президента Жозефа Кабилá. Вдоль дороги тянутся зонтики и лотки. Прогнившие доски сараев, выкрашенные в голубой цвет. На покосившемся заборе выведено: «Cette parcelle n’est pas а vendre»[136]. Такие надписи часто встречаются там, где муниципальная администрация пытается выжить домовладельцев из их развалюх, расчищая площадку под застройку.
Другая надпись: «Kin la belle, ou la poubelle?»[137] «Кин» — это Киншаса, а страну с тех пор, как Кабила-старший переименовал ее из Заира в ДР Конго, в народе принято называть «Доктор Конго». На этом ласкательные обращения заканчиваются. Если приобретенный в Аккре разговорник чви изобиловал фразами вроде «Я люблю ореховый суп больше, чем суп из окры», то разговорник лингала начинается с фразы «Вы не имеете права меня задерживать».
— Эй, обруни, вернешься в Гану, передай привет. Пять лет дома не был.
— А как занесло в Киншасу?
— По разным причинам, ндеко[138].
Его зовут Джоэл. Я так и не понял, кем он приходится Марии Мобуле — моей мединститутской приятельнице, несколько лет назад вернувшейся на родину и теперь пригласившей меня «провести выходные в Киншасе». Джоэл называет ее «сестра», но родственных связей между ними нет. С мужем Марии — минимум контакта, сухие привет-пока, вроде чужие люди. Однако вот уже второй год Джоэл на правах члена семьи занимает одну из комнат в их квартире с видом на реку Конго, по которой проходит государственная граница.
— Здесь, в Центральной Африке, все по-другому. Здесь люди закрытые, не то что в Гане. И потребности у них другие.
— Это как?
— В Западной Африке человек умеет терпеть. Хочет добиться не сразу, но всего. А здесь — не всего, но сразу…
— Эй, водитель, останови машину!
— Что стряслось, начальник? Я кого-то убил? — Джоэл лениво высовывается из окошка.
— Красный свет, не видишь? Ты думаешь, здесь светофор просто так поставили? Ждать не умеешь?
— Извини, начальник, не посмотрел.
— Документы, пожалуйста.
— У меня нет, я только-только начал водить.
— А паспорт? Паспорта у тебя тоже нет?
— Паспорт есть, но я в этом году еще не платил налогов…
— Проследуйте, пожалуйста, за мной.
— Не могу, начальник, это не моя машина. Сколько тебе заплатить?
— Пятьдесят тысяч франков.
— У меня с собой столько нет. Есть тысяча. Тысяча сейчас, а остальное потом.
— Если не хочешь в тюрьму, плати полную сумму.
— Ндеко! — Джоэл с мольбой в глазах поворачивается ко мне. Весь предыдущий диалог происходил на чистом французском, стало быть, был рассчитан на меня. Не удивлюсь, если этот полицейский и мой проводник — закадычные друзья. Если расстраиваться из-за подобных вещей, в Африку лучше не ехать. С понимающим видом достаю бумажник.
У Мобулы нас уже ждут с обедом. Обед — это много: средний киншасец питается максимум раз в день. Основные блюда местной кухни — похлебка из толченых листьев маниоки с сушеной рыбой или такая же похлебка из листьев растущего в джунглях дерева фумбва; на гарнир — рис или чикванг, изготавливаемый из перебродившей маниоки и заменяющий конголезцам хлеб. После нескольких дней вымачивания в воде и последующей сушки черенки маниоки перемалывают в муку, замешивают тесто и заворачивают в банановые листья. Затем тесту дают постоять еще пару дней, после чего отваривают, и блюдо готово. По форме и консистенции чикванг напоминает грузинскую чурчхелу, а по запаху и вкусу — исключительно вонючий сыр. Мясо едят редко, но сегодня — по случаю дня рождения хозяйки — кухарка добыла мясо леопарда, праздничную пищу вождей. «Можно подумать, что моя фамилия не Мобула, а Мобуту[139]», — шутит Мария, с трудом прожевав драгоценный кусок жилистого антрекота со сладковатым привкусом.
За окном течет Конго; на противоположном берегу — Браззавиль. Накануне президентских выборов все, кто может, погружаются в лодки и перебираются в соседнюю столицу: береженого Бог бережет.
Мария работает в научном центре при неправительственной организации, где занимается исследованиями в области инфекционных заболеваний. Кроме того, она подрабатывает врачом на полставки в городской больнице. Показывает двухлитровую бутылку из-под кока-колы, обмотанную изолентой, с торчащей из горлышка трубкой: «Это у нас такой аппарат для парацентеза».
Городская больница располагается на краю холма; окна палаты выходят на заброшенный карьер. Разработка карьера началась три года назад (говорят, без ведома городских властей) и повлекла за собой сильный оползень. В результате часть больничного здания буквально висит над пропастью. После оползня власти распорядились прекратить раскопки, но о строительстве нового корпуса так и не позаботились.
— А ты не думала о том, чтобы вернуться в Штаты? У тебя же есть американское образование и лицензия.
— Но ведь я никогда не планировала остаться в Америке. У Господа для меня другие планы.
В мединститутской общаге мы были соседями и одно время близко дружили. Я вспоминаю, что тогда, как и сейчас, она была набожной, часто зазывала меня в свою церковь послушать госпел. Но с тех пор ее религия приобрела новое качество, в ней появилась какая-то воинственная непроницаемость, и теперь все попытки начать разговор по душам упираются в этот барьер. К тому же я инстинктивно чувствую, что любые расспросы о Конго должны вызвать у нее раздражение, а мои рассказы о жизни в Гане — тем более. И вот мы оба неловко латаем паузы, стараясь найти общую тему, и в конце концов выбираем путь наименьшего сопротивления: воспоминания и сплетни о бывших однокашниках, хотя ни одному из нас это не интересно.
После обеда Мария включает музыку и приглашает всех потанцевать. Минут десять мы топчемся вчетвером посреди комнаты и наконец, удовлетворенно улыбаясь, усаживаемся смотреть тележурнал «Лингала фасиль», напоминающий передачу «Шестьсот секунд» из далекого перестроечного детства. На экране — та самая авария на бульваре Тридцатого Июня, которую мы наблюдали воочию по дороге из аэропорта. «О, мы же только что видели эту аварию!» — торжествующе восклицает Джоэл. «Да ладно тебе», — не верит Мария. — «Видели, видели! Когда сюда ехали. Подтверди, ндеко!» Я подтверждаю.
За окном темнеет, ветер подметает улицы в преддверье сухого сезона. «Надо будет позвать фригориста[140]», — зевает муж Марии. Завтра утром мы отправимся за город поглядеть на горилл.
12. По реке Конго
Пока Мария получала американское образование врача, ее муж Люсьен, коренной киншасец бельгийского происхождения, набирал клинический стаж в местах менее отдаленных, но и менее доступных, как это обычно бывает там, где нет дорог. В ДР Конго дорог нет, и единственный путь сообщения — река. Та самая, внушающая резонный страх каждому конголезцу.
Полтора века назад по реке Конго сплавлялся первопроходец Генри Мортон Стэнли, одержимый поиском без вести пропавшего Дэвида Ливингстона. Европейская история помнит этих персонажей по приветственной реплике: «Доктор Ливингстон, я полагаю?»; африканская история — по ассоциации со зверствами Леопольда II, чьи подданные проникли сюда именно благодаря топографической разведке Стэнли. Подданные Леопольда II — это предки Люсьена. Среднему конголезцу нелегко проявлять толерантность по отношению к такой родословной, даже если потомок палачей — детский врач, в совершенстве владеющий лингала. Словом, Люсьена задерживали всегда и везде. Конечно, задерживали и других, вне зависимости от цвета кожи; беспричинный арест и вымогательство — основные занятия местной полиции. Но молодого мунделе[141] допрашивали с особым пристрастием.
Люсьен рассказывал, что первый арест произошел в порту Кисангани (бывшего Стэнливиля), где его обвинили в незаконном сотрудничестве с какими-то иностранными организациями. В итоге пришлось дать две взятки: одну — полицейским, а другую — капитану парохода, чтобы тот повременил с отплытием, пока Люсьен откупается от жандармерии. Капитан с радостью принял подарок, обещал повременить и — выполнил данное обещание, но как-то уж слишком ревностно: рейс отложили на полторы недели.
В ожидании отплытия пассажиры и экипаж расположились на борту парохода, к которому привязали несколько бревенчатых плотов. На палубе расставили палатки, развели костры, и судно разом превратилось в перенаселенную плавучую деревню, где с утра до вечера блеяли козы, кудахтали куры, хныкали дети и булькали пищевые котлы. Через несколько дней здесь появилась своя парикмахерская, а вслед за ней — прачечная и трактир. Каждое утро к «деревне» подплывали шлюпки гонцов из близлежащих поселений, и на борту начиналась шумная торговля. Отрезы разноцветной ткани обменивались на ржавые швейные машинки, швейные машинки — на бритвенные принадлежности, бритвенные принадлежности — на провиант. Пахло сушеной рыбой, копченым мясом обезьяны, стиркой, испражнениями, ржавчиной и машинным маслом. Из капитанской рубки доносилась оглушительная музыка: капитан праздновал рождение дочери, появившейся на свет в одной из палубных палаток. Теперь это была ее родная деревня.
После торговли шла привычная проверка документов. Отряд людей с автоматами ежедневно штурмовал никак не отплывающее судно, штрафуя и арестовывая всех, кто попадался им под руку. Конечно, этих военных тоже можно было понять: каждому из них надо было кормить семью, а солдатам в ДР Конго не платят жалованья еще со времен Патриса Лумумбы; к тому же многие из них были калеками. Жители плавучей деревни отдавали пошлину, не прекословя, но в конце концов их терпению пришел конец: «Ведь если мы простоим здесь еще неделю, они разденут нас догола!» И капитан корабля, еле очухавшийся после многодневного празднования, скомандовал отдать швартовы.
Те, кто побывал в этих краях, не устают повторять сардонический афоризм: в Конго работает только река, да и та не всегда. Двадцать лет назад, на закате правления витязя в леопардовой шляпе, главная транспортная артерия страны стала вотчиной для май-май[142], регулярно грабивших и потоплявших суда, и в девяносто восьмом году река была закрыта для судоходства. За следующие десять лет портовая индустрия вымерла, доки превратились в корабельные кладбища. Теперь же, когда речное движение возобновилось, из эллингов выводили все те же проржавевшие баржи, путешествие на которых представлялось опасным еще до простоя. Поэтому никто не удивился, когда в первый же день плаванья корабль дал течь, а еще через пару часов сел на мель (вахтенный, которому доверили лот, все время куда-то отлучался и не проявлял сознательности в работе). Но кое-как справились, дотянули до поросшей речными гиацинтами заводи Бумбы, где заякорились для починки плавсредства. И все повторилось: аресты, бессмысленные допросы, взятки, двухнедельное ожидание отплытия.
«Могло бы быть хуже, — говорил Люсьен, — могли бы всерьез застрять на мели, и тогда — кранты. В Лисале я видел грузовое судно, которое застряло таким образом и простояло больше месяца. Они перевозили в Киншасу какие-то там запчасти. Так вот эти запчасти их и спасли. Когда у них кончилась провизия, они стали обменивать свою арматуру на фильтрованную воду и копченых мартышек, которых им подвозили местные. На том и продержались. А в другой раз я видел такую картину: на берегу разложены какие-то длинные предметы под брезентом. Штук двести их было. Ровненько так штабелями лежат. Подплываешь поближе, присматриваешься, а это — трупы. Оказывается, их волной смыло. У нас же тут грозы, молнии постоянно. Нигде в мире не бывает столько молний, сколько у нас. Короче, шторм. Лодка перевернулась, а конголезцы, они же плавать не умеют. Да и не очень-то поплаваешь в нашей речке… Вот, значит, разложили их аккуратненько на берегу, а сами пошли в церковь выплясывать и выплакивать все, что у них там накопилось. В церкви их, кстати, тоже обирают будь здоров. Пастор вгоняет всех в транс, воет как бесноватый, а потом объявляет: кто сделает пожертвования, сразу же будет спасен. И народ раскошеливается, у кого сколько есть. Им не привыкать. Самое смешное, когда раскошеливаются военные, которые сами весь день со всех дань собирали. Денежный оборот по-конголезски».
Пароход останавливался на починку в каждом порту, и в каждом порту путешественников встречала мемориальная табличка: в Лисале, где родился отец революции Мобуту Сесе Секо; в Мбандаке, где отец революции посещал приходскую школу; в безымянной деревне, где он построил один из своих китайских дворцов по макету Запретного города. С тех пор прошло сорок лет, дворцовую архитектуру поглотили джунгли, а отбитые головы каменных львов и цилиней растащили жители лесных деревень, пигмеи басуа. И в каждом порту за прибрежной полосой цивилизации, за остовами потопленных кораблей и взорванных дотов, начинался девственный лес, куда не было прохода никому, кроме тех, чей мир всегда был очерчен речной границей. Люсьен говорил, что, проплыв через всю страну, не увидел ничего дальше этой границы. «Просто там лес везде — что внутри, что снаружи».
Пунктом назначения был полевой госпиталь в регионе Мбандака. В госпитале было два отделения: женское и инфекционное. Женская часть была отведена для жертв массовых избиений и изнасилований, совершенных боевиками май-май. Около тысячи женщин, по сто на палату. Люсьен работал во втором, инфекционном корпусе, где содержались больные трипаносомозом, то бишь сонной болезнью. В наше время это смертельное заболевание лечится на ранних стадиях, но риск смертности от самого лечения — выше десяти процентов. Впрочем, ранних стадий там практически не бывало.
Еще в Киншасе, в предвкушении предстоящей миссии, Люсьен приобрел книгу, которая показалась ему пособием для начинающего врача. Пособие называлось «Сердце тьмы». За год работы в Мбандаке он перечитал знаменитую антиутопию Конрада рекордное количество раз, поскольку другой литературы у него с собой не было. «Столько шуму сделали вокруг этой книги, но никто не понимает, о чем она. А до меня дошло: это все о сонной болезни. Перечитай внимательно. Безумие Курца, его блуждания. Классическая симптоматика! И демоны, которые мучают главного героя, — всего-навсего трипаносомы. Это, конечно, ничего не меняет, но когда я там, в джунглях, это понял, мне почему-то стало спокойней». Вернувшись в столицу, Люсьен бросил медицину и занялся бизнесом.
Бережно раскладывая по полу многочисленные фотографии, сделанные во время путешествия в «сердце тьмы», он и сам походил на литературного персонажа — какого-нибудь сумасброда-ветерана, чье любимое занятие — уединенное разглядыванье боевых регалий, хранящихся в несгораемом сундуке; на человека, вернувшегося из ада и не сумевшего заново привыкнуть к обычной жизни.
13. Дакар — Нью-Йорк
С тех пор как я вернулся из Африки, прошло чуть меньше двух лет. По возвращении мне потребовалось хороших полгода, чтобы окончательно оправиться от всех тропических болячек, и еще больше, чтобы почувствовать, что вернулся. Раз в пару месяцев я испытываю внезапную потребность в скомканных звуках африканской речи и пряных запахах африканской пищи. Я сажусь в метро, доезжаю до 116-й улицы. Это — Гарлем, та его часть, за которой в последние годы закрепилось название Литтл Сенегал. Если пройти несколько кварталов на восток, попадешь в Испанский Гарлем, где селятся выходцы из Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики. А чуть севернее, где-то в районе 125-й, начинается Гарлем американских негров. Динамика отношений между новой африканской диаспорой и их соплеменниками, попавшими в рабство к американским плантаторам три века назад, — отдельная тема. Коротко говоря, культурного сходства между ними практически нет, а братской любви — и подавно.
Для белого ньюйоркца до недавнего времени все сводилось к единственному правилу: по африканскому Гарлему можно гулять беспрепятственно, а от афроамериканского лучше держаться подальше. Но сейчас Гарлем меняет лицо, на месте грязнокирпичных трущоб возносятся новые многоэтажки, цены на недвижимость растут с экспоненциальной скоростью. Авеню Фредрика Дугласа уже не считается опасным районом: в бывших негритянских барах гуляет золотая молодежь из Гринвич-Виллиджа. Ветры джентрификации уносят остатки голытьбы далеко на север. Вот и Литтл Сенегал, разросшийся было до размеров Чайна-тауна и Литтл Раши, за последние год-два снова сократился до крохотного пятачка. Как будто колонизация Африки повторилась здесь в миниатюре.
И все же на этом пятачке, по периметру 116-й улицы с ее окрестностями, меня до сих пор встречают искомые приметы африканского быта. Вот рынок Мэлком Шабазз, где продаются пестрые платья, музыкальные инструменты, сакральные маски, статуэтки и прочие предметы. Вот продавцы в безразмерных туниках бубу, целыми днями читающие Коран или перебирающие четки. Вот корпулентные матушки в воскресных нарядах. Каждую вторую зовут Фату. Каждая третья — хозяйка чоп-бара. Вот сенегальский чоп-бар «Африка Кинэ», где в любое время суток можно заказать традиционные тьебу джюн, мафэ и яссу. По правую руку от сенегальской едальни находится другая, гвинейская, под названием «Салимата», а по левую — булочная «Ле Амбассад». Палатки и лотки с благовониями, обшарпанные забегаловки, салоны африканской завивки… Вот молодая женщина сидит на асфальте; рядом с ней — пляжная подстилка, на которой разложен «ходовой товар»: паленые копии сумочек «Гуччи» и «Луи Виттон». Возможно, у себя на родине, в Дакаре или на острове с запоминающимся названием Горе, она тоже сидела на земле в ожидании покупателей, но там это было в порядке вещей и не выглядело так удручающе, как в контексте нью-йоркского этнического гетто. Проделав путь через Атлантику, уличные торговцы Сенегамбии перебрались из одной нищеты в другую, куда более бесправную и безысходную.
В «Салимате» меня ждут Муйва и Яо, добрые приятели по Бриджпорту, с которыми я не виделся больше года. После ужина мы пойдем шататься по гарлемским кабакам, а к полуночи, если не откажут тормоза, попадем на концерт легендарного Шейха Ло, музыканта и сподвижника мюридского ордена Байе Фаль. Мюриды — сенегальские суфии, исповедующие ислам в вольном переложении марабута Амаду Бамбы Мбаке. В 1883 году Бамба получил откровение в городе Туба, а в 1885-м его арестовали и сослали в Габон, где было меньше возможностей для прозелитизма. Когда французские конвоиры запретили марабуту совершать намаз на борту корабля, он расстелил молитвенную циновку на океанских волнах и, воспарив над гнетом колониальной власти, опустился на колени с легкостью, какой позавидовал бы любой мастер серфинга. С тех пор Туба объявлена местом паломничества, а сам Бамба — последним пророком. В своем учении основатель мюридизма отменил многие из законов шариата, включая запрет на алкоголь; суть же учения сводилась к максиме «молись так, как будто завтра умрешь; работай так, как будто не умрешь никогда». Надо отдать должное: мюриды и вправду славятся своей работоспособностью. В сенегальском Нью-Йорке, как и в самом Сенегале, они считаются главным двигателем прогресса.
Пятидесятисемилетний Шейх Ло — что-то вроде сенегальского Гребенщикова. Музыкант-эклектик с мистическим уклоном, соединивший непривычную для европейского уха полиритмию сенегальского мбалакса с элементами регги, джаз-рока и латинской музыки. Знаковая фигура, символ эпохи. Сухощавый человек с дредлоками до пят, в растаманской шляпе и халатах, надетых один на другой, смесь Боба Марли с каким-нибудь индийским гуру, он выходит на сцену в сопровождении группы, все члены которой — три перкуссиониста, саксофонист, клавишник и гитара с басом — лет на тридцать моложе него. Ученики. В течение концерта духовный лидер берет в руки то гитару, то кору[143], садится за ударную установку, лупит по конгам — и во всем оказывается одинаково виртуозен. Это — музыка, в которой хочется раствориться. Мелодичные инструментальные пассажи в сочетании с вокальным надрывом завораживают и трогают до комка в горле; лирическая пронзительность текста ощутима даже при незнании языка волоф. Впрочем, кроме меня, волоф здесь знают все. К середине концерта аудитория начинает хором скандировать «Сенегал!»; дебелые матроны запускают в воздух долларовые купюры, а их мужья запрыгивают на сцену потанцевать рядом со своим кумиром. Охранники клуба собираются вмешаться, но Шейх Ло предупреждает их участие отстраняющим жестом, после чего, обнявшись с поклонниками, сам пускается в пляс; задрав полы верхнего халата, ловко двигает бедрами и перебирает ногами. Одна песня «на бис» переходит в другую.
«Шейх Ло? — удивляется хозяин «Салиматы». — Разве он еще выступает? Я-то думал, он ушел в политику, как все остальные…» Политика — излюбленная тема для разговоров в любом чоп-баре. А сегодня — особый повод. Завсегдатаи заведения сгрудились вокруг телевизора, по которому передают новости из Мали, где недавно произошел военный переворот. Несколько дней назад я получил долгожданный имейл от Мадины, дочери полковника Майги: «У нас все хорошо. Сидим в бункере». Надо попытаться связаться с Адамой и с Мусевичем; в последнее время от них ни слуху ни духу.
Сенегальцы переживают за соседей, радуясь за своих. В Дакаре в преддверии выборов тоже намечалась буча, но на сей раз обошлось: девяностолетний самодержец Абдулай Вад любезно уступил президентское кресло победителю Маки Салю, мигом превратившись из ненавистного тирана в национального героя. «Vive Senegal! Пусть поучатся у нашего Вада!» С настенных фотопортретов одобрительно глядят Леопольд Сенгор, Сембен Усман и другие просветители. В голове крутится программный хит Шейха Ло (единственная из его песен, чей текст мне понятен, т. к. написан по-французски):
Il n’est jamais trop tard, Il n’est jamais trop tard… Mes copains, ils sont partis, Et moi, je suis lа, Petit à petit…[144]…Два года — достаточный срок для того, чтобы лакуны воспоминаний заполнились вымыслом; теперь можно убедить себя в чем угодно. Иногда вымысел принимает форму ностальгии по красочным трущобам Бриджпорта и Эльмины, где мне открылось новое жизненное пространство и где я вряд ли когда-нибудь окажусь снова. «Присаживайся, — говорит сосед-гвинеец, когда мы проходим в его гостиную, где нет ни диванов, ни стульев. — Чувствуй себя как дома». И я чувствую. Его домашний уют целиком состоит из знакомых запахов: пахнет пальмовым маслом, ореховым супом, дымом курительных палочек. Разве что запахи детства — подгоревших оладий из школьной столовки или весеннего сквозняка в старом подъезде — могли бы вызвать столь же отчетливое узнавание. «Клянусь, в прошлой жизни ты был африканцем», — подтрунивал в свое время мой друг Энтони Оникепе. В прошлой жизни я был ребенком, жил около станции метро «Полежаевская». Хотя какая разница, где и когда? Ничего, никого. А знакомые запахи все еще держатся в воздухе, и любая прошлая жизнь то и дело напоминает о том, что ее больше нет и уже никогда не будет.
2010–2012Переводы из поэзии ашанти-чви
Травелог сродни искусству акына, т. е. в каком-то смысле ближе к стихам, чем к полноценной прозе. Африканские пейзажи и ритмы располагают к стихотворному изложению. «Что вижу, о том пою». Принято считать, что вся «дикарская» поэзия построена по этому нехитрому принципу. Не знаю, как обстоят дела с поэзией папуасов или малых народов Сибири; с африканской — точно не так. При переводе на русский с языка ашанти-чви современная ганская поэзия может выглядеть, например, так[145]:
Из Квези Брю
Когда вчера под окнами прошел и вышел в ночь, в разметанные звезды, в сгруди́вшиеся шорохи окраин, в разгар затменья, в шепоты и стоны деторожденья, всё не мог понять, откуда шум доносится — все двери распахнуты, похожи друг на друга. Три человека вышли из дверей, и, бросив «ну, увидимся», «до встречи», те двое, что моложе, уступили дорогу старику, а после сами пошли своей дорогой. Это были известные по всей округе воры, но старец не узнал их: он был слеп. В погасшем мире скорые прощанья — обманка для невидящего слуха. Лишь тишина понятна и сподручна, как трость слепца — у зрячего в руках. Разрушенные стены навалились всем весом разрушения, дыханье все невозможней, и глаза слезятся от дыма фитилей. И вот стою и вижу: здесь край света. Стоит сделать один шажок — и ощутишь паденье, нырнешь, как в пропасть, в собственную тень.Из Квези Менса
1. Я слушаю
Не показывать левой рукой на собственный дом. Что бы ни было, говорить: спасибо на том. Бабушка — у плиты, я жду продолженья вчерашней сказки. Варится «суп с котом». Мальчику надо чуточку потерпеть. Надо расти, над учебниками корпеть. Кашу из ямса сварят ко дню рожденья. Бабушка у плиты начинает петь. В песенке той паутину плетет паук, внук постигает темноты точных наук, быстро растет, ожидает вознагражденья. Дерево уква — сломанной ветки звук.2. Голод
Нужде ничего не нужно, кроме нужды. Всех спасут в конце, а сейчас пощады не жди. Только розга свистит, хочет школьнику дать совет. Только голод, как чей-то голос, тебя зовет. Этот голод овладевает тобой, как дух. Говорит: выбирай скорее одно из двух. Ты бы выбрал из двух, но на уме одно: самое дно, мой брат, то самое дно. Отвечай же: со дна видней Господни дела. Ты сидишь на холодном песке в чем мать родила. Мать растила любя, и Господь наставлял любя, чтобы все, что случится, зависело от тебя.3. Африканец
Если поют «как устал наш хамелеон», знай подпевай «уезжает за море он». Время привило вкус к заморской еде и связало язык непроизносимым «the». Раньше, будучи старшим, был на язык остер. Обучал поговоркам младших братьев-сестер в день, когда наш отец, разодетый, как командир, бормотал, уходя, чужое «my dear, my dear». И толпа провожающих высыпала во двор. Вдруг щелчок раздался: кто-то рванул затвор. Все пройдет, пройдет, только знай себе подпевай. Даже белый, и тот не выдержал: «My friend, why?..»Из погребальных песен Ашанти
Шум великий у тишины. Это знают старейшины. Погремушки ли ей нужны? Эй, тряси, говорят, сильней — может, вытрясешь тишину. В пляс пущусь — стариной тряхну. Тишине моей долг верну, зная: будущее за ней.Сноски
1
Как устал наш хамелеон, / Все стремится за море он (ашанти-чви). Переводы с других языков далее оговариваются особо.
(обратно)2
Противосекреторные препараты (англ.).
(обратно)3
Против секретарши (англ.).
(обратно)4
Терапевт (англ.).
(обратно)5
Насильник (англ.).
(обратно)6
Большой человек (йоруба).
(обратно)7
Приветствие ашанти, дословно: «Как оно?»
(обратно)8
Продавщица бананов, сбрось цену!
(обратно)9
Вождя народов.
(обратно)10
Аканское исчисление времени вообще носит религиозный характер. Например, календарный месяц обозначается словом обосоме (божок). «M’adi bosome mmienu wo ha» — «Я провел здесь два месяца». Дословно: «Я съел здесь двух божков».
(обратно)11
Вода.
(обратно)12
Пальмовое вино.
(обратно)13
Добро пожаловать!
(обратно)14
Верно!
(обратно)15
«Африканский рынок».
(обратно)16
Стратегическая игра, одна из разновидностей манкала.
(обратно)17
Ух ты! Где это ты научился говорить на чви?
(обратно)18
У меня есть ганские друзья, которые меня понемножку учат.
(обратно)19
Понятно. Добро пожаловать, учащийся!
(обратно)20
Нигерийский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1986).
(обратно)21
«Так же как твои родители заботились о тебе, когда у тебя резались зубы, ты должен позаботиться о них, когда их зубы станут выпадать».
(обратно)22
Мой брат Алекс.
(обратно)23
Лестница смерти.
(обратно)24
Временный заместитель (лат.).
(обратно)25
Доктор сказал, что я должен срочно лечь спать.
(обратно)26
Так держать!
(обратно)27
Сердечно-легочная реанимация.
(обратно)28
Название романа Чинуа Ачебе.
(обратно)29
Ганцы часто путают «р» и «л» в английских словах, т. к. в аканских языках звук «л» практически отсутствует.
(обратно)30
Кто тебя вызывал? Тебя кто-нибудь вызывал?
(обратно)31
Доктор вызывал…
(обратно)32
Доктор занят. Иди и жди, когда тебя вызовут, поняла?
(обратно)33
Нет, я готов.
(обратно)34
ОК, заходи, найди себе, где сесть. На что жалуешься?
(обратно)35
Ты меня помнишь?
(обратно)36
Он очень голоден.
(обратно)37
Нет, нет, мне это не нужно…
(обратно)38
Блюдо из сброженной кукурузной муки; употребляется в качестве гарнира к рыбе с перечной подливкой.
(обратно)39
Только благодаря Господу.
(обратно)40
Не своими силами.
(обратно)41
Паскудство! Что они там себе думают? Есть у вас совесть? Есть у вас здравый смысл?
(обратно)42
Сейчас приду.
(обратно)43
Именно так, папа. Только ты.
(обратно)44
От свинки…
(обратно)45
Антималярийный препарат.
(обратно)46
Здесь: c вашего позволения.
(обратно)47
Открой свой рот и говори!
(обратно)48
Брета у нас живет от души, ест от пуза.
(обратно)49
Кое-что особенное.
(обратно)50
Возьми еще немножко, папа, в Америке-то небось так не накормят…
(обратно)51
У нас будут дети!
(обратно)52
Уважительная форма утвердительного ответа (дословно: «Я прошу вас, да»).
(обратно)53
Окобайе — ребенок-дух (дословно: «возвращенец»), раз за разом умирающий при родах или во чреве матери. В семьях, потерявших больше чем одного ребенка, новорожденному делают вертикальные надрезы на щеках. Считается, что меченый окобайе уже не сможет вернуться в мир духов и будет вынужден остаться среди живых. В Эльмине часто можно встретить людей с характерными шрамами на лицах: живое свидетельство высокой детской смертности.
(обратно)54
Слава Богу.
(обратно)55
Куда идешь? Хочешь поесть? Хочешь, я сошью тебе наряд?
(обратно)56
Просторное платье, распространенное в северной части страны.
(обратно)57
Базарного дня.
(обратно)58
Три дня. Это серьезно?
(обратно)59
Вы должны пойти в клинику прямо сейчас.
(обратно)60
Это очень-очень серьезно!
(обратно)61
Мы придем, мы придем.
(обратно)62
Царица-мать, возглавляющая совет старейшин, в чьи обязанности входит назначение нового короля.
(обратно)63
Столица королевства Ашанти.
(обратно)64
Белые люди.
(обратно)65
Ашанти-чви, фантсе, чви-аквиапем — аканские языки, соотносящиеся друг с другом примерно как русский, украинский и белорусский.
(обратно)66
Молодец, всё знаешь!
(обратно)67
Дословно: «куриный старейшина».
(обратно)68
Дух.
(обратно)69
Дыхание.
(обратно)70
Тело.
(обратно)71
Понятно (дословно: «я услышал»).
(обратно)72
Ты услышал?
(обратно)73
Тьма.
(обратно)74
Иностранец, белый человек.
(обратно)75
Именем Кваме называют мальчика, родившегося в субботу.
(обратно)76
Зачем? Мы будем говорить на фантсе.
(обратно)77
Смотри, пацан, как этот белый тебя надул!
(обратно)78
Сухой пыльный ветер, дующий в Западной Африке с декабря по февраль.
(обратно)79
Невозвращенцы: следовать прямо.
(обратно)80
Мистер, мистер, это твое…
(обратно)81
Меня зовут никак.
(обратно)82
Извини, Бенджамин, у меня сегодня нет денег.
(обратно)83
Я мечтаю стать футболистом, но для этого мне нужно немного денег…
(обратно)84
Бессмертные альбиносы.
(обратно)85
Правду говорю, они не умирают, а просто исчезают.
(обратно)86
Закуска из жареных бананов с имбирем и арахисом.
(обратно)87
На старт! Внимание! Марш! (англ.).
(обратно)88
Птица! Большая! Ворона!
(обратно)89
Вот завтра и узнаем.
(обратно)90
Вы тоже летите в Аккру?
(обратно)91
Вот это да! Откуда ты? Как тебя звать?
(обратно)92
Мальчик, родившийся во вторник.
(обратно)93
Мальчик, родившийся в пятницу.
(обратно)94
Старый квартал в городах Северной Африки.
(обратно)95
Около тридцати долларов.
(обратно)96
Доктор, иди и лечи.
(обратно)97
Доктор-доктор, сделай-ка мне укол!
(обратно)98
Тот, кто приходит как друг, никогда не приходит минута в минуту.
(обратно)99
Молодец, какой молодец! Ну, до скорого.
(обратно)100
Владыка! Всемогущий! Всевышний!
(обратно)101
Смотри-ка, белый человек!
(обратно)102
Cadeau (франц.) — подарок.
(обратно)103
Вождь.
(обратно)104
Стелется ли дорога до Аккры?
(обратно)105
Стелется.
(обратно)106
Тогда поедемте вместе.
(обратно)107
Но мы поедем в Аккру только завтра вечером.
(обратно)108
Вот и хорошо. Как соберетесь, дайте мне знать, и поедем вместе.
(обратно)109
Когда брат идет на брата, их сестра льет слезы.
(обратно)110
Храните мир в ваших сердцах, будьте правдивы.
(обратно)111
Да, бабушка, мы услышали (ваши слова).
(обратно)112
Идите с Богом.
(обратно)113
Статья № 419 нигерийского УК, посвященная денежным махинациям; «419» используется как разговорный эвфемизм, означающий любого рода мошенничество, «разводку».
(обратно)114
Пришелец; дословно: «человек без кожи» (йоруба).
(обратно)115
Мы — из Нигерии, размножаемся, как бактерии (нигерийский пиджин).
(обратно)116
Хвала Иисусу (нигерийский пиджин).
(обратно)117
Выскочки.
(обратно)118
Благодаренье Богу.
(обратно)119
Правда? А каким поездом?
(обратно)120
Это Африка.
(обратно)121
Мандинг — традиционный стиль музыки, распространенный в Мали, Сенегале и некоторых других странах Западной Африки.
(обратно)122
Добро пожаловать!
(обратно)123
Имеется в виду Амаду Тумани Туре, занимавший пост президента с 2002 г. и свергнутый во время военного переворота в 2012 г.
(обратно)124
Тубаб — белый человек (волоф).
(обратно)125
Подарок, подарок, подарок (франц.).
(обратно)126
Какой подарок? (франц.).
(обратно)127
Иди да купи… (франц.).
(обратно)128
Представитель социальной касты профессиональных певцов, музыкантов и сказочников.
(обратно)129
Твое здоровье! (франц.)
(обратно)130
Китай-Китай! (франц.)
(обратно)131
Сейчас это слово воспринимается совсем по-другому; однако изначально талибами называли студентов, изучавших в основном естественные науки.
(обратно)132
Денежная единица бывших французских колоний в Западной и Центральной Африке; КФА расшифровывается как Communauté financière africaine — Африканское финансовое сообщество.
(обратно)133
Постройка, предназначенная для проведения важных дискуссий.
(обратно)134
«Женское обрезание», т. е. частичное удаление клитора и половых губ, до сих пор практикующееся в Мали и некоторых других африканских странах.
(обратно)135
Субботник (лингала).
(обратно)136
Этот участок не продается (франц.).
(обратно)137
Кин — красавица или помойка? (франц.).
(обратно)138
Брат (лингала).
(обратно)139
Мобуту Сесе Секо — конголезский (заирский) диктатор, известный своим пристрастием к роскоши.
(обратно)140
Мастер по установке кондиционеров.
(обратно)141
Бледнолицый (лингала).
(обратно)142
Конголезские отряды самообороны, известные своей жестокостью не только к повстанцам, но и к мирному населению.
(обратно)143
Щипковый музыкальный инструмент с 21 струной, распространенный в Западной Африке.
(обратно)144
Никогда не бывает поздно, Никогда не бывает поздно… Мои друзья давно ушли, А я еще здесь, Потихоньку-полегоньку… (франц.). (обратно)145
Разумеется, лингвистическая специфика чви, равно как и контекстуальная специфика, исключает возможность более или менее точного перевода. Стало быть, речь идет о вольных переложениях.
(обратно)




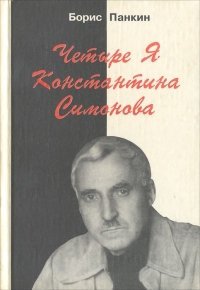

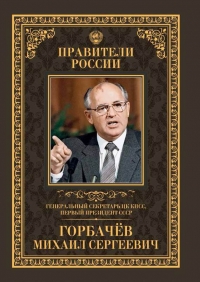
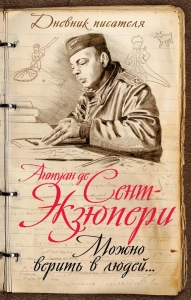
Комментарии к книге «Вернись и возьми», Александр Михайлович Стесин
Всего 0 комментариев