Никитин Н. В. Преступный мир и его защитники: Рассказы о самых громких уголовных процессах России конца XIX — начала XX века
Н. В. Никитин (псевдоним Азовец) — известный в литературном мире конца прошлого — начала нынешнего века писатель, издатель, публицист.
Его уголовно-бытовые романы и повести «Черная женщина», «Вдали от мира», «Подневольные», «Цена позора» и другие, изображающие грубую реальную действительность, над которой тяготеет власть зла, широко были известны читающей публике.
Особое место занимает собранная им книга рассказов о громких уголовных процессах, которые вели известные петербургские адвокаты. Книга получила широкий резонанс, выдержала два издания. Успех первой книги «Преступный мир и его защитники» побудил Н. В. Никитина издать в 1910 году второй том рассказов об уголовных процессах. Живой материал, положенный в основу книги, представляет несомненный интерес как с общественной, так и с познавательной точки зрения.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Суд — это жизнь и в то же время школа: он учит, как не надо жить.
Сама действительность, в большинстве неприглядная, ничем не скрашенная, с ее пошлостью, горем и страстями, во всей своей наготе предстает в торжественных залах суда.
Как бесконечный клубок, обыденная жизнь день за днем беспрестанно развертывается перед судьями и общественной совестью.
Дикая злоба, безумная ревность, отчаяние, погоня за легкой наживой, месть, грозный адюльтер и муки отвергнутой любви — все это переплетается между собой, ожидая возмездия или прощения.
Суд, по священному завету Законодателя, есть скорый, правый, милостивый и равный для всех суд.
Чутко прислушиваясь к обвинению и защите, он выносит в своем беспристрастном решении только одну живую правду.
Обвинение — грозно и зовет провинившегося человека к ответу, но велико святое дело защиты: внести свет в преступление и вызвать милость к падшему.
В данной книге собраны, по возможности, выдающиеся уголовные процессы, во главе с известными представителями петербургской адвокатуры.
Большой успех, какой выпал на долю этой книги, при первом появлении, вместе с лестными отзывами печати («Вестник Европы», «Петербургские ведомости» и другие), дает основание надеяться, что и второе издание ее найдет широкий доступ к публике.
Новое издание значительно дополнено, и читатель найдет в нем, между прочим, подробное содержание выдающейся речи бывшего обер-прокурора правительствующего Сената, ныне министра юстиции И. Г. Щегловитова, о правах защиты и присяжных заседателей, а также и нашумевший в последнее время характерный процесс адвокатов по делу Ольги Штейн.
Н. В. Никитин (Азовец)
С.-Петербург 1 июня 1910 года
ПРАВА ЗАЩИТНИКОВ И ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Всем известно, какое огромное значение в деле уголовного судопроизводства имеют присяжные заседатели, призванные судить, и непосредственно сама защита, на обязанности которой лежит пробуждать милость к падшему и сострадание — к невиновному. Очень часто исход дела зависит исключительно от них, и, несмотря на суровое обвинение со стороны закона, подсудимый покидает свою позорную скамью оправданным и возвращается в жизнь по-прежнему полноправным гражданином. Однако в определении прав защиты и присяжных заседателей в судебной практике нередко бывали разногласия, и вопрос об этом восходил даже до правительствующего Сената. Наиболее полное, существенное разъяснение этого вопроса дал бывший обер-прокурор правительствующего Сената, ныне министр юстиции И. Г. Щегловитов. Ввиду того что мнение такого выдающегося юриста, заявленное к тому же официально, имеет важное значение как для адвокатов, так и вообще для всего общества, из которого вербуются кадры присяжных заседателей, — мы приводим его возможно подробнее.
Поводом к разъяснению И. Г. Щегловитовым прав защиты и присяжных заседателей послужило известное дело о крахе страхового и транспортного общества «Россиянин», наделавшее в свое время много шума. Рассмотрение этого дела происходило в санкт-петербургском окружном суде в течение шести суток и закончилось обвинением одного из директоров злополучного общества — купца А. С. Семенова. Однако ввиду допущенного судом нарушения порядка судопроизводства приговор был обжалован защитой в правительствующий Сенат. В кассационных жалобах главным образом были возбуждены два кардинальных для современного суда вопроса. Первый вопрос сводился к определению прав защитника на суде, второй же вопрос касался степени полномочий присяжных заседателей относительно оснований, какими они должны руководствоваться относительно вменения подсудимому в вину совершенного им преступления.
БАЗУНОВ Леонид Александрович
Родился в Москве в 1860 году. По окончании курса Санкт-Петербургского университета вступил на поприще адвокатуры — с 1883 года помощником присяжного поверенного и в 1889 году присяжным поверенным. С 1901 года состоял членом совета присяжных поверенных округа санкт-петербургской палаты. Из выдающихся дел, где он выступал защитником, известны: процессы Мироновича, присяжного поверенного Звездочетова, братьев Норманских, Комиссионного банка, Земцова-Ефимьева, дело о братоубийстве Стунай и многие другие. Приобрел видное положение в мире адвокатуры как выдающийся юрист.
Давая свое заключение по этому делу, И. Г. Щегловитов подробно развил те общие начала, которыми определяются необходимость уголовной защиты, ее назначение и условия исполнения ею возлагаемой на нее задачи, и указал на то, что уголовное правосудие, имеющее своей целью служить охраной общественного порядка и спокойствия и интересов граждан, может достигнуть этого только путем открытия в каждом деле безусловной истины, то есть действительным установлением виновности подсудимого, дающей право на применение к нему определенного законом наказания. Отыскание же истины в современном уголовном процессе обеспечивается, между прочим, началом состязательности, в силу которого в этом процессе созданы стороны обвинения и защиты. Каждая из них призвана служить обнаружению истины посредством отстаивания односторонних точек зрения, обосновывающих собой интересы обвинения или защиты. Столкновение этих точек зрения облегчает суду распознавание истины. Сказанным определяется не только необходимость сторон в процессе и в частности защиты, но и служебная, часто вспомогательная их роль в деле отправления правосудия.
Указанная вспомогательная роль в деле отправления уголовного правосудия достигается защитой, выполнением ею своего прямого назначения, а именно отстаиванием перед судом интересов подсудимого. Назначение уголовной защиты в точности определено в ст. 744 уст. угол, суд., по которой защитник подсудимого объясняет в защитительной речи все те обстоятельства и доводы, которыми опровергается или ослабляется взведенное против подсудимого обвинение. Вместе с тем и присягой, которую принимают лица, вступающие в число присяжных поверенных, они обязываются «охранять интересы своих доверителей или лиц, дела которых будут на них возложены» (прил. к ст. 381 учр. суд. уст.). Отстаивание интересов подсудимого на уголовном суде является при этом настолько безусловной обязанностью защитника, что, как это признается процессуальной наукой и кассационной практикой (реш. общ. собр. 1879 г., № 4), ему не может быть поставлено в вину принятие на себя защиты такого лица, в невинности которого он не убежден. При этом если защитник может не принять на себя защиту по соглашению, то он, как это определено ст. 394 учр. суд. уст. в отношении присяжных поверенных, не может отказаться от защиты, возложенной на него председателем судебного места, не представить достаточных причин, к числу которых убеждение в виновности подсудимого, конечно, отнесено быть не может. Из обязанности защитника отстаивать интересы подсудимого вытекает также и то, что он не имеет права проводить обстоятельства в пользу обвинения. Такой образ действий, в корне нарушающий идею уголовной защиты, является одним из самых тяжких уклонений защитника от исполнения своих обязанностей.
Участие защитника при судебном рассмотрении составляет, без сомнения, необходимое процессуальное условие, соблюдение которого, по крайней мере по важнейшим уголовным делам, сделалось предметом особой заботливости современных законодательств, проникающихся все более и более воззрением на защиту как на служение общественное. В развитие этого начала наука требует даже, чтобы наличность защиты на суде не стояла в зависимости от желания обвиняемого. Указанной заботливостью дела была всегда проникнута и кассационная практика, признающая серьезным нарушением несвоевременное извещение подсудимого о невозможности назначить ему защитника и установившая между прочим задолго до издания закона 2 июня 1897 года обязательное назначение защитников несовершеннолетним подсудимым (цирк, указ угол. кас. департамента от 24 августа 1878 г., № 44). Действительно, уголовно-политическое значение защиты в уголовном процессе велико. Можно с уверенностью утверждать, что судебный приговор, который состоялся без бытности защитника на суде, не может произвести того благотворного впечатления, которое в высшей степени важно для поддержания в обществе должного доверия и уважения к суду. Только приговор, состоящийся при участии защиты, создает уверенность, что суд осуждает виновных и оправдывает невиновных.
Каковы же, однако, условия, которыми обставлено выполнение защитой своей благородной миссии — отстаивать интересы подсудимого? Устав уголовного судопроизводства, вооружая защитника в ст. 630 процессуальными правами на судебном следствии, равными притом правам обвинителя и гражданского истца, предъявляет к нему в ст. 745 только требования о том, чтобы он не распространялся о предметах, не имеющих никакого отношения к делу, и не позволял себе нарушать должное уважение к религии, закону и установленным властям, ни употреблять выражения оскорбительные для чьей бы то ни было личности. Равным образом и в присяге на звание присяжного поверенного содержится требование «не писать и не говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению православной церкви, государства, общества, семейства и доброй нравственности», и «не нарушать уважения к судам и властям» (прил. к ст. 381 учр. суд. уст.). В точном соответствии с этими требованиями определена в законе и обязанность председателя, выраженная в ст. 611 уст. угол, суд., устранять из прений все, что не имеет прямого отношения к делу, и не допускать ни оскорбительных для чьей бы то ни было личности отзывов, ни нарушения должного уважения к религии, закону и установленным властям.
С своей стороны, правительствующий Сенат зорко поддерживал приведенные требования, признавая их нарушение, если оно вовремя не было пресечено, существенным. Так, еще в решении уголовного кассационного департамента 1871 года, № 1838, по делу Антипова Сенатом было высказано, что судебные прения, при которых были нарушены ст. 611, 737 и 745 уст. угол. суд. и которые не были введены с тем достоинством, спокойствием и правильностью, которые необходимы для того, чтобы присяжные заседатели могли приступить к разрешению дела без всякого увлечения к обвинению или оправданию подсудимых, не могут служить основанием правильного судебного приговора. По этому делу защитник, отвечая на обращение прокурорского надзора к присяжным: «Вы не должны выходить из закона, потому что выходить из закона значит быть беззаконниками», — сказал: «Если на основании доводов, высказанных прокурорским надзором, признать подсудимого виновным в разбое, то это будет судебный разбой». Затем в решении 1887 года, № 32, по делу Саратовско-Сибирского банка правительствующий Сенат усмотрел ст. 611 уст. угол. суд. со стороны председательствующего, допустившего в прениях полное извращение процессуальных ролей, при котором гражданские истцы явились в ролях — одни защитников и каких-то милователей, другие — ярых обвинителей, а защитники — в ролях обвинителей. В судебных прениях по этому делу говорилось, между прочим, о Владимире Мономахе и летописцах, о муравьиных и воробьиных гнездах, причиной краха банка признавалась следственная власть, не вовремя прикоснувшаяся к этому учреждению. Далее в решении 1888 года, № 16, по делу Кетхудова и Махровского Сенат признал существенным злоупотреблением защитником своими обязанностями указание присяжным заседателям на то, что они должны иметь в виду, при решении дела, не оценку доказательства виновности, а высшие государственные интересы, будто бы нарушенные потерпевшим, что в основе их решения должны лежать политические соображения, а не начала справедливости, и что необходимы оправдательные приговоры лиц, хотя бы и виновных, чтобы сдержать своекорыстные стремления богачей. В решении 1904 года, № 4, по делу Салтыкова правительствующий Сенат высказался, что в учреждении, призванном к охранению государственных и общественных интересов, посредством правосудного разрешения вопросов о преступности действий нарушителя закона, не могут быть допускаемы речи, в коих растрата присяжным поверенным денег, вверенных ему доверителями, именуется «легкомысленной шалостью», а дальнейшее хищение этим лицом собственности доверителей, прикрываемое подлогами, «естественным» и ненаказуемым последствием первого легкомысленного, но не преступного действия. При этом Сенат указал на то, что подобного содержания речь является не соответствующей задачам защиты вообще и представляет собою соображения, направленные не к изысканию истины на суде, а к извращению перед присяжными заседателями понятий о дозволенном и воспрещенном как законом уголовным, так и нравственностью, к насаждению в их умах смутного представления о присущих им правах и обязанностях. В высшей степени ценные разъяснения были также преподаны правительствующим Сенатом в решении 1892 года, № 20, по делу Дорна о пределах, в которых в судебных речах могут быть приводимы обстоятельства, касающиеся чести и доброго имени противной стороны свидетелей и вообще третьих лиц. В этом решении Сенат основывался на ст. 158 учр. суд. уст.
Защита вольна просить в своей речи или об оправдании подсудимого, или только о признании его заслуживающим снисхождения. Об оправдании она имеет право просить безразлично к тому, признал ли подсудимый себя виновным или нет, подтверждается ли учиненное им сознание обстоятельствами дела, или оно ими опровергается, требовал ли защитник производства судебного следствия при наличностей сознания и, наконец, выясняется ли по делу законная причина невменения.
Преследуя отрицательную цель — опровергнуть или ослабить доводы обвинителя, защитник в своей речи может развивать как фактические, так и юридические основы обвинения. В отношении последних согласно ст. 746 уст. угол. суд. он не вправе по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, касаться ответственности, угрожающей подсудимому. Но зато он уполномочен войти в критическую оценку всех материально-правовых и процессуальных условий обвинения, предъявляемого к подсудимому. Поэтому он вправе доказывать, что в деянии, приписываемом подсудимому, не содержится признаков преступления, что в деле усматривается один из преюдициальных вопросов, требующих предварительного разрешения компетентным судом, что самое преследование возбуждено не в установленном порядке, что в деле обнаруживается наличность одной из причин, устраняющих преступность деяния, или же условий, исключающих вменение подсудимому содеянного, и наконец, что в учиненном подсудимым не заключается караемой законом вины, будет ли та вина умышленная или неосторожная. Высказывая одно из приведенных правовых положений, защитник тем самым в конечном выводе будет домогаться оправдания подсудимого, хотя бы он вместе с тем не отрицал фактических основ предъявленного на суде обвинения. При этом, в частности, утверждая, что содеянное не должно быть вменено подсудимому в вину, защитник не может быть ограничен установкой одних причин невменения, указанных в законе, а именно в статье 92 улож. о наказ. Шесть причин невменения, перечисленных в этой статье уложения, — случай, малолетство, безумие или болезнь известного характера, принуждение и необходимая оборона, — представляются прежде всего неполными. Так, например, к числу их не отнесены согласие пострадавшего, исполнение закона, осуществление профессиональных обязанностей, покушение над несуществующим или безусловно негодным объектом. С другой стороны, многие из причин невменения, перечисленных в ст. 92 улож. о наказ., определены в законе настолько казуистично, что применение их в пределах одного буквального толкования порождает серьезные несоответствия.
АРОНСОН Григорий Семенович
Родился в Петербурге 18 апреля 1869 года. Окончил курс Петербургского университета. В корпорацию присяжных поверенных вступил в 1899 году. Красивыми, образными речами, с которыми он выступал во многих уголовных процессах, вскоре обратил на себя всеобщее внимание. Особенно большую популярность доставило ему, как защитнику, много нашумевшее в свое время известное дело Анны Коноваловой, обвинявшейся в мужеубийстве. С не меньшим успехом он защищал в процессах Г. А. Никитина (крах банкирской конторы), Татариновой (убийство).
Достаточно в этом отношении указать на причины невменяемости, определенные в ст. 95 и 96 улож. о наказ., и на крайнюю необходимость, определенную в статье 100 того же уложения. Ограничивать защиту, при доказывании ею невменения подсудимому содеянного им, одними причинами, указанными в ст. 92 улож. о наказ., значило бы, по мнению И. Г. Щегловитова, лишить ее возможности устанавливать целый ряд таких причин невменения, которые хотя прямо и не выражены в законе, но вытекают из его разума и притом признаны кассационной практикой. Совершенная неполнота ст. 92 улож. о наказ, наглядно явствует, между прочим, из нового уголовного уложения, высочайше утвержденного 22 марта 1903 года, в котором причины невменения поставлены несравненно шире.
Применяя высказанные им общие соображения к первому возникшему по делу «Россиянина» вопросу о правах защиты в периоде заключительных прений по делам о подсудимых, учинявших сознание, не возбуждающее сомнений, если притом не имеется налицо законной причины невменения, И. Г. Щегловитов находил далее, что защита имеет неотъемлемое право ходатайствовать об оправдании подсудимого и по причинам невменения, в законе не указанным, лишь бы они не сводились к совершенному извращению уголовного закона или к ходатайству о прощении, то есть о даровании подсудимому помилования. Примерами таких уклонений защиты, требующих немедленного их пресечения председателем, могут служить два дела, рассматривавшиеся во II и III отделениях уголовного кассационного департамента правительствующего Сената. По обоим делам Сенат усмотрел существенное нарушение защитой своих обязанностей, выразившееся в приглашении ею присяжных заседателей — в одном случае «идти беззаконным путем, ибо (по словам защитника) к такому беззаконию много лет призывают их со скамьи защиты, а со скамьи присяжных столько же лет ответом на этот призыв служит: нет, не виновен», а в другом случае — оправдать подсудимого, «взяв на свою душу его грех и пожалев тех галчат-детей, которые остаются от разоренного гнезда подсудимого».
Сознание, утратившее в современном уголовном процессе, с отменою теории формальных доказательств, значение лучшего доказательства, не лишает права стороны — доказывать как его фактическую недостоверность, так и отсутствие в деянии сознающегося подсудимого признаков преступления или недостаточность оснований для вменения содеянного подсудимым ему в вину, а суда — постановить о сознавшемся оправдательный приговор. Не только защитник, при наличности сознания, вправе просить об оправдании подсудимого, но и прокурор, несмотря на сознание подсудимого, может воспользоваться предоставленным ему ст. 740 уст. угол. суд. правом отказаться от обвинения, если он признает сознание опровергнутым на судебном следствии или не совмещающим в себе условий, необходимых для уголовного вменения. Само по себе сознание, не возбуждающее сомнений в своей достоверности и за силою ст. 681 уст. угол. суд. устраняющее производство судебного следствия, может почитаться устанавливающим разве только событие преступного деяния и совершение его подсудимым, но отнюдь не вменение ему содеянного в вину. Если бы считать и этот последний вопрос предрешенным сознанием подсудимого, то самое произнесение судом приговора о виновности сводилось бы, в сущности, только к одной формальности, а прения сторон по этому предмету оказались бы совершенно ненужными. Этого последнего и требуют, между прочим, в своих крайних выводах представители так называемой антропологической школы уголовного права, высказывающиеся за устранение прений сторон по делам о подсудимых, принесших полное и несомненное сознание. Но такая мера не принята ни в одном законодательстве, а равно и в нашем уставе уголовного судопроизводства, устраняющем при наличности сознания, не вызывающего сомнения, производство судебного следствия, но не заключительные прения сторон, которые должны иметь место по всем уголовным делам, и притом о подсудимых сознающихся на тех же основаниях, как и о подсудимых несознающихся.
Руководствуясь приведенными общими соображениями в применении их к содержащемуся в кассационных жалобах по настоящему делу указанию на нарушение ст. 611, 612, 745 и 746 уст. угол, суд., обер-прокурор указывает, что нарушение этих статей устава действительно имело место. Как видно из протокола и удостоверенной судом части замечаний на протоколе, председательствующий воспретил сперва защитнику Семенова, помощнику присяжного поверенного Петрову, а затем назначенному взамен удаленного из судебного зала Петрова, вследствие неподчинения распоряжениям председательствующего, присяжному поверенному Елисееву ходатайствовать перед присяжными заседателями об оправдании подсудимого, учинившего сознание. Основанием к такому запрещению председательствующего послужило то обстоятельство, что защита не возбуждала сомнений относительно события преступления и не приводила законных причйн невменения в вину подсудимому содеянного. Кроме того, председательствующий руководствовался еще и тем соображением, что защитник не имеет права давать присяжным заседателям общих разъяснений законов. Все эти основания, которыми руководствовался председательствующий, представляются неправильными. Право защитника просить об оправдании подсудимого сознавшегося отнюдь не ограничивается при неотрицании события преступления одними законными причинами невменяемости. Затем на основании ст. 746 уст. угол, суд., в связи с ст. 803, защита имеет неотъемлемое право в своей речи касаться толкования законов в тех пределах, в которых это оказывается необходимым для интересов защиты. Вместе с тем вообще вмешательство председателя в судебные прения, вне случаев, точно указанных в ст. 611 уст. угол, суд., — а именно когда в прениях приводятся обстоятельства, не имеющие прямого отношения к делу, или допускаются оскорбительные для чьей-либо личности отзывы или же нарушение должного уважения к религии, закону и установленным властям, — представляется, как то и указывал уже правительствующий Сенат в решении 1888 года, № 16, по делу Кетхудова и Махровского, совершенно нежелательным. Оно вносит напрасное смущение, развлекает внимание присяжных, делая их как бы молчаливыми судьями между председателем и стороной, и суживает область действий противной стороны, которая уполномочена возражать на речи своего противника. Стороны, конечно, легко могут допустить в своих речах неправильное изложение обстоятельств дела или неправильное толкование истинного разума закона. Все это предвидел законодатель, возложивший на председательствующего в ст. 802 уст. угол, суд. обязанность восстановить неправильности, допущенные сторонами, в напутственном слове присяжным заседателям. Если же председатель будет применять полномочия, принадлежащие ему по ст. 802, к судебным прениям, в особенности в форме воспрещения защитнику просить оправдательного приговора, как это имело место в настоящем деле, то тем самым, в сущности, будут отменены судебные прения, которым, однако, устав уголовного судопроизводства справедливо придает серьезное значение, и будет восстановлен прежний инквизиционный процесс, не допускавший состязательного начала. Если признать за председателем право воспрещать защитнику просить об оправдании подсудимого, то придется признать за ним и полномочие воспрещать обвинителю отказываться на суде от обвинения, что в равной мере недопустимо. При таких условиях председатель превратится в прежнего инквизиционного судью, совмещавшего в себе обязанности и обвинителя, и защитника. Да и в какое положение будет поставлена защита, если ей впредь будет воспрещено просить об оправдании подсудимого, сознавшегося в совершенном им преступлении? Не будет ли она тем самым вынуждена в своих объяснениях с ним, предшествующих судебному рассмотрению, склонять подсудимого не сознаваться на суде, и не поведет ли подобная практика к тому, что сознание совершенно исчезнет из уголовных дел.
Другой вопрос — о полномочиях присяжных заседателей — И. Г. Щегловитов осветил также очень обстоятельно, затронув те основания, которыми они должны руководствоваться по поводу вменения в вину подсудимому совершенного им преступного деяния. По его мнению, учреждая суд присяжных в России, законодательная власть исходила из соображений о том, что от присяжных судей собственно требуется решение того, изобличается ли подсудимый в преступлении, которое выставлено обвинением и следствием. Если закон требует от обсуждающих фактическую сторону дела только одного полного внутреннего убеждения, не стесняемого никакими формальными доказательствами, то очевидно, что для справедливого решения такого вопроса присяжные, избираемые обыкновенно из той же среды, к которой принадлежит обвиняемый, имеют более средств к оценке факта, чем судьи, чуждые местности или кругу, в коем совершилось преступление. Самое решение вопроса о вине или невиновности подсудимого по внутреннему убеждению предполагает, что каждый судья дает мнение по чистой совести, ничем не стесненной, причем преступления преследуются во имя государственных интересов и изобличенные преступники должны быть наказуемы по законам, утвержденным верховной законодательной властью, а не по произволу судей. Из этого следует, что если присяжные заседатели в оценке фактических обстоятельств дела не связаны законом, а призваны действовать по внутреннему убеждению ничем не стесняемой чистой совести, то в оценке правовой стороны дела они, наравне с коронными судьями, обязаны подчиняться закону. Закономерность есть основное начало деятельности всякого судьи, безразлично к тому — коронный ли он судья или присяжный заседатель. Идея всемогущества французского суда присяжных не имеет решительно никакой почвы в нашем законодательстве.
Но какие же правовые вопросы должны разрешать присяжные заседатели, когда они призваны для обсуждения «фактической стороны дела»? Ответ тот, что задача присяжных иногда усложняется определением в смысле действующих законов свойства или степени умысла подсудимого или обстоятельств, увеличивающих или уменьшающих его вину. В этих случаях присяжным могут быть сделаны председателем суда все надлежащие объяснения о существующих в законе правилах и о практическом их применении. Удостоверение одного голого факта, по справедливому замечанию известного криминалиста Биндинга, то есть такого факта, который не заключает в себе осуществления какого-нибудь правового понятия, не имеет для уголовного судьи ровно никакого значения. Правовая сторона дела, разрешаемая присяжными заседателями, заключается в признании деяния, совершенного подсудимым, преступным и в вменении ему этого деяния в вину. При разрешении правовых вопросов присяжные заседатели, чтобы в точности исполнить требование даваемой ими присяги «не оправдывать виновного и не осуждать невинного», должны подчиняться сообщаемым им председателем велениям закона и в нем одном черпать указания по этому предмету. Самое же применение уголовного закона присяжными заседателями должно быть понимаемо, как и в отношении коронных судей, не в смысле механического применения буквы закона к отдельным случаям, а в смысле применения его сообразно его разуму. Закон бессилен предусмотреть все разнообразие житейских проявлений преступности и неизбежно должен ограничиться одними отвлеченными велениями, которые в отношении установки признаков и оснований виновности в каждом отдельном случае требуют от судьи тщательной оценки для признания, что в данном случае действительно совмещаются все установленные законом условия для уголовной ответственности. В этой области судейской деятельности существует только один предел, заключающийся в том, что судья не должен присваивать себе право прощать лицо, совершившее предусмотренное уголовным законом преступное деяние, при условиях, соответствующих требованиям основных начал этого закона о вменении содеянного в вину.
В решениях уголовного кассационного департамента 1869 года, № 368, по делу Чернилкина правительствующий Сенат признал, что если бы, несмотря на то, что о действительности события или вменяемости подсудимому его деяния никем не было возбуждено сомнения, присяжные все-таки усомнились бы, то в таком случае они могут выразить свое мнение отрицательным ответом на общий вопрос о виновности. В решениях 1870 года за № 354, по делу Субботина и за № 488 по делу Вашенцовой (особенно в последнем решении) было разъяснено, что недоказанность законной причины неизменяемости не исключает возможности невменения подсудимому его деяния по другим основаниям. В решениях же по делам Мельницких и Свиридова 1884 года, № 13 и 14, правительствующий Сенат пояснил, что присяжные заседатели не имеют права не вменять в вину совершение преступного деяния не по причине, в законе указанной, а по своему произволу, причем в решении по делу Линевича 1894 года, № 7, Сенат вменил даже в обязанность председательствующим указывать присяжным заседателям, что при признании ими существования одной из законных причин невменения подсудимому совершенного им преступления они должны при выделении вопроса по этому предмету оставить вопрос о виновности подсудимого без ответа, при отрицании же наличности этих причин они должны ответить на вопрос о виновности, кроме того, председательствующий должен всякий раз напоминать присяжным, что, придя к убеждению в существовании субъективных признаков виновности подсудимого, они, во исполнение возложенных на них законом обязанностей, не имеют права отвечать на вопрос о виновности отрицательно. Подведя итог своим неоднократным разъяснениям о пределах вменения присяжными заседателями в вину подсудимому содеянного им, правительствующий Сенат в решении 1895 года, № 17, по делу Палем подтвердил, что присяжные заседатели при исполнении возложенных на них законом обязанностей не могут выходить за общие пределы деятельности судей как применителей установленной законом кары к нарушителям его велений. Они, подобно коронным судьям, должны подчиняться закону и только фактическую сторону дела обязаны разрешать по внутреннему своему убеждению, основанному согласно ст. 804 уст. угол, суд., на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела. В отношении же невменения в вину подсудимому присяжные, наравне с коронными судьями, не должны быть ограничиваемы одйими причинами, в законе указанными, а должны руководствоваться в этом отношении общим смыслом уголовных законов, которыми причины невменения далеко не исчерпаны. Для деятельности присяжных заседателей с точки зрения ее строгой закономерности представляется в высшей степени важным не столько разъяснение им председательствующим причин невменения, не поддающихся точному учету, сколько преподавание им по каждому делу надлежащего наставления о том, какое значение по смыслу закона имеет то или другое выдвинутое судебным следствием или судебными прениями обстоятельство, могущее служить не к невменению в вину содеянного, а к смягчению наказания, ожидающего подсудимого в случае осуждения его. Такое наставление, в котором указывалась бы граница, отделяющая судейское снисхождение от помилования, было бы полезно для удержания присяжных заседателей от постановления наблюдаемых иногда на практике решений, подсказанных не столько голосом совести, сколько велениями сердца. К тому же и защитникам на суде свойственно иногда сгущать краски при возбуждении ими прямого ходатайства о прощении или такого же ходатайства под видом просьбы о снисхождении к подсудимому, подкрепляемых обыкновенно ссылками на его личные свойства, на житейскую обстановку и прошлое, на его страдания, безвыходность положения, особенный характер совершенного преступления и т. п.
Правительствующий Сенат уже высказывался по этому поводу. Так, например, по делу Грязнова уголовным кассационным департаментом было признано существенным нарушением неразъяснение председательствующим присяжным заседателям, что им следует ответить на поставленный на их разрешение вопрос правдиво, вне всякой зависимости от того, какое значение будет иметь их ответ для наказания виновного. Присяжные заседатели должны помнить, что не на них, а на членов суда закон возложил заботы о строгом соответствии наказания действительной вине осужденного и особым обстоятельствам дела, причем для полного согласования наказания с истинной справедливостью, а не с одним лишь формальным правом закон предоставляет суду и все необходимые средства вплоть до обращения к монаршему милосердию.
В последнем случае относительно обращения к монаршему милосердию необходимо отметить, что в судебной практике бывали случаи, когда сами присяжные заседатели, постановив обвинительный вердикт, обращались к окружным судам с просьбой повергнуть на монаршее благовоззрение ходатайство их об облегчении участи осужденных в размере, выходящем из пределов власти суда. Это обстоятельство побудило министра юстиции предложить председателям окружных судов представлять такие ходатайства в министерство юстиции, для доведения их до высочайшего сведения. Нет никакого сомнения, что такое распоряжение облегчит присяжным заседателям выполнение лежащей на них обязанности — выносить решение о виновности подсудимого вне соображений о том, что ему грозит по закону не соответствующее, по их мнению, наказание.
Далее И. Г. Щегловитов перешел к вопросу о том, как должен говорить председательствующий свое напутственное слово присяжным заседателям перед уходом их в совещательную комнату для постановки вердикта. В решениях уголовного кассационного департамента правительствующего Сената по делу игуменьи Митрофании и по делу Кронштадтского банка было уже разъяснено, что председательствующий должен быть совершенно беспристрастным и что не согласные с этим требованием действия его нисколько не соответствуют тому высокому положению, в которое он поставлен судебными уставами. Вместе с тем кассационная практика твердо держалась того воззрения, что неправильное разъяснение присяжным заседателям влечет за собою отмену их решения. Руководствуясь этими разъяснениями и имея в виду, что, по точному смыслу ст. 802 уст. угол, суд., председатель не должен обнаруживать перед присяжными заседателями своего мнения о виновности или невиновности подсудимого, И. Г. Щегловитов перешел к делу «Россиянина». По этому делу председательствующий на суде заявил присяжным заседателям о том, что если никто не сомневается в составных частях вопроса о виновности, то предлагается один вопрос о виновности или невиновности, и что такая редакция вопроса означает, что нет сомнений в совершении преступления и что лицо, совершившее его, не может быть оставлено без наказания. При этом председательствующий доказал, что если никто не требовал выделения вопроса о вменении, то, значит, вопрос этот считается решенным. В данном случае председательствующий не только в явное нарушение ст. 802 уст. угол. суд. высказал свое мнение по делу, преподав присяжным заседателям решение, какое они, по его ожиданию, должны постановить, но также сделал и неверное разъяснение относительно постановки одного общего вопроса, устраняя, таким образом, присяжных заседателей от выполнения возложенных на них судейских обязанностей.
В общем, во всем этом деле И. Г. Щегловитов нашел существенное нарушение ст. 611, 612, 645, 646, 801–804 уст. угол. суд.
Правительствующий Сенат согласился с доводами обер-прокурора и определил решение присяжных заседателей и приговор санкт-петербургского окружного суда по делу «Россиянина» отменить и передать это дело в тот же суд для нового рассмотрения, при другом составе присутствия.
НЕБЫВАЛОЕ ДЕЛО ОБ АДВОКАТАХ
Зимой 1910 года в санкт-петербургском окружном суде рассматривался редкий, много нашумевший уголовный процесс. На скамье подсудимых на этот раз сидели сами адвокаты, в лице присяжных поверенных Л. А. Базунова и Г. С. Аронсона, к которым было предъявлено серьезное обвинение по 14, 1666, 1681 и 294 ст. улож. о наказ. Все дело возникло из-за оговора известной Ольги Штейн, прославившейся своими эксцентричными, далеко не безупречными проделками. Имея чересчур легкомысленный взгляд на чужую собственность, Ольга Штейн под разными предлогами обирала доверчивых людей, выманила обманным образом десятки тысяч рублей и под конец, когда все ее проделки обнаружились, была привлечена к уголовной ответственности. В качестве своих защитников она пригласила присяжного поверенного Пергамента, Базунова и Аронсона, и слушание ее дела началось 29 ноября 1907 года. Однако на судебном следствии, тянувшемся несколько дней, выяснилось, что против Штейн возникают еще новые обвинения в подлогах и хищениях. Поэтому 3 декабря защитники ее нашли необходимым ходатайствовать перед судом о направлении этого дела к доследованию. Суд тем не менее не согласился с их доводами и решил продолжать рассмотрение дела. Улики против Ольги Штейн были настолько веские, все складывалось так неблагоприятно для нее, что сомневаться в решении присяжных заседателей уже нельзя было. Ее, очевидно, ждал обвинительный вердикт, никакая защита не могла спасти ее, и вместо прежней широкой великосветской жизни ей стала грозить суровая мрачная тюрьма. Штейн не в силах была примириться с ожидавшей ее участью и, воспользовавшись первым удобным случаем, бежала за границу. Разыскать ее удалось уже в Нью-Йорке благодаря перехваченным письмам и телеграммам, и по требованию русских властей она была выдана правительством Соединенных Штатов. Через год после первого рассмотрения ее дела она была снова судима и приговорена к заключению в тюрьму на один год и четыре месяца с лишением всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. Между прочим, на допросе, по возвращении из Америки, она объяснила, что будто бы бежать за границу от суда уговорили ее адвокаты, Пергамент, Базунов и Аронсон, причем в этом деле содействовал также и ее возлюбленный — бывший корабельный инженер Е. Шульц. По словам Штейн, присяжный поверенный Пергамент прямо говорил ей, что «русское правительство не стоит того, чтобы отдаваться ему в руки». Инженер Шульц, со своей стороны, подтвердил оговор Ольги Штейн, и в результате все ее бывшие защитники волей судьбы превратились сами в обвиняемых. Присяжный поверенный Пергамент, высоко ставивший принципы чести, не перенес такого неожиданно разразившегося над ним удара и на другой день после предъявления ему обвинения покончил жизнь самоубийством. Перед судом, таким образом, предстали только Л. А. Базунов и Г. С. Аронсон, а также и Е. Шульц как соучастник в подготовке побега Ольги Штейн. Защитниками с их стороны выступали: присяжный поверенный Казаринов (за Базунова), Бобрищев-Пушкин (за Аронсона) и член Государственной думы Замысловский (за Шульца). Обвинение поддерживал товарищ прокурора Савич.
Заседание суда открылось оглашением данных обвинительного акта, после чего председательствующий сделал обычный опрос обвиняемых. Из них никто не признает себя виновным.
Начинается объяснение Шульца.
По его словам, когда он познакомился с Ольгой Штейн, она имела избранный круг знакомых. В гостях у нее бывал даже бывший обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, заезжали к ней и другие высокопоставленные лица. В общем, она вела широкий образ жизни и ни в чем не отказывала себе, пока, наконец, над ней не стряслась беда. Один за другим к ней стали предъявляться гражданские иски, началось какое-то уголовное дело, и Ольгу Штейн хотели арестовать. Однако благодаря содействию Победоносцева дело ограничилось пока простым домашним арестом. Первоначально Штейн пригласила своим защитником присяжного поверенного Марголина, который выговорил у нее вперед 4 тысячи рублей гонорара. Затем, когда этот адвокат скоропостижно умер за границей, к ней пришел на помощь Г. С. Аронсон и, предложив свои услуги, потребовал в первую очередь, чтобы она еще до суда удовлетворила претензии своих кредиторов. На это ушло свыше 20 тысяч рублей, но после Шульц узнал, что кредиторы получили свои деньги от адвоката далеко не полностью. Желая избегнуть грозившей ей уголовной ответственности, Штейн обратилась за помощью к присяжному поверенному Базунову, известному своей опытностью в юридических тонкостях, а затем пригласила и Пергамента. Оба адвоката также взяли у нее в виде гонорара еще до суда по 3 тысячи рублей и успокоили ее, что она может вполне рассчитывать на оправдание. Шульц уверял, что все три адвоката часто бывали на даче Штейн, распивали у нее дорогое вино и целовали ей руки. После, однако, оптимистическое настроение защитников Штейн резко изменилось, они стали мрачно смотреть на будущее и старались, насколько возможно, затянуть дело своей клиентки.
КАЗАРИНОВ Михаил Григорьевич
Родился в 1866 году в Петербурге. Образование получил в реформатском училище и Санкт-Петербургском университете. На поприще адвокатуры выступил с 1890 года. Из наиболее выдающихся дел, в которых он участвовал, заслуживают внимания процессы: об адвокатах Базунове и Аронсоне (участие в побеге Ольги Штайн), о расхищении наследства купчихи Пискуновой, о дворянке Элеоноре Пиевцевич (вовлечение в невыгодную сделку), о Пустынском (лжесвидетельство). Известен как опытный юрист.
3 декабря 1907 года, когда заседание суда было прервано, Шульц застал свою возлюбленную в комнате совета присяжных поверенных. Она, видимо, была расстроена, плакала и обвиняла своих адвокатов в плохой защите. Встревоженный Пергамент вышел с ней во двор, а Аронсон стал упрашивать ее:
— Милая, голубушка, уезжайте, пожалуйста, и спасайте себя!..
В результате напуганная Штейн решилась последовать этому совету, тем более что Пергамент обещал исходатайствовать для нее высочайшее помилование. Сам Шульц, по его словам, не сочувствовал этому побегу и, когда возлюбленная уехала из Петербурга, с горя познакомился на улице с двумя какими-то девицами и стал кататься с ними на автомобиле.
Совершенно противоположными являются показания вызванных в суд свидетелей.
Помощник присяжного поверенного Гурлянд с очень хорошей стороны отзывается о покойном Пергаменте, аттестует его как доброго, мягкосердечного человека и указывает на то, что Шульц неоднократно вымогал у него деньги под различными предлогами. Нажив своей деятельностью в Государственной думе массу политических врагов, Пергамент считал, что оговор его со стороны Штейн и Шульца был инспирирован для удаления его с политической арены. Он выражал сожаление, что из-за него ни за что ни про что страдают и его сотоварищи по защите.
С своей стороны присяжный поверенный Гольдштейн говорит о той редкой, завидной репутации, какой всегда пользовался обвиняемый Базунов, высоко держащий знамя своей корпорации. В последние годы благодаря его выдающимся качествам он занимал почетный пост товарища председателя совета присяжных поверенных округа санкт-петербургской судебной палаты.
Хорошие отзывы даются также и об Аронсоне, который временами не только ничего не получал с клиентов, но даже и сам давал им деньги, когда видел их бедственное положение.
Зато о самом Шульце один из свидетелей, штабс-капитан Франк, говорит, что «это — флюгер, безалаберный, лгун и без царя в голове». Аттестация более чем не лестная…
Судебно-медицинская экспертиза в отношении Шульца также приходит к неутешительным выводам. Она относит его к типу людей, имеющих неприятный, несносный характер и с трудом терпимых в обществе. Такие люди неуравновешенны, сумасбродны, и жизнь их полна всевозможных противоречий. От них можно ожидать всяких неприятностей, и с ними всегда следует держаться осторожно.
По окончании судебного следствия слово было предоставлено представителю обвинительной власти.
Охарактеризовав Ольгу Штейн героиней бульварной прессы, товарищ прокурора перешел к подробному анализу данного дела, разобрал все улики против подсудимых и признал вменяемое им в вину преступление доказанным. Речь его продолжалась с перерывами около 6 часов. Главным образом он коснулся подсудимых — адвокатов и самой адвокатуры. По его словам, в настоящее время великий дар речи, Божий дар, люди обратили на недостойное правосудия дело — на усыпление чуткой совести судей. Состязательность процесса понята многими адвокатами в том смысле, что на них лежит обязанность оправдать своих клиентов во что бы то ни стало, и только судебные власти считают себя обязанными, в силу закона и традиции, устанавливать на одинаковом основании обстоятельства, изобличающие обвиняемых и их оправдывающие. Между тем, с точки зрения нашего закона, адвокатура есть составная часть судебного ведомства. В присяге, которая приносится каждым присяжным поверенным, совершенно точно указывается, что лицо, принимающее на себя эту почетную обязанность, должно исполнять в точности и по крайнему разумению законы империи. Подсудимые Аронсон и Базунов дали присягу не делать ничего противного законам империи и интересам религии, оказывать уважение суду и, если теперь они изобличены в том, что способствовали подсудимой оказать тяжкое неуважение присяжным заседателям, в противозаконном укрывательстве подсудимой от суда и наказания, то звание присяжного поверенного не освобождает их от ответственности. Обвинитель считает, что подсудимыми совершено не только преступление против закона формального, но и нарушение профессионального долга. Самое прискорбное в настоящем процессе и есть то, что люди, которым вверены интересы правосудия и которые вооружены для этой цели известными правами, эти люди свои права и свои обязанности поняли неверно и пользуются ими не для правосудия, а против него.
— Но как ни искажены практикой начала тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года, мне хочется верить, — закончил товарищ прокурора, — что самый ценный институт судебных уставов — суд присяжных заседателей — окажется и ныне на высоте. Глубоко веря, что, каковы бы ни были стремления искажать доказательства и отвлечь внимание ваше от сути дела, вы все-таки останетесь на той высоте судейского беспристрастия, которую предполагал в вас законодатель, я прошу у вас, господа присяжные заседатели, правосудного приговора.
В защиту Шульца начинает говорить член Государственной думы Замысловский. В пространной речи он указывает на то, что его клиент жил с Ольгой Штейн как с женой. Он горячо любил ее, и неудивительно, что в конце концов был порабощен ею и всецело поддался под ее влияние. Если он и содействовал побегу любимой женщины, отуманенный страстью к ней, то после он, одумавшись, глубоко раскаялся и принес во всем повинную. За все это время он слишком много выстрадал, и присяжные заседатели должны поэтому с участьем отнестись к его судьбе.
Подходит очередь к главным подсудимым — Базунову и Аронсону. Защитник первого, присяжный поверенный Казаринов, начинает свою речь с указания на то, что настоящее дело в юридической практике является небывалым как по сущности обвинения, так и по той обстановке его, какая выяснена судебным следствием. Три адвоката будто бы убедили свою клиентку бежать от суда и наказания. Суд — это храм справедливости, а адвокат — один из жрецов его. Если адвокат действительно убеждает своего клиента обмануть суд, — значит, он изменяет Богу, которому служит.
Какие же соблазны отуманили разум, какие душевные бури смутили сердца обвиняемых, этих старых, испытанных жрецов храма правосудия. Ведь чем необыкновеннее преступление, тем более вески должны быть мотивы для его совершения, чем ближе человек по профессии своей стоит к сфере закона, тем сильнее должен быть толчок, перебрасывающий его к другому полюсу — в область преступления.
Какие мотивы могли руководить адвокатами? О том, чтобы они, подпав под неотразимое влияние и обаяние светлой личности обвиняемого, задались мыслью во что бы то ни стало спасти его от суда, как невинно преследуемого, не может быть и речи. Здесь не было идейного мученика, за которым, как за пророком, могли пойти адвокаты, изменив старому алтарю для алтарей новых. Здесь была женщина, обвинявшаяся в преступлениях корыстного свойства, заслуживающая, быть может, сострадания, но ничуть не в большей мере, чем всякий другой обвиняемый.
Предположение, что несимпатичность дела Ольги Штейн могла побудить адвокатов уговорить ее бежать от суда, несостоятельно, так как такого мотива для адвоката вовсе и быть не могло, в силу той аксиомы адвокатской этики, что всякая защита является задачей высокой и благородной.
Столь же мало серьезным является и указание, что адвокаты не были достаточно подготовлены к защите Ольги Штейн и потому склонили ее к бегству. Опытный французский адвокат хвалился, что для подготовки к любому уголовному делу ему достаточно четырех часов. Пожалуй, этого и мало, чтобы основательно изучить и продумать дело, но, конечно, если для судьи, прослушавшего дело пять дней, достаточно такого времени, чтобы разобраться в деле и решить судьбу обвиняемого, то и для адвоката, опытного и талантливого, как Л. А. Базунов, вполне достаточно тех же пяти дней, чтобы усвоить дело и произнести продуманную защитительную речь. Между тем дело Штейн находилось у присяжных поверенных Аронсона, Базунова и Пергамента не пять дней, а более полугода; по делу этому устраивались неоднократные совещания, и Аронсон был в курсе всех денежных расчетов с потерпевшими, так как сам их производил. Ясно, что о неподготовке адвокатов к делу не может быть и речи, а следовательно, и подобного мотива к удалению клиентки быть не могло.
Может быть, адвокатами руководил страх перед ожидавшимся обвинительным приговором?
Но нет! Как ни скорбит сердце адвоката за участь клиента, эта скорбь — скорбь спокойная, это лишь отраженное страдание клиента, не имеющее ни остроты, ни мучительности непосредственного чувства, испытываемого самим подсудимым. Это не ужас перед грядущим наказанием, не тоска по разбитой жизни, не стыд публичного позора, не весь тот аккорд страданий, мощно и бурно звучащий в душе обвиненного, а только страдание, сочувствие, возбуждаемое созерцанием чужого горя. И в тяжкие минуты отчаяния обвиненного клиента адвокат является его лучшим утешителем, он успокаивает его, как врач пациента, которому предстоит операция, и представляет ему всю беспочвенность его отчаяния. И если клиент хочет бежать от наказания, как робкий больной от операции, адвокат представит ему доводы всей безрассудности бегства, не только с моральной, но и с чисто практической стороны, он убеждает, что свобода, которой клиент так жаждет, только мираж, что если раньше он эту свободу не ценил и даже не чувствовал, то впредь эта свобода изгнанника, свобода прятаться, скрываться и голодать будет для него хуже всякой срочной кары, налагаемой уголовным законом. Сотней доводов успокоит адвокат своего клиента, рассеет преувеличенные страхи, ободрит, вдохнет мужество на перенесение страданий, докажет, что эти неведомые страдания страшны и грозны только издали и что тысячи людей шли на них и затем возвращались воскресшие духом, обновленные, примиренные с людьми и своей совестью.
Нельзя также подозревать в этом и материального расчета. Бегство Ольги Штейн за границу не только не приносило выгоды адвокатам, но, напротив, влекло за собой явный ущерб для их интересов.
— Я пытался, господа присяжные заседатели, найти хоть какой-либо мотив, который мог побудить, — продолжал М. Г. Казаринов, — адвокатов склонить Ольгу
Штейн к бегству, но не нахожу. А между тем чтобы подвигнуть трех человек на поступок недобросовестный, дерзкий, преступный, необходимы сильные душевные движения. Нужен ураган, чтобы сбить с пути, опрокинуть целую флотилию, хорошо оснащенную и приспособленную для плавания по бурным волнам житейского моря, снабженную для устойчивости грузным балластом всесторонних знаний и долголетнего опыта жизни.
Что, спрошу я, могло заставить Базунова изменить всем своим взглядам, всем принципам своей двадцатипятилетней деятельности? Или, быть может, долг, совесть, любовь к делу, вера в свой труд, уважение к закону, к правде, к суду, к себе — все это одни пустые слова, осыпающиеся, как осенний лист, при первом дуновении неуловимых, никому не понятных настроений?
И куда же исчез у Базунова, у Пергамента, этих, по мнению господина обвинителя, глубоких знатоков души человеческой, простой здравый смысл? Как не сообразили они, что если бегство от суда вообще средство мало осмысленное, то для Ольги Штейн бегство было затеей уже совершенно безрассудной, так как она всем существом своим привыкла к свету, блеску, шумным похождениям, к игре на быстринах и водоворотах жизни, у самых острых подводных камней? Как не поняли они, что на скромное, бесшумное прозябание где-нибудь в глуши, в укромном углу, Ольга Штейн органически не способна и что поимка ее в самом скором времени явится неизбежной?
Но у кого же могла зародиться мысль о побеге? Конечно, у самой Ольги Штейн. Она, бесспорно, догадывалась, какое наказание ждет ее. Из ее переписки видно, как мучительно рвалась она на свободу еще тогда, когда на время следствия ее препроводили в дом предварительного заключения.
«Свободу, только свободу выхлопочи мне, — пишет она Шульцу, — об остальном не заботься, остальное все само придет». Она была выпущена, вернулась вновь к блеску и свету, к радостям свободной жизни и наслаждалась, отдаляя всеми способами тяготевший над нею судебный процесс. Но дни ответа настали, заседание, тянувшееся несколько дней, выяснило шансы «за» и «против», положение было угрожающее, к ней опять подступало и грозило забрать в свои каменные объятья тюремное заключение — ив душе поднялись смятение и буря. Ум, всю жизнь изворачивавшийся, искал выхода, и искал недолго. Вся жизнь ее была и раньше сплошным метанием, сплошным бегством от долгов, от кредиторов, от судебных приставов, от власти, от закона. И теперь выход для нее был прост и легок, ее гостеприимно манила к себе синеющая даль необъятного, играющего светом и соблазном мира, манила и звала неудержимо. А что могло ее сдержать? Моральные принципы, сознание своей вины, потребность искупить вину, успокоить наболевшую совесть? Увы, такого сознания, такой потребности у нее не было; напротив, она считала себя несчастной жертвой ростовщиков, обстоятельств, окружающей среды, своего легкомыслия, своей доброты и черной людской неблагодарности. В этом она была убеждена бесповоротно и — кто знает? — быть может, в известной мере была права. Эта уверенность в невинности вылилась у ней в ряде писем к Пергаменту и Шульцу. «Все здесь (пишет она из Америки) того же мнения, что я жертва моего легкомыслия, что судить надо не меня, а тех, кто довел меня до такого положения…»; «Я чиста»; «Я всем желала добра, всю жизнь делала только добро»; «Судьи — палачи, не желающие выслушать оправданий». Вот убеждения, высказываемые Ольгой Штейн чуть не на каждой странице ее писем.
Был и еще мотив для побега Штейн, — мотив наиболее важный. Эта — та безумная любовь к Шульцу, которая охватила сердце стареющей львицы. «Для него, — пишет она в письме из Нью-Йорка, — я всем пожертвовала, из-за него я потеряла ребенка, которого обожаю, потеряла человека, который обладал миллионами и хотел на мне жениться». Каких же жертв еще можно требовать от женщины в доказательство ее любви? На суде читались письма Ольги Штейн к Шульцу из одиночной кельи предварительного заключения, — эти письма сплошной стон исходящего тоскою, любящего сердца, клокотание страсти, доходящей до бреда. Читались ее письма из Америки, — это тот же несущийся через океан крик страстной любви, вечный, неумолкаемый призыв к Шульцу, чтобы он спешил к ней для любви, для счастья, для совместной жизни, для совместной смерти. В жизни Штейн эта любовь к Шульцу становится доминирующей идеей, основной темой, назойливой, неотвязчивой, мучительной и властной, как вагнеровский лейтмотив.
Эта любовь и является главным мотивом бегства. Что предстояло Ольге Штейн в случае обвинения? Заключение, быть может долголетнее, арестантский халат, забранное решеткой оконце, щелканье дверного замка… Ведь это — смерть иллюзий, смерть любви, смерть всему, чем живет женское сердце!
И от этого призрака смерти она бежала, бежала, уговорившись с Шульцем, что он последует вскоре за нею. Но сердце ее не могло вытерпеть ожидания, и, переезжая границу, она нервно шлет Пергаменту телеграмму за телеграммой: «Умоляю, пришлите мальчика», «Когда же приедет мальчик…», «Умоляю, телеграфируйте, иначе вернусь обратно». Так, забывая о себе, она легкомысленно рассыпает на каждой телеграфной станции неизгладимые следы своего маршрута. Но «мальчик» не едет… Она тщетно умоляет его в ряде писем, напоминает ему: «Ведь я только и уехала в надежде, что буду с тобой…», «Ты помнишь, ты сказал, что умрешь со мною вместе», а далее: «Помнишь, я подумала, лучше временная разлука, чем отдаться в руки палачам…», «Приезжай, все будет по-твоему и деньги всегда будут, я все сделаю, что нужно…», «Приезжай, без тебя мне не надо свободы!».
Мечтам О. Г. Штейн не суждено было сбыться. Переписка с Шульцем, обнаруженная властями, выдала ее местопребывание. Она была возвращена в Россию и осуждена. Правосудие совершилось.
Защитник касается затем памяти Пергамента, для которого дело Штейн оказалось поистине роковым. Покой, звание адвоката, звание члена Государственной думы, репутация — все оказалось в опасности в этом зловещем деле. И он не выдержал и, минуя суд земной, ушел на тот верховный трибунал, где все дадут ответ в своих прегрешениях, вольных и невольных.
Относительно Базунова защитник говорит, что если бы он и видел, что его клиентка готовится сбежать от суда, он все-таки ничего не мог поделать против этого. Положение его, как защитника обвиняемой, обязывало его к молчанию. Горе адвокату, выдающему тайны своих клиентов! И закон, и совесть запрещают ему это. Как врач, как духовник, он должен свято хранить услышанные тайны. И эта обязанность молчать не может быть нарушена, хотя бы молчание способствовало безнаказанности, торжеству преступления, пользованию его плодами. Убийца, поведавший адвокату или священнику, что он действительно убил, указавший, где зарыт труп, где спрятаны ограбленные деньги, может спокойно жить и пользоваться плодами преступления, зная, что ни адвокат, ни священник не явятся его обличителями.
Скажут, это зло. Пусть так, но это зло, этот вред лишь ничтожная капля перед тем морем зла, которое хлынуло бы на человечество, если отнять у него веру в тайну исповеди, в тайну врачебную, адвокатскую. Сделать это значило бы обречь человека на вечное ношение в себе нераскрытых гнойников духовных недугов, это значило бы превратить церковь в западню и подорвать к служителям ее присущее их званию доверие. Адвокат нужен гражданам для закономерной защиты их имуществ, чести, свободы и жизни. Закон и государство утверждают его в этом звании, скромном и вместе с тем высоком, по назначению. И чтобы он мог достойно выполнить свою задачу, ему необходимо безграничное доверие клиента, а доверие не может быть там, где нет уверенности в сохранении тайны. Без нее немыслима самая профессия.
Многим нападкам подвергается адвокатура, и многие из них, быть может, справедливы, ибо чем выше что-либо по своей идее, по основному назначению, тем большей порче и извращениям подвергается оно в руках человеческих.
Все подвержено уклонению от нормы, болезням, но важно, чтобы не поражался самый жизненный нерв организма.
Адвокатов упрекают, что они растрачивают деньги клиента, это грустно, это, конечно, пятнит сословие, но нарушение тайны, доверенной клиентом, явилось бы посягательством на те реликвии, во имя которых самый храм заложен.
Всякая корпорация несет на себе не только одни пороки прошлого, но и его достоинства. Наследуют не одни долги, но и накопленные веками ценности. За адвокатурой также великое, почетное прошлое. Во все времена, у всех культурных народов адвокатуре и суду был вверен священный кивот права и свободы.
— Господа присяжные заседатели, — закончил свою речь присяжный поверенный Казаринов, — мне не приходится доказывать, что за мною чистый человек. Все, что проходило здесь, на суде, с уважением говорило о незапятнанности и выдающихся достоинствах Л. А. Базунова. Грустно думать, что на склоне лет судьба бросила его на скамью подсудимых. Странная судьба! Всю свою жизнь, все силы ума, знаний и таланта посвятил человек для служения обществу, — и теперь здесь, в уголовном суде, обществу предлагают свести с ним счеты!., я не сомневаюсь, вы сумеете воздать ему по заслугам.
Остается еще одна речь — за защитником Г. С. Аронсона.
— Не к ответу мы пришли сюда, — начал присяжный поверенный Бобрищев-Пушкин, — мы пришли привлечь наших обвинителей к ответу. Мы не дети, и сущность этого процесса нам очень хорошо понятна. Существует свободное сословие. Уже давно обладает оно всем, чем недавно, на такой короткий срок, стали было пользоваться русские обыватели. Есть у него право союзов, право собраний; было до последнего времени и право свободного голоса. Заря русской гражданственности не застигла его врасплох. Когда схлынули высоко поднявшиеся волны, оно сохранило свои позиции. Когда обывателя берут за горло, гражданин адвокат оказывает ему помощь… (Председательствующий останавливает защитника.) Господин прокурор говорил, что у нас в России куда лучше, чем за границей, что там — капиталистический строй, что личность там нуль. Не знаю. Переедет границу русский присяжный поверенный, придет в суд, подаст свою карточку, скажет: «Я присяжный поверенный» — и его проведут с почетом на первые места. Вернется сюда, скажет: «Я :— присяжный поверенный» — и его тоже проведут на самое первое место — на скамью подсудимых. Что ж, нет худа без добра. На скамье подсудимых — русские граждане. Посмотрим, как они будут защищаться.
Их защита будет достойною. Лучшим средствбм привлечь к ответу обвинение будет дать на него спокойный ответ, доказать всю его юридическую и фактическую несостоятельность. Тогда будет ясно, для чего оно создалось.
Попутно присяжный поверенный Бобрищев-Пушкин касается формулировки обвинения и указывает на то, что представитель обвинительной власти всячески старался очернить адвокатуру, но все усилия его остались тщетными.
Относительно Аронсона защитник уверен, что он ничем позорным не запятнал свое имя и с поднятой головой вернется опять к ожидающей его товарищеской корпорации. Что же касается Пергамента, то защита остается при особом мнении. Внезапная смерть Пергамента — это вовсе не улика, и многое после нее осталось совершенно не выясненным. За свою излишнюю доверчивость, за свое участие к судьбе Штейн он слишком дорого заплатил — и блестящей, многообещавшей карьерой, и целой своей жизнью.
Разбирая улики против Аронсона, защитник подробно анализирует их и говорит, что даже молчание адвоката в подобном случае не может быть поставлено ему в вину. Если бы адвокат, узнав о побеге своего клиента, донес об этом, такого адвоката в 24 часа выгнали бы из сословия.
О самом Шульце защитник самого невысокого мнения. По его словам, это изолгавшийся, беспринципный человек, который всю жизнь провел в том, что ложно обвинял всех и каждого. В настоящем деле прокуратура воспользовалась его услугами — ив результате получился сенсационный процесс с адвокатами в роли обвиняемых.
Докладывая, что Ольга Штейн могла бежать только с ведома ее защитников, представитель обвинительной власти утверждал, что без их подстрекательства не мог бы произойти такой всероссийский скандал.
— Всероссийские скандалы бывают разные, — говорит защитник, — я не знаю таких, которые были б по подстрекательству адвокатов, но нам знакомы многие, где адвокаты являются потерпевшими. По-видимому, таким образом хотят на них воздействовать, добиться, чтобы свободное сословие перестало мешать, хотят, чтобы оно склонилось. Напрасный труд. Это Шульц пошел навстречу всем желаниям, — стал доносчиком, на что не пошли адвокаты. А адвокаты никогда не станут ничьими сотрудниками…
Господин прокурор просил здесь, на суде, правосудного приговора. Разные бывают взгляды на правосудие. Когда сыновей Виктора Гюго осудили французские присяжные заседатели за статью против смертной казни, то тоже думали, что служат правосудию, а Виктор Гюго написал о них: «Это правосудие исходит от этих судей, как змея из гробов!» Я уверен, что в этом деле наш взгляд на правосудие больше подходит к вашему, чем взгляд господина прокурора. Недаром он, обращаясь к вам, представителям общества, с таким раздражением говорил об общественном мнении…
Я кончаю. Пусть простят мне дорогие товарищи, если я не оправдал их ожиданий, если силы мои были подавлены громадной ответственностью непосильной задачи, — непосильной, конечно, не в смысле отсутствующих улик, а потому, что надо было от всего сословия дать заслуженный отпор, выразить переполняющее всех негодование. Я закончу теми же словами, которыми начал мой товарищ по защите, чтобы вся она была одним стройным ударом в лицо обвинению. Здесь, в этом деле, обнаружились такие вещи, которые не могут быть предметом ничьей защитительной речи, перед которыми бледнеет все, что вменялось подсудимым в вину. Потому-то так и кипела здесь бессильная злоба. И когда я слышу горькие жалобы на поддержку, которую общество никогда не перестанет оказывать свободному сословию, когда я слышу сомнение в существовании честной печати, то я отвечу врагам сословия, кто бы они ни были: «Адвокатура будет стоять свободная и гордая, когда от вас не будет и следа!»
БОБРИЩЕВ-ПУШКИН Александр Владимирович
Родился в 1875 году. Образование получил в Императорском училище. правоведения и в 1896 году начал службу по судебному ведомству. В составе адвокатуры числится с 1898 года. Первым громким процессом, в котором ему пришлось с успехом выступить, было дело Анны Коноваловой. Затем он фигурировал в процессах супругов Скала (поджог), Сорокина (покушение на убийство), Сибулля-Талуне (подделка кредитных билетов), Муса (женоубийство).
Товарищ прокурора Савич делает возражение на речи защитников, после чего предоставляется последнее слово подсудимым.
— Все, что я показывал на суде, — чистейшая правда, — говорил Шульц. — В моем поступке я не вижу ничего позорного, но меня все время грязнили здесь… Если я и провожал Ольгу Григорьевну на вокзал, то ведь я же любил ее… Я считал своей обязанностью помочь ей…
— Мое последнее слово! Какая горькая ирония! — с своей стороны говорит второй подсудимый, Л. А. Базунов. — Нет! Это не последнее слово… В этом самом зале я работал двадцать семь лет и видел только одни симпатии к себе. Даст Бог, надо надеяться, я еще не раз буду выступать в этом зале…
— За семнадцать лет моей деятельности я провел массу дел в этом самом зале, и, когда товарища прокурора Савича еще никто не знал, я выступал уже здесь по большим процессам… Теперь же со стороны обвинения меня облили грязью… Мы, опытные адвокаты, не новички, но после этого процесса должны прийти к заключению, что мы все-таки не знали самого главного: нет там равноправия сторон, где над тобой глумятся, а от тебя требуют спокойствия… — произносит, волнуясь, присяжный поверенный Аронсон.
Председательствующий останавливает Г. С. Аронсона, но последний указывает еще на предательство Штейн и Шульца и в заключение обращается к присяжным заседателям с надеждой, что они по достоинству оценят предоставленное на их рассмотрение дело.
После резюме председательствующего С. В. Кудрина присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату.
Наступает томительное, долгое выжидание. Проходит два часа.
Звонок.
— Суд идет… Прошу встать! — слышится возглас судебного пристава.
Старшина присяжных заседателей начинает читать вынесенный вердикт.
Присяжные поверенные Базунов и Аронсон оправданы. Шульц признан виновным, но действовавшим в состоянии умоисступления и потому не подлежащим наказанию.
Оправданных адвокатов встречают восторженные, небывалые овации многочисленной публики.
Заседание суда окончено.
РОМАН КРЕПОСТНОГО ПРАВА
Шестьдесят лет тому назад помещик Новгородской губернии дворянин Матвей Андреевич Ефимьев женился в Петербурге на дочери статского советника В. К. Гетц и поселился с ней в своем имении, в селе Долоцком, Устюжинского уезда. Брак оказался не из счастливых. Детей у них не было. Сам же Ефимьев любил кутнуть и вскоре после свадьбы обзавелся любовницей. В 1857 году ему пришлось однажды навестить своего соседа, помещика Караулова, и, гостя у него, он сильно заинтересовался крестьянской девушкой Екатериной Дмецовой, жавшей на поле рожь. Не долго думая, Ефимьев позвал ее к себе в комнату, обласкал и сделал несколько ценных подарков. Девушка начала вскоре щеголять в новых платьях, все заговорили о том, что она стала любовницей помещика, и, чтобы прекратить эти слухи, старшая сестра Екатерины насильно выдала ее замуж за мещанина Полунина. Однако Екатерина недолго прожила с нелюбимым мужем и месяца через три ушла от него на отдельную квартиру, нанятую для нее Ефимьевым. Не стесняясь жены, помещик открыто начал жить с Екатериной, которая в ночь на 2 июля 1858 года родила от этой связи сына. Так как муж ее знал об отношениях помещика с Екатериной, то он решительно отказался признать этого ребенка своим. Поэтому новорожденного объявили подкидышем и, окрестив его, назвали Павлом, причем крестным отцом ребенка был помещик Караулов. Подкидыш-ребенок около двух месяцев оставался в доме матери Екатерины, а затем Ефимьев назначил к нему нянькой свою крепостную Февронью Барсукову, сказав ей: «Иди нянчить моего ребенка», и перевел их обоих в квартиру Екатерины. После, когда в городе Устюжне помещиком был выстроен большой дом, он поселился в нем вместе с Екатериной, ее ребенком и с другой своей любовницей Елизаветой Проскуряковой. В шестилетнем возрасте сын Екатерины, которому была присвоена фамилия Дмецова, был привезен помещиком в Петербург и остался здесь в семье его жены. Первоначально жена Ефимьева была недовольна этим, но ласковый характер ребенка, его поразительное сходство с мужем и потребность любить кого-нибудь сделали то, что она страстно привязалась к мальчику, полюбила его, как родного сына, и отдала в приготовительный пансион Бидер. Из пансиона Павел Дмецов был переведен в училище при лютеранской церкви Св. Петра и, наконец, поступил учиться во вторую гимназию. Мать его, с разрешения помещика, несколько раз приезжала из Устюжны навещать сына, да и сама госпожа Ефимьева старалась поддерживать в нем любовь к его настоящей матери-крестьянке. Заботясь о будущности мальчика, супруги Ефимьевы решили усыновить его и обратились на высочайшее имя с двумя прошениями об этом. Им, однако, было отказано. В то же время оказалось, что классическое образование было не по силам Павлу Дмецову, и помещик, взяв его из гимназии, стал приучать к торговым делам, а в 1876 году Павел вступил на военную службу, на правах вольноопределяющегося, в лейб-гвардии егерский полк. Год спустя Ефимьев скончался в Устюжне, выписав к себе перед смертью из Петербурга свою жену и незаконного сына. На основании духовного завещания все огромное состояние его в сумме до 300 000 рублей перешло в исключительную собственность Павла Дмецова, который был назван в завещании воспитанником. Став неожиданно богачом, Дмецов оставил военную службу и вместе со вдовой своего отца поселился в Устюжне. Госпожа Ефимьева и после смерти мужа продолжала горячо любить его незаконного сына и с своей стороны сделала завещание, которым отказывала в пользу Дмецова все, что у нее было. В 1878 году к госпоже Ефимьевой приехала погостить ее старая приятельница Нейлисова, и Павел Дмецов повел их обеих на местное кладбище поклониться могиле Ефимьева. Когда они проходили мимо одной могилы, молодой человек остановил дам и с грустью сказал им, что в этой могиле нашла себе вечный покой его мать-крестьянка. Через шесть лет после этого в Петербурге умерла вдова генерал-майора А. Н. Бибикова, родная сестра покойного Ефимьева, и оставила состояние в 100 000 рублей.
Определением санкт-петербургского окружного суда в правах на это наследство были утверждены ее дальние родственники, тайный советник П. Митусов и коллежский советник С. Митусов. Между тем прямым наследником генеральши Бибиковой являлся сам Павел Дмецов как ее родной племянник. В то время, однако, ни он, ни его вторая мать не поинтересовались наследством, перешедшим к дальней родне, и только через шесть лет они вспомнили о нем. Оказалось, за это время материальные обстоятельства Дмецова сильно изменились к худшему. Благодаря широкой жизни он успел бесследно спустить не только состояние покойного Ефимьева, но и приданое своей жены, урожденной дворянки Сукиной, и стал, наконец, заметно стесняться в средствах.
В 1891 году был опубликован новый закон об узаконении детей, прижитых супругами до брака. Дмецов решил воспользоваться удобным случаем и уговорил госпожу Ефимьеву объявить его своим собственным сыном, прижитым будто бы ею с покойным мужем. Убежденная его доводами, она подала в новгородскую духовную консисторию заявление, в котором объяснила, что мещанин Павел Дмецов, записанный в метрике подкидышем, на самом деле есть ее законный сын.
Основанием к сокрытию действительного происхождения его, по словам госпожи Ефимьевой, будто бы послужила ранее беспричинная ревность к ней со стороны мужа. Боясь за ребенка, она поручила своим крепостным подкинуть его к избе Дмецовой, где он и находился некоторое время на воспитании. После, однако, муж узнал о его рождении, взял ребенка к себе в дом и никогда уже не расставался с ним, признавая его своим законным сыном. Сославшись на некоторых свидетелей, госпожа Ефимьева просила консисторию об исправлении метрики Павла Дмецова.
Необходимое дознание по этому поводу было возложено консисторией на устюжинского благочинного, протоиерея М. Сахарова, и последний в 1893 году под присягой допросил указанных госпожой Ефимьевой свидетелей, в том числе Федосью Закатову и А. Сретенского. Большинство свидетелей удостоверили, что супруги Ефимьевы считали Дмецова своим родным сыном, а жена его крестного отца объяснила, что умерший муж ее, помещик Караулов, однажды по секрету говорил ей, что история с подкидыванием ребенка была простой комедией, так как Дмецов действительно был рожден госпожой Ефимьевой. Федосья Закатова, в свою очередь, поклялась, что Павел Дмецов был законным сыном госпожи Ефимьевой и что его будто бы нарочно, для отвода глаз, подкидывали к избе Дмецовой.
При рождении Павла, по ее словам, всей прислуге Ефимьевых, в настоящее время уже умершей, было запрещено называть его сыном госпожи Ефимьевой, и только после он стал жить у своих родителей на правах сына. Тем не менее консистория признала все эти показания недостаточными и оставила ходатайство госпожи Ефимьевой без последствий. Решение консистории не застало уже в живых госпожи Ефимьевой, но смерть ее не остановила домогательств Павла Дмецова, и 9 августа 1893 года он обратился к архиепископу новгородскому и старорусскому Феогносту с просьбой о пересмотре его дела. Согласно резолюции высокопреосвященного, новгородская консистория предложила Дмецову указать таких лиц, которые удостоверили бы под присягой, что они были свидетелями беременности госпожи Ефимьевой в 1858 году и рождения от нее его, Павла Дмецова. Тогда Дмецов указал на коллежского секретаря А. Веретьевского, и последний подтвердил, что Дмецов действительно есть законный сын Ефимьевых. На вопрос, почему же мать решилась подкинуть в чужую семью своего сына, А. Веретьевский объяснил, что при рождении этого ребенка между супругами Ефимьевыми существовала временная ссора. Одновременно с этим Павел Дмецов обнаружил и действительную цель своих домогательств о признании его законным сыном Ефимьевых. «Почти десять лет тому назад, — писал он 20 февраля 1894 года высокопреосвященному Феогносту, — умерла моя родная тетка. В первых числах марта настоящего года исполняется десять лет, и если я к этому времени не успею предъявить свои права в санкт-петербургский окружной суд, то имение ее поступит в казну, за неимением наследников». Все-таки и на этот раз духовная консистория нашла, что возбуждение данного дела уже после смерти дворянина Ефимьева и ближайших свидетелей порождает немалое сомнение относительно происхождения Павла Дмецова от Ефимьевых, и отказала ему по-прежнему в исправлении метрической записи.
В то время как Дмецов хлопотал перед консисторией, с целью объявить себя племянником умершей генеральши Бибиковой, к ее наследникам П. и С. Митусовым был предъявлен иск о возврате полученного ими наследства. Оказалось, нашлись еще новые наследники в лице тайного советника Д. Корсакова, полковника В. Корсакова и дворянина Корсакова, которые приходились более близкими родственниками покойной генеральше, чем Митусовы. Зная, в каком положении находится дело об этом спорном наследстве, Павел Дмецов, не смущаясь вторичным отказом консистории, обратился в санкт-петербургский окружной суд с особым заявлением. Утверждая, что он — законный сын дворян Ефимьевых и, следовательно, родной племянник покойной Бибиковой, Дмецов просил окружной суд приостановить дело о правах на ее наследство впредь до окончательного решения духовного суда о его происхождении, а также о допущении его в это исковое дело в качестве третьего лица и о признании за ним исключительного права на наследство. Дмецова и здесь постигла неудача. Корсаковы и Митусовы вступили между собой в мировую сделку, и санкт-петербургский суд, прекратив возбужденное по их иску дело, вместе с тем отказал Павлу Дмецову в его просьбе. Не останавливаясь перед этим, Дмецов принес жалобу в 1-й департамент санкт-петербургской судебной палаты, но жалоба его была оставлена без последствий. Дмецов обратился с жалобой в правительствующий Сенат, и тот, отменив определение судебной палаты, передал дело во 2-й департамент той же палаты. 31 марта 1897 года судебная палата, в свою очередь, отменила решение санкт-петербургского окружного суда и предписала ему дать законный ход исковому прошению Павла Дмецова. В том же году, 17 мая, Дмецов обратился в VII отделение санкт-петербургского окружного суда с прошением о признании законности его рождения и об исправлении метрической записи. Повторяя известные уже причины, почему он долгое время числился подкидышем, Дмецов просил окружной суд допросить под присягой нескольких свидетелей, знавших о его происхождении. Окружной суд уважил эту просьбу и 10 октября 1897 года после привода к присяге допросил выставленных Дмецовым свидетелей Шарухина, Барсукову, Денисову, Сретенского, Веретьевского и Укладникова, которые дали благоприятные для Дмецова показания, доказывавшие несомненное происхождение его от госпожи Ефимьевой. Ввиду этого окружной суд определил признать мещанина Павла Дмецова законным сыном дворян Ефимьевых, а 17 декабря он уже выхлопотал исправленную метрику и представил ее в IV отделение суда, где находилось в производстве дело о признании за ним прав на наследство после генеральши Бибиковой.
Тогда П. и С. Митусовы, видя, что дело повернулось в неблагоприятную для них сторону, предъявили к Дмецову-Ефимьеву встречный иск о признании его незаконнорожденным. Окружной суд, однако, постановил решение в пользу Дмецова-Ефимьева и обязал Митусовых возвратить ему все полученное ими по наследству имущество госпожи Бибиковой. В результате 7 января 1900 года С. Митусов вошел к прокурору санкт-петербургской судебной палаты с заявлением, что решение окружного суда, признавшего Дмецова законным сыном дворян Ефимьевых, было основано на ложных свидетельских показаниях. Ввиду этого приступили к производству предварительного следствия, которым и удалось обнаружить, что Павел Дмецов на самом деле происходил от незаконной связи помещика Ефимьева с крестьянкой Екатериной Дмецовой, по мужу Полуниной. Вместе с тем выяснилась и ложность свидетельских показаний, данных в суде о происхождении Дмецова. На основании этого Павел Дмецов был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в присвоении себе не принадлежащих ему прав состояния и в подстрекательстве посторонних лиц к даче ложного под присягой показания, а оставшиеся в живых Барсукова, Денисова, Сретенский и Веретьевский — по обвинению в лжесвидетельствовании.
Дмецов не признал себя виновным и настаивал на том, что он действительно законный сын дворян Ефимьевых. По его словам, сама госпожа Ефимьева говорила ему об этом, и он вполне искренно считал ее своей родной матерью, тем более что и помещик Ефимьев никогда не разубеждал его в этом и оставил даже ему все свое состояние.
Из остальных обвиняемых сознались только Денисова и Барсукова. Первая объяснила на допросе, что, не зная о действительном происхождении Дмецова, она ложно удостоверяла рождение его от госпожи Ефимьевой только потому, что и другие свидетели точно так же говорили на суде. Барсукова же сказала, что она хорошо знает о рождении Дмецова крестьянкой Екатериной, хотя тем не менее на суде, по настойчивой просьбе его, она дала совершенно ложное показание. По словам этой свидетельницы, Павел Дмецов обещал со временем хорошо отблагодарить ее за содействие и успокаивал словами: «Не бойся, — если что и выйдет, я отвечу сам».
Что касается Веретьевского и Сретенского, то они решительно отрицали свою виновность. Первый из них объяснил, что он действительно считал Дмецова законным сыном дворян Ефимьевых, хотя и не присутствовал при его рождении. В таком же смысле он дал показание и под присягой, а если что прибавил в пользу Дмецова, то, вероятно, по забывчивости. Другой обвиняемый оправдывался тем, что он показал под присягой лишь происхождение Дмецова от помещика Ефимьева, но кто была его мать — он не говорил, так как и сам не знал этого.
Помимо того, на предварительном следствии выяснилось, что и Федосья Закатова, при производстве духовной консисторией дознания в 1893 году, также давала ложное показание о происхождении Дмецова от госпожи Ефимьевой. После она призналась, что дать такое показание упросила ее покойная Ефимьева, с которой она прожила вместе 35 лет. Когда она заметила: «Да ведь всем известно, что Дмецов не ваш сын», — Ефимьева возразила на это: «Он мой сын; никто не стоял у моих ног, когда я рожала его». Уважая ее, Федосья Закатова решилась на ложное показание, хотя и знала об истинном происхождении Дмецова.
Дело это рассматривалось в марте 1902 года санкт-петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Зиберт. Защищали подсудимых присяжный поверенный Андреевский, помощник присяжного поверенного Гольдштейн, присяжный поверенный Базунов. Интересы Митусовых, возбудивших настоящее дело, поддерживали присяжные поверенные Аронсон и Слиозберг.
Из обвиняемых самый молодой — П. Дмецов, 43 лет, характерный тип помещика «доброго старого времени», преждевременно оплешивевший. Денисова и Барсукова — старушки 60–65 лет, хорошо еще помнящие суровое крепостное право. А. С. Веретьевский и А. Д. Сретенский представляют собой двух почтенных старцев 65–75 лет, патриархальной наружности, с длинными седыми бородами.
На суде никто из обвиняемых не признавал себя виновным.
— Я действительно законный сын покойного дворянина Ефимьева, — утверждал главный подсудимый.
— Нет, не виноваты… Чистую правду показывали, — настаивали остальные подсудимые, обвинявшиеся в лжесвидетельстве.
Публика в зал суда допускалась только по билетам.
В числе свидетелей вызван был также товарищ министра финансов В. Н. Коковцев.
Следствие открылось опросом господина Мамонтова, женатого на двоюродной племяннице покойного помещика Ефимьева. Свидетель сказал, что у госпожи
В. К. Ефимьевой, которую Дмецов выдает за свою родную мать, никогда не было детей. Она была больная женщина и жила отдельно от своего распутного мужа, который обзавелся целым гаремом. Дмецова свидетель знал еще мальчиком и редко видел его у Ефимьевых. Все считали его за незаконного сына помещика, но после смерти последнего он стал вдруг полным хозяином в его доме. Ходили слухи, что Дмецов уговорил после госпожу Ефимьеву ходатайствовать о признании его законным сыном. Однако он потом плохо обращался с ней, и ослепшую в последние соды вдову Ефимьеву преданная ей прислуга похоронила чуть ли не на свои скудные средства.
Мировой судья Н. А. Окунев также рассказал, что никто не сомневался в действительном происхождении Павла Дмецова. Он был незаконным сыном крестьянки Екатерины, по мужу Полуниной, и самого Ефимьева. Но его тем не менее любили и помещик, и его больная, бездетная жена.
Из прочитанного показания княгини Святополк-Мирской обнаруживается, что покойная В. К. Ефимьева в минуту раздражения говорила как-то, указывая на мальчика Дмецова: «Из хама не будет пана». Она же заставляла его иногда писать письма своей матери, бывшей крестьянке Екатерине Полуниной.
На суде читается, между прочим, показание неявившейся свидетельницы А. Н. Мамонтовой. Она приходится покойному помещику Ефимьеву двоюродной племянницей и, при посещении его семьи в 60-х годах прошлого столетия, замечала иногда небольшого, скромного мальчика. По-видимому, он не был близким членом семьи, и сама госпожа Ефимьева говорила про него, что он — только крестник мужа. Мальчик никогда не называл ее «мамашей», проводил время обыкновенно где-то в дальних комнатах и не садился за стол вместе с Ефимьевыми. Когда он жил уже в Петербурге, его изредка навещала крестьянка Дмецова, которую все считали его матерью. Тем не менее мальчик все-таки был очень похож на помещика-ловеласа, и жена последнего уклончиво выражалась, что ребенок ничем не виноват, если появился на свет Божий незаконнорожденным сыном ее мужа.
Из других свидетельских показаний выясняется также, что после, когда бездетная помещица полюбила мальчика, ее муж делал попытки узаконить его, но безуспешно.
Товарищ министра финансов В. Н. Коковцев рассказал, что ему приходилось одно время навещать Ефимьевых и он действительно видел у них мальчика, которого называли Павлушей. На его расспросы, что это за мальчик, госпожа Ефимьева давала неопределенный ответ, и свидетель считал его простым воспитанником, тем более что у помещицы никогда не было своих детей.
Однако из оглашенной на суде переписки г-жи Ефимьевой с Павлом Дмецовым видно, что она питала к нему в 70-х годах родительские чувства, называла милейшим сыном и вообще проявляла чрезвычайную нежность в обращении на письме.
По словам священника Лебольского, посещавшего Ефимьевых около 10-ти лет, он за все это время не видел какого-либо мальчика, которого они называли бы своим сыном. Да они и не говорили никогда об этом, ввиду чего священник твердо убежден, что родных детей у В. К. Ефимьевой не было. Случайно от другого священника он узнал, что какая-то крестьянка Екатерина родила от любовной связи с помещиком ребенка и его окрестили именем Павла.
Сама Ефимьева, — как видно из показания дочери генерал-майора В. К. Соколовой, — была очень добрая женщина, безупречной нравственности и жила с мужем, видимо, хорошо. Детей ей Бог не дал, и она уделяла свою любовь чужим детям. Муж ее был, что называется, хороший хлебосол старых порядков, любил широко пожить и отличался редким гостеприимством. Когда он привез в Петербург Павла Дмецова, мальчику шел уже девятый год. Своим сыном оба они в то время не называли его, выдавая лишь за воспитанника.
Вдова статского советника Л. Н. Окунева утверждает, что, по общему мнению, мальчик Павел был рожден одной из многочисленных любовниц помещика.
Привезя Дмецова в Петербург, помещик говорил своим знакомым, что мальчик — сирота и что он, Ефимьев, хочет бросить свои кутежи и усердно заняться его воспитанием.
Дмецов и сам признавался как-то свидетелю Курбатову, что он — незаконнорожденный сын помещика. Спустя некоторое время этот свидетель проведал, по слухам, будто бы Дмедов был в каком-то трактире и уговаривал несколько человек засвидетельствовать перед судом о его законном происхождении от дворян Ефимьевых. Ходили также слухи, что из трактира посылали за какими-то вексельными бланками и кому-то выдавалось тогда долговое обязательство на 10 тысяч рублей. Может быть, это было не что иное, как пустые сплетни, — соглашается свидетель.
Земский начальник Устюжинского уезда, Н. А. Колюбакин, в своем письменном показании объяснил, что госпожа Ефимьева обыкновенно жила в Петербурге, а муж ее — в г. Устюжне, где и родился потом Павел Дмецов. Поразительное сходство мальчика с Ефимьевым невольно обращало на себя всеобщее внимание. Перед смертью помещик подозвал к своей кровати жену и Павла и стал говорить: «Подожди, Верочка, я скоро поправлюсь, и мы хорошо заживем». Мечтам его не суждено было сбыться.
Избранный присяжными заседателями старшиной, профессор военно-юридической академии, генерал-майор В. Д. Кузьмин-Караваев все время тщательно знакомился с данными судебного следствия. От него не ускользала каждая характерная особенность дела, и он часто переспрашивал свидетелей. Последние резко распадались на две партии, очевидно одинаково заинтересованные в деле.
Показания второй партии, наоборот, клонились в пользу Павла Дмецова. Это был хороший, честный человек, большое состояние которого исчезло как дым, благодаря неудачным коммерческим предприятиям. Но он все еще являлся представителем помещичьей среды «доброго старого времени», и ему охотно помогали в тяжелых материальных обстоятельствах. А обстоятельства эти за последние годы действительно были неважны.
Имея до десятка детей, Дмецов после широкой, привольной жизни начал серьезно бедствовать, — за какую-нибудь сотню рублей, ссуженную добрыми людьми в долг, ему приходилось со слезами благодарить.
В г. Устюжне, Новгородской губернии, его считали за сына известного помещика, хотя он и подписывался обыкновенно простой фамилией Дмецова. Были в Устюжне и другие Дмецовы, но обвиняемый, знавший о своем происхождении, вовсе не был знаком с ними.
Свидетель С. Орлов, владелец трактира, откуда будто бы посылалась прислуга за вексельными бланками, уверяет, что ничего подобного не было в действительности. Самого Дмецова он знает уже около 27 лет и очень высокого о нем мнения.
В свою очередь, господин Хосинский удостоверяет, что подсудимая М. П. Денисова, по ее словам, вовсе не сознавалась в лжесвидетельствовании. Напротив, она говорила свидетелю, что будто бы сам судебный следователь принуждал ее сознаться и даже грозил арестом за ослушание, но она решительно отказалась брать грех на душу. После, однако, вопреки действительности, ее все-таки записали сознавшейся, тем более что она — неграмотная. Другие свидетельские показания также благоприятны для всех обвиняемых. Павла Дмецова многие знали действительно как сына обоих Ефимьевых, и он обрисовывается с хорошей стороны.
В своих письмах покойный помещик пишет, между прочим, своей жене: «Поздравляю со днем ангела… Посылаю к тебе Павлушу провести этот день. Думаю, что будешь довольна». В письме на имя сестры, госпожи Бибиковой, он говорит: «Если Павел израсходовал все деньги, то напиши — и я еще вышлю». Вообще, в словах покойного Ефимьева видна родительская заботливость о подсудимом.
Наконец оглашается «Дело Новгородской духовной консистории о признании подкинутого к дому устюжинской крестьянки Е. О. Дмецовой ребенка законным сыном дворян Матвея и Веры Ефимьевых». Родился Павел Дмецов 1 июля 1858 года. По словам госпожи Ефимьевой, подкинуть своего ребенка к чужому дому заставила ее дикая ревность мужа, но последний вскоре же убедился, что новорожденный — действительно его сын, и взял его обратно в дом.
Протоиереем М. Сахаровым по этому делу были опрошены, при клятвенном обещании, несколько лиц, близко знавших семью Ефимьевых, и они подтвердили, что помещик и его жена считали Павла Дмецова своим, сыном и, как родного, представляли его бывшим в их доме гостям. С своей стороны он оказывал им полное сыновнее почтение, и, горячо любя его, госпожа Ефимьева тратила на него массу своих денег. Относясь к ней, как к родной матери, он везде жил совместно с ней. Умирая, сам Ефимьев оставил ему, по духовному завещанию, все свое состояние. Если верить некоторым свидетелям, большинство которых уже перемерло, то госпожа Ефимьева в конце июня 1858 года была беременна и мучилась родами. Когда ребенок появился на свет Божий, она приказала подкинуть его куда-нибудь и настрого запретила дворне упоминать когда-либо о нем. При совместной же жизни Павла с Ефимьевыми родительская любовь их к нему резко бросалась всем в глаза. Странным является только то обстоятельство, что очень долгое время никто из них не хлопотал об исправлении метрической записи новорожденного Павла.
АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Аркадьевич
Родился в 1847 году. Отличаясь разносторонним образованием, завоевал себе известность как талантливый юрист и замечательный оратор. Начал свою деятельность первоначально товарищем прокурора санкт-петербургского окружного суда, а затем перешел в корпорацию присяжных поверенных. Кроме судебного поприща, он занимает видное место в русской литературе как поэт и критик. С. А. Андреевский выступал во многих известных процессах, в том числе по делу Дмецова-Ефимьева, и всегда привлекал к себе всеобщее внимание своими прекрасными защитительными речами. В настоящее время по праву считается корифеем русской адвокатуры.
Большое впечатление производят три прошения на высочайшее имя от дворян Матвея и Веры Ефимьевых. Упоминая о своем безупречном служении престолу и отечеству, об избрании его пять трехлетий предводителем дворянства и пожаловании орденами Владимира 4-й степени и Анны 3-й степени, — Матвей Ефимьев всеподданнейше просит в трогательных выражениях разрешить им с женой усыновить приемыша Павла. Прошения эти не были удовлетворены.
По окончании судебного следствия открылись прения сторон.
Представитель обвинительной власти господин Зиберт находил, что во всех своих прошениях на высочайшее имя оба Ефимьевы ни разу не называют Павла Дмецова родным сыном, а выдают его только за приемыша или подкидыша. Если бы Павел действительно был сын госпожи Ефимьевой, то, по желанию мужа, он легко мог бы быть узаконен. Помещик сам служил в палате гражданского суда и потому, без сомнения, должен был знать все необходимые порядки. Конечно, в данном деле трудно добиться истины, — почти полвека прошло уже со времени рождения подсудимого. Тем не менее из свидетельских показаний все-таки удалось установить, что у больной жены помещика никогда не было детей. Любовь же ее к приемышу решительно ничего не доказывает: лишенная своей детворы, она, как женщина, ощущала настоятельную потребность любить кого-нибудь. С другой стороны, никем не было категорически доказано, что подсудимый — действительно родной сын ее. Называя историю о беспричинной ревности помещика к жене и подкидывании новорожденного ребенка — ложью, товарищ прокурора поддерживал обвинение.
Со стороны гражданских истцов Митусовых выступали присяжные поверенные Аронсон и Г. Б. Слиозберг. Речи их длились почти три часа. Второй из них настаивал, что факт рождения Павла Дмецова больной помещицей, не имевшей детей около 17 лет, бесспорно не установлен. Только жажда большого наследства, оставленного генеральшей Бибиковой, повлекла обвиняемого к домогательствам об узаконении его.
В свою очередь, присяжный поверенный Аронсон характерно обрисовал наиболее важные детали данного дела. Оно стало сложным, по его мнению, лишь к концу судебного следствия, но присяжные заседатели сумеют правильно разобраться в нем.
— Вы теперь находитесь в таких же условиях, как когда-то и новгородская духовная консистория, — говорил присяжный поверенный Аронсон, — и вам, господа присяжные заседатели, надо решить вопрос: сын ли Павел Дмецов дворянки Ефимьевой или только сын ее мужа?
Если окружной суд раньше высказывался по этому вопросу в пользу Дмецова, то ведь он не слышал многих других свидетелей, которые держатся на этот счет противного мнения.
Гражданские истцы, наконец, заявляют, что для них безразлична судьба подсудимого. Пусть его оправдают, но факт незаконного происхождения его должен быть признан.
Слово предоставляется защите.
Помощник присяжного поверенного М. Л. Гольдштейн указал первоначально на страшную путаницу в неблагоприятных для Дмецова свидетельских показаниях. Один и тот же младенец сразу рождается в четырех различных местах и воспринимается одновременно тремя акушерками. Где же правда?
Разбивая такие показания, защитник напоминает присяжным заседателям содержание некоторых писем покойной помещицы Дмецову. Письма эти дышат истинной материнской любовью, и помещица относится к Павлу, как к своему родному сыну.
Защите не приходит в голову дерзкая мысль сказать, — на противной стороне лжесвидетели, — нет! Но история рождения Дмецова много десятков лет тому назад, несомненно, имела свое основание. Ничего нет удивительного, если дворянин Ефимьев, заметив беременность жены после ее 17-летнего бесплодия, отнесся предубежденно к этому обстоятельству. Ему могла вспомниться тогда известная поговорка относительно «проезжего молодца».
На всем этом деле лежит тайна, но люди, общественная совесть должны довольствоваться представленными здесь доказательствами. Иначе дело это правильнее было бы озаглавить делом по обвинению дворянки Веры Ефимьевой в подделке своего ребенка.
Характерными, между прочим, являются и те показания против подсудимого, которые даются людьми заведомо по слухам или собственному наитию. Один из таких свидетелей рассказывал, например, о событиях того времени, когда ему самому было не более года от рождения!
Переходя к личности обвиняемого, защитник говорит, что его нельзя упрекнуть в чем-либо предосудительном. Он скоро спустил 300-тысячное состояние, но оно ушло не на любовниц и бесшабашный разгул, а на неудачные коммерческие предприятия.
Гражданским истцам безразлично — оправдают Дмецова или нет. Они питают только нежные чувства к наследству после генеральши Бибиковой, которое грозит перейти от них к подсудимому.
— Мне кажется, что вы, господа присяжные заседатели, чувствуете здесь правду, — закончил защитник.
Присяжный поверенный С. А. Андреевский начал свою речь с того, что для защиты едва ли предвидится опасность с уголовной стороны. Весь главный фундамент настоящего дела кроется в злополучном наследстве. Как можно назвать Дмецова подстрекателем к заведомо ложным показаниям, а остальных подсудимых — лжесвидетелями, если он был твердо уверен в своем рождении, убежден своей матерью, а они подтверждали только действительность? Нельзя же признать, что и покойная Вера Ефимьева, — эта добрая, честная женщина, как выяснилось на суде, — тоже была лжесвидетельницей.
Сказать, что история с подкидыванием ребенка к чужому дому — ложь, едва ли это возможно. После, за все 35 лет совместной жизни подсудимого с отцом и матерью, мы наблюдаем прекрасный семейный союз.
Блестящая, литературная речь защитника изобиловала образными выражениями и произвела сильное впечатление.
— Желаю вам, господа, — в заключение сказал он, обращаясь к присяжным заседателям, — покончить дело простой житейской справедливостью.
Горячую речь произнес также присяжный поверенный Л. А. Базунов, защищавший крестьянок Барсукову, Денисову и мещанина Сретенского. Виновность их связана с обвинением главного подсудимого — Павла Дмецова, но все доказательства этого обвинения ни на чем не основаны. Дело осложнилось лишь наносными элементами наследственного вопроса. Присяжные заседатели, безусловно, должны высказаться в пользу обвиняемого. Сами родители его, дворяне Ефимьевы, признают его из-за гроба своим сыном.
После речи последнего защитника, присяжного поверенного Герцмана, посвященной подсудимому А. С. Веретьевскому, последовали возражения сторон.
Товарищ прокурора отметил, что, собственно, и защитники Павла Дмецова являются скорее гражданскими истцами, чем защитниками.
Выступавший со стороны господ Митусовых присяжный поверенный Аронсон обратился к присяжным заседателям со словами — У вас ищут правды, но не на основании чего-то измышленного, фантастического. Вопрос в наследстве… Вы должны решить, кто ближе покойной Бибиковой: Павел Дмецов или Митусовы.
В своем последнем слове Дмецов проговорил взволнованным голосом:
— Мне остается верить только, что Господь Бог сохранит меня, и с этой же просьбой обращаюсь к вам, присяжные заседатели.
— Ни в чем не виноваты, — добавили обе подсудимые.
— Как перед Животворящим Крестом, я говорил правду, — закончил последний обвиняемый, титулярный советник Веретьевский.
На разрешение присяжных заседателей судом было поставлено 9 вопросов.
После продолжительного совещания присяжные заседатели признали факт преступления недоказанным.
Резолюцией суда все пятеро подсудимых были объявлены оправданными.
СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
Эта драма несколько уже лет разыгрывалась в семье купеческого сына Николая Васильевича Кашина и закончилась убийством его жены.
Преступление было совершено в ночь на 5 апреля 1901 года в Петербурге. Убийца-муж сам явился в ближайший полицейский участок и объявил дежурному околоточному надзирателю о совершенной им кровавой расправе над женой.
Полиция прибыла на квартиру Кашиных и нашла молодую женщину неподвижно лежавшей на полу спальной комнаты. Постель была беспорядочно смята и носила следы отчаянной борьбы. Всюду виднелась запекшаяся кровь. При осмотре молодая женщина оказалась уже мертвой. Когда ее приподняли с пола, под головой у нее было найдено согнутое лезвие острого столового ножа. Тут же, на туалетном столике около кровати, лежал и черенок от этого ножа, послужившего орудием убийства.
Медицинским освидетельствованием на голове и левом плече трупа были обнаружены четыре раны и несколько ссадин. По мнению врача, одна из этих ран, задев артерию и вызвав обильную потерю крови, послужила причиной смерти молодой женщины.
Привлеченный к уголовной ответственности Николай Кашин подтвердил свое первоначальное признание в убийстве жены и объяснил, что он зарезал ее ножом в состоянии раздражения. По его словам, в роковую ночь между ним и покойной женой произошло крупное недоразумение. Поссорившись с мужем, молодая женщина стала гнать его от себя прочь и объявила, что она уйдет ночевать к своему любовнику. Взбешенный муж схватил лежавший на столе нож и нанес жене несколько ударов. Опомнился он только тогда, когда увидел несчастную женщину истекающей кровью, с предсмертным выражением глаз.
ГОЛЬДШТЕЙН Моисей Леонтьевич
Родился в 1868 году. По окончании курса в Киевском университете в 1893 году вступил на поприще адвокатуры. Первым громким процессом, в котором ему пришлось выступить в 1894 году вместе с присяжными поверенными Андреевским, Карабчевским, Мироновым, Муромцевым и Пассовером, было большое контрабандное дело. Затем он фигурировал как защитник в делах об убийстве Елены Жак, о злоупотреблениях в лейб-гвардии казачьем полку (процесс длился более трех месяцев), о подлогах и растратах в «Лионском кредите», в процессах Демцова-Ефимьева, профессора Пашкевича.
Из предварительного следствия выяснилось, что покойная Валентина Кашина в конце 1896 года вышла замуж за молодого купчика, и первое время жизнь супругов проходила сравнительно хорошо. Кашин любил жену, был примерным семьянином, и, казалось, взаимному счастью их ничто не могло помешать. Но счастье это оказалось призрачным. Вскоре муж заметил некоторые странности в поведении Валентины: она пристрастилась к спиртным напиткам, заметно стала охладевать к мужу и, наконец, начала выказывать явное расположение к дворнику дома, в котором они жили. Мало-помалу чувство ревности заговорило в Кашине, и, получив несколько намеков со стороны услужливых людей, он решил навсегда расстаться от вероломной женой. Порвав семейную связь, он уехал из Петербурга. Некоторое время супруги жили отдельно, но Кашин все еще продолжал любить жену. Кончилось дело тем, что Великим постом 1901 года он снова возвратился в столицу и сошелся с женой. Однако он скоро убедился, что жена его — погибшая женщина. Оказалось, что во время разрыва с мужем она состояла в любовной связи с дворником Ладугиным и не прекратила этой преступной связи и по возобновлении совместной жизни с мужем, нисколько не скрывая от него своих отношений с дворником. Не стесняясь присутствия мужа, она и 4 апреля вечером отправилась к Ладугину. Муж уговаривал ее забыть эту связь, но все было тщетно. Ночью они легли спать и между ними разыгралась драма, закончившаяся смертью молодой женщины. В результате Николай Кашин предстал перед санкт-петербургским окружным судом. Молодой человек, с симпатичным, интеллигентным лицом, красивый, располагающей наружности, он производил большое впечатление на публику, в огромном количестве собравшуюся в зал судебного заседания. Говорил он прекрасным, литературным языком и, видимо, был очень начитан.
Защитником с его стороны выступал присяжный поверенный Н. П. Карабчевский. Руководил судебным заседанием товарищ председателя господин Карчевский, и обвинение поддерживал товарищ прокурора господин Завадский.
Тяжелое, гнетущее впечатление производит рассказ обвиняемого о подробностях пережитой им семейной драмы.
Покойную Валентину он любил горячо, несмотря на то, что еще в девичестве она с кем-то «согрешила». Он желал забыть все ее прошлое, но поведение жены и после замужества было странное, и он догадывался об ее неверности. Наконец, ему открыто стали говорить о связи ее с дворником, и, оскорбленный, с поруганной любовью, он решил предоставить жене полную свободу. С этой целью он уехал из Петербурга к своему отцу, и тот открыл для него лавку на станции Любань, Николаевской железной дороги. Он стал торговать, но тоска по жене не давала ему покоя, и он начал упрашивать ее приехать к нему в Любань. Валентина первоначально наотрез отказалась от этого, но затем вдруг сама стала искать примирения с ним. Поддавшись ее уговорам, Кашин снова приехал в Петербург и сошелся с женой. На этот раз отношения их были уже далеко не те, как в первое время после свадьбы. Зная про связь жены с дворником, Кашин мучительно ревновал ее и стал сам просить дворника покончить его любовные отношения с Валентиной.
— Если она придет когда-нибудь к тебе, гони ее вон, — умолял муж.
— Что было, то прошло, — говорил на это дворник и обещал исполнить просьбу Кашина. Тем не менее он продолжал по-прежнему быть в тесных сношениях с «купчихой».
Накануне перед трагической развязкой этой драмы у Николая Кашина умер отец. Он был очень расстроен этим, отслужил панихиду и вернулся домой. Жена равнодушно отнеслась к постигшему его горю. Вечером, когда они сидели за столом, Валентина, бывшая уже в нетрезвом состоянии, начала зло издеваться над мужем. Он не обращал на ее слова внимания, и она с вызывающим видом встала и направилась в дворницкую.
Ночью, когда Кашины легли спать, муж обратился к жене с упреками относительно дворника.
— А тебе что за дело? Ходила к нему и буду ходить! — озлобленно возразила она.
— Помутилось у меня тогда в глазах, — сказал подсудимый взволнованным голосом. — Схватил я близко лежавший нож и ударил ее. Сколько раз ударил — не помню.
Свидетелей вызывалось свыше 20 человек, и большинство их показаний обрисовывали Валентину Кашину с непривлекательной стороны. Еще девушкой она вела нехорошую жизнь, пила водку, и поведение ее подавало повод ко многим пересудам. Будучи года на три постарше Николая Кашина, она познакомилась с ним, когда ему исполнилось 18 лет. Тихий, скромный купчик, отец которого имел в Петербурге большой торговый лабаз, не замедлил вскоре поддаться пагубному влиянию молодой, смазливой девушки. Узнав, что в доме старика Кашина служит в дворниках один из ее дальних родственников, бойкая Валентина, при его помощи, стала устраивать в дворницкой Кашина частые свидания с его сыном. На столе появлялись водка и пиво; молодая девушка пила не хуже любого мужчины, в отсутствие старика Кашина в дворницкой поднималась вакханалия, и мало-помалу молодой Кашин вступил в близкую связь с Валентиной. Через известный промежуток времени не замедлил появиться и «плод любви несчастной», и увлекшийся Кашин решил жениться на любимой девушке. Несмотря на то, что Валентина считалась богатой невестой, получив после смерти отца-торговца около 20 тысяч рублей, родители Николая Кашина решительно восстали против этого брака. О девушке ходили дурные слухи. Говорили, что она ведет распутный образ жизни, не сдерживаемая своей больной матерью, и еще до знакомства с Кашиным находилась с кем-то в связи. Однако молодого купчика ничто не могло остановить, и, невзирая на мольбы родителей, он против воли их женился на Валентине. Между тем из показания одного свидетеля видно, что невеста Кашина не стеснялась даже торжественности ожидавшего ее венчания и накануне своей свадьбы, по слухам, уходила к любовнику без ведома жениха.
Когда началась супружеская жизнь Кашиных, он понял, наконец, как жестоко обманулся в Валентине, ожидая найти в ней хорошую, любящую жену. Ревность с неудержимой силой заговорила в нем, начались обидные попреки, нередко доходило до крупных ссор, и, издеваясь над мужем, Валентина выгоняла его из квартиры. Кашин горько жаловался на неудавшуюся жизнь своим знакомым. Не стыдясь прислуги, покойная иногда в полночь впускала в свою комнату дворника, пользуясь отсутствием мужа.
О подсудимом Кашине свидетели отозвались с хорошей стороны, рисуя его скромным, дельным человеком.
В числе свидетелей опрашивали также и Ладугина — героя грязного романа покойной Валентины. Это — обычный тип петербургского подручного дворника, с грубым лицом и плутоватыми глазами. На все задаваемые ему вопросы он апатично отвечал: «Не ведаю… не помню», отрицая связь с убитой Кашиной.
После обвинительной речи товарища прокурора слово было предоставлено защите.
Метко охарактеризовав действующих лиц разыгравшейся семейной драмы, присяжный поверенный Н. П. Карабчевский произнес блестящую горячую речь в защиту подсудимого.
— Дело было сделано. Дело кровавое. Дело, требовавшее не только физической силы, но и огромного подъема душевного, — сказал, между прочим, защитник. — Кашин сам стоял перед ним бессильный и жалкий, точно перед созданием чьего-то могучего духа, чуждого ему самому. По отзыву всех, знавших его, он — натура пассивная, мягкая, дряблая, почти безвольная… Он всегда и всем уступал. Жена его била по щекам, когда хотела. Как же это случилось? Он и сам не понимает, ничего сообразить даже не может. Проследим его отношения к жене, — может быть, сообразим за него мы.
Семнадцатилетним юношей он впервые обратил внимание на свою будущую подругу жизни, на Валентину Павловну Чеснокову. В районе Сытного рынка, на глазах его обывателей и торговцев, разыгрался весь его любовный роман, завершившийся столь печальной драмой.
Отец его, старозаветный лабазник Сытного рынка, вел жизнь строгую, аккуратную. Сына своего, первенца, он очень любил и с четырнадцати лет, дав лишь первоначальное образование, приставил к делу. Дело было нелегкое и невеселое. С раннего утра до самого вечера толочься в лабазе, таскать мешки и не выходить из мучной пыли. Зимою мерзнуть, летом не знать ни воздуха, ни развлечения. Праздники только и есть что первые дни Рождества и Пасхи, — даже и по воскресеньям велась торговля. И вот на этом фоне механического однообразия, как раз в пору первого пробуждения юношеской возмужалости, мелькает вдруг что-то очень яркое, заманчивое, почти загадочное: Валентина Павловна Чеснокова! Что-то вроде очаровательного видения, предлагаемого самим демоном-искусителем. Она тоже из района Сытного рынка, — дом, богатый дом Чесноковых тут же, но как это непохоже на то, что он видит всегда у себя дома. Там строгий, хотя и любящий отец, богобоязненная мать, сестры, краснеющие от одного взгляда на мужчин. Его самого берегут, как красную девушку, одного никуда не отпускают. Девица же Чеснокова (из той же, как и он, среды) — сама бравада, сама смелость, сама эмансипация! Такая уж ей счастливая доля выпала… Отца у нее нет, мать слабая и нерешительная женщина, предающаяся пьянству, старший брат — какой-то «дипломат», умывший руки и ни в чем ей не препятствующий.
Девушка красивая, старше самого Кашина, смелая и энергичная, она кружит ему голову. По словам матери Кашина, она «завлекает ее сына». Она устраивала для него пирушки, приезжала за ним, увозила его кататься. Дворник Мазилов, двоюродный брат Валентины Чесноковой, давал им в своей дворницкой приют для интимных свиданий. Место — не слишком поэтичное… Но пусть каждый вспомнит свою молодость — и не будет взыскателен к приюту первой любви, а для Николая Кашина это была действительно первая любовь.
Началась связь, и спустя три месяца «девушка» забеременела. Он не только не отшатнулся, не пытался уйти, как сделали бы многие на его месте, но еще более привязался к ней и решил непременно жениться на ней. Родители его, словно чуя беду, были против этого брака, но он настаивал, и старики из любви к детищу скрепя сердце благословили его.
Уже на втором году супружества Кашин стал подозревать неверность жены. Бывшая его кухарка Ольга Козлова предлагала уличить Валентину Павловну. Она называла ее любовником дворника ее дома — Василия Ладугина и предлагала Кашину притворно уехать и затем вернуться и накрыть любовников. Кашин предпочел, рассорившись с женой, вовсе уехать из дому и переселиться к отцу в Любань, но вероломной засады не устроил. Если бы он мог выдержать до конца эту разлуку, может быть, это и было бы наилучшее в его положении. Но положение было не так просто, чтобы из него найти легкий выход.
Раньше всего и наперекор всему — он все еще продолжал страстно любить эту женщину, а рядом с этим оставались еще дети… Дети, любимые им нежно… Дети эти оставались на попечении развратной и пьяной матери и любовника-дворника, который в его отсутствие разыгрывал роль хозяина и ночевал в ее квартире. По отзыву прислуги, пока Николай Кашин находился в Любани, с Валентиной Кашиной Василий Ладугин жил, как «муж с женой».
Взвешивая слова строго, не одна животная ревность, не ревность оскорбленного самца привела Кашина к печальной развязке. Он проявил достаточно терпимости и человечности в своих отношениях к жене. Еще девице Чесноковой он простил многое, чего обыкновенно не прощают.
В марте 1901 года он переезжает из Любани в Петербург. Навещает жену, детей. Жена его принимает радушно, ласково, просит забыть о прошлом, обещает исправиться, зажить порядочной и трезвой жизнью. Она к нему льнет; не отказывает в супружеских ласках. Он снова размякает, сдается и переезжает к ней… С дворником Ладугиным он имеет «объяснение». Тот отнекивается от связи с его женой и, во всяком случае, обещает даже «гнать ее из дворницкой», если бы та вздумала к нему прийти. Начинается вновь совместная жизнь. Но проходит день, другой, и снова возвращается старое, прежняя острая боль хватает несчастного за сердце. По удостоверению свидетелей, покойная Кашина уже так втянулась в свою пьяную и развратную жизнь, что не в силах была заменить ее. С утра она напивается, дети остаются весь день на руках случайной няньки, она же шатается по квартире без дела, шумит, ругается, иногда убегает куда-то. Прислуга подозревает, что в дворницкую. Подчас она еще дразнит мужа: «А я к Ваське пойду!» Он отвечает ей: «Вот дура», за что с ее же стороны следуют пощечины и ругательства. Она увлекает его пьянствовать вместе, и он начинает попивать.
Вот почва, на которой из-за пустого предлога разыгралось убийство, — убийство дрянным ножом, едва ли даже пригодным для смертоносных целей… Но когда назревает нравственная необходимость кровавой расправы, все готово послужить для этой цели!
Отчего же он убил и отчего душа его, вынырнув из кровавой катастрофы, чуть ли не ликовала, чуть не ощущала себя обновленной?..
Он убил жену, то есть женщину, связанную с ним навеки браком. Я не стану говорить вам ни о религиозном, ни о бытовом, ни о нравственном значении брачного союза. Со всех точек зрения возможен спор, возможно сомнение. Только для очень верующих и очень чистых сердцем брак может представляться до конца таинством… Все терпимо, раз нет посягательства на самую основу духовной личности человека. Все можно стерпеть и все можно вынести во имя любви, во имя семейного мира и благополучия: и несносный характер, и воинственные наклонности, и всякие немощи и недостатки. Но инстинктивно не может добровольно вынести человек одного: нравственного принижения своей духовной личности и бесповоротного ее падения. Ведь к этому свелась супружеская жизнь Кашиных. Мягкость, уступчивость мужа не помогали. Наоборот, они все ближе и ближе придвигали его к нравственной пропасти. Он уже стал попивать вместе с женой, дети были заброшены. Еще немного — и он, пожалуй, делился бы охотно женой с первым встречным, не только с Василием Ладугиным… Он бы стал все выносить. Мрачная, непроглядная клоака, получившаяся из семейной жизни из-за пороков жены, уже готова была окончательно засосать и поглотить его.
Но тут случилось внешнее событие, давшее ему новый душевный толчок. Умер любимый отец, предостерегавший его от этого супружества. Кашин почувствовал себя еще более одиноким и жалким, еще более пришибленным и раздавленным. В вечер накануне убийства он плакал, а жена пьяная плясала. Ночью случилось столкновение с женой, новая пьяная ее бравада: «Я к Ваське пойду!» — и он не выдержал, «не стерпел больше», — он зарезал ее дрянным столовым ножом, который тут же и сломался.
Тут было не исступление ума, не логическое заблуждение больного мозга, тут было нечто большее. Гораздо большее! И никакие эксперты, кроме вас, нам не помогут. Тут было исступление самой основы души, — человеческой души, нравственно беспощадно приниженной, растоптанной, истерзанной! Она должна была или погибнуть навсегда, или воспрянуть, хотя бы ценою преступления.
Она отсекла в лице убитой от самой себя все, что ее омрачило, топтало в грязь, ежеминутно и ежесекундно влекло к нравственной погибели. И совершил это ничтожный, слабовольный, бесхарактерный Кашин, совершил бессознательно. Так начертано было на скрижалях беспощадной и за все отмщающей судьбы. Он явился только слепым ее орудием.
Я повторяю снова: преступление Кашина выше, глубже, значительнее его самого. Он готов сам развести над ним руками и воскликнуть: «Неужели его сделал я!» Недоумение его будет искренно. Если вы обрушите на него наказание, его понесет вот этот робкий, раздавленный судьбой Кашин, а не тот грозный убийца с исступленной душой, которая, не спрашивая его самого, сделала свое грозное дело. Дело это не исправишь, покойную не вернешь!
Перед нами печальный акт, совершенный человеком в состоянии того нравственного невменения, перед которым бесполезно и бессильно людское правосудие.
И не страшитесь, господа присяжные заседатели, безнаказанности для Кашина-убийцы!.. Ему предстоит еще вернуться к детям, которым он никогда не посмеет сказать, что сталось с их матерью… Дайте ему к ним вернуться. Среди искренней радости свидания для них, осиротевших, он понесет свое наказание.
Присяжные заседатели недолго совещались и вынесли Николаю Кашину оправдательный вердикт.
В зале суда в это время воцарился неописуемый хаос. Крики восторга и громкие аплодисменты понеслись отовсюду. Ввиду этого председательствующий распорядился арестовать некоторых из наиболее рьяных зачинщиков беспорядков, допущенных в присутственном месте. У выхода из зала заседания присяжный поверенный Карабчевский был встречен овациями со стороны публики.
ДУЭЛЬ МАКСИМОВА
Во время рассмотрения этого выдающегося в уголовной практике дела зал санкт-петербургского окружного суда представлял редкую по обстановке картину. Многочисленная избранная публика переполняла все места внизу и на хорах. Представители высшего света, блестящие офицеры собственного его величества конвоя, масса нарядных дам, судебный персонал, адвокаты. В воздухе носился тонкий аромат духов.
Публика впускалась в зал только по билетам, причем около дверей дежурил усиленный наряд городовых и жандармов.
Заседание суда происходило весной 1902 года под председательством господина Камышанского.
Слушалось, без присяжных заседателей, дело о подполковнике запаса Е. Я. Максимове, обвинявшемся в нанесении раны в поединке князю А. Ф. Витгенштейну, последствием чего была смерть князя.
Скамью подсудимых занимал среднего роста пожилой человек лет 53, военной выправки, одетый в черную пару. Широкое, худощавое лицо его, с стальными, холодными глазами, заканчивается небольшой острой бородкой, подернутой сединой.
На вопросы председательствующего обвиняемый спокойно отвечал:
— Евгений Яковлевич Максимов, подполковник запаса, живу в Петербурге, женат и имею детей; окончил полный курс классической гимназии, постоянное занятие — литература.
Читается обвинительный акт.
В 1901 году, 15 июля, в поезде Финляндской железной дороги возвращались из Шувалова в Петербург француженки Мюге, Грикер, Бера и Краво. Вместе с ними ехал также и один из их знакомых, сотник собственного его величества конвоя, светлейший князь А. Ф. Сайн-Витгенштейн-Берлебург.
Все они мирно беседовали между собой в отделении вагона II класса, как вдруг в это же отделение вошел подполковник Максимов, одетый в статское платье. Пристально оглядев француженок, он прошел в следующее отделение и оставил дверь незакрытой.
Через некоторое время одна дама заметила, что новый пассажир остановился недалеко от двери и упорно смотрит на нее. Другая француженка, обратив на это внимание, встала с дивана и захлопнула дверь.
В ту же минуту дверь снова отворилась, и подполковник Максимов, сделав несколько шагов, остановился в проходе.
Госпожа Грикер обернулась в его сторону и увидела, что он по-прежнему не сводит с нее пристального взгляда.
— Уж не хотите ли вы снять с меня фотографию? — недовольно спросила она, удивляясь бесцеремонности пассажира.
— Сколько это будет стоить? — в свою очередь отпарировал ей подполковник с вызывающим видом.
Оба они обменялись колкостями по этому поводу, и Максимов, наконец, проговорил, что он может карточки француженок приобрести в публичном доме, где они служат.
Задетые за живое, оскорбленные дамы обратились к своему спутнику с просьбой защитить их от дерзкого пассажира.
Князь Витгенштейн не заставил себя просить и в вежливой форме потребовал от Максимова, чтобы он оставил в покое пассажирок.
— Не ваше дело! — резко возразил на это подполковник. — Я знаю, что делаю, и с вами не разговариваю. Прошу сесть.
— Кто вы такой? — обратился к нему вспыхнувший князь.
— Вы узнаете это завтра от барона Мейендорфа.
И с этими словами подполковник вышел из отделения.
Одна из дам поспешила закрыть за ним дверь, но Максимов с такой силой толкнул дверь ногой, что она отскочила в сторону и ударила по руке ближайшую француженку.
Ввиду такого вызывающего поведения князь Витгенштейн счел себя вынужденным кончить дело дуэлью и, получив разрешение командира конвоя, генерала барона Мейендорфа, пригласил секундантами князя Амилахвари и сотника Логвинова и послал через них Е. Я. Максимову вызов на поединок.
Противник принял этот вызов и, с своей стороны, избрал секундантами отставных генерал-майора Вишневского и полковника Меженинова.
Несмотря на все усилия секундантов обоих противников, примирить их не удалось, и секундантам волей-неволей пришлось приступить к выработке условий дуэли.
31 июля условия эти, с общего согласия всех секундантов, были занесены в протокол в следующей форме:
«Оружие — пистолеты.
Дистанция — 25 шагов.
По одному выстрелу.
Стрелять по желанию в промежуток четырех секунд, между счетом: раз… два… три… стой!..»
На следующий день около 8 часов вечера вблизи станции Стрельна Балтийской железной дороги состоялась дуэль между Максимовым и Витгенштейном. Первым выстрелил князь после команды: «Раз!» — и дал промах. После счета: «Два!» — раздался выстрел со стороны подполковника. Князь пошатнулся и, раненный в живот, упал на траву.
После перевязки он был немедленно же отправлен в Обуховскую больницу. Несмотря, однако, на все принятые меры, Витгенштейн 3 августа скончался.
По заключению врача, вскрывшего труп покойного князя, смерть его последовала от острого гнойного заражения крови, вызванного огнестрельным поранением кишечника.
Убийца-дуэлянт был привлечен к уголовной ответственности по обвинению по 1 ч. 1503 ст. улож. о нак.
Признавая факт поединка со смертельным исходом, Е. Я. Максимов заявил тем не менее, что принятие офицером запаса вызова на дуэль не составляет нарушения закона.
Обвиняемый держался на суде хладнокровно, с сознанием собственного достоинства.
— Признаете ли вы себя виновным? — задал обычный вопрос председательствующий.
— Ни дамам, ни князю Витгенштейну я обид не наносил… Действовал согласно высочайше утвержденным правилам тысяча восемьсот девяносто четвертого года о дуэлях и считал себя обязанным принять вызов.
— Пригласите свидетелей, — отдается распоряжение судебному приставу.
Из француженок в суд явилась только одна Констанс Краво. Это — миловидная молодая особа, очень изящно одетая.
Русского языка она почти не знает и дает показания через переводчика.
Свидетель доктор Зуев был вызван по просьбе самого подсудимого.
Первым опрашивался сотник собственного его величества конвоя В. П. Логвинов.
Он был одним из секундантов роковой для князя Витгенштейна дуэли.
Покойный князь сообщил ему о своей ссоре с Максимовым только 17 июля. По его словам, он сидел в вагоне с несколькими дамами, из которых лишь одна была ему знакома. Дамы эти незадолго до этого катались на автомобиле, но потерпели легкое крушение и в помятых от этого костюмах принуждены были возвратиться в Петербург уже с поездом Финляндской железной дороги. Когда Максимов увидел их, глаза его приняли довольно недвусмысленное выражение.
— Не желаете ли сфотографировать нас? Это будет стоить очень дорого, — сердито сказала ему одна из француженок.
— Я могу достать ваши карточки в том «пансионе», где вы воспитываетесь, — грубо ответил Максимов.
Изумленные француженки начали переговариваться между собой:
— Что это за господин? Какой невоспитанный…
Мало-помалу между князем и развязным пассажиром разыгралась ссора. По собственной ли инициативе князь вступился за дам, или последние сами просили его об этом — свидетель не знает.
Когда поезд подошел к Петербургу, А. Ф. Витгенштейн нагнал Максимова в другом конце вагона и схватил его за руку.
— Ваше имя?
— А вы кто такой? — также осведомился Максимов.
— Я князь Витгенштейн.
— А обо мне вы узнаете от вашего командира.
При этом Максимов вынул свою визитную карточку и вручил ее князю.
Секунданты, ознакомившись с подробностями инцидента между двумя противниками, признали повод для дуэли несущественным и сделали попытку примирить их. Так как первый повод к оскорблениям был подан подполковником Максимовым, то ему предложили извиниться перед князем. Однако А. Ф. Витгенштейн обставлял примирение такими оскорбительными для своего противника условиями, что Максимов наотрез отказался от них.
Таким образом поединок был признан решенным делом.
Секунданты выбрали место около Стрельны. Один из них взял на время пару больших пистолетов у известного оружейника Леженя. Вечернее время было нарочно выбрано для того, чтобы солнце не мешало дуэлянтам целиться.
В день поединка сперва приехали секунданты, а затем и оба противника.
Сотник Логвинов отмерил 25 шагов.
Секунданты снова предложили помириться.
— Я согласен, — сказал Максимов.
— Только при соблюдении моих условий, — решительно объявил другой противник.
Максимов отказался.
Оба они стали на свои места, получив по жребию заряженные пистолеты.
Сотник Логвинов начал считать по секундомеру: «Раз!., (выстрел). Два!., (выстрел).
Смертельно раненный, князь несколько мгновений еще держался на ногах и затем упал.
— Простите, князь, я этого не хотел, — подбежал к нему Максимов.
— Не беспокойтесь, вы очень добры, — слабым голосом выговорил раненый.
Далее из свидетельских показаний выясняется, что покойный князь до своей роковой дуэли почти никогда не стрелял из пистолета и вообще был очень неважный стрелок.
Когда был возбужден вопрос о примирении, Максимов написал князю следующее письмо (в выдержках): «Ваша светлость, князь А. Ф. Вы изволили почтить меня вызовом… Секунданты находят возможным примирить нас… Я приношу вам искренние сожаления по поводу происшедшего».
А. Ф. Витгенштейн не удовлетворился этим письмом и потребовал, чтобы Максимов написал, что он раскаивается или извиняется «в своем поведении».
По словам сотника Логвинова, князь был идеально хороший, добрый человек и ссор никогда не затевал. Француженки в столкновении его с Максимовым должны играть ничтожную роль, — скорее, видимо, он возмущался личной обидой.
Защитник подсудимого, присяжный поверенный М. К. Адамов, спрашивает свидетеля: «Было ли известно ему, что среди француженок, из-за которых загорелся весь сыр-бор, находилась также и шансонетная певица Мюге — интимная подруга покойного князя?»
Свидетель дает отрицательный ответ. А. Ф. Витгенштейн поклялся ему, что Мюге в то время не было в вагоне. В противном случае свидетель отказался бы выступить секундантом, если бы знал, что поводом к дуэли могла послужить эта француженка.
Присяжный поверенный Адамов старается установить, что под словом «пансион» обвиняемый вовсе не хотел сказать какой-либо неприличности.
Суд приступает к допросу другого секунданта хорунжего конвоя, князя Амилахвари.
Перед вручением своей карточки Е. Я. Максимов спросил у противника — кто он?
— Я светлейший князь Витгенштейн, — последовал короткий ответ.
Максимов усомнился.
— Правда ли это? — обратился он к другому встретившемуся офицеру.
— Да, правда.
Только после этого Максимов подал князю свою визитную карточку с адресом.
— А верен ли адрес? — колко проговорил Витгенштейн, вертя ее в руке.
Доктор Поляков, присутствовавший при поединке, рассказывает, что с места дуэли раненого князя на руках донесли до ландо и он был привезен на железнодорожную станцию. Однако поезда пришлось очень долго ожидать. В Петербурге в Морском госпитале не оказалось свободного места, и мучительно страдавшего от раны князя направили в Обуховскую больницу. Дорогой он беспрестанно жаловался на страшные боли в нижней части живота. По вскрытии трупа пуля была найдена застрявшей в левой стороне таза.
Сам Максимов передавал этому свидетелю, что француженки первые стали его вышучивать.
— Позвольте вашу карточку, — обратился Максимов к одной из них, одетой экстравагантно.
Последовал обмен колкостями, и одна француженка раздраженно толкнула Максимова.
По-видимому, все дамы были навеселе.
— Меня преследует какая-то пьяная компания, — жаловался после Максимов кому-то из пассажиров.
Столкнувшись с ним под конец ссоры, князь Витгенштейн резко схватил его за рукав и потребовал указать свое звание.
Свидетель-доктор удостоверяет также, что по окончании дуэли Максимов сам помогал перевязывать раненого князя, и для него, очевидно, был неожиданностью трагический исход поединка.
Действительный статский советник Меженинов, служащий по министерству финансов, в сербскую войну был начальником отряда русских добровольцев. В этом же отряде находился и подсудимый Максимов, отличавшийся беззаветной храбростью и удальством.
Помня его геройское прошлое, свидетель Меженинов никак не мог отказать ему в просьбе быть его секундантом.
Порядок поединка был выработан по условиям № 2, применяемым в подобных случаях в германской армии.
— Я не буду первый стрелять, — говорил Максимов свидетелю. — Но если не буду убит, то я дам своему противнику немного почувствовать.
— Если я буду убит, — сказал князь, — то передайте мое письмо матушке. Она дожидается.
— Я, старый, обстрелянный в боях офицер, был глубоко растроган этими словами, — добавляет свидетель с дрожью в голосе.
По соглашению всех участвовавших в дуэли в пистолеты противников, для лучшего боя, был вложен двойной заряд пороха.
Подполковник Максимов — бывший кирасир, стяжавший себе почетную известность в военном мире своим геройством. В одном из сражений под ним были убиты за короткое время три лошади. Отчаянный храбрец, он дрался в Боснии, участвовал в Ахалтекинской экспедиции и сражался с англичанами в Трансваале среди мужественных буров, командуя иностранным легионом.
Генерал-майор Вишневский, рассказывая о дуэли, также сообщает, что подсудимый говорил ему о своем намерении целиться только в ноги князя.
Когда в роли свидетельницы появляется Констанс Краво, одна из француженок, послуживших косвенной причиной трагической смерти молодого, блестящего князя, — заинтересованная публика в ажитации спешит разглядеть ее.
Держится Краво очень непринужденно.
Об обстоятельствах ссоры она не сообщает ничего, но в словах Максимова, вырвавшихся у него при инциденте в вагоне, Констанс Краво в настоящее время не видит чего-либо оскорбительного. Он говорил по-французски про какой-то «пансион», но слово это можно истолковать различно.
Сам ли князь вступился в защиту дам или же по их просьбе — она не помнит.
До этого они действительно были в каком-то ресторане, но пили нормальную порцию (в публике смех) и нисколько не были пьяны.
Доктор Зуев охарактеризовал подсудимого как хорошего человека, верного рыцарским традициям.
Между прочим, обнаруживается, что Е. Я. Максимов во время Сербской кампании был ординарцем у известного генерала Черняева.
По окончании судебного следствия слово предоставляется товарищу прокурора, господину Новицкому.
В общих чертах он касается истории дуэлей и подвергает этот обычай резкой критике.
Товарищ прокурора понимает, что может быть тяжкая обида, которую иногда не в состоянии удовлетворить обыкновенный суд.
Но между Витгенштейном и Максимовым не было ничего подобного.
Просто бестактность со стороны подсудимого и горячность князя вызвали смертный бой. Покойный князь вынужден был на дуэль самим Максимовым, и Витгенштейн заплатил за это своей жизнью, покончив все счеты с правосудием. Максимов же является безусловно виноватым в этой печальной истории.
В своем заключении обвинитель просил применить к Е. Я. Максимову наказание заключением в крепости на срок от 4 лет до 6 лет 8 месяцев.
Наоборот, защитник подсудимого,' присяжный поверенный Адамов, мастерски обрисовал данное дело с совершенно иной точки зрения.
Покойный князь Витгенштейн был представителем веселящейся «золотой молодежи», прожигающей свою жизнь. Вина в его смерти лежит на нем самом, а Максимов только вышел на бой, и бой честный, одинаково опасный для обоих. До этого он, с своей стороны, сделал все, чтобы избежать дуэли, а приняв роковой вызов, как офицер считал себя вправе на это. Известный герой, храбрец, он не мог поступить иначе. Суду остается только ходатайствовать ему оправдательный приговор или же ходатайствовать о царской милости. Дуэль — честный, равноправный поединок, но если военный может безнаказанно убивать, а штатский отвечает за это перед судом, то где же здесь равноправность. Для государства должны быть одинаково дороги и честь военного, и честь простого гражданина.
— Как защитник, как юрист и как гражданин я думаю, что Максимов должен быть оправдан, — эффектно закончил присяжный поверенный Адамов.
В своем последнем слове подсудимый от волнения ничего не мог выговорить.
Присяжный поверенный Адамов от его имени заявил, что обвиняемый ищет не милосердия и не смягчения своей участи. Он ищет только правосудия.
После продолжительного совещания санкт-петербургский окружной суд признал Е. Я. Максимова виновным в участии в поединке, вызванном, однако, не им, и приговорил его к заключению в крепость на два года.
Вместе с тем ввиду чрезвычайных обстоятельств этого дела окружной суд постановил ходатайствовать через министра юстиции пред его императорским величеством о полном помиловании осужденного.
Е. Я. Максимов был высочайше помилован и в последнюю русско-японскую войну с чином подполковника отправился на Дальний Восток. В первом же сражении, в бою под Мукденом, он пал геройской смертью.
АДАМОВ Михаил Константинович
Родился в 1860 году в Петербурге. По окончании курса военноюридической академии служил в войсках Восточной Азии, затем вышел в запас в чине штабс-капитана и в 1885 году зачислен в состав петербургской адвокатуры. С успехом выступив на поприще защитника в крупных процессах, он вскоре же завоевал себе большую популярность. Из наиболее выдающихся дел его известны: процесс о похищении двухсот тысяч рублей из Государственного банка, дуэль Максимова, сожжение ребенка Богдановой, процессы графа Подгоричани-Петровича, акушерки Ярошевской, баронессы Гейнбрун, графа Апраксина, поручика Клыкова (убийство), дело о краже китайского божка.
ПОЖАР ДАЧИ КРАЕВСКОГО
В 1901 году 15 июля в Озерках был устроен большой праздник цветов, привлекший многочисленную публику. В организации этого праздника главным образом принимал участие председатель парголовского добровольного пожарного общества присяжный поверенный М. К. Адамов при содействии членов санкт-петербургского велосипедно-атлетического общества провизора Э. Ф. Краевского и А. А. Ведерникова. Гулянье закончилось поздно вечером раздачей призов участвовавшим в процесси праздника, причем главный приз был присужден жене провизора, Марии Краевской, за выезд «орлеанской девы». Остальное время до рассвета Э. Ф. Краевский провел в Озерковском саду, где на сцене шли «Рабыни веселья», и после обильной попойки с знакомыми вернулся на свою дачу в местечке Шувалове только в 5 часу утра. Несмотря на позднее время, жены его еще не было дома. Оказалось, что она в ту же ночь захватила двух кавалеров, брандмейстера пожарной дружины и его помощника, и поехала с ними кататься.
Сильно опьяневший провизор вошел в свою комнату в верхнем этаже дачи и вскоре же заснул как убитый. Проживавший в этой же даче А. А. Ведерников вышел на террасу и стал поджидать кассира Озерковского сада, который в это время подсчитывал в гостиной Краевского все расходы по устройству цветочного праздника.
Незаметно для себя кассир также задремал и вдруг почувствовал во сне сильный жар. Очнувшись, он с ужасом увидел недалеко от стола большое пламя. Горели сложенные на полу в большом количестве мешочки с конфетти. Перепугавшийся кассир поднял отчаянный крик о помощи, и прибежавший Ведерников стал тушить огонь. Однако пламя все более и более разрасталось, в гостиной становилось душно, и Ведерников, помогая теще провизора выбраться из горевшей дачи во двор, бросился в верхнюю комнату будить самого Краевского. Но уже было поздно, пламя свирепствовало в комнате, и несчастный провизор сделался его жертвой. Все остальные обитатели дачи успели благополучно спастись, в том числе двое детей Краевского, и только гостивший у него титулярный советник Бандуров, выпрыгнув со второго этажа на двор, сломал при падении руку.
По окончании пожара, уничтожившего всю дачу провизора, обезображенный, обгоревший труп его был найден среди дымящихся развалин.
Несмотря на тщательное дознание, причину пожара не удалось установить, и он был приписан неосторожному обращению с огнем.
Прошло три недели после этого. О трагической смерти провизора стали понемногу забывать, как вдруг произошел совершенно неожиданный случай.
8 августа А. А. Ведерников, проживавший уже на другой даче, пригласил к себе местного станового пристава и заявил последнему, что дача Краевского была нарочно подожжена им. На расспросы же пристава, удивившегося такому признанию, Ведерников объяснил, что на преступление подтолкнула его Мария Краевская, жена сгоревшего провизора, желавшая во что бы то ни стало получить за уничтоженное огнем имущество высокую страховую премию.
Как выяснилось затем из его рассказа на предварительном следствии, А. А. Ведерников — молодой, 27-летний человек — несколько лет тому назад вместе с отцом приехал из Киева в Петербург. Любя сына, старик Ведерников передал ему около 2 тысяч рублей наличными деньгами и на 9 тысяч рублей различного товара и предложил завести в Петербурге собственное коммерческое предприятие. Но у молодого человека были другие запросы к жизни. Быстро распродав весь товар за бесценок, он с головой окунулся в бесшабашный столичный омут, повел веселую жизнь и начал посвящать все свое время главным образом картам и игре в тотализатор. В 1897 году на красивого молодого Ведерникова обратила свое благосклонное внимание жена провизора Мария Краевская и вскоре же познакомилась с ним. В то время Э. Ф. Краевский жил сравнительно скромно и платил за небольшую квартиру на Николаевской улице всего лишь 720 рублей в год. С первых же дней своего знакомства с Марией Краевской молодой человек, по его словам, страстно полюбил ее и уже через две недели находился с ней в близких отношениях. Муж Краевской, очевидно, догадывался об этой связи, но почему-то относился индифферентно к ней, и молодой человек стал, наконец, даже жить на его квартире. С этого времени, пользуясь деньгами Ведерникова, супруги Краевские стали широко жить, приобрели роскошную обстановку, лошадей и наняли квартиру за 2 тысячи рублей. Необходимые средства к жизни Ведерников добывал исключительно карточной игрой и благодаря поразительному счастью за какие-нибудь 4 года выиграл до 60 тысяч рублей. Из этой суммы на Марию Краевскую им было истрачено 40 тысяч рублей, и все-таки бывали времена, когда он чувствовал нужду в деньгах. В таких случаях ему обыкновенно щедро помогали его родные.
Наконец, в 1900 году слепая фортуна повернулась к нему спиной, и после ряда неудач он решил бросить карточную игру. С тех пор он стал уже серьезно нуждаться и приходил в отчаяние, когда Мария Краевская настойчиво требовала от него денег, осыпая его упреками.
Весной прошлого года жена провизора под секретом сообщила ему, что она придумала способ добыть много денег. По ее словам, для этого стоило только нанять где-нибудь дачу и, застраховав свою обстановку по высокой оценке, поджечь ее. Ведерников, как он говорит, ужаснулся такому плану и решительно отказался от приведения его в исполнение. Но Краевская начала настойчиво убеждать его и сослалась на то, что она однажды уже поджигала свое имущество в Одессе и тем не менее была оправдана судом. Безумно любя ее, он согласился, наконец, на ужасное предложение и всецело подчинился воле Краевской. Подыскав вскоре после этого дачу в Шувалове, они обставили ее своей мебелью и застраховали все имущество в 12 тысяч рублей. Затем, чтобы обмануть бдительность местной полиции и пожарной дружины, молодой человек заарендовал от имени санкт-петербургского велосипедно-атлетического общества Озерковский сад с театром и записался в члены пожарной дружины. Когда парголовское добровольное пожарное общество стало готовиться к устройству 15 июля праздника цветов, он, с своей стороны, также принял в этом ближайшее участие и предложил для праздника Озерковский сад. Мария Краевская решила воспользоваться удобным случаем для преступного замысла и назначила поджог дачи на ночь 15 июля, надеясь, что большинство пожарных дружинников напьются, по случаю праздника, допьяна и прозевают пожар.
15 июля праздник цветов состоялся, и по окончании его супруги Краевские пригласили на ужин в Озерковском саду в числе других лиц также пожарного брандмейстера Лоренсона и его помощника Мордуховского. За ужином много пили, и, когда все опьянели, жена провизора начала жаловаться, что будто бы извещения о празднике цветов, расклеенные в Шувалове и Озерках на заборах, по небрежности были сверху закрыты театральными афишами. Когда с ней заспорили по этому поводу, она, под предлогом проверки правдивости ее жалоб, пригласила с собою брандмейстера и его помощника и увезла их в своем экипаже. Перед отъездом она условным взглядом дала понять Ведерникову, чтобы он не упустил случая осуществить их преступный замысел.
Отправившись с провизором на его дачу, молодой человек, из желания отвлечь подозрения в поджоге, пригласил с собою и кассира сада, будто бы для подведения счетой.
Кассир, однако, вскоре заснул в гостиной у Краевского, и тогда Ведерников поспешно зажег спичкой хранившиеся в мешочках конфетти. Огонь быстро стал охватывать комнату, и, желая спасти всех спавших обывателей дачи, Ведерников бросился будить их.
К его ужасу, сам Краевский не успел спастись и сделался жертвой огненной стихии. Его страшная смерть совершенно не входила в расчеты поджигателя и жены провизора и, по своей неожиданности, сильно поразила их.
После пожара Ведерников вместе со вдовой, ее матерью и детьми покойного провизора перебрался на другую дачу в том же Шувалове. Здесь отношения Краевской к молодому человеку почему-то вдруг резко изменились, она упорно начала избегать его и завела довольно странную дружбу со своим кучером, крестьянином Алексеем Полозом. Так, например, она дарила ему дорогое белье, по целым часам гуляла с ним и вообще выказывала к нему загадочные симпатии. Вернувшись однажды в неурочное время домой, Ведерников, к своему удивлению, увидел через стеклянную дверь ненавистного ему кучера. Последний был в одном белье и выходил из спальни вдовы провизора.
Прошло некоторое время, и Ведерников, судя по его признанию, заметил, что хозяйка и кучер стали таинственно шептаться между собой. Подслушав их отрывистые слова «убить», «отделаться» и «отравить», молодой человек заподозрил в их поступках что-то недоброе для себя и, из боязни за свою жизнь, решился, наконец, раскрыть тяготившее его преступление.
Покойный Краевский занимался в аптечной лаборатории Глокова изготовлением желатиновых капсул и зарабатывал до 200 рублей в месяц. Но, по-видимому, он не одним только этим заработком существовал. Платя за одну лишь квартиру свыше 2 тысяч рублей, он держал на конюшне несколько дорогих лошадей и проживал ежегодно не менее 7–8 тысяч рублей. Кроме детей от первого брака, в квартире провизора жила обыкновенно и старушка Л. А. Брюне, мать его второй жены Мари, заменявшая, по большей части, кухарку. Эту старушку супруги Краевские выдавали за очень богатую родственницу и, нанимая квартиру на ее имя, рассказывали, что они живут на ее деньги. Одна из комнат квартиры провизора была занята А. А. Ведерниковым, но, несмотря на то что он числился жильцом, молодой человек держал себя на положении хозяина, и, как выяснилось из расследования, всем было известно о любовной связи его с Марией Краевской. Производя на родственников своего мужа неблагоприятное впечатление двуличной, распущенной женщины, Мария Краевская тем не менее благодаря сильному характеру сумела совершенно подчинить себе и мужа, и Ведерникова, отличавшихся слабой волей. Любя Краевскую, молодой человек горячо ревновал ее ко всем другим мужчинам, и на этой почве между ними нередко происходили крупные ссоры и бурные объяснения. Но после ссоры Ведерников немедленно же старался снова примириться с любимой женщиной и привозил ей в виде дани фрукты, вина и различные подарки.
Когда дача провизора сгорела, молодой человек заметно изменился в обращении, сделался неестественно рассеянным и грустным.
На лице его постоянно лежал оттенок меланхолической задумчивости. К этому времени относится внезапное расположение вдовы провизора к своему кучеру, который, в свою очередь, стал развязно обходиться с ней и постепенно начал играть роль «барина».
После ареста его вместе с хозяйкой она все еще не переставала заботиться о нем, передала ему, через урядника, свои носовые платки и полотенце и с любопытством осведомлялась — не обеспокоил ли его внезапный арест.
На основании оговора Вередникова жена покойного провизора была привлечена к следствию в качестве обвиняемой в поджоге. Она, однако, упорно отрицала свою виновность и утверждала, что пожар на даче Краевского произошел помимо ее ведома, вследствие чьей-либо неосторожности с огнем.
С Э. Ф. Краевским она познакомилась еще в Одессе и, после смерти его первой жены, вышла за него замуж. Во время совместной жизни на их одесской квартире неожиданно случился пожар, и, заподозренные в умышленном поджоге, оба они были арестованы. Хотя окружной суд оправдал их, но процесс наделал в Одессе много шума, и Краевский принужден был покинуть этот город и переехать в Петербург. За ним вскоре последовала и жена, которая, получив со страхового общества 15 тысяч рублей за сгоревшее имущество, наняла в Петербурге, на Николаевской улице, квартиру в несколько комнат. Часть комнат она стала сдавать внаймы, и одну из них занял А. А. Ведерников. По словам обвиняемой, этот молодой человек начал ухаживать за ней и, добиваясь взаимности, бешено ревновал ее ко всем знакомым. В особенности же усилилась его ревность после смерти Э. Ф. Краевского. Заметив холодное отношение к нему со стороны молодой женщины, он пришел в отчаяние с пригрозил отомстить ей доносом, что она будто бы подожгла дачу в Шувалове.
Наконец, из свидетельских показаний обнаружилось, что по приезде Краевских из Одессы в Петербург оба они крайне бедствовали. Заработок провизора в это время был настолько ничтожен, что Мария Краевская вынуждена была поступить певицей в сад «Помпей», где дебютировала под именем «Margot Sans-Gene». Успеха она на эстраде никакого не имела, но взамен этого познакомилась в саду с некоторыми офицерами, и они стали давать ей средства к жизни.
Затем у нее завязался роман с Ведерниковым, и после этого она уже оказалась в состоянии нанять большую квартиру и завести дорогую обстановку и лошадей.
При проведении предварительного следствия по этому делу в руки помощницы начальника дома предварительного заключения попало письмо А. А. Ведерникова, адресованное Марии Краевской. Письмо это было написано на французском языке по просьбе Ведерникова небезызвестным купеческим сыном Василием Трахтенбергом, также содержавшимся в доме предварительного заключения и приговоренным санкт-петербургским окружным судом за мошенничество к наказанию.
В перехваченном письме Ведерников сообщал Краевской, что она ни в чем не виновата, так как он возвел на нее ложное обвинение, и что он спасет все-таки ее чистосердечным сознанием на суде.
Между тем, когда Ведерникова стали спрашивать о содержании письма, он просил не придавать последнему никакого значения.
Из его объяснений выходило, что перехваченное письмо было будто бы ложно написано с целью обмануть Краевскую и вызвать ее на переписку с Ведерниковым.
Кучер Краевской, как не имеющий отношения к поджогу дачи, был освобожден из-под ареста, а его хозяйка и Ведерников были переданы суду.
28 февраля 1902 года оба они предстали перед присяжными заседателями.
Дело слушалось во 2-м отделении санкт-петербургского окружного суда под председательством Д. Ф. Гельшерта.
Зал заседания буквально осаждался многочисленной публикой, но ее пускали только по билетам, разобранным еще за несколько недель до этого.
Защищали подсудимых: А. А. Ведерникова — присяжный поверенный Марголин и М. И. Краевскую — присяжный поверенный Нестор и Зейлигер (уже защищал ее в Одессе).
Со стороны гражданского истца — Русского страхового общества — выступал присяжный поверенный Мандель.
Председателем обвинительной власти являлся товарищ прокурора Зиберт.
По открытии заседания в зал были введены под конвоем оба подсудимых.
А. А. Ведерников — статный молодой человек, лет 27, с симпатичным лицом. Брюнет с бледным, матовым цветом лица, с небольшими черными усами и жгучим взглядом выразительных глаз, он выглядел красавцем. Просто, но со вкусом одетый, он держался с достоинством и производил на публику благоприятное впечатление. Образование он получил в Киевском реальном училище.
Подсудимая Краевская едва вошла в зал, слабо держась на ногах от волнения. Но, сев на скамью, она, по-видимому, быстро освоилась со своим положением и приняла непринужденный вид. Молодая женщина, 30 лет, француженка по происхождению, она не отличается красотой, хотя и не лишена некоторой доли миловидности и пикантности. К Ведерникову она относится предубежденно и села далеко от него, на противоположном конце скамьи. Родившись во Франции, она не умеет ни читать, ни писать по-русски и понимает только разговорный язык.
Всех свидетелей вызывалось свыше 60 человек, в том числе председатель парголовского добровольного пожарного общества присяжный поверенный М. К. Адамов. Однако некоторые из них не явились: мать подсудимой умерла, а купеческий сын Трахтенберг не был разыскан.
Старшиной присяжных заседателей был избран статский советник А. А. Чагин.
По прочтении обвинительного акта председательствующий обратился к Ведерникову с вопросом — признает ли он себя виновным в поджоге?
Среди публики наступает гробовая тишина, все глаза устремлены на подсудимого.
— Нет, не признаю, — слышится его твердый ответ.
Председательствующий задал тот же вопрос Марии Краевской.
— Нет, не виновата! — всхлипывает она и, закрыв лицо платком, судорожно плачет.
Первым свидетелем опрашивался становой пристав С. Н. Недельский. Судя по его словам, Ведерников, сознаваясь в поджоге, говорил, что ему ничего более не остается делать. Любимая женщина изменила клятвам и унизилась до грубой, животной связи со своим кучером. После, однако, он спохватился и спрашивал пристава: может ли он взять обратно свое обвинение Краевской?
— Я ее очень люблю, и мне все-таки жалко ее, — признавался молодой человек.
Ведерников (обращаясь к судьям). Я действительно говорил тогда неправду. Эта женщина меня так измучила, что я не мог владеть собой.
Председательствующий. Значит, вы к суду прибегли только для того, чтобы свести свои домашние счеты?
— Меня тогда все угнетало, — оправдывался подсудимый. — Я приходил в отчаяние от измены любимой женщины и выдумал на нее обвинение, чтобы отомстить.
— Почему же вы поддерживали эту ложь и после?
— Я не мог сказать прокурору и судебному следователю, что это была шутка с моей стороны. Да если бы я и сказал, то мне все равно не поверили бы, так как следователь, по-видимому, был уже твердо убежден в моей виновности. Вообще, во всей этой истории я попал в какую-то западню, из которой может вывести только суд.
— Но вы сами же устроили себе эту западню, — заметил председательствующий.
Полицейский урядник К. Людорф показал, что вслед за сознанием в поджоге Ведерников стал говорить, что он все-таки не виноват, как-то странно смеялся, бравировал и вообще старался казаться очень веселым. Под конец урядник невольно усомнился — уж не с ума ли сошел молодой человек.
В свою очередь, свидетель, брат покойного провизора, И. Ф. Краевский, рассказывает, что супруги Краевские приехали в Петербург из провинции лет семь тому назад. Первоначально они жили очень скромно. Э. Краевский получал в какой-то аптеке всего 50 рублей жалованья и постоянно нуждался в деньгах. Когда Ведерников познакомился с супругами Краевскими, они перестали вдруг бедствовать и зажили уже в полное свое удовольствие. Необходимые средства к жизни, очевидно, давал им сам же Ведерников.
— Он помогал от доброго сердца, — прибавляет свидетель. — Это был хороший молодой человек. Между ним и обоими супругами существовали самые милые, добрые отношения. Это была как бы одна семья, тесно сплоченная родственными узами.
Присяжный поверенный М. К. Адамов как председатель парголовского пожарного общества набросал яркую картину пожара дачи Краевского на рассвете 16 июля.
По окончании праздника цветов свидетель возвратился домой и узнал о пожаре только утром. Он немедленно же помчался на лошадях к даче Краевского и нашел ее уже всю в огне.
Деревянный двухэтажный дом представлял из себя сплошной костер; едкий, удушливый дым застилал глаза, и добровольцам-пожарным ничего более не оставалось делать, как стараться локализировать огонь. Соседние постройки были спасены, но дача провизора сгорела до основания. На пожаре свидетель встретил также и Ведерникова. Последний был одет в пожарную форму, с каской на голове, и казался страшно возбужденным. Растерянно отвечая на расспросы, он беспомощно бегал с топором в руке и со слезами просил спасти оставшегося на даче провизора.
Подсудимого присяжный поверенный Адамов характеризует скромным молодым человеком, добавляя, что, по слухам, Ведерников спас кого-то во время пожара.
Когда свидетель узнал о поджоге, он был сильно поражен совершенно неожиданным для него сознанием Ведерникова. Молодой человек жаловался на свою разбитую жизнь и говорил, что ему изменила любимая женщина, променяв его на простого кучера, и вместе с новым любовником собирается спровадить его на тот свет.
В заключение М. К. Адамов объяснил, что извещения о цветочном празднике 15 июля, — как утверждала Мария Краевская, — действительно были закрыты наклеенными сверху театральными афишами. Что же касается увоза Марией Краевской пожарного брандмейстера и его помощника, то это обстоятельство нисколько не могло помешать тушению пожара.
Из показания дворника сгоревшей дачи видно, что у Краевских было много различного ценного имущества, но перед пожаром никакие вещи не вывозили из дачи. Накануне пожара у них происходила большая стирка белья, которое тоже сгорело.
Кассир-управляющий сада «Озерки» М. А. Островский рассказывает, что сад этот был заарендован фирмой санкт-петербургского велосипедно-атлетического общества исключительно на средства Ведерникова. Придя в ночь пожара на дачу Краевского для подведения счетов, он курил папиросы и незаметно для себя задремал. Во время сна бывшая у него в руках папироса могла упасть на лежавшие на полу конфетти и воспламенить их. Сам Ведерников совсем не курит. После пожара подсудимый Ведерников сделался почему-то боязливым и приобрел даже револьвер для защиты. Краевская, бесспорно, имела на него большое влияние.
Подсудимая просит слова и дает объяснения относительно своей совместной жизни с покойным мужем. Говорила она нечисто по-русски, с французским акцентом, и в голосе ее слышались глухие, подавленные рыдания. Нового она мало внесла в следствие. Квартирная обстановка, ставшая добычей огня, по ее словам, стоила очень дорого. После пожара в Одессе супруги Краевские получили до 16 тысяч рублей страхового вознаграждения, и это дало им возможность более широко жить.
Казначей велосипедно-атлетического общества господин Александров видел подсудимого после пожара с обожженным лицом и рукой. Ведерников сообщил ему, что все его вещи сгорели, и был одет в довольно плохой костюм. Казначей не считал его способным на такое преступление, как поджог.
Далее свидетельские показания обрисовывают постоянно проявлявшуюся ревность Ведерникова. Между прочим, он был очень недоволен поездкой Марии Краевской в ночь пожара из сада в компании бравых добровольцев-пожарных. Очевидно, в нем говорило острое ревнивое чувство.
— Если бы она не ездила в ту ночь, а вернулась домой, то спасла бы мужа, — негодовал он.
Первым вопросом Краевской по возвращении на сгоревшую дачу было: «Где мой муж?»
— Он, должно быть, обжегся и поехал на перевязку, — стали успокаивать ее.
Находясь в доме предварительного заключения, Ведерников послал подсудимой 50 рублей, и она немедленно же из этих денег отослала 10 рублей своему кучеру.
Однажды Ведерников застал кучера в комнате Краевской. Он держал себя очень непринужденно с барыней, развязно говорил и помогал ей подрубливать платки. Ведерникова взорвала такая фамильярность, и он устроил Краевской целый скандал. Бешеная, дикая ревность всецело поглотила его.
Пожарный брандмейстер Лоренсон рассказывает, что, уехав в ночь пожара с Марией Краевской из сада «Озерки», они вместо проверки афиш стали кататься по дачным районам и затем в каком-то ресторане пили лимонад. Когда они возвратились в Шувалово, дача провизора уже догорала. Имущество этой дачи, по мцению свидетеля, было очень ценное и стоило не менее 12 тысяч рублей.
С своей стороны, помощник брандмейстера, А. Г. Мордуховский, добавляет, что они ездили с Краевской, между прочим, в деревню Юкки, и подсудимая все время ничем не обнаруживала своего волнения. Напротив, она казалась очень спокойной и беспечно веселилась. После пожара невольно возникло предположение, что кассир М. А. Островский курил на даче папиросу и, задремав, уронил ее на мешочки с конфетти. Другой причины пожара трудно было подыскать. Как покойный провизор, так и его знакомый В. А. Бандуров, ночевавший с ним и сломавший себе при падении руку, — оба ушли из Озерковского сада значительно опьяневшие. За ужином Бандуров побивал рекорд пьянства: кряду пил шампанское, простую водку и пиво, из-за чего по дороге к даче принужден был сесть на землю.
МАРГОЛИН Сергей Павлович
Родился в 1853 году По окончании Санкт-Петербургского университета прослушал полный курс военно-юридической академии После громкого дела о Макшееве (интендантские хтоупотребления) в 1882 году С П Марголин перешел в общую адвокатуру и дебютировал защитником в сенсационном деле Мироновича, обвинявшегося в убийстве Сарры Беккер Важнейшими его делами были монстр-процесс гельсингфорских инженеров, продолжавшийся два месяца, процессы «Черной банды», графа Соллогуба, Коссацкого, Юлиана Геккера (убийство), Ведерникова и Краевской Должен был выступать по известному делу бывшего священника Гапона, но неожиданно скончался за границей
Странные родственные отношения Ведерникова в семье провизора были известны и многим другим свидетелям.
После же катастрофы подсудимый начал жаловаться госпоже Александровой на участившиеся поездки Краевской в Петербург в компании с фатоватым кучером. Каждый раз поздно вечером он ревниво ожидал на станции их возвращения.
Сделав донос на любимую женщину, молодой человек озлобленно хохотал, прыгал и вообще вел себя как бесноватый.
— Я обвинил ее, я обвинил! — чуть не плясал.
Когда чувство жалости закралось в его душу, он попробовал объясниться с молодой женщиной и покинул ее еще более озлобленный.
— Подлая, она не стоит, чтобы я простил ее! — возмущенно кричал он.
От него же госпожа Александрова слышала, что он мстит вероломной женщине.
Тяжелое, гнетущее впечатление произвел на публику опрос дочери сгоревшего провизора, симпатичной 13-летней девочки Марии. Во время пожара она выскочила на крышу первого этажа дачи и была снята дворником.
Девочка замечала загадочное отношение молодого квартиранта к ее мачехе. Особенно девочку удивляли бывавшие между подсудимой и молодым человеком резкие ссоры из-за мужчин.
Молодой человек приходил в состояние раздражения, негодовал на свою квартирную хозяйку и вскоре же опять мирился с ней. После пожара отношения между Краевской и Ведерниковым стали все более и более обостряться; молодая женщина ходила гулять со своей падчерицей в сопровождении кучера и боялась, что квартирант когда-нибудь застрелит ее.
Во время последних ссор она открыто говорила Ведерникову, что не хочет более видеть его у себя, на даче.
Девочка-свидетельница, видимо, была очень удручена торжественной обстановкой суда и имела жалкий, беспомощный вид.
Подсудимая попросила, наконец, удалить девочку, находя излишним и неудобным присутствие ее на следствии, изобиловавшем пикантными подробностями.
Суд удовлетворил это ходатайство, и малолетняя свидетельница была отослана домой.
Затем опрашивалась госпожа Э. Г. Меджинова, бывшая сожительница доктора Владислава Краевского. Это — молодая, изящно одетая дама, по происхождению башкирка, с миловидным, располагающим лицом. Держалась она на суде очень весело, расточая улыбки направо и налево, и своей поразительной жизнерадостностью приводила всю публику в игривое настроение. Показания ее, однако, дали небольшой материал для следствия Свидетельница слышала от кого-то, что сгоревший провизор и его жена существовали, главным образом, на средства своего молодого квартиранта.
В квартире Краевского, на Николаевской улице, проживала также несколько месяцев со своей подругой некто Н. Томара, учившаяся в консерватории и платившая за две комнаты до 130 рублей в месяц. По ее словам, Ведерников в семье провизора казался своим человеком и очень хорошо относился к детям Краевского, заботливо ухаживая за ними. Рядом с комнатами Н. Томара в квартире провизора проживала одно время еще какая-то немецкая чета, которая вскоре малодушно сбежала от бесконечных музыкальных упражнений своих соседок.
Свидетель В. А. Аксюк, из игроков, старался очернить подсудимого, но объяснения его были настолько неправдоподобны и курьезны, что публика хохотала, и председательствующий пригрозил удалить ее из зала.
Брат покойного провизора, Генрих Краевский, прямо с абцуга обрушился с целой обвинительной речью на обоих подсудимых. Он, по его же собственному признанию, решительно ничего не видел и не знает, но желает мстить за смерть своего брата и быть грозным обвинителем. Тем не менее тут же, на суде, выясняется, что после трагической смерти брата свидетель ничем не помог осиротевшим детям и не присутствовал даже на похоронах. Мало того, им же оспаривается право на наследство после другого умершего брата, доктора Владислава, у его незаконнорожденной дочери.
Еще более ожесточен на подсудимых второй брат провизора, Сигизмунд. О своих братьях он говорил по номерам: брат № 1, брат № 2.
— Мои показания, записанные у судебного следователя, были даны мною по чистой совести, но, может быть, и не без некоторой доли увлечения, — с пафосом объявил он, становясь в позу грозного судии.
Защита иронически улыбается.
Свидетель не может хладнокровно говорить о подсудимых и мечет на них громы и молнии. О, он, безусловно, обвиняет их в смерти своего незабвенного брата!
— Мое убеждение твердое, — говорит он.
— Вы потрудитесь отвечать только на вопросы и говорить о фактах, а не о своих убеждениях, — прервал его разглагольствования председательствующий.
— Когда вы были у своего сгоревшего брата?
— За год до его сожжения, — ответил свидетель, особенно подчеркивая последнее слово.
Квартирную обстановку провизора, заполнявшую десять комнат, он оценил всего в тысячу или максимум полторы тысячи рублей.
— Подсудимая, жена моего несчастного брата, была…
Сигизмунд Краевский не договорил и сделал многозначительный театральный жест в сторону Ведерникова.
Публика в самом веселом настроении духа, и судебным приставам стоит много труда успокоить ее.
— Квартира моего брата была вертеп, — продолжал далее свидетель. — Это были почти погибшие люди, обокраденные и обкрадываемые! — неистово кричит он.
Товарищу прокурора приходится недоумевать.
— Кто? Что? — спрашивает он. — Я все-таки не понимаю, кем обкрадываемые и что обкрадывали?
Свидетель. Да вы что, собственно, хотите знать?
Товарищ прокурора. Я хочу знать, кто были обокраденные.
— А, вы фамилии желаете узнать?
И Сигизмунд Краевский сделал неопределенный мелодраматический жест.
Товарищ прокурора отказывается допрашивать его.
— А где ваша жена? — полюбопытствовала защита у свидетеля.
— Моя жена? Моя жена увлеклась одним товарищем прокурора и… ушла! — резко отвечал он.
— Брата сожгли, иначе я не могу выразиться, — кричит он. — За него ответят перед судом Божиим. Он на вас смотрит.
— Вы, кажется, сами же говорили, что у судебного следователя немного увлекались, — политично заметила защита.
Дальше обнаруживается, что и этот свидетель является претендентом на наследство покойного доктора Владислава Краевского. У последнего была девочка, и, указывая на нее брату Сигизмунду, он выдавал ее за свою незаконнорожденную дочь. Это, однако, не помешало Сигизмунду Краевскому оспаривать у осиротевшей девочки имущество ее отца. Оставшиеся в живых братья Краевского считали почему-то неудобным помогать и детям, осиротевшим после смерти провизора, находя неприличным вмешиваться в такие дела.
Впрочем, Сигизмунд Краевский даже сомневается: действительно ли осиротевшие дети провизора — его родные дети. Провизор Краевский был маленького роста, а сын — почему-то большого, да и девочка ничего похожего не представляет.
После пожара дачи свидетель действовал заодно с интересами страхового общества, не желающего платить премии, — «подавал руку помощи утопающему страховому обществу», как выразился сам свидетель.
— А не писали ли вы донос прокурору, что в истории с пожаром дачи вашего брата заметно убийство? — осведомляется защита.
— Это я не делал и вам не советую делать!..
С покойным доктором Краевским свидетель однажды «немного» поссорился.
— И долго тянулась эта ссора? — спрашивает присяжный поверенный Марголин.
— Лет пять, не больше… Из-за пустяков разошлись.
— А можно узнать, что это за пустяки?
Оказывается, что свидетель продал какую-то дорогую вещь и получил за нее деньги, между тем как покойный доктор считал эту ведь своей собственностью.
— Что же касается наследства, о котором все говорят, то я считаю получение наследства вообще нарушением порядочности и государственного строя. Это указывают мой ум и сердце, — философствовал Сигизмунд Краевский.
От «наплыва зловредных существ» на свидетеля была одно время подана жалоба прокурору.
— Может быть, и теперь есть жалоба? — не унимается защита.
— Н-не знаю, — с достоинством отвечает свидетель.
В заключение он просит суд отпустить его домой.
— Я очень утомился и могу оказаться бесполезным для отечества, — витиевато мотивировал он свое ходатайство.
Суд, однако, счел пока преждевременным удовлетворить эту просьбу.
Любопытство публики дошло до апогея, когда председательствовавший отдал распоряжение ввести в зал крестьянина Алексея Полоза.
Сотни глаз впились в этого свидетеля. Дамы в ажитации поднимаются со своих мест, чтобы лучше рассмотреть красивого, франтоватого кучера, предполагаемого счастливого соперника Ведерникова. Молодой человек, лет 27, прилично одетый, в белом воротничке и в брюках навыпуск, он непринужденно входит в зал. Начисто выбритое лицо его, с небольшими подстриженными усами, носит грубый, вульгарный отпечаток. Роста немного выше среднего, прилизанный, с тонкими вогнутыми ногами, он способен играть роль сердцееда в простом рабочем кругу.
По-видимому, раньше он находился на военной службе и обнаруживает вполне солдатскую выправку. На все задаваемые ему вопросы он беспрестанно твердил: «Так точно», «Никак нет» и «Не могу знать».
На службу к Краевским этот кучер поступил недели за четыре до пожара и, по его показанию, долго не подозревал о разыгрывавшейся ревности Ведерникова. О своих отношениях к хозяйке кучер говорит очень сдержанно, не позволяя себе ни одного намека на близость с ней.
После пожара Краевская, перебравшись на другую дачу, приказала ежедневно ночевать на этой даче и Полозу, обыкновенно спавшему раньше при конюшне на другом дворе.
— Нас только две женщины, и я боюсь, — объяснила она свое распоряжение.
Кучер спал в мезонине, «от скуки» подшивал хозяйке полотенца и ездил с ней в Петербург в одном и том же вагоне и на одном извозчике.
Куря втихомолку папиросы, он почему-то старался скрывать это от Краевской.
Ведерников стал посылать его однажды в пожарное депо с поручением, но кучер не пошел и был поддержан своей хозяйкой.
— Вы служите у меня, а не у Ведерникова, — говорила она сердито.
В первых числах августа, когда Ведерников озлобленно добивался объяснения у молодой женщины, последняя под влиянием испуга заперла и свою комнату, и дверь, которая вела в помещение кучера.
— Зачем же вы-то были заперты? — спросил председательствующий.
— Не знаю, — коротко отвечал Полоз, плутовато взглядывая по сторонам.
Свидетель объяснил тем, что Ведерников в последнее время был в высшей степени возбужден, бегал по комнатам Краевской с револьвером и угрожал смертью. Спал он одетый, не расставаясь с револьвером. Падчерица Краевской тайно отобрала у него смертоносное оружие и передала мачехе, а от последней револьвер перешел к Алексею Полозу. От нее же он получал в подарок дорогие батистовые платки и разные вещи из белья ее покойного мужа.
6 августа Ведерников возвратился на дачу в полночь и позвонил.
На даче царило полнейшее безмолвие.
Молодой человек нетерпеливо зазвонил во второй раз и через стеклянную дверь увидел испуганно выбежавшую из кухни полуодетую Краевскую. Из этой кухни ход шел наверх к кучеру.
Ведерников почувствовал себя опозоренным и был придавлен ревностью.
Из показания доктора Зильберга, состоящего вречом дома предварительного заключения, выясняется, что арестованный Ведерников проявлял форменную истерию. У него были сильные головные боли, нервные припадки и безотчетная тоска. Он часто плакал и представлял из себя слабую, неуравновешенную натуру. В доме предварительного заключения он признавался, что ложно оговорил любимую им женщину и мотивировал этот поступок мучительным чувством ревности.
Военный врач Покровский также удостоверяет, что обстановка квартиры Краевских была довольно богатая. Бронза, картины, люстра, рояль, ковры и другие предметы роскоши стоили, без сомнения, немалых денег.
Свидетельница Александрова сообщает, между прочим, что подсудимый в разговоре с ней как-то проговорился и указал причину предпочтения ему Краевской своего грубого, невежественного кучера.
— Что ж это за причина? — спрашивают у нее на суде.
— Ах, я не могу, мне неприлично сказать это, — смущается она.
Врач Шмановский, словоохотливый старик, называет себя самым наиближайшим другом покойного доктора. Жену его брата-провизора он очень недолюбливал.
— Она была шансонеткой, — объясняет он, — и есть фотография, где она изображена танцующей, с бокалом шампанского, самый неприличный французский танец, который я не могу даже назвать… Можно отыскать пример в древнейших временах…
— Ой, нет, пожалуйста! Нам не надо древних времен. Говорите только о новейшем, — последовало замечание председательствующего.
Свидетель начинает жаловаться на Марию Краевскую, что она от всей души ненавидела его и при всяком удобном случае старалась отделаться от него. Это очень хитрая женщина, умеющая кружить головы легкомысленным мужчинам. Ведерников увлекся страстью к ней, и, совсем потеряв голову, он стал уже ненормальным человеком.
— После смерти доктора Владислава Краевского, — говорил свидетель, — последовало расхищение его имущества братьями и сестрами, и в результате дело дошло до прокурора.
Один из дачников, господин Шапиро, уверяет, что подсудимый во время пожара дачи принимал горячее участие в тушении огня, был обожжен и со слезами обращался ко всем:
— Я вас Богом умоляю, спасите Краевского.
Но никто не хотел рисковать своей жизнью. Дача со всех сторон пылала.
Ведерников зарыдал.
— Спасите же! Я дам сто рублей, озолочу! — дико кричал он.
Проходят перед присяжными заседателями еще несколько свидетелей, и суд приступает к чтению письменного показания умершей старушки Марии Брюне.
Она откровенно сознается, что на предварительном следствии она неверно назвала Краевскую своей незаконнорожденной дочерью. В действительности она не знает, кто были родители Краевской.
Когда Брюне проживала в качестве кухарки в Париже, какие-то незнакомые люди принесли к ней на воспитание маленькую девочку и дали ей 35 тысяч франков. Через некоторое время Брюне получила от неизвестного еще 5 тысяч франков и более уже не имела во всю жизнь ни малейшего известия о таинственных лицах, принявших участие в судьбе девочки. Брюне отдала девочку в пансион при одном из женских католических монастырей. Достигнув зрелого возраста, воспитанница приехала из Франции в Одессу, служила здесь гувернанткой и, наконец, вышла замуж за провизора Краевского.
Ввиду своего таинственного происхождения Мария Краевская называла себя иногда виконтессой и сильно сердилась, когда находились неверующие.
Безумно любивший ее Ведерников, воспользовавшись смертью провизора, стал резко настаивать, чтобы она вышла за него замуж.
Молодая женщина наотрез отказалась под предлогом, что неудобно так скоро вступать в новый брак после трагической смерти мужа. Она решительно отрицает существование каких бы то ни было интимных отношений между ней и подсудимым.
В качестве певицы «Помпея» она выступала раз десять, не более, и потерпела неудачу.
Судебное следствие, наконец, закончилось.
В одиннадцать часов ночи 30 марта началась речь прокурора.
Обвинитель напоминает присяжным заседателям великий принцип, что всякое сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. Но к этому принципу, по его мнению, надо относиться осмотрительно.
— Мы явились сюда не защищать, не обвинять и не оправдывать, а судить, — говорит он. — В данном деле необходимо тщательно разобраться, хотя и имеется сознание одного обвиняемого, но оно в делах уголовных играет незначительную роль.
Переходя к сущности процесса, товарищ прокурора обрисовывает слабохарактерную личность подсудимого, попавшего в цепкие руки хитрой, настойчивой женщины с твердой, парализующей волей. Благодаря обуревающей его страсти он для задуманного преступления вскоре становится в ее руках послушным орудием. Женщина эта от него берет все и влечет за собою по наклонной плоскости, доведя его, наконец, до позорной скамьи подсудимого. Только дикая, слепая ревность, желание насладиться местью заставили его раскрыть преступление, и обвинитель уверен, что это преступление действительно было. В противном случае, трудно вообразить, чтобы Ведерников из-за одной лишь мести мог посягнуть на злое, возмутительное дело: ложно оговорить женщину, посадить ее на семь месяцев в тюрьму и лишить бедную, осиротевшую девочку ее матери.
В общем, товарищ прокурора поддерживал обвинение против обоих подсудимых.
Выступивший со стороны страхового общества присяжный поверенный Мандель также находил поджог дачи Краевского несомненным фактом.
Среди публики замечается вдруг сильное волнение. Многие встают со своих мест, и происходит невообразимая давка. Начинает говорить присяжный поверенный С. П. Марголин, защищающий Ведерникова. В блестящей литературной речи, изобилующей образными выражениями, талантливый защитник шаг за шагом разбивает все доводы обвинения. Он страстно говорит о гуманных началах правосудия и священной задаче присяжных заседателей.
— Приглядитесь к семье Краевских в период их первого знакомства с Ведерниковым — и вы увидите семью особого типа, — начал он. — Во главе ее стоял человек, по внешнему виду весьма обязательный и уступчивый. Его жена, Мария Краевская, шесть лет тому назад казалась очаровательной светской дамой, ведущей свой род от таинственного виконта, проживающего на юге Франции. Теперь следствием обнаружено, как эта женщина завоевала свое общественное положение. В доме Краевских было весело и уютно, туда приходила молодежь, там играли в карты, пили вино, ухаживали за хозяйкой.
Подсудимый Ведерников за этот период времени только что прибыл в Петербург. Это был молодой провинциал, мешковатый и неловкий, с необыкновенно яркими галстухами, багрово краснеющий при входе в светскую гостиную Краевской; юноша без воли и характера и, как теперь установлено, с ярко выраженными признаками истерии, сентиментальный и чувственный, двадцать один год… весна жизни, предчувствие волшебного счастия, утро чудного дня. На одном из балов он был замечен Краевской, и с этой минуты в его жизнь ворвалась восторженная любовь. Это юношеское чувство одним дает счастье, наслаждение и покой, другим — несчастье и муки. Что случилось здесь, мы знаем. Через дымку свидетельских показаний нам рисуются их интимные отношения, подернутые чем-то нездоровым, эротическим. Мы видим в этих отношениях непрерывное чувственное возбуждение, взрывы страстей, едкое и жгучее сладострастие.
Установив, что в центре настоящего дела — мутный поток страстей, защитник подсудимого перешел к изложению доказательств, опровергающих обвинение. Защитник указывает на спокойствие Ведерникова и Краевской перед возникновением пожара. Подсудимые не могли не понимать, к чему ведет поджог сухой деревянной постройки, наполненной людьми. Обвинение рисует госпожу Краевскую женщиной безнравственной, способной на все, но область половой порочности не исключает чувства любви к своей матери, всегда жившей подле нее, к детям мужа: Марии-Антуанетте и Жоржу.
— Шестнадцатого июля в шесть часов утра в верхнем и нижнем помещении дачи спали дети, мать семидесяти лет, покойный Краевский — все гнездо обвиняемой. Могла ли она «заказать» поджог такой дачи и в то же время спокойно отправиться с двумя молодыми людьми в местечко Юкки, отстоящее от места пожара на несколько верст? — говорит защитник. — Мы расспрашивали спутников о поведении Краевской. Нам отвечали: «Она была весела, смеялась, мы не заметили никакого признака волнения и притворства». Такого же рода поведение Ведерникова. Он нянчится с детьми, устраивает им елку, проводит ночи подле больного Жоржа. Обвиняемая Краевская могла заставить подсудимого бросить мать, сестер, проводить время в притонах карточной игры, но не поджечь дачу, наполненную детьми. На такое дело у подсудимого не было сил по свойству его натуры, в сущности мягкой и доброй.
Посмотрите на образ действий обвиняемого во время пожара — и вы увидите, что поведение Ведерникова не совпадает с поведением человека, умышленно совершившего поджог. Подсудимый спасает Брюне, получает значительные обжоги и вновь бросается в огонь, чтобы вбежать по лестнице к Краевскому. Его удерживают дружинники; он вырывается, молит о спасении, рыдает и требует помощи. Пожар случился в шесть часов утра, когда часть населения Озерков уже была на ногах. По окружающим улицам уже двигались разносчики, дворник дома мел сад, горничная развешивала белье. Нельзя не признать, что для поджога были выбраны время и обстановка, не отвечающие аттестации подсудимых, как умных и тонких преступников.
После пожара шестнадцатого июля обвиняемые переселяются на дачу Строганова, между ними происходят постоянные ссоры, и, наконец, спустя три недели подсудимый приносит повинную.
Представитель обвинения говорит: «Слабый человек совершил деяние свыше своих сил. Им овладела скорбь о погибшем, и он принес повинную следственной власти». Неужели вы разделите такое убеждение? Вам рисуют Марию Краевскую как натуру сильную, хитрую, почти демоническую. Ее сообщник терзается совестью. Что же делает она для избежания опасности, внезапно вырезавшейся на темном фоне их жизни после пожара? Где ласки и чары, отуманивающие его ум, при помощи которых она цепко держит его в своих руках, бережет и не пускает? Осмотритесь в событиях этого времени — и вы заметите обвиняемую почти всегда подле кучера Полоза. Как могла эта женщина пренебрегать гневом подсудимого и смеяться над его страстью,'отравленною общим преступлением, из-за первого Полоза? Пусть разъяснит обвинение эту загадочную для нас психологию.
Девятого августа подсудимый принес повинную. Допрошенный урядником и Помощником пристава, подсудимый наполнял свои объяснения бесконечными рассказами о связи обвиняемой с Полозом, об их ночных свиданиях, прогулках подле озера, поездках в Петербург. Он властно требовал немедленного ареста кучера и тут же по секрету сообщил полицейским властям, что никакого поджога не было. Находясь в доме предварительного заключения, он признается в своем ложном оговоре отцу, матери, сестрам, госпоже Александровой, помощнику начальника тюрьмы, посылает Краевской свои последние деньги, молит ее о прощении, осыпает укорами.
Всем казалось, что этот человек не преступник, все его жалели и инстинктивно чувствовали, что под этим признанием кроется что-то другое. Сознаемся искренне, что в распоряжении обвинительной власти только одна улика — это явка с повинною, содержащей в себе оговор Краевской. Присмотритесь внимательно к этой улике — и вы увидите, что в оговоре подсудимого справедливо только то, что Краевские жили в Петербурге, что, переехав на дачу, они застраховали свое имущество, что Ведерников поступил в пожарную дружину и что шестнадцатого июля был праздник. Равным образом справедливо, что после праздника госпожа Краевская уехала кататься и что пожар произошел в шесть часов утра от загоревшихся конфетти. Все остальное содержание оговора — плод бедной и невыдержанной фантазии, полный взаимных противоречий. Разве может умная женщина, уезжая в пять часов утра с двумя дружинниками, «заказать» поджог в шесть часов утра, несмотря на присутствие посторонних лиц? Почему была пропущена темная июльская ночь, когда все члены семьи. были на празднике, почему Краевская не предупредила своего мужа?
НЕСТОР Александр Павлович
Родился в Омске в 1856 году Окончив курс Харьковского университета, в 1880 году поступил на службу В 1884 году был назначен судебным следователем виленского окружного суда, а в 1892 году членом екатеринодарского окружного суда В 1896 году вышел в отставку и поступил в сословие присяжных поверенных округа санкт-петербургской судебной палаты В качестве защитника принимал участие в процессах генерал-майора Пашкевича (обвинение в ростовщичестве), надворного советника Кочубея (подлог и вовлечение в невыгодную сделку), золотопромышленника Мордина (подлог)
Судебное следствие обнаружило источники, откуда исходило благосостояние дома Краевских. В течение многих лет подсудимый Ведерников играл в карты дома, в гостях, во всех клубах. Его посылали за добычей каждый день Широкие траты по дому не давали ему отдыха, ночная жизнь истощала его силы. Приблизьтесь к этой стороне дела — и вы увидите человека, расточившего свою жизнь, замучившего себя излишествами, истощенного и страшно усталого. Наблюдая Ведерникова в последних числах июля, мы видим его жалким, бессильным, с истерическими припадками.
Присяжный поверенный Марголин рисует затем душевное состояние подсудимого, почувствовавшего себя отвергнутым, его истерическую борьбу за свое положение в семье, взрывы безумной ревности и дикий экстаз мести, бросивший обвиняемого к прокурору. Охваченный чудовищными страстями, подсудимый отождествил свою месть с актом правосудия, создал улики и, гордый сознанием своей правоты, кинул ей в лицо обвинение в поджоге.
Свою речь защитник окончил воззванием к присяжным заседателям об оправдании обоих подсудимых.
Защитник подсудимой присяжный поверенный А. П. Нестор обратил внимание присяжных заседателей на то, что представитель обвинения не придает значения снятию оговора со стороны Ведерникова потому, что он не сделал этого во время предварительного следствия. Однако это было сделано Ведерниковым, но не перед следователем, которого он, естественно, боялся, а перед помощником начальника дома предварительного заключения, передавшим это, в свою очередь, лицу прокурорского надзора, и не вина Ведерникова, если объяснение его не дошло до следователя. Поджога не было. Следствием установлено, что два очень пьяных человека курили в^ комнате, наполненной легко воспламеняемым материалом. Кто из поджигателей перед самым пожаром поместил бы в, заготовленный костер восемь больших корзин белья, как это выяснилось на судебном следствии? Много нехорошего говорилось про Краевскую, но присяжные заседатели не забудут показания доктора Покровского, удостоверившего на суде ее лучшие качества — качества материнства по отношению к пасынку. Пристав впал в ошибку, поверив Ведерникову; ошибку эту повторил следователь, но теперь еще возможно исправить ее, так как решительное слово еще не произнесено. Краевская, благодаря безумному шагу Ведерникова, лишена свободы и томится среди каменных стен одиночной камеры, ожидая своего освобождения на основании справедливого и авторитетного слова присяжных заседателей.
Другой защитник, Зейлингер, сказал в защиту Краевской небольшую, но убедительную речь.
В своем последнем слове подсудимая со слезами стала говорить:
— Не виновата… Муж сгорел… Девочка осталась… Я в тюрьме…
И, не договорив, рыдая, она бессильно упала на скамью.
Ведерников только молча встал перед присяжными заседателями, и они удалились.
Прошло более получаса тяжелого, томительного ожидания, и, наконец, в пятом часу утра дрогнул отрывистый звонок. Наэлектризованная публика, как один человек, ринулась в зал. Наступило гнетущее безмолвие. Торжественно вышли присяжные заседатели, и старшина их начал читать роковой вопросный лист.
— Нет, не доказано, — был ответ присяжных заседателей на поставленный им судом вопрос: доказано ли было, что дача Краевского сгорела от поджога?
Истомившаяся публика не выдержала. Послышались радостные рыдания и крики. Председательствующий объявил А. А. Ведерникова и М. И. Краевскую свободными от суда и следствия.
УБИЙСТВО ПРОФЕССОРА ДОНБЕРГА
Летом 1900 года в Петербурге неожиданно разыгралось кровавое преступление, жертвой которого пал известный профессор-окулист Императорского клинического института, действительный статский советник Г. А. Донберг.
20 июля около 1 часа дня в квартиру его по Университетской набережной явился один из знакомых, Юлиан Геккер, и пожелал переговорить с ним наедине. Профессор принял его в своем кабинете, но не прошло и 5 минут, как вдруг до слуха стоявшего в коридоре у парадных дверей лакея долетел из кабинета звук выстрела, сопровождавшийся криком Донберга. Лакей бросился к дверям столовой комнаты и столкнулся здесь с выбегавшим профессором. В эту минуту раздался новый выстрел, и пуля вонзилась в косяк двери. Вместе с тем около дверей столовой показался взволнованный Геккер и направил дымящийся револьвер в бежавшего по коридору профессора. Лакей поспешил ухватиться за руку гостя и, несмотря на сопротивление, быстро обезоружил его.
На выстрелы прибежал также и ассистент профессора, доктор Коневский. Войдя в другой кабинет, где скрылся Донберг, он увидел последнего с побледневшим лицом.
— Меня Геккер ранил в живот, — объяснил ему профессор.
Коневский немедленно уложил его на диван и вышел из кабинета за льдом и сулемою. В дверях столовой ассистенту попался навстречу Геккер.
— Что вы сделали! Вы человека убили! — возбужденно обратился к нему ассистент.
— Ну, что ж? Очень рад, — спокойным голосом ответил убийца и спустился по лестнице в нижнюю квартиру, з которой проживала тетка его жены, Г. В. Рафалович. Вся семья Рафаловичей в это время сидела за завтраком, и Геккер ошеломил ее своим хладнокровным сообщением об убийстве профессора. Выпив стакан холодной воды, он снова поднялся в квартиру профессора, где и был задержан.
Несмотря на все принятые меры, Г. А. Донберг в тот же день скончался от раны.
Допрошенный в качестве обвиняемого в убийстве с заранее обдуманным намерением Юлиан Геккер сознался в своем преступлении.
По его словам, он еще в октябре 1896 года случайно познакомился в Пскове с девицей Ольгой Андреевной Фрейганг. Он до безумия увлекся ею, забыл, что почти вдвое старше ее (Фрейганг было тогда 22 года), и предложил руку и сердце. 3 ноября состоялась их свадьба. Три года супружеская жизнь их казалась счастливой. Ольга Геккер, по-видимому, любила своего мужа и не скупилась на ласки, окружая его заботливостью и вниманием.
8 декабря 1899 года, когда они оба еще находились в постели, в спальню вошла прислуга и подала молодой женщине письмо. Быстро пробежав его глазами, Ольга Геккер смутилась и поспешно разорвала письмо на клочки.
— Кто пишет? — поинтересовался муж.
— Портниха… Неинтересное… — замялась она.
Геккеру, однако, показалось очень странным ее поведение, и, подобрав клочки письма, он увидел, что оно написано по-немецки. Кто-то, скрываясь за подписью «Н», извещал, что «сегодня нельзя чего-то сделать, а завтра в полдень». Присмотревшись к почерку письма, Геккер узнал в нем руку профессора Донберга, имя которого по-немецки писалось «Herman».
— Что это такое? — изумленно обратился он к жене.
Молодая женщина расплакалась и после некоторого колебания чистосердечно призналась, что Донберг стал ухаживать за ней, обещал жениться и с этой целью советовал ей хлопотать о разводе с мужем. При этом профессор, по ее словам, просил, по крайней мере, до следующей весны ничего не говорить об их разговорах Геккеру.
Уверив мужа, что она осталась верной женой, Ольга Геккер передала ему хранившуюся у нее фотографию профессора. В тот же день Геккер отправился к Донбергу, переговорил с ним и взял честное слово, что тот навсегда прекратит всякие ухаживания за его женой.
В 1900 году, 7 мая, Ольга Геккер, с согласия мужа, переехала на отдельную квартиру в Петербурге по Коломенской улице, и открыла магазин дамских шляп. Отправившись 17 июля вечером к ней на квартиру, Геккер не застал ее, а утром, к своему удивлению, узнал, что она совсем не ночевала дома. У него тотчас же зародилось подозрение, что жена снова возобновила свои связи с Донбергом и уехала на его яхту. Одолеваемый ревностью, Геккер достал из письменного стола револьвер и, зарядив его, отправился на поиски жены. Ее нигде не было в Петербурге. Узнав, что яхта Донберга «Гарри» стоит в Сестрорецке, Геккер поспешил туда и узнал от матросов, что жена его вместе с профессором провела две ночи на этой яхте и лишь 19 июля возвратилась в Петербург. Он оставил на яхте письмо, в котором требовал от Донберга назначить время для переговоров по «важному делу», и поехал в Петербург. Отправившись затем на квартиру профессора, он застал его дома и решительно потребовал у него объяснить свое поведение. В ответ на это профессор начал уверять, что он не злоупотребил доверием молодой женщины и ни в чем не виноват перед мужем. Не веря его объяснениям, Геккер стал настаивать, чтобы профессор женился на Ольге, взяв на себя расходы по бракоразводному делу, или же дал необходимые для этого деньги ему, Геккеру.
Донберг отказался жениться на молодой женщине, а относительно денег для развода предложил ее мужу явиться за ответом через несколько дней.
20 июня Ю. А. Геккер захватил с собой револьвер и явился снова на квартиру Донберга. Находясь в возбужденном состоянии, он молча подал профессору свое письмо, в котором требовал восстановить честь его жены посредством женитьбы на ней. Прочитав письмо, профессор ответил прежним отказом. Тогда Геккер, повторив свое требование еще два раза, выхватил револьвер и на расстоянии 6–7 шагов выстрелил в сидевшего против него Донберга.
В свою очередь, опрошенный за несколько часов перед смертью профессор Донберг рассказал, что он действительно ухаживал за женой Геккера, но только до декабря 1899 года, когда он дал ее мужу слово прекратить свои ухаживания. После этого он видел ее лишь два раза — на балу и на обеде у ее родных. 10 июня он вдруг получил от нее письмо с жалобами на свою судьбу. Узнав из письма, что муж бросил ее без всяких средств к жизни, он навестил молодую женщину в ее магазине, а затем также послал ей письмо с приглашением приехать в Сестрорецк и провести воскресный день вместе на яхте. Она охотно последовала его приглашению и две ночи провела на яхте, но в близкую связь с ним не вступала. После этого Геккер два раза навещал его в квартире и настойчиво заставлял жениться на его жене, потребовал денег на развод. В роковой день преступления Геккер, не дав ему времени дочитать письмо, резко спросил: «Какой будет ответ?» Он не успел еше ответить на это, как вдруг раздался выстрел, и пуля попала ему в живот.
Письмо, поданное Геккером профессору, было следующего содержания:
«Милостивый государь Герман Андреевич! Счастливая случайность открыла мне 1 июня глаза на причину возбужденного состояния моей бедной, нервнобольной жены. Причиной этого — вы, ваши неблагородные и бесчестные поступки. Вам, как врачу, более чем кому-либо должна быть известна слабость воли таких субъектов и та легкость подчиняться чужому влиянию, которой вы не преминули воспользоваться с 17-го по 19 июня. Поступок ваш подл, недостоин. Вы — человек с положением, именем, проживший около полустолетия, так низко воспользовались влиянием. 8 декабря прошлого года я говорил с вами по этому поводу, и вы дали мне честное слово оставить ухаживание за моей женой. Исполнили ли вы его? Как называют людей, подобных вам? Для восстановления чести жены я требую от вас: 1) по получении развода со мной жениться на ней, — у меня нет средств для ведения бракоразводного процесса, почему вы ссудите мне под вексель, обеспеченный моим страховым полисом, нужную сумму, согласно требованию присяжного поверенного, которому мною будет поручено дело; 2) до окончания процесса, во избежание ложных толков об отношениях ваших к жене моей, вы не будете с ней видеться, то есть не будете вместе гулять, бывать в театрах и посещать ее квартиру, — все должно ограничиться только письменной корреспонденцией. По прочтении немедленно прошу дать мне ваш ответ письмом же. Слову вашему больше не придаю значения. Ю. А. Геккер».
Дальнейшим следствием по этому делу было установлено, что Геккер, происходивший из потомственных дворян, по оставлении военной службы имел частную службу и в 1896 году заведовал материальным складом Рыбинско-Бологовской железной дороги с годовым содержанием в 2 400 рублей.
После свадьбы супруги Геккер поселились в Пскове, перезнакомились почти со всем городом и повели жизнь на широкую ногу. Они стали часто выезжать на балы и вечера. Посещение театра сделалось их потребностью, и, кроме того, госпожа Геккер сама начала принимать ближайшее участие в любительских спектаклях и живых картинах. Такая привольная жизнь супругов тянулась около трех лет, причем они уезжали также за границу, в Крым и на известные курорты, нигде не отказывая себе в удовольствиях. Само собой разумеется, жалованья Геккера не могло хватать на все это, и так как у него не было никаких других средств, то он вскоре запутался в долгах. Между тем Ольга Геккер не задумывалась над затруднениями мужа, желала блистать в обществе и любила ухаживания мужчин, отвечая кокетством.
Для посторонних глаз совместная жизнь супругов казалась нормальной, но это было обманчивое впечатление. В действительности же разность возраста, отсутствие больших материальных средств и нравственной связи между супругами постепенно подготовили почву для крупных семейных недоразумений. По-видимому, нелады в семье заставили Ольгу Геккер переехать, наконец, в Петербург и поступить на высшие женские курсы. Здесь и завязалось ее роковое знакомство с профессором Донбергом. Он виделся с ней почти каждый вторник на обедах у госпожи Рафалович, и знакомство их до такой степени окрепло, что молодая женщина два раза была у него на квартире. Когда муж узнал о ее отношениях к профессору, семейная жизнь их сделалась невозможной. Начались ссоры, и Ольга Геккер решила фактически разойтись с мужем. 18 февраля 1900 года она выдала ему следующую расписку: «Я, нижеподписавшаяся Ольга Андреевна Геккер, даю сию расписку моему мужу Юлиану Антоновичу Геккеру, обязуюсь с 1 мая 1900 года не требовать от него ни гроша на мое содержание, если Юлиан Антонович даст мне 1 мая 1900 года отдельный бессрочный паспорт. Нося фамилию мужа, обязуюсь вести себя прилично. Причина нашего разрыва — я, О. Геккер. С.-Петербург, 18 февраля 1900 г. Р. S. Обязуюсь и впредь никогда не возвращаться к мужу и не обращаться к нему за помощью. О. А. Геккер».
Молодая женщина оставила курсы и 7 мая переехала на новую квартиру, при которой открыла магазин дамских шляп. Муж продолжал навещать ее, уезжал на время к своим родным в Варшаву и, когда обнаружилось ее пребывание на яхте Донберга, стал настаивать, чтобы она попросила у последнего денег на развод и «не трепала бы его фамилии». Жена возразила, что профессор может отказать в этой просьбе, и это заявление в высшей степени раздражило его. На другой день в квартире Донберга разыгралась драма.
Юлиан Геккер был освидетельствован в отношении его умственных способностей, и санкт-петербургский окружной суд нашел, что он не обнаруживает явлений какого-либо психического расстройства и в день убийства находился в нормальном состоянии.
Дело это рассматривалось в санкт-петербургском окружном суде под председательством Н. А. Чебышева. Представителем обвинительной власти являлся товарищ прокурора Новицкий. Защищали подсудимого присяжный поверенный Марголин и Миронов. Ввиду огромного наплыва публики в зал заседания пускали только по билетам. Несмотря на это, масса любопытных заполняла обширный коридор суда, интересуясь исходом процесса.
Ю. А. Геккер — видный, представительный мужчина, лет сорока пяти, с интеллигентной наружностью, в очках, с солидной бородой, расчесанной надвое, и грустно-сосредоточенный — производил располагающее к нему впечатление.
Среди экспертов по его делу выступали также профессора-психиатры — Нижегородцев и Чечотт. Всех свидетелей вызвано было до тридцати человек.
Жена обвиняемого на суд не явилась, отказавшись давать показания.
На вопрос председательствующего Геккер признал вину и отрицал только заранее обдуманное намерение.
— Я находился в то время под гнетом чего-то ужасного, — взволнованно объяснял он. — Что-то шептало мне нехорошие советы: потребовать крови, но я поборол себя. Первого июня я оставил револьвер дома и отправился к профессору для переговоров. Глубоко оскорбленный, с поруганной честью, я вызвал его на дуэль — и получил отказ. А я думал, что он, как бывший воспитанник Дерптского университета, где поддерживается рыцарский дух, не замедлит удовлетворить мое требование!.. Тогда я предложил ему другой исход из позорного положения — развод жены со мной, чтобы он женился на ней. Для бракоразводного дела нужны были деньги, и я хотел обеспечить их выдачей Донбергу векселя под свой страховой полис. Он упорно отказывался от женитьбы и начал откладывать окончательные переговоры по этому делу со дня на день. То у него какое-то заседание, то он занят серьезной работой или должен отправиться на гонки в Гельсингфорс. Наконец, я не мог более терпеть… Моя честь страдала!
Подсудимый перестал говорить и начал глухо рыдать.
— Позвольте мне, господин председатель, не продолжать далее, — прерывающимся, подавленным голосом произнес он. — В деле есть мои показания об этом.
Из прочитанного затем на суде показания Геккера, данного им во время предварительного следствия, выясняется, что он сам, желая дать больший простор желаниям жены, предложил ей поступить на высшие женские курсы. С этой же целью, чтобы не расставаться с ней, он решился оставить свое место службы и переехать в Петербург. Ольга Геккер очень обрадовалась его предложению. Вскоре все устроилось хорошо, и молодую женщину, знавшую иностранные языки и обладавшую прекрасной памятью, охотно приняли на курсы. Нервозная раньше, она сделалась после этого веселой, жизнерадостной женщиной, прежние мелкие недоразумения с мужем были забыты, и она стала трезво относиться к действительности. Но прошел известный период, энергия ее спала, сменилась апатией, она начала тосковать и плакать, пошли капризы и домашние сцены. Потом в ней вдруг пробудилась страстная любовь к мужу, и она стала умолять взять ее обратно в Псков. «Я не могу без тебя жить, мне скучно», — твердила она упорно. Такая просьба для Геккера, остававшегося еще в Пскове и только изредка навещавшего жену, была очень приятна, и он чувствовал себя в это время счастливейшим человеком на свете. Каких-либо подозрений на ее счет у него не было. Он любил и, как ему казалось, был взаимно любим. По-видимому, и сама Ольга Геккер сознавала некоторые причуды своего характера и твердила мужу в минуту откровенности, что у нее существует двойственное «я». Одно «я» настоящее, хорошее, а другое — пришлое и злое.
— Не обращай на меня внимания, — нередко говорила она. — Я сама не знаю, что со мной делается.
То она была доброй, любящей женой, то вдруг относилась предубежденно к мужу, волновалась и мучила его своим характером.
Так продолжалось вплоть до получения ею письма от Донберга, которое она поспешила разорвать. Когда произошло объяснение ее с мужем по этому поводу, она сказала:
— Как жена, я перед тобою не виновата, но, как человек, я не оправдала твоего доверия. Я страдала и страдаю от этого. Прости и забудь.
Встревоженный ее странным поведением, Геккер начал усиленно хлопотать о переводе его в Петербург, сознавая, что больной, впечатлительной жене необходима помощь близкого человека. Однако с ней все более и более совершалась перемена к худшему. На нее находили припадки беспричинной злости, и она стала грозить совсем бросить мужа. Подсудимый предполагает, что все это происходило после ее свиданий с Донбергом, который мог вселять в нее предубеждение к мужу.
— Я думаю, что многие предосудительные поступки она делала под влиянием гипнотического внушения, — говорил в своем показании Геккер. — В данном случае представителем науки руководили самые низменные, животные инстинкты.
Когда он возвратился из Варшавы и навестил жену, он заметил в ее глазах хорошо знакомый ему злой огонек.
— До свидания, Лелечка, — стал прощаться он, покидая ее квартиру.
— Прощай, и навсегда, — загадочно ответила она.
Через несколько дней после этого она ночевала на яхте «Гарри».
Успокоившись, подсудимый начал снова рассказывать на суде о пережитой им тяжелой драме.
Когда он пришел к профессору с письмом, он не думал его убить и взял с собой револьвер только из боязни насилия с его стороны при объяснении. Прочитав письмо, Донберг холодно заметил:
— Вы здесь очень много наговорили.
— Я вас категорически спрашиваю: угодно ли вам жениться на Ольге? — спросил Геккер и повторил свой вопрос.
Профессор медлил с ответом. Его фигура показалась в эту минуту Геккеру противной, гаденькой, и он не знал, что с ним вдруг сделалось… Он поднял револьвер и выстрелил…
О главной причине этой драмы — Ольге Геккер — обвиняемый отзывался хорошо. Ее большой ум, глубокая начитанность, скромные требования к жизни и красота при первом знакомстве его с ней произвели на него неизгладимое впечатление. В его глазах она казалась ему почти идеальной женщиной, и, женившись, он посвятил ей всю свою жизнь. Ни в чем не отказывая ей, он за каких-нибудь три года израсходовал на семейную жизнь до 17 000 рублей, прибегая и к посторонним заработкам. Продолжал он ее безумно любить и после, когда характер ее начал давить его. Он все надеялся, что ее нервы наконец успокоятся и она станет любящей, рассудительной женой.
Свидетельские показания характерно обрисовывают всех действующих лиц разыгравшейся в жизни Геккера мрачной драмы. Покойный Донберг в показаниях его ассистентов является симпатичным, всесторонне образованным человеком, с манерами джентльмена. Составивший себе громкую известность как окулист, искусный оператор и профессор Императорского клинического института — Г. А. Донберг имел огромную практику и зарабатывал в год до 30 000 рублей. В отношении своих пациентов он был в высшей степени предупредителен и охотно шел на помощь к бедным, нередко помогая из своих средств таким больным. Кроме того, он оказывал также широкую помощь и вообще нуждавшимся, в особенности учащейся молодежи. В отношениях его с женщинами ничего предосудительного не замечалось.
Шкипер яхты «Гарри» Ю. Сандбанг в своем показании отмечает, между прочим, что на яхте профессора иногда бывали и другие дамы, приезжавшие с кем-либо в компании. Ольга Геккер, как подтвердил юнга Туохино, в день своего прибытия на яхту была очень радушно встречена профессором. В салоне яхты появились чай и вино. На ночь профессор приказал поставить кровати в двух отдельных каютах, соседних между собой и выходивших дверями в салон.
О самом Геккере свидетели в большинстве отзываются очень хорошо. Это был прекрасный, дельный человек, действительно глубоко любивший свою жену. Сестра последней, Наталья Фрейганг, отзывается о нем с большим уважением и считала бы за счастье, если бы Геккер простил свою жену и снова сошелся с ней. Такого же мнения о подсудимом и другие родственники, считающие его добрым, любящим мужем.
МИРОНОВ Петр Гаврилович
Родился в 1853 году в Тверской губернии Окончив в 1875 году курс Петербургского университета, был на военной службе, вышел в запас в чине подпоручика Поступил в сословие присяжных поверенных и с 1886-го по 1902 год был членом совета присяжных поверенных округа санкт-петербургской судебной палаты П. Г. Миронов, пользующийся заслуженной известностью, выступал во многих выдающихся уголовных делах, в том числе в целом ряде банковских процессов, по делу об убийстве Старосельского на Кавказе, убийстве профессора Донберга и в деле Меранвиля
Зато об Ольге Геккер отзывы получаются в высшей степени неблагоприятные.
Прислуга Краковяк рисует ее крайне грубой, дерзкой женщиной, которая не стеснялась в выборе выражений и ругалась как хороший извозчик. Нисколько не уважая мужа, она открыто говорила, что любит только Донберга и выйдет за него замуж. Узнав случайно, что профессор убит, она не поверила этому известию и послала купить номер газеты.
Трагическая кончина Донберга, по-видимому, не прошла бесследно для нее, и она стала искать забвения в водке. После этого, по словам прислуги, к ней ходили и другие мужчины, причем она упрашивала прислугу скрывать это от всех ввиду того, что над ней был будто бы учрежден полицейский надзор. Поведение Ольги Геккер в это время вообще было странное. Она временами разговаривала сама с собой и плакала.
Мастерица ее Трофимова рассказывала, что магазин О. Геккер торговал плохо и едва сводил концы с концами.
Геккер на расспросы объясняла, что она получает иногда деньги от своей матери. Нервная и раздражительная, она грубо обращалась с мужем и вообще третировала его свысока. Незадолго до убийства профессора, после двухдневного отсутствия хозяйки, мастерица стала спрашивать ее, где она провела все это время.
— Была на яхте у Донберга, — последовал ответ.
— Неужели же вы все-таки остались чисты в своих отношениях с ним?
— О, нет, после этой ночи мы уже с Донбергом близки, — развязно сказала будто бы Ольга Геккер.
Когда умер профессор, она вступила в любовную связь с каким-то молодым человеком. Отправляясь по утрам на могилу погибшего из-за нее профессора, она вечером принимала у себя на квартире своего любовника, не уклоняясь от посещений и других мужчин.
Ученица Плотникова, работавшая в ее магазине, слышала однажды, как Ольга Геккер раздраженно кричала мужу:
— В ногах буду у Донберга валяться, а к тебе не пойду!
Полное презрение сквозило в ее отношениях к подсудимому, и, взбешенный, он пригрозил как-то, что застрелит Донберга.
— Если хочешь стрелять, то лучше в меня, — в ответ на это сказала она. — Только, пожалуйста, не в лицо…
С яхты она вернулась веселой и жизнерадостной и говорила всем, что чувствует себя очень счастливой и прекрасно провела время с профессором Донбергом.
Подозревая жену в неверности, Юлиан Геккер перед своим преступлением стал следить за образом жизни ее на отдельной квартире и подговорил прислугу жены наблюдать за всеми мужчинами, появляющимися на этой квартире.
Некоторых свидетелей, ввиду щекотливости их показаний, суд признал необходимым допросить при закрытых дверях, удалив из зала публику.
Из дальнейших показаний выясняется, что у Ольги Геккер еще до замужества был какой-то неудачный роман со шведом.
Юлиан Геккер, находясь на военной службе, участвовал вместе с другими войсками в русско-турецкой войне, затем лет пять занимался земледелием и, наконец, перешел на частную службу. Сам Донберг обрисовывается как известный ученый и добрый человек с рыцарским характером, у которого были только две слабости: любовь к спорту и к хорошеньким женщинам.
По окончании допроса свидетелей оглашаются наиболее существенные для дела письменные документы. Первоначально читается дневник Ольги Геккер под заглавием: «Моя исповедь». Дневник этот она начала вести еще до замужества и записывала в него главным образом свои мысли и впечатления.
«При благоприятных условиях из меня может выйти искренно преданная, любящая жена, — говорится в начале дневника. — Приятно, когда есть цель в жизни, когда есть для кого усовершенствоваться и быть хорошим человеком…» «Я хочу видеть в муже авторитет, чтобы он являлся главой дома… Трудно прожить девушке без цели в жизни. Старая дева — это лишняя, скучная гостья на жизненном пиру… Думаю, что буду хорошей матерью. Мой идеал — воспитывать детей и развивать их нравственную сторону. Для семейного счастья надо, чтобы обе стороны поклялись никогда не иметь друг от друга секретов, чтобы они составляли одну душу (приводятся ссылки из сочинений Вольтера о семейной жизни). Писала совершенно секретно, что чувствую, что думаю, — не судите».
В другом месте дневника Ольга Геккер, тогда еще девушка, пишет: «Все равно, где ни жить. Мой идеал — ровная, покойная жизнь. Вдвоем с мужем — любимым человеком это легко. Я готова пойти на всевозможные уступки, чтобы в доме был мир и довольство. Для мужа я готова сделать все, все решительно».
Со скамьи поднимается в то время Геккер и предлагает дать суду объяснение относительно происхождения дневника жены.
— Когда она была еще моей невестой, — говорит подсудимый, — она сказала мне однажды: «Я постараюсь свой образ мыслей, все увековечить для вас». И она стала писать дневник. На основании высказываемых ею взглядов я и считал ее очень хорошей женщиной. После она часто' говорила, что ее желаниями добрая середина ада вымощена.
Суд снова приступает к чтению дневника.
«Я привяжусь к моему мужу, и его Бог будет моим Богом, его народ — моим народом (Юлиан Геккер — лютеранин из поляков). Детей своих я воспитаю в польском духе. Мой обожаемый Юля!.. Как я желаю, чтобы Бог помог мне доставить ему счастье! Я так непозволительно счастлива, что не знаю, как и отплатить. Все сделаю, чтобы он был счастлив, горячо любимый Юля… Эти строки писала моя душа, мое сердце».
После замужества, когда первый пыл страсти прошел, она заносит в свой дневник:
«Меня он, кажется, не понимал и считал меня хуже, чем я есть… Я постараюсь переделать себя и заменить кишени (сварливость) лаской. Постараюсь сделать Юлека счастливым, но прошу и его не делать мне неделикатных замечаний, хотя бы наедине не кричать и не ссориться из-за денег… Скандалов больше не буду делать… Теперь у меня два желания: поехать на воды и быть здоровой».
В своем письме из Мариенгофа в 1897 году Ольга Геккер говорит: «Душа, золото мое, милый мой, желанный, душа Юлианчик, мой милый… Страшно скучно без тебя. Я бы отдала полмира, чтобы видеть тебя, расцеловать твои пухлые, аппетитные ручки… Зимой все улучшится, и характер свой, честное слово, изменю».
Судя по письмам, она в это время лечилась сеансами гипнотизма. Сеансы были неудачны, она не засыпала и жаловалась мужу на «врачей-шарлатанов», даром получающих деньги.
«Ненавижу знакомиться и глубоко ненавижу гостей обоего пола, — пишет она дальше. — Солнышко ты мое красное, пиши мне скорей. Обнимаю тебя и целую так же горячо, как люблю. Горячо любящая тебя жена и друг…» «Моя духовная жизнь постоянно с тобою. Я влюблена в тебя и обожаю…»
«Теперь будут жалеть тебя, — прорывается у нее в другом письме, — что ты — несчастная жертва, женился на нервнобольной… За все мерзости, которые я тебе делала, чувствую себя виноватой перед тобой…»
В 1898 году в ее письмах попадаются фразы: «Я буду прежней, но в улучшенном виде… Как хорошо иметь деньги и быть самостоятельной!»
В следующем году у нее уже прорывается глухое отчаяние и недовольство жизнью:
«О как на душе гадко и темно! Мне так жутко, так жутко!» В это время она была уже на высших курсах в Петербурге и высказывала намерение оставить их. Мужу она пишет:
«Дуся! Почему ты не едешь в Варшаву? Тебя это развлекло бы». В том же году она получает от Донберга записку на немецком языке: «Мое милое сердечко! Сегодня я прибыть не могу», а через день пишет мужу: «Обнимаю тебя, мой дорогой Юля».
Одно из ее писем читается при закрытых дверях.
Когда отношения супругов обострились в высшей степени, Юлиан Геккер в своем письме к родным горько жаловался на жену. Он узнал, что она оговаривала его перед знакомыми во всевозможных подлостях, выдумывая небылицы.
«Что это: квинтэссенция человеческой подлости или сумасшествие? — пишет он. — Если первое, то надо взять себя в руки и не обращать внимания на негодную, скверную женщину. Если второе, то ее, бедную, надо лечить».
Дальше в переписке Ольги Геккер попадается: «Я каждую ночь вижу смерть… страшно страдаю. Меня угнетает мысль, что я не человек, а лишняя тварь и тебе не нужна. Но должна же, наконец, наступить перемена в моей духовной жизни!.. Ах, если бы быть здоровой! Это самое главное, а то болезнь тормозит все». «Как человека, я тебя люблю, но как мужа — нет, не знаю. В душе у меня холодно, сыро, затхло, как в сарае. Мужем и женой мы уже не можем быть».
В марте 1900 года Юлиан Геккер обращается к жене с укоризной: «Ты — скверная по своей натуре, душонка у тебя мелкая».
«Тоска, хоть топись, — попадается в последних письмах жены. — Если мой магазин пойдет плохо, к черту, то я покончу свою проклятую жизнь. Он оказался патентованным мерзавцем и подлецом, а ты — мой милый, дорогой. Твой друг-жена Леля».
Донбергу она пишет: «Я все та же» — и обрушивается на Юлиана Геккера с бранными выражениями, называя его в письме к профессору «этот проклятый муж».
Судебное следствие закончилось опросом экспертов. В общем экспертиза приходит к убеждению, что подсудимый во время преступления не страдал душевной болезнью и находился лишь в возбужденном состоянии. В отношении самой Ольги Геккер эксперты высказались, что она является наиболее типичной представительницей истерии.
Слово предоставляется обвинительной власти.
Во всем этом деле товарищ прокурора Новицкий усматривал мрачную картину одной из семейных драм, которые, к сожалению, все чаще и чаще разыгрываются в наше нервное время. Заключительный акт этой драмы — кровавая развязка и неожиданная смерть видного общественного деятеля-ученого. Убийство это произвело в публике огромную сенсацию. Профессора Донберга знали не только в Петербурге, но и во всей обширной России, и за границей. Допустим ли подобный ужасный самосуд со стороны обвиняемого? Вот вопрос, на который должны ответить присяжные заседатели. Со своей стороны обвинитель находит, что на любовь, как на причину преступления, нельзя ссылаться в данном деле. Истинная любовь тесно связана с уважением и доверием к любимому человеку. Истинная любовь отдает свою жизнь, свое «я» на благо другому. В настоящем случае это — не святая, а плотская любовь, с ее эгоизмом и чудовищной ревностью со стороны подсудимого. В семье столкнулись два человека: нервная, озлобленная жена и пожилой, уже утомленный жизнью муж. Они тяготились друг другом, и, к несчастью, у них не было детей, которые могли бы еще спасти расползавшуюся семью.
Товарищ прокурора набрасывает общую характеристику действующих лиц этой тяжелой драмы, указывая на важную потерю, какую понесло общество в лице убитого профессора. К обоим Геккерам он относится предубежденно в отношении роли, сыгранной ими с покойным Донбергом. Последний мог пожалеть молодую женщину, поверив в ее несчастно сложившуюся судьбу, и она, поставив себе целью выйти замуж за богатого, известного профессора, сама пошла к нему со своей любовью и кокетством. Юлиан Геккер свел за это счеты с Донбергом, и тот заплатил своею жизнью. Теперь наступил для убийцы момент свести счеты с правосудием. Поднявший меч да погибнет от меча!
Защитник подсудимого присяжный поверенный С. П. Марголин начал свою речь с указания на дневник и первоначальные письма жены подсудимого, в которых рисуются прекрасные картины семейного счастья:
— Был канун свадьбы, два часа ночи. Молодая Фрейганг проводила свой последний девичий вечер. Ей хотелось поделиться своими мыслями, и она послала своему возлюбленному дневник и письмо. Пробегая дневник, мы наблюдаем в нем много экстаза. Она не находит имени тому человеку, который предложил ей «руку помощи» в минуту нравственного и духовного упадка. Человек, женившийся на ней, никогда об этом не пожалеет. Дневник обрывается страстной молитвой к Пречистой Божией Матери за ниспосланное ей счастие.
Перед нами письма Ольги Андреевны Геккер. Какая пылкая любовь! Она называет своего мужа: «Милый и дорогой Юлианчик», «Мое красное солнышко». «Мой дорогой, — пишет она ему, — днем и ночью, во всякое время, моя любовь духовная и жизнь с тобой, мое золото, моя радость…»
И вдруг неожиданно восьмого декабря — письмо Донберга, точно молния, упавшая с безоблачного неба. Ничто не предвещало этого письма. Это было неожиданное несчастие, упавшее на голову Геккера. Оно исказило его жизнь, захватило его могучей, железной рукой и выбросило его сюда, в зал судебного заседания, как преступника, как убийцу.
Подсудимый Геккер не защищается и не умаляет своего поступка. Все так ясно и просто. Под развалинами семейных неурядиц тысячи людей гибли от любви, ревности и оскорбления их чести. Геккер — один из многих, и вся его история стара как мир.
Задача защиты сводится прежде всего к устранению той накипи и тех наслоений, которые легли на это дело. Эта темная сторона дела создана Ольгой Андреевной Геккер в виде жалоб на мужа и оправдания своего поведения. Кто не слышал ее жалоб? Они рассеяны по всем уголкам настоящего дела, их слышала ее семья, все знакомые и между ними покойный Донберг. Она обвиняла своего мужа в скупости, скаредности, дурном характере. Что же мы видим в действительности? Мы видим, что сейчас после брака Юлиан Геккер, человек небогатый, повез свою жену за границу. Она была в Ялте, Стокгольме, в Финляндии, в Мариенгофе, в Евпатории. Все эти траты производились одним только Геккером, они превышали его средства и вели его к разорению. В августе тысяча восемьсот девяносто девятого года Ольга Андреевна пожелала покинуть Псков и переехала в Петербург. Муж немедленно уступил ее желаниям. Вынужденный жить по делам службы на небольшой железнодорожной станции, он мечется между местом своего служения и Петербургом, спит на засаленном кожаном диване, вызывает замечания со стороны начальства и в конце концов теряет службу. Все эти факты не вяжутся с обликом скупого, скаредного и неуступчивого мужа. Столь же неверно объяснение Ольги Андреевны об ее отношениях к мужу за время с седьмого мая по тридцатое июня. Она утверждает, что за этот период времени все нити их семейной жизни были перерезаны; между тем мы имеем свидетельские показания, что за этот период времени муж оставался у нее ночевать. В письме от одиннадцатого мая она пишет, мужу: «Приезжай в магазин, я тебя расцелую, и все будет хорошо». В письме от двадцать второго мая она говорит своему мужу: «Дуся, приезжай». Двадцать третьего мая она видит своего мужа во сне. Все эти письма дают нам право утверждать, что с седьмого мая по тридцатое июня Ольга Андреевна обращалась с подсудимым" как с мужем. Последнее обвинение, проникшее в дело от имени госпожи Геккер, подчеркивает разницу лет между мужем и женой. Об этой разнице лет здесь много и настойчиво говорилось. Что сказать по поводу этого? Ольге Андреевне, когда она вступала в брак, было двадцать три года, она вышла из интеллигентной семьи, получила воспитание и образование. Никто не заставлял ее писать сорокалетнему жениху: «Я обожаю своего золотого Юлека».
Касаясь существа настоящего дела, присяжный поверенный Марголин видит, что в центре его скрывается семейное правонарушение. Здесь гнездо дела и отсюда все. Это семейное правонарушение доказано всем судебным следствием. На суде было оглашено письмо подсудимого, в котором прямо сказано: «Пока ты считаешься юридически моей женой, ты должна себя вести так, как это требуют светские приличия и каноны Церкви». Затем в другом письме Геккер пишет: «Живи отдельно, в твои дела я вмешиваться не буду, тебя к себе не потребую. Если ты действительно кого-нибудь полюбишь, я дам тебе развод, но я тебя предупреждаю, что пока ты носишь мое имя, ты должна себя вести как женщина честная». Несмотря на эти предупреждения, Ольга Андреевна 17 июня 1900 года, зная хорошо, что муж ее находится в Петербурге, спокойно отправилась на яхту Донберга, предварив прислугу, что она вернется домой через два дня…
Защитник переходит к нравственной оценке личности профессора Донберга:
— Это был человек пятидесяти лет, в сущности уже уставший и страшно занятой. Он видел в госпоже Геккер замужнюю женщину, не любящую мужа. Ему рисовалась картина маленького флирта, отдых от трудов с хорошенькой женщиной. Его действительные отношения к Ольге Андреевне всего лучше определяются тем фактом, что он дважды от нее отказался. Его поведение на яхте равным образом не свидетельствует о серьезности его намерений. Спокойно играя сердцем Геккера, он привез его жену на яхту и среди матросов провел с ней две ночи. На требование мужа жениться он ответил, что это не входит в его планы, и утратил свое спокойствие только тогда, когда красный огонек выстрела поразил его насмерть.
Где же скрываются нормальные и легальные выходы из той ужасной коллизии, жертвой которой стал Геккер. Вопрос этот обсуждался философами и моралистами. Где же эти выходы?
Подумайте только, сколько пережил подсудимый прежде совершения убийства? Его несчастия начались с восьмого декабря. Письмо Донберга, перехваченное им, терзало и мучило. Доверчивый и простодушный раньше, подсудимый стал шпионом; он подслушивает сплетни, ищет признания на лице жены, готов подкупить слуг. Потом он пережил две ужасные ночи, в течение которых метался как зверь, разыскивая свою пропавшую жену. Он пережил утро на яхте, когда истина предстала пред ним во весь ее рост. Он сам видел эти каюты, где спала его жена. Матрос повторил ее имя… Встаньте рядом с этим человеком! Три года тому назад он был с этой женщиной в церкви, его соединили с ней молитвы и благословение Божие. Кругом горели свечи, его окружала семья, он принимал эту женщину от Бога, — и вот вчера на яхте она открыто ушла в эту спальню! Соберите эти усилия человека удержаться от кровавой расправы — и вы увидите, какую ужасную тяжесть нес на себе подсудимый в последнюю ночь накануне убийства. О чем он только не передумал! Он говорил себе: «Я все сделал, я ходил к нему, предостерегал и ничего не получил, кроме новой обиды». И чем больше думал о своем несчастий, тем крепче и властнее его охватывала ревность. Эта страсть уже давно душила его в своих объятиях. Она не отставала от него с восьмого декабря и все шептала ему в уши: «Заступись за себя и за жену. Разве ты не знаешь, что она больна, что она любит тебя одного». А над всем этим высилось сознание о поруганной чести.
Рано утром он встал, зарядил револьвер и пришел к Донбергу. Положив пред ним письмо, он потребовал женитьбы. Тот стал читать и что-то говорить. Но Геккер его уже не понял. Он жадно рассматривал лицо Донберга, и вдруг какое-то бешенство нахлынуло в его душу. Перед ним выросло что-то бесформенное, отвратительное, и он убил его…
В заключение защитник обрисовал духовный мир подсудимого после совершения преступления и просил судей быть снисходительными к делам подобного рода.
Другой защитник, присяжный поверенный П. Г. Миронов, дав обстоятельный анализ дела, также подробно остановился на пережитой Геккером семейной драме:
— Профессор Донберг, преступивший свое слово, являлся для него палачом в этой драме, и опозоренный муж, спасая свое доброе, незапятнанное имя, решительно потребовал, чтобы его вероломная жена и по закону принадлежала своему любовнику. Профессор отказался от женитьбы на ней. Произошло глубокое несчастие, которое лишило общество одного из лучших врачей и искалечило две жизни. Но здесь нет преступника, а только несчастный человек, бывший хорошим, добрым мужем. Оправдать его можно не ради милости, но ради правды. Это не будет помилование, а только правдивый, святой суд.
После всестороннего резюме председательствовавшего присяжные удалились в совещательную комнату и через 1 1/2 часа вынесли Ю. А. Геккеру обвинительный вердикт, признав его виновным в убийстве в состоянии запальчивости и раздражения, но заслуживающим снисхождения.
Резолюцией суда Ю. А. Геккер был приговорен к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на три года.
АННА КОНОВАЛОВА
Молодая, красивая женщина двадцати лет Анна Коновалова обвинялась в убийстве своего нелюбимого мужа.
Преступление было открыто совершенно случайно.
9 декабря 1896 года, охотясь в нескольких верстах от Старой Руссы, отставной подполковник С. Орловский заметил на Дубовицком выгоне неизвестного человека, лежавшего ничком в снегу. Присмотревшись, охотник, к своему ужасу, увидел, что неизвестный был мертв, и немедленно сообщил о своей страшной находке ближайшей сельской полиции.
После медицинского освидетельствования было выяснено, что неизвестный, имевший на вид не более тридцати лет, за несколько дней до этого был удушен во время сна.
С найденного трупа было снято несколько фотографий, но, несмотря на предъявление их окрестному населению, мертвый никем не был опознан, и в течение двух лет звание убитого оставалось тайной для судебного следствия.
В январе 1899 года старорусской уездной полиции случайно удалось узнать, что несколько месяцев тому назад в деревню Пеньково, Старорусского уезда, приезжала старуха Анна Киселева и хвалилась знакомым, что дочь ее сделалась певицей и, овдовев в последнее время, может снова выйти замуж.
Одновременно с этим полиция узнала также, что крестьянка Екатерина Павлова проговорилась как-то своим знакомым о том, что найденный на Дубовицком поле в 1896 году мертвый человек и есть именно первый муж дочери Киселевой. По ее намекам оказалось, что он был преднамеренно убит в Петербурге, затем для сокрытия следов преступления его перевезли в сундуке в Старую Руссу.
— Стоит только мне захотеть, и я всегда могу получить деньги от певицы Коноваловой за то, что хорошо спровадила ее мужа, — загадочно говорила Павлова.
На произведенном по этому поводу следствии обнаружилось, что с ноября 1896 года в Старой Руссе, часто меняя квартиру, проживали крестьянка Анна Коновалова, прописанная в участке под именем «певицы», и ее подруга Екатерина Павлова. Обе они вели разгульный образ жизни, часто выезжая в Петербург, и слыли всюду за особ легкого поведения.
Узнав, что у Коноваловой действительно в начале декабря 1896 года пропал без вести муж, полиция предъявила его матери и сестре в Петербурге фотоснимок с найденного около Старой Руссы трупа. Присмотревшись к изображению на карточке убитого, обе женщины тотчас же признали в нем исчезнувшего крестьянина Петра Коновалова.
По справкам оказалось, что семейная жизнь Коновалова сложилась очень неудачно. Жена его Анна вскоре же после свадьбы обзавелась любовником, бросила мужа и ступила на скользкий путь порока. Прельстившись вольной, беспечной жизнью, она падала все ниже и ниже и, наконец, превратилась в одну из «этих дам», продающих свои ласки каждому встречному.
В первых числах декабря 1896 года Коновалов, живший отдельно от нее, сказал своей матери, что беспутная жена просит у него отдельный вид на жительство.
5 декабря он отправился, по приглашению жены, к ней на квартиру и с того времени не возвратился более домой.
Через два дня после этого в Старую Руссу приехала с утренним поездом из Петербурга подруга Коноваловой Екатерина Павлова и привезла с собой большой, тяжеловесный сундук. Подрядив на вокзале извозчика, она отправилась в деревню Большое Вороново и свалила здесь сундук во дворе знакомого крестьянина.
Затем таинственный сундук был отвезен в деревню Жилой Чернец, где проживал отец Павловой Павел Анисимов.
Загадочное исчезновение мужа Коноваловой, путешествие со странным сундуком ее подруги и, наконец, обнаружение трупа в окрестностях Старой Руссы — все это подтверждало подозрение против Анны Коноваловой, и в том же году 19 февраля она была арестована.
Когда ей показали фотоснимок с найденного около Старой Руссы трупа, она задрожала и тотчас же чистосердечно созналась в своем преступлении.
Да, она виновата в ужасной смерти мужа. С ее ведома Екатерина Павлова и ее дальний родственник Дмитрий Телегин накинули петлю на мужа и задушили его. Знавшая об убийстве мать Коноваловой после дала свой сундук, и Павлова увезла в нем труп.
В результате к уголовной ответственности, помимо Коноваловой, были привлечены также Дмитрий Телегин, Павлова, ее отец и Анна Киселева.
Рассмотрение дела продолжалось четыре дня (в декабре 1899 года) и привлекло в зал санкт-петербургского окружного суда многочисленную публику.
Заседание открылось монотонным чтением обвинительного акта, в котором подробно описывались обстоятельства, при каких был найден труп Коновалова в 1896 году.
Жена убитого начинает все более и более волноваться, раздаются истерические крики, и с ней делается дурно. По предложению председательствующего чтение акта приостанавливается и, чтобы успокоить подсудимую, объявляется временный перерыв заседания. Далее Коновалова спокойно выслушивает обвинительный акт, и только багровый цвет лица выдает ее внутреннее напряженное состояние.
На вопрос председателя, признает ли она себя виновной в предумышленном лишении жизни ее мужа, она взволнованно встает со своего места и тихо произносит: «Виновата». Так как другие подсудимые на предварительном следствии отрицали свою виновность, то они на время удаляются из зала, и слово предоставляется Анне Коноваловой.
Прерывающимся голосом, беспомощно взглядывая вокруг себя, она передает историю своей жизни.
Семи лет от роду она была привезена матерью из деревни в Петербург, попала в детский приют и пробыла в нем до пятнадцатилетнего возраста, обучившись за это время грамоте и шитью. Шестнадцати лет ее увидел Петр Коновалов, простой рабочий-слесарь, и, не спрашивая ее согласия, через свою сестру и мать посватался к ней. Мечтавшая о лучшей доле, чем брак с мастеровым, Анна не могла полюбить своего жениха, тем более что ей и встречаться с ним пришлось всего два раза, и стала умолять свою мать не губить ее, выдавая замуж за нелюбимого, противного ей человека. Но на ее мольбы никто не обращал внимания, и, против воли девушки, ее вскоре выдали замуж. Во время венчания она впала в полнейшее отчаяние и находилась в бессознательном состоянии.
— Настала тяжелая жизнь с нелюбимым мужем, — с плачем продолжала свой грустный рассказа Анна, — муж был груб, циничен и как дикий зверь набросился на меня. На все мои просьбы пощадить меня, относиться ко мне более человечно, он только со смехом говорил: «Зачем же ты замуж выходила, когда так нежничаешь?» И, не обращая внимания на то, что я невыразимо страдала от его дикого отношения ко мне, он каждый день продолжал меня беспощадно мучить. Никогда я не слышала от него ласкового, задушевного слова, и хотя он не бил меня, но зато сплошь и рядом, в особенности по ночам, жестоко щипал меня. С течением времени он стал возвращаться с работы домой пьяным и, когда я укоряла его, заводил со мною ссоры, продолжая беспрестанно оскорблять меня, как женщину. Когда он не пил, характер его был сравнительно тихий, скромный; но после водки он делался невозможным, и я с трудом переносила его присутствие. Чтобы улучшить свое положение, я просила его бросить совсем пить водку; он несколько раз обещал исполнить эту просьбу, воздерживался от пьянства, но затем снова прорывался, и снова возобновлялась моя горькая доля.
В конце концов, жизнь с постылым человеком стала ей в тягость; молодую женщину неудержимо потянуло на волю, и, бросив мужа, она перешла жить к своей матери. В 1895 году, чтобы зарабатывать себе кусок хлеба, она делается певицей в одном из увеселительных садов. Красивая внешность ее обращает на себя внимание любителей прожигания жизни, и она вскоре поступает на содержание к одному из них, нанявшему для нее квартиру и давшему на первоначальные расходы четыреста рублей. Через четыре месяца она, однако, бросает своего любовника и начинает ездить в Старую Руссу, где зарабатывает деньги пением. Зимой 1896 года Коновалова стала просить мужа, чтобы он выдал ей отдельный паспорт. Несмотря на ее мольбы, муж все более и более оттягивал выдачу паспорта, стал приходить к ней на квартиру, пьянствовал и вообще вел себя предосудительно. Не зная, как отвязаться от опротивевшего ей человека, погубившего ее молодость, Коновалова с плачем пожаловалась на него своей близкой знакомой Екатерине Павловой. Последняя пообещала избавить ее от постылого мужа под условием, что Коновалова будет признательна ей за это; но что она задумала сделать — Коновалова, по ее словам, первоначально не догадывалась.
В роковой день убийства, после неудачных попыток споить Петра Коновалова водкой, Павлова объяснила своей подруге, что она вместе со знакомым их Дмитрием Телегиным задушит ее мужа.
— Но как же ты это сделаешь? — испугалась Коновалова. — Ведь он очень сильный, с ним трудно справиться.
— Не бойся… Мы уж сделаем как следует.
В план Павловой были посвящены также мать Коноваловой, Анна Киселева, и крестьянин Дмитрий Телегин, и они все сообща стали совещаться, как бы без хлопот справиться с мужем Коноваловой. В результате они остановились на мысли напоить его до беспамятства, во избежание сопротивления, а затем, пользуясь его беспомощным положением, удушить. С этой целью пришедшего в этот день в гости к жене Петра Коновалова умышленно начали спаивать водкой. Ничего не подозревавший муж безостановочно пил, все более и более пьянел и, наконец, свалившись на стул в гостиной комнате, погрузился в мертвецкий сон.
— Ну! — начала торопить Павлова.
— Какой праздник-то завтра! Николая Угодника! А мы что затеяли… — нерешительно протянул Телегин.
— Ничего, Бог постит. Вот давайте лучше помолимся Николаю Угоднику, чтобы он послал нам успех, — сказала Павлова.
И они начали истово креститься, обратившись к иконе Святителя.
— Ой, страшно! — с ужасом говорила жена Коновалова.
— Пустяки! Перестань глупить, — ответила ее подруга.
Телегин с Павловой подошли к спавшему Коновалову, взяли его за голову и ноги и, перетащив на ковер в спальню, спустили на окнах шторы.
Было два часа ночи, и в комнате, где подготовлялось преступление, был оставлен горевшим только один ночник.
Павлова взяла шелковый шнур от корсета своей подруги и, попробовав его крепость, сделала мертвую петлю.
В это время, по словам Коноваловой, мать ее, видя, что Павлова действительно собирается привести в исполнение свой злой умысел, начала горячо протестовать против готовящегося преступления. Но ее уже никто не слушал, и, пригрозив позвать полицию в квартиру дочери, Киселева вышла на улицу.
— Жаль мне было мужа, — поясняет Коновалова с дрожью в голосе и подносит платок к побледневшему лицу. — Но так уж Бог судил…
Прежде чем приступить к делу, удостоверились, насколько сильно опьянела жертва. Но на все толчки Коновалов только глухо мычал.
— Готов, — сказала жена и на всякий случай стала у дверей спальни на карауле.
Телегин связал веревкой ноги спавшего, и Павлова приблизилась к нему с шелковой петлей. Через минуту оба они наклонились над своей жертвой — и у Коноваловой похолодело сердце. Преступная жена задрожала, глаза ее застлало туманом, и она уже не видела, кто душил несчастного Коновалова. Послышалось короткое, сдавленное хрипение, и Анна Коновалова почувствовала сильный удар в ноги. Это задыхавшийся муж в предсмертной агонии забился на полу и задел ее своими связанными ногами.
После настала зловещая тишина…
Коновалова волнуется, вспоминая эти подробности. Несмотря на три года, истекшие со времени убийства ее мужа, картина ужасного преступления как бы запечатлелась в ее мозгу. Она тяжело, порывисто дышит, и председательствующий, чтобы дать успокоиться ей, объявляет перерыв.
Когда заседание возобновляется, Коновалова тихим голосом продолжает свой рассказ.
Труп задушенного решено было поскорее убрать из Петербурга. С этой целью преступники взяли у матери Коноваловой объемистый сундук, длиной до двух аршин, выбросили вещи и втиснули в него боком тело убитого. Сундук зашили в простыню и обвязали веревками. Все проделывалось очень хладнокровно, как будто это был самый обыкновенный багаж.
На рассвете, когда в городе еще горели фонари, Телегин нанял двух легковых извозчиков. На одну пролетку положили сундук с убитым, в другой поместились
Коновалова и ее подруга, и через полчаса они уже были на Николаевском вокзале. Здесь Коновалова купила подруге билет для проезда по железной дороге и дала ей на расходы сорок пять рублей. Сундук был сдан в багаж, и с девятичасовым утренним поездом Екатерина Павлова выехала в Старую Руссу. Через несколько дней она возвратилась в Петербург и похвалилась подруге, что все обделано благополучно. За свои «труды» она стала просить еще денег, взяла у подруги несколько шелковых платьев и вообще, пользуясь случаем, по словам Коноваловой, буквально начала систематически обирать ее. Телегину за участие в преступлении Коновалова дала сто рублей.
Председательствующий приказывает ввести в зал суда Екатерину Павлову.
Подсудимая — лет тридцати, с некрасивым, скуластым лицом. Слегка калмыцкий тип и беспокойное выражение запавших глаз. Держится на суде хладнокровно. Она решительно отрицает свою виновность, и вслед за ней вводятся один за другим остальные подсудимые.
Человек лет тридцати семи, с антипатичным, хищным выражением лица, с хитрыми подслеповатыми глазами, Дмитрий Телегин производит отталкивающее впечатление. Анна Иванова Киселева, сорока шести лет, представляет собой безликую фигуру, с тупым, покорным взглядом глаз. Крестьянин Павел Иванов Анисимов, сгорбившийся шестидесятилетний старик, с спускающимися на лоб седыми космами волос, простодушно-недоумевающе посматривает на окружающую его обстановку.
Председательствующий опрашивает Анисимова, обвиняющегося в том, что, не принимая участия в убийстве Коновалова, он с целью сокрытия следов преступления отвез труп на Дубовицкий выгон и бросил в снег.
— А Бог ведает… Пришел, значит, я пьяный из гостей; ну, дочка и стала просить — отвези, мол… Вижу — человек мертвый, много хлопот с ним, и повез, — говорит старик. — А что был ли он убит — я про то не ведал. Думал — мертвец, да и только.
В свою очередь Павлова сознается только в вывозе трупа убитого из Петербурга в Старую Руссу. По ее словам, она также не знала, что Коновалов был убит, а считала его помершим естественной смертью. Кто задушил его — она не знает, но в ночь на 6 декабря видела будто бы в гостях у подруги неизвестного ей «черного мужчину». После Коновалова вошла к ней в комнату и стала просить отвезти куда-нибудь ее умершего мужа.
Опрошенный по этому поводу Телегин понес было первоначально околесицу, вовсе не касаясь преступления. Председательствующий прервал его и задал несколько вопросов по существу дела, в ответ на которые Телегин начал рассказывать, как пришел к Коноваловой ее муж и его стали спаивать водкой. К убийству он не причастен, и Павлова с подругой обделали свое дело без его ведома.
Коновалова при этом показании волнуется и плачет.
Анна Киселева говорит, что она не была в спальне в то время, когда душили мужа дочери. После она увидела Коновалова уже мертвым и отдала свой сундук, чтобы спрятать в нем труп.
После предварительной присяги начинается опрос свидетелей, которых явилось до пятидесяти человек.
Первыми опрашиваются мать и сестра покойного Коновалова.
Марфа Тимофеева (мать) рассказывает, что она не сочувствовала женитьбе своего сына, и действительно, по ее словам, брак этот был очень неудачный. Анна невзлюбила своего мужа и уже через два месяца после свадьбы пыталась сжечь его, поставив с той целью под кровать жаровню с горящими углями. К счастью, жаровню вовремя заметили, и Анне не удалось довести до конца свой ужасный замысел. В своей невестке Тимофеева нашла очень плохую хозяйку, бывшую к тому же далеко не безупречного поведения. Вообще, в своих показаниях свидетельница, что называется, разносила Анну Коновалову и не могла говорить о ней спокойно.
Сестра убитого Варвара Петрова, в общем, дает также нелестный отзыв о подсудимой.
В ответ на эти показания возражает другая подсудимая, мать Анны Коноваловой, и говорит, что убитый неоднократно бил ее дочь каблуками сапог и что у дочери и сейчас еще от таких зверских расправ болит бок.
Председатель. Коновалова, почему же вы не говорили суду о побоях мужа?
Подсудимая нервно приподнимается со скамьи и взволнованным голосом объясняет:
— Потому что я не хотела жаловаться на мертвого мужа, в смерти которого я повинна. Я всегда скрывала это от чужих глаз, стараясь не выносить своих страданий наружу…
Со стороны защитников обвиняемых начинается перекрестный опрос свидетелей. Поднимается вопрос о фотографиях, снятых с трупа убитого в том виде, как он был найден, и, несмотря на протесты защиты, суд выносит постановление предъявить эти снимки присяжным заседателям.
Перед судом постепенно проходит многочисленная шеренга свидетелей, в большинстве дающих хорошие отзывы о Коноваловой как о человеке и удостоверяющих, что муж ее любил выпивать. Подсудимую характеризуют как добрую, отзывчивую женщину, к сожалению чрезвычайно легко поддающуюся чужому влиянию.
Крестьянин Образцов, старший дворник того дома в Усачевом переулке, где произошло преступление, рассказывает, что к Коноваловой часто приходили гости, но оставались у нее на квартире только до 11–12 часов ночи. Подсудимая говорила ему о желании получить от мужа отдельный вид на жительство, и 5 декабря 1896 года он по ее приглашению вместе с обоими Коноваловыми отправился вечером в управление полицейского участка. Сам Коновалов упрямился выдать жене паспорт и вызывающе говорил:
— Вот возьму да не дам согласия на это; надо тебя проучить, негодницу!
Между тем старший дворник почти ежедневно приставал к ней за паспортом, так как подходил срок выданной ей отсрочки.
Когда она переехала на квартиру в Усачевом переулке, при ней было немного мебели, но потом обстановка стала пополняться, и появился даже рояль.
— Не могу только знать, какой системы рояль-то эта, — глубокомысленно добавляет дворник-свидетель.
На заданный ему вопрос, чем занималась Коновалова, свидетель, осклабившись, говорит:
— А занималась, значит, своей красотой.
Крестьянин Никифор Горох показал, что 7 декабря он был нанят в Старой Руссе Екатериной Павловой отвезти ее в соседнюю деревню Жилой Чернец. При пассажирке, одетой по-городскому, находился большой, тяжелый сундук, но что лежало в нем — он постеснялся спросить у «барыни».
Сама же Павлова на подобный вопрос, сделанный одним из крестьян-свидетелей, со смехом ответила ему, что в сундуке запрятаны «петербургские черти».
По окончании допроса многочисленных свидетелей, среди которых фигурируют старорусский исправник, агент сыскной полиции, директор института слепых и другие лица, подсудимые снова начинают давать объяснения по поводу убийства Коновалова.
Жена его, в общем, держится своего прежнего показания.
Екатерина Павлова настаивает, что она решительно ничего не ведала о преступлении 5 декабря 1896 года. В рассказе ее опять появляется неизвестный мужчина, гость подруги, который, по ее словам, вместе с Коноваловыми пил водку. Что произошло между ними ночью — она не знала, так как находилась в другой комнате. После к ней пристали с угрозами, чтобы она сплавила куда-нибудь мертвого Коновалова.
— Куда же я его дену? — растерявшись, спросила она.
— Куда хочешь вези! — сердито закричал незнакомец.
На Николаевском вокзале, куда ее привезли вместе со страшным сундуком, Павлову угостили будто бы чаем с коньяком, и, опьянев, она уже не сознавала, что делает. Приехав домой к отцу, она бросилась к нему с криком:
— Папа, помоги!
Отец — Анисимов — поколотил ее, когда узнал, что за багаж привезла дочь из Питера, но тем не менее сжалился над нею и помог избавиться от трупа. Что Коновалов был задушен — она не догадывалась, а считала его умершим внезапно от чрезмерного потребления водки. Телегина она мало знает.
Дмитрий Телегин. Не ведаю, как это случилось. Заснул я в другой комнате и ничего не слышал. Вдруг чувствую — будит меня кто-то. Очнулся. Стоит около меня Коновалова и со смехом говорит: «А мы с Катей удушили его», — мужа то есть. Перепугался я…
С подсудимой Коноваловой делается нервный припадок.
Телегин добавляет, что он не укладывал трупа убитого в сундук и не видел, как выносили его из квартиры.
Его показание, однако, опровергается Анной Киселевой, уверяющей суд, что этот подсудимый говорит неправду. Во время самого убийства ее не было дома, но когда она возвратилась, то дочь объявила ей, что Дмитрии уже задавил мужа. «Прости, мама, прости», — стала умолять со слезами Коновалова. Потом с нее, Киселевой, насильно взяли клятву хранить все в тайне, и она вынуждена была скрывать преступление. Сундук из квартиры выносили на улицу Дмитрий Телегин и извозчик.
Далее обвиняемая рассказывает, как ей жилось с дочерью по уходе последней от мужа. Существовали они тогда впроголодь, и так как у Коноваловой не было паспорта, то ее приходилось прятать в холодном сарае. К несчастью, еще дочь заболела в то время, и они очутились в отчаянном положении. В конце концов, Коновалова сделала попытку отравиться, и только случай спас ее от преждевременной смерти. Немудрено, если такая безысходная нужда натолкнула ее на скользкий путь.
Последний из подсудимых, старик Анисимов, повторяет первоначальное показание и в заключение простодушно жалуется суду на отобрание у него при обыске пары детских полусапожек и картинок, прося возвратить их обратно.
Присутствующая в зале публика встречает эту курьезную, не гармонирующую с общим впечатлением просьбу громким хохотом, и председательствующий прибегает к звонку. Старик сконфуженно-недоумевающе садится на свое место.
На третий день судебное следствие было объявлено законченным, и прокурор приступил к обвинительной речи.
Указав присяжным заседателям на сложную житейскую драму, которая постепенно развернулась перед их глазами, он подробно охарактеризовал Петра и Анну Коноваловых. Простой, неграмотный кузнец, имевший пристрастие к водке и вращавшийся постоянно в кругу таких же грубых мастеровых, наконец, некрасивый, Коновалов совершенно не подходил к жене, по своему развитию и сложившимся для нее жизненным условиям ставшей уже значительно выше той среды, откуда она первоначально вышла. В результате семейная жизнь их превратилась в ад, ссоры обострились, и Анна бежит, наконец, от ненавистного мужа. Затем началась обыкновенная история: не удовлетворившаяся обыденной, серенькой жизнью маленького рабочего человека, женщина эта пошла вскоре по наклонной плоскости, на которой уже трудно удержаться. Она знает цену своей красоте, постепенно втягивается в шумную, беспечальную жизнь и уже не хочет больше от роскошных обедов, дорогой обстановки и зеркальных трюмо возвращаться к своему прежнему прозябанию с нелюбимым мужем. Но последний ведь может помешать такой жизни, его вмешательство грозит разрушить все планы гулящей жены, — и вот мало-помалу назревает преступная мысль стереть мужа-рабочего совершенно с лица земли. Повинна в этом преступная жена, но еще более виновата ее подруга Павлова, которая является душой преступления, найдя себе достойного сообщника в лице Дмитрия Телегина. Сравнивая затем убитого кузнеца с трудолюбивой пчелой, вносящей свою частицу меда на пользу общего благосостояния, прокурор, в противоположность ему, ставит подсудимых, которые, как трутни, существовали только на счет чужого труда; и так как им мешали, то эти вредные трутни убили полезную пчелу. Всюду в этом возмутительном деле красной нитью проходит одно чувство: эгоизм, эгоизм и эгоизм, и суд присяжных своим обвинительным ответом для всех подсудимых принесет пользу всему обществу, охранив его от преступных элементов.
Слово предоставляется защите.
Первым говорил присяжный поверенный В. А. Плансон, в горячей речи набросавший грустную картину неудавшейся семейной жизни Коноваловой, ее стремление к свободе и ее полное, рабское подчинение злой воле своей подруги.
По словам защитника, Коновалова если и участвовала в ужасном преступлении, то без собственной воли и сознания. У нее не было никаких мотивов для преступления и не могло быть. Преступление не освобождало ее, а связывало и было выгодно только Екатерине Павловой, надеявшейся поживиться около нее.
— Но страшное дело сделано, и вот наступает расплата! — говорил защитник. — Расплачивается одна Коновалова. Вы помните, господа присяжные заседатели, те ужасные дни и ночи, которые она переживала после того. Ночью призрак погибшего на ее глазах мужа является ей. Она служит заупокойные обедни за него, но видения не оставляют страдающую душу ее. Днем караулят ее и осаждают требованиями Павлова, Телегин и их родные. Всем нужно, все требуют, никому отказать нельзя. Но откуда взять? Как заработать?
Не подумайте, господа, что я перед вами буду защищать нравственность Коноваловой. Но я спрошу лишь, вправе ли мы судить ее за это?
Как странно было бы слышать, что врач, когда к нему привели больную, исследует в ней не болезни, а допытывается — безупречна ли ее нравственность. Не странно ли, когда судья исследует не преступление, а ищет в нравственных качествах подсудимой улик против нее? И когда на молодом, почти детском лице вы видите «поддельную краску ланит», не сжимается ли у вас сердце от жалости и сострадания?
Вы видели, что те мрачные краски, которыми был обрисован нравственный облик подсудимой Коноваловой, поблекли на судебном следствии, когда свидетели под перекрестным допросом сторон поумерили так свойственный многим пыл в отыскании сучков в чужом глазу. Слухи и сплетни отвергнуты, а фактов нет. Она жила с одним, потом с другим, — да, это верно, она это признает, но до разгула далеко.
Но отчего не удержалась она, спросите вы, на честном пути? Как трудно ответить на это! Отчего надломленный цветок вянет и не благоухает? Отчего подстреленная птица не парит под небесами? Отчего человек с надорванной жизнью и без нравственной поддержки не стремится к идеалам?..
Но выпрямьте и подвяжите цветок, и он зацветет. Заживите рану у птицы, и она взовьется к небесам. Протяните руку больному, но не зачерствевшему душой человеку, и он воспрянет духом, он оживет.
И бедной Коноваловой протянули руку, и ей улыбнулось участье! На нее пахнуло в первый раз в ее жизни теплом, лаской, искренней любовью; ее полюбили, и она полюбила и стала оживать. Вы слышали того свидетеля, который знал ее в детстве; он встретил ее в это время опять и увидел ее любимою и любящею, такою же, как и прежде, доброю и милою. Он радовался ее счастью, но что-то таилось в ней. Какая-то непонятная грусть сквозила в ее радости, непонятная власть держала ее в руках. Признаться во всем, все рассказать, снять путы, думала она. Но страшно: нужно выдать всех, и даже мать. Нет! И она молчит и несет тяжелый крест искупления. Проходит два года.
Но судьба ее стережет — ее арестовывают.
Какой удар! Но вместе с тем какое облегчение! Наконец, настал давно желанный час: снять гной с души, снять накипь жизни; и она все рассказала, все без утайки, без оправдания, она во всем покаялась.
И вот она пред вами. Ей только теперь минуло двадцать один год, а жизнь ее уже полна страданий. Как мало прожито, как много пережито!
Она ждет вашего приговора. И если вы думаете, что в молодой душе ее пылает преступный огонь, что она опасна для общества, если вы верите, что наказание может исправить ее, — карайте ее. Но не мстите ей за смерть бесконечно долгими днями позорного наказания. А если вы, как я, вглядитесь в ее душу и скажете себе: в ней нет преступности, она сама жертва преступления, — вы смело вынесете ей оправдание.
Я кончил. Меня, как и вас, призвал закон к тяжелой задаче отправления правосудия. Как вы — я человек и могу ошибаться, но я ищу, как вы, в этом деле правду. И когда я увидел в вас в течение этих томительных дней суда работу мысли и сердца, когда я вижу в вас искание правды, — я спокойно жду вашего приговора.
Второй защитник, помощник присяжного поверенного, А. В. Бобрищев-Пушкин, видит объяснение всему в 18-летнем возрасте Коноваловой. Ее хрупкая воля подчинилась взрослым.
— Представьте себе, что вы все это читаете в повести. Вам рассказывают, как девушку неполных шестнадцати лет выдают насильно замуж, как через две недели справляется свадьба среди непробудного пьянства и ее слез, как она вынуждена уйти от мужа, живет с матерью, зарабатывая себе хлеб ремеслом портнихи, как, наконец, неизбежное совершается — она одинока, но она уже замужем, она не может полюбить законною любовью, ей закрыта семейная жизнь; значит, ей нет дороги на честный путь; ни в отчиме, судившемся за кражи, ни в матери, доброй, но забитой, недалекой женщине, она не может найти опоры, и вот, не понимая еще значения своего шага, она дает себя пристроить в Крестовский, сходится с В-м, мимо показания которого я прохожу с брезгливою грустью… Гибели нет пределов, следующая ступень: на смену пошлых плотоядных типов выступают более сумрачные образы. И вот когда бы вы читали об этой ночи убийства, о том, как она, захмелевшая, растерянная, под их криками то трясла за руку опьяневшего мужа, умоляя его уйти, то помогала нести его, подавала шнурок для мертвой петли и молилась с ними перед образом, — что бы вы чувствовали к ней: ужас или сострадание? Разве не хотелось бы вам столько же для нее, как и для этого несчастного, чтобы злодейство не совершилось? И когда вы дошли бы до той минуты, что мы все мучительно переживаем здесь, до этого негодования против нее, этого грозного обвинения, этой отчаянной борьбы, что ведет защита, — разве бы не захотелось вам, как это часто хочется при чтении, вступиться, крикнуть: «Да вы не понимаете! Это все совсем не то! Здесь нужен сознательный, согретый любовью к ближнему взгляд на жизнь, а не формальные статьи закона!» Как бы мучительно, даже там, в этой повести, было бы для вас ожидание приговора! Разве вы не желали всем существом своим, чтобы все кончилось хорошо, чтобы этого заблудившего полуребенка выпустили отсюда? И кому бы пришла на ум из такой развязки мораль, что можно совершать убийства? А если бы в беспощадной верности жизни русский писатель заставил бы своих судей вынести обвинительный приговор, — с каким бы чувством вы его встретили? Удовлетворил бы он вас, ваше чувство справедливости? Да, все это так было бы в повести, потому что в повести мы видим житейские явления освещенными с нравственной стороны, а здесь мы слушаем мертвую оболочку.
Коновалову вовлекла в преступление Павлова, заручившись согласием Телегина. Они, конечно, не убивали из любезности. У этого мрачного дела мрачный мотив — корыстная цель. Связав Коновалову общим преступлением, можно эксплуатировать ее без пощады. Но муж чуть все не расстроил добрым отношением к жене. Его белая горячка прошла, он стал совсем иной, соглашался возобновить отдельный вид и пошел для этого с женой в участок. Этому Павлова помешать не могла. Легко представить себе, в каком состоянии она осталась в квартире.
Неожиданно удача для Павловой, — вернулись! Анна Коновалова идет грустная, выгнали пьяного мужа из участка, не дали отдельного вида. Горе для Коноваловой, радость для Павловой, но нельзя ждать до завтра, — завтра он протрезвится, опять пойдет в участок, и тогда все кончено. Теперь или никогда! Состояние Павловой в эту ночь могло бы дать большой материал для ее защиты. Она впала в какое-то нечеловеческое бешенство. По словам Коноваловой, «она точно зверь была, не похожа на человека, не то что на женщину, — я не знаю, что с ней сделалось». Этого точно не знаем и мы. Суд отказал защите Павловой в вызове экспертов-акушеров, между тем Павлова разрешилась от бремени в конце ноября — и это мог быть послеродовой психоз; я счастлив, что могу сказать слово в защиту Павловой… Помимо этого предположения, могли быть и другие причины. Гнев и отчаяние, когда, казалось, все погибло, резкий, внезапный переход к радости при возвращении из участка и сознание, что уже теперь надо действовать, что отсрочка лишь до утра, — могли вызвать прилив крови к голове, то есть исступление. Чтоб это ни было, Павлова становится страшной — в ней развивается дикая, усиленная энергия. Она требует немедленного убийства, она хватается за буйные, пьяные слова Петра, она точно в каком-то припадке наступает на растерявшуюся Коновалову: «Он не даст, не даст тебе вида, от него надо отделаться!» Такая дикая, лихорадочная энергия страшно действует, особенно на слабые натуры. А Коновалова в эту минуту, когда она должна противостоять страстному натиску на ее полудетскую волю, даже плохо сознает окружающее; она выпила водки и коньяку, недостаточно для потери сознания, но достаточно для того, чтобы сильно ослабить способность психического сопротивления. Резкие требования Павловой… Ее голос врывается ей в уши… Комната слегка идет кругом… сознание затуманено… И вот в этой знакомой комнате возникает в ее глазах что-то страшное, атмосфера сгущается до кошмара. Среди всего этого буйствующий, что-то кричащий муж. Если бы ей внушали, например, убить мать, — любовь, затаившаяся хоть в виде инстинкта, даже в этом хмельном чаду, дала бы отпор, а здесь нет этого инстинктивного отпора, она одурманена дикой энергией Павловой, она почти вещь в ее руках, она не сознает чудовищности своего поступка, ей только смутно страшно. Ей говорят, что что-то надо сделать — и она делает. Они стали перед образом — и она; они говорят: «Неси голову» — и она несет; они велят ей дать шнурок — и она дает; они делают перед нею петлю — и она понимает. «Да, это, чтобы убить», — но она не представляет себе убийства. При таком помутившемся сознании верит ли она в совершение преступления? Связывает ли она свои поступки, этот шнурок с имеющими быть последствиями? Часто даже трезвый убийца, когда подкрадывается к своей жертве, когда вынимает нож — до последний секунды не верит, что он убьет, и вот почему во всех ее чистосердечных показаниях сейчас же после ареста, на предварительном следствии, здесь она повторяет: «Я была как во сне. Я не верила, не верила, что его убьют». В таком состоянии она не могла в это верить!.
Да, сознание, конечно, есть, но такое смутное. Мысли скачут, не поймаешь ни одной. Сначала она понимает все яснее, помрачение идет постепенно… Сначала свойства хорошей натуры ясно видны. В соседней комнате спит ее маленькая сестра. Она бредет туда и с нежной заботою задергивает тюль над детской кроваткой. Пусть ребенок спит, пусть его детского сна не встревожат ласки опьяневшего мужа. Он опустился на стул бесчувственным телом. И ей страшно… она плачет, умоляет их, она сопротивляется, как может. Она хватает пьяного мужа за руку: «Петя, уйди! уйди! На свою голову сидишь!» — и он бормочет ей заплетающимся языком: «Я тебе дам отдельный вид на жительство». Они называют друг друга уменьшительными именами, она старается помочь ему… Но Павлова тут как тут и кричит на нее: «Не вмешивайся! Раз я взялась за дело, я его и кончу!» И когда через некоторое время второй раз взяла за руку его Коновалова — не ответил своей жене Петр Коновалов, неподвижно упала рука, и она сама обернулась к ним уже с тупым, отуманенным взглядом. Теперь она им нужна. Чудовищные юристы, они хотят, чтобы она несла голову мужа, им нужно ее соучастие, не слабые силы; они, конечно, снесли бы и без нее. Что же, пусть радуются, — они достигли своего: это несение головы, с формальной точки зрения, всего тяжелее. И когда бесчувственно пьяный Петр Коновалов при свете ночника уложен на ковер ее спальни, когда сделана мертвая петля, — ей и тут не представляется, что сейчас начнут душить, хотя она за минуту говорила с ними об этом. Она не может сделать из своих поступков неизбежного вывода. И когда они над ним нагибаются, это для нее совершенно неожиданно. Вдруг он хрипит, судорожно ударяет ее ногами… Она падает в обморок и в самый момент совершения убийства находится в бессознательном состоянии.
Согласие Коноваловой было вынужденное. Восемнадцатилетняя, полупьяная, она находилась ночью одна, запертая, с озверевшими людьми. Не могло быть другого сопротивления, кроме бесполезных слез и мольбы, да и оно не могло не замереть, не перейти в полное подчинение. Защитник изображает картину ограбления трупа. Надо ли после этого доказывать эксплуатацию? Если они мертвого не пощадили, то могли ли они пощадить ее, свою добычу, свой плод преступления? Что бы ни было — здесь у них на совести две души: Петр Коновалов и Анна Коновалова.
Защитник просит признать, что эта кровь не на ней, просит не помилования, а оправдания.
В заключение присяжный поверенный Г. С. Аронсон произнес страстную, глубоко прочувствованную речь:
— Господа присяжные заседатели! Если ужасно преступление, совершенное подсудимыми, если удручает всех картина убийства, фотографические карточки, снятые с убитого, бесконечное чтение протоколов осмотра трупа, то еще более, во сто крат более угнетает нас всех та борьба, которая происходит здесь между подсудимыми, борьба не на жизнь, а на смерть. Все они стоят на краю пропасти, на самом краю ее видят, что не спастись им всем, и, обезумев от страха и жажды жизни и свободы, которую навсегда утрачивают, каждый из них употребляет невероятные усилия — столкнуть в пропасть другого.
Господа присяжные заседатели! Скамья подсудимых — это та узкая, нетвердая как трясина, засасывающая небольшая полоска земли, которая отделяет человека от бездны, — и большей частью люди незаметно для себя подходят к ней, вступают на эту полосу, и тогда только близкая гибель заставляет их одуматься и с тоской невыразимой взглянуть назад, на пройденный путь, на широкое пространство, отделявшее их от пропасти, на твердую почву, покинутую ими.
Немудрено, что когда несколько таких несчастливцев сходятся вместе и видят свою гибель — каждый перестает жалеть другого. Тут все, правый и неправый, слабый и сильный, злой и добрый — одинаково жестоки, бессердечны. Когда в гибели другого видят свое спасение. Это положение подсудимых, это зрелище борьбы ужаснее самого преступления, совершенного ими.
Я помню, как после речи обвинителя луч надежды блеснул в глазах Коноваловой, когда она услышала речи своих защитников. Она смотрела на вас, господа присяжные, и глаза ее говорили: «Вы слышите, что говорят мне в защиту, и говорят кто, добрые, как и вы, граждане, которые, как и вы, завтра могут быть судьями таких же, как и мы, преступных и несчастных. Вы забудьте то, что говорилось про меня дурного на суде, вы меня знаете всего три дня. Мои защитники лучше меня знают; они несколько месяцев посещали меня в тюрьме, не раз слышали мою тюремную исповедь! О, вы им поверите!»
Боже мой, что происходило в это время в душе остальных подсудимых! С немым ужасом в глазах искали они вашего взгляда, хотели угадать ваши мысли, понять, верите ли вы в то, что говорят о них, людях жестоких, погибших. Они слышат, как вам говорят: «Взгляните в глаза Коноваловой и остальным подсудимым, и вы увидите, кто говорит правду и кто лжет, кто совершенно испорчен и кого еще можно исправить» — и судорога искривляет их лица, они снова ловят вашего взгляда и снова не встречают его. Они не знают, что их судьи не пойдут по этому пути, что это — жестокий и опасный для судьи прием, которому вы не последуете».
Защита — это молитва за грешных об отпущении им прегрешений вольных и невольных. Я говорю последним, и пусть мою молитву не омрачат проклятья. Никого не буду я обвинять, пусть примирит она этих несчастных между собою, пусть даст она им силы выслушать тот приговор, который ваша совесть продиктует им.
Перехожу в защиту Киселевой.
Она обвиняется в двух преступлениях, одинаково ужасных, жестоких: в убийстве, в сообществе с другими лицами и дочерью, мужа последней и в торговле из корыстных видов своею дочерью.
Прокурор и остальные защитники сходятся в этом взгляде на личность Киселевой и на ее отношения к дочери.
Прежде чем доказывать свою невиновность в убийстве Коновалова, будь то активное соучастие или попустительство, как склонен думать теперь господин прокурор, ей надо оправдаться во втором, неофициально предъявленном ей обвинении.
Если Киселева — дурная мать, не только не воспитавшая свою дочь, но толкнувшая ее на позорную, развратную жизнь, которая настолько испортила Анну Коновалову, что она дошла до преступления, то нет для нее наказания достаточного — она погубила две жизни, и если я не докажу вам, что она не виновата в этом, то карайте ее — я молчу. Трудно, почти невозможно было бы ей оправдаться словами, отдельными фактами, если бы за нее не была вся ее долголетняя, несчастная жизнь, полная мучений, горя и унижения и любви к дочери.
Вы слышали уже, какова была жизнь Коноваловой с молотобойцем-мужем, который пропивал все, даже вещи жены. Слышали, что она приходила к свекрови просить ночлега. Помните, что, когда она ушла от него и поселилась отдельно, Коновалов навещал ее для того, чтобы получить взятку за выдачу паспорта, а иногда для того, чтобы сорвать на ней свою злобу. Скромный и тихий в трезвом состоянии, он зверел, когда был пьян, и до полусмерти избивал жену и ее мать Киселеву.
Вы слышали, — не знаю, правда ли это, — что Коновалова опускалась все ниже и ниже, что она запивала с горя, так как муж не давал отдельного вида, шантажировал ее; приходилось иногда прятаться от полиции, которая делала на нее облавы, приходилось проводить ночи в подвале или на чердаке. Сколько горя натерпелась несчастная мать, не зная, чем помочь дочери, потеряв всякое влияние на нее. «Бывало, — говорит она, — ночи не спишь, боясь, как бы не изловили дочь. С квартиры гонят, всякий оскорбляет, а тут еще и зять придет пьяный, денег, водки требует, еще больше напивается, бьет и меня, и дочь. Я его пуще огня боялась — приду, говорит, и всех перережу. Дочь до того добил, что у нее и теперь, три года спустя, еще бок болит; все топтал ее ногами». Вы помните, что привычка смотреть на мать как на прислугу настолько быстро вкоренилась у Анны Коноваловой, что она ее иначе не называет, как Аннушка, кухарка, прачка. И это не с целью оскорбить, а просто по месту и чину. Даже Телегин раз упрекнул Коновалову, когда поселился у них, что «она матерью Киселеву никогда не назовет, а все кричит на нее: Аннушка да Аннушка». Даже после убийства Петра, когда Киселева, вернувшись домой, услышала крик дочери: «Воды, воды!» — и побежала подать ей воду, — Коновалова, придя в себя, крикнула ей: «Аннушка, зажги лампу!»
Всю жизнь кухарка при родных, всю жизнь человек подневольный, забитый! Но, может быть, хотя и унижена, но вознаграждена? Нет! Кусок насущного хлеба и кровать на двух дощечках в кухне — вот все, что имела Киселева от дочери! Это говорят все, знавшие жизнь Коноваловой, свидетели, даже подсудимые. Словом, только ленивый не бил и не оскорблял старуху, и она имела право с грустью сказать Одной из свидетельниц, своей землячке: «Несчастная была моя мать, несчастная я всю жизнь, несчастливая и моя дочь! Стало быть, так уж нам на роду написано!» Правы ли те, кто говорил вам, что «за житье праздное, на всем готовом», мать развращала и продавала свою дочь? Нет, глубоко не справедливы они, эти обвинители! Пока могла, она воспитывала свою любимицу, довела до пятнадцати лет, лелеяла ее, с горькими слезами проводила ее к венцу, да так уже и не переставала плакать до сегодняшнего дня, болея душой за дочь, такую молодую, такую несчастную! Да разве она не имела права на этот кусок хлеба и на кров: ведь собаку, к которой вы привыкли, не прогоните, накормите и угол дадите!
После признания Коноваловой были арестованы все остальные подсудимые, оно было исходным пунктом полицейского дознания и предварительного следствия, легло в основание обвинительного акта, по нему распределены и места на этой скамье. Это — признание и вместе с тем оговор. Упоминая имена всех подсудимых, своих соучастников, Коновалова называет и мать, но прибавляет, что мать участия в преступлении не принимала и даже отговаривала. Правду ли говорит Коновалова и не защищает ли она свою мать? Первый вопрос — старый, с ним издавна считается закон и наука права, — это вопрос о значении оговора как доказательства, улики в уголовном деле. Оговор только тогда имеет силу улики, когда подтверждается обстоятельствами дела и когда подсудимый оговаривает кого-либо не для того, чтобы выговорить, подменить себя другим лицом. Вот минимум требований для признания за оговором силы улики. Вы помните, как было дано первое показание Коноваловой: неожиданно, поздно вечером, с лишком два года спустя после убийства, она была арестована чиновником Лукащуком и немедленно доставлена в управление сыскной полиции, где ей тотчас показали карточку удавленного — мужа. Едва не лишившись сознания от страха и угрызения совести, она умоляет убрать карточку и под влиянием минуты рассказывает все, до мельчайших подробностей, не спасая себя, не щадя других, даже мать. Может быть, она подготовила рассказ за трехлетний промежуток? Нет. Убийца никогда не верит в то, что его поймают, несмотря на то что он всегда волнуется и боится, что его откроют. Он всегда гонит эту мысль от себя и уж, конечно, не готовит до ареста защитительных речей. После ареста — наоборот, он уже ищет в себе самом оправдания своему поступку и готовится к ответу. Да, если бы Коновалова готовила себе защиту, то неужели за три года не придумала бы лучшего, как сказать, что не знает, за что убила мужа, что он хотел дать ей паспорт, что убивать его не было цели? Вы слышали, говорят — она последние годы жила в омуте развратной жизни шансонетных певиц, слышала, вероятно, много романических рассказов, читала газеты об убийствах из ревности и мести; могла бы она придумать что-нибудь и себе в защиту, — нет, она предает себя вполне, не скрывая даже, что все видела, все помнит, даже помогала переносить мужа, держала двери, пока душили его: мачеха-судьба, наконец, пожалела ее и как бы внушила ей мысль говорить правду, одну только правду, — ив этом для нее есть уже доля спасения!
Еще два слова добавлю я в защиту Киселевой и ее дочери. Защитники Павловой и Телегина предупредили вас, что я, вероятно, буду тоже «просить» за Коновалову, как сделали это ее и Анисимова защитники. И они не ошиблись! Киселева и теперь остается любящей матерью и больше всего волнуется и беспокоится об участи ее Ани. Когда проклятия сыпались на Коновалову, когда ее забрасывали комьями грязи, старуха невыразимо страдала и все время плакала. Да, господа обвинители, мать, идя рядом с дочерью даже на плаху, забывает себя и в последнюю минуту думает только о том, что, может быть, совершится чудо — дочь будет спасена. Мне тяжело, глубоко волнует меня ее просьба заступиться за дочь, и если вы, прислушавшись к голосу обвинителей, ей крест нести велите за ее грех, то мы венок плетем на крест, они ей кандалы куют. Я хочу еще рассеять то тяжелое впечатление, которое произвела на вас одна фраза в обвинительном акте и в речи прокурора. «Еще ранее убийства, — говорит он, — все они вчетвером молились перед образом Николая Чудотворца, просили успех в задуманном убийстве и обещали никому об этом деле не говорить». Правда ли, что это так происходило? Молились ли они? Да! Кроме Коноваловой, которая это рассказала, никто не сознается в кощунственной молитве. Обвинитель видит грубое упорство в нежелании подсудимых сознаться в том, что они молились, но я с ним не согласен. Наоборот, это свидетельствует, что это люди не совсем погибшие. Они, почти сознавшиеся в ужасном преступлении, не хотят признаться в поступке, с уголовной точки зрения безразличном. Почему? Да потому, что они чувствуют, что молитва эта может возмутить вас больше самого преступления. Как? Нарушая законы Божеские и человеческие, эти озверевшие люди просят благословения у Бога на свои беззакония? Был опасный для них момент, когда произнесена была эта фраза. Не понял прокурор, что даже такие люди не могли молить Бога об успехе, о помощи в преступлении. Тот, кто молится Богу, — религиозен, верит в Него и понимает, что Господь злого дела не благословит. Но, может быть, они нарочно кощунствовали? Это невероятно, — не до шуток было им, во всяком случае. Нет, они молились, — я верю Коноваловой, она не лжет, — но каждый о разном молил Бога. Киселева просила Господа, чтобы прошел этот вечер благополучно, чтобы не допустил Он преступлению совершиться, чтобы уберег Он и дочь, и несчастного Петра. Остальные просили Господа простить им тяжкий грех. Охмелевшие от выпитого вина, которым спаивали и Коновалова, они не отдавали себе отчета в том, что делали, и вы простите им это, забудьте. Кто знает, — может быть, Господь даже такую молитву по милосердию своему услышал и отпустил им грех. Правда, эта молитва напоминает мне исторический анекдот из средневековой жизни, когда католическое духовенство в погоне за наживой направо и налево за гроши продавало индульгенции: грамоты, отпускавшие грехи прошедшие, настоящие, а за особую плату и будущие. Одного монаха, путешествовавшего по городам с такими грамотами и вырученными от продажи их деньгами, в лесу встретили разбойники и, купив у него отпущение будущих грехов, ограбили его тотчас же, так как этот грех он же отпустил им.
И если подсудимые не сознаются, что молились перед убийством, то это доказывает, что совесть у них не погибла, что им стыдно и страшно вспомнить об этом, что они — случайные преступники, что к ним можно относиться милостиво, хотя сами они были жестоки.
Не мстите им, господа присяжные заседатели, и не относитесь к ним с ненавистью. Они все столько перестрадали, даже за эти четыре дня, и сколько некоторым из них, а может быть, и всем еще предстоит страданий! Как бы ни был ужасен преступник, как бы сильно не возмущал он добрых людей, судьи должны быть беспристрастными. Когда самого ужасного злодея судят, ведут на казнь и он, измученный, без всякой надежды на сострадание, бросает в негодующую толпу умоляющий взгляд, — тысячи сердец людских, возмущенных его жестокостью, проникаются к нему состраданием, толпа отвечает ему сожалением и сочувствием на его мольбы и уже готова простить ему, облегчить его участь. Когда вы уйдете в вашу совещательную комнату, забудьте взаимные нападки подсудимых, помните, что эти жестокие люди тем уже глубоко несчастны, что не смеют надеяться на сострадание, что все холодно смотрят на их мучения и даже их слабость, обмороки готовы многие объяснить притворством, как будто они перестали быть людьми. Зачтите им все те муки, которые они перенесли этой ночью, когда случайно дело затянулось еще на сутки. Целая ночь, бесконечная, без сна, полная отчаяния, в ожидании вашего приговора! Взгляните на них хоть с тем сожалением, с каким смотрят на затравленного зверя, когда он уже безопасен для людей и замучен. И есть за что каждого из них пожалеть! Коновалову за то, что, не живши, отжила, что, едва выйдя из детского возраста, видела только горе. Сегодня ей неполных двадцать два года, а она уже семь лет страдает, — ведь последние три года, с самого убийства мужа, она даже в вине и шумной жизни не могла утопить своего горя, заглушить угрызения совести. Пожалейте вы и Павлову за то, что никто ее не жалеет, что она не смеет просить милости, что ее страдания здесь на суде во многих вызывают еще большее отвращение, даже злобу. Не пройдите мимо Телегина, не забудьте, что случайно, на горе себе приведенный сюда Киселевой, чтобы получить место, честным трудом заработать кусок насущного хлеба, оторванный от семьи, детей, он по несчастной, роковой случайности сделался преступником, — из-за чего и как — один Господь знает; тайну этого преступления унес с собой погибший, Коновалов. Поймите Киселеву, материнское сердце которой заставило ее укрыть дочь, невольно сделаться соучастницей преступления бесцельного, пустого. Вспомните, что закон делает уступку родителям, позволяя им безгранично любить своих детей, даже преступных. Анисимов, тот давно уже получил свободу, его вы давно оправдали, с первого дня суда, — он остается здесь для того, чтобы еще более усилить страдания Павловой, так как впавший в детство старик уж потерял способность что-либо чувствовать, кого-нибудь жалеть и бессмысленными глазами смотрит на дочь.
Позвольте мне всем им сказать, что ваш приговор будет милостивый, — ведь это все, чего они просят у вас.
Наконец доходит очередь до последнего слова подсудимых. Первой приподнимается со скамьи Анна Коновалова и, плача, повторяет, что она уже раньше дала чистосердечное признание во всем.
Павлова отрицает свою виновность.
Телегин. Будет нас судить Христос… Все понапрасну наговаривают.
Анисимов и Киселева молчат и тупо смотрят в сторону присяжных заседателей.
После беспристрастного обстоятельного резюме председательствовавшего присяжные заседатели удалились в совещательную комнату и через 2 1/2 часа вынесли решение участи подсудимых.
Виновными были признаны только двое — Павлова и Телегин.
Суд постановил резолюцию: Екатерину Павлову и Дмитрия Телегина лишить всех прав состояния и сослать на каторжные работы на десять лет каждого. Анну Коновалову, ее мать Киселеву и Павла Анисимова считать оправданными.
По протесту товарища прокурора правительствующий Сенат в отношении Коноваловой решение присяжных заседателей и приговор отменил и дело о ней опять возвратил в санкт-петербургский окружной суд для нового рассмотрения при другом составе присутствия.
Вторично дело слушалось в мае 1900 года, причем осужденные Телегин и Павлова фигурировали уже на суде как свидетели.
Защищал Коновалову присяжный поверенный Г. С. Аронсон. Литературная, задушевная речь его произвела на публику большое впечатление, совершенно сгладив грозное обвинение.
— Когда около года стоишь с человеком, которому грозит опасность, — говорил защитник, — невольно сживаешься с ним и волнуешься не менее его. И вы, господа присяжные заседатели, через час будете взволнованы не менее меня. Вам приходится иметь дело со страданиями человека, а есть страдания, которые бесконечны. У иных людей судьба — палач: она дает как бы в насмешку светлые мгновения, чтобы потом послать еще тяжелейшие страдания. Такая цепь непрерывных страданий у несчастной подсудимой.
Указывая далее, что присяжные заседатели представляют такой же состав, каким был и прежний, при первом рассмотрении дела, вынесший подсудимой оправдательный вердикт, — присяжный поверенный Аронсон заметил, что было бы печально, если бы каждый новый суд создавал и новую общественную совесть. Ведь тогда страшно было бы жить на свете. Ведь если и был приговор отменен Сенатом, то вовсе не по существу, а лишь вследствие нарушения известной процессуальной формы.
Защитник набросал блестящую характеристику самой подсудимой, рисовавшейся в его речи с симпатичной стороны.
Коновалова не была дурной, испорченной женщиной. Напротив, о ней говорят много хорошего, доказывающего, что у нее еще сохранилась живая, отзывчивая душа. Ее только преследовала судьба, бывшая для нее злой мачехой.
И, сбившись с пути, Анна Коновалова в самую страшную минуту оказалась правдивой, честной женщиной и рассказала всю голую правду, ничего не скрашивая, ничего не убавляя.
— Если вы, господа присяжные заседатели, думаете, что она еще должна пострадать за свой грех, то — скажите — где же предел этих страданий? Уже второй раз она занимает эту позорную скамью и второй раз выворачивают ее душу. А между тем годы уносят и молодость, и красоту, и здоровье. Сколько же еще надо ей выстрадать? Где конец?
От вас зависит распорядиться жизнью подсудимой. Судите же ее как живые люди!
После предварительного совещания присяжные заседатели признали Анну Коновалову виновной лишь в недонесении и заслуживающей снисхождения.
Резолюцией суда она была приговорена к заключению в тюрьму на три месяца.
Защитнику Г. С. Аронсону публика устроила овацию.
ДЕЛО ТАЛЬМЫ И КАРПОВЫХ
Настоящее дело по своей исключительной обстановке получило всероссийскую известность и берет свое начало еще с 1894 года.
Весной этого года, 28 марта, в г. Пензе произошел пожар. Загорелся флигель дома госпожи Тальма, в котором проживали вдова генерал-лейтенанта П. Г. Болдырева и ее горничная А. Савинова. Пожар был замечен на рассвете квартирантами соседнего флигеля, мещанами Карповыми, поднявшими тревогу. Вскоре прибыла пожарная команда, и распространение огня в квартире генеральши удалось быстро приостановить. Когда вошли в квартиру, все комнаты оказались густо переполненными едким, удушливым дымом. В первой комнате от сеней лицом вниз лежал окровавленный труп горничной. Находившийся в этой комнате телефонный аппарат, соединявший квартиру Болдыревой с квартирой домовладелицы, оказался сорванным со стены, проволока была оборвана, а на столе лежали две опорожненные лампы. Сама генеральша была найдена в своей спальне также мертвой, с сильно обожженным телом. По освидетельствовании у нее были обнаружены шесть ран как бы от удара кинжалом. Горничная также была зверски изранена, причем главная рана пронизывала насквозь легкое и сердце. Становилось очевидным, что квартира была нарочно подожжена неизвестным преступником, чтобы скрыть свое ужасное злодеяние. Процентные бумаги, деньги и некоторые золотые вещи исчезли.
30 марта два футляра от драгоценных вещей были найдены при обыске в квартире Карповых. Последние, однако, объяснили, что один из футляров был подарен им убитой Савиновой, а другой случайно был найден во дворе.
Тщательно взвесив все обстоятельства, полиция пришла к убеждению, что преступление было совершено «своим человеком», близко знакомым с генеральшей и ее жизнью. Имея свободный доступ к ней, он около двух часов ночи вошел в квартиру и привел в исполнение свой преступный замысел.
Подозрение пало на мужа домовладелицы, молодого 28-летнего человека. Будучи воспитанником убитой генеральши, он в то же время считался незаконорожденным сыном ее сына — полковника А. О. Тальмы. По справкам обнаружилось, что муж домовладелицы, Александр Тальма, имел веские причины питать злобу к Болдыревой. Отдавая деньги под проценты, она в последнее время завладела большей частью состояния его жены, лишила его обеспеченности и часто ссорилась с ним.
Привлеченный к уголовной ответственности, молодой человек, однако, решительно отрицал свою виновность в зверской расправе с генеральшей.
Пока велось следствие по этому делу, в одно из московских полицейских управлений ночью 11 июля явился мещанин Коробов и просил арестовать его.
— Да за что? — обратились к нему с расспросами.
— Я весной служил в Пензе на фабрике и хорошо знаю убийц генеральши Болдыревой… Может быть, и сам принимал в этом деле участие, — загадочно объяснил он.
Тем не менее допрос был отложен до утра, и таинственный Коробов, не успев дать показаний, в ту же ночь отравился. Со смертью он унес свою тайну в могилу.
Имело ли его заявление какую-нибудь связь с пензенским убийством — так и не удалось выяснить.
В результате в убийстве генеральши был заподозрен только Александр Тальма, и осенью 1895 года он предстал перед пензенским окружным судом.
Обвинялся Тальма в том, что, желая завладеть деньгами и документами генеральши Болдыревой, он убил ее вместе с прислугой, а затем поджег квартиру.
Свидетельские показания, в общем, были неблагоприятны для него, причем среди свидетелей фигурировала также и семья Карповых. Основываясь на этом, товарищ прокурора М. О. Громницкий поддерживал обвинение против Тальмы.
Наоборот, защита, в лице господ Грушецкого и Кальмановича, настаивала на том, что во взаимных отношениях Тальмы и Болдыревой решительно не было ничего такого, что подвинуло бы его на убийство двух женщин. Хотя факт убийства и поджога доказан, но это преступление могло быть совершено другим человеком. Что же касается Тальмы, то никто не видел, чтобы он в ночь преступления выходил из своей квартиры.
Подсудимый был очень взволнован и в своем последнем слове просил присяжных заседателей вынести такой вердикт, какой продиктует им совесть.
После продолжительного совещания присяжные заседатели признали его виновным.
Как только был прочитан вердикт, защитник Кальманович со слезами стал просить суд отменить решение присяжных заседателей. По его мнению, в данном случае был осужден совершенно неповинный человек.
В свою очередь, полковник Тальма упал на колени перед судом и молил о пощаде невинного.
Вердикт, однако, был оставлен в силе, и суд приговорил Александра Тальму к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на пятнадцать лет.
Прошло четыре года после этого, и вдруг дело Тальмы получило другой оборот.
Летом 1899 года в Пензе была совершена кража у жены штабс-капитана Е. Билим. В краже была заподозрена ее бывшая прислуга, крестьянка Захарова, и, при производстве дознания, случайно обнаружилось, что Захарова незадолго перед этим пыталась продать какую-то железнодорожную акцию в 1000 рублей, переданную ей мещанином Александром Карповым. Последний был вызван в местное полицейское управление и подвергнут подробному допросу.
Оказалось, что это был тот самый Карпов, который когда-то, вместе с родителями, выступал свидетелем в процессе Тальмы.
Со времени убийства генеральши семья Карповых все еще продолжала квартировать в флигеле госпожи Тальма.
— Откуда у вас дорогая акция? — стали спрашивать Карпова.
После долгого запирательства Александр Карпов заявил, наконец, полицеймейстеру, что он желает открыть истину и дать важное показание, и просил вызвать в полицию его отца.
Когда старик Карпов явился, сын упал ему в ноги и начал говорить:
— Прости меня… Погубил я вас всех.
— Говори при мне, в чем ты виноват, — сурово сказал отец.
Молодой Карпов зарыдал и стал просить полицеймейстера удалить на время старика из комнаты.
— Мне тяжело говорить при нем, — со слезами объяснил он.
Когда отец Карпов вышел за перегородку, сын его подошел к полицеймейстеру и глухо сказал:
— Акция эта — Болдыревой.
Затем, оправившись от волнения, он рассказал следующее:
— Убийство генеральши и ее прислуги было совершено им, Карповым, а не Тальмой.
В полночь, когда все во дворе спали, он взял кинжал, сделанный им из подпилка, и через оконную форточку влез в спальню Болдыревой. Ее еще не было дома, и, поджидая свою жертву, он спрятался за шкаф. Часа через полтора вернулась Болдырева. За ней вошла с лампой горничная, которая, поставив лампу на столик, около кровати, стала раздевать ее. Когда горничная ушла, генеральша заперла дверь на крючок, легла в постель и повернулась лицом к стене. В это время он вышел из засады, напал на Болдыреву и начал наносить ей удары кинжалом. Сколько было таких ударов — он не помнит. Болдырева застонала, и он услышал за дверью испуганный крик горничной. Оставив генеральшу, он бросился на горничную и нанес ей кинжалом один удар. Она упала на пол. Покончив с обеими женщинами, он возвратился в спальню, взял кое-что из комода и потом поджег квартиру. Никем не замеченный, прошел двором к себе, в свою квартиру, и спрятал кинжал. На другой день окровавленный кинжал сломал и бросил в реку.
По словам Карпова, он ненавидел покойную генеральшу за ее черствый характер и потому убил ее. Незадолго до преступления она велела выгнать его отца из флигеля за неплатеж квартирных денег.
В заключение он добавил, что никаких соучастников у него не было.
Вечером 28 марта старик Карпов заметил странный, беспокойный вид сына. В ответ на его расспросы последний упал отцу в ноги и признался в своем ужасном преступлении.
В момент кровавой расправы с обеими женщинами ему еще не было 17 лет.
Все похищенные им деньги, процентные бумаги и вещи были переданы родителям, которые воспользовались ими с корыстной целью.
На основании повинной Александра Карпова он, вместе с своими родителями, был предан в 1900 году суду присяжных заседателей, по обвинению в том же преступлении, за которое уже отбывал наказание Александр Тальма.
Судебное следствие продолжалось пять дней.
Главный подсудимый — молодой человек, среднего роста, с красивыми, задумчивыми глазами.
Его отец Иван Карпов, с поседевшей бородой, представлял обычный тип ремесленника. По профессии он — медник. Жена его, Христина, ничем особенным не выделялась.
Все они признали себя виновными (последние двое — в укрывательстве преступления).
По словам Ивана Карпова, вернувшись 28 марта 1894 года после пожара домой, он увидел случайно на печке дорогой футляр с серьгами.
Удивившись находке, подозвал своего сына и стал расспрашивать — откуда появились серьги.
Александр Карпов смутился и этим выдал себя.
Предчувствуя недоброе, отец начал разыскивать самодельный кинжал, который раньше он отобрал у сына.
К его ужасу, кинжал был найден в горне, с запекшейся у рукоятки кровью.
— Что это? — в испуге спросил старик.
Только тогда преступный сын упал ему в ноги и покаялся в убийстве.
Ужасное дело, однако, было сделано, и старик решил спасти хоть сына.
Александр Карпов передал ему затем некоторые похищенные у генеральши вещи, которые отец тут же сжег, 140 рублей деньгами и на 4 000 рублей процентных бумаг.
Купоны от этих бумаг и деньги стала потом тратить Христина Карпова, также знавшая о преступлении сына.
На судебном следствии, однако, Александр Карпов, как бы спохватившись, начал давать самые разноречивые показания, невольно сбивавшие с толку.
Защищали семью Карповых присяжные поверенные Гиршфельд и Козлов, произнесшие горячие речи в защиту подсудимых.
Особенно видную роль в данном деле, тесно связанном с судьбою Александра Тальмы, играл присяжный поверенный В. И. Добровольский как представитель гражданского истца — полковника Тальмы.
— Мы не можем не чувствовать и не сознавать того, что здесь, на суде, решается судьба не только семьи Карповых, но в связи с решением вопроса об их виновности или невиновности, быть может, открывается путь к спасению того, образ которого является для нас, обвинителей, руководящим светочем в настоящем деле, — так начал свою речь Добровольский. — Этот нравственный стимул привел нас сюда и здесь, на суде, дает нам силу и убеждение поддерживать обвинение против Карповых. Но одна эта цель была бы недостаточна. Как бы она ни была нравственно высока и чиста, — вы не увидали бы нас в роли обвинителей Карповых, если бы мы не имели в своем распоряжении безусловно подавляющих улик.
Вся Россия знакома с делом осужденного Тальмы, а тем более оно известно вам, господа присяжные заседатели, как местным обывателям, и, быть может, в противовес высказанному мною только что убеждению в виновности Карповых, у вас воскреснут в памяти подобные же слова убеждения обвинителя в деле Тальмы, а может быть, не только взгляд представителя обвинения, но и самый приговор по этому делу, в виде непреложной истины, добытой таким же тяжким судебным трудом, как мы ее здесь отыскиваем, стоит пред вами и говорит вам, что личное убеждение шатко и условно, но приговор как судебное решение, как закон для данного случая требует высшей осторожности и не может не остановить вас в некотором критическом размышлении пред той новой истиной, которую мы домогаемся услышать здесь, на суде.
Конечно, всякое судебное решение с внешней формальной стороны одинаково достоверно, но не всякое решение основано на одинаково достоверном судебном материале. На суде уголовном судье приходится создавать свое убеждение и решать вопрос о виновности на основании или прямых, или косвенных улик. В том и другом случае достоверность приговора далеко не одинакова.
Косвенная улика говорит лишь об известной вероятности, бросает на лицо лишь тень подозрения. Правда, эта тень сгущается по мере увеличения числа улик, убеждение судьи приближается все более и более к полной достоверности, но абсолютной — не достигает никогда. Случилось убийство, все обыватели данного города стоят в некотором подозрении, все они, с большей или меньшей вероятностью, могли его совершить, против них имеется хотя и слабая, но уже одна, во всяком случае, косвенная улика. Идем далее, против всех лиц, живущих на одной и той же улице, где совершилось преступление, имеется уже большее число улик, а против живущих под одним и тем же кровом число улик уже неисчислимо. Все эти лица стоят в явном подозрении, все они не гарантированы от уголовной ответственности, от скамьи подсудимых, скажу более, от осуждения. Как бы ни были косвенные улики многочисленны, тяжесть доказательства все время лежит на обвинителе, и обвиняемый свободен их не отражать, они создают лишь подозрение, его защищает всегда сомнение, и никогда приговор, основанный на них, не создает полной достоверности, — он приближает нас к истине, стремится ее постичь, но судебная ошибка всегда возможна.
Иной силой обладает прямая улика, она устанавливает бесспорный факт, обвиняемый ею безусловно уличается, и совершение им преступления стоит вне сомнения.
В настоящем деле мы, обвинители, имеем против Карповых прямые улики. Карповы пойманы с билетами, несомненно принадлежащими Болдыревой, похищенными при совершении убийства. Убийца здесь с поличным приносит нам сознание. Казалось бы, чего же более? Но это сознание хуже всякого отрицания. Александр Карпов понимает обаятельную силу судебного приговора, чувствует тот яд сомнения, которым все здесь пропитано, и, пользуясь этим, дает нам такое сознание, которое заводит нас в лабиринт противоречий, порождает в вас непонятный и ни на чем не обоснованный скептицизм и подрывает силу и значение самых простых и достоверных фактов. Но мы должны разогнать этот мираж, чтобы увидеть и постичь реальную действительность, так как только на фактах, фактах абсолютно достоверных, проверенных здесь на суде, вы должны обосновать свой приговор. Все то, что вы получили за стенами зала, вы должны выбросить из своего ума и сердца и судить по данной вами присяге только согласно с тем, что видали и слыхали на суде.
Но и судебный материал не одинаково достоверен, отбросим же и в нем все сомнительное, условное и станем лицом к лицу с реальной действительностью, — на ней вы должны обосновать свой приговор.
Александру Карпову предъявлено обвинение в убийстве, но нам, обвинителям, и вам, судьям, не достаточно одного того факта, что Александр Карпов пойман с облигацией в руках и что она находилась у него в тысяча восемьсот девяносто девятом году. Раз мы поддерживаем против него обвинение в убийстве, мы должны доказать, что он его совершил.
Когда Карпов был уличен в продаже облигации, он пришел правосудию на помощь и принес нам полное сознание. Но теперь, когда признанием душа облегчена, инстинкт самосохранения заговорил в Карпове. Он повторяет свое сознание, но дает его нам в такой форме, которая не допускает принять его бесконтрольно. У нас невольно возникает мысль, не имеем ли дело с одним из тех добровольцев, готовых принять страдание, которые уже не раз по этому делу клали голову на плаху, — и это убеждение может в нас еще окрепнуть, если мы вспомним то объяснение, которое нам давал Карпов как бы в форме вынужденного сознания относительно кражи в тысяча восемьсот девяносто третьем году, за которую Карпов был уже осужден. Он говорит нам: «Я принял чужую вину». Аналогия невольно напрашивается. Может быть, и теперь принимается чужая вина. Но сознание было, и мы не можем его отвергнуть. Мы не имеем права не считаться с ним, но должны, однако, его принять только после надлежащей критической проверки. Конечно, не с добровольцем-мучеником, идущим на страдание, имеем дело, — у Карпова на руках были окровавленные облигации, убийство уже запятнало его своею кровью.
Ту картину убийства, которую нам рисует подсудимый, мы должны наложить на ту, которую получаем, воспроизводя фотографически по свидетельским показаниям, по заключению экспертов, по осмотру места преступления. В этом отношении правдивость сознания не оставляет сомнения. Картина убийства не могла запечатлеться в уме Карпова как свидетеля по делу Тальмы: она иная, она не та, которая рисовалась в том деле. Когда Карпов совершил убийство, ему не было семнадцати лет, поэтому мы первым долгом должны спросить себя: как пришел Карпов в столь юные годы к подобному преступлению и мог ли он один его совершить? О мотивах, которые его привели к убийству, мы получили противоречивое объяснение. В одном случае Карпов нам говорит, что он руководствовался корыстными целями ограбления и наживы; в другом — он это безусловно отвергает, говоря, что он преследовал чисто моральную цель, находя, что Болдырева была достойна смерти. Я думаю, что тогда роль Раскольникова Карпову не по плечу. Здесь мы имеем дело с простым, корыстным преступлением, и нравственный облик подсудимого этому нисколько не противоречит. Карпов не «озорник» в том смысле слова, как свидетели нам говорили; он угрюм, молчалив, необщителен. Но одного его слова подчас достаточно, чтобы постоять за себя. Карпов еще мальчиком умел желать, умел постоять за себя, умел достигнуть цели. Под его глубоким взором, в его душе таились уже смолоду сильные страсти и твердая воля. Эксперты-психиатры останавливали ваше внимание на том, что в юношеском возрасте достаточно самых незначительных импульсов, и молодая, еще не окрепшая воля может с исключительной легкостью поддаться не только нравственно отрицательному, но и преступному желанию. И, к сожалению, уголовные летописи действительно знают подобные примеры. Вспоминается мне убийство в Петербурге, в меняльной лавке, малолетним Зайцевым, — подобное же бессмысленное убийство в Париже привратницы Кюне. Исследуя далее вопрос о физической силе Карпова, о возможности совершить убийство Болдыревой и Савиновой, когда ему не было еще семнадцати лет, мы должны принять заключение экспертов. Они нам говорят, что кинжал страшен и в руке младенца, сила же жертвы преступления не играет роли: совершенно безразлично, была ли Болдырева немощной старухой или воинственной генеральшей, сваливавшей с ног одной пощечиной своего дворника.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Виктор Иванович
Родился в Полтаве 25 сентября 1865 года. По окончании курса Санкт-Петербургского университета непродолжительное время служил по судебному ведомству, а затем в 1893 году вступил в адвокатуру. Первым громким процессом, в котором В. И. Добровольскому пришлось выступить защитником главного обвиняемого, было дело об убийстве псаломщика Кедрова. После того он участвовал во многих известных процессах то в качестве защитника, то гражданским истцом Наиболее крупными делами его были: процессы Тальмы (в правительствующем Сенате), семьи Карповых, авантюристки Сенкевич, Лоретца-Эблина, братьев Иовановичей (поджог).
На этом обрывается как бы достоверная часть сознания Карпова. Далее мы сталкиваемся с противоречиями и с категорическим отрицанием некоторых фактов. В одном случае Карпов говорит, что он спрятался за комодом, в другом — под постелью. Как же понять это противоречие? Я нахожу его вполне естественным. Карпов пойман, он имел неосторожность принести свое сознание. Чем же ему теперь защищаться, как не дискредитированием собственного же признания? Это единственный путь к спасению. Отрицание хотя бы и незначительных фактов достигает своей цели. Карпов, с одной стороны, говорит, что он совершил убийство «один», а с другой — известные факты отрицает. Кто же совершил их? И в связи с этим вопросом вновь возникает сомнение в достоверности сознания и возможности совершения убийства без соучастников. Мы не можем не понять тех целей, которые преследует подсудимый; мы не можем не взглянуть туда, куда он нам указывает. Но мы в то же время не можем не протестовать всей силой нашего убеждения. Соучастники друг друга не обвиняют. Между тем в процессе Тальмы Карповы были его обвинителями; они говорили, что Тальма будто бы кричал: «Их зарезали», когда он этого знать не мог. Теперь здесь мы, представители интересов Тальмы, обвиняем его, Карпова, добиваемся его осуждения, добиваемся от него правды. Зачем она связывает его уста? (Обращаясь к Карпову.) Говорите же, говорите! Истина нам не страшна! Он молчит, молчание его изобличает… Но, может быть, он скрывает того, чье спасение мы не можем поставить ему в упрек. Мы, однако, в этом отношении не имеем никаких данных. Предположение о соучастии отца возможно, но оно не имеет за собою достаточных оснований. Итак, все усилия Карпова подорвать значение своего сознания — тщетны. В сознании проскользнули такие правдивые штрихи, что их невозможно уничтожить. Вспомните, как Карпов говорит об убийстве Болдыревой: «Ударил ее в левый бок, она приподнялась, почти что привстала на ноги, и тогда я ей нанес второй удар». Это фотографически верный снимок с действительности. Он мог запечатлеться только у убийцы…
Защита во время судебного следствия стремилась доказать, что до тысяча восемьсот девяносто восьмого года у Карповых не было облигаций, что следы прикосновенности их к преступлению начинаются только с тысяча восемьсот девяносто восьмого года, и раз это так, то здесь со стороны Карповых нет уже преступления, а есть лишь жертва и добровольное принятие чужой вины. Конечно, всякие предположения, всякие гадания возможны, но для этого необходимы какие-нибудь факты. Неужели, не будучи магом и кудесником, можно было заставить разыграть ту драму, которая прошла перед нами? Но помимо этого ведь мы имеем факты, которые далеко переступают за пределы тысяча восемьсот девяносто восьмого года. Футляры, похищенные у Болдыревой, были найдены у Карпова тридцатого марта тысяча восемьсот девяносто четвертого года, через день прсле совершения убийства. Кровавый след, как видите, не обрывается на тысяча восемьсот девяносто восьмом году. Следя по нему, мы доходим до места и дня совершения убийства и застаем там отца и сына Карповых. Сознание последнего открывает нам двери далее, и здесь на месте убийства мы видим запечатленный образ убийцы — Александра Карпова. Эти факты слишком красноречиво говорят за себя. Слова излишни, они отдаляют время вашего приговора, они отдаляют от нас лишь ту истину, которую услышать мы ожидаем и которая должна пролить свет не только в этом деле, но еще откликнуться далеко — там, в царстве скорби и слез. Поспешите же поставить свой приговор и отогнать им тот кошмар, который навеян на общество настоящим делом, и снять тот укор, который лежит на общественной совести!
После продолжительного совещания присяжные заседатели признали Александра Карпова виновным лишь в укрывательстве преступления, совершенного другим лицом. Такой же вердикт был вынесен ими и в отношении его родителей.
Суд постановил резолюцию: Ивана и Христину Карповых с лишением всех прав состояния сослать в каторжные работы на шесть лет, причем ходатайствовать чрез министра юстиции пред его императорским величеством о замене этого наказания для матери Карповой тюремным заключением на один год; Александра Карпова же заключить в тюрьму на два года.
Гражданский иск, заявленный присяжным поверенным Добровольским со стороны полковника Тальмы, был удовлетворен полностью.
По вступлении этого приговора в законную силу, ранее осужденный Александр Тальма подал в правительствующий Сенат ходатайство о возобновлении его дела, вследствие вновь открывшихся обстоятельств. Ходатайство, однако, было оставлено Сенатом без последствий, но затем, по представлении министра юстиции, состоялось высочайшее помилование Александра Тальмы.
ЖЕСТОКАЯ МЕСТЬ
В ночь на 19 сентября 1900 года в Петербурге, на Надеждинской улице, разыгрался трагический случай. Возвращаясь от своей невесты домой, крестьянин Ф. О. Иокимас встретился с женщиной, которая быстро выхватила из-под одежды склянку и плеснула ему в лицо едкой жидкостью. Иокимас почувствовал страшную боль в глазах и закричал о помощи. Таинственная незнакомка поспешила скрыться.
При освидетельствовании у Иокимаса были констатированы почти полная потеря зрения в правом глазу и сильные ожоги на шее и лице, как бы от действия серной или азотной кислоты. По заключению врачей лицо пострадавшего должно навсегда остаться обезображенным.
Иокимас объяснил, что жестоко расправившаяся с ним женщина, несомненно, была виленская мещанка Текла Вержхницкая, с которой он раньше состоял в любовной связи. За последнее время он порвал с нею всякие отношения и решил жениться на Франциске Крассовской. Узнав, что свадьба должна состояться 19 сентября, отвергнутая любовница начала упорно преследовать его и прибегла, наконец, к мести.
Заявление пострадавшего было подтверждено его невестой и ее подругами, причем оказалось, что Текла Вержхницкая вечером 18 сентября долгое время поджидала кого-то у дома, где живет Крассовская и где в этот вечер был в гостях жених последней. Когда Иокимас вышел на улицу, его бывшая любовница на глазах у подруги невесты, Евы Киршанской, стоявшей на балконе дома, стремительно подошла к нему и облила кислотой.
Вержхницкая упорно отрицала свою виновность и настаивала на том, что в ночь преступления она совсем не встречалась с Иокимасом.
Между тем из дальнейшего дознания обнаружилось, что на квартиру ее вскоре после преступления наведался один из знакомых и стал укорять ее — зачем она так зверски поступила с Иокимасом.
— А ты разве сыщик? — сердито сказала молодая женщина и затем вдруг заплакала.
Когда знакомый стал ее успокаивать, она со слезами начала просить его уговорить как-нибудь Иокимаса снова вернуться к н. ей и позабыть о невесте.
— Он должен меня простить, — уверенно говорила она. — Я его люблю.
Знакомый пробовал заметить ей, что едва ли Иокимас согласится теперь жить с ней.
— А если так, то я ему и другой глаз выжгу, — пригрозила она.
Не предварительном следствии возникло сомнение в нормальности умственных способностей преступницы, и она была отправлена на испытание в больницу Николая Чудотворца. Однако, по заключении экспертов-психиатров, выяснилось, что хотя Вержхницкая и одержима истерией, но никаким душевным расстройством не страдала и в состоянии умоисступления не находилась.
В ноябре 1901 года она предстала перед санкт-петербургским окружным судом. Среднего роста молодая женщина, 31 года, с миловидным лицом, производила благоприятное впечатление. Она была модисткой и раньше имела в Петербурге собственный магазин дамского платья и шляп. Защищал ее присяжный поверенный М. К. Адамов. Зал суда и коридоры были переполнены публикой, среди которой преобладали дамы.
На вопрос председательствующего Текла Вержхницкая взволнованно сказала:
— Отчасти я признаю себя виновной. Да, это я облила Иокимаса кислотой, но меня вынудили на это. Я любила его, а он хотел жениться на другой, издевался надо мной и обманывал. Мне было тяжело жить, и я сама намеревалась отравиться. В последний раз, когда я хотела объясниться, он ударил меня. Не помня себя от обиды, я плеснула в него кислотой.
В последующем объяснении подсудимой вырисовалась тяжелая картина ее совместной жизни с Иокимасом.
Познакомилась она с ним лет шесть тому назад, и между ними скоро возникли близкие отношения. У нее в то время было до 500 рублей денег и хороший заработок. Обещая на ней жениться, любовник перебрался на ее квартиру и жил с нею мирно до тех пор, пока не выманил у нее все деньги. Затем он стал, видимо, тяготиться своей связью. Несмотря на рождение детей, любовник отказывался помогать Вержхницкой и думал лишь, как бы побольше раздобыть у нее денег. Часто, пьяный, он затевал на квартире шумные скандалы и грубо требовал денег. Однако Вержхницкая по-прежнему продолжала любить Иокимаса и надеялась, что он после женитьбы на ней не замедлит исправиться.
Наконец, она уговорила его закрепить церковным обрядом их связь. День свадьбы был назначен на 15 августа 1900 года.
Перед этим состоялось обручение, и Иокимас взял у своей любовницы на необходимые расходы до 260 рублей. Прошло некоторое время, но Иокимас как бы забыл о свадьбе. Вержхницкая начала беспокоиться и, к своему отчаянию, проведала, что у нее завелась соперница в лице смазливой горничной — Франциски Крассовской. Мало того, она узнала, что вероломный любовник нагло обманывает ее и решил тайком от нее жениться на Крассовской. Убитая горем Вержхницкая, чувствуя, что не может перенести измены, стала умолять любовника не губить ее и прекратить знакомство с горничной. Иокимас, однако, не обращал внимания на ее просьбы, осыпал грубой бранью и, чтобы избавиться от нее окончательно, возбудил против нее уголовное преследование по обвинению в краже у него одежды и в подлоге денежной расписки. Однако обвинение не было доказано, и мировой судья оправдал Вержхницкую.
Но и после того, по словам одного из свидетелей, Вержхницкая не теряла надежды вернуть к себе любовь Иокимаса и даже намеревалась предложить своей разлучнице 300 рублей «отступного».
Как объяснила обвиняемая, кислоту она купила в день преступления в аптеке, специально для чистки медной посуды.
Сам пострадавший — довольно красивый человек, лет 37, с небольшой черной бородкой. Через всю голову его проходила широкая повязка, скрывавшая поврежденный глаз. По профессии он — конторщик и служил на Александровском сталелитейном заводе. Вместе с ним в суд явилась также и его жена, бывшая горничная Франциска, из-за которой, главным образом, разыгралось преступление.
Как муж, так и жена Иокимас дали неблагоприятные для подсудимой показания, называя ее взбалмошной женщиной.
— Никогда я не думал на ней жениться, никакой любви не питал, а смотрел на нее просто как на самую обыкновенную любовницу, — откровенно признался Иокимас. — Она и до меня уже имела тесное знакомство с некоторыми мужчинами.
Остальные свидетельские показания мало внесли нового в собственное признание подсудимой, подтвердив лишь данные обвинительного акта.
Находя виновность ее вполне доказанным фактом, товарищ прокурора Бибиков поддерживал обвинение.
Присяжный поверенный Адамов в своей защитительной речи набросал яркую характеристику главных действующих лиц этого дела — беззащитной женщины, горячо привязавшейся к своему недостойному избраннику, и ее бездушного, эгоистичного любовника, сердцем которого руководили простой, холодный расчет и животное чувство. По мнению защитника, присяжные заседатели должны проникнуться тяжелым, безотрадным положением исстрадавшейся женщины-матери и прийти ей на помощь своим гуманным вердиктом.
Рассмотрение этого дела затянулось до 3 часов ночи.
После непродолжительного совещания присяжные заседатели признали факт обезображения доказанным, но Теклу Вержхницкую, совершившую преступление, в припадке умоисступления.
Резолюцией суда она была оправдана.
ПОХОЖДЕНИЯ ТРАХТЕНБЕРГА
В 1900 году крестьянин Быковский, приискивая для себя место артельщика или рассыльного с гарантией денежного залога, поместил объявление в газетах.
Вскоре после этого он получил письмо от купеческого сына В. Ф. Трахтенберга, который предлагал ему должность и просил зайти для переговоров 9 января. Быковский отправился по указанному адресу и увидел перед собой представительного молодого человека. Последний принял его очень любезно и, назвавшись Трахтенбергом, объяснил, что имеет в Петербурге электротехническую контору и, кроме того, состоит агентом Российского страхового общества и что поэтому он очень нуждался в расторопном артельщике для исполнения различных денежных поручений. Быковский охотно согласился поступить на эту должность и представить залог в 400 рублей с тем, чтобы деньги были внесены в государственный банк, а в руках В. Трахтенберга находилась только одна квитанция.
В тот же день оба они пришли в государственный банк, и артельщик вынул из кармана свидетельство 4-процентной государственной ренты, билет 3-го с выигрышами дворянского займа и 5-процентную облигацию житомирской узкоколейной железной дороги, всего по курсу на сумму 402 рубля. Увидев процентные бумаги, В. Ф. Трахтенберг отобрал их у артельщика и, выдав взамен вексель на 400 рублей, отправился с ними в отделение банка. Через несколько минут он возвратился обратно и объявил Быковскому, что его залог сдан в кассу, но квитанцию он может получить только на другой день. Однако прошло несколько дней, а о квитанции не было ни слуху ни духу. Артельщик стал волноваться, но В. Трахтенберг успокоил его и выдал извещение на печатном бланке о том. что процентные бумаги были внесены в государственный банк. Не видя на бланке фамилий ни кассира, ни контролера, Быковский усомнился в его действительности и справился в банке. Подозрение его не замедлило подтвердиться. Оказалось, что В. Трахтенберг никаких ценностей в государственный банк не вносил. Встревоженный артельщик обратился за разъяснениями к своему «хозяину», который стал уверять, что залог находится в сохранности.
— Если вы беспокоитесь, возьмите всю мою квартирную обстановку в обеспечение, — предложил Трахтенберг.
Между тем ни конторы, ни агентства у него не оказалось, и Быковскому пришлось исполнять роль простого лакея. В конце концов В. Трахтенберг скрылся вместе со всем своим имуществом.
Обманутый артельщик обратился к прокурору с жалобой, и на другой же день 31 января В. Ф. Трахтенберг поспешил возвратить ему выигрышный билет, а в счет остальной недостающей суммы залога выдал сторублевый вексель от имени дворянина Э. Шафрата. Вексель этот также оказался результатом неблаговидной проделки Трахтенберга с музыкальным магазином купца Бормана. Взяв из магазина перед Рождеством дорогое пианино, В. Трахтенберг в январе продал его за 200 рублей мебельному магазину «Взаимная польза». Из этих денег он получил наличными только 100 рублей, а на остальную сумму — вексель дворянина Шафрата.
В результате В. Ф. Трахтенберг был привлечен к уголовной ответственности и предстал перед санкт-петербургским окружным судом. Дело это рассматривалось во 2-м отделении, с участием присяжных заседателей.
Обвиняемый — молодой человек, 21 года, с худощавым интеллигентным лицом. Одет он был очень прилично, с высоким воротничком, в пенсне, и держался на суде вполне непринужденно.
Бывший студент Императорской военно-медицинской академии, происходящий из состоятельной купеческой семьи, постоянный посетитель клубов и легкомысленный жуир — Трахтенберг был известен всему веселящемуся Петербургу, — Немудрено поэтому, что еще задолго до начала заседания весь зал суда и коридоры были переполнены разнообразной публикой, интересовавшейся исходом данного дела и его деталями. Большинство этой публики составляли студенты военно-медицинской академии, правоведы, студенты Санкт-Петербургского университета и дамы, для которых личность подсудимого, приобретшего большую популярность своей широкой жизнью, имела особый интерес.
Обвинение поддерживал товарищ прокурора Завадский.
Из свидетельских показаний выяснилось, между прочим, что подсудимый никакими делами не занимался и, по большей части, проводил время вне дома, возвращаясь поздно ночью. Но у него водились, по-видимому, большие деньги: имел выездного лакея-черкеса и обезьяну, собрал редкую коллекцию старинных монет и ни в чем себе не отказывал. Для езды он обыкновенно держал помесячно лошадей, щедро давал кучерам на чай, квартиру отделывал по собственному вкусу, затягивая потолки материей и обклеивая дорогими обоями; имел много ценной бронзы и фарфора, роскошные ковры, пианино и различные художественные вещи. В общем, стоимость его обстановки определялась в сумме до 10 000 рублей. Жил он совершенно одиноко, без родных, окруженный только слугами. И вдруг в этой беспечальной жизни произошел резкий переворот. Средства у Трахтенберга оскудели, появились настойчивые кредиторы, и, чтобы спасти от описи свое имущество, он пытался перевести его на чужое имя. Однако это ему не удалось, и он уехал в Москву, бросив нанятого артельщика, залогом которого он воспользовался для поправки своих обстоятельств. Но и в Москве ему не повезло: он попался в проделке, и о нем возникло другое дело в московском окружном суде. Что это за дело — Трахтенберг не хотел объяснить, называя его маловажным. Посаженный в московскую пересыльную тюрьму, он вскоре же вследствие жалоб обманутых артельщика и хозяина музыкального магазина был препровожден в Петербург.
Сам Трахтенберг оправдывался тем, что он будто бы с ведома Быковского взял у него залоговые деньги, выдав ему за это вексель и предоставив у себя хорошо оплачивавшееся место лакея. После же, когда Быковский начал упорно требовать у него свой залог, он для расчета решился продать взятое раньше напрокат пианино. Не желая в то же время обманывать владельца музыкального магазина, он немедленно после продажи пианино прислал ему нотариальное заявление о том, что покупает в рассрочку взятое напрокат пианино, обязуясь уплачивать ежемесячно по 25 рублей.
По словам подсудимого, он в мае 1899 года окончил курс во 2-й санкт-петербургской гимназии, давал первое время уроки, а затем поступил в Императорскую военно-медицинскую академию. Лишенный возможности жить совместно со своей семьей по особо уважительным причинам, он решительно отказался от денежной помощи со стороны родителей и жил на свой скромный заработок, исполняя кое-какую постороннюю работу и сотрудничая в журнале «Звезда». Материальные обстоятельства его тем временем становились все более и более затруднительными, он стал сильно нуждаться и, отчаявшись, решил попытать счастья на «зеленом поле». С ничтожными деньгами в кармане он пробрался переодетый в клуб, стал играть в карты и в первый же вечер выиграл до 300 рублей. Всю неделю после этого ему везло, он продолжал выигрывать крупные куши и окончательно пристрастился к карточной игре, видя в ней легкий источник к наживе. Как только наступал вечер, он сбрасывал студенческий мундир, облачался в сюртук и целые ночи просиживал в клубе. Такая жизнь не замедлила отразиться на его здоровье; он заболел и вскоре слег в военный госпиталь. По выздоровлении он уволился из академии и опять взялся за карты, выиграв в короткое время около 5 000 рублей. Имея в руках крупные деньги, он безрассудно стал разбрасывать их во все стороны, давая всем, кто просил. Повились роскошная обстановка, выезд, лакей-черкес, причудливая обезьяна… Но о высшем образовании он не забыл и стал готовиться к поступлению в Санкт-Петербургский университет. Казалось, жизнь улыбалась ему. Но счастье изменило, начались проигрыши, и деньги быстро уплыли в карманы других игроков. На помощь пришли поставщики и швейцары, дравшие с него высокие проценты. Он пробовал отыграться, отчаянно рисковал, но не мог вернуть потерянного и в январе 1900 года остался без копейки денег. Между тем у одного кредитора был исполнительный лист на него в сумме 400 рублей, для оплаты которого он и решился воспользоваться залогом нанятого им лакея. Вскоре ему было обещано хорошее место в Москве, хотя за «содействие» нужно было заплатить какому-то видному лицу 500 рублей. Он заложил все свои дорогие вещи и уехал в Москву. Однако и там его преследовали неудачи, и в результате он попал в пересыльную тюрьму, а из нее — на скамью подсудимых.
Ознакомившись с обстоятельствами дела, присяжные заседатели признали В. Ф, Трахтенберга виновным в мошенничестве на сумму менее 300 рублей и в растрате, но дали ему снисхождение, найдя, что при продаже чужого пианино он действовал легкомысленно.
Резолюцией суда Трахтенберг был приговорен к заключению в тюрьму сроком на один месяц.
После отбытия наказания Трахтенберг снова судился (на этот раз уже в московском окружном суде) по обвинению в том, что он ложно именовал себя князем Барятинским и в устроенном им игорном доме обыгрывал посетителей краплеными картами. Суд приговорил его к двухмесячному тюремному заключению с лишением особых прав.
Кроме того, против него было возбуждено еще одно дело — о растрате на сумму до 150 000 рублей.
СМЕРТЬ ЗА ИЗМЕНУ
Года два назад в Петербурге проживала крестьянка А. Сергеева. Молодая 18-летняя женщина, она не отличалась разборчивостью в сердечных делах и меняла своих любовников, как перчатки. Однако последний роман ее оказался неудачным и закончился трагически.
В 1901 году, вечером 6 марта, он была доставлена в Обуховскую больницу с тяжкой раной на животе и, несмотря на все принятые меры, через три дня скончалась.
— Кто вас ранил? — спросили у нее перед смертью.
— Любовник… Александр Богданов, — слабым прерывающимся голосом ответила она.
По словам Сергеевой, любовник ревновал ее. Прожив с ним около месяца на одной квартире, она, наконец, бросила его и перебралась в другой дом. Но любовник не переставал преследовать ее и 6 марта встретился с ней на углу Садовой улицы и Никольского переулка. Она выходила из трактира «Вена», как вдруг к ней быстро подошел Богданов.
— Что, загордилась? Ушла? — резко сказал он и, прежде чем она успела отбежать, вонзил в нее нож.
В общем предсмертное показание молодой женщины было проникнуто недобрым, злым чувством к любовнику.
Однако из рассказов других лиц удалось выяснить, что Богданов далеко не представлял из себя жестокую преступную натуру. Напротив, это был трудолюбивый, скромный молодой человек 20 лет, избегавший спиртных напитков. Познакомившись с покойной Сергеевой, он очень дружно жил с ней первое время, пока она не «свихнулась». Соскучившись по старой, легкомысленной жизни, она мало-помалу стала распутничать, завела каких-то подозрительных кавалеров и по целым суткам пропадала иногда из дому.
— Где ты ночевала? — тревожился Богданов, окидывая молодую женщину ревнивым взглядом.
— У матери, — коротко говорила она.
Чувствуя недоброе, Богданов тем не менее любил беспутную женщину и даже намеревался жениться на ней.
Познакомился он с нею случайно в театре. Завязалось быстрое знакомство, он полюбил бойкую молодую женщину и вскоре вступил с ней в близкую связь. Кто она была — Богданов первоначально не ведал, хотя и узнал, что он является уже не первым ее любовником.
Получив предварительное воспитание в каком-то благотворительном приюте, Сергеева служила потом горничной у одного чиновника, затем работала на винном заводе, в типографии и постепенно познакомилась с «прелестями» городской цивилизации. Своих родителей она почти не навещала, но до сведения матери нередко доходили слухи, что дочка «шибко гуляет».
Убийца-любовник был привлечен к уголовной ответственности и в конце 1901 года предстал перед присяжными заседателями.
Дело слушалось по 1-му отделению санкт-петербургского окружного суда, под председательством Н. А. Чебышева.
Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Ф. С. Зиберт.
Защищал присяжный поверенный Н. П. Карабчевский.
В своем признании на суде обвиняемый объяснил, что он очень любил покойную Сергееву, несмотря на ее строптивый характер. Между тем она явно издевалась над ним, заводила частые ссоры и осыпала его грубой бранью. Любя ее, он не мог спокойно относиться к ее распутной жизни. Ему делалось очень больно, когда она оставляла его одного, набирала разных мужчин и уходила с ними гулять или кататься на тройке.
Однажды как-то он встретил вероломную женщину на Садовой улице. Она шла об руку с каким-то. мужчиной и держала себя в высшей степени непринужденно. Это так подействовало на Богданова, что он выхватил из кармана небольшой нож и стал пилить себе горло. Израненного, его немедленно поспешили отправить в ближайшую больницу.
Выздоровев, он упорно начал разыскивать все еще любимую им женщину. Он готов был все простить ей, лишь бы только она снова возвратилась к нему. Но она также оказалась в больнице. Богданов поспешил навестить ее.
КАРАБЧЕВСКИЙ Николай Платонович
Родился 30 ноября 1852 года. По окончании курса Санкт-Петербургского университета в конце 1874 года выступил на юридическом поприте. В ряду русских юристов он занимает почетное место, числясь одним из корифеев адвокатуры. Важнейшие дела его, в которых он выступал с блестящими защитительными речами, следующие: процесс-монстр об интендантах и подрядчиках последней русско-турецкой войны (длился два месяца), убийство Сарры Беккер, крушение парохода «Владимир», Мултанское жертвоприношение, дела братьев Скитских, А. Пальмы, В. Бутмиде-Кацмана, поручика Имшенецкого, Ольги Падем, II. Кашина, А. Богданова. Член совета присяжных поверенных округа санкт-петербургской судебной палаты.
— Чем ты больна? — стал допытываться он.
— Так, просто… расстроилась, — неохотно отвечала она, не желая вступать с ним ни в какие объяснения.
Когда любовница покинула Богданова, он тщетно пытался уговорить ее на совместную жизнь. Она не отказывалась брать у него деньги, но все-таки избегала возобновления любовной связи с ним.
Наконец доведенный до отчаяния, он стал искать забвения в водке.
В день преступления он проходил случайно мимо магазина металлических изделий — и, не отдавая себе отчета, под влиянием тоски, купил остро отточенный финский нож. Для чего ему понадобился нож: для самоубийства или кровавой расправы с изменницей — он не знал в то время.
Вечером, желая заглушить горе водкой, он зашел в трактир «Вена». К его негодованию, здесь оказалась также и скрывавшаяся от него Сергеева, пьянствовавшая в компании мужчин. Она вызывающе посмотрела на своего бывшего любовника и презрительно отвернулась в сторону.
Возмущенный Богданов вышел из трактира и на улице стал поджидать любовницу. Последняя через некоторое время также оставила трактир, но не обратила внимания на Богданова и стала быстро удаляться.
— Подожди! — крикнул ей. нагоняя, молодой человек.
— Чего тебе?
— Прощай! Простись со мною!
— Чего ты ко мне лезешь? Я тебя не знаю, — рассердилась она и вскрикнула.
Потеряв самообладание, Богданов ударил ее ножом в живот.
Первоначально он думал скрыться и с поездом Николаевской железной дороги поехал в Старую Руссу, к матери. Однако в вагоне им овладело раскаяние в своем жестоком поступке, и, по совету старика пассажира, он возвратился обратно в Петербург, чтобы отдаться в руки правосудия.
После обвинительной речи товарища прокурора Н. П. Карабчевский с обычным талантом обрисовал все настоящее дело.
Защитник находил, что сознательно и по своей воле убивают только изверги и сумасшедшие, как редкие исключения… Все остальное большинство убийств — только несчастие и мука, и прежде всего несчастие и мука именно для тех, кого мы называем убийцами. Они гораздо несчастнее самих жертв своих. И единственный вопрос, который приличествует судье задать им: «Что обрушило на вас подобное несчастие?» Нередко они сами не в силах ответить и на такой вопрос.
Человек не хочет убивать. Он хочет есть, пить, спать, плакать, смеяться, радоваться, любить, быть счастливым, дышать всею грудью… Но прекратить в себе или другом это дыхание, эту жажду жизни — всегда противно его воле и его разуму.
Под какую категорию убийц подвести нам дотоле. незлобивого и даже нравственного юношу, двадцатилетнего Александра Богданова? Согласиться ли с обвинителем, что он хотел зла своей жертве, обдумал его и совершил это зло сознательно. Едва, ли на этом может успокоиться судейская совесть. Бедной и жалкой Сергеевой, также юной, нам, разумеется, не воскресить. К чему бы привела ее жизнь, мы не знаем. Хуже или лучше ей было, если бы она оставалась на этом свете, мы предугадать не в силах, но перед нами другая, молодая еще жизнь, за дальнейшую судьбу которой мы всецело ответственны.
Александр Богданов, двадцатилетний юноша, портной по ремеслу, выросший в самом низменном омуте столичной трудовой жизни, наперекор всему сохранил в себе все черты молодой, не тронутой пороком души. В неприглядной обстановке мастерового, среди дурных примеров и окружающей его нравственной распущенности, он умудрился уберечь всю свою чистоту, всю свежесть, всю молодость. Для этого надо было иметь недюжинные задатки. Он не пьет, не бражничает с товарищами, до двадцати лет вовсе не знает женщин и прежде всего сторонится размалеванных красавиц, с которыми другие его товарищи не прочь «водить компанию». Живет он скромно, одевается чисто, копейке знает цену, но не копит деньгу, а помогает своим заработком отцу и матери. Так обстоит дело до зимы 1900 года. В эту зиму он случайно знакомится в театре с А. Сергеевой. Участь его решена. Он влюбляется в нее, — влюбляется всем пылом и всеми муками первой юношеской страсти.
Здесь председательствующий рядом настойчивых вопросов, обращенных к подсудимому, стремился выяснить: какой именно любовью полюбил Александр Богданов Акулину Сергееву — плотской или духовной? «За тело ли» или «за ее душевные качества»? На этот вопрос подсудимый, по-видимому, не сумел ответить; он упорно отмалчивался, багровел и потуплялся. Я думаю, что если бы любому из нас, взрослому, поставить такой же вопрос, мы тоже, если бы хотели быть искренними, ответить не сумели. Любовь к женщине вещь слишком сложная и деликатная, чтобы ее можно было разложить на столе вещественных доказательств и разобрать на составные части. И самый вопрос едва ли ставится правильно: «За что любишь?» Люблю — потому, что люблю. Ни за что и — за все! Люблю! Как только разберешься, за что именно, — наступит черед уважению, благодарности, признательности и другим прекрасным чувствам, но любви-то собственно, с ее огромным стихийным придатком, почти всегда наступит конец.
Итак, оставим спор: за что любил Богданов Сергееву? Это отвлекло бы нас слишком далеко и притом совершенно бесцельно в сторону. Достаточно, что он ее любил и что это была его первая любовь. Этого никто не отрицает, да и отрицать было бы мудрено. В самой мизерной обстановке он умудрился создать чистый приют для своей любви и терпеливо и радостно лелеял мысль о браке с полюбившейся ему девушкой. Пусть нигде ни встречает сочувствия его затея, пусть отец косится на его «распутную» нареченную, пусть приятели про себя хихикают и подсмеиваются над его «гулящею» возлюбленною, он один только знает ей цену, один простил ей все ее прошлое, один готов отдать ей все свое будущее. Он ее не ревнует, не бранит, «пальцем не трогает». Он только бесконечно жалеет ее и все боится, чтобы она не ушла от него, не оступилась, не окунулась опять в омут прежнего разврата.
Если бы это была не любовь, что бы его тянуло к ней? Насладился ею, насытил свою животную страсть и — будет! Для чего связывать себя, становиться добровольным батраком и пестуном такой женщины, как Акулина Сергеева? Мало ли таких шестнадцатилетних Акулин, Настасий и Лукерий выбрасывает на свою поверхность и затем вновь поглощает в себя омут столичного разврата? На каждого молодца (особливо такого красавца, как Александр Богданов) всегда найдется новая свежая Акулина… Но вот, подите же! Ни «свежей» Акулины, ни Настасьи, ни Лукерьи ему не нужно. Прилепился он духом и телом к одной и во что бы то ни стало хочет вытянуть ее из омута, точно собственную душу боится с нею вместе погубить. Когда в первый раз уходит от него Сергеева, он в тот же вечер встречает ее на Фонтанке, отзывает от «компании» в сторону, на ее глазах тут же режет себе горло перочинным ножом и попадает в больницу. Едва оправившись, он опять разыскивает Сергееву и находит ее уже в больнице. Есть основание думать, что она болела не совсем хорошей болезнью, которую затем передала и ему. Поблекшую, утомленную, он водворяет опять к себе и снова счастлив. Надо быть самому очень молодым и очень чистым, чтобы постигнуть всю реальную возможность такой экзальтированной идеализации любимой женщины. Вспомним нашу раннюю молодость, и, может быть, каждый из нас найдет в ней задатки такой всепрощающей и всепревозмогающей любви. За чистоту ли мы всегда любим женщину или, наоборот, любя и нечистую, хотим ей привить нашу чистоту?! С жизнью все это утрачивается, забывается нами, но, пока мы сами молоды и чисты, нам кажется, что, любя, мы священнодействуем. А когда священнодействуешь, всегда ждешь чуда. С Сергеевой, к сожалению, подобного чуда не случилось. Для нее не наступило момента нравственного перерождения. После небольшого отдыха от панельной жизни ее скоро опять потянуло на гульбу и легкую жизнь.
Соблазн все более и более рос. Богданов целые дни на работе. Она, не привыкшая ни к делу, ни к работе, томится, скучает. Ее зовут то кататься на тройке, то провести вечер. У «компании», которая за ней так настойчиво ухаживает, по-видимому, никогда не переводятся деньги, и притом деньги легкие. По сведениям Богданова (и это больше всего его убивало), в группе уличной молодежи, сманивавшей и, в конце концов, сманившей от него Сергееву, числились и профессиональные воры. Они не прочь были втянуть и смазливую молодую женщину в свое темное ремесло. Богданов хорошо понимал, что она была уже на самом краю пропасти. А между тем он любил ее по-прежнему. Может быть, любил даже больше прежнего и жалел, как никогда… Для роста жалости было достаточно пищи: что ждало, что могло ждать эту несчастную впереди? Или тюрьма, или больница у Калинкина моста… А он любил ее!
Однажды, не предупредив его, Сергеева ушла и уже вовсе не вернулась. Богданов «закрутился на месте», точно его больно ухватили за самое сердце. Он бросил работу и, дотоле непьющий, принялся кутить. Несколько дней спустя он на улице случайно сталкивается с Сергеевой. Она уже совершала свои профессиональные прогулки. Он умоляет ее бросить все и уехать в провинцию к его матери, чтобы там начать новую жизнь. Он сулил ей и деньги на проезд. Так как деньги он все прокутил, то закладывает за восемнадцать рублей свое пальто и надеется ее вновь встретить, чтобы передать деньги и отвезти ее на вокзал. Не встречая ее затем несколько дней, он впадает в совершенное отчаяние. Он снова принимается за бесшабашный кутеж. Кутил он всего лишь несколько дней, пока не перевелись деньги. На последние гроши он покупает затем финский нож, покупает про запас, чтобы покончить либо с нею, либо с собою, как приведет судьба. Он понимает только одно: «Надо покончить!» Покончить действительно было впору. В тот же вечер, попав в трактир, он случайно встречает Сергееву. Она была там с своими «обожателями», — они ее поили водкой. Потом она вышла на улицу на свою уже обычную «профессиональную» прогулку.
Богданов кинулся за нею.
— Прощай, простись со мною, — заступил он ей дорогу, щупая нож в кармане.
— Я тебя не знаю. Что ты лезешь? — И она уклоняется от него, желая продолжать свой путь…
Ему «ударило в голову»: куда же ведет ее путь?.. Если бы он не любил ее, он бы брезгливо посторонился, послав ей, по обычаю, вдогонку разве только площадное слово, чтобы сорвать свою молодецкую удаль. Не тут-то было! Уйти от нее он уже не мог. Он чувствовал всем существом своим, что любит ее и жалеет больше жизни, больше самого себя. Он и сам рад был бы умереть, — так ему было невыносимо. Но она пошла бы дальше. Путь ее был проторенный, известный… Он решил, что она не сделает больше шага по этому пути. И он ударил ножом не себя, а ее. Ударил сильным, смертельным ударом в живот. Став таким образом убийцей, он тут же почувствовал себя и слабым, и беспомощным, как ребенок. Ноша оказалась непосильной! Он вспомнил о матери… Думал у ней укрыться на груди. Его образумил первый встречный, участливый человек, — «и мать бессильна спасти убийцу»!
Может быть, спасете его вы, присяжные заседатели?! Вы — людская совесть! Подумайте, попробуйте!.. Если можете взять ею грех на себя и отпустить его, — спасите!
Присяжные заседатели недолго совещались и вынесли Александру Богданову оправдательный вердикт.
БАНКИРСКИЙ КРАХ
Весной 1900 года к одному из судебных следователей явился владелец банкирской конторы в Петербурге мещанин Г. А. Никитин и заявил о совершенной им вследствие неудачной биржевой игры растрате чужих денег на сумму до 200 000 рублей. Ввиду этого в его банкирской конторе немедленно был произведен тщательный обыск, и в ней оказалось денежных сумм всего на 4 888 рублей. Вместе с тем обнаружилось, что Г. А. Никитиным были заложены в Обществе взаимного кредита санкт-петербургского уездного земства, в Сибирском торговом банке и у мещанина Федорова различные ценные бумаги стоимостью свыше 332 233 рубля, под которые было взято ссуды 293 766 рублей.
По прекращении банкирской конторой своих операций кредиторы поспешили распродать эти бумаги, причем кроме долга Общество взаимного кредита выручило лишних 6 866 рублей и Сибирский банк — до 1 231 рубля. Считая остававшиеся непроданными процентные бумаги на 10 118 рублей, на покрытие растраты у Никитина было обнаружено, таким образом, только 23 103 рубля.
Из дальнейшего предварительного следствия выяснилось, что Г. А. Никитин приобрел банкирскую контору в декабре 1897 года от своего брата С. А. при вполне удовлетворительном балансе и с активом, превышавшим пассив почти на 15 815 рублей. Своих денег Г. А. Никитин имел тогда около 45 000 рублей, и контора поступила с того времени в его полную собственность. Хотя в ней и занимался другой его брат Василий, но он, как приказчик, никакой самостоятельной роли не играл. Так, когда он пытался изредка делать замечание о рискованности каких-нибудь операций, то Г. А. Никитин просил его не вмешиваться в посторонние дела.
Первоначально новый владелец конторы вел банкирские операции с осторожностью и получал даже прибыль, но затем дела его пошатнулись, и с 1899 года он стал прибегать к помощи своего брата С. А., считавшегося очень состоятельным человеком. Последний разновременно передал ему до 72 000 рублей, хотя эти деньги, по большей части, не записывались ни в какие конторские книги. В делах конторы негласное участие принимал также и купец И. Манус, имевший, по-видимому, неограниченное влияние на Никитина. Последний постоянно придерживался его советов в деле покупки и продажи бумаг, принимал от него различных клиентов и открывал им в своей конторе специальные текущие счета на крупную сумму. Клиенты эти обыкновенно отдавали приказания не самому Никитину, а через Мануса, и, внося по своим счетам весьма небольшое обеспечение, еще часто отсрочивали прием заказанных на срок ценных бумаг, пользуясь покровительством Мануса.
Из показаний наиболее крупных клиентов конторы, потерпевших инженеров Бонди, Крушколла и Бернатовича и подрядчика Парадеева, видно, что все они работали по сооружению Сибирской железной дороги и осенью 1899 года приехали в Петербург для сведения денежных счетов С ними вскоре познакомился Манус и. узнав, что у них имеются деньги, уговорил их начать биржевую игру дивидендными бумагами. При этом как на наиболее надежное учреждение для открытия специальных текущих счетов он указал им на банкирскую контору Никитина.
Сибирские гости последовали его совету, открыли текущие счета, и контора Никитина начала покупать для них и продавать различные бумаги, записывая эти операции в расчетные книжки. Однако никто из них и никогда не видел покупавшихся бумаг, и номера последних почему-то не вписывались конторой в книжки.
Операции банкирской конторы заключались, главным образом, в продаже ценных бумаг и покупке на срок. При продаже в банки Никитин пользовался бумагами своих клиентов, которые сдавал покупателям, и таким путем доставал необходимые средства для продолжения своих операции. С 1898 года он сильно расширяет операции специальных текущих счетов, и по балансу на 1 апреля 1900 года видно, что им было принято всего бумаг на 1 580 859 рублей и выдано клиентам в ссуду 1 432 386 рублей. В особенности же возросли текущие счета с осени 1899 года, когда клиентами в контору вступили три сибирских инженера и подрядчик, сразу открывшие счета на сумму свыше 1 000 000 рублей.
Такой огромный кредит Г. А. Никитин, как владевший незначительным оборотным капиталом, мог оказывать только под условием продажи ценных бумаг, принадлежавших его клиентам, тем более что столь обширным кредитом он сам ни в каком банке не пользовался. И, действительно, он не стеснялся прибегать к продаже чужих ценностей, сбыв к 1 апреля 1900 года бумаг своих клиентов на 1 373 512 рублей. Желая все-таки предохранить себя от ответственности и убытков, Никитин одновременно с продажей этих бумаг покупал такие же бумаги на срок.
Так как ценные бумаги в последние два года все более и более падали, то он, кроме крупных убытков, ничего не получил от этой операции. Помимо того, подобная операция, заключающаяся обыкновенно на конец месяца, заставляла его принимать в конце месяца большую партию бума", и ему с трудом приходилось доставать необходимые дл, я этого денежные средства. В таком же затруднительном положении он очутился ч весною 1900 года, накануне своего признания в растрате
Общая сумма этой растраты при проверке оказатась доходящей до 220 432 рублей 70 копеек, падающих на многих клиентов конторы.
Привлеченный к уголовной ответственности, Г. А. Никитин признал себя виновным в растрате вверенных ему ценностей и объяснил, что он продавал вверявшиеся ему клиентами ценные бумаги для биржевых операций, так как сам не обладал достаточным оборотным капиталом. Бумаги продавались им как внесенные клиентами на обеспечение специального текущего счета, так и покупавшиеся конторой, согласно их поручению С той же целью были растрачены им и внесенные на простой текущий счет деньги, а также положенные на хранение в контору ценные бумаги.
По словам некоторых лиц, близко знавших обвиняемого, он всегда вел скромную жизнь и на свои личные расходы тратил очень мало денег. Ввиду этого произведенная им крупная растрата может быть объяснена исключительно несчастливой биржевой игрой.
Дело это рассматривалось 28 ноября 1900 года в санкт-петербургском окружном суде, под председательством Д. Ф. Гельшерта.
Защитником со стороны подсудимого выступал присяжный поверенный Г. С. Аронсон.
Обвиняемый спокойно рассказал суду о своей биржевой деятельности, приведшей его, в конце концов, на позорную скамью. По его словам, во всем виновато несчастное стечение обстоятельств, которому в значительной степени способствовал и его знакомый — купец Манус. Последнего он знал мало и познакомился с ним только в 1899 году. В том же году он и стал прибегать к продаже и залогу вверенных ему клиентами ценных бумаг, надеясь как-нибудь извернуться в биржевой игре. По совету Мануса, бывшего мелким биржевым спекулянтом, он принял крупных клиентов для онкольных счетов. Но дававшееся им обеспечение не соответствовало открытым им счетам, ему самому приходилось расплачиваться за них, и когда клиенты зарвались, в погоне за наживой, они и его втянули в опасный водоворот. Между тем растрата бумаг клиентов все более и более росла, без надежды на поправку дел, и Никитину, наконец, ничего не оставалось делать, как только чистосердечно признаться во всем. Сам он решительно ничем не воспользовался от своей деятельности, а, напротив, еще стал жертвой, потеряв на биржевых операциях до 400 000 рублей. Ко времени суда над ним его богатый брат пришел к нему на помощь, и обвиняемому удалось сполна удовлетворить все претензии бывших клиентов его конторы.
Товарищ прокурора Ф. С. Зиберт, ввиду полного сознания подсудимого, находил излишним допрашивать многочисленных свидетелей, тем более что по этому делу не было заявлено никаких гражданских исков.
Защитник Г. С. Аронсон, присоединяясь к мнению обвинителя, просил допросить только купца Мануса как главного свидетеля, показания которого могли пролить свет на данное дело.
Свидетель Манус показал, что он знал подсудимого за солидного биржевого дельца, которому смело можно было довериться. Поэтому, когда он познакомился с сибирскими инженерами, желавшими попытать счастья в биржевых операциях, он прямо отрекомендовал им контору Никитина. Вместе с тем он стал давать им советы относительно биржевой игры, но они мало слушались его и вскоре совсем перестали прибегать к его содействию. Свидетель предупрежденно относился к крупным клиентам Никитина, ссылаясь, между прочим, на то, что они сами были не менее его опытные биржевики и могли понимать, куда дело клонится. Сам же Никитин никого не мог обмануть, и его считали неспособным к биржевой деятельности. В то время как при открытии онкольных счетов необходимо обеспечение от клиентов в размере до 30 процентов, — у Никитина были и такие клиенты, обеспечение которых не превышало 3 процентов, а некоторые не только обходились без обеспечения, но еще у него же брали крупные суммы в долг. В конторе Никитина происходила и так называемая «американская биржа», после 3 часов дня, участниками которой являлись разные лица, не допускавшиеся на настоящую биржу, всевозможные биржевые зайцы, любители быстрого обогащения и прочие. Здесь тоже заключались сделки, покупались и продавались ценные бумаги. В этой нелегальной бирже принимал участие также и Никитин с своими клиентами-сибиряками.
Защитник Аронсон заметил, что ведь краху конторы Никитина содействовал собственно сам свидетель, влияя своими советами на подсудимого и навязывая ему малообеспеченных клиентов.
По просьбе присяжных заседателей были оглашены на суде письменные показания некоторых свидетелей. Эти показания обрисовывали Мануса далеко не в выгодном свете. Знакомясь с будущими клиентами конторы Никитина, он уговаривал их настойчиво на биржевую игру, сулил в будущем золотые горы, соблазнял их, наконец, выгодными денежными операциями, а затем преспокойно умывал руки в случае биржевых неудач.
Манус объяснил, между прочим, что в биржевых операциях все дело основано исключительно на кредите.
— Я, — сказал он с апломбом, — не имею сейчас и тысячи рублей, а между тем, если захотите, могу предложить вам акций на миллион рублей.
По его же словам, подсудимый, расплачиваясь со своими клиентами после краха конторы, некоторым из них даже переплатил лишние деньги. Так, например, он возвратил одному клиенту 5 100 рублей, между тем как, благодаря биржевым операциям, он сам должен был дополучить с него вдвое большую сумму. На это же было указано также и экспертизой, которая, отметив неправильное ведение книг в конторе Никитина, тем не менее не усматривала в этом какого-либо злого умысла или недобросовестности с его стороны.
Оборот в конторе подсудимого иногда доходил до 2 миллионов рублей в день.
Товарищ прокурора усматривал в растрате Никитина, на основании следствия, лишь признаки легкомыслия.
Присяжный поверенный Г. С. Аронсон, с своей стороны, произнес горячую речь в защиту подсудимого. От действий бывшего банкира, по словам защитника, решительно никто не пострадал, а скорее он сам сделался жертвой различных «американских» дельцов, потеряв все свое состояние и превратившись в нищего. Метко охарактеризовав тот кипучий, азартный мирок, в котором вращались манусы и другие подобные биржевые дельцы, Г. С. Аронсон находил, что подсудимый в своей печальной деятельности играл почти исключительно пассивную роль, всецело подпав под постороннее влияние.
В заключение речи защитник выразил надежду, что присяжные заседатели, признав Никитина невиновным, тем самым дадут хороший урок на будущее время всем другим биржевикам и удержат их от рискованной игры ценностями в погоне за наживой.
Присяжные заседатели недолго совещались и вынесли Г. А. Никитину оправдательный вердикт.
ГРАФИНЯ-САМОЗВАНКА
Осенью 1898 года проживавшая в Петербурге мещанка Анподистова 60 лет случайно познакомилась с молодой, представительной дамой, выдававшей себя за графиню. Дама эта произвела благоприятное впечатление на старушку, которая предложила ей почаще навещать ее. Графиня, оказавшаяся после дворянкой Е. Д-ой, стала заходить к Анподистовой, но чаще всего в отсутствие ее мужа. Мало-помалу графиня вкралась в доверие к Анподистовой, которую начала уверять, что ей предстоит вскоре получить наследство после умершего миллионера Базилевского. Сообщив, что она пока нуждается в деньгах на ведение дела по наследству, ловкая дама сумела разновременно выманить у простоватой старушки до 1 800 рублей.
Придя однажды к Анподистовой, она нашла ее лежащей в постели с компрессом на голове. Когда Анподистова впала в легкое забытье, гостья осторожно пробралась к стоявшему в комнате незапертому шкафу и похитила из него объемистый пакет с процентными бумагами на сумму свыше 10 000 рублей. Затем, не простившись с Анподистовой, она быстро вышла в переднюю. Бывшая здесь прислуга заметила, что гостья выронила пакет, смущенно подняла его с пола и поспешно ушла. Прислуга рассказала об этом своей хозяйке, и госпожа Анподистова, заглянув в шкаф, убедилась, что она сделалась жертвой кражи.
На другой день самозваная графиня опять навестила обокраденную старушку и на просьбу последней возвратить похищенные процентные бумаги ответила, что она отдаст ей со временем все деньги.
— Если же вы вздумаете заявить полиции о краже, то ничего не получите, — пригрозила молодая женщина.
Госпожа Анподистова тщетно прождала несколько месяцев и, наконец, не получая ни денег, ни процентных бумаг, рассказала обо всем мужу, а тот обратился с жалобой к прокурору.
На предварительном следствии выяснилось, что после похищения процентных бумаг к госпоже Анподистовой приходил муж «графини» и просил не возбуждать уголовного преследования.
— Не беспокойтесь, деньги будут вам возвращены, — говорил он при свидетелях. — Процентные бумаги заложены в банке, а квитанции взяла с собою моя жена, которая выехала из Петербурга. Но я сейчас же напишу ей.
Однако старушка ничего не получила.
Привлеченная к ответственности дворянка Е. Д-ва, происходящая из почтенной, уважаемой семьи, не признала себя виновной в краже. По ее словам, она была только должна г-же Анподистовой около 600 рублей, которые брала у нее в разное время на свои нужды.
В результате в конце 1900 года Е. Д-ва предстала перед санкт-петербургским окружным судом.
Для суждения по вопросу об умственных способностях ее был вызван в качестве эксперта-психиатра профессор Нижегородцев.
Подсудимая на вид казалась довольно симпатичной женщиной, лет 30, с подвижным, нервным лицом.
Отрицая свою виновность в краже, она рассказывала, что давно уже страдает алкоголизмом и злоупотребляет спиртными напитками. Напивалась она нередко, по ее признанию, до полной потери сознания и не могла в это время отдавать себе отчета в своих поступках.
— Если я и попала теперь под суд, то исключительно только благодаря своему пьянству, — говорила она.
— Вот вы объясняете, что напивались до потери сознания… Может быть, в эти моменты вы и взяли бессознательно у потерпевшей процентные бумаги? — задал вопрос председательствующий.
— Но если бы я взяла или украла несколько тысяч рублей, то у меня ведь были бы деньги… Однако у меня ничего нет и не было, — горячо протестовала обвиняемая.
Из дальнейшего следствия обнаружилось, что она с юных лет воспитывалась у одной баронессы, относившейся к ней, как к своей дочери.
Одни из свидетелей говорили в пользу подсудимой, другие давали неблагоприятные для нее показания.
Муж подсудимой, между прочим, рассказывал, что она с 1896 года начала предаваться неумеренному потреблению спиртных напитков. Потеряв надежду исправить жену, он, наконец, разошелся с ней.
После он снова стал жить с ней совместно, так как дети нуждались в матери. Познакомившись с Анподистовой, она окончательно спилась, и швейцар нередко вносил ее на руках на квартиру, до такой степени она была пьяна. Под кроватью ее и под подушками хранились часто бутылки с водкой. Пила она не рюмками, а прямо чайными стаканами. Иногда принимала внутрь, под влиянием алкоголизма, даже нашатырный спирт.
Свидетель утверждал, однако, что он не говорил потерпевшей о том, будто процентные бумаги ее заложены в банке. По его словам, кража бумаг не могла быть совершена подсудимой.
Во время судебного следствия обвиняемая вдруг заявила:
— Прошу суд ускорить это дело, я утомилась… К чему эти бесконечные разговоры? Если я виновна — обвините, невиновна — оправдайте, но только поскорее.
В своем показании муж обвиняемой высказал предположение, что ее систематически спаивали у Анподистовых, хотя это и опровергается другими свидетелями. Сама обвиняемая также говорила, что она пьянствовала вместе с старушкой Анподистовой, которая будто бы чуть ли не насильно навязывала ей свои деньги.
Старушка, однако, взволнованно протестовала против такого заявления и, обвиняя подсудимую в краже, уверяла суд, что самозваная графиня однажды даже намеревалась убить ее, и только прислуга спасла ее от смерти.
Предаваясь пьяному разгулу, обвиняемая теряла всякое человеческое достоинство и, по словам ее мужа, чтобы добыть деньги на водку, иногда относила его вещи в заклад.
Свидетель Уважнев, знакомый потерпевшей, объяснил, что, придя 12 марта 1899 года к Анподистовым, он застал старушку больной и лежащей в кровати; около же шкафа стояла обвиняемая, которая взяла при нем какой-то пакет и быстро вышла из комнаты. Ничего не подозревая дурного, он в то время не придал этому обстоятельству никакого серьезного значения.
Эксперт-психиатр признал подсудимую ко времени суда вполне нормальной. Но была ли она больна в период преступления — экспертиза отказалась дать заключение, за отсутствием необходимых для этого данных.
Основываясь на судебном следствии, товарищ прокурора поддерживал обвинение.
Защитник подсудимой, присяжный поверенный Плансон, указывая на ужасный порок, которому она была подвержена, и на ее невменяемость, вместе с недоказанностью обвинения, ходатайствовал об оправдании ее.
После часового совещания присяжные заседатели, отвергнув обвинение в краже, признали ее виновной в мошенничестве и заслуживающей снисхождения.
Судом она была приговорена к лишению всех особенных прав и преимуществ и к заключению в тюрьму на восемь месяцев. В пользу супругов Анподистовых постановлено взыскать с нее 12 000 рублей.
УБИЙСТВО РОСТОВЩИЦЫ
Зимой 1901 года в Петербурге была убита с целью ограбления небезызвестная столичному населению ростовщица А. А, Щолкова.
Покойная была петербургская мещанка, имела небольшой капиталец и жила на Малой Итальянской улице. Кроме прислуги, Н. И. Гурьяновой, в квартире убитой проживал также и мещанин Христенко, занимавший отдельную комнату. 3 января он возвратился домой ночью и был удивлен, что дверь квартиры ростовщицы оставалась незапертой. Убедившись, что в коридоре царит непроглядная темнота и ниоткуда не доносится звука, струсивший квартирант позвал дворника.
Когда они оба вошли в коридор, до слуха их долетел голос Гурьяновой, которая сказала им, что она лежит больная на полу кухни и не может приподняться. Христенко не обратил на это внимания и прошел в свою комнату.
Проснулся он на другой день в 9 часов утра и, приотворив немного дверь спальни хозяйки, в ужасе попятился назад. На полу спальни, в огромной луже крови, лежала ростовщица без признаков жизни. Перепуганный квартирант выбежал в кухню и увидел, что и прислуга также лежит в крови, с раздробленной головой, в полубессознательном состоянии.
Христенко закричал о помощи. В квартиру сбежались дворники, вскоре прибыла и полиция.
Сама ростовщица была найдена мертвой, с проломленным черепом.
Гурьянова оказалась еще живой, но говорила бессвязно. Из ее отрывистых слов можно было заключить, что в день убийства в гостях у Щолковой были два знакомых человека, из которых один назывался Бруно. Все они пили водку, угощая и прислугу. Потом Гурьянова вышла в кухню и села на табурет. Что происходило дальше — прислуга уже не помнила. Отправленная немедленно в больницу, Гурьянова вскоре же скончалась.
Из бессвязного рассказа ее полиция догадалась, однако, что у покойной ростовщицы часто бывал, на правах ее друга, какой-то Марко.
Около трупа убитой был найден небольшой острый топор, по-видимому послуживший орудием преступления. В спальне ростовщицы царил полнейший хаос.
Все ящики комода оказались выдвинутыми, с перерытыми вещами.
Задержанный Марко на допросе признался, что ему известны убийцы. По его указаниям были арестованы швейцарский гражданин Отто Висс и германский подданный Бруно Иогансен, из которых первый тотчас же принес повинную в убийстве ростовщицы.
Как рассказал Висс, он познакомился с Иогансеном прошлой зимой. Не имея никаких средств к существованию, они стали заниматься различными мелкими кражами, пока мещанин Э. Л. Марко не познакомился, чрез Иогансена, с его товарищем. Узнав, что они промышляют воровством, Марко указал им на Щолкову и посоветовал «прихлопнуть» ее.
3 января Висс и Иогансен отправились в Александровский рынок и приобрели здесь острый топор, который Иогансен сунул в порванный карман своего пальто. После этого они выпили полбутылки водки и наведались к ростовщице. Последняя послала прислугу за водкой.
Иогансен купил также водки, и пьяный разгул затянулся на довольно долгое время. Наконец, Иогансен, услав прислугу за водкой, запер коридорную дверь на ключ. Щолкова была уже навеселе и, ничего не подозревая, что-то напевала. Через несколько минут к ней подошел и Висс. Пряча за своей спиной топор, он стал около нее и со всего размаха ударил им в голову ростовщицу. За первым ударом последовал второй. Щолкова издала приглушенный стон и рухнула на пол. В то же мгновение Иогансен бросился обыскивать ее, ища ключи от комода, а Висс лезвием топора выдвинул комодные ящики и взял из них две десятирублевые золотые монеты и билеты 4-процентной государственной ренты.
После убийцы стали рыться в большом сундуке в кухне. Вдруг в дверь послышался легкий стук. Догадываясь, что это возвратилась с водкой Гурьянова, Висс взял топор и стал около дверей. Не успела прислуга перешагнуть порог, как на голову ее обрушился страшный удар, и она свалилась. Висс вышел в коридор, но Иогансен снова позвал его к себе. Оказалось, что прислуга поднялась на ноги, хотя и впала в бессознательное состояние. Висс вторично ударил ее топором по голове. Когда она упала, убийца нанес ей еще несколько ударов и прошел в коридор. Зайдя в комнату ростовщицы, Иогансен заметил, что она еще дышит, и снова позвал своего сообщника добить ее.
Висс прикончил, наконец, ростовщицу и торопливо вышел из ее квартиры.
Через четверть часа его нагнал на Знаменской улице Иогансен, и они зашли в кондитерскую Филиппова, а оттуда — в пивную лавку. Вскоре сюда пришел и Марко, и убийцы угостили его пивом, дав ему в долг несколько рублей.
На следствии Висс добавил, что при первом знакомстве с Иогансеном ему предлагали убить одного известного в Петербурге фабриканта и какую-то Залесскую, у которых можно было многим поживиться. Предложение это было отвергнуто Виссом, и тогда Иогансен стал говорить, что у него имеется хороший знакомый Марко, находящийся в любовной связи с ростовщицей, которую не худо было бы «прикончить». На это согласился и Висс, и уже в ее квартире они прибегли к жребию, чтобы решить, кто должен расправиться с ростовщицей.
Взяв в руку двадцатикопеечную монету, Иогансен сказал: «Твой орел, а моя решка» — и подбросил монету.
Она легла орлом вверх, и Виссу пришлось взять на себя убийство ростовщицы.
Рассказ Висса подтвердил и Иогансен, хотя тот и не признавал себя виновным в убийстве, утверждая, что он не принимал в этом преступлении никакого активного участия.
При обыске у обоих преступников было найдено несколько ломбардных квитанций на различные вещи, заложенные в разное время. Вещи эти, по справкам, оказались похищенными у некоторых лиц, проживающих в Петербурге.
Опрошенная на предварительном следствии госпожа Залесская показала, что к ней однажды приходили два молодых человека, похожие на Висса и Иогансена, и хотели нанять комнату. При разговоре они зачем-то наводили справки о ее состоятельности, интересовались, какие у нее имеются ценности, и вообще вели себя странно.
В результате и Марко, и оба его сотоварища очутились на скамье подсудимых.
Дело это слушалось осенью 1901 года в санкт-петербургском окружном суде, под председательством Д. Ф. Гельшерта. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Клингенберг. Главных подсудимых защищали помощник присяжного поверенного Маргулиес — О. Висса и присяжный поверенный Базунов — Б. Иогансена. Защитником П. Марко был присяжный поверенный Феодосьев.
Все обвиняемые далеко не похожи на мрачных злодеев… Это — самая обыкновенная петербургская молодежь. Главному действующему лицу в ужасной смерти ростовщицы и ее прислуги — всего лишь 21 год. Очень прилично одетый, он невольно обращал на себя внимание своим бесхарактерным выражением лица.
Иогансену — 22 года, и, безусый, с пробором на голове, он смахивал на взрослого мальчугана. Держался он непринужденно и чрез пенсне хладнокровно осматривал и публику, и призванных его судить присяжных заседателей.
Третий подсудимый — Марко, в высоком белом воротничке, с подкрученными усами, выглядел «сердцеедом», имеющим большой успех среди женщин.
Ему уже минуло 27 лет. Как он, так и его товарищи принадлежат к сравнительно интеллигентному классу и служили раньше по конторскому делу.
Только один Висс чистосердечно сознался во всем, рассказав скорбную повесть о своей жизни.
Он обучался в немецком реформатском училище на Васильевском острове и, окончив в 1896 году курс, уехал к своему зятю, жившему в Старой Руссе и занимавшемуся подрядными работами.
У него он вел некоторые конторские работы и затем попытался самостоятельно заняться коммерческим делом. Но его преследовали неудачи, — благодаря его непрактичности, он потерпел крах и решил искать место. В январе 1899 года он поступил на завод в качестве заведующего складом, но недолго удержался в этой должности.
Однажды в Зоологическом саду он познакомился с девушкой, увлекся ею и забыл про все на свете. Знакомство перешло в любовную связь, и когда родные
Висса узнали об этом, они далеко неблагосклонно отнеслись к его сумасбродному, по их понятиям, поступку. Между тем девушка стала настаивать на законном браке и умоляла Висса жениться на ней, предлагая ему обвенчаться где-нибудь в другом городе.
Дождавшись лета 1900 года, Висс выехал вместе с любимой женщиной за границу, закрепил свою связь с ней церковным обрядом и пробрался в Северную Америку. Однако незнание английского языка на первых же порах сильно дало почувствовать себя, и Виссу пришлось в Америке очень туго.
В короткий промежуток времени он был и комиссионером, и уличным продавцом патентованного товара, и разносчиком булочной, и, наконец, простым рабочим на кирпичном заводе. Последнее занятие было не по силам ему, и он заболел.
Жена тоже не знала ни слова по-английски и, после тяжелых мытарств в поисках работы, предложила ему вернуться в Россию. Продали они свое скромное имущество, и вырученных денег хватило только на возвращение одного человека в Россию. Тщетно Висс пробовал наняться на какой-нибудь пароход, чтобы добраться до Европы, — его всюду преследовала неудача. Ввиду этого он решил, что жена останется пока в Америке, а он приедет в Петербург, добудет денег и вышлет ей на дорогу. По возвращении в Петербург родня встретила его холодно. Он поступил служащим в магазин, но постоянные думы о жене, остававшейся за океаном, не давали ему покоя. Он стал рассеянно относиться к своим служебным обязанностям, и ему незадолго до праздника Рождества отказали от должности. Пошел он после этого за помощью к своему товарищу, некоему Сталовичу.
— Что мне делать? — в отчаянии стал спрашивать Висс.
— Самое лучшее, заниматься какими-нибудь нечистыми делишками, — посоветовал ему товарищ, который сам находился без места. — Хорошо было бы убить одного фабриканта, — продолжал он. — По субботам у него производится расчет служащих, и он имеет тогда много денег.
Висс отверг эту мысль. Вскоре, в поисках должности, он выехал с товарищем в Москву, и в вагоне Сталович сказал ему:
— Ты не годишься мне в товарищи.
— Почему? — спросил Висс.
— Мне нужен человек энергичный, без предрассудков.
— Я бросил уже свои предрассудки. То, что сделало мне человеческое общество, я считаю себя вправе сделать и по отношению к нему, — отвечал Висс.
— Мне нужен хороший сообщник.
— Для какого дела?
— Я был недавно у одной дамы Залесской. Она играет на бирже и имеет массу денег и драгоценностей. Ее можно было бы убить.
Висс наотрез отказался от такого сообщничества, и Сталович начал над ним подсмеиваться. Ведь надо же на что-нибудь решиться; иначе, ожидая свиданья с мужем, жена Висса обзаведется в Америке любовником.
После Висс узнал, что Сталович, за неимением средств к жизни, занимается кражей вещей специально у докторов. Сдружившись с Иогансеном, Висс тоже начал совершать с ним мелкие кражи, чтобы иметь кусок хлеба. Вскоре подвернулся и Марко и начал подговаривать их убить его любовницу-ростовщицу, которой было уже около 60 лет.
— Почему же ты сам не хочешь покончить с ней? — спросил Висс.
— Это опасно. Меня все знают, так как я был ее любовником, — сказал Марко. — Но теперь я много должен ей, и она хочет подать мои векселя ко взысканию.
Висс и Иогансен познакомились с ростовщицей, и Иогансен, по привычке к кражам, унес из ее квартиры муфту. Однако, опасаясь, чтобы это не скомпрометировало их в глазах Щолковой, они поспешили возвратить ей украденную вещь.
По словам Висса, он долго не решался убить ростовщицу, но Иогансен имел на него подавляющее влияние.
Когда в день преступления они находились в квартире Щолковой, Иогансен на глазах ростовщицы бросил жребий, кому покончить с ней.
Монета упала орлом вверх, и он сказал Виссу: «Тебе убивать», — услал прислугу за водкой и сам подал ему топор.
Два раза подходил Висс с топором к старухе и все не решался.
— Поскорее, а то прислуга придет, — торопил его по-немецки Иогансен.
— Не помню, — говорил подсудимый, — как я ударил ростовщицу. Пришел в себя только тогда, когда она вскрикнула: «Ой!» — и свалилась на пол. Все время я находился в странном, лихорадочном состоянии. Покончив с Щолковой, поставил свой топор к стене и тупо стал разглядывать висевшую на стене картину, изображавшую какую-то «грешницу». После я уже действовал совершенно машинально, не отдавая себе отчета.
Другой подсудимый, Бруно Иогансен, многого не признал из рассказа Висса, называя его показания фантазией, и говорил, что он не принимал никакого активного участия в убийстве ростовщицы и ее прислуги.
По его словам, он участвовал только в мелких кражах, но не допускал и мысли убить кого-либо и никакого жребия не метал в квартире Щолковой.
Обвиняемый Марко также отрицал свою виновность и уверял, что он никого не подстрекал убить ростовщицу. Если же он и закладывал иногда краденые вещи, то решительно не знал, каким путем приобретаются они Виссом и его товарищем.
В общем, судя из слов Висса, он скорее был орудием в руках Иогансена, который оказывал на него подавляющее влияние и, как злой гений, играл в преступлении руководящую роль.
Показание Висса было, по-видимому, логическое и, изобилуя массой деталей, первоначально вселяло уверенность в том, что он в момент преступления был совершенно здоров. Допрос первых свидетелей не ослаблял этого впечатления. Но уже при опросе торговца, продавшего топор Виссу и Иогансену, защитник первого, М. С. Маргулиес, показал, на чем он намерен построить свою защиту.
— При покупке топора Висс смеялся и не показался ли вам странным? — задал он вопрос.
— Да, смеялся и острил, но был как-то странно возбужден, — ответил свидетель.
Защитник начал расспрашивать старушку — мать обвиняемого, которая объяснила, что отец Висса пил запоем и допивался до белой горячки.
— Это было до рождения подсудимого или после?
— До рождения.
Дальше выяснилось, что старший брат Висса скончался 20-ти лет от чахотки, младший брат — недоразвит, а сестра страдает истерией. Сам обвиняемый был чрезмерно пуглив и боязлив. В малолетнем возрасте он упал как-то с пятого этажа дома, и после этого у него бывали головокружения и временная забывчивость.
МАРГУЛИЕС Мануил Сергеевич
Родился в Одессе в декабре 1868 года. Окончив в 1891 году курс Новороссийского университета по юридическому факультету, выехал в Париж и поступил там на медицинский факультет. По окончании его в 1897 году остался работать в клинике знаменитого профессора Шарко и в психиатрическом приемном покое центральной парижской тюрьмы. Возвратившись летом в Россию, он в конце 1898 года вступил в сословие санкт-петербургской адвокатуры. Принимал участие во многих уголовных процессах, в том числе по делам об убийстве Ларионовой, Тимофеева и ростовщицы Щолковой.
Подчеркивая некоторые существенные свидетельские показания, защитник Висса подробно остановился на допросе его сестры — замужней женщины.
— У вас бывают припадки, во время которых вы теряете сознание? — спросил он.
— Да, и нередко.
— Когда они начались?
— В шестнадцать — семнадцать лет.
— А у вашего брата Отто не были ли в этом возрасте какие-нибудь перемены?
— К пятнадцати — шестнадцати годам он стал задумчивее, был рассеян и часто забывал данные ему поручения.
В общем, защитнику удалось из показаний свидетелей, вызванных по его просьбе, воссоздать ту патологическую почву, на которой выросло редкое по жестокости преступление слабохарактерного Висса. Благодаря этому возник вопрос о психической нормальности Висса. Являлось предположение, что он, как человек с слабой волей, мог подчиняться другой, посторонней воле и действовать как бы по внушению со стороны других лиц.
После краткого совещания присяжные заседатели высказали сомнение в умственных способностях Висса. Их мнение было поддержано защитой и товарищем прокурора, и окружной суд постановил дело решением приостановить, впредь до психического обследования Отто Висса.
Через два года дело это снова рассматривалось в санкт-петербургском окружном суде. На этот раз со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Бибиков. Защищали подсудимых: Бруно Иогансена — присяжный поверенный Казаринов, Отто Висса — помощник присяжного поверенного Маргулиес и Э. Л. Марко — присяжные поверенные Адамов и Феодосьев.
Из обвиняемых сознался в преступлении лишь один Висс. Иогансен же уверял судей, что он был только зрителем преступления. Все будто бы произошло помимо его желания и воли, и он никакого жребия не метал в квартире ростовщицы.
— Почему же вы не заступились в защиту убиваемых женщин? — задал ему вопрос председательствующий.
— Я просто растерялся… был сильно взволнован, — ответил обвиняемый.
— Затем, когда преступление совершилось, вы взяли у товарища билет государственной ренты, добытый таким ужасным путем… Зачем вы сделали это?
— Растерялся… ничего не помнил…
— В чем же вы признаете себя виновным?
— Я только участвовал в убийстве…
Мещанин Марко по-прежнему горячо настаивал на своей невиновности и утверждал, что он никогда и никого не подстрекал убить ростовщицу.
На судебное заседание было вызвано свыше 20 свидетелей и несколько экспертов-психиатров.
Рассмотрение дела, ввиду его сложности и исключительной обстановки преступления, продолжалось два дня.
Центральной фигурой следствия, как и следовало ожидать, явился Отто Висс, непосредственно сам, своими руками покончивший с ростовщицей и ее прислугой.
Странная, загадочная натура — Висс представлял собою целый ряд характерных противоречий. Выросший в почтенной швейцарской семье, с хорошими нравственными устоями, — он все-таки ступил на скользкий путь порока и стал заниматься кражами. Человек слабохарактерный, он в то же время способен был обнаруживать порой необыкновенную твердость воли. Жена его была раньше самая заурядная проститутка, свободно торговавшая своим телом, — и тем не менее, познакомившись с ней в пьяной, угарной атмосфере Зоологического сада, Висс пренебрег мольбами своей матери, порвал все отношения с родными и против воли семьи женился на проститутке. Не уживаясь на местах и бросая хорошо оплачивавшиеся должности, он смело перекочевывает через Атлантический океан и в далекой Америке отчаянно борется за право существования. Наконец, обыкновенно мягкосердечный и всегда избегавший каких-либо проявлений жестокости, — он хладнокровно, самым зверским образом, с помощью топора, приканчивает двух женщин. Между тем он же, как выяснилось на суде, искренно сожалел о преждевременной смерти своей собаки и не мог простить себе, что во время ее болезни он не обратился за советом к опытному ветеринарному врачу.
Чистосердечно сознавшись в ужасном преступлении, он нисколько не старался выгородить себя, а, наоборот, сгущенными красками обрисовал себя страшным злодеем. Даже тогда, когда его заподозрили в ненормальности и поместили на испытание в больницу душевнобольных, он не захотел воспользоваться благоприятным случаем для симуляции.
— Я вполне здоров… Зачем меня держат здесь? — жаловался он врачам-психиатрам.
В больнице Висс сразу обратил на себя внимание как интеллигентный человек и пользовался даже авторитетом среди других больных и прислуги. Отличаясь безупречным поведением, он завоевал симпатии и врачей. Его считали лучшим из окружавших больных, и ему охотно предлагали участвовать в любительских спектаклях. Держался он на сцене вполне непринужденно и, хорошо передавая свою роль, играл с видимым удовольствием. Очевидно, его нисколько не тяготило совершенное им страшное преступление. Ясно сознавая, что всякое вообще убийство — преступно, он тем не менее поразительно равнодушно относился к ужасной смерти Щолковой. По собственному признанию подсудимого, ему не было жаль этой женщины. Мысль, что она занимается ростовщичеством и сводничеством, значительно облегчала ему задачу совершения убийства.
Особенными нравственными устоями Висс не отличался и ранее: еще до краж он успел совершить где-то по службе растрату; после же своей женитьбы он пошел сразу по наклонной плоскости и ничто уже не могло его удержать. Кроме нескольких краж и растраты, в его прошлом имеется и один случай шантажа, который был только вскользь затронут на суде.
Как выяснилось на следствии, в детстве до 10-летнего возраста он страдал частыми обмороками, и защитой было сделано даже указание, что его, быть может, сосал глист. Характер Висса, по словам родных, не отличался устойчивостью, и он легко поддавался внешним влияниям.
Когда подсудимые были уже арестованы и Бруно Иогансен пришел в отчаяние, — Висс старался успокоить его.
— Я вообще считал своим долгом поддержать товарища, — говорил по этому поводу подсудимый.
В доме предварительного заключения он завязал переписку с разъединенным от него Иогансеном, которая, однако, была перехвачена.
В одном из этих писем Висс просит товарища указать какое-нибудь средство для роста волос.
«Гнусно потерять в столь молодые годы свои волосы», — горько сетует он при этом.
«Что ты читаешь?» — спрашивает он далее у Иогансена. «Я читаю «Власть тьмы» Толстого, драму в 5 действиях…» — «Не сообщал ли тебе вор-рецидивист о том впечатлении, которое произвел на публику мой рассказ?» (Вопрос этот относится к первому судебному заседанию об убийстве ростовщицы — в 1901 году.) Ты теперь можешь быть спокойнее, чем перед предыдущим судом, ибо тогда был лишь один шанс против девяти для оправдания, а теперь девять против десяти, то есть один шанс против оправдания. Если мы будем оправданы, то нас перевезут чрез германскую границу, до Кенигсберга, на казенный счет, а далее придется передвигаться на собственный счет. Можно добраться матросом до Лондона, а оттуда в Америку. В будущий раз, когда нас будут судить, нас, пожалуй, снимут и портреты наши напечатают в газетах…»
После этого Висс иронически замечает: «Поверенный Марко (адвокат) больше не интересуется им. Думал, что все симпатии будут на его стороне и его будут жалеть, что он, как невинный, двумя мазуриками был привлечен на скамью подсудимых. Но так как Марко больше всего ругают, то для адвоката не представляется интереса защищать его… Адвокат полагает, что врачи признают меня ненормальным, и тогда мы все трое будем оправданы или получим по нескольку месяцев тюрьмы за кражи, ибо Марко будет оправдан, я — как ненормальный — тоже, а тебя одного наказать совесть присяжным заседателям не позволит… Когда нас поведут в суд, я отлично знаю, что вся публика будет смеяться. Действительно, чудесно выглядит, когда трех таких франтов вводят в зал под конвоем с обнаженными саблями», — заканчивает Висс свое последнее письмо.
В судебном заседании он все время держался очень спокойно, видимо мало интересуясь ожидавшей его участью. Свои объяснения он давал хорошим литературным языком и толково описывал все детали своего мрачного злодеяния.
Находясь в доме предварительного заключения, он писал также Иогансену: «Посылаю список семейных болезней, которые могут нам пригодиться». Из его же признания видно, что он был в разное время знаком, по крайней мере, с тридцатью женщинами, о чем он в высшей степени цинично отзывается.
Экспертами по этому делу были приглашены в суд известные психиатры Чехов и Розенбах. Оба они никаких признаков душевного расстройства у Висса, несмотря на тщательное наблюдение, не обнаружили.
— Не считаете ли вы циничным, что подсудимый, после зверского убийства двух беззащитных женщин, мог так спокойно и весело играть потом на флейте, принимать участие в спектаклях и тому подобное? — спросил товарищ прокурора у доктора Чехова.
На это последовал довольно уклончивый ответ, так как задача экспертов касалась исключительно психопатологической стороны дела.
— Не был ли Висс особенно удрученным или задумчивым? — с своей стороны осведомился присяжный поверенный Казаринов.
— Да, в последнее время перед выходом из больницы он стал задумываться, — объяснил эксперт.
Присяжный поверенный Казаринов одновременно с этим старался обратить внимание присяжных заседателей на бедственное положение, в котором находился до преступления Бруно Иогансен, часто не имевший куска хлеба.
— А можно ли считать Висса правдивым? — задал от себя вопрос присяжный поверенный Адамов.
— Несомненно, — ответил доктор Чехов. — У Висса не приходилось замечать извращений и лжи. Он, очевидно, говорит только правду. Даже в тех случаях, когда ему было бы выгодно солгать, он старался быть правдивым.
Путем опроса эксперта присяжному поверенному Адамову удалось установить, что Висс отличался такой слабохарактерностью, которая не требовала особого, специального влияния на него со стороны. Он представлял собою благоприятную почву, на которую каждая случайность могла подействовать: и разговор с приятелем Сталовичем, бежавшим после с подложным паспортом в Америку, и общение с преступным миром во время краж, и все другое в том же роде. Таким образом, в особом подстрекательстве со стороны Марко вовсе не было надобности.
Присяжный поверенный Адамов просил также суд огласить письма Марко к судебному следователю.
— Это вопль души безвинно арестованного человека, — горячо настаивал защитник, — и из писем можно заключить о психологии подсудимого. Так как господин прокурор стремится раскрыть истину, то, вероятно, он и не будет протестовать против оглашения их.
После горячего спора между сторонами суд в удовлетворении этой просьбы отказал.
В общем, по заключению экспертизы, ужасное преступление могло быть совершено Виссом под влиянием особой, безотвязной мысли, сверлившей его мозг.
Доктор Розенбах в своем мнении подробно остановился на всех характерных противоречиях в натуре Висса и его жизни. Слабость характера его несомненна, и, раз он попал на преступный путь, его трудно было удержать. Непосредственно подчиняясь воле других и своим мотивам, он являлся готовым для всяких влияний.
Присяжный поверенный Казаринов указал при этом, что и у Висса все-таки бывали резкие вспышки несомненной воли и что поэтому ничего нет удивительного в подчинении ему Иогансена.
В свою очередь товарищ прокурора старался обратить внимание присяжных заседателей на фразу Висса в его письме: «Я буду оправдан, как ненормальный».
— Но к этому необходимо добавить и то, что подсудимый далее пишет: «Так говорил мне защитник», — вступился за интересы подсудимого помощник присяжного поверенного Маргулиес.
По окончании судебного следствия слово было предоставлено представителю обвинительной власти.
Товарищ прокурора господин Бибиков с ужасом стал говорить о мрачной кровавой драме, разыгравшейся на Малой Итальянской улице. По его словам, в мире замечается в последнее время в высшей степени печальное явление: ценность человеческой жизни как-то упала, а ценность рубля, наоборот, значительно возросла. Из-за этого рубля люди идут на тягчайшее преступление и с спокойным сердцем убивают себе подобных. И невольно кажется, что совесть человека как будто заснула в этом грозном, победном шествии рубля.
За что были самым зверским образом убиты две женщины? Тоже из-за рубля, и эта роковая власть денег, губящая жизнь, должна страшить всех.
Сопоставив с преступлением Висса и К0 знаменитый роман «Преступление и наказание», обвинитель указал, что попавшие теперь на скамью подсудимых преступники — далеко не Раскольниковы, и у них решительно никакой борьбы не происходило в душе, прежде чем решиться на убийство старухи ростовщицы.
Это — ужасная молодежь, больной продукт больного века, и вполне заслуживает самого строгого возмездия за свое преступление.
Иогансен и Висс — убийцы, они сами признались в этом, а Марко — их подстрекатель.
Доказывая несомненную виновность всех трех подсудимых, товарищ прокурора энергически настаивал на применении к ним высшей меры наказания.
На долю защиты Висса и Иогансена в этом деле выпадала, безусловно, трудная задача — вызвать снисхождение к убийцам.
— Господа присяжные заседатели! — начал свою речь присяжный поверенный Казаринов. — Когда мы читаем грустную повесть о том, как в чью-нибудь мирную жизнь с ее радостями и печалями вторгается преступная рука и разбивает эту жизнь, — мы негодуем, сердце и разум требуют воздаяния, и мы облегченно вздыхаем лишь после того, как преступник претерпевает должную кару. Но приходится нам читать иногда и иную повесть, в которой сам герой является преступным нарушителем права ближнего, и часто мы живем одной с ним жизнью, радуемся его радостям, страшимся его страхом, сердце наше болезненно замирает, когда его схватывают представители закона, и если бы нам пришлось быть его судьями — кто знает, какой приговор мы бы ему написали.
Отчего же происходит такая разность взглядов у нас, считающих преступление недопустимым и наказуемым? Эта разница происходит оттого, что в первом случае мы смотрим на преступника извне, с точки зрения жертвы, и видим в нем лишь неразумную злую силу, которую надо уничтожить; во втором же случае мы находимся в самом центре психической жизни преступника, наблюдаем эту жизнь со всеми ее страстями, соблазнами, борьбой, падением, отчаянием, одним словом — видим в преступнике не отвлеченную силу, а живого человека с печатью божества и с богоотступными чертами. Мы понимаем его, а понимать — это почти всегда сочувствовать.
Итак, от точки зрения совершенно меняется наша оценка события. Обе точки зрения крайние, истину надо искать в середине и, чтобы быть справедливым судьей, надо в равной мере осветить и ту, и другую сторону.
На суде уголовном эта равномерность освещения часто не соблюдается. В настоящем деле она, несомненно, не соблюдена относительно подсудимого Иогансена. Что касается подсудимого Висса, то требование это соблюдено вполне. Вся жизнь Висса с младенческих лет по настоящее время выяснена до мелочей и его собственными объяснениями, и показаниями его родителей, родственников и учителей, и даже заключениями врачей-психиатров. Мы видим в нем живого человека, понимаем его и потому сочувствуем ему. Вместе с сочувствием все взгляды направляются на него, весь интерес дела сосредоточивается на нем, а тем временем Иогансен — безмолвный, сумрачный, со своим загадочным взглядом — остается в тени не как живой человек, а как безличная, злая сила, к которой никто никакого сочувствия питать не может. И не знаем мы, что здесь перед нами, — глубокий ли омут, населенный чудовищами, или просто лужа, в которой на два пальца воды, сосредоточенное ли глубокомыслие или невозмутимая пустота, — и так как мы ему не сочувствуем, то склонны все толковать в худшую сторону.
Но как часто наружный вид не соответствует внутреннему содержанию!
Эффектными страшными вывесками манит в себя ярмарочный балаган и сулит открыть неизведанные ужасы, а войдешь в него — все так просто, мизерно и жалко. О серьезном обвинении говорит подчас обложка уголовного дела, хотя бы того, которое приобщил господин прокурор по обвинению Иогансена в ношении револьвера и в угрозах этим револьвером; а открыли мы дело, и что же — револьвер оказывается ломаным! Нет, чтобы судить верно, надо смотреть глубже; не заглянув в душу Иогансена, вы не можете взвесить и его вины; на одной чаше весов лежит громадная тяжесть — его преступление, а на другой не лежит ничего.
И вот встает защита. Все с любопытством ждут, что положит она на эту чашу. Господин прокурор восклицает: «Я интересуюсь, что может сказать защита Иогансена!»
Да, — отвечу я ему, — немного могу я сказать, но все-таки скажу хоть что-нибудь.
Что такое, — спрошу я прежде всего, — этот Иогансен, который в двадцать два года, в то время, когда другие молодые люди вступают на разных поприщах в договоры с обществом для служения ему, приведен сюда под конвоем, чтобы свести с обществом свои окончательные счеты? Злодей ли это торжествующий, урвавший на жизненном пиру завидную долю, зачерствевший в своей преступной сытости и равнодушно смотрящий на бедных, голодных и бесприютных? Нет! Это сам голодный, бездомный, жалкий, смотрящий с улицы сквозь щели забора на сытный пир других!
И это — первое, что радует меня, как защитника. Я рад, что преступление его взросло не на тучной почве, в теплоте оранжереи, что не цвело оно пышным цветом, не опьяняло тонким ароматом и не дало сладких плодов, а, как сорный, бесплодный чертополох, выгнало его на задворках жизни из тощей земли, отравленной ядом отбросов.
У преступления, как и у всего, две стороны: одна — лицевая, привлекательная, манящая, другая безобразная, отталкивающая. Только одну изнанку преступления довелось видеть Иогансену, и может он сказать, что если жизнь его была лишена и света, и смысла, и благословения, то самым темным, самым бессмысленным моментом ее, самым высшим проклятием над ней было совершенное им преступление.
И это — первое, что кладу я на чашу весов Иогансена!
Как же к двадцати двум годам стал он убийцей?
«Человека нет, он должен создать в себе его», — говорит французский философ. Да, каждый сам создает в себе человека, но, чтобы создать, надо, чтобы было чем и из чего создать, и одному для этого дается много, другому — мало, третьему — ничего. Мы разбирали жизнь Висса, и я нахожу, что ему было нечто дано. Он имел перед собой пример труженика-отца, ему даны были образование, любовь матери, любовь сестры, которые сопутствуют ему даже сюда, в этот зал, и вы видели, с каким самозабвением протягивают они ему здесь руку помощи, хотя бы и призрачной. Здесь читались письма, присланные ему издалека любящей женщиной, и в этих письмах слышали мы обращенный к нему омытый слезами призыв: «Друг мой, не делай ничего злого!»
А где, — спрошу я, — мать Иогансена? Почему, живя здесь, в Петербурге, не появилась она среди свидетелей? Почему нет ее даже среди публики? Что же не придет она сопутствовать ему на этом печальном шествии, чтобы ободрить его взглядом, чтобы сказать ему: «Ты опозорил меня, но я прощаю тебя, я мать твоя»?
Семья — та кузница, где выковывается моральный остов человека; такой семьи у Иогансена не было.
Образование дает человеку в руки светильник, с которым он идет затем сквозь дебри жизни и читает надписи на сумрачных перекрестках ее путей. Иогансену не дано образования; три класса училища — этого мало; я скажу, это даже хуже, чем ничего. «Немного науки отдаляет нас от религии, много науки опять возвращает к ней», — сказал великий мыслитель Бекон. Иогансену не дано светильника науки, ему дана в руки плошка, от которой больше чада, чем света, которая не столько освещает, сколько искажает окружающие предметы.
И вот без воспитания, без образования выходит человек на трудовую жизнь. Но легкий труд за прилавком магазина с его торгашеской моралью, занятия комиссионерством и торговым агентством — плохая школа нравов; рестораны, биллиардные трактиров с их завсегдатаями, товарищи и сожители вроде Сталовича вконец растлевают душу. Где-нибудь в рядах вольной пожарной команды получает человек последнюю выправку и пример вольного отношения к серьезному делу.
К двадцати одному году молодой человек закончен. Внешние признаки интеллигентности налицо: модный костюмчик, пунцовый галстук, пенсне, которое так веселило Висса в доме предварительного заключения, значок вольной команды в петлице' — все как следует быть. В голове сумбур, отрывки школьных воспоминаний, клочки каких-то знаний, лоскутки каких-то принципов, из которых если и можно что сшить, то разве только саван всему доброму, что когда-то было вынесено из семьи, если только было вынесено.
Пока такой интеллигент декадентского стиля имеет сорок — пятьдесят рублей жалованья — он может жить в свое удовольствие, но лишь только заработок пресекается — наступает кризис. Чернорабочий, потерявший место, может пережить безработицу, ютясь по ночлежным домам и питаясь на постоялых дворах, но такой интеллигент не может поступиться ни костюмчиком, ни цилиндром, ни безукоризненным пробором. В этом весь его ценз. По этому цензу оценивает его, прищурив глаза, хозяин магазина или представитель торговой фирмы. Если он потеряет из этого ценза хоть что-нибудь — он опустился туда, в оборванный пролетариат, и уже больше не вынырнет.
Иогансен постоянно боролся с нуждой. Запершись в своей каморке, выдерживал он осаду голода и не делал вылазок чрез потайные ходы преступления. Нужда, как клещи, в один миг раскусывает человека и обнаруживает его сокровенную сущность. Иной, полжизни почтенно проживший в довольстве, при первом же нажиме этих клещей кричит: «Признаюсь, лгал!» — и обнаруживает свою порочную сердцевину.
Но Иогансен долго боролся и не шел на призыв своего сожителя Сталовича, все идеалы которого сводились К ясной формуле: «Убить и ограбить».
И эту борьбу тоже несу я на чашу весов Иогансена.
Однако, — скажут мне, — в голове его уже бродили преступные мысли, созидались со Сталовичем темные планы. От мыслей до исполнения их, — возражу я, — целая бездна. Перед римскими консулами ходили ликторы, неуклонно исполнявшие их веления. Что, если бы за каждым из людей ходил такой же ликтор и исполнял все их мысли, как только они созреют в голове?! Но у нас нет таких ликторов, слуги наши — наши руки, одинаково медлительные как на подвиг добра, так и на злодейство. Свободно гуляют в голове злые замыслы, и мы даже не накидываем на них узды нашей воли, но когда они начинают пробивать дорогу в жизнь, тогда мы начинаем бороться с ними. Мы можем и должны тогда бороться. Не тот убийца, у кого в голове была мысль убить, а тот, кто занес удар и опустил его на голову ближнего. Одно намерение — ничто. Если ад, говорят, вымощен благими намерениями, то и рай, — скажу я, — может быть засеян скверными помыслами, не давшими всходов.
Итак, что бы ни мыслил Иогансен, он ничего преступного до конца тысяча девятисотого года не совершил.
Но вот в начале декабря этого года он знакомится с Виссом — и замкнутая жизнь его сразу развертывается в отчаянное нападение на общество; следуют кражи одна за другой, и затем совершается убийство.
Кто же кого вел, кто руководил? Висс говорит — Иогансен; факты говорят иное. Не Иогансен едет за Виссом, когда надо совершить кражу, — Висс каждый раз заезжает за Иогансеном и увлекает его за собою. Не Иогансен дает мысль купить топор, а Висс. Когда Марко, содрогнувшись перед планом убийства, желает разрушить его, не Иогансена он тогда убеждает и умоляет, а Висса. Висс все время действует: он убивает, он взламывает хранилища, он грабит, он делит награбленное.
Вычеркните из дела Иогансена — оно ни в чем не изменится, а попробуйте вычеркнуть Висса — что останется?
Висс всюду единица — ив семье, и в школе, и в заключении, и в больнице, и здесь, на суде. Всюду, куда его занесет судьба, останется он единицей. Иогансен в сравнении с ним — всюду нуль. Он слуга Висса, он оруженосец его в военное время, казначей — в мирное. По приказу Висса хранит он краденый билет государственной ренты, так же как и ничего не стоящие ломбардные квитанции на заложенные краденые вещи. Только под руководством Висса может действовать Иогансен, и когда он вздумает совершить что-нибудь сам — выходит одна нелепость.
Вспомните, как двадцать восьмого декабря, в то время, когда обдумывался план убийства Щолковой, Иогансен, по собственной инициативе, скрал у нее грошовую муфту. В какое негодование приходит тогда Висс!.. Немедленно же отнимает он у Иогансена эту муфту и возвращает ее Щолковой. Глупая выходка Иогансена чуть не заперла для них двери Щолковой и не расстроила весь план убийства.
В постоянных переездах, превратностях судьбы и столкновениях с людьми закалился характер и приобрел гибкость ум Висса.
В нем выработались и сильная, непреклонная воля, и та сообразительность, с которой он всякий обращенный к нему упрек ловким вольтом перебрасывает на другого, и та двуличность, с которой он, преклоняясь перед истиной, когда последняя стоит как незыблемый колосс, гнет и крутит ее для своей пользы, когда она слабо и нежно вьется у подножия этого колосса, как молодое растение.
Иогансен — ничтожество, человек толпы, для которой нужны вожаки, пророки, хотя бы и ложные, чтобы подвигнуть ее на добро и на зло. Был у Иогансена один такой лжепророк — Сталович, но тот учил только словом и был свой, а своим пророкам не верят. И вот из-за океана явился другой пророк, стал учить словом и делом — и Иогансен уверовал в него, пошел за ним и погиб.
И это тоже опускаю я на весы Иогансена.
Виновен ли Иогансен в том, что по предварительному уговору с Виссом убил Щолкову и Гурьянову? Нет, предварительного уговора не было, с людьми, как Иогансен, не уговариваются, — им говорят: «Я иду», — и они идут сзади. Иогансен не убивал и не грабил, — это делал Висс. Но Иогансен присутствовал, видел, что над головой ближнего занесен топор, и не отвел удара, и не бросился, и не подставил рук своих за ближнего. Как христианин, как человек, он должен был это сделать! Он спокойно смотрел на злодейство, он — попуститель убийства. И пусть не говорит, что спокойствие его было спокойствием человека, у которого все застыло от ужаса, что не своими ногами ходил он, не своим голосом говорил, что долго после убийства метался он по квартире, ища шляпу, которая была у него на голове, — это может смягчить его вину, но не спасет его…
Уже три года прошло со дня преступления. Это — долгий срок для тех, которые живут свободно среди разнообразия и развлечений жизни; но для того, кто, как Иогансен, томился в одиночном заключении, этот срок неизмеримо длиннее. Довольно было времени и для запоздалого раскаяния, и для преждевременного отчаяния, для горячих слез и для холодного смеха, для молитв и для проклятий. Три года предварительного заключения! За этот срок он должен был прийти и к окончательному заключению, что высшее благо есть свободная жизнь среди природы, среди людского общества, но что право это принадлежит лишь тому, что повинуется и законам природы, и законам общества.
Эти три года я тоже кладу на чашу весов Иогансена, и уже более положить мне нечего.
Я не знаю, дрогнула ли стрелка весов или мертвенно-неподвижно стоит она. Если так, если суждено моему слову быть словом надгробным — значит, того требует ваша совесть, совесть всего современного интеллигентного общества.
С уважением выслушаю я ваш обвинительный приговор, как подобает слушать истину жизни. С замершим сердцем, с удержанным дыханием и с тем же загадочным взглядом будет слушать Иогансен ваши обвинительные ответы, и будет казаться ему, что это глыбы земли стучат в крышку его гроба.
Но вместе с комьями земли летит иногда в свежую могилу и венок как последний привет жизни.
Бросьте же и вы ему этот венок, венок снисхождения падшему, и бросьте от души, как символ вашей надежды на его моральное воскресение, — закончил присяжный поверенный Казаринов.
Другой защитник, Маргулиес, в своей речи разбил прошлое подсудимого Висса на три главы: до момента его приезда из провинции в Петербург, о его женитьбе и бегстве в Америку и об обратном возвращении в Россию, без жены.
Вернувшись из-за океана в Петербург, Висс голодным блуждал зимой по его богатым улицам, не имея куска хлеба. И постепенно, поддавшись влиянию своих скверных товарищей, он пошел по скользкому пути преступлений.
Защитник просил присяжных заседателей быть милостивыми к этому подсудимому как павшему вследствие неблагоприятных условий жизни. Свой вердикт они должны основывать не на перехваченных письмах Висса из тюрьмы, которые являются только «отрыжкой истосковавшейся человеческой души, скомканной тюрьмою», а на основании психологического развития в нем идеи преступления.
В свою очередь присяжный поверенный Адамов в убедительной речи энергически отстаивал невиновность третьего подсудимого, Марко.
— Положительно не знаешь, можно ли представить себе более зверское преступление, чем преступление Висса и Иогансена, — говорил этот защитник. — Страшно становится, когда подумаешь, до какого падения может дойти человек!
Но, касаясь собственно обвинения, предъявленного к Марко, защитник находил, что, как бы ни был несимпатичен Марко как человек, однако присяжные заседатели не имеют права обвинить его только на основании одной несимпатии. Если бы даже оговор его товарищей оказался правильным, то и тогда в деянии этого подсудимого нет состава преступления. Не подстрекательство было это с его стороны, а лишь пьяный совет в пьяной компании ресторана, и, наверно, на другой же день он совершенно позабыл о нем.
Ведь ему же не могло быть никакой выгоды убивать старуху и терять, таким образом, получаемые от нее деньги. Наконец, если бы он и был действительно душой преступления, то, без сомнения, воспользовался бы львиной долей из «добычи» товарищей, — а он между тем взял у Висса всего лишь три рубля, да и то взаймы.
В заключение своей речи присяжный поверенный Адамов приглашал присяжных заседателей глубоко призадуматься над возможностью судебных ошибок.
Второй защитник Марко, присяжный поверенный Феодосьев, также произнес горячую речь в его защиту, ссылаясь на отсутствие доказательств.
Резюме председательствующего Д. Ф. Гелыиерта, по обыкновению, отличалось полным беспристрастием и освещением всех темных сторон рассматриваемого дела.
На разрешение присяжных заседателей было поставлено судом свыше 20 вопросов как об убийстве двух женщин, так и о совершенных в разное время Виссом и Иогансеном кражах.
После часового совещания присяжные заседатели оправдали только одного Марко.
Отто Висс и Бруно Иогансен были признаны виновными в убийстве с предварительного соглашения мещанки Щолковой и ее прислуги, но заслуживающими снисхождения. Вместе с тем им был вынесен обвинительный вердикт также и по многочисленным кражам.
С побледневшими лицами, видимо сильно взволнованные, обвиненные тупо выслушали решение своей участи.
Резолюцией окружного суда было постановлено лишить Отто Висса и Бруно Иогансена всех прав состояния и сослать их в каторжные работы сроком на десять лет каждого.
СОЖЖЕНИЕ РЕБЕНКА
В 1901 году в деревне Волковой, под Петербургом, было совершено страшное преступление.
18 октября, в 7 часу утра, проживавший в деревне крестьянин А. Большаков отправился на работу, а вслед за ним ушли в Петербург и его жена со старшей дочерью. В квартире оставались только две младшие дочери Большакова, Александра и Анна, из которых последней было всего пять лет. Через два часа после ухода родителей Александра ушла в школу и, оставив дома малолетнюю сестренку, заперла дворовую калитку на замок.
Ключ от этой калитки клался всегда в заранее условленном месте, под углом дома, на случай, если кто-либо из Большаковых возвратится раньше домой.
Однако когда около 10 часов утра жена Большакова вернулась из Петербурга, она, к своему удивлению, не нашла ключа в условленном месте. Калитка же оказалась отпертой. Войдя во двор, Большакова в ужасе отшатнулась. Недалеко от ворот на земле лежал обуглившийся труп девочки, издававший запах керосина. Несчастная мать, узнав в сгоревшей девочке свою дочь Анну, подняла отчаянный крик. Сбежались соседи, и прибыла полиция, которой удалось обнаружить, что девочка пала жертвой зверского преступления. Находившаяся в кухне Большаковых бутылка с керосином была найдена почти опорожненной, а из комода были похищены принадлежавшие старшей дочери Большакова суконная жакетка, две шерстяные юбки и капот.
Труп сгоревшей девочки был вскрыт академиком Ивановским и профессором Косоротовым, которые признали, что смерть ее последовала от ожогов всего тела. При этом выяснилось, что девочке первоначально был нанесен удар по голове, а затем была сделана попытка удушить ее, вызвавшая у нее сильный прикус языка.
На предварительном следствии мать девочки заявила подозрение на знакомую ей девочку Ольгу Богданову 14 лет, отличавшуюся предосудительным поведением и жившую неподалеку от дома Большаковых. Ольга очень интересовалась нарядами и дней за десять до преступления приходила к Большаковым с просьбой показать ей новую жакетку их старшей дочери. Потом 16 октября, когда дома оставалась только одна маленькая Анна, Ольга тайком пробралась к ней в комнату и стала пугать ее, называя себя «домовым» и грозя съесть ее. Перепуганная девочка пожаловалась после матери и сообщила, что Ольга обещалась еще раз зайти к ней через несколько дней. По-видимому, новая жакетка прельстила Богданову, и она решилась на преступление, чтобы добыть ее.
Задержанная Ольга откровенно призналась в своем ужасном преступлении. По ее словам, 18 октября утром она прокралась в квартиру Большаковых и, пользуясь отсутствием родителей и сестер маленькой девочки, начала примерять нравившиеся ей вещи старшей дочери Большакова. Надев на себя две шерстяные юбки и жакетку, Ольга решилась уже больше не расставаться с ними.
Однако тут же в квартире беспечно играла 5-летняя Анна, которая могла выдать воровку, и после короткого раздумья Богданова решилась избавиться от этой свидетельницы.
В голову ее пришла ужасная мысль — живьем сжечь девочку. Богданова завязала в узел еще некоторые вещи, разыскала в кухне бутылку с керосином и подошла к девочке. Последняя инстинктивно почуяла опасность и хотела убежать в другую комнату, но преступница, прижав ее к стене, одной рукой сдавила горло, а другой — начала наскоро поливать ее керосином.
Придерживая плакавшую девочку, Богданова стала затем доставать лежавшие на печке спички.
Этим моментом воспользовалась Анна, вырвалась из ее рук и побежала в соседнюю комнату.
Богданова погналась за девочкой, настигла ее в кухне и, прижав к печке, подожгла на ней платье…
После этого юная злодейка поспешила выйти в сени и хотела запереть дверь, но несчастная девочка с отчаянным воплем выбежала вслед за ней. Вся в огне, она безумно стала метаться на крыльце. С раздирающими душу криками, в виде огненного столба, она выскочила на двор и вскоре рухнула на землю…
Совершив страшное злодеяние, преступница затворила калитку и с похищенными вещами отправилась в Петербург.
Богданова — незаконнорожденная дочь крестьянки и жила отдельно от матери, работая на табачной фабрике. Несмотря на юный возраст, она вела дурную, распутную жизнь и имела уже несколько любовников.
Работала она очень мало и неохотно и, видимо, предпочитала проводить время в разгуле.
Ввиду возникшего сомнения в нормальности ее умственных способностей, Ольга была помещена на испытание в больницу для душевнобольных.
Однако после продолжительного наблюдения врачи-психиатры нашли, что она родилась от вполне здоровых родителей, правильно развивалась и, отличаясь лишь дурными наклонностями, в общем представляет совершенно здоровую девочку как в физическом, так и в психическом отношении.
В начале декабря 1901 года она предстала перед санкт-петербургским окружным судом, со своим' защитником — присяжным поверенным М. К. Адамовым.
На вид она представляла небольшого роста девочку-подростка, в черном платке, с бледным, миловидным лицом. Несмотря на то что после преступления прошло уже более года, она и на суде все еще выглядела недоразвившейся девочкой.
Давая свои объяснения, она горько и неудержимо рыдала.
По прочтении обвинительного акта председательствовавший С. В. Карчевский задал подсудимой вопрос:
— Признаете вы себя виновной?
— Виновата; простите! — с глухим плачем вскрикнула она и упала перед судом на колени.
— Успокойтесь и объясните, как вы это сделали.
— Я ничего не знаю, как все произошло… Не помню…
Взволнованной подсудимой дали воды, и суд приступил к опросу свидетелей.
Родители сожженной девочки зажиточные люди, имеют собственный дом и живут вполне обеспеченно. В то время как сам Большаков работал на заводе, жена его и старшая дочь занимались молочным хозяйством, поставляя молоко в Петербург. Дом их, где разыгралась страшная драма, стоит на краю деревни.
Особенно характерным явилось показание матери покойной девочки — Ульяны Большаковой.
По ее словам, девочка незадолго до своей ужасной смерти жаловалась ей на посещение Ольги Богдановой, прикидывавшейся «домовым», и вместе с тем хвалилась, что, кроме Ольги, к ней стал являться в последние дни «ангел-хранитель».
— Мы с ним в игрушки играем, и Боженька любит меня, — настойчиво уверяла девочка, когда мать с сомнением отнеслась к ее рассказам.
По возвращении Ульяны Большаковой из города ее обыкновенно каждый раз весело встречала остававшаяся дома девочка. Но 18 октября Большакова, к своему изумлению, не увидела дочери, и только подбежавшая к ней дворовая собака начала беспокойно вертеться у ее ног. Оглянувшись по направлению сарая, бедная мать увидела ужасную картину.
Бросившись к лежавшей неподвижно девочке, она нашла ее уже мертвой. За исключением кожаных башмаков, вся одежда на ней оказалась сгоревшей дотла.
Мать обвиняемой, 60-летняя старушка, рассказала на суде, что в детстве Ольга Богданрва была скромной, тихой девочкой. На десятом году ее отдали в земскую школу, но она пробыла в ней только два года, служила затем у кого-то нянькой, была ученицей в чулочной мастерской и, наконец, занималась клейкой гильз для табачной фабрики. В 13-летнем возрасте она пала жертвой грубого насилия со стороны одного женатого человека. В общем, жизнь девочки складывалась далеко не благоприятно, и ей пришлось много вынести горя, прежде чем она сбилась с честного пути.
Товарищ прокурора Зиберт настаивал на том, что подсудимая действовала с разумением во время жестокой расправы с малолетней девочкой.
В свою очередь присяжный поверенный Адамов в горячей защитительной речи резко отметил полную неразвитость подсудимой, ненормальность ее организма, некоторые, наиболее важные психические дефекты и ходатайствовал, чтобы она была признала действовавшей без разумения.
Речь его отличалась большой убедительностью и произвела на публику сильное впечатление.
После непродолжительного совещания присяжные заседатели признали Ольгу Богданову виновной, но заслуживающей снисхождения и действовавшей без разумения.
Резолюцией суда было постановлено отдать ее для исправления в один из православных монастырей до достижения ею восемнадцатилетнего возраста.
ЛОВКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
В 1900 году осенью в петербургских газетах появилось объявление сотника лейб-гвардии уральской казачьей его величества сотни М. Бородина о продаже имения «Винцентово» в Виленской губернии. Вскоре же на квартиру сотника явился молодой, представительный человек, назвался дворянином Гюббенетом и любезно предложил свои услуги по продаже имения, объяснив, что при министерстве финансов существует будто бы особая комиссия по реализации казенных земель, покупке и продаже их в казну. Гюббенет уверял при этом, что он хорошо знает председателя комиссии тайного советника Кобеко и близко знаком со многими высокопоставленными лицами. Первоначально он обещал продать имение за 50 000 рублей, но затем, узнав, что в имении находятся известковые залежи, высказал уверенность, что имение возможно продать и за более высокую цену.
М. Бородин поверил во всемогущество представительного молодого человека и охотно согласился вознаградить его за посредничество крупной суммой в 8000 рублей. Сделка между ними была оформлена. Сотник выдал Гюббенету две доверенности на право ходатайства по продаже имения и на получение из вырученной суммы комиссионного вознаграждения. Вместе с тем, по просьбе молодого человека, сотник письменно обязался в течение года не уничтожать выданных доверенностей под страхом уплаты неустойки в 8000 рублей.
Прошло несколько дней после этого, и молодой человек снова навестил М. Бородина, показав какую-то официальную бумагу, в которой сообщалось, что Н. Н. Гюббенету поручается организовать специальную комиссию для «конфиденциального» осмотра имения «Винцентово». В комиссию эту должны были войти: землемер, лесничий, архитектор, член сельскохозяйственного комитета, минералог, оценщик и сам Гюббенет. Расходы по поездке комиссии в имение возлагались на его владельца, и Гюббенет, определив их в 1000 рублей, немедленно же получил от сотника эту сумму под расписку.
Через несколько дней М. Бородин опять увидел многообещающего молодого человека. Оказалось, что последний вместо себя назначил в комиссию чиновника Чернышевского и уже получил от него телеграмму с извещением, что специальная комиссия оценила имение «Винцентово» в 55 000 рублей благодаря найденным в нем минералогом большим залежам извести. По предложению Гюббенета, сотник выдал ему 275 рублей, чтобы «поблагодарить» минералога, а затем еще до трехсот рублей будто бы на поездку чиновника Чернышевского по делу о продаже имения в г. Минск и, кроме того, в г. Вильну для необходимых переговоров в канцелярии генерал-губернатора.
Всего, таким образом, Гюббенету удалось выманить у доверчивого сотника свыше 2000 рублей, а затем он еще получил от него же 520 рублей на нотариальные расходы.
Наконец, 13 ноября Гюббенет сообщил своему доверителю, что уже состоялось постановление комиссии о принятии имения «Винцентово» в казну за 62 862 рубля и, в подтверждение этого, показал бумагу с заголовком: «Комиссия по реализации казенных земель, покупки и продажи оных в казну». В ней значилось, что М. Бородин должен внести 429 рублей на актовые, гербовые и другие расходы. У сотника денег не оказалось, и ему пришлось прибегнуть к займу. Через три недели Гюббенет наведался к сотнику и, не застав его дома, оставил следующую записку: «Поздравляю. Сегодня подписано. Выдача 15 декабря». Вскоре из Вильны пришла телеграмма за подписью неизвестного Александрова, сообщавшая, что деньги за имение не могут быть выданы ранее внесения 629 рублей казенных сборов. Посмотрев на телеграмму, сотник удивился, что на ней не было выставлено число слов. Однако Гюббенет начал уговаривать его, что эта телеграмма послана из канцелярии Виленского генерал-губернатора, а в казенных учреждениях число слов не проставляют. Затем он посоветовал Бородину вместо денег поставить свой бланк на вексель в 4000 рублей. Это новое вымогательство показалось Бородину подозрительным; он начал наводить справки и узнал, что никогда и никакой комиссии по реализации казенных земель не существовало в России.
Когда Гюббенет явился к нему за векселем, сотник встретил его холодно и объяснил, что он уже все знает о его обманной проделке. Молодой человек заметно смутился, пробормотал, что он ничего пока возвратить не может, и поспешил удалиться из квартиры М. Бородина.
В результате против Гюббенета было возбуждено уголовное преследование. Опрошенный на предварительном следствии, он подтвердил, что действительно принимал близкое участие в продаже имения «Винцентово» и что, съездив по этому делу в Вильну, он познакомился там с комиссионером, а также с чиновником Александровым и принужден был выдавать им деньги на предварительные расходы. Другую часть денег он израсходовал на разъезды по делу о продаже имения, которое он намеревался уступить казне.
После, однако, Гюббенет изменил свое первоначальное показание и стал уверять, что имение «Винцентово» он хотел продать в частные руки через одно высокопоставленное лицо, фамилию которого он назвать не может.
Гюббенет фигурировал уже однажды в санкт-петербургском окружном суде вместе с баронессой Штенгер, и оба они были приговорены за мошенничество к лишению всех особенных прав и преимуществ и к шестимесячному тюремному заключению.
20 ноября 1901 года Гюббенет вновь предстал перед судом. Виновным он себя не признал и объяснил, что ни о какой комиссии Бородину не говорил и операции по продаже имения вел открыто, нисколько ни прибегая к обману. При этом очень часто подсудимый ссылался на мифическую личность чиновника Александрова, который, по-видимому, создан его воображением. Телеграммы, полученные М. Бородиным, оказались сфабрикованными в Петербурге.
Из рассказа Гюббенета выяснилось, что он происходит из старинной фамилии, потомственный дворянин, и служил одно время чиновником особых поручений при государственном контроле. Любя пожить, он быстро спустил все свое довольно крупное состояние. Чувствуя в себе музыкальные способности, он пробовал свои силы на поприще композиторства, написал балет и даже намеревался издавать большой музыкальный журнал.
В общем, слова подсудимого не внушали доверия.
Чувствуя это, Гюббенет сослался на свое болезненное состояние, граничащее будто бы с психическим недугом.
Раньше он лечился у профессора Чечотта и обнаруживал признаки неврастении.
Тем не менее из свидетельских показаний личность подсудимого вырисовывалась в далеко не благоприятном свете.
Также неблагоприятно было для Гюббенета и заключение экспертов-психиатров, в том числе профессора Нижегородцева. Экспертиза нашла, что подсудимый отчасти представляет тип дегенерата, но ни во время преступления, ни после он не обнаруживал признаков душевного расстройства, а, напротив, умно и ловко обдумывал свои действия.
В обвинительной речи товарищ прокурора Новицкий охарактеризовал подсудимого как типичного петербургского афериста, который боится только пустого кармана и честного труда.
Защитником со стороны подсудимого выступал присяжный поверенный С. П. Марголин, в яркой, образной речи ходатайствовавший о снисходительном отношении к больному волей Гюббенету.
После непродолжительного совещания присяжные заседатели признали Н. Н. Гюббенета виновным в мошенничестве и дали ему снисхождение.
Резолюцией суда он был приговорен, по совокупности с приговором по первому делу, к лишению всех особенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на один год.
ВАРШАВСКАЯ БАНДА
В 1900 году 24 октября в меховой магазин санкт-петербургского городского головы на Большой Морской улице зашла компания, состоящая из одного мужчины и двух молодых женщин. Все они были очень прилично одеты. Спросив дорогой бобровый воротник, мужчина подсел с ним к окну и стал рассматривать волос, между тем как дамы занялись примеркой меховых накидок. Однако после предварительного торга покупатели не сошлись в цене и покинули магазин. После их ухода дежуривший у магазина швейцар заявил одному из приказчиков, что одна дама передала что-то своей спутнице, стараясь сделать это незаметным образом. Ввиду этого приказчики сделали проверку товаров и обнаружили исчезновение двух бобровых воротников, стоивших около 500 рублей. Бросились догонять покупателей, но их уже и след простыл. Вскоре после этого подозрительная компания наведалась в Гостиный двор и вошла в магазин золотых вещей Митюревой. Дамы начали выбирать для себя бриллиантовые серьги, советуясь со своим спутником и требуя все более и более дорогих бриллиантов Приказчики сбились с ног, удовлетворяя дамские капризы, как вдруг с прилавка улетучился футляр с серьгами, стоившими более 200 рублей. Несмотря на долгие переговоры, компания не сторговалась и направилась к выходу. Заметив, что у мужчины что-то зажато в руке, приказчики остановили его и, разжав пальцы, нашли пропавший футляр с серьгами. Вся компания была задержана и передана в руки полиции.
На дознании как мужчина, так и его дамы стали называться разными вымышленными именами, но затем одна молодая женщина открыла, наконец, свое действительное звание, назвавшись мещанкой Констанцией Робак По ее словам, она в тот же день утром приехала вместе со своими знакомыми Валентием Буркевичем и Антониной Гурной из Варшавы исключительно для совершения краж в петербургских магазинах.
Их сопровождала также и известная варшавская воровка Текла Макаревич, которая успела скрыться.
Содержатель и швейцар меблированных комнат на Казанской улице подтвердили, что Макаревич останавливалась в этих комнатах в качестве прислуги при двух дамах в период времени с 25 августа по 2 сентября 1900 года, причем паспорта их не были прописаны в полиции.
Потом Макаревич приезжала с одной дамой и, наконец, 24 октября опять поселилась в меблированных комнатах с двумя дамами и Буркевичем. Последний с этими дамами два раза уходил из номера, а затем, в их отсутствие, в 6 часу вечера к содержателю меблированных комнат явилась вдруг Макаревич, заплатила следуемые за номер деньги и, забрав с собою все вещи, поспешно скрылась. Как видно из справок, она уже много раз судилась за кражи, но на этот раз полиции не удалось ее разыскать.
Глава преступной компании Валентий Буркевич, судя по отметкам на паспорте, успел уже «оперировать» раньше в Москве, Калуге, Курске и Харькове, причем в первом городе он выдавал сопутствовавшую ему Антонину Гурную за свою законную жену.
Не отрицая своего участия в краже бобровых воротников, Констанция Робак в то же время решительно отказалась признать себя виновной в принадлежности к преступной шайке, составившейся для краж.
Буркевич же и Гурная, при окончании предварительного следствия, сознались, что, сговорившись с другими лицами совершить ряд краж, они 24 октября вместе с Робак и Макаревич прибыли в Петербург и дебютировали в магазинах П. И. Лелянова и Митюревой. При этом оказалось, что в момент задержания преступной компании в Гостином дворе Текла Макаревич, заведовавшая сбытом похищенных вещей, стояла на дежурстве у окна магазина Митюревой. Заметив, что дело приняло дурной оборот, она поспешила скрыться.
При кражах Констанция обыкновенно прятала украденные вещи под ротонду. У Антонины же были сшиты для этого специальные юбки с особыми приспособлениями, где можно было незаметно хранить различные предметы.
Все задержанные компаньоны оказались уже лишенными всех особенных прав и преимуществ и неоднократно отбывали наказания за кражи и мошенничества.
Из них Констанция Робак как опасная воровка была выслана в г. Аккерман Бессарабской губернии на четыре года под надзор полиции. Вместе с тем было обнаружено, что и жена Буркевича, Паулина Иеронимова, также была известной воровкой и неоднократно отбывала наказание за кражи, с лишением особенных прав и преимуществ.
Мужья Констанции Робак и Антонины Гурной, в сбою очередь, хорошо известны полиции: первый из них содержался в последнее время в исправительных арестантских отделениях в Воронеже, а второй — в краковской тюрьме.
При обыске у всех компаньонов были найдены более или менее значительные суммы денег, а у Буркевича, кроме того, двое золотых часов с цепочками.
Осенью 1901 года Буркевич с двумя своими сообщницами предстал перед санкт-петербургским окружным судом по обвинению в составлении преступного сообщества, в кражах и самовольном прибытии в Петербург. Дело это слушалось в 3-м уголовном отделении, с участием присяжных заседателей.
Все обвиняемые — на вид представительные люди, и молодые женщины невольно обращали на себя внимание своею миловидностью.
Сам Буркевич, солидный человек, лет 42-х, был похож на зажиточного помещика. Его подруге Антонине минуло 32 года и Констанции — 26 лет.
Буркевич и на суде признал себя виновным в составлении воровской шайки, с угрюмым хладнокровием посматривая на своих волновавшихся сообщниц. Последние, однако, совершенно отказывались от участия в этой шайке, оговаривая друг друга.
По объяснению Констанции, выйдя из тюрьмы, она думала заняться честным трудом и с этой целью приехала в Петербург с Буркевичем и Антониной, которые обещали пристроить ее к месту. Между тем они обманули ее и заставили невольно участвовать в их воровских похождениях.
Из справок видно, что эта подсудимая начала заниматься кражами еще в 14-летнем возрасте.
Со своей стороны, Антонина Гурная старалась взвалить большую часть вины на Констанцию, уверяя, что она еше перед отъездом из Варшавы знала, зачем они едут в Петербург.
Во время судебного заседания демонстрировалась также и хитро сшитая юбка Антонины с огромным потайным карманом. Несмотря на очевидные приспособления ее для воровских целей, обвиняемая пыталась отрицать это, уверяя, что юбка была изготовлена специально для сокрытия беременности.
Подсудимых защищали присяжный поверенный Залеский, Струков и помощник присяжного поверенного Бобрищев-Пушкин. Со стороны гражданского истца, городского головы П. И. Лелянова, выступал присяжный поверенный Ливен. Обвинение поддерживал товарищ прокурора Завадский.
На разрешение присяжных заседателей было поставлено двадцать два вопроса, составление которых потребовало от суда почти пять часов времени.
После продолжительного совещания присяжные заседатели отвергли существование шайки и принадлежность обвиняемых к преступному сообществу и признали Буткевича и Гурную виновными в краже и покушении на нее, а Констанцию Робак — только в самовольном возвращении в столицу.
Резолюцией суда они были приговорены: Буркевич — к отдаче в исправительные арестантские отделения на четыре года, Гурная — к заключению в тюрьму на три года шесть месяцев и Робак — к трем месяцам ареста.
Гражданский иск был признан подлежащим удовлетворению в сумме 425 рублей за похищенные бобровые воротники.
ЗАГАДОЧНЫЙ СЛУЧАЙ
Весной 1900 года присяжным заседателям пришлось, между прочим, рассматривать загадочное дело о крестьянине Федоре Ларионове, обвинявшемся в убийстве жены.
Подсудимый — молодой человек, лет 29, служил истопником в придворно-конюшенном ведомстве.
Около шести лет тому назад он случайно познакомился с крестьянкой Ириной Ивановой. Довольно красивая, молодая женщина, она вскоре же вскружила ему голову; Ларионов увлекся ей, стал искать взаимности, и, наконец, знакомство их закончилось браком. Семейная жизнь их, однако, оказалась неудачной. Жена Ларионова была строптивая женщина, с тяжелым характером и, видимо, вышла замуж только для того, чтобы как-нибудь «пристроиться». Мужа своего она с первых же дней невзлюбила, относилась к нему с заметным презрением и, окрестив его «пермским дураком», беспрестанно заводила с ним ссоры.
— Какой ты муж? От тебя навозом пахнет! Ступить по-людски не умеешь… Впрямь пермский дурак! — озлобленно говорила она.
— Проваливай! — уже с явной ненавистью добавляла она, когда Ларионов, простой, бесхарактерный человек, изъявлял намерение приласкаться к ней.
Бывали случаи, когда такие ссоры обострялись, и сварливая женщина, не обращая внимания на мужа, на целые ночи уходила из дому.
Обиженный муж только вздыхал и отправлялся к кому-нибудь из знакомых поделиться своим горем. Была ли она верной женой — он не мог знать, но зато в прошлом у нее существовало, по-видимому, немало грехов в отношении целомудрия. По крайней мере, еще до знакомства с Ларионовым она успела родить около полдюжины детей, которые все были сплавлены в воспитательный дом.
Как бы ни было, но Ларионов прожил с ней более четырех лет, пока, наконец, не разыгралась странная история.
26 октября 1899 года оба они рано легли спать, и что происходило между ними ночью — осталось тайной. Только на другой день молодая женщина была найдена в своей постели убитой.
Первым заявил об этом сам Ларионов.
— У меня несчастье, жена повесилась! — взволнованно объяснил он утром одному из встретившихся во дворе сослуживцев.
В квартиру его немедленно сбежались соседи и увидели Ларионову неподвижно лежавшей на кровати, со многими ссадинами на теле и с большой трещиной в височной кости. Шея ее была туго затянута веревочной петлей. Тут же, над изголовьем кровати, болтался другой, отрезанный конец веревки, привязанный к гвоздю.
Обстановка, при которой была найдена Ларионова, невольно наводила на мысль об умышленном преступлении, и, действительно, судебно-медицинское освидетельствование трупа подтвердило это предположение. Оказалось, что смерти Ларионовой предварительно предшествовала короткая отчаянная борьба ее с кем-то, следы которой остались у нее на теле в виде ссадин. Получив затем страшный удар по голове чем-то тяжелым, она впала в бессознательное состояние и, по мнению врачей, могла быть еще живая задушена веревочной петлей.
При осмотре довольно заметные ссадины были обнаружены и на теле Ларионова, ввиду чего на него пало подозрение в убийстве жены.
Тем не менее он настаивал первоначально, что покойная жена сама наложила на себя руки, и только после, привлеченный к уголовной ответственности, он сознался в нечаянном убийстве ее.
По его словам, в роковую ночь под 27 октября Ларионова шутила с ним и, стоя на коленях на краю кровати, начала вдруг щекотать его. Он не выдержал щекотки и, отбиваясь от жены, толкнул ее в грудь. От этого толчка она сорвалась навзничь с кровати и ударилась головой об острый угол сундука. Увидев, что жена осталась неподвижно лежать на полу, он бросился к ней на помощь и, к своему ужасу, заметил, что она уже не дышит.
Ларионов говорит, что он страшно перепугался в это время. Что делать? В комнате лежала мертвая жена, с разбитой головой, и его ведь могли бы заподозрить в убийстве. Чтобы выпутаться из грозившей беды, он надумал, наконец, как-нибудь замаскировать разыгравшийся несчастный случай. С этой целью он накинул на шею жены веревку и подвесил ее к гвоздю, а затем через несколько минут перерезал веревку и заявил своим сослуживцам о самоубийстве жены.
При первом разборе этого дела в санкт-петербургском окружном суде присяжные заседатели не поверили объяснению Ларионова и признали его виновным в нанесении жене смертельных повреждений.
Резолюцией суда он был приговорен тогда к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на четыре года.
Осужденный подал кассационную жалобу, и правительствующий Сенат, отменив решение присяжных и приговор, определил передать дело Ларионова снова в тот же суд, для рассмотрения при другом составе присяжных заседателей.
Вторично дело слушалось в конце осени 1900 года. Защищал подсудимого помощник присяжного поверенного Маргулиес, и со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Завадский.
Подсудимый и на этот раз упорно держался своего прежнего объяснения, которое шло вразрез с мнением врачебной экспертизы.
Между прочим, важной уликой против Ларионова экспертиза считала ссадины и синяки прижизненного происхождения на теле покойной жены, а также и его собственные ссадины на руках. В них эксперты находили несомненное доказательство того, что между мужем и женой перед ее смертью происходила отчаянная борьба.
Со своей стороны защита доказывала, что прижизненный характер ссадин и кровоподтеков у Ларионовой более чем сомнителен, так как большинство их не имело кровяных сгустков; у самого же Ларионова ссадины могли произойти и от ожогов, обычных при его службе.
Товарищ прокурора, на основании заключения экспертизы, поддерживал против Ларионова обвинение в убийстве в состоянии запальчивости и раздражения.
Наоборот, защитник М. С. Маргулиес в своей речи указывал на то, что происшедшая в жизни Ларионовых тяжелая драма есть только дело непредвиденного злого рока.
Подсудимый здесь ни при чем, и его чистосердечному сознанию следует верить.
Подвергаясь в течение года тщательным судебным опросам, он ни на одну йоту не изменил своих показаний, и экспертиза ничего существенного не могла в них опровергнуть. Помимо того, одно уже отсутствие мотивов к преступлению есть, без сомнения, серьезное доказательство невиновности Ларионова.
После детального анализа неправильных и односторонних выводов экспертизы защитник выразил надежду, что здравый смысл присяжных заседателей более, чем научные авторитеты, сумеет разобраться в данном деле, и Ларионов выйдет из суда оправданным.
Присяжные заседатели признали Федора Ларионова виновным только в том, что он неосторожно столкнул свою жену с кровати, и когда она впала в обморочное состояние от повреждения головы, то счел мертвой и, чтобы скрыть несчастный случай, затянул ее петлей, от чего и последовала смерть ее.
Ввиду данного Ларионову снисхождения, окружной суд приговорил его лишь к аресту при полиции на два месяца.
ЗВЕРСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В конце зимы 1900 года на Смоленском поле, около Петербурга, был случайно замечен труп мальчика лет четырнадцати. Труп лежал на свалке, недалеко от полотна Николаевской железной дороги, и был почти весь занесен снегом. При медицинском осмотре на голове у мальчика было найдено пять ран с раздроблением черепа. Обе челюсти оказались переломанными, а нижняя губа была рассечена.
На предварительном следствии выяснилось, что несчастный был сын подрядчика Пухова и сделался жертвой зверского преступления. Проживая у отца, Минай Пухов вел крайне предосудительный образ жизни, занимался мелкими кражами и неоднократно исчезал из дому до тех пор, пока полиция не водворяла его обратно к отцу. В конце 1899 года он был задержан за бесписьменность уже в Витебской губернии и был выслан по этапу в Петербург. На этот раз подрядчик Пухов решительно отказался принять сына, и мальчик оказался брошенным на произвол судьбы. Когда после смерти матери Миная отец женился вторично, мальчик поселился у бабушки Ю. Каблановой, проживающей за Невской заставой.
Во второй половине января 1900 года Кабланова послала внука с одной поденщицей, искавшей работы, указать ей квартиру крестьянина Федорова, жившего в Смоленском селе. Мальчик проводил поденщицу до квартиры и затем, оставив ее, пропал без вести.
Спустя некоторое время Кабланова узнала, что исчезнувший мальчик заходил однажды вечером в квартиру запасного рядового И. Лукина и пил там водку. Вскоре после этого к ней наведалась и любовница Лукина, Анисья Иванова, и когда разговор зашел о пропавшем мальчике, гостья проговорилась, что он действительно был недавно у Лукина и последний угощал его водкой. По ее словам, она была недовольна этим и упрекнула любовника — зачем он тратится на угощение всякого встречного.
— Молчи, дура-баба, — ответил на это Лукин. — Минай может нам пригодиться.
Собрав сведения по этому поводу, сыскная полиция заподозрила в убийстве мальчика как самого Лукина, так и' проживавшего у него на квартире семнадцатилетнего парня С. И. Павловского, который не имел определенных занятий и промышлял кражами. Подозрение это подтвердилось, и допрошенный в полиции Павловский признался, наконец, что он знает о последних минутах жизни убитого мальчика. Согласно его объяснению, Минай Пухов встретился с ним в конце января 1900 года в какой-то чайной, и оба они зашли на квартиру Лукина. Последний давно уже питал злобу к мальчику за то, что он оговорил его в совершении одной кражи, но тем не менее не подал никакого вида об этом. Напротив, он очень радушно принял Миная, поднес ему водки, а затем предложил вместе отправиться на Смоленское поле для кражи дров. Мальчик согласился, и все они втроем двинулись в путь. Уходя из дому, Лукин захватил с собой «на всякий случай» и трехфунтовую железную гирю, привязанную к веревке.
Придя в поле, он подал эту гирю Павловскому и решительно сказал:
— Ударь Пухова!
Не желая убивать мальчика, Павловский нарочно промахнулся.
Поняв, в чем дело, испуганный Минай бросился бежать. Выхватив гирю, озверевший Лукин погнался за ним и крикнул вслед:
— Теперь не уйдешь от меня!
Мальчик поскользнулся на обледеневшем снегу и, упав, был настигнут преследователем, который несколькими ударами гири раздробил ему голову.
Возвращаясь домой, убийца под угрозой смерти приказал своему спутнику обо всем хранить молчание.
Вечером в тот же день любовница его спросила Павловского — куда исчез мальчик?
— Не знаю, — ответил он.
— А мне Иван сказал, что вы убили его, — возразила на это Анисья и высказала опасение, что, может быть, мальчика не совсем добили и он оживет.
Сам Лукин при допросе в полиции первоначально отрицал свою виновность, а затем, когда его поставили на очную ставку с Павловским, он сознался в преступлении и подтвердил его рассказ.
На следствии, однако, Лукин совершенно отказался от своего признания.
Анисья Иванова также не призналась в укрывательстве преступления и оправдывалась тем, что она будто бы узнала об убийстве мальчика только лишь в сыскной полиции.
Дознанием по этому делу было установлено, что в 1899 году, летом, Минай Пухов был задержан полицией по подозрению в одной краже и выдал всех участников этой кражи, в том числе и Лукина. Когда после этого вся преступная компания была препровождена в Александро-Невскую часть, то выданные Пуховым воры жестоко избили его, и только Лукин не принимал в этом участия, выразившись, что он доносчику «подкинет на воле».
Лукин и его компаньоны по преступлению были привлечены к уголовной ответственности и весной 1891 года предстали перед санкт-петербургским окружным судом.
Председательствовал С. В. Карчевский. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора А. А. Горемыкин. Защищали подсудимых присяжный поверенный Плансон (Анисью Иванову) и Гейдатель (Ивана Лукина).
Свидетелей было вызвано свыше двадцати человек.
Обвиняемые держались на суде спокойно и с апатичным видом прислушивались к свидетельским показаниям.
Старший из них — Иван Лукин, тридцати семи лет, с хладнокровным, жестким выражением лица, обрамленного небольшой русой бородкой.
Павловский представлял собою обычный тип фабричного молодого парня, хорошо знакомого со столичными соблазнами. Одно время он работал на Невском судостроительном заводе, но затем оставил службу и перешел на квартиру к Лукину. Кроме убийства мальчика, он обвинялся еще и в краже со взломом.
Третья подсудимая — Анисья Иванова — женщина лет за тридцать, с острыми чертами лица. С Лукиным она уже давно сошлась и имела от него четырех детей.
На вопрос председательствовавшего С. И. Павловский подтвердил свое объяснение относительно убийства мальчика; остальные же двое подсудимых решительно отказались признать свою виновность.
Свидетельские показания, в общем, были неблагоприятны для Лукина. По словам знавших его лиц, он очень вредно влиял на окружавшую его молодежь и считался руководителем многих мелких краж. Занимаясь хищением чужого имущества, он не брезговал в то же время прибегать и к шулерству, обыгрывая попадавшихся на его удочку простаков.
Особенно интересным явилось показание крестьянки Каблановой — бабушки убитого мальчика.
По ее словам, исчезнувший внук еще до обнаружения преступления привиделся ей во сне и сказал: «Бабушка, молись не за здравие, а за упокой, — я у Лукина убит и в мусор зарыт». Этот странный сон вскоре еще раз повторился.
К ее ужасу, вещий сон не замедлил подтвердиться, и несчастный мальчик действительно был найден убитым.
Со своим отцом мальчик вообще не ладил, и несладко ему жилось в семье. По показанию одной свидетельницы, мачеха мальчика как-то говорила даже: «Не найдется ли мазурик, который бы за пятьдесят рублей убил Миная?» Недолюбливая пасынка, она нередко отказывала ему в куске хлеба, а отец жестоко бил его.
После продолжительного совещания присяжные заседатели, оправдав Анисью Иванову, признали остальных двух подсудимых виновными в убийстве мальчика, без предварительного соглашения, и заслуживающими снисхождения. Кроме того, Павловский был признан виновным и в одной краже со взломом.
Резолюцией суда они были приговорены к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы: Иван Лукин — на пятнадцать лет и Сергей Павловский — на шесть лет и восемь месяцев.
ПОДДЕЛКА АККРЕДИТИВОВ
В 1900 году, летом, банкирский дом Вавельберга в Петербурге получил из-за границы извещение об уплате по его аккредитивам берлинским банкирским домом Мендельсона и К0 и германским банком 40 000 марок какой-то Ольге Барановой.
По проверке книг оказалось, что никакого счета на имя Барановой в конторе Вавельберга не было, и, следовательно, предъявленные за границей аккредитивы были подложные. Подозрение в преступлении пало на служившего у Вавельберга брауншвейгского подданного Густава Лихтенштейна, который вел аккредитивную корреспонденцию, и бланки аккредитивных писем при отсылке за границу проходили через его руки.
Получая в месяц 100 рублей жалованья, он вел сравнительно широкую жизнь, играл в клубах, понаделал долгов, и зимой 1899 года, по иску портного, на его жалованье был даже наложен арест.
В начале 1900 года Лихтенштейн познакомился с француженкой Юлией-Марией Жаке и вступил с нею в близкие отношения.
Француженка в это время не имела определенных занятий и, квартируя в меблированных комнатах, жила, по-видимому, на средства Лихтенштейна. Тем не менее она нуждалась в деньгах и, занимая однажды 5 рублей у артистки «Альказара» Арлеты Альмес, откровенно призналась, что ей нечего есть. Наконец, она принуждена была обратиться за помощью во французское посольство и благотворительное общество. Ей выдали 25 рублей для уплаты за квартиру и билет 3-го класса до Парижа. Однако француженка, бывшая беременной, продала кому-то этот билет, объяснив артистке Альмес и содержательнице комнат Жолнирович, что ей нужно ехать не в Париж, а в Берлин для получения денег Лихтенштейна.
Сам же Лихтенштейн говорил своим знакомым, что Жаке собирается ехать из Петербурга в провинцию на место гувернантки.
В мае 1900 года Густав Лихтенштейн уволился из конторы Вавельберга, а 14 июня француженка выехала за границу, предупредив Альмес, что вышлет на ее имя 500 рублей для Лихтенштейна.
Через два дня после этого в Бреславский учетный банк, в Берлине, явилась дама лет тридцати, прекрасно говорившая по-французски, и, назвавшись Ольгой Барановой, предъявила к оплате аккредитив банкирской конторы Вавельберга от 2 июня на 25 000 марок.
Усомнившись в подлинности аккредитива, директор банка отказался выдать деньги. Но банкирский дом Мендельсона и К0 и германский банк поддались обману и выплатили по аккредитивам 25 000 и 15 000 марок.
В тот же день незнакомка просила банкирский дом Дельбрак, Лео и К0 в Берлине перевести по телеграфу 500 рублей в Петербург на имя Арлеты Альмес.
16 июня артистка Альмес получила в Петербурге срочную телеграмму из Берлина о переводе на ее имя 500 рублей. Артистка отправилась в контору «Лионского кредита» с Лихтенштейном, но последний в контору не вошел, а ожидал ее в кондитерской на Невском проспекте.
Получив от Альмес 500 рублей, Лихтенштейн выхлопотал заграничный паспорт, но побег за границу не удался, и 20 июня он был арестован.
На его квартире при обыске были найдены несколько циркуляров банкирского дома Вавельберга на французском, датском и немецком языках, с подлинными подписями совладельцев дома I. Берсона и И. Шебеко, а также следующая срочная телеграмма из Берлина от 16 июня: «Принимаем предложение, приезжайте немедленно. Перман».
Сначала Лихтенштейн объяснил, что телеграмма эта была прислана неким Перманом, к которому он должен был поступить на службу, но потом признался, что телеграмму прислала Жаке, дабы он мог скорее получить заграничный паспорт.
Привлеченный к ответственности, Густав Лихтенштейн не признал себя виновным в подлоге аккредитивов. По его словам, Юлия Жаке забеременела от какого-то высокопоставленного лица и выехала в Берлин, где один принц обещался уплатить ей около 4 000 марок. Так как Лихтенштейн, по его объяснению, желал в то время отправиться на парижскую выставку, то Жаке предложила ему 500 рублей на дорогу и выслала их через знакомую артистку. Найденные же у него циркуляры банкирского дома Вавельберга он будто бы взял без всякого преступного замысла, желая иметь лишь образец циркулярного извещения.
Несмотря на все принятые сыскной полицией меры, француженка Юлия Жаке осталась неразысканной.
В 1901 году 29 ноября Лихтенштейн фигурировал уже в санкт-петербургском окружном суде.
Защищал его присяжный поверенный Марголин, а со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Бибиков.
Подсудимый — молодой человек лет 35-ти, с резкими чертами худощавого лица.
По-русски он ничего не говорил и давал свои объяснения через переводчика на французском языке.
Не признавая себя виновным, он поддерживал свое первоначальное показание.
На судебном следствии выяснилось, между прочим, что Лихтенштейну было поручено однажды переслать во Французский национальный банк несколько аккредитивных бланков и образцы подписей лиц, заведовавших банкирским домом Вавельберга. Бланки эти были получены Французским банком, но в пакете не оказалось образцов подписей, неизвестно где исчезнувших.
Порядок выдачи заграничных аккредитивов был настолько примитивен в конторе Вавельберга, что служащие сами критиковали его, находя возможным получение денег за границей по аккредитиву путем обмана.
Когда ловкая проделка таинственной незнакомки в Берлине стала известна, служащие конторы Вавельберга были уверены, что в данное дело замешался кто-нибудь из их среды.
По справкам оказалось, что перед отъездом Жаке за границу Лихтенштейн сам написал телеграмму от имени Перма.
Исчезнувшая Юлия Жаке одно время подвизалась у Омона, в Москве, на открытой сцене, а затем, перекочевав в Петербург, сделалась постоянной посетительницей «Альказара».
Чем она занималась в Петербурге — остается тайной. Известно только, что она незадолго до отъезда за границу жаловалась знакомым на свою беременность и говорила, что сама не знает, кто был отцом ее ребенка.
Товарищ прокурора нашел, что история о каком-то высокопоставленном лице и принце — не более как мифическая сказка из «Тысячи и одной ночи», и настаивал на обвинении Лихтенштейна.
С своей стороны, присяжный поверенный С. П. Марголин указал суду на редкую особенность данного процесса: в нем нет главного виновника. Сомневаясь, действительно ли была берлинская незнакомка Юлией Жаке, защитник признавал, что она, наконец, могла состоять в преступной компании с совершенно другим лицом, а не с подсудимым, против которого нет ни одной прямой улики.
Лихтенштейн в своем последнем слове заявил, что он лишь случайная жертва несчастно сложившихся обстоятельств.
Ознакомившись с обстоятельствами преступления, присяжные заседатели вынесли ему обвинительный вердикт и дали снисхождение.
Резолюцией суда Август Лихтенштейн был приговорен к лишению всех особенных прав и преимуществ и к заключению в тюрьму на один год.
ОБМАН ЖЕНЫ
Летом 1899 года один из адвокатов проездом в Петербург случайно познакомился в вагоне с молодой девушкой — воспитанницей московского института. Пассажирка назвалась дворянкой Марией Масловой и, узнав, что он — юрист, попросила у него на всякий случай визитную карточку. Через несколько дней она навестила адвоката и объяснила, что ей крайне нужен юридический совет по одному уголовному делу.
По ее словам, проживавший в Петербурге ее дядя дантист Крамер вызвал ее из Москвы к себе, и она поселилась в его семье.
Однажды он просил ее оказать ему большую услугу и сообщил, что жена его чувствует себя очень больной и не может выходить из дома, между тем как ей необходимо подписать у нотариуса одну деловую бумагу.
Уступая просьбам дяди, девушка зашла вместе с ним в нотариальную контору и подписалась на каком-то документе именем и фамилией своей тетки.
Но когда Крамер начал упрашивать ее никому не говорить об этом, то у девушки зародилось сомнение — хорошо ли она сделала, согласившись на просьбу родственника?
Адвокат посоветовал ей рассказать обо всем родным.
Вернувшись в Москву, Маслова переговорила с своим двоюродным братом. Последний догадался, что Крамер намеревается присвоить себе капитал жены, положенный ею на хранение в государственный банк, и немедленно известил об этом тетку.
Госпожа Крамер обратилась за разъяснением в государственный банк и, к своему удивлению, узнала, что деньги ее, в сумме 7 250 рублей, будут полностью удержаны по исполнительному листу санкт-петербургского коммерческого суда. Только тогда госпожа Крамер догадалась о мошеннической проделке и обратилась с заявлением к прокурору окружного суда.
Предварительным следствием было обнаружено, что 5 августа в контору нотариуса Анисимова явился дантист Крамер в сопровождении молодой дамы и, выдавая последнюю за свою жену, просил написать от ее имени доверенность. Ему выдали эту доверенность, и молодая дама всюду, где нужно было, расписалась Анной Крамер.
17 августа оба они снова пришли в нотариальную контору, и Крамер принес для засвидетельствования заявление от имени жены о признании ею какого-то иска правильным. Молодая спутница по-прежнему назвалась его женой, и ходатайство Крамера было удовлетворено.
В тот же день в санкт-петербургский коммерческий суд от племянника Крамера доктора Владимира Фалька поступило прошение о взыскании с Анны Крамер 15 000 рублей по представленному им векселю. Вексель этот оказался выданным Фальку Крамером будто бы по доверенности жены. Перед рассмотрением прошения Фалька в суд было доставлено и заявление от Анны Крамер о том, что она признает иск по векселю. Коммерческий суд определил взыскать с нее в пользу Фалька 15 000 рублей с процентами и судебными издержками.
В первых числах сентября Крамер взял у жены под каким-то предлогом выданную ей из государственного банка сохранную расписку, и она, вместе с исполнительным листом по иску Фалька, была представлена в государственный банк для получения вклада Анны Крамер. Когда же последняя заявила прокурору о противозаконных действиях мужа, то доктор Фальк поспешил прекратить взыскание по своему векселю.
На допросе госпожа Крамер удостоверила, что она ни доверенности мужу, ни заявления никогда не выдавала и все ее подписи на этих бумагах являются подложными.
Привлеченная в качестве обвиняемой дворянка Маслова оправдывалась тем, что она подписывалась за тетку только по неведению и не желая огорчать любившего ее дядю отказом. Что она подписывала — Крамер не говорил ей, ссылаясь на то, что она ничего не понимает в деловых бумагах.
В свою очередь, дантист заявил на следствии, что лет пять тому назад он познакомился с Анной Кацан. После его настойчивых просьб девушка согласилась выйти за него замуж, но предварительно поставила условие, чтобы он внес на ее имя в государственный банк известную сумму денег. Вклад этот она обещала возвратить ему на другой или третий день после свадьбы. Крамер согласился исполнить ее желание. Однако прошло некоторое время, они стали мужем и женой, а он все еще никак не мог получить свои деньги из банка.
Вскоре он убедился, что жена нисколько не любит его и намеревается расстаться с ним. Поэтому он решился получить обратно свой вклад, выдал с этой целью племяннику фиктивный вексель для предъявления ко взысканию и уговорил племянницу подписаться на некоторых бумагах за жену. Чтобы чем-нибудь вознаградить племянника за услугу, он дал ему взаймы 500 рублей.
Доктор Фальк не признал себя виновным и объяснил, что 13 августа он был вызван дядей из Москвы под предлогом определения его на должность военного врача в Петербурге. Когда он приехал к Крамеру, то тот отправился с ним в нотариальную контору и попросил его взять вексель на 15 000 рублей, написанный на его имя. Фальк изумился, прочитав, что вексель выдается теткой, и заметил дантисту, что она ему ни копейки не должна.
— Да ты ничего не понимаешь в финансовых операциях, — в ответ на это сказал Крамер. — Неужели ты не доверяешь своему дяде, от которого никогда ничего худого не видал.
Доводы эти были убедительны для Фалька, и он начал действовать по указаниям родственника.
При дальнейшем дознании выяснилось также, что дантист просил однажды у своей знакомой госпожи Мазуровской разрешения написать на ее имя сохранную расписку на билеты, подаренные им жене, с тем, чтобы госпожа Мазуровская потребовала от него эти билеты обратно и взяла их из государственного банка. Тем не менее, несмотря на обещанное вознаграждение в 500 рублей, она не согласилась на предложение Крамера.
Жена дантиста, вопреки его заявлению, настаивала, что хранящийся в банке капитал составляет ее неотъемлемую собственность и был передан ей Крамером в виде свадебного подарка. Без этого обеспечения она и не вышла бы за него замуж, так как чувствовала к нему антипатию. Уже вскоре после свадьбы он стал грубо обращаться с ней и потребовал свой подарок обратно. Когда она наотрез отказалась исполнить его требование, к мужу приехали племянник и племянница, и он начал вести с ними таинственные переговоры.
Осенью 1901 года дело это слушалось в санкт-петербургском окружном суде, с участием присяжных заседателей.
Защищали подсудимых: С. Крамера — присяжный поверенный Базунов и М. Маслову — присяжный поверенный Нестор. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Зиберт.
Все обвиняемые производили благоприятное впечатление своим внешним интеллигентным видом. Из них сильно волновался только Крамер, дававший свои объяснения подавленным, тихим голосом. Встреча на суде с женой, донесшей на него прокурору и являвшейся главной свидетельницей по этому делу, видимо, действовала на него самым угнетающим образом.
Владимир Фальк, одетый в мундир военного врача, и Мария Маслова, симпатичная молодая женщина, недавно вышедшая замуж, держались вполне спокойно и в своих показаниях обрисовывали дядю с самой хорошей стороны.
По их словам, он очень любил свою родню и при всяком удобном случае охотно помогал деньгами.
Свой противозаконный поступок Крамер объяснил неудачно сложившимися для него семейными обстоятельствами. Жена явно не любила его и обнаруживала к нему пренебрежение, но это, однако, не помешало ей всецело присвоить себе деньги, которые он перед свадьбой дал ей для обеспечения их. будущей совместной жизни. Когда ему потребовались деньги, она наотрез отказалась дать их, пользуясь тем, что они были положены в банк на ее имя.
Потеряв надежду добром получить свой капитал, он обратился за советом к знакомому юристу, и тот будто бы посоветовал ему обманным способом добиться возвращения денег.
— Позвольте, какой же это юрист мог посоветовать вам такие вещи?! — прервал подсудимого председательствующий. — Быть может, это не юрист?
— Нет, он юрист и состоит на государственной службе.
— Но кто же он такой? Откройте нам имя его.
— Я не могу этого сделать, — смущенно ответил Крамер.
Жена его — красивая, молодая женщина — говорила, что еще до свадьбы знала Крамера как беспринципного человека со многими некрасивыми поступками, у которого слова далеко расходились с делом. Не чувствуя к нему любви, она долго не соглашалась на брак, и свадьба их состоялась лишь летом 1899 года, да и только потому, что Крамер согласился обеспечить ее вкладом в банк на ее имя свыше 7 000 рублей. Выходя за него замуж, она надеялась его облагородить своим женским влиянием, но надежды ее не оправдались. Муж в первые же дни после свадьбы потребовал от нее возвращения его денег и, потерпев неудачу, стал грубо обращаться с ней.
На суде выяснилось, что и ей не в пользу послужили деньги мужа. Отданный в государственный банк на хранение, капитал заключался в акциях и выигрышных билетах, по номинальной оценке на сумму до 7 300 рублей. Взяв обратно эти бумаги, жена Крамера реализировала их и, выручив около 15 000 рублей, открыла аптекарский магазин. Дела магазина пошли из рук вон плохо, и в результате от капитала обвиняемого осталось только одно приятное воспоминание. После этого жена опять сошлась с мужем, тем более, что у них был ребенок, и потому она желала прекратить уголовное преследование против мужа, но было уже поздно.
На суде она заявила, что ничего не имеет против мужа, и просила присяжных заседателей простить его.
Товарищ прокурора в своей речи совершенно отказался от обвинения Масловой, поддерживая его главным образом против Крамера и отчасти против его племянника, который, по его мнению, не мог не знать о преступных замыслах дяди.
Защита, с своей стороны, ходатайствовала об оправдании всех подсудимых и в отношении Крамера сослалась на те обстоятельства, что все данное дело возникло исключительно на почве ненормальных семейных отношений и от проступка Крамера нисколько не пострадали общественные интересы.
После краткого совещания присяжные заседатели вынесли всем трем подсудимым оправдательный вердикт.
РЕДКИЙ ПРОЦЕСС
В конце 1889 года, при введении в Лифляндской губернии положения о преобразовании крестьянских присутственных мест, секретарь Курляндского губернского акцизного управления Иосиф Коссацкий был командирован для исполнения обязанностей комиссара по крестьянским делам в Аренсбургский уезд.
В это время началось соединение мелких крестьянских волостных обществ в более крупные. Вновь образованные волости, по предложению Коссацкого, стали строить дома для волостных правлений и судов. Когда волостные дома были построены, то Коссацкий принял на себя обязанность закупки и поставки, конечно, за счет волостей, всех предметов устройства и меблировки этих домов. Между прочим, он приказал устроить при каждом волостном правлении комнату, в которой могли бы останавливаться и, в случае надобности, ночевать приезжающие должностные лица. Комнаты эти были снабжены кроватью, умывальником, зеркалом и другой необходимой для проживания в них мебелью. Снабжение волостных правлений предметами обстановки было проведено Коссацким в период времени с 1892 года по 15 октября 1896 год. Все было устроено, по-видимому, прилично, и Коссацкий получил благодарность за «блестящее» устройство волостей по новому распределению.
В 1896 году Коссацкий был назначен начальником Эзельского уезда, и его заменил комиссар по крестьянским делам Бабанов, который вскоре донес лифляндскому губернатору генерал-майору Суровцеву, что Коссацкий при снабжении волостей предметами обстановки, очевидно, присвоил себе и растратил значительные суммы волостных денег. Ввиду такого заявления по этому делу было проведено административное расследование, выяснившее, что Коссацким было растрачено общественных денег около 3 000 рублей.
Далее обнаружилось, что ни одно волостное общество не давало ему полномочий на приобретение обстановки для волостных домов и он чуть ли не насильно заставлял брать покупаемые им вещи.
Обыкновенно он говорил: «Вы обязаны принять вещи и уплатить деньги». Никто не осмеливался ослушаться его, тем более что он был всем известен как очень строгий начальник, не терпел возражений и угрожал за непослушание арестом или удалением от должности. За малейшую ошибку он строго наказывал. Требуя от подчиненных ему должностных лиц беспрекословного повиновения и исполнения приказаний, Коссацкий не только ругал осмелившихся не соглашаться с ним всевозможными бранными словами, но и налагал на них штрафы. Провинившихся он вызывал иногда телеграммою за их собственный счет или за счет волости в Аренсбург и сажал под арест.
Наконец, когда Коссацкий присутствовал на сходе выборных, то он никому не давал говорить, грозя кулаком и арестом.
Все трепетали перед Коссацким, и никто не смел жаловаться на него высшему начальству. Люди охали, вздыхали про себя, что «видно Бог послал им притеснителя», и платили требуемые суммы.
Во всех действиях Коссацкого по поставке вещей волостным правлениям видна была одна главная цель — извлечь из каждой операции для себя возможно большую денежную выгоду, иначе говоря — присвоить себе по возможности больше волостных денег. Этой цели он достигал двояким образом: 1) покупал на счет волостей в магазинах разные вещи лично для себя и 2) брал с волостей за купленные предметы больше, чем сам платил за эти предметы торговцам.
В следствии по делу о растрате судебным следователем была затребована от губернского правления копия формулярного списка о службе Коссацкого. В этом списке, между прочим, значилось, что Коссацкий по окончании полного курса в классической гимназии и затем в таксаторских межевых классах поступил на государственную службу 18 февраля 1872 года помощником производителя люстрационных работ в Виленской губернии. При допросе же Коссацкого в качестве обвиняемого следователь из разговора с ним вынес убеждение, что он человек малообразованный и познания его исключают всякую возможность допущения, что он окончил курс в классической гимназии или вообще получил среднее образование. Так как из формулярного списка не было видно, какую именно гимназию и межевые классы Коссацкий окончил, то Васильев предложил ему указать, в какой гимназии он получил образование. Этот вопрос застиг Коссацкого врасплох. Он сильно смутился и затем стал изворачиваться. Следователь повторил этот вопрос настоятельно еще несколько раз, но Коссацкий так и не дал на него определенного ответа. Тогда следователь уже помимо Коссацкого стал собирать сведения о его личности, и результат получился совершенно неожиданный.
Оказалось, что его мать, дочь кузнеца, была крепостной графа Балицкого, владельца имения Озера, Гродненской губернии, и осталась после смерти мужа с двумя малолетними сыновьями, из которых старший был Иосиф. Не имея никаких средств к существованию, она служила кухаркой у разных лиц и, между прочим, при гродненской богадельне. В ту же богадельню она впоследствии поступила в качестве призреваемой и, наконец, 1 августа 1897 года умерла в гродненской окружной больнице. Иосиф Коссацкий сначала воспитывался при матери, а потом, по просьбе последней, бывший директор гродненской гимназии Болванович взял его к себе в «лакейчики». Тот же Болванович поместил Коссацкого в гимназию, но затем Коссацкий украл у него золотые часы и был исключен из первого класса гимназии.
После этого он поступил кучером к гродненскому землемеру Яновичу. Кроме кучерских обязанностей, он исполнял и другие простые работы по хозяйству: бороновал поле, был на посылках разного рода. Заметив, что Коссацкий — способный мальчик, Янович стал его приучать к межевому делу и брал с собою на землемерные работы. В марте 1865 года Коссацкий подал инспектору межевания казенных земель прошение о приеме его в корпус межевщиков ведомства государственных имуществ и был зачислен учеником в этот корпус. Однако уже в 1867 году он был уволен со службы по неспособности к межевому делу. Будучи возвращен на казенный счет в Гродно, он стал заниматься частной практикой межевого дела, выдавал себя за землемера и брал с крестьян деньги, ложно обещая нарезать им землю.
3 июля 1870 года временным отделом министерства государственных имуществ по поземельному устройству государственных крестьян Коссацкий определен был на службу межевым учеником в состав межевых чинов Гродненской губернии и командирован в распоряжение производителя люстрационных работ в Белостокский уезд. В составленном в июле того же года формулярном списке о службе Коссацкого значится, что он получил домашнее воспитание и частно занимался практикой по межевой части. В 1871 году он был назначен исправляющим должность межевщика и затем переведен для занятий межевыми работами в Вильну. С 11 января по 28 февраля 1874 года Коссацкий находился в отпуске в Петербурге, и в это время департамент общих дел государственных имуществ затребовал от старшего производителя люстрационных работ в Виленской губернии полный формулярный список Коссацкого. Требование это было получено 10 марта, а 11 марта Коссацкий представил уже свидетельство, выданное Сокольским уездным училищем, о знании Коссацким полного курса уездного училища. Свидетельство это, как выяснилось после, было подложное, так как Коссацкий никогда при сокольском училище испытанию не подвергался. На основании представленных сведений об образовании Коссацкий был произведен в первый классный чин, а в 1876 году за выслугу лет в чин губернского секретаря.
В том же году он оставил свою службу по министерству государственных имуществ ввиду того, что успел приобрести обманным путем 8 домов в местечке Друскениках, приносивших около 3 000 рублей годового дохода. Дома эти принадлежали его двоюродному дяде Иерониму Коссацкому и после смерти его перешли к родному брату последнего, Ивану Коссацкому, страдавшему запоем. Пользуясь этой слабостью Ивана Коссацкого, Иосиф Коссацкий уверил его, что покойный Иероним Коссацкий остался должен разным лицам около 35 000 рублей. Под предлогом спасти от продажи как наследственные дома в Друскениках, так и принадлежавшее самому Ивану Коссацкому имение Эйсымонты-Надтобольские, Иосиф Коссацкий убедил дядю выдать ему купчую крепость на те 8 домов и закладную в 10 000 рублей на имение. Иван Коссацкий согласился на это, и тогда ловкий племянник выпросил у него еще 3 000 рублей и, кроме того, 2 000 рублей у его дочери под предлогом устройства домов в Друскениках. После этого он сделался полным хозяином всего имущества дяди, и последний, догадавшись наконец, какую штуку сыграл с ним племянник, возбудил против него уголовное преследование по обвинению в мошенничестве. Закладная на имение Эйсымонты-Надтобольские впоследствии гражданским судом была признана недействительной, но дома в Друскениках так и остались собственностью Иосифа Коссацкого, пока, наконец, в 1887 году не были проданы с публичного торга за его долги, общая сумма которых к тому времени равнялась 21 782 рублям.
Не стесняясь в средствах для добывания денег, Коссацкий любил пожить на широкую ногу, часто кутил и выписывал целыми бочками заграничные вина. Родным и знакомым он был известен за кутилу, фата и вообще недобросовестного человека, который занимал деньги в долг и никогда не отдавал их. С крестьянами деревни Эйсымонты он уговорился вести их судебное дело о пастбище и взял с них вперед за ведение дела 500 рублей; однако дела не вел и денег не возвратил. Заняв у бывшего мирового посредника Резвякова 2 500 рублей под поручительство землемера Антона Церебилко, Коссацкий не уплатил этого долга, так что поручителю Церебилко пришлось уплачивать таковой в течение нескольких лет по частям. Нуждаясь, по-видимому, постоянно в деньгах, Коссацкий путем обманных действий избегал уплаты за купленные в лавках товары. Так, он, купив у одной неграмотной еврейки шторы, выдал ей под видом долговой расписки подписанное им самим удостоверение, что деньги за шторы уплачены сполна. При недостатке денег для уплаты извозчику он нанимал лучшего извозчика и затем скрывался от него чрез проходной двор. Несколько раз были возбуждаемы против него дела за обман и мошенничество, но ему все как-то удавалось выходить сухим из воды. Постоянно его преследовали кредиторы, и он выдумывал разные уловки, чтобы скрываться от них. Иногда кредиторы преследовали его и на вокзале железной дороги, но в таких случаях он выдавал себя за своего брата Александра и уходил от них.
Еще во время своей службы по ведомству министерства государственных имуществ Коссацкий познакомился в Гродно с мещанкой Валерией Орловской, имевшей мастерскую модных платьев, и в конце 1872 года вступил в сожительство с нею. От этого сожительства Орловская прижила трех детей, и при крещении первых двух детей Коссацкий выдал их за своих законных детей, а последнего ребенка, по соглашению с своим братом Александром, велел записать в церковные книги как сына последнего и его жены Елизаветы Васильевой.
Во второй половине 1876 года Коссацкий заказал у ювелира серебряный знак отличия «24 ноября 1866 года», высочайше учрежденный для награждения лиц, принимавших участие в трудах по поземельному устройству государственных крестьян, и стал носить его. На самом же деле никакого знака отличия ему пожаловано тогда не было.
Не расходясь окончательно с Валерией Орловской, Коссацкий летом 1880 года познакомился в Друскениках с дочерью преподавателя полоцкого кадетского корпуса Зейна, Элеонорой, которой он был известен как местный домовладелец и инженер. Он сделал ей предложение и обвенчался 25 января 1881 года. Все это время Коссацкий носил установленный для инженеров знак, выдавал себя перед всеми родственниками и знакомыми невесты за инженера и при вступлении в брак велел записать себя в церковные книги инженером.
Осенью 1881 года Коссацкий подал богородскому уездному предводителю дворянства заявление о желании баллотироваться в участковые мировые судьи. К этому заявлению были приложены удостоверение исправника о принадлежности ему 8 домов и подложное удостоверение старшего производителя инженерных работ о его звании, возрасте, вероисповедании, образовании и семейном положении. В этом удостоверении было сказано, между прочим, что Коссацкий окончил курс наук в Институте инженеров путей сообщения со званием гражданского инженера и состоит ныне на службе по министерству государственных имуществ. На основании этих документов Коссацкий был допущен к баллотировке на очередном собрании и получил 19 голосов из 37 гласных, участвовавших в собрании. Ввиду этого он определением правительствующего Сената был утвержден в должности участкового мирового судьи и назначен в 1-й участок Богородского уезда Московской губернии. Через год, однако, богородский съезд мировых судей потребовал от Коссацкого представления формулярного списка о его прежней службе, и, встревоженный этим, он подал прошение об отставке.
Во время службы в должности мирового судьи он однажды вместе с женою поехал в Богородск и остановился у частного поверенного Островицкого. Тут у жены Коссацкого была похищена тысяча рублей, и Коссацкий заподозрил в этой краже служанку. Позвав ее в отдельную комнату, он стал допытываться у нее признания в краже и возвращения денег. Прислуга уверяла, что она денег не брала, и это разозлило Коссацкого до такой степени, что он начал бить ее, а затем схватил со стола нож. Размахивая им, он поранил служанку в руку, и против него было возбуждено уголовное преследование.
Кроме того, Коссацкий обвинялся также и в мошенничестве, присвоении чужих денег, растрате и прочем, цо дела эти обыкновенно прекращались за примирением сторон или же по недостатку улик.
После увольнения от должности мирового судьи Коссацкий по рекомендации одной дамы поступил правителем дел в управление казенной жабинкопинской железной дороги, но через год был уволен от службы без прошения как личность сомнительная. Во время своей службы при железной дороге он именовал себя инженером, хотя никаких документов в подтверждение этого обстоятельства не представил.
10 мая 1886 года Коссацкий подал управляющему акцизными сборами Курляндской губернии прошение о принятии его на службу по акцизному ведомству и был определен сверхштатным чиновником курляндского акцизного управления. При прошении Коссацкий представил и засвидетельствованную нотариусом копию подложного аттестата о прежней своей службе, в котором значилось, что он окончил полный курс в классической гимназии и получил специальное образование в таксаторских межевых классах. Потом оказалось, что таких классов в России никогда не существовало.
При курляндском акцизном управлении Коссацкий был сначала помощником секретаря, а потом секретарем и получил назначение на должность комиссара по крестьянским делам. При введении судебной реформы в Прибалтийских губерниях Коссацкий подал председателю туккумотальсенского съезда мировых судей прошение о назначении его секретарем съезда, но прошение это уважено не было. Во время своей службы он постоянно получал высшие чины за выслугу лет и в 1898 году был произведен в надворные советники.
Несмотря на все свои разнообразные похождения, Коссацкий все-таки своей бывшей сожительницы и ее детей не бросал и постоянно снабжал их разными подложными документами. В этих документах он именовал Орловскую то своей женой, то вдовою не существовавшего никогда землемера Коссацкого. Под последней фамилией Орловская в последнее время проживала в Риге, а сын ее служил под фамилией Коссацкого писцом в канцелярии 2-го уголовного отделения рижского окружного суда.
В конце концов, самозванство Иосифа Коссацкого разоблачилось, и он предстал в качестве обвиняемого перед санкт-петербургской судебной палатой.
Дело это слушалось в г. Риге осенью 1901 года и привлекло многочисленную публику.
Подсудимый — высокий, пожилой человек, с проседью — сознался только в подделке документов.
По словам свидетельницы В. Орловской, она вступила в любовную связь с Коссацким в 1872 году.
— Мы жили с ним вместе, в одной квартире, — объяснила она. — Заработки были малые; мы очень нуждались, хотя я и не гнушалась никакой черной работы. Первые двое детей были записаны в метрические книги как законные наши дети, причем я именовалась законной женой. Я хранила у себя печати и бланки разного рода, которыми Коссацкий пользовался для различных целей. Потом бланки я сожгла, а печати передала ему. Он выдавал фальшивые документы мне и нашим детям. Затем он женился и прислал мне из Богородска удостоверение, подписанное им, как мировым судьей, с его судейской печатью, о том, что будто бы я его законная жена. В 1887 году я без ведома Коссацкого переехала в Ригу для помещения детей в приюты и учебные заведения. Ввиду необходимости прописки в полиции вида на жительство, которого я не имела, я уведомила Коссацкого письмом о своем затруднительном положении, и он вручил мне четыре документа: один на имя вдовы землемера Николая
Коссацкого и три свидетельства, где удостоверялось, что наши дети произошли от какого-то землемера.
— Вот я и сделал вам виды, — сказал он при этом.
— Да ведь бумаги не настоящие! — боязливо заметила я.
— Молчи, иначе нельзя, — возразил он. — Сиди смирно. Называй себя вдовой. Никто спрашивать не будет, и все будет хорошо.
Уходя из квартиры перед отъездом в Митаву, он еще раз повторил: «Сиди смирно. Мне лучше будет и тебе тоже».
Не видя никакого исхода из своего положения, я прописывалась по подложным видам и своих детей поместила сначала в Мариинский приют, а затем и в учебные заведения.
Товарищ прокурора. Почему же вы не заявляли о преступлениях Коссацкого?
В. Орловская. Я была в постоянном страхе, и у меня не раз являлось желание пойти к губернатору и заявить обо всем. Однажды я сказала об этом и Коссацкому. Он ответил: «Если скажешь, я застрелюсь, а ты будешь нищая, да еще с подложными документами».
Интересно было также показание владельца Аренсбургской банкирской конторы, г. Papa.
Свидетель вел денежные дела с Коссацким приблизительно около пяти лет. Первоначально Коссацкий обратился в банкирскую контору с просьбой одолжить ему денег для поездки в Ригу. Так как он оказался исправным плательщиком, то г. Рар охотно вел с ним дальнейшие денежные дела. Деньги в контору вносились разными волостями на имя Коссацкого, но своего личного счета он не имел. Дела велись на большие суммы. Свидетель делал переводы денег на разные рижские магазины по просьбе Кассацкого и выдавал самому Коссацкому более или менее значительные денежные суммы. Деньги же эти погашались теми суммами, которые по приказанию Коссацкого различные волости вносили в банкирскую контору.
Переводя по указанию Коссацкого платежи разным лицам, банкир не имел никаких сведений о том, за что именно производилась уплата денег; равным образом не было известно, какими именно волостями и в каком количестве будут внесены деньги на погашение произведенных платежей. Крестьяне аккуратно вносили деньги указанными Коссацким суммами, и он часто брал у банкира авансы.
В общем, многочисленными свидетельскими показаниями бесспорно подтверждалась виновность подсудимого.
Основываясь на судебном следствии, товарищ прокурора Ф. К. Бом поддерживал обвинение против Коссацкого.
Защищали подсудимого присяжные поверенные С. П. Марголин и В. Е. Беккер.
Речь первого из них касалась всех предметов обвинения.
— Господа судьи! — начал присяжный поверенный Марголин. — Еще в 1868 году правительствующим Сенатом было предложено прокурорам вносить в обвинительные акты лишь такие события, которые имеют прямое отношение к делу. В данном случае это не соблюдено. В обвинительном акте, прочитанном в этом зале, упомянут и подчеркнут ряд фактов, ничем не связанный с теми деяниями, которые ныне вменяются в вину подсудимому. Рядом с этим в обвинительный акт внесены некоторые подробности, имеющие своей единственной целью оскорбить подсудимого с особенной жестокостью. Кому нужно знать, что мать его была кухаркой, дед кузнецом, а сам он кучером и лакеем? Как бы ни был преступен известный человек, но у него всегда найдется своя доля чувства чести. Грубое вторжение в эту ревниво охраняемую область духовного мира обвиняемого пятнает не его, а обвинение. Затем вашему вниманию были предложены многочисленные легенды из прошлого подсудимого об его хищничестве и нравственной слепоте. Весь этот материал почерпнут из нечистого источника. Несмотря на это, господин прокурор останавливается на этих непроверенных обстоятельствах с особенной подробностью и вниманием. Потом упоминалось о прекращенных делах. Излишне объяснять, что под этими делами разумеются обвинения, отброшенные за их недоказанностью. И вот теперь, через 10 лет, вся эта ветошь находит гостеприимный приют в обвинительном акте. Господа судьи! Подсудимый защищает и оберегает оставшийся незапятнанным уголок своей души, тот уголок, который всякому дорог. Его угнетает, как всякого человека, все несправедливое и выдуманное, все, не имеющее никакого касательства к настоящему обвинению.
Между прочим я остановлюсь на судебном материале, имеющем прямое отношение к настоящему делу. Прокурор изобразил подсудимого грубым притеснителем крестьян, угнетавшим их долго и безнаказанно. Здесь подробно допросили каждого свидетеля насчет характера Коссацкого, и картина получалась совершенно иная.
Большинство свидетелей на предложенные им вопросы об обращении с ними подсудимого отвергли грубость и кулачную расправу, присвоенную обвиняемому. Не подтвердились и взятки. Насколько я мог уяснить себе дело, до Коссацкого волостные здания никуда не годились. Весьма естественно, что чиновник, любящий порядок и благоустройство, счел своим долгом придать приличный вид волостным домам. Не буду отрицать, что способ, им избранный, был неудачен. Но здесь, в этом крае, очевидно, существовала, а может быть, и теперь существует особого рода система все решать за крестьян, угадывать и удовлетворять их потребности. По толкованию чиновников, крестьяне необразованны, темны и своих нужд не сознают. С этой точки зрения считается уместным присылать в волости нагрудные знаки, адресные книги, брошюры, календари и тому подобные вещи без согласия крестьян. Им говорят, что это нужно, необходимо, и сходы выборных беспрекословно утверждают эти расходы. Таким образом, ничего экстраординарного Коссацкий не производил и следовал только издавна установившемуся обычаю. Говорят, что крестьяне не одобряли его действий. Насколько можно было установить, среди крестьян замечалось два течения. Громадное большинство было довольно Коссацким и действия его одобряло. Меньшинство же протестовало против покупок исключительно из экономических соображений. Теперь эти вопросы выдвигаются только потому, что под ними скрывается подозрение в воровстве. В этом — узел и центр тяжести дела.
Останавливаясь на этой стороне дела, защитник обратил внимание суда, что он хранил в течение долгого времени глубокое молчание насчет одного свидетеля — письмоводителя Кана.
— Мы не хотели тревожить его тени, — говорит С. П. Марголин, — но господин обвинитель оказал нам незаменимую услугу. Допрашивая свидетелей по поводу письмоводителя Кана, господин прокурор обнаружил, что это был человек опытный и влиятельный, знавший местные языки и пользовавшийся своею властью для корыстных целей. Кан также покупал вещи и действовал нечистоплотно. Мы не хотели об этом говорить, но Кана выдвинуло обвинение, и теперь всем известно, что у него было факсимиле Коссацкого, что он приобретал вещи и скрывал их цену от Коссацкого. Затем обвинение не обратило внимания, что крестьяне, уплатив за приобретенные вещи известную цену, не несли никаких дальнейших расходов. Но вещи сами не переплывали на остров Эзель, их приходилось перевозить, они портились и ломались. Ремонт лежал на Коссацком. Эти расходы даже не были известны крестьянам. Если исходить из того положения, что Коссацкий действовал как частный человек, то для него не представлялось настоятельной необходимости запасаться счетами и оправдательными документами. Покупались вещи в период с 1891 года по 1896 год? В феврале 1899 года на голову Коссацкого совершенно неожиданно свалилось предписание губернатора дать подробный отчет по поводу купленных вещей. Войдите в его положение. Ни книг, ни записей нет, кое-какие отрывочные воспоминания — и больше ничего. В волостях также нет записей. Многое из купленного испортилось, удалено за негодностью и выброшено; кое-что украдено или заменено менее ценным.
Останавливаясь на этой стороне дела, я думаю, что предъявленное к подсудимому обвинение в присвоении крестьянских денег является случайным недоразумением. Коссацкий искал власти, чинов, мундира, благоволения начальства, орденов, но никогда не стремился к наживе. При его способности и природных талантах ему открывалось широкое поприще по коммерческой части. Но он хотел во что бы то ни стало состоять на службе у правительства, быть частицей власти.
Подсудимому и в голову не приходило, что его могут заподозрить в присвоении чужих денег. Когда же это подозрение возникло, он решил оправдать себя путем ложной отчетности. Теперь эта ложная отчетность обнаружена, и отсюда делаются выводы в подтверждение воровства.
Развив соображения в подтверждение своего воззрения, что Коссацкий не пользовался имуществом крестьян, защитник коснулся юридической стороны обвинения.
По мнению защитника, для того, чтобы данное преступление назвать преступлением по должности, необходимо, чтобы оно соответствовало двум условиям: во-первых, нужно, чтобы расходование общественных сумм входило в круг обязанностей комиссара по крестьянским делам, и, во-вторых, необходимо, чтобы указанные здесь суммы были вверены Коссацкому по службе. Палата знает обязанности комиссара. По положению о преобразовании крестьянских присутственных мест Прибалтийских губерний, высочайше утвержденному 9 июля 1889 года, в обязанности комиссаров входят: а) надзор за волостными должностными лицами, наложение на них взысканий и удаление от должности с преданием суду; б) производство ревизии волостного общественного управления; в) распоряжения о присоединении, в случае надобности, волостных обществ, имеющих в себе не более 200 лиц, к другим обществам и разрешение соединения между собою обществ по взаимному их согласию; г) разрешение созыва чрезвычайных общих волостных сходов и распоряжение о созыве, в случае надобности, схода выборных; д) разрешение выдачи ссуд из хлебозапасных магазинов; е) утверждение раскладочных росписей казенных податей.
Нигде не говорится о деньгах, которые вверялись бы комиссарам. Где же здесь растрата вверенных по должности денег? Где пользование своей властью для сокрытия этой растраты? Коссацкий мог похитить, силою отнять принадлежащие крестьянам деньги, но присваивать вверенные ему по должности деньги не мог, так как они комиссару не вверяются.
Далее защитник перешел к обвинению в подлогах.
Одни из подлогов по давности уже умерли; другие неправильно квалифицированы. Необходимо принять во внимание, что Коссацкий — потомственный дворянин и что для приобретения прав состояния подлоги были ему не нужны. Вместе с тем ясно, что он стремился к служебному положению. Куда же, спрашивается, отнести ту копию с формуляра, никогда не существовавшего, которую он представил господину Случевскому, управляющему акцизными сборами Курляндской губернии? Разве Случевский должен был ограничиться представленной ему копией при приеме Коссацкого на службу? В третьем томе Свода законов ясно указано, какие именно документы должны быть затребованы от просителя при приеме его на государственную службу. Этих требований ни управляющий акцизными сборами, ни губернатор не соблюли.
Если бы Коссацкий представил свою визитную карточку, на которой было бы обозначено, что он — инженер, архитектор или технолог, и по этой карточке его приняли бы на службу, — неужели его тоже обвиняли бы в подлоге? Между тем представленные Коссацким документы ничем не были убедительнее такой карточки.
Наконец, пользующийся подложными документами чаще всего не соответствует тому положению, которое Он занимает в силу представленных документов. В ином свете рисуется деятельность Коссацкого. Во многих отношениях он нисколько не уступал лицам, имеющим в своем распоряжении настоящие дипломы и аттестаты. Он целый год справлялся с нелегкими обязанностями мирового судьи и не вызвал никаких недоразумений и нареканий. Занимая должность комиссара, подсудимый объединил волости, выстроил здания волостных правлений, избавил крестьян от обременительной для них почтовой повинности и выхлопотал сложение недоимок на сумму 68 000 рублей. Он первый придумал вспомогательную кассу для семейств рыбаков, осуществил проект постройки дамбы на острове Моон, лежавший многие годы без движения, и тем обогатил крестьян, участвовавших в работах по ее сооружению.
— Приглядитесь к его деятельности — и вы убедитесь, что Коссацкий — живой человек. Он сразу понял нужды крестьянства и, минуя канцелярские занятия, прежде всего ответил потребностям жизни. С первых же дней своей службы он устраивает школы, ходатайствует о присылке окулистического отряда, заботится о борьбе с проказой. Да, этот человек принес немало пользы! Конечно, он совершил преступления, но эти преступления возникли в далекие годы молодости, когда жизнь кипела, била ключом; она манила его вдаль, к славе, власти, хотя бы ценою преступления. Он бросился в омут — и что же нашел? Ежеминутно он чувствовал и сознавал, что ни чины, ни мундир, ни власть ему не принадлежат, что каждую минуту все может быть отнято. Все, знавшие его действительное положение, тянули с него деньги. Все рвали с него, каждый сколько кто мог. Пятнадцать лет он жил под страхом, что все построенное им здание разрушится. Какая ужасная судьба! Примите во внимание, что положение среднего русского чиновника на этой окраине не из завидных, что климат острова Эзеля разрушил здоровье Коссацкого. Прочтите медицинское свидетельство, и вы увидите, что над Коссацким витает призрак смерти. Тяжелый недуг его медленно убивает. Куда же он пойдет из суда, больной, поруганный? Постановите же приговор мягкий и милостивый, насколько это возможно по свойству ваших прав.
После С. П. Марголина говорил другой защитник, дополнивший его речь по некоторым пунктам.
Решением судебной палаты Иосиф Коссацкий был приговорен к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на один год и шесть месяцев.
КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ
В 1901 году 31 марта в Петербурге неожиданно разыгралось преступление, имеющее романическую подкладку.
Было 7 часов вечера.
По Фурштадтской улице в это время проезжала пролетка с двумя пассажирами — мужчиной и молоденькой девушкой. По-видимому, они ссорились, и проходившая мимо публика невольно заметила, что между ними идет резкий разговор.
Вдруг вблизи Анненской лютеранской церкви девушка отчаянно вскрикнула. В то же мгновение раздался выстрел.
Сбежавшиеся прохожие увидели в руке пассажира дымящийся револьвер.
— Спасите меня! — закричала девушка и, соскочив с пролетки, упала на мостовую.
Послышались один за другим еще два выстрела. Это снова стрелял пассажир, пустив одну пулю в свою спутницу, а другую — в себя.
Обезумевшая от ужаса девушка быстро приподнялась с земли и, спасаясь, вбежала в ближайшую булочную Герцфельда.
Следом за ней, с револьвером в руке, устремился и ее спутник.
В булочной поднялся переполох. Продавщица спряталась даже за прилавок.
Не обращая ни на что внимания, рассвирепевший пассажир произвел и здесь два выстрела в свою жертву, а затем выбежал на улицу.
Вскоре после этого он был задержан и обезоружен одним из городовых.
— Зачем вы стреляли? — спросили у него.
— Это дело мое. Что хотел сделать, то сделал, — ответил преступник.
Доставленный в полицейское управление, он назвался крестьянином Эдуардом Улевичем и объяснил, что стрелял в свою вероломную невесту.
— Я хотел убить ее за отказ выйти за меня замуж, — признался он на допросе.
К счастью, из всех пуль, выпущенных Улевичем, ни одна не причинила девушке серьезной раны. Стреляя без прицела, Улевич только один раз попал — в живот девушки, но пуля, пробив теплый ватный жакет, застряла в кожаном кушаке.
Точно так же оказалась простреленной и одежда самого Улевича. По освидетельствовании как у него, так и у девушки были найдены на теле только легкие ссадины от скользнувшей пули.
Пострадавшая оказалась мещанкой Варварой Сергеевой, 17 лет, белошвейкой по ремеслу.
По объяснению Улевича, он случайно познакомился с Сергеевой зимой 1900 года, когда жил в одном с нею доме на Забалканском проспекте.
4 декабря были именины Сергеевой, и хозяйка ее пригласила в этот день Улевича на вечеринку. Юная, миловидная белошвейка с первого же взгляда понравилась Улевичу, он влюбился в нее и начал ухаживать. По-видимому, и Сергеева благоволила к нему, принимая подарки, и через три недели Улевич сделал ей предложение.
Получив согласие, он с этого времени стал уже смотреть на Сергееву как на свою будущую жену.
Прошло месяца два после этого. Сергеева отвечала взаимностью своему жениху, но вдруг в обращении ее с Улевичем произошла резкая перемена. Оставив старую квартиру, Сергеева поступила в белошвейную мастерскую на Гороховой улице, а ночевать стала ходить на Петербургскую сторону. В это время она познакомилась с молодым человеком Александром Зябриковым, и последний, в свою очередь, начал ухаживать за нею.
Легкомысленная девушка позабыла свое обещание, данное Улевичу, и благосклонно отнеслась к новому поклоннику. Зябриков стал часто видеться с ней, провожал на квартиру и вообще пользовался вниманием со стороны Сергеевой.
Когда Улевич проведал о вероломстве своей возлюбленной, в нем заговорило сильное чувство ревности.
Встретив как-то Сергееву, он обрушился на нее с упреками.
— Ты же обещала стать моей женой, а между тем позволяешь другим ухаживать за собой! — взволнованно выговаривал он.
— Я раздумала выходить за тебя замуж, — откровенно призналась ему девушка.
Оскорбленный Улевич решил порвать свою любовь и, чтобы забыться, уехал из Петербурга в Ригу.
Перед отъездом Улевича на квартиру к нему зашла Сергеева, проводила его на вокзал и, когда он садился в вагон, заявила, что она все-таки любит его и выйдет за него замуж.
— Я тебе напишу после в Ригу, — сказала она, прощаясь.
Улевич долгое время тщетно ожидал от нее письма. Сергеева, очевидно, забыла о нем.
Жених, наконец, решил возвратиться в Петербург, чтобы убедиться — любит ли его Сергеева.
— Если она обманывает меня, то я убью и себя, и ее, — возбужденно говорил он.
29 марта он был уже в Петербурге и отправился вечером в мастерскую, где работала его невеста.
— Ну, что же ты мучишь меня? — сказал Улевич, встретившись с девушкой.
— Нет, я не выйду за тебя замуж, — ответила на это Сергеева.
Улевич проводил ее на Петербургскую сторону, упрашивая согласиться на брак, но Сергеева оставалась непоколебимой.
— Я раздумала, — упорно твердила она.
В день преступления мучимый ревностью, отвергнутый жених снова стал поджидать Сергееву на улице около мастерской. Но ее, оказалось, в то же время ожидал и ее новый поклонник.
Когда Сергеева вышла из мастерской, ее одновременно встретили и Улевич, и его счастливый соперник.
Втроем они дошли до Невского проспекта. Здесь Зябриков распростился с девушкой, и Улевич остался наедине с ней.
Узнав, что Сергеева хочет навестить приют Сергиевского братства, где она раньше воспитывалась, жених подозвал извозчика, и они поехали в приют.
Дорогой Улевич по-прежнему стал упрекать невесту в легкомыслии.
— Ты меня губишь этим. Я все равно не буду жить без тебя, — сказал он, когда они ехали по Фурштадтской улице.
Сергеева молчала.
Потеряв надежду уговорить ее добром, Улевич выхватил из кармана револьвер и стал стрелять…
Через полгода после преступления он предстал перед присяжными заседателями по обвинению в предумышленном покушении на убийство.
Дело рассматривалось во 2-м уголовном отделении, под председательством Д. Ф. Гельшерта. Обвинял товарищ прокурора Воронов. Защитником подсудимого выступал присяжный поверенный Н. П. Карабчевский. Большой зал санкт-петербургского окружного суда буквально осаждался многочисленной публикой, и места брались чуть не с боем.
Среднего роста, красивый молодой человек, лет 26, с небольшими усами, Эдуард Улевич производил на всех благоприятное впечатление. По ремеслу он столяр.
На суде фигурировали также в качестве свидетелей Варвара Сергеева и Александр Зябриков — молодой парень, из мастеровых, еще не достигший совершеннолетия.
— Признаете себя виновным? — спросил председательствующий Улевича.
— Признаю.
— Расскажите, как это случилось.
Подсудимый тихим голосом начал передавать историю своего знакомства с Сергеевой. По его словам, он страстно любил эту девушку и, когда она оставалась без работы, часто помогал ей деньгами. При этом он беспрестанно твердил ей: «Когда же ты, наконец, станешь моей женой?»
Сергеева охотно брала у него деньги, и первоначально ей было весело с ним, но потом она разлюбила своего жениха.
— Он мне опротивел, — жаловалась она своей хозяйке.
— Не обещали ли вы выйти за Зябрикова замуж? — спросил товарищ прокурора.
— Да, обещала, — смущенно ответила Сергеева.
Как выяснилось на судебном следствии, Сергеева была довольно сентиментальная особа и любила «чувствительные» стихи.
— Действительно ли вас любил Улевич? — спрашивают девушку на суде.
— Да, любил, — отвечала Сергеева. — Теперь я простила его и злобы против него не имею.
Когда между ними произошла окончательная размолвка и они ехали по Фурштадтской улице, Улевич обратился вдруг к ней с решительным видом:
— Выйдешь за меня замуж?
— Нет, — сказала она.
После этого он почти в упор стал стрелять в нее.
Как объяснил подсудимый, он лишился в это время всякого самообладания и не сознавал уже, на что идет.
— Я не знаю, что со мной делалось тогда, — оправдывался он.
Другие свидетельские показания подтвердили данные обвинительного акта. В общем, очевидно, что Сергеева, встретившись с Зябриковым, почувствовала к нему более сильное влечение, чем к жениху, и решила покончить с надоевшим ей Улевичем.
— А вы предлагали ей выйти за вас замуж? — спросили у Зябрикова на суде.
— Ничего я не предлагал, — последовал холодный ответ.
Основываясь на следствии, товарищ прокурора настаивал на обвинении Улевича.
Слово было предоставлено защитнику подсудимого, который произнес горячую речь в защиту Улевича.
Обрисовав с симпатичной стороны личность обвиняемого, присяжный поверенный Карабчевский подробно охарактеризовал и бурную страсть Улевича, и легкомысленное отношение к нему сентиментальной девушки, очень легко меняющей свои привязанности. Со своей поруганной любовью отвергнутый Улевич должен был глубоко страдать, и не его вина, что развязка его первой любви чуть было не закончилась трагически.
По мнению защитника, Улевич вполне нормальный, хороший человек, которому доступно святое чувство любви. Он приближался к Сергеевой с искренним намерением сделать ее своей законной женой, матерью детей. Да и ее также нельзя назвать испорченным существом. Недостаток ее лишь в молодости и в том, что, полуразвитая и романтически настроенная, она принимает поверхностную накипь чувства за самое чувство. По своей неопытности, она не в силах примириться с тем, что ее свободу ограничивают и во имя долга подчиняют чужой воле. И потому любовная идиллия под конец завершилась трагической развязкой. Не надо забывать, что под ногами влюбленных всегда лежит как бы мина, грозящая взорваться при малейшей неосторожности. Имея пламенные уверения в любви, Улевич совершенно не мог ожидать того, что он встретил по возвращении, — бесцельной лжи, обмана. Под влиянием поруганного чувства он мог впасть в исступление и машинально ступить на роковой путь.
Между прочим, защитник указал присяжным заседателям, что преступление Улевича ничего не изменило во внешнем мире: Сергеева жива, здорова и от души простила Улевича, оценив его безусловно честное отношение к ней. Несмотря на всю тяжесть предъявленного к Улевичу обвинения в покушении на Сергееву, в его действиях, по мнению защиты, скорее содержится лишь признак известной 38 статьи уст. о нак. — нарушение общественной тишины и спокойствия. Присяжные заседатели должны не карать подсудимого, который сбился с пути под влиянием чувства, порабощающего и более сильные души, а, напротив, помочь ему снова выбраться на честную, трудовую дорогу.
Присяжные заседатели совещались не более пяти минут и вынесли Эдуарду Улевичу оправдательный вердикт.
В зале посыпались громкие аплодисменты. Когда присяжный поверенный Карабчевский вышел в коридор, ему была устроена восторженная овация со стороны публики.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В МЕНЯЛЬНОЙ ЛАВКЕ
Зимой 1899 года на Невском проспекте было совершено крайне дерзкое по своей обстановке преступление.
27 января, в 3 часа пополудни, в меняльную лавку купца И. Гарунова зашел прилично одетый молодой человек. Хозяина в это время не было, и в лавке оставался только его подручный — мальчик Добров.
— Что вам угодно? — спросил мальчик.
— Да вот хотел бы купить облигации Санкт-Петербургского кредитного общества в 1 000 рублей. Я подожду, пока хозяин вернется, — ответил незнакомец.
Прошло несколько минут.
Незнакомец имел угрюмый, сосредоточенный вид и искоса посматривал на Доброва.
— Дайте мне, пожалуйста, конверт для письма, — попросил он вдруг.
Мальчик стал искать на прилавке чистый конверт, но нашел только со штемпелем.
— Других конвертов нет, — сказал Добров и захлопнул ящик прилавка.
Не успел он обернуться, как вдруг незнакомец нанес ему страшный удар чем-то твердым по голове.
В то же мгновение преступник перескочил через прилавок за решетку кассы, зажал мальчику рот рукой и железным «косарем» еще раз ударил его по голове.
В ужасе Добров закричал о помощи и вырвал у незнакомца «косарь».
Но незнакомец снова набросился на Доброва и, сдавив его горло рукой, быстро потащил в соседний чулан. Здесь, схватив тяжелое, массивное полено, он опять начал наносить удары несчастному мальчику.
После долгой борьбы мальчик вырвался, наконец, из рук преступника и забился под лестницу чулана, куда преступник не мог уже пролезть.
Вскоре Добров услышал стук дверей в лавке и, догадавшись, что незнакомец уходит, выбежал весь в крови на улицу.
Оказалось, что незнакомец схватил с подоконника лавки несколько процентных бумаг и, сунув их за пазуху, бросился бежать по направлению к 1-й Рождественской улице.
— Держите его! — отчаянно стал кричать Добров и в свою очередь погнался за преступником.
В преследовании незнакомца приняли участие дворники и городовые, и его вскоре удалось задержать.
Доставленный в полицию, он назвался крестьянином Иваном Антипиным и попросил дать ему поесть чего-нибудь.
— Ну, слава Богу, что так кончилось! — вырвалось у него при этом странное восклицание.
При обыске у Антипина были найдены три скомканных билета 4-процентной государственной ренты с кровяными пятнами, стоившие в общем по нарицательной цене 1 400 рублей.
Пострадавший мальчик был освидетельствован врачами, и у него оказались три раны на голове, из которых две тяжелые.
На предварительном следствии Иван Антипин решительно отказался признать себя виновным.
— Я только хотел оглушить его и воспользоваться находившимися в лавке ценностями, — говорил он.
Между тем по наведенным справкам обнаружилось, что это было уже не первое преступление Антипина.
Летом 1898 года он проживал на Васильевском острове на квартире со своим знакомым — артельщиком А. Балкиным, у которого водились деньги.
Воспользовавшись его отсутствием, Антипин в ночь на 29 августа похитил у него из сундука несколько процентных бумаг с разными вещами, всего на сумму до 1 000 рублей, а затем, чтобы скрыть преступление, поджег квартиру.
К счастью, пожар был вовремя замечен одним из дежурных дворников, и огонь удалось залить водой.
При осмотре загоревшейся квартиры были обнаружены признаки поджога: ощущался сильный специфический запах керосина и им же была смочена найденная на полу бумага.
Однако заподозренный в то время Антипин не признал себя виновным ни в краже, ни в поджоге и уверял, что пожар произошел, по-видимому, по причинам, не зависевшим от него.
Так как поведение Антипина казалось для окружающих ненормальным, то он был препровожден на испытание в больницу св. Николая Чудотворца.
После всесторонних наблюдений над Антипиным врачи-психиатры пришли к убеждению, что он не страдает каким-либо психическим расстройством, а лишь обнаруживает признаки неврастении.
На основании этого Антипин был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в кражах, поджоге и покушении на убийство и осенью 1902 года предстал перед санкт-петербургским окружным судом.
Дело слушалось во 2-м отделении, с участием присяжных заседателей, и привлекло массу публики.
Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Таганцев, защищал подсудимого помощник присяжного поверенного М. С. Маргулиес.
Иван Антипин — красивый молодой человек 22 лет, с интеллигентной внешностью. Говорит он прерывистым, сдавленным голосом, часто хватается рукой за голову, гладит себя по волосам и нервно жестикулирует.
— Признаете себя виновным? — задал ему вопрос председательствующий.
— Признаю, — послышался тихий ответ.
— Что же вас побудило к преступлению? Нуждались в деньгах?
— Да… Впрочем, я расскажу все как было… Ничего не утаю.
И подсудимый начал рассказывать о своих злоключениях.
Судьба не баловала его. Родился он в глухой деревне, в Архангельской губернии. Отец пил запоем и умер от белой горячки, оставив подсудимого двухлетним ребенком. Окончив сельское училище с правами 3-го разряда, Антипин 16 лет переехал в Петербург к своему брату, служившему в Амбургеровской биржевой артели. Здесь он заболел тифом в тяжелой форме, лежал в больнице, а, оправившись, на свое горе, случайно познакомился с девушкой. Она была дочь дворника Гатчинской учительской семинарии, но воспитывалась в Петербурге у своего дяди-швейцара и сделалась портнихой.
Красивая девушка приглянулась ему. Он полюбил ее и, уехав в Рыбинск на место конторщика, написал ей оттуда о своей любви. Она как-то неопределенно ответила Антипину, и это стало мучительно терзать его. Тем не менее между ними завязалась переписка, но потом, не видя девушки, Антипин начал охладевать. Она также стала неохотно отвечать ему, и через полтора года переписка их прекратилась.
В 1898 году Антипин приехал по делам в Петербург и снова встретился с любимой когда-то девушкой. Былая страсть опять вспыхнула с еще большей силой, и он почувствовал, наконец, что не может более жить без любимого человека.
Антипин начал упрашивать ее выйти за него замуж.
— Я тебя люблю, — отвечала она, — но женой твоей быть не могу, лучше расстаться нам.
— Но почему же? — приставал он с расспросами.
— Не могу, — настаивала она упорно. — Уезжай!
— Я не в силах расстаться с тобой, я что-нибудь сделаю, — грозил он.
Спустя некоторое время девушка призналась в слезах, что она уже любила раньше одного человека, но тот, обманув ее, бросил.
— Ну, что ж… Для меня все равно. Я все-таки женюсь на тебе… Ты не виновата, — говорил на это Антипин.
Она, наконец, согласилась на его предложение, и свадьбу решено было сыграть зимою 1898 года.
Обрадованный Антипин стал хлопотать, чтобы получше устроиться в Петербурге, бегал по знакомым и нашел средства вступить в Амбургеровскую артель, для чего требовалось 800 рублей.
Затем он опять уехал на полтора месяца в Рыбинск и, когда возвратился, нашел свою невесту изменившейся.
Обуреваемая какими-то мыслями, она то плакала, то говорила, что пойдет к кому-нибудь на содержание, заведет лошадей.
Такое поведение любимой девушки терзало его, разжигая ревность. Начались мало-помалу размолвки и ссоры, и Антипин стал мечтать о богатстве. Но мечты оставались мечтами, бедность все более и более тяготила его, ревнивое чувство не давало ему покоя, и он серьезно подумывал о самоубийстве.
Однако у Антипина не хватило на это силы воли. Летом 1898 года он обокрал своего знакомого Балкина, поджег квартиру и, выручив от продажи похищенных процентных бумаг до 700 рублей, накупил для своей невесты золотых вещей.
В подожженной квартире Балкина Антипин улегся спать.
— Зачем же вы это сделали? Сгореть хотели, что ли? — спросил председательствующий.
— Не знаю… Просто так лег, — растерянно ответил подсудимый.
Когда стало душно от огня, Антипин выпрыгнул чрез окно на улицу, упал на панели и стал корчиться…
После этого преступления он чувствовал себя отвратительно. Было совестно пред невестой, которая, впрочем, не знала, на какие деньги приобретены для нее подарки. Антипин временно скрывался от нее и жил у брата. Но такая жизнь была ему в тягость, и он начал искать выхода из своего положения. Чтобы сразу разбогатеть, Антипин стал продавать свои последние вещи и приобретать выигрышные билеты. Ему казалось, что в лотерее он найдет свое счастье: он даже был убежден почему-то, что непременно выиграет когда-нибудь 500 000 франков по французскому лотерейному билету.
Но Антипина ожидал новый удар.
Встретившись как-то с ним, невеста сообщила ему, что она разыскала случайно своего любовника и любовь к нему опять загорелась в ее сердце, несмотря на то что тот был уже женат.
Страдая от своей поруганной любви, девушка горько рыдала пред Антипиным и умоляла спасти от губившей ее безумной страсти.
Тогда Антипин, по его собственному признанию, решился увезти любимую девушку во Францию. Но на какие средства? Он и она были бедные люди. Нужно было во что бы то ни стало найти средства.
И вот преступная мысль постепенно завладела им. Она сверлила его мозг и не давала покоя.
Его неудержимо потянуло к меняльным лавкам, где на окне сверкало золото и радужно переливались процентные бумаги.
Антипин боролся, молился, чтобы Бог спас его, но желание разбогатеть настолько овладело им, что он находился как бы в тумане.
В роковой день 27 января Антипин взял на кухне большой нож-«косарь» и пошел на Невский проспект. Что-то неудержимо толкало его вперед.
Первоначально он зашел в меняльную лавку Федорова, где его тоже встретил мальчик.
— Покажи-ка мне выигрышный билет, — сказал Антипин.
Мальчик подал процентную бумагу.
— А деньги я после отдам, — продолжал Антипин.
— Ну, так я не дам!
— Пойдем со мною, я тебе заплачу дома.
Мальчик отправился с ним, вошел на какую-то глухую лестницу и, догадавшись по странному виду Антипина о грозившей ему опасности, поспешил убежать от него.
Потерпев неудачу, Антипин стал ходить по улице. Пройдя несколько раз взад и вперед, он решительно вошел в лавку Гарунова.
Когда Антипин ударил Доброва «косарем», кровь бросилась ему в голову, в глазах потемнело, все подернулось туманом и, не помня себя, он начал бить мальчика. Потом взял процентные бумаги и вышел на улицу.
— После этого мне стало как-то легче, — говорил на суде Антипин. — Как будто что-то тяжкое сбросил с себя.
Из свидетельских показаний выяснилось, что подсудимый отличался раньше странным поведением.
Оставшись раз наедине с Балкиным, он задумчиво стал играть револьвером.
— Вот взять да и хлопнуть, и все тогда кончено, — заявил он вдруг своему компаньону.
Балкин не на шутку струсил и сердито стал настаивать, чтобы Антипин бросил «глупую игру».
Когда Антипина задержали после преступления в меняльной лавке, он судорожно дрожал и был страшно возбужден.
В суд вызваны были четыре врача-психиатра, которые, в общем, провели неблагоприятную для подсудимого экспертизу. По их мнению, хотя Антипин и дегенерат, но психически волне нормален.
После своих объяснений Антипин хладнокровно сидел на скамье и, подперев щеку рукой, апатично следил за судебным следствием.
Товарищ прокурора Таганцев в своей речи поддерживал обвинение.
Помощник присяжного поверенного Маргулиес произнес прочувствованную речь в защиту подсудимого, отметив его слабую волю, больную фантазию и неблагоприятные условия жизни.
Завладевшая Антипиным глубокая страсть к девушке, ревность и тоска окончательно погубили его. Антипин, наконец, поддался ужасному кошмару, душившему его, и пошел на преступление. По мнению защиты, перед судом был, несомненно, больной человек, для которого место не в арестантских отделениях и не на каторге, а только в больнице для душевнобольных.
Во время своей речи защитник обнаружил знание наиболее серьезных вопросов психиатрии.
После совещания присяжные заседатели вынесли Антипину обвинительный вердикт, дав ему снисхождение только в краже и поджоге.
Резолюцией суда он был приговорен к лишению всех прав состояния и к ссылке на каторжные работы на шесть лет.
МЕСТЬ ЗА ОТВЕРГНУТУЮ ЛЮБОВЬ
Весной 1901 года в Петербурге на Песках неожиданно разыгралась кровавая драма.
Вечером 28 марта недалеко от Греческой церкви проходили молодой человек и девушка. Оба они тихо разговаривали между собой и затем, распрощавшись, разошлись в разные стороны. Ничего не подозревая, девушка быстро пошла по улице, как вдруг услышала позади себя торопливые шаги. Она обернулась и снова увидела перед собою своего спутника. Он, видимо, был взволнован и тяжело дышал.
— Что с вами? — удивленно спросила она.
К ужасу девушки, молодой человек порывисто обнял ее и, прежде чем она могла догадаться об угрожавшей опасности, всадил ей в грудь финский нож. Несчастная девушка, вскрикнув, как сноп рухнула на землю и лишилась сознания.
После этого убийца подошел к ближайшему городовому и, объяснив, что его спутнице внезапно сделалось дурно, попросил отправить ее в больницу.
— Отчего же у нее кровь на лице? — спросил городовой.
— Должно быть, разбилась при падении, — ответил убийца.
Раненая девушка была немедленно отправлена в больницу, но она не в силах была перенести тяжелого ранения и по дороге скончалась. Из медицинского вскрытия трупа девушки выяснилось, что она была убита на втором месяце беременности.
Преступник был арестован и оказался канцелярским служителем Александром Андреевым, а его жертва — белошвейкой Е. Кураевой.
Убитая служила до этого в мастерской Энгбертс, на 5-й Рождественской улице. Скромная, миловидная девушка, она, как и остальные ее подруги, любила по окончании работы гулять в Скобелевском сквере. Здесь рано-помалу и завязалось ее знакомство с Андреевым, приведшее, наконец, к роковой развязке.
Молодая девушка понравилась Андрееву, и он настойчиво стал ухаживать за ней. По виду это был вполне приличный молодой человек, и только один недостаток значительно портил его внешность: он был хром.
— Наша Дуня завела себе хромого поклонника, — обыкновенно подсмеивались ее подруги.
Зная об этих разговорах, Андреев недолюбливал подруг Кураевой и отговаривал ее от более тесного сближения с ними, ссылаясь на то, что среди них есть испорченные девушки, стоящие на скользком пути. Служа простым канцеляристом в медицинском совете министерства внутренних дел и получая жалованья всего 25 рублей в месяц, он тем не менее мечтал о лучшей доле и старался пополнить свое недостаточное образование. Познакомившись с Кураевой, он стал приносить ей книги и знакомил с их содержанием в надежде поднять умственный кругозор девушки. Бывали дни, когда на него находила вдруг безотчетная, смутная тоска, и он прибегал тогда к спиртным напиткам. Чувствуя расположение к Андрееву, молодая девушка строго укоряла его каждый раз, когда он появлялся в нетрезвом виде. Он оправдывался, давал обещание бросить пить и все-таки не мог вполне сдержать своего слова. Проходили дни, и, встречаясь с Андреевым, молодая девушка замечала, что Он опять пьян.
— Ну, и нашла же ты кавалера! Хромой да еще пьяница! — говорили подруги Кураевой.
— Вы его не знаете, — возражала последняя, оправдывая своего знакомого. — Он хороший, серьезный человек.
Постепенно между Андреевым и Кураевой завязались близкие отношения, и он стал смотреть на нее уже как на свою невесту, против чего она, по-видимому, ничего не имела. Они начали обмениваться подарками. Он презентовал ей часы и мандолину, а она, с своей стороны, подарила ему полдюжины сорочек и носовых платков. Однако усиливавшееся пьянство Андреева вскоре же стало обострять их взаимоотношения. Начались ссоры и попреки, подруги начали убеждать молодую девушку бросить своего хромого кавалера, и дело закончилось тем, что она, настроенная против Андреева, решительно потребовала у него возврата всех ее писем. Конечно, Андреев не мог не заметить резкой перемены в обращении девушки, и ее охлаждение к нему сильно повлияло на него. Он пробовал уговаривать ее, но все было тщетно, — Кураева хотела порвать все отношения с ним. В результате разыгралась кровавая драма.
28 марта Андреев в последний раз увиделся с молодой девушкой и, вызвавшись проводить ее, после короткого разговора покончил с ней.
В январе 1903 года он предстал перед санкт-петербургским окружным судом. Защитниками с его стороны выступали присяжные поверенные Н: П. Карабчевский и М. С. Маргулиес.
— Признаете себя виновным? — задал обычный вопрос председательствующий.
— Да, но я не помню, как это случилось… Я был тогда раздражен, — ответил подсудимый.
Из показания сестры убитой выясняется, что ей не нравилось знакомство Е. Кураевой с обвиняемым и она не раз убеждала сестру порвать свои отношения с Андреевым. Однако покойная Кураева не слушала ее и, имея скрытный характер, продолжала поддерживать дружбу с Андреевым.
В свою очередь, подсудимый говорит, что несчастье произошло по вине подруг убитой девушки. Они постоянно отпускали в его адрес едкие колкости, издевались над его хромотой и вообще старались поссорить его с Кураевой. В конце концов, возмущенный всем этим, он дошел до высшей степени раздражения, последствием чего и явилась смерть любимой девушки.
— Вы не состояли в связи с Кураевой? — задается ему вопрос.
— Нет.
— Но как же вы объясните выдержку из ее письма к вам: «Вы были скромны, пока не добились своей цели, — вы хотели оскорбить меня и столкнуть с дороги»?
Подсудимого, видимо, смутил этот вопрос, и он пытался сбивчиво объяснить, что ему приходилось, или уступить девушку другому, или же сделать то, что сделано.
— У меня не было выхода, а я очень любил ее.
— А что значат ее слова в письме: «Не могу без презрения вспомнить о случившемся»?
— Я раз сделал ей нескромное предложение, и она рассердилась.
— И все ограничилось только этим предложением?
— Да.
— Но как вы объясните, что она, по вскрытии трупа, оказалась беременной?
— Я не верю этому.
— Может быть, вы думаете, что покойная имела, кроме вас, еще других знакомых мужчин?
— Нет, этого не было. Хотя до меня и доходили слухи, что она гуляет с другими, но я не верил этому, как не верю и вскрытию.
Далее из свидетельских показаний обнаруживается, что подсудимый после незначительного потребления спиртных напитков быстро пьянел и делался придирчивым. Чувствуя расположение к Кураевой, он хотел жениться на ней, хотя она была значительно ниже его по умственному развитию. Своим знакомым он не раз говорил, что имеет намерение сделать Кураеву женой, да только остановка за недостатком материальных средств.
Между прочим, обвиняемый уверял, что за два часа до преступления он пил в трактире водку.
Тем не менее один из свидетелей, крестьянин Корнилов, опроверг это, заявив, что хотя они вдвоем и сидели в трактире, но Андреев водки в то время не пил.
Подруги убитой девушки считали Андреева дерзким задирой, не стеснявшимся прибегать и к ручной расправе. Однажды, например, в раздражении он ударил по щеке какую-то девушку, заподозрив, что это именно она поссорила его с Кураевой.
Наконец, родная мать и брат подсудимого ссылались на то, что он чуть ли не с трехлетнего возраста страдает разными болезнями, а незадолго до преступления жаловался на сильную головную боль и намеревался даже лечь в больницу. Как отец подсудимого, так и другой его брат — оба алкоголики.
Заподозренный в ненормальном психическом состоянии, подсудимый был отправлен на испытание в больницу св. Николая Чудотворца, но после 10-месячного пребывания там он был признан врачами психически здоровым.
В заключение судебного следствия была оглашена переписка подсудимого с покойной Кураевой. Всех писем набралось несколько десятков, и всюду в них сквозит отчасти даже рыцарское отношение Андреева к молодой девушке. Так, например, он. пишет: «Я открыл, что симпатия моя к вам перешла в любовь, но смею ли я надеяться на взаимность? Скажите: «Да или нет?» Пишу вам от чистого сердца, — я не увлекся просто, а полюбил вас, как можно любить только один раз в жизни… Прошу ответа, как милости».
Молодую девушку Андреев в этих письмах называет обыкновенно Дунею или Дунечкой, из чего можно судить, что между ними все-таки была некоторая близость взаимных отношений.
В письмах Кураевой также заметны ласка и любовь к Андрееву, хотя они и более сдержанного характера.
Основываясь на данных судебного следствия, товарищ прокурора господин Бальц поддерживал обвинение.
Выступивший на защиту подсудимого присяжный поверенный Н. П. Карабчевский произнес, по обыкновению, блестящую речь. Набросав весь заурядный роман, разыгравшийся между Андреевым и покойной белошвейкой, защитник в образных выражениях ярко осветил все наиболее характерное, говорившее в пользу обвиняемого.
Горячую речь в поддержку подсудимого, взывавшую о милосердии, произнес также и второй защитник, М. С. Маргулиес.
Присяжные заседатели, ознакомившись с обстоятельствами преступления, вынесли Александру Андрееву обвинительный вердикт.
Резолюцией окружного суда он был приговорен к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на десять лет.
СТРАШНОЕ МЩЕНИЕ
Осенью 1902 года присяжным заседателям пришлось ознакомиться с тяжелой житейской драмой.
Обвинялась в предумышленном убийстве своего любовника молодая замужняя женщина Анна Соколова.
Когда подсудимой не было еще 17 лет, родители выдали ее насильно замуж за крестьянина Соколова.
Молодая женщина не любила мужа и тяготилась семейной жизнью, тем более что детей у них не было. Муж оказался больным и не обращал на нее внимания как на женщину; женился же он исключительно только для того, чтобы иметь в доме хозяйку.
Конечно, такая жизнь не могла удовлетворить молодую женщину. Она стала искать забвения в работе, начала шить белье для магазинов Гостиного двора и все-таки забвения не нашла.
Однажды к Соколовой зашел кондуктор Невской пригородной железной дороги Алексей Свиридов и заказал для себя несколько рубашек.
Молодой, красивый человек сразу же понравился Соколовой. Мало-помалу между ними завязалось знакомство, и кондуктор стал бывать в гостях у Соколовых. Муж Анны в это время был без места, и Свиридов, приняв в нем участие, подыскал для него подходящую должность.
Постепенно Свиридов начал ухаживать за Соколовой. Добиться взаимности было нетрудно, и молодая женщина, полюбив, отдалась ему.
Прошло некоторое время.
Вечная боязнь, чтобы сам Соколов не заметил, наконец, преступной связи, стала надоедать легкомысленному кондуктору.
— Брось мужа, — советовал он, — и переходи жить ко мне.
Соколова послушалась этого совета и покинула мужа.
Однако через несколько месяцев Свиридов, видимо, начал охладевать к своей любовнице. Ему понадобилось вдруг съездить зачем-то на родину, и он выпросил у Соколовой ее скудные сбережения — около 150 рублей.
Между тем со стороны до Соколовой стали доходить слухи, что Свиридов — далеко не безупречный человек.
— Правда это? — спрашивала Соколова.
— Гнусная ложь, ничего подобного не было, — клялся ей любовник.
Молодой женщине приходилось верить ему.
И вдруг наступило начало конца.
Однажды, задумавшись, кондуктор стал говорить Соколовой:
— Знаешь что, Анюта, давай разъедемся по разным квартирам. Так неудобно.
Молодая женщина остолбенела от ужаса.
— Леша, милый, останься! — с плачем заговорила она.
— Нет, не хочу… Я съеду, — упорствовал он и действительно переселился на другую квартиру.
Соколова с горя начала пить. Ей казалось, что все уже потеряно.
Тем не менее, к ее безумной радости, Свиридов скоро опять пришел к ней.
— Анюта, я раздумал, — стал говорить он. — Можно снова к тебе переехать?
Конечно, она осыпала его поцелуями, и они снова стали жить вместе.
Однако жизнь уже была не та, что прежде. Соколова инстинктивно чувствовала, что любовник все более и более отдаляется от нее. Он начал исчезать куда-то и возвращаться домой только к 4 часам утра.
И, наконец, молодая женщина узнала страшную для нее новость: Свиридов присватался на стороне, тайком от нее.
— Что ты делаешь со мной?! — набросилась она на него с упреками. — Ты хочешь жениться?!
— Неправда! — божился кондуктор, смутившись.
Начались частые ссоры.
— Вот видишь, Леша… Пока у меня были деньги, ты меня любил, а теперь — другое, — жаловалась Соколова.
Кондуктор начинал ласкать ее и сбивчиво оправдывался.
— Если я и женюсь, Анюта, то только на деньгах, а с тобой все-таки останусь, — проговорился он как-то.
В последнее время он стал все чаще и чаще возвращаться домой пьяный, придирался к Соколовой и даже бил ее.
4 июля 1902 года он отправился с утра в баню и, возвратившись домой, лег на кровать.
— Анюта, поди-ка сюда! — позвал он Соколову.
Она приблизилась к нему.
— Мы должны разойтись! — решительно заявил ей Свиридов.
Соколова едва устояла на ногах.
— Что с тобой? Опомнись!
— Анюта, позволь мне жениться, — перебил ее Свиридов.
— Ты это правду говоришь? — глухо произнесла она.
— Да.
В глазах любовницы, бросившей ради него своего мужа, мгновенно помутилось.
Она задрожала и, как дикий, остервеневший зверь, набросилась на изменника.
В результате произошло ужасное преступление.
— Что со мной случилось тогда — сама не знаю, — говорила после Соколова. — Я схватила утюг и ударила его, а потом еще и еще… Не помню, как била и куда.
Покончив с любовником, молодая женщина отправилась к своему брату, проживавшему в селе Александровском, под Петербургом.
— Иди в полицию, я убила Свиридова, — взволнованно заявила она.
В квартиру ее немедленно сбежались соседи и прибыла полиция. Свиридов лежал на кровати мертвый, страшно обезображенный.
При медицинском освидетельствовании у него были найдены шесть ранений груди. Кости черепа оказались раздробленными, а грудная клетка была сломана, с разрывом легких.
По заключению врача-эксперта смерть Свиридова последовала от кровоизлияния в мозг и в грудную полость.
Привлеченная к уголовной ответственности, убийца предстала перед санкт-петербургским окружным судом. Защитниками с ее стороны выступали присяжный поверенный Адамов и помощник Чекеруль-Куш. Обвинял товарищ прокурора Воронов.
Подсудимая — молодая, невзрачная женщина, 30 лет, с обрюзгшим лицом. С покойным Свиридовым она познакомилась лет девять тому назад, еще в то время, когда была жива его жена. Последняя скоро умерла, и между Соколовой и кондуктором завязались любовные отношения.
Как выяснилось на следствии, Соколова говорила иногда знакомым, что убьет своего любовника, если он вздумает бросить ее.
Между прочим, в обвинительном акте указывалось также, что Свиридов дремал уже, когда любовница начала зверски расправляться с ним.
Весь избитый, он открыл глаза и слабым голосом попросил пить.
Соколова подала ему воду, но он в ту же минуту скончался.
— Признаете вы себя виновной? — спросил председательствующий Д. Ф. Гельшерт у подсудимой.
— Признаю, — последовал тихий ответ.
По словам Соколовой, она не хотела убивать своего любовника, так как любила его больше жизни.
— Я просто не знаю, что со мной сделалось тогда. До сих пор не могу опомниться… Точно страшный сон. Мне никогда не простится этот незамолимый грех.
Из свидетельских показаний обнаружилось, между прочим, что покойный кондуктор был незавидный человек в нравственном отношении. Он пользовался скудным заработком своей любовницы, пьянствовал и несколько раз бросал ее.
В то же время оказалось, что и сама Соколова — несколько странный субъект. В детстве она упала с крутой горы головой и с тех пор страдает сильными головными болями. Во время совместной жизни ее с Свиридовым у нее случались иногда припадки падучей болезни, и с пеной у рта она каталась по земле. Припадки эти по большей части происходили тогда, когда она бывала чем-либо сильно расстроена. Помимо того, в роду подсудимой замечались даже случаи психического заболевания, а отец ее был паралитик.
Невольно зарождалось сомнение в нормальности психического состояния Соколовой.
Находя, что в деле обнаружились новые обстоятельства, имеющие важное значение для обвиняемой, присяжный поверенный М. К. Адамов ходатайствовал о врачебной проверке этих обстоятельств. Перед присяжными заседателями возникал вопрос: была ли Соколова вменяема в момент преступления?
Окружной суд согласился с доводами защиты и постановил дело слушанием отложить и направить его, для доследования, в санкт-петербургскую судебную палату.
УБИЙСТВО ТОВАРИЩА
16 сентября 1901 года в один из петербургских трактиров, носивший заманчивое название «Золотая нива», зашли два молодых человека.
Дружески разговаривая между собой, они потребовали водки и уселись за свободный стол. Рядом с ними находились другие посетители, и тем не менее никто не замечал чего-либо подозрительного в обращении молодых людей. Они не только не ссорились, но даже старались тихо говорить, чтобы не обратить на себя внимания.
После водки они выпили пива, а затем спустя некоторое время один молодой человек приподнялся со стула и направился к выходным дверям. Около порога у него упала на пол шляпа, но он не поднял ее и с непокрытой головой вышел на улицу.
Товарищ его все еще оставался в трактире, и когда половые подошли к нему — они, к своему ужасу, нашли его неподвижно лежавшим на полу в луже крови.
Молодой человек находился уже в бессознательном состоянии, и в левой стороне груди его виднелась широкая ножевая рана.
В трактире поднялся переполох, немедленно прибыла полиция, и раненый был отправлен в ближайшую больницу, но он от тяжелого ранения по дороге скончался.
При медицинском вскрытии трупа выяснилось, что рана молодому человеку была нанесена с такой силой, что одно ребро оказалось перерезанным, а сердечная аорта — проколотой.
Убитый был крестьянин Субботин, по ремеслу портной. Вместе с ним в мастерской М. Андреева, на Ивановской улице, служил также и крестьянин Василий Сапогов — молодой человек, 21 года.
Будучи грубым, вспыльчивым человеком, покойный Субботин часто ссорился со своими товарищами. Накануне преступления, обозлившись за что-то на Сапогова, он облил его из ковша водою, а затем ударил ковшом так сильно, что рассек ему голову до крови.
Последнее обстоятельство, по-видимому, сильно подействовало на Сапогова. Он стал задумываться, был взволнован и находился в крайнем раздражении.
На другой день, утром, возвратившись из бани, Сапогов стал разыскивать в мастерской своего обидчика.
— Где Субботин? — настойчиво спрашивал он.
— Не знаем, — говорили портные, — ушел куда-то.
— Я отыщу его и отомщу… Я никогда еще не видал своей крови, а он мне искровенил голову… Узнает он меня! — волновался Сапогов.
— Ну, полно! Оставь! — пробовали его успокоить.
— Нет! Будет душа его у меня в кулаке!
— Послушай, Василий, да ведь Бог-то велел всем прощать! — вставил один резонер-портной.
— Такую гадину прощать нельзя! — угрюмо возразил Сапогов и ушел из мастерской на поиски обидчика.
Нашел он его в портерной.
Забыв про ссору и ничего не подозревая, Субботин дружелюбно встретил «мстителя».
— Пива хочешь? — предложил он.
Сапогов подсел к нему, и после нескольких стаканов пива они уже вдвоем вышли на улицу.
Вечером они очутились в трактире «Золотая нива», где Субботин и нашел свою смерть.
Разумеется, подозрение в убийстве пало на мстительного Сапогова, который, уйдя из трактира, неизвестно где скрылся и не возвращался уже в мастерскую.
Задержать его удалось только 20 сентября в одной чайной лавке, куда он явился навести справку — насмерть ли зарезан Субботин.
Через четыре месяца Сапогов занял скамью подсудимых в санкт-петербургском окружном суде.
Обвиняемый дал очень сбивчивое, запутанное объяснение.
— Сознаюсь, — говорил он, — ударил ножом… убил…
— А вы хотели убить? — спросил председательствующий А. Ф. Гельшерт.
— Помилуйте, ранить даже не думал!.. Так просто — затмение нашло… Уж очень он меня рассердил.
Судя по дальнейшим словам подсудимого, он хотел только «проучить» дерзкого Субботина, обыкновенно издевавшегося над всеми товарищами.
Свидетели действительно подтвердили, что убитый портной имел тяжелый, сварливый характер и в пьяном виде придирался ко всем, заводя ссоры.
О самом же обвиняемом отзывы были хорошие. Скромный молодой человек, он был добросовестным работником, избегал ссор и хотя выпивал, как все сотоварищи, но на работу постоянно являлся. С покойным Субботиным он обыкновенно поддерживал дружеские отношения, и потому совершенное им преступление удивило всех его знакомых.
Когда в мастерской читались иногда газеты с кровавыми происшествиями, Сапогов глубоко возмущался и говорил:
— Что за безобразия пошли в последнее время! Надо бы прямо давить всех убийц!..
И в результате ему самому пришлось зарезать человека и попасть в уголовную хронику газет.
Товарищ прокурора Бальц в живой, обстоятельной речи доказывал очевидную предумышленность преступления Сапогова и поддерживал против него обвинение.
Со стороны обвиняемого, по назначению суда, выступал присяжный поверенный М. Г. Казаринов.
Защитник коснулся главным образом бытовой стороны, как главного начала всякого уголовного дела.
— Нам важно рассмотреть преступление, как живое дело живого человека, проследить, как оно зародилось, как зрело и как распустилось, — начал защитник. — Нам интересно понять самого преступника, и им исключительно я займусь в своей защите.
Обвинитель утверждает, что Сапогов — преступник по страсти, и руководившая им страсть была — месть. В 9 часов вечера Субботин нанес удар Сапогову, а через сутки Сапогов нанес удар Субботину. Между этими начальным и конечным моментами целый ряд событий, указывающих на развитие преступного замысла: утром Сапогов говорит, что надо отомстить, в три часа грозит, что душа Субботина будет в его кулаке, в четыре идет его искать, в пять находит, в шесть заманивает в трактир и в семь убивает. Это ли не классическое предумышленное убийство?!
Я соглашусь с господином прокурором, юридически картина полная, но чем полнее и тоньше выяснял он отдельные детали этой картины, тем непонятнее делалось для меня все происшествие в целом, как сознательный поступок разумного существа.
Ведь для холодной кровавой расправы нужен прежде всего всякий мотив, нужен, далее, человек нрава жестокого и сильного и, наконец, нужна среда, поощряющая такие расправы, нужна толпа, аплодирующая мстителю.
Что же у нас? Убийца — смирный, робкий труженик, мотив — глупая шутка подвыпившего товарища, а окружающие не только не поощряют, а, напротив, стараются удержать его от мщения разумными увещеваниями.
Мы отлично понимаем, что месть — дело человеческое, слишком человеческое, но все человеческое имеет свои корни и свою почву.
Мы понимаем дикаря, который, умирая, призывает к себе сына и, вместо благословения, коснеющим языком перечисляет ему имена лиц, которых он должен отправить к праотцам. Это в порядке вещей, так как дикарь вырос среди проповеди вражды, в принципе: кровь за кровь, на земле, пропитанной кровью, под небесами, которые населены богами, являющими ему пример жестокости и хищности.
Мы понимаем и утонченного в понятиях о чести рыцаря средних веков, принимающего косой взгляд за кровную обиду и сводящего счеты мечом. И это понятно, так как вся жизнь его течет среди лязга стальных доспехов, среди пышных турниров и среди счетов древностью родов. Все питает и поддерживает в нем культ чести; в этом культе, пожалуй, все его духовное содержание; к этому культу приурочивает он и свою религию и на древке смертоносного копья чертит кроткий лик Мадонны.
Я понимаю, наконец, живущего в подвале сапожного подмастерья, у которого нет никаких понятий ни о рыцарской чести, ни о кровной мести фиджийца и который тем не менее, получив удар от товарища, срывается с места и вонзает ему куда попало шило или сапожный нож по самую колодку. Но когда этот же самый подмастерье произведет за полученный удар отсроченную плату через целые сутки, то я это понять отказываюсь, так как для холодной мести здесь нет достаточного мотива, а для страсти, которая не взвешивает мотивов, прошло уже время.
Есть преступления, совершаемые под влиянием минуты; прошла минута — и уже преступление стало невозможным. Сдержите человека, который только что получил удар и намеревается броситься на оскорбителя; через две-три минуты, когда пароксизм бешенства пройдет, месть его уже не выльется в форму кровавой расправы, а примет другую, менее противоестественную форму.
Но пусть пройдут целые сутки, пусть обиженный выспится, пусть поработает, поговорит с другими; что останется от его первоначального порыва к убийству? Останется неприязнь к обидчику, взвешенная, обсужденная со всех сторон трезвой работой мозга и введенная в надлежащие границы. Холодный рассудок представит ему сотней доводов всю нелепость, всю невыгоду, всю отвратительность той расправы, которую он вчера полубессознательно желал учинить, и предложит ему сотни других, более безопасных, целесообразных и культурных способов получить удовлетворение.
Что же мы видим в настоящем деле? Здесь ход событий как раз обратный. В первый момент Сапогов как-то философски спокойно относится к полученному удару и только через сутки он доходит до пароксизма, до убийства. Мозг его является не сдерживающим, а усиливающим аппаратом. Как и чем питается у него в голове мысль о мести, куда делись все те сдерживающие мотивы, понятия религиозные, страх закона, чувство жалости, самосохранения, которые всегда бдят в нашей душе и при всякой вспышке страсти сбегаются, чтобы затушить и сдержать действие гибельного пламени, — я этого понять не могу. И сам он не может себя понять; он пытается объяснить, но объяснения его представляются искусственными и неестественными, так как он хочет в обыкновенные, нормальные формы уложить чувства и события, выходящие за границы нормальности.
По мнению сотоварищей, Сапогов никаких странностей никогда не проявлял, был только несколько сосредоточен и замкнут, очень тих и молчалив. Вот эта-то особенная тишина и представляется мне в его возрасте не совсем благоприятным признаком.
Тоже несколько странными кажутся мне те слова: «Я бы душил убийц», которые он с негодованием произносил, когда из газет узнавал о случившемся убийстве. Тысячи людей пробегают ежедневно небрежным взором дневник приключений, обильный убийствами, и никого эти убийства за живое не задевают, а для Сапогова это служит точкой особенного размышления и негодования.
Он неравнодушен к крови. Когда после удара, нанесенного Субботиным, он провел рукой по лбу и увидел кровь, — он произнес как бы сам про себя: «Первый раз кровь из себя вижу». И это обстоятельство, очевидно, обладает для него какой-то мистической силой, налагает на него какие-то обязанности, жертвой которых он затем и становится.
Под впечатлением впервые виденной из себя крови он засыпает. Во сне мозг не бездействует, — происходит, помимо нашей воли, творческая работа. Известный историк Мишле рассказывает, что перед сном он читал исторические материалы, наполнял свою голову массою несвязных фактов — и к утру мозг его все эти факты уже приводил в систему, связь событий становилась ясна, за ночь мозг исполнял громадную работу.
Так и в голове Сапогова помимо воли за ночь созревает своего рода шедевр. Утром он заявляет товарищу, что должен отомстить Субботину. Эта идея, навязавшаяся за ночь, обладает неотразимой силой; бороться против нее бесполезно, освободиться от нее одно средство — это осуществить ее. До этой точки доходит и Сапогов.
В каждом преступлении, совершенном нормальным человеком, мы можем различить: во-первых, достаточный мотив, во-вторых, внутреннюю борьбу человека, замыслившего преступление, со всем запасом его моральных сил; затем всегда налицо чувство самосохранения, рекомендующее человеку совершить преступление наиболее безопасным для себя, обыкновенно тайным способом. И, наконец, можем различить со стороны преступника некоторую расчетливость, так сказать, экономию зла. Всякому человеку свойствен ужас перед злом, и никто не станет совершать зло излишнее, а ограничится злом необходимым.
В настоящем деле я не вижу мотива для убийства, не могу уловить ни малейших признаков внутренней борьбы, ни тени чувства самосохранения. Предо мною громадная лужа человеческой крови, и я не могу понять, для чего она пролита.
По моему убеждению, Сапогов — субъект, затронутый душевным недугом, и стоит на границе между преступниками по страсти и преступниками психически ненормальными.
Почему же, скажут, я не настаивал, в таком случае, на вызове медицинской экспертизы? Потому что, по моему убеждению, психиатрическая экспертиза на суде бесполезна в двух случаях: когда мы имеем дело с явно сумасшедшим человеком и когда душевное расстройство выражено столь слабо, что его нельзя ни исследовать, ни определить, а только можно инстинктивно угадывать. В этом случае, думается мне, для психиатра-специалиста опасность отвергнуть существующую ненормальность даже больше, чем для всякого другого наблюдателя, потому что у специалиста на все болезни существуют готовые названия и категории, и то ненормальное состояние, на которое у него нет готовой койки в клинике, он склонен не признавать вовсе за болезнь. А что должны быть такие нерасследованные болезни, в этом не должно быть сомнения. Ведь в то время как другие науки считают свой возраст тысячелетиями, психиатрия, как наука, считает за собою только десятки лет. Ведь не так уж давно было время, когда целыми толпами и судили и жгли, под кличкой колдунов и ведьм, людей явно больных, которые теперь наполняют клиники отделения для истеричных.
Что же не вступались за них врачи? Увы! — их роль была несколько иная. По каждому процессу в судилище вызывался врач, и он должен был, вооруженный ланцетом, отыскивать на теле обвиняемого печать дьявола, — нечувствительное место, — и старания его всегда почти венчались успехом, так как у истеричных субъектов почти всегда имеются на теле такие нечувствительные места. Так, усилия врачей сводились некогда к осуждению явно больных людей. Мне не придет, конечно, в голову, что и теперь иногда врач в уголовном процессе играет такую же роль, но ведь и тогда это никому не приходило в голову.
Не будучи специалистами, вы можете чуять ненормальность в деянии другого человека, точно так же, как не имея понятия ни в гармонии, ни в контрапункте, мы можем сразу чувствовать взятую музыкантом фальшивую ноту.
Достояния психиатрии, как ни трудна и отвлеченна эта наука, являются в известной мере и достоянием нашим, и, не будучи специалистами, мы можем наметить, что приблизительно сказали бы врачи, если бы на их заключение было предложено настоящее дело. Они, конечно, не упустили бы из виду обследовать ту небольшую ранку на голове подсудимого, которую нанес ему ковшом Субботин. Но эта рана зажила бесследно, не оставив даже рубца, и сказать категорически — не породил ли удар ковшом в мозгу Сапогова какие-либо временные болезненные процессы, во время которых он учинил преступление, — врачи не имели бы возможности. Они бы ограничились общим указанием, что иногда самые ничтожные повреждения головы производят серьезные заболевания, а иногда, наоборот, сравнительно сильные ушибы минуют бесследно. Далее врачи исследовали бы степень опьянения Сапогова и признали бы, что его опьяненное состояние было таково, что не лишило его возможности совершить ряд последовательных и обдуманных действий; но вслед за сим врачи должны бы были признать, что науке известен алкоголический транс, находясь в котором человек совершает целый ряд последовательных действий, но тем не менее сознательность его поступков — только кажущаяся, и ответственным в них он являться не может.
Такой приблизительно материал дали бы нам врачи, и разбираться в этом материале, в конце концов, пришлось бы опять-таки вам. Поэтому я решил не настаивать на вызове психиатрической экспертизы; вопрос этот я спокойно предоставляю вам, глубоко уверенный, что при малейшем убеждении, что врачи могут пролить свет на это дело, вы и сами не преминете воспользоваться вашим правом потребовать от суда направления дела к доследованию.
Итак, мое убеждение, господа присяжные заседатели, что Сапогов стоит на границе преступников по страсти и преступников психически больных. Что делать с такими людьми? Преступников явно ненормальных надлежит заключать в уголовный дом умалишенных, здоровых следует карать по законам, но с такими пограничными типами нельзя делать ни того, ни другого.
Так неужели отпускать их безнаказанно? — спросите вы.
Нет, есть кара и для них! Природа, на вид немая и безучастная, является их неумолимым судьей. В наше время, когда учение любви к ближнему уже двадцать веков главенствует над миром, культурный человек складывается так, что не может безнаказанно попирать заповедь «не убей». Пусть, как некогда, разобьется скрижаль, на которой эта заповедь написана, все равно она будет жить в плоти и крови человеческой, она сделалась второй природой его, а природу нельзя попирать безнаказанно. Она налагает свою кару, не ту кару срочную, которая в конце концов, примиряя человека с содеянным им злом, вносит мир и облегчение в измученную душу, — нет, карающая природа вносит разложение в самую душу человеческую. Взгляните на подсудимого: разве, убив товарища, он тем же ударом ножа не поразил и самого себя? Разве он не связан на всю жизнь свою с трупом убитого? Два дня после убийства проводил он время в вертепах, заглушая голос совести в жалких оргиях, а на третий день его потянуло к трупу, и он пошел расспрашивать об убитом. И всегда в жизни будет он возвращаться к этому трупу, все будет напоминать ему о том, что он — убийца. Заведут ли перед ним когда-либо речь о случившемся где-нибудь убийстве, уж он не скажет, как бывало: «А я бы вешал убийц»; он подавит эту мысль, и она ядовитым осадком останется в его душе. Зайдут ли в праздничный день в мастерской шутки и игры, он может быть спокоен, — никакая шутка его не коснется: он купил себе покой ценой убийства. Куда бы ни шел, что бы ни делал, голову его всегда будет клонить к земле, где вместе с убитым товарищем зарыты его покой, его счастье.
И это в двадцать один год, когда перед человеком заманчиво и опьяняюще стоит непочатая чаша жизни!
— Чаша эта теперь вверяется вам, — красиво закончил присяжный поверенный М. Г. Казаринов, — через полчаса вы возвратите ее нам. Чем дополните вы ее?.. Будет ли то прощение, будет ли осуждение… не все ли равно, — чаша отравлена.
Другой защитник, помощник присяжного поверенного О. С. Трахтерев, с своей стороны, указал присяжным заседателям на то, что они имеют дело не с уголовным преступником, а с несчастным человеком.
После непродолжительного совещания присяжные заседатели признали Василия Сапогова виновным лишь по последнему вопросу и дали ему снисхождение. На основании этого вердикта окружной суд приговорил Сапогова к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на полтора года.
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ РАЗБОЙНИК
В санкт-петербургском окружном суде рассматривалось дело о разбойническом нападении на эконома Александро-Невской лавры, архимандрита Никона.
Происшествие это имело место в самой лавре в начале 1902 года.
Находясь в своей келии, отец Никон вечером, 11 февраля, услышал, что кто-то вошел в переднюю комнату его келии.
— Кто там? — спросил архимандрит.
Дверь келии тихо отворилась, и на пороге ее показался неизвестный молодой человек.
— Вам что угодно? — осведомился отец Никон.
— Меня прислал к вам отец протоиерей Владимирской церкви. Он просит, чтобы вы, батюшка, отслужили панихиду по скончавшемуся регенту этой церкви, — объяснил незнакомец, оглядываясь по сторонам.
Отец Никон чувствовал себя в это время нездоровым и потому принужден был отказаться от служения панихиды.
— Обратитесь к кому-нибудь другому, а я не могу сейчас ехать, — сказал он.
— Так вы, батюшка, напишите об этом записку.
— Что ж мне писать? Вы так передайте.
— Нет, все-таки напишите, — настаивал незнакомец.
Архимандрит, ничего не подозревая, вышел в соседнюю комнату и стал писать.
Когда он вернулся через минуту к незнакомцу, последний показался ему возбужденным.
— Вот и записка, — проговорил архимандрит.
Незнакомец взял записку и направился с ней в переднюю комнату.
Вдруг отец Никон заметил, что лежавшие до этого на столе два дорогих наперсных креста из серебра с позолотой, осыпанные драгоценными камнями, исчезли.
— Молодой человек! — крикнул отец Никон. — Не входил ли кто-нибудь сюда, пока я писал?
— Нет, никого не было, — смутился незнакомец.
— Как же? У меня тут два креста находились.
— За кого ж вы меня считаете?! — обиженно произнес незнакомец, сжимая что-то в руке.
— А что у вас там в руке? — стал допытываться архимандрит.
— Ничего…
Молодой человек резко шагнул к отцу Никону и взмахнул рукой.
Тяжелый железный молоток ударил отца Никона по голове.
Кровь хлынула из половы архимандрита, и он едва устоял на ногах, ошеломленный неожиданным разбойническим нападением. Воспользовавшись этим, незнакомец быстро побежал из келии.
— Держите его! — закричал отец Никон и, обливаясь кровью, в свою очередь выбежал к привратнику.
Несмотря, однако, на погоню, дерзкий злоумышленник успел скрыться в темноте.
При осмотре около ворот Александро-Невской лавры было найдено в снегу и орудие преступления — массивный молоток с раздвоенным концом.
Немедленно были произведены необходимые справки, и оказалось, что история с панихидой была вымышлена незнакомцем.
Протоиерей Владимирской церкви и не думал посылать кого-либо к отцу Никону, тем более что регент этой церкви был здрав и невредим.
Вскоре полиция узнала, что на третий день после разбойнического нападения в Александро-Невской лавре в магазине античных вещей Рукавишникова, на Казанской улице, явился неизвестный молодой человек и продал за бесценок несколько обгорелых серебряных кусков, по-видимому, от креста.
Купив эти куски, магазин, для безопасности, взял у молодого человека его визитную карточку, на которой было напечатано:
«Михаил Степанович Гаврилов. Лесной корпус, Новая, 18».
При расследовании обнаружилось, что в Лесном корпусе, в том же доме проживал некто Лебедев, служивший чиновником в управлении государственных сберегательных касс.
Прибыв в его квартиру, агенты сыскной полиции застали в ней молодого человека, подозрительно державшего себя. По описанным отцом Никоном приметам, человек этот очень походил на нападавшего на него разбойника.
Когда был произведен обыск в квартире, то под подушкой молодого человека было найдено небольшое Распятие, сделанное из синей эмали.
Молодой человек был арестован, и, назвавшись на допросе нигде не приписанным Федором Ивановым, он сознался в разбойническом похищении драгоценных крестов у архимандрита Никона.
По его словам, к преступлению побудила его безысходная нужда. При жизни отца он сравнительно жил хорошо; но когда отец умер, он стал бедствовать вместе со своей матерью. Последняя с каждым днем начала все более и более пьянствовать и тратила на водку все свои скудные деньги, которые зарабатывала шитьем.
Сыну приходилось голодать, и он, наконец, решил бросить мать.
Так как покойный отец служил раньше в управлении государственных сберегательных касс, то Федор Иванов обратился за помощью в это учреждение. На первое время сослуживцы отца оказали ему некоторую материальную поддержку и по их протекции Федор был даже принят на службу в управление, в качестве писца. Однако жалованье ему было положено самое ничтожное — всего 10 рублей в месяц. Ему пришлось бедствовать и задолжать всем своим знакомым. Под конец ему перестали давать взаймы деньги, помощи ниоткуда не предвиделось, и он задумал во что бы то ни стало раздобыть нужные средства.
Раньше обыкновенно ему часто приходилось бывать в Александро-Невской лавре, и потому он хорошо успел ознакомиться с ее расположением.
Не долго думая, Иванов остановился на мысли «попытать счастья» в этой священной обители и украсть какую-нибудь дорогую вещь.
С этой целью он купил по дороге, на случай защиты, железный молоток, спрятал его в карман пальто и вошел в лавру через незапертую входную дверь…
После преступления, когда Иванову удалось скрыться от погони, он приступил к сбыту похищенных крестов, стоивших около 300 рублей. Первоначально он снял с них серебряные цепи и снес их в заклад; потом вынул драгоценные камни и, сбыв их в Чернышевой переулке, остальное серебро в ломе продал в магазин Рукавишникова.
Незадолго до этого Иванов, по его же признанию, похитил из управления сберегательных касс, где служил, пишущую машинку и часы. Заложив эти вещи, он растратил вырученные деньги и к 11 февраля остался с 75 копейками в кармане. Из этих денег ему пришлось еще издержать 40 копеек на приобретение молотка, в надежде на выгодную кражу.
Преступнику от роду было всего 16 лет.
Ввиду такого юного возраста возникло сомнение в его умственной зрелости, и 20 марта он был освидетельствован в заседании санкт-петербургского окружного суда, который признал его действовавшим во время преступления с разумением.
В результате Иванов предстал перед присяжными заседателями.
Дело слушалось по 1-му уголовному отделению, под председательством П. К. Камышанского.
Защищал подсудимого присяжный поверенный Клименко и со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Попов.
Подсудимый, незаконнорожденный сын мещанки, выглядел совершенным мальчиком, в котором трудно было заподозрить разбойника. Только жесткое, холодное выражение его глаз производило неприятное впечатление. Держался он на суде самоуверенно и спокойно, хотя, видимо, пытался временами вызвать к себе жалость со стороны присяжных заседателей.
— Признаете вы себя виновным? — задал обычный вопрос председательствующий.
— Да, виноват, — без колебания ответил Иванов.
— Что же вас побудило к этому?
Подсудимый начал рассказывать о своей жизни.
— Мне много раз приходилось голодать, — говорил он. — Я страшно нуждался, хотя и служил в управлении. На квартиру свою я принужден был не ходить.
— Почему же?
— Я… украл у одного жильца шесть рублей. Мне очень нужны были деньги.
— На что вам деньги? Ведь вы же еще мальчик.
— Ну, как же… одеться и все прочее такое… После я украл пишущую машинку.
— Сколько ж вы выручили за нее?
— Тридцать пять рублей. Купил себе костюм и сапоги… Через две недели я снова остался без денег. Все бедствовал. Вот я и направился в лавру.
На суде фигурировал, в числе других свидетелей, и пострадавший архимандрит Никон.
Это — почтенный, бодрый старец, лет 73. При освидетельствовании, у него была найдена на голове, в темяной области, большая рана. Тем не менее, благодаря своему здоровому организму, отец Никон легко перенес ее, хотя и проболел месяца полтора.
Свидетельские показания лишь подтвердили данные обвинительного акта.
Поэтому, основываясь на судебном следствии, товарищ прокурора поддерживал против Иванова обвинение.
С своей стороны, защитник подсудимого сослался на его молодость и на тяжелые ненормальные условия жизни, в которых он находился, и ходатайствовал о снисхождении.
После резюме председательствующего присяжные заседатели удалились в совещательную комнату и вынесли Федору Иванову обвинительный вердикт, признав его виновным в разбойническом нападении, но заслуживающим снисхождения.
Резолюцией суда он был приговорен к заключению в тюрьму на три года.
Ввиду несовершеннолетия его поместили в особое отделение тюрьмы.
ДРАМА В БУЛОЧНОЙ
А. М. Головкин был простой рабочий, каких много в Петербурге, но тем не менее любил прифрантиться, щеголял белыми бумажными воротничками и считал себя неотразимым победителем женских сердец.
Зимой 1901 года он одно время был без дела, а затем ему удалось поступить пекарем в булочную Скробина.
За кассой в этой булочной обыкновенно сидела миловидная девушка, хозяйская дочь, и на нее-то вновь поступивший пекарь обратил свое благосклонное внимание. Однако — увы! — несмотря на все ухаживания Головкина, девушка оставалась равнодушной к нему. Мало того, новый пекарь почему-то не понравился и самому хозяину, и тот вскоре уволил его.
Такой неожиданный оборот дела не входил в расчеты Головкина, и потеря места, по-видимому, сильно взволновала его.
Потерпев неудачу, он стал задумываться и затаил что-то на сердце.
2 февраля в полдень Головкин зашел в булочную к своим прежним сослуживцам-пекарям и вместе с ними ушел в ближайший трактир. Просидев там некоторое время, он около 6 часов вечера возвратился обратно в пекарню.
В булочной находились около кассы дочь хозяина Анисья Скробина, ее мать и приказчик Масолов. Сюда же вскоре пришел за хлебом и домовый дворник, крестьянин Левин.
Оставив вместо себя за кассой мать, Анисья Скробина хотела уйти домой и вышла в соседнюю комнату, чтобы надеть зимнюю кофту. Следом за ней туда же прошел и Головкин.
Не успела молодая девушка одеться, как вдруг Головкин выхватил из кармана револьвер и пустил в нее в упор три пули. Одна из них слегка задела ее грудь, а две другие попали в спину и подмышку.
Внезапно раздавшиеся выстрелы произвели переполох в булочной. Старик Скробин и дворник прибежали на помощь к девушке и увидели в руке Головкина дымившийся еще револьвер. Дворник не растерялся и немедленно отнял у преступника револьвер и хранившиеся в кармане 37 боевых патронов.
Затем Головкин был препровожден в полицейский участок, где на допросе признался, что он имел намерение убить и себя, и хозяйскую дочь. По его словам, он был влюблен в последнюю, и она отвечала ему первоначально взаимностью. Но спустя некоторое время девушка, видимо, охладела к нему и стала обращать особенное внимание на приказчика Масолова.
Получив отказ от места, Головкин уехал в Выборг искать себе занятий, но чувство ревности не давало ему покоя. И вот, чтобы отомстить изменнице, он решил застрелить ее, а затем покончить и с собой. С этой целью Головкин приобрел в Выборге револьвер и пачку патронов и вернулся в Петербург.
Пострадавшая девушка была отправлена в Обуховскую больницу. Раны, к счастью, оказались легкими, и она вскоре выздоровела.
На допросе Анисья Скробина утверждала, что рассказ Головкина — наглая ложь. Он ей нисколько не нравился и не пользовался никаким вниманием с ее стороны, несмотря на его назойливые ухаживания. Так же равнодушно она относилась и к воображаемому Головкиным сопернику, приказчику Масолову.
Несмотря на такое категорическое утверждение Скробиной, некоторые рабочие все-таки высказались, что она иногда целовалась с Масоловым и вообще любила «канителиться» со служащими своего отца.
На следствии Головкин добавил, что он сам видел, как Анисья Скробина садилась на колени к Масолову и целовалась с ним.
Раньше же она благоволила к нему, Головкину, и дарила его своими поцелуями. Поэтому он не раз провожал ее из булочной на квартиру и твердо был уверен в ее любви, пока не убедился в противном.
Привлеченный к уголовной ответственности за покушение на убийство, А. М. Головкин осенью прошлого года занял скамью подсудимых в санкт-петербургском окружном суде.
Обвиняемому всего 19 лет. Безусый, франтоватый парень, коротко остриженный, он невольно обращал на себя внимание своей растерянностью. Говорил он медленно и бессвязно.
— Хотел убить ее, — с тупым видом объяснил он на суде и рассказал, что он знаком был со Скробиной всего три недели, но, несмотря на это, все-таки успел завоевать ее расположение. Когда об этом узнал старик Скробин, он немедленно же рассчитал его.
После, когда Головкин узнал про поцелуи хозяйской дочери с приказчиком Масоловым, он начал упрекать Анисью в коварстве.
— Что ж я поделаю? Он сам пристает ко мне, — возразила будто бы на это Скробина.
С горя отвергнутый пекарь стал пить. Возвратившись из Выборга в Петербург, он выпил в трактире коньяку, а затем направился в Спасский переулок, где была булочная Скробина, чтобы покончить с коварной девушкой.
— Говорила ли вам Анисья Скробина, что любит вас? — спросил у Головкина председательствующий.
— Нет, не говорила.
— Почему же вы считали себя вправе стрелять в девушку, которая ничего вам не говорила о своей любви?
— Не знаю, — ответил подсудимый и растерянно посмотрел на присяжных заседателей.
— Вы ее любили?
— Любил.
— Неужели вам доставило бы удовольствие видеть ее мертвой?
— Я хотел и ее, и себя застрелить, чтобы она не принадлежала другому.
Из свидетельских показаний обнаруживается также, что, задумав преступление, Головкин попросил у своих товарищей-пекарей папиросу.
— Это в последний раз покурить мне на воле, — говорил он при этом загадочно.
В качестве свидетельницы фигурировала и пострадавшая Скробина — молодая девушка, 18-ти лет, с красивым лицом.
— Он мне не нравился и к тому же был совершенно неподходящей партией для меня, — откровенно заявила она.
Основываясь на судебном следствии, товарищ прокурора Воронов поддерживал против Головкина обвинение в предумышленном покушении. Судя по хладнокровным йриготовлениям подсудимого к преступлению, он должен был действовать вполне расчетливо и предусмотрительно. Между тем решительно никакого повода к сведению кровавых счетов с молодой девушкой он не мог иметь. Да если бы даже и признать мотивом преступления — ревность, то откуда она могла появиться? Ни молодая девушка, ни ее ухаживатели не имели никакого близкого отношения к Головкину и не давали ему права для жестокой расплаты за отвергнутую любовь. Анисья Скробина, как хозяйская дочь, едва ведала о существовании ревнивого пекаря и совсем не подозревала, что она может дать своему рабочему какой-либо повод к мести. А между тем физически и нравственно ничтожный Головкин мстит ей и приговаривает ее к смертной казни через расстрел. Как возмездие за это, суд должен применить к нему высшую меру наказания, и присяжные заседатели не должны поощрять диких, кровавых расправ, учиняемых разными Головкиными якобы во имя любви.
Наоборот, защищавший подсудимого помощник присяжного поверенного М. С. Маргулиес указал на резкий контраст между формулой, в которую облечен законом поступок Головкина, и житейской обстановкой этого уголовного дела. Кто такой Головкин? — 19-летний, тупоумный субъект, недоразвившийся физически, но зато всецело отдавшийся во власть захватившего его чувства. В связи с этим становится несколько странным, когда его называют «убийцей», а его деяние — покушением на убийство. Ведь сама «жертва» его, Анисья Скробина, в настоящее время жива, здорова и полна надежд на счастливое будущее.
Какой путь избрать для решения участи подсудимого — должны догадаться сами присяжные заседатели: тот ли, на который властно указывает закон, или другой — путь жизни?
По мнению защитника, Головкин не понимал ясно всех своих действий, точно так же, как не понимал и того, что легкие, поверхностные отношения между ним и молодой девушкой не представляют никаких существенных данных для его дальнейших претензий. Вся ошибка его заключается в том, что, ничего еще не испытав раньше, он в каждом ласковом слове любимой девушки, в ее мимолетной улыбке обманчиво видел уже надежду и право на чувство. В результате под влиянием любви и ревности он дошел до исступления.
Если же отвергать любовь, как мотив преступления, то надо будет признать, что он не более, не менее как психически больной человек. Другого какого-либо мотива для его действий нельзя подыскать. Именно только любовью, первой любовью молодого юноши, и можно объяснить зарождение у него дикой мысли покончить смертью с любимой девушкой.
Присяжные заседатели должны судить его не как преступника, а исключительно как блудного сына.
На эту речь товарищ прокурора сделал возражение в том смысле, что предложение помиловать Головкина является со стороны защиты как бы призывом к беззаконию.
— Господа присяжные заседатели! — с своей стороны заметил защитник. — Меня обвиняют в беззаконии. С высоко, поднятой головой встретил я это обвинение. С той скамьи, которую я имею честь занимать, десятки лет мои товарищи по оружию призывают вас к этому беззаконию и десятки лет с вашей скамьи, господа присяжные, в ответ на этот призыв, раздается: «Нет, не виновен».
После непродолжительного совещания присяжные заседатели вынесли А. М. Головкину оправдательный вердикт.
СВЯТОТАТСТВО КОНСТАНСКОГО
В 1903 году, 7 марта, санкт-петербургский окружной суд принял необычный, торжественный вид.
Судебным заседанием руководил сам председатель суда Н. С. Крашенинников, а со стороны обвинительной власти выступал прокурор С. Д. Набоков. За креслами судей виднелись другие представители прокурорского надзора, товарищи председателя и члены суда.
Публика допускалась только по заранее розданным билетам. Тем не менее с раннего утра и до позднего вечера суд осаждался массой любопытных, тщетно добивавшихся возможности проникнуть в зал.
Слушалось дело Александра Павловича Констанского, обвинявшегося по 1 ч. 221 ст. улож. о наказ.
Защиту подсудимого взял на себя присяжный поверенный М. К. Адамов.
Обвиняемый Констанский — сын священника, потомственный почетный гражданин. Ему 42 года. С интеллигентным худощавым лицом, обрамленным небольшой острой бородкой, с высоким лбом и хмурым, апатичным взглядом, он производил неопределенное, скорее жалкое впечатление.
На все вопросы Констанский давал очень тихие, короткие ответы.
По открытии заседания приступили к чтению обвинительного акта.
Минувшей зимой, 5 февраля, в Петербурге, сторожа Исаакиевского кафедрального собора, совершая около пяти часов утра обычный обход, обнаружили, что одно из нижних стекол в окне левого придела, выходящего к Александровскому саду, разбито, а стекло наружной летней рамы взломано. Осколки стекла валялись между обеими рамами и на большом столе под окном. Здесь же найден был оставленный злоумышленником кусок перерезанного по диагонали черного коленкора с пятнами крови, которая виднелась также на болте, соединяющем рамы, и на снегу под окном. Войдя в собор, сторожа увидели, что находившийся на особом аналое перед клиросом образ Нерукотворенного Спаса был перенесен с аналоя на пол правого клироса. Стекло на образе было разбито, а с золотой ризы исчез обрамлявший лик Спасителя золотой венчик с бриллиантами. Как на самой раме образа, так и на пелене и многочисленных осколках разбитого стекла заметны были кровавые пятна.
Через три дня после этого до сведения судебной власти дошло, что 4 февраля в 12-м часу ночи к проживавшей в доме № 102, по Фонтанке, жене потомственного почетного гражданина Анне Ефремовой Констанской, живущей отдельно от мужа и содержащей себя и малолетнюю дочь ручным трудом, являлся муж ее А. П. Констанский, не имеющий определенных занятий, ведущий разгульную жизнь и ночевавший обыкновенно по ночлежным домам. Поздоровавшись с женой, он попросил позволения переночевать.
Констанский принес с собой какую-то вещь полукруглой формы, завернутую в грязную белую тряпку. Желая, по-видимому, показать эту загадочную вещь жене, он стал вызывать ее на площадку лестницы, но Анна Констанская, опасаясь со стороны мужа какого-либо насилия, подумала, что в свертке находится револьвер, и отказалась идти на площадку.
— Ты мне здесь покажи, — сказала она в присутствии своей сестры Ольги и матери.
— Ну и черт с вами! Раньше я ни с кем не делился и теперь не поделюсь! — ответил на это Констанский и спрятал куда-то таинственный сверток.
Ложась спать, он снял бывшее на нем пальто, и жена увидела на правом рукаве его рубашки большое кровавое пятно. На ее вопрос, где он поранился, Констанский начал сбивчиво объяснять, что он будто бы подрался с кем-то в трактире. Проспал он почти весь день 5 февраля. В промежутках между сном Констанский рассказывал жене, что скоро он наживет большие деньги и будет богаче всех своих родственников.
Переночевав у жены еще одну ночь и заняв у нее на дорогу 1 рубль 70 копеек, Констанский утром 6 февраля уехал в село Орелье Новгородского уезда, к матери — вдове священника, Ольге Констанской, и сестре Александре Павловне, жене местного священника Пестовского. Здесь он стал говорить о том, что получит вскоре 52 тысячи рублей, если отправится в какой-то дальний город. Для этого предварительно ему необходимо было съездить в Новгород и познакомиться с тамошними ломбардами.
9 февраля Констанский был задержан. При освидетельствовании у него была найдена на правой руке, несколько выше локтя, небольшая рана, длиною около З 1/2 см, образовавшаяся, по мнению врача, от пореза ножом или стеклом.
На допросе у судебного следователя Констанский объяснил, что в свертке, который он приносил с собой к жене, находилась бутылка наливки, купленная им в подарок для жены по случаю бывших накануне ее именин. Так как жена встретила его весьма недружелюбно, то он ей наливки не подарил, а выпил сам на следующий день.
Повреждение над локтем правой руки он получил, будто бы упав на улице от удара, нанесенного ему каким-то ломовым извозчиком.
Тем не менее ввиду несомненных улик Констанскому пришлось после отказаться от этого объяснения, и он чистосердечно повинился в краже бриллиантов из Исаакиевского собора.
По словам Констанского, он проживал в Петербурге отдельно от жены, без определенных занятий, сильно пьянствовал, пропивал свое платье и, проводя время днем в трактирах и чайных, ночевал в ночлежных домах.
За неделю до 4 февраля он задумал совершить кражу в Исаакиевском соборе, так как из описаний последнего и из рассказов сторожей, дававших объяснения посетителям, знал, что там имеются на некоторых иконах украшения большой ценности. Чтобы проникнуть в собор, Констанский несколько раз ходил по ночам вокруг него, но каждый раз боялся приступить к делу или потому, что был пьян, или же вследствие овладевавшего им непонятного волнения. Наконец, он убедился, что дежурившие около собора сторожа по ночам спокойно спят и совершить кражу не воспрепятствуют.
4 февраля Констанский решил привести свой замысел в исполнение. Около двух часов дня он купил в лавке на Сенной площади аршин черного коленкора и разрезал его пополам на два треугольника, так как предполагал ломать углы стекол в окнах собора, отчего должны получиться треугольные отверстия. Эти-то отверстия на время совершения кражи он и думал завесить изнутри коленкором, чтобы они не были заметны снаружи.
В 11-м часу вечера Констанский явился к собору, проник с северной стороны за поленницу и здесь, в пространстве между поленницей и стеной собора, снял пальто и шапку. Поднявшись затем по громоотводу на карниз, он пробрался к окну, выдавил наружное стекло рукою и вошел в промежуток между рамами.
В это время Констанский разрезал себе правую руку осколком стекла. Выдавив ногами стекло внутренней рамы, он спустился через образовавшееся отверстие на стоящий под окном стол, с которого и сошел на пол собора. Затем Констанский отправился к царским вратам главного алтаря, против которого, как он знал, стояли иконы с наиболее ценными украшениями, и подошел к иконе Нерукотворенного Спаса. Сняв эту икону вместе с киотом с аналоя, он поставил ее на пол клироса к решетке, накрыл для удобства пеленой, взятой с соседнего аналоя, и быстро выдавил коленом стекло киота. После этого он без особенного труда сорвал венчик с бывшими на нем бриллиантами, согнул его и, завернув в платок, выбрался из собора тем же путем, через окно. Спустившись опять по громоотводу, он надел пальто и шапку и отправился к жене. Последняя ничего не знала о совершенном ее мужем преступлении. Переночевав у жены две ночи, Констанский отправился в село Орелье и здесь, в доме сестры Александры Пестовской, разобрался в похищенном. Сняв бриллиантовые украшения с венчика, он завернул их отдельно; самый же венчик при помощи ножа и молотка разрубил на мелкие куски и также завернул. Уложив оба пакетика в жестянку, он спрятал ее в подполье дома своей матери, рассчитывая впоследствии сбыть похищенное по частям, в разных городах.
Согласно показаниям Констанского, судебные власти, прибыв в ночь на 11 февраля в село Орелье, действительно разыскали в подполье небольшого домика, принадлежащего матери обвиняемого, жестянку, в которой оказались аккуратно сложенными в отдельные пакетики бриллиантовые украшения, снятые с венчика и составляющие несколько греческих букв. Главная центральная буква была сделана из очень ценного бриллианта большого размера, окруженного меньшими бриллиантами. Всех бриллиантов оказалось по счету восемь-девять, на сумму, по оценке экспертов, от 40 до 50 тысяч рублей.
Золотой венчик был найден изрезанным на 65 частей. Венчик вместе с бриллиантами был немедленно же возвращен в хозяйственное управление Исаакиевского собора.
— Признаете себя виновным? — задал обычный вопрос председатель, когда было закончено чтение обвинительного акта.
— Что я раньше показал, то и теперь скажу… Родился я несчастным — несчастным и кончаю, — глухо произнес подсудимый.
— Хотите что-нибудь рассказать?
— Не могу…
Всех свидетелей вызывалось более 20 человек, а в качестве экспертов были приглашены известные петербургские ювелиры.
Чтобы эксперты могли осмотреть похищенные бриллианты непосредственно перед присяжными заседателями, суд командировал в хозяйственное управление Исаакиевского собора чиновника, при судебном приставе, с просьбой доставить эти бриллианты на судебное заседание.
Между прочим, был прочитан протокол осмотра Исаакиевского собора после преступления. Так как протокол этот не давал полной картины, то прокурор возбудил ходатайство об осмотре собора на месте судьями и присяжными заседателями.
Защитник обвиняемого присяжный поверенный Адамов присоединился к этому ходатайству, и окружной суд постановил произвести всем составом осмотр Исаакиевского собора.
На заседание явился также, в качестве эксперта, и представитель фирмы «Тэт», торгующей поддельными бриллиантами.
Он не говорил по-русски и потому давал свои объяснения через переводчика на немецком языке.
В 3 часа дня в суд были доставлены бриллианты, похищенные Констанским из Исаакиевского собора и запечатанные в маленькой коробочке. Коробочка тут же перед судом была вскрыта.
— Господа эксперты, потрудитесь осмотреть эти бриллианты и дать свое заключение об их свойствах и ценности, — предложил председатель.
При предъявлении бриллиантов присяжному поверенному Адамову последний обратил внимание суда на то, что на самом большом бриллианте имеются царапины, а некоторые маленькие бриллианты хотя и составляют одну греческую букву, но не подходят друг к другу по своему цвету и блеску.
— Может ли быть на настоящем бриллианте царапина, раз он считается самым твердым камнем? — задал вопрос защитник.
Эксперты удалились с бриллиантами в особую комнату на совещание и пришли к единогласному заключению, что похищенные Констанским бриллианты — настоящие драгоценные камни и что на бриллианте, вследствие плохой шлифовки, могут иногда замечаться царапины.
Похищенные бриллианты экспертиза оценила в сумме до 50 000 рублей.
После заключения экспертов санкт-петербургский окружной суд в полном составе выезжал осматривать Исаакиевский собор.
Рассмотрение дела ввиду сложности судебного следствия затянулось на три дня.
По свидетельским показаниям, подсудимый — странный, слабовольный человек, в нормальности которого защита сильно сомневалась.
Свидетель Романкевич говорил, между прочим, что жена подсудимого жаловалась как-то своему знакомому, дьякону Вознесенскому, на неудавшуюся семейную жизнь. Констанский ничего не хотел делать, злоупотреблял спиртными напитками и, ссорясь с женой, не останавливался перед кулачной расправой.
Из сбивчивого рассказа жены подсудимого, проговорившейся о пораненной руке мужа, дьякон Вознесенский догадался, что похищение бриллиантов из Исаакиевского собора — дело рук Констанскога.
Приходясь троюродным братом подсудимому, дьякон Вознесенский был близко знаком с ним и невольно обратил внимание на его несколько странное поведение.
По мнению этого свидетеля, у Констанского раньше были убеждения безусловно честные. Заботясь об улучшении участи Констанского, не имевшего никаких занятий, Вознесенский хлопотал одно время об определении его на службу в почтамт. Однако, где бы ни служил Констанский, отовсюду его увольняли за пьянство.
Подсудимый, закончивший семинарию, видимо, был образованный человек и любил вести идейные разговоры. Но пагубная страсть низводила его на степень животного. Пьянствуя, он забывал о семье и проводил время по ночлежным домам.
Дьякон Вознесенский объясняет это наследственностью. Отец подсудимого, сельский священник, был алкоголик и явно ненормальный человек. Злоупотребляя спиртными напитками, он отличался сумасбродством. По ночам, например, он взбирался на колокольню и начинал бить в набат или же говорил иногда в церкви совершенно несуразные вещи:
— Вы мои овцы, а я ваш пастырь… Я волк и всех вас съем.
Не менее загадочными были в психическом отношении и другие родные Констанского. Один брат его умер в припадке белой горячки, другой покончил самоубийством, а двоюродный брат находился в последнее время в больнице для душевно больных.
— За кого же вы, собственно, считаете самого подсудимого? — спросили дьякона Вознесенского.
— Я считаю его болезненным алкоголиком, — ответил он.
До своей женитьбы Констанский, одержимый какой-то страстью к передвижениям, много бродил по России. Он побывал и на Кавказе, и в Закаспийской области. Не имея никаких средств, он принужден был наниматься кочегаром на пароходы и нес тяжелый, адский труд около раскаленных печей, но страсть к бродяжничеству не покидала его.
Несомненно, в нем сказывалась наследственность. Его отец отличался диким, буйным характером в период запоев. Единственным средством укротить его являлось связывание веревками по рукам и ногам. В непонятном самодурстве он бросал закуренную папиросу на свою спящую дочь, подвешивал сына за шею к потолку.
Сестра подсудимого также обладала странностями и никак не могла ужиться со своим мужем.
Женился Констанский лет восемь тому назад.
Жена его — молодая, болезненная женщина, с миловидным лицом, рассказывала, что первоначально ее семейная жизнь была сравнительно хорошая, но потом муж стал пьянствовать и бить ее.
— У него какой-то чудной нрав, — говорила она. — Он был против Бога и не молился, а над набожными смеялся.
Явившись после святотатства к ней на квартиру, Констанский распахнул свое пальто (он был без пиджака) и развязно сказал:
— Вот я весь, яко наг, яко благ.
Ночь у жены он провел очень беспокойно, кашлял и что-то беспрестанно бормотал.
Из допроса свидетелей присяжный поверенный Адамов старался собрать весь благоприятный для защиты материал и потому подробно расспрашивал дьякона Вознесенского. Последний, между прочим, указал на то, что отец подсудимого во время церковной службы разразился однажды такой прибауткой, что службу пришлось прервать. Странные выходки одетого в облачение священника поражали всех, приводя молящихся в замешательство.
Из других свидетельских показаний обнаружилось, что Констанский часто допивался до галлюцинаций. Ему чудились черти, и, вооружившись чем-нибудь, он выгонял их из комнаты в кухню, а оттуда — на лестницу.
— Опять вошли черти! — возбужденно кричал он.
— Что ты?! Господь с тобой, никого здесь нет, — пыталась успокоить Констанского мать его жены.
— Черти вошли! — продолжал он волноваться.
Видения преследовали его даже и в трезвом состоянии. С ним делались припадки, он падал на пол и его всего корчило. Констанскому все казалось, что его кто-то преследует. Руки его конвульсивно дрожали. Ложась спать и просыпаясь, он почему-то падал с кровати.
Брат Констанского, живший с ним и покончивший самоубийством, также поражал всех своим поведением. Незадолго до смерти он две недели носился с мыслью убить Констанского.
— Я его зарежу! — твердил он.
— Может быть, он ревновал? — спросили на суде жену Констанского.
— Нет, так просто…
— Сестры его тоже какие-то сумасшедшие, — объяснила, между прочим, жена подсудимого. — Я и мужа считала сумасшедшим, больным.
— Что вы подразумеваете под этим выражением? — спросил свидетельницу председатель. — Что все сумасшедшие — больные люди, это понятно; но не все больные могут быть сумасшедшими. Разъясните же…
— Я не могу, — смутилась свидетельница.
— Вы считали мужа несомненно сумасшедшим? — с своей стороны задал вопрос защитник.
— Да, он больной человек… Я считаю его тяжко больным.
В числе свидетелей была вызвана и крестьянка Развеева, показание которой для дела является очень существенным.
Опросить ее, однако, не удалось, так как она чувствовала себя крайне больной. Освидетельствовавший ее врач признал, что дальнейшее пребывание Развеевой на суде может отозваться вредно на ее здоровье.
Прокурор ничего не имел против отпуска этой свидетельницы домой, но настаивал, чтобы первоначальное показание ее, как крайне важное для обвинения, было оглашено в судебном заседании.
Однако защита энергически протестовала против этого, находя, что показание Развеевой не может быть прочитано. Оно может заключать в себе противоречия, и при отсутствии этой важной свидетельницы нельзя будет проверить предварительное следствие.
На этой почве разгорелся горячий спор между прокурором и присяжным поверенным Адамовым.
Прокурор, наконец, назвал слова защиты «инсинуацией по адресу следственного протокола».
— Защита инсинуациями не занимается! Прошу занести выражение прокурора в протокол, — сказал присяжный поверенный Адамов.
Помощник присяжного поверенного Чекеруль-Куш, в свою очередь, нервно поднялся со скамьи и проговорил, что он считает слова прокурора тяжким оскорблением для защиты.
— Прошу занести в протокол, — настаивал и он.
Суд удовлетворил это ходатайство, но все-таки постановил огласить показание Развеевой.
— Сколько дней производилось предварительное следствие по делу Констанского? — осведомился присяжный поверенный Адамов.
— Начато было следствие пятого февраля и окончилось четырнадцатого февраля, — сообщил председатель.
— И это за девять дней все предварительное следствие было окончено! — указал защитник присяжным заседателям.
Сестра подсудимого госпожа Соловьева, как и другие, признавала его человеком ненормальным. Он был такой же пьяница, как и отец, и так же удивлял всех своими странностями.
Приехав после 5 февраля в село Орелье, где находились мать и сестра, Констанский испугал их своим неожиданным появлением.
Разговорившись с сестрой, он сказал ей, что поедет в Новгород и привезет деньги.
— А после смерти нашего отца не осталось никакого наследства? — спрашивал он рассеянно.
— Какое же может быть наследство? — говорила она. — Вот одна знакомая получила двадцать тысяч рублей наследства… Хорошо бы!
— Ну, что двадцать тысяч! Вот я, если устроюсь, буду иметь пятьдесят тысяч…
Характерные подробности, рисующие нрав отца Констанского, передал священник А. Пестовский. Старик Констанский, священнодействуя, бил крестом по лбу некоторых прихожан, когда они подходили к крестному целованию.
— Мир всем, а я вас съем, — говорил молящимся чудак-священник.
И сестры Констанского, и братья, и даже сама мать более или менее были одержимы пагубным пристрастием к спиртным напиткам.
Священник Пестовский в результате считает всех родных подсудимого, как и его самого, ненормальными людьми.
Все время защита старалась установить ненормальность подсудимого.
Задумав святотатственное хищение, Констанский под влиянием этой мысли стал хвастаться ожидающим его будто бы богатством. После, уже совершив преступление, он также вслух бредит, не замечая окружающих, о многих тысячах рублей.
По словам сестры, у Констанского действительно бывали припадки, которым обыкновенно предшествовала глубокая сердечная тоска.
Другая свидетельница, дочь псаломщика Щукина, уверяла, что из семьи подсудимого вообще никого нельзя назвать безусловно трезвым человеком. С отцом же Констанского она прямо-таки избегала встречаться, опасаясь его буйного своеволия, и при появлении на улице в пьяном виде спешила запереться в избе. Вопросы о религии свидетельница обыкновенно боялась поднимать в разговоре с подсудимым, считая его за очень образованного, умного человека.
— Но как вообще он относился к религии и вере? — спросил председатель.
— Несколько легкомысленно.
— А к вопросу об иконопочитании?
— Не знаю, не приходилось говорить.
По объяснению свидетельницы, Констанский только удивлялся, что существует много икон Божией Матери с различными названиями.
После преступления подсудимый, видимо, интересовался тем, что пишут в газетах о краже из Исаакиевского собора, и относился критически к газетным сообщениям.
— Неверно пишут, — в одной газете так, а в другой иначе, — говорил он одному из своих знакомых.
Раньше в отношении чужой собственности он всегда был очень честным человеком, далеким от преступных мыслей.
В детстве, четырех лет от роду, Констанский упал из окна второго этажа и до такой степени ушибся, что с ним сделался припадок. Мать его, которая удостоверила это обстоятельство, была страшно напугана несчастием с ребенком и думала, что он умрет. Однако ребенок остался жив, но с тех пор у Констанского появились припадки. Его всего корчило, рот и глаза искривлялись, и на губах появлялась пена. Пристрастившись к спиртным напиткам, он в зрелом возрасте стал допиваться до белой горячки, видел везде нечистую силу и беспокойно ловил казавшихся ему в глазах бабочек.
По мнению матери-старушки, Констанский спьяна мог быть способен на все, даже убить человека. Чтобы укротить этого пьяницу, приходилось иногда связывать его.
Что покойный священник Констанский бил святым крестом свою паству — это подтверждала также и его вдова.
— А хотел он съесть свою паству? — спросил присяжный поверенный Адамов.
— Да, — ответила смущенно свидетельница.
Другой сын старушки Констанской, как выяснилось на вскрытии, страдал размягчением мозга. У него была какая-то мания самоубийства, и однажды он хотел утопиться. Однако, подойдя к Фонтанке и посмотрев на ее грязную воду, он раздумал таким способом кончать свою жизнь.
— Река больно мутная, не хочу, — говорил он родным.
Через две недели после этого несчастный маньяк отравился.
Замечалась странная болезненность и у дочерей госпожи Констанской. Одна из них, жена священника, в припадке непонятного раздражения чуть было не застрелила своего добродушного мужа. С ней вдруг что-то сделалось. Она стала дико плясать, бросалась стульями и, наконец, схватила револьвер.
Перепугавшаяся мать еле выхватила из ее руки оружие.
После этого молодая женщина напилась пьяной.
— У меня много припадочных детей было, — пояснила старушка Констанская.
В другой раз подсудимый, уже 10-ти лет, упал с крыши и тоже сильно ушибся.
Что же касается мужа госпожи Констанской, то он, несмотря на свое пьянство, умер 72-летним стариком.
Перепившись, старик делался невозможным и бегал даже с ножом за детьми, а однажды грозил удавиться.
Во время судебного следствия обнаружилось, что присяжный поверенный Адамов просил санкт-петербургский окружной суд о вызове 31 свидетеля, которые могли бы удостоверить, что подсудимый был алкоголик, страдал эпилептическими припадками и отличался ненормальными поступками и что родственники его также частью эпилептики, частью — люди ненормальные. Ходатайство это судом было оставлено без последствий, как не имеющее для дела существенного значения.
После свидетелей опрашивались врачи-эксперты о происхождении легкого ранения на руке подсудимого.
Один из них, доктор медицины и психиатр Мендельсон, в отношении обвиняемого выразился, что он «несомненный алкоголик» и мог иметь эпилептические припадки.
Присяжный поверенный Адамов просил занести эти выражения в протокол, а затем возбудил вопрос о доследовании настоящего дела, в связи с выяснением умственных способностей подсудимого.
— Быстрота предварительного следствия не дала возможности тщательно исследовать психическое состояние Констанского, — говорил защитник. — Этим важным вопросом не интересовались раньше. После за короткий срок защита представила четыре медицинских свидетельства о подсудимом, о которых судебный следователь и не догадывался. Я прошу только одного: направить данное дело к доследованию, так как ничего в этой области до сих пор еще не было сделано, — настаивал присяжный поверенный Адамов. — Подсудимый должен возбуждать некоторое сомнение и в вас, господа судьи, и в вас, господа присяжные заседатели. Все свидетели, говорившие о ненормальности Констанского, ведь не могут же лжесвидетельствовать, и их показания необходимо проверить. Здесь, безусловно, сомнение налицо. Бывает нравственное и моральное помешательство, и в то же время бывают эпилептические припадки, когда больные теряют сознание и могут пойти на преступление.
Наоборот, прокурор С. Д. Набоков находил, что судебное следствие решительно не имеет никакого материала, который давал бы право предполагать о совершении подсудимым святотатственной кражи в припадке умоисступления или сумасшествия. Ввиду этого, прокурор просил ходатайство защиты о направлении дела к доследованию отклонить.
После продолжительного совещания окружной суд в ходатайстве присяжного поверенного Адамова отказал.
Судебное следствие закончилось, и слово было представлено прокурору. Он признает, что подсудимый действительно мог быть раньше идейно честным человеком и мог иметь богатую душу, но, в конце концов, он все-таки сбился на преступный путь и богатую душу решил отдать за богатое «добро». Вторично он, может быть, и не совершит такого преступления, но злое дело все же сделано.
Обвинитель подробно охарактеризовал личность Констанского и указал, как осторожно он действовал, задумав святотатство, и с каким сознанием он привел свою преступную мысль в исполнение.
Во всем видно заранее обдуманное намерение, и, отрицая все доводы защиты относительно ненормальности подсудимого, прокурор настаивал на строгом приговоре, как искуплении для Констанского его тяжкой вины.
— Страшно и тяжело выступать по этому делу, — начал свою речь присяжный поверенный Адамов. — Когда я возбудил ходатайство о доследовании и мне было отказано, — я думал сложить свой портфель и уйти. Но потом я понял, что это — малодушие. Я не имею права оставлять подсудимого одного. Я его защитник и доведу свою миссию до конца. Констанский обвиняется в тяжком преступлении — святотатственной краже. Можем ли мы судить его? Великий Учитель Христос внес в мир Свое учение, которое заставляет снисходительно относиться к падшему, и Он же завещал нам религию, отдельную от законов.
Преступление святотатства старо, как мир Божий. Оно родилось в тот день, когда родилась религия, потому что человеческая натура такова, что никогда не может простить другого за то, что он думает иначе.
Такие преступления знали и евреи древние, и греки, и современные христиане. В древние времена за преступление против веры избивали камнями. Такова была религия мрачного Иеговы. Христос принес на землю всепрощающее учение, требующее снисхождения к падшему брату. Он предложил бросить первым камнем в падшую женщину тому, кто сам безгрешен.
Христос отделил область религии от области положительного права; преступление против религии есть грех, который требует покаяния, тогда как преступление против права, как действие чисто внешнее, требует чисто внешнего воздействия, выражающегося в наказании. И потому на Западе давно уже нет наказаний светских за преступления против веры; нет самостоятельного преступления святотатства, а есть лишь просто квалифицированная кража. В нашем же законодательстве святотатство является самостоятельным преступлением, хотя оно, по словам профессора Есипова, всегда оставалось чуждым характеру русского народа и было введено в наше законодательство лишь в последние сто лет.
По мнению защитника, Констанский — жалкий дегенерат и алкоголик, у которого все родные тоже или алкоголики, или сумасшедшие. Во всем сказывается роковая наследственность.
— Решите сами, есть ли в данном случае пьянство — болезнь или порок? — обратился присяжный поверенный Адамов к присяжным заседателям. — Я утверждаю, что здесь есть сомнение, так как одной десятой части свидетельских показаний уже достаточно для того, чтобы усомниться. Сама совесть должна диктовать всем нам: а может быть, он и нездоров, и нужно спросить совета докторов. Преждевременно же вы не должны судить его. Сам эксперт, доктор медицины, признает, что Констанский — эпилептик и алкоголик, и я вас прошу только об одном: повремените! Никогда не будет поздно обвинить. Бывают ошибки, и всякий человек может заблуждаться, а между тем отсюда может вырасти страшное несчастие для подсудимого. Вам предлагают во имя Христа и веры обвинить. Между тем вспомните, когда апостол Петр спрашивал своего Божественного Учителя, сколько раз должно прощать, семь или раз, Спаситель ответил: прощайте семижды семьдесят раз. Неужели же никто из вас не подумает: здесь что-то ненормальное? Защита не об оправдании просит, а о доследовании. Пусть специалисты решат, что такое — этот несчастный дегенерат и пропойца. И вы не станете наказывать того, кого надо лечить. Обвинить — значит впасть в ошибку.
Помощник присяжного поверенного Чекеруль-Куш, с своей стороны, в защиту подсудимого произнес речь, которую закончил следующими словами:
— Высокая цель правосудия, достоинство суда и человеческая осторожность требуют разрешения рокового вопроса: «Кто он?» Если перед нами нормальный человек, то да свершится правосудие; но если на скамье подсудимых больной человек, — что тогда? Вот ужасная мысль, которая сверлит мой мозг и щемит мое сердце. Тогда здесь будет не суд, а похороны, и в руках у вас, господа присяжные заседатели, — не меч правосудия, а погребальный факел. И вечно, вечно в моей мысли жалкая фигура подсудимого будет представляться заживо положенной в гроб, в крышку которого тщетно стучали.
После резюме председателя Н. С. Крашенинникова, всесторонне объяснившего данное дело и его особенности, присяжные заседатели удалились в совещательную комнату.
— Да, виновен, — вскоре вынесли они вердикт.
На основании их решения санкт-петербургский окружной суд приговорил А. П. Констанского к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на шесть лет.
Осужденный тупо выслушал приговор и сжал голову руками. Через минуту его увели под конвоем.
ЗАГАДОЧНОЕ ДЕЛО
25 августа 1902 года, около 9 часов вечера, до слуха публики, проходившей по Университетской набережной в Петербурге, донеслись отчаянные крики о помощи.
Оказалось, в Неве, недалеко от берега, тонул неизвестный молодой человек. К счастью, мимо него в это время проходил пароход Финляндского общества и тонувшего удалось вытащить багром из воды. Вслед за ним на поверхности воды появилась женщина, но, прежде чем ее успели захватить багром, она быстро пошла ко дну.
Спасенный человек некоторое время находился в бессознательном состоянии, а затем, очнувшись, объяснил, что он — мещанин Николай Укшинский.
— А еще кто с вами был? — спросили его.
— Моя знакомая, Мария Мезина, — ответил он растерянно.
— Как же вы попали в Неву?
— Не помню… В воде я боролся с Мезиной, — она меня не пускала, а я ее.
Укшинский был препровожден в полицию, и там на допросе он дал новое, сбивчивое объяснение.
По его словам, утонувшая Мезина случайно встретилась с ним в роковой вечер на Университетской набережной. Разговорившись с ней, он схватил ее за руки, но она так сильно оттолкнула его от себя, что он полетел с набережной в воду. Вместе с ним будто бы упала в Неву также и Мезина, потеряв равновесие.
Таким образом, если верить ему, был только обыкновенный несчастный случай.
Однако на предварительном следствии выяснилось совершенно иное.
В то время, когда Укшинский и Мезина стояли на набережной, недалеко от них на пристани Финляндского пароходства находился некто Пайст. Случайно обратив внимание на эту парочку, он, к своему удивлению, увидел, что молодой человек обнял вдруг свою спутницу за талию и вместе с ней прыгнул с набережной в воду. Мезина, едва успев вскрикнуть, сразу пошла ко дну.
По справкам оказалось, что утонувшая женшина была любовницей Укшинского, который познакомился с ней еще осенью 1901 года. Месяцев пять они жили вместе в одной комнате, причем Укшинский почти исключительно существовал на ее скромный заработок. Деспот по характеру, грубый и вспыльчивый, он часто запивал и жестоко бил свою любовницу.
— Да ты бы бросила его, — советовала ей квартирная хозяйка.
— Не могу, боюсь, — обыкновенно говорила Мезина.
Однако совместная жизнь с Укшинским стала, наконец, ей невмоготу, и она решилась порвать с ним. С этой целью она 17 августа переехала жить к своей сестре и когда через два дня вернулась на прежнюю квартиру за остававшимися вещами, то не нашла уже своей швейной машинки. Она оказалась заложенной Укшинским в ломбарде, и Мезина, чтобы отомстить ему, заявила полиции о краже у нее машинки. Составленный по этому поводу протокол был передан мировому судье, и Укшинскому, таким образом, грозило наказание.
Не желая более видеться с ним, Мезина вечером 26 августа отправилась на свидание к другому любовнику, с которым была близко знакома еще во время совместной жизни с Укшинским и за которого последний не раз упрекал ее. Вместо другого любовника ей пришлось, однако, встретиться с отвергнутым Укшинским, и через несколько минут она нашла смерть в волнах Невы.
Заподозренный в умышленном убийстве своей бывшей любовницы, Укшинский 17 января 1903 года предстал перед санкт-петербургским окружным судом.
Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Брюн де Сент-Ипполит. Защищал подсудимого присяжный поверенный М. Г. Казаринов.
На суде Укшинский, молодой человек, 25-ти лет, решительно отрицал свою виновность, уверяя, что он — жертва ошибки.
Свидетельские показания тем не менее оказались очень неблагоприятными для него. Так, например, прежняя сожительница его, Галкина, обрисовала его как жестокого и разнузданного человека, живущего на средства своих любовниц.
КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович
Родился в Житомире в 1853 году В 1895–1896 годах, будучи известным писателем, участвовал в качестве общественного защитника в Мултанском деле (крестьяне-удмурты обвинялись в человеческих жертвоприношениях) и добился оправдания осужденных В 1902 году был защитником в процессе над павловскими сектантами В 1911 году выступил как корреспондент и защитник против обвинителей в судебном процессе «Дело Бейлиса» по обвинению Бейлиса в ритуальном убийстве Суд присяжных оправдал осужденного
Порвав связь с Галкиной, он бросил ее с ребенком на произвол судьбы.
После, за три дня до трагической смерти Мезиной, он почему-то вдруг снова явился к Галкиной и все время провел у нее, пьянствуя, жалуясь на головные боли и находясь в каком-то подавленном состоянии. Прощаясь с Галкиной вечером 26 августа, он говорил ей, что уезжает и что о дальнейшей судьбе его она узнает вскоре из газет.
Между прочим, из показания Пайста выясняется, что подсудимый бросился с набережной в Неву, держа Мезину перед собою за талию.
По словам свидетелей, он — хороший пловец и, если бы хотел, мог спасти несчастную Мезину. Сам же подсудимый упорно утверждал, что он вовсе не умеет плавать.
В свою очередь, вызванные по просьбе защиты мать подсудимого и один из его товарищей старались охарактеризовать его как человека мягкосердечного, смирного и трудолюбивого.
После речи товарища прокурора, настаивавшего на обвинении Укшинского, слово было предоставлено защите.
— Господа присяжные заседатели! — начал свою речь присяжный поверенный М. Г. Казаринов. — Когда естествоиспытатель желает исследователь какой-либо предмет, то прежде всего старается освободить этот предмет от всяких посторонних придатков и наслоений, чтобы иметь его перед собой в чистом виде, а затем и сам старается отрешиться от всякой предубежденности, предвзятости взгляда для того, чтобы иметь спокойное беспристрастное суждение, необходимое для исследователя. Но существует и другой способ исследования, сохраняющийся по преимуществу в судебных прениях; он заключается в том, что стороны прежде всего всячески стараются похоронить главный предмет исследования под грудой посторонних вопросов, а затем стараются вывести присяжных заседателей из состояния беспристрастия, необходимого для решения всякой задачи, и довести их до крайнего раздражения против подсудимого, пробудив в них сочувствие к жертве. Этот способ хорош тем, что им можно доказывать все, что угодно. В каждом деле этот способ — на руку одной из сторон. Сегодня не моя очередь им пользоваться. Моя задача, наоборот, восстановить перед вами событие, происшедшее на берегу Невы вечером двадцать шестого августа, в его чистом виде. Спокойное разрешение вопроса, кто кого столкнул в воду, — вот вся задача дела. Конечно, при этом необходимо разобрать, что за люди сошлись на берегу, зачем и почему сошлись, при каких условиях, в каком настроении? Все это — материал громадной ценности, но этот материал надо особенно оберегать от искажений, здесь очень легко зайти в область фантазий, преувеличений и ошибок.
Как искажены, например, обвинением характеры действующих лиц! Сколько мрачных красок пошло на портрет Укшинского! Моя работа прежде всего будет смыть эти краски и проявить под ними человеческий облик.
Укшинскому делается упрек в разврате, неразборчивости связей и их непрочности. Я нахожу наоборот, что каждая его связь претендует на известную моральную глубину. В похождениях своих он тяжеловесен. С одной живет два года, с другой — год. Каждый раз пытается создать семейное гнездо, но ничего не выходит, — быть может, потому, что строит из негодного материала. Сожительство с Мезиной начинается с глубокого душевного движения: он мечтает о браке, Мезина думает о том же. Лишь впоследствии, когда интерес новизны прошел и разные взаимные открытия, неизбежные при совместной жизни, развенчали иллюзии, — светлый призрак брака расплылся в серых тонах будничной жизни, и каждому, как это обыкновенно бывает, стало даже как-то неловко за свои недавние порывы и восторги, стало досадно за бисер, напрасно разметанный и потоптанный. А что раньше он серьезно смотрел на связь с Мезиной — это несомненно. Не он ли убедил ее покинуть выгодные, но скользкие театральные подмостки и заняться скромным трудом швеи? Не он ли, познакомившись с ней, поставил крест на своих других увлечениях? Они поселились вместе, и около полугода жизнь текла довольно сносно. Он вносил в семейную кассу около семидесяти рублей жалованья, получаемого на патронном заводе, — это громадный заработок для его среды; он выкупил ей швейную машинку, заложенную за сорок рублей, и она стала работать. Но вдруг несчастие: он теряет место на заводе; наступает нужда. Мать помогает ему, но ее доходы невелики. Он начинает искать другое место, но это не так легко и скоро делается, а Мезина ждать не желает, она заводит речь о разъезде и, заботясь о будущем, немедленно же возобновляет свою былую связь с другим человеком… Дальгаммером. Одно из его писем к Мезиной попадает в руки Укшинского. К беде материальной присоединяется беда душевная; он теряет совершенно самообладание, падает духом и начинает пить, — пропил деньги, взятые у матери, пропил свою одежду и, наконец, взялся за пресловутую швейную машинку Мезиной и заложил ее за тридцать рублей. Так связь с Мезиной началась у него с восторженного подъема духа и закончилась агонией.
Где же, спрошу я, тут разврат? Кто же в двадцать пять лет не заводил связей, за которые потом краснел? Кто не разрывал легкомысленно отношений, которые потом оплакивал в зрелые годы? Много ли тех, которые бежали от страстей, сберегая под старость много сил и мало воспоминаний невозвратной юности?
Упрек Укшинскому в разврате не серьезен. Над ним тяготеет более тяжкое обвинение — в альфонсизме. Утверждают, что он знал про связь Мезиной с Дальгаммером и совместно с нею проживал получаемые ею от Дальгаммера деньги. Может ли быть упрек более неосновательный! Ведь неоспоримо, что он, перехватив письмо Дальгаммера, поднял целую бурю. Разве могло бы быть что-либо подобное, если бы он знал про эту связь и поощрял ее из своих корыстных видов? Вы помните рассказ Дальгаммера о том, как Мезина жаловалась ему на Укшинского. Что говорила она? Укшинский с ней груб, что он ее никуда не пускает и, наконец, что он заложил ее машинку. Вот все упреки. Сказала ли она, что Укшинский когда-либо жил на ее средства? Нет, этого обвинения она не произнесла, а, конечно, она начала бы с этого обвинения, если бы в нем была доля правды.
Ведь потому и говорится здесь так много об этой заложенной машинке, что случай этот является пятном на совершенно ином фоне.
Господа присяжные заседатели, альфонсизм — явление глубокой моральной порчи и рисует человека с головы до пят; эгоизм плотоугодничества, боязнь труда, отсутствие всяких привязанностей — вот его характерные черты. Но что же мы видим? Человек встает в шесть часов утра и работает на заводе до шести часов вечера, а иногда и дольше; когда теряет место, делается нервным и раздражительным, так как праздность не его сфера; перехватив письмо измены, носится с ним повсюду и всем рассказывает о своем горе; когда же, наконец, женщина, с которой он живет, покидает его, он простаивает целые дни под ее окнами, чтобы хоть мельком взглянуть на нее. Это ли альфонс?..
Есть еще обвинение, тяжкое обвинение, взведенное на него бывшей его сожительницей Галкиной, в том, что он бросил на произвол судьбы своего незаконного сына. Но взглянем глубже: так ли уж страшно это обвинение, действительно ли оно обличает в Укшинском человека глубоко порочного и бессердечного? До последнего времени в уголовных залах окружного суда решались целыми тысячами дела о незаконных сожитиях. Теперь эти дела переданы в суды гражданские. В каждом таком деле мать требовала от сожителя своего средств на содержание ребенка, а сожитель отрицал, что ребенок происходит от него. Неужели же все эти отцы были изверги? Нисколько — это был мирный трудовой люд: фабричные, отставные солдатики, швейцары, обыкновенно примерные отцы в своих законных семьях. Без малейших колебаний совести открещивались они от незаконных детей. Откуда шли такая жестокость, такое попрание голоса природы? Откуда же, откуда вообще истекают моральные убеждения народа? Закон, Церковь, обычай — вот столпы, на которых зиждется мораль. А культ незаконных детей у нас до последнего времени был невысок. Закон гражданский лишал их прав семейных и наследственных, закон уголовный признавал преступлением самую связь, от которой они произошли, а Церковь игнорировала этот союз как ею не освященный. Незаконный ребенок являлся бременем, вечным ярмом для души родителей. Мудрено ли при этом, что воспитательные дома, с которыми пошло государство навстречу, для облегчения участи незаконных детей, переполнились такими детьми! Я скажу больше, на эту скамью неоднократно привлекались матери, умерщвлявшие своих незаконных детей, и суд общественной совести в вашем лице не раз отпускал с миром такую преступную мать, находя, что нельзя на ее голове сводить счеты за мораль, слагавшуюся веками. Так не будем же и на голове Укшинского сводить эти счеты. Если ребенок Галкиной происходит действительно от него и он сдал его в воспитательный дом, то это явление самое обыкновенное. Но он отрицает, что это его ребенок, и мы не вправе ему не верить. Среда, в которой он находил себе подруг жизни, такова, что каждый раз тысячи сомнений должны терзать отцовское сердце, а вы согласитесь, что и одного самого легкого сомнения достаточно, чтобы подорвать всякие чувства к незаконному ребенку.
Вот собранные воедино все упреки, которые могут быть обращены к Укшинскому… Мне не придет в голову говорить, что все, что мы знаем о нем, доблестно и похвально, — это была бы смешная крайность; но и говорить, что человек, сменивший нескольких любовниц, сдавший ребенка в воспитательный дом, — злодей, способный на все, даже на убийство, — это тоже крайность, и крайность печальная.
Если из того, что мы знаем об Укшинском, нельзя сделать никакого вывода о его развращенности, то, несомненно, мы можем вывести некоторые свойства его характера. Прежде всего мы усматриваем склонность привязываться душевно, идеализировать свои связи, мечтать, верить и глубоко страдать при разрывах. Это человек, во все вкладывающий свою душу. Вместе с тем он человек крайне впечатлительный: потеря места, измена любовницы — все это живо и глубоко на него действует и выражается, в порывах. С письмом Дальгаммера он бегает всюду, плачет о своей судьбе, грозит убить, измолоть и Мезину, и Дальгаммера. Затем эти порывы проходят, и он в бессилии валяется в ногах у той же Мезиной. Наконец, это человек несамостоятельный, — ему всегда нужна моральная опора и поддержка. Ни радостей, ни печалей он не умеет переживать один. Ему необходимо делиться с кем-нибудь: с матерью, с товарищем, с прежней любовницей — все равно с кем, лишь бы не быть одному со своим горем. Все эти качества ничуть не изобличают в Укшинском Мефистофеля, спокойно улыбающегося людским скорбям, а, наоборот, рисуют человека, который сам бьется в паутине страстей и не может вырваться. Это не хищник, не коршун — это существо, при первом ненастье бессильно опускающее мокрые крылья. Все эти сжатые кулаки, грозные слова, обещания измолоть, раскрошить — это те вершины, которых языком достигают слабые люди; в дело их слова никогда не переходят. Слабый человек всегда немножко паяц в своем гневе и не забывает заботиться о производимом им эффекте. Кричит, мечется, рассыпает громы! Но вот пришло время действовать, и он ни на что не способен; оказывается, что в этой беготне, в этом кудахтанье изошли все те силы, вся та энергия, которую сильный человек бережет на один удар.
Уж куда более сильной натурой представляется мне рядом с ним Мезина. Холодно и спокойно бросает она Укшинского, когда он в материальном отношении делается ей бесполезен. Когда, заливая свое горе вином, он вместе со своим скарбом пропивает и ее швейную машинку, ту самую машинку, которую он выкупил месяц назад, она не дрогнула заявить против него обвинение в краже. После этого у нее хватает духа идти к матери Укшинского и вытребовать у нее квитанцию ломбарда, а когда Укшинский ее просит прекратить возбужденное обвинение, у нее не находится для него ни одного слова утешения, В то время, когда он после разрыва, надеясь на возможность восстановить отношения, простаивает днями у нее под окнами и ищет случая видеть ее, чтобы сказать два-три слова, — она хладнокровно начинает закреплять свое будущее счастье с Дальгаммером.
Семнадцатого августа Мезина от него уехала, двадцать шестого числа, через девять дней, была роковая развязка. Первые шесть дней он, как мы знаем, метался и добивался как будто чего-то, но затем с ним произошла перемена, он перестал преследовать Мезину, перестал надоедать матери с излиянием своих бед, уехал к своей бывшей любовнице Галкиной и пробыл у нее три дня вплоть до рокового вечера.
Что же произошло с ним? Уж не обдумывать ли убийство Мезиной отправился он к Галкиной? Конечно, нет! Для желания убить нужны серьезные мотивы, нужна высшая степень вражды, ревности, озлобления, нужен подъем всех сил человеческих, подъем, доходящий до пароксизма. Мысль должна усиленно работать и работать в одном направлении.
То ли видим мы на деле? Как раз наоборот. Упадок всяких сил — и физических, и умственных, ослабление интереса ко всему окружающему: он уже не следит за Мезиной, не ревнует, даже не думает ни о ней, ни о злополучной машинке, он болен, он бредит, но в бреду его Мезина не фигурирует. За все три дня, как удостоверяет Галкина, он ни разу не вспомнил о Мезиной. После чрезмерного подъема наступила реакция — полный упадок психической жизни. Всякие желания притупились, сильные головные боли (о которых говорила Галкина) делают его жизнь несносной, мысль вяло переходит от неудач в прошлом к беспросветному будущему. Он переживал часы, когда человеку хочется бежать неизвестно куда, исчезнуть, когда мозг отрадно отдыхает на мысли о смерти, о самоубийстве… И Укшинский говорил Галкиной: «Скоро, скоро уеду, а куда — узнаете из газет». Так обыкновенно говорят люди, которые имеют мысль о самоубийстве, но не доводят ее до исполнения. Им достаточно поговорить на эту тему, заинтриговать других, пойти в уединенное место, посмотреть на воду реки, окунуться мысленно в холодные ее волны, чтобы затем опять почувствовать тяготение к жизни.
В таком состоянии духа Укшинский распрощался вечером двадцать шестого августа с Галкиной и, накинув свой резиновый плащ, направился к Большой Неве.
На углу Шестой линии и набережной, там, где находится цветочный магазин, в котором служит Дальгаммер, его ждало искушение. Магазин как раз закрывали, и он увидел, что Дальгаммер, выйдя из магазина, пошел по направлению к Дворцовому мосту. Нужно ли говорить, что Укшинский пошел вслед за ним? Кто в его положении поступил бы иначе? Конечно, не злые чувства влекли его за Дальгаммером.
Его влекло отчасти любопытство, а отчасти и то желание бередить свои раны, которое иногда охватывает человека.
Так шли они, один — по одной, другой — по другой стороне набережной, вплоть до университета.
В это время от Дворцового моста приближалась к Университетской линии Мезина. Полурадостная, полуопасающаяся, шла она на свидание, и в голове ее рисовались картины будущего. В молодости фантазия склонна строить замки на самой зыбкой почве, и будущее ей рисовалось в заманчивом свете. Невольно возникали сравнения: с одной стороны Укшинский — фабричный рабочий, подчас грязный, порой грубый, иногда жалкий; с другой — Дальгаммер, аккуратный и вежливый; жизнь его течет среди цветов, а не фабричной копоти, и эти цветы кладут свой отпечаток на всю его жизнь… Вот уже на панели Университетской линии различила она Дальгаммера, уже готовилась переходить дорогу, как вдруг сердце ее тревожно сжалось. Вдали она различила мрачную фигуру Укшинского. Куда деваться? Идти вправо через дорогу нельзя — он заметит, назад — увидит тоже. Единственное спасение — влево. Она быстро спускается вниз и поворачивается лицом к воде, в надежде, что Укшинский пройдет мимо, не узнав ее. Но он не проходит мимо, — она слышит его шаги. Он спускается… Она замирает в предчувствии чего-то ужасного. С каким чувством действительно идет он к ней? В пароксизме ли бешенства бросится он на нее? Ничуть! Как от полного бессилия может он дойти до высшего раздражения? Сердце его испытывает то болезненное замирание, которое, помимо воли, овладевает нами при виде человека, которого мы так недавно любили. Еще момент — и он будет у ее ног. Он подходит, протягивает ей руки, говорит, но она от ужаса ничего не слышит, ничего не понимает. Собрав все силы, она отталкивает его, как страшный кошмар; он теряет равновесие, падает и, падая, судорожно хватается за нее и увлекает вместе с собой…
Господа присяжные заседатели, кто кого столкнул в воду: любящий человек столкнул то, что ему дорого и мило, или ненавидящий и боящийся — то, что ему ненавистно и страшно? Вот весь вопрос дела.
В совещательной вашей комнате станете вы лицом к лицу с этим вопросом, — все остальное, вся эта пена слов и чувств отойдет на второй план. Ваша совесть потребует от вас доказательств точных, ясных, непреложных. И таких доказательств преступления у вас не будет, их нет в деле, как нет и самого преступления.
Я игнорирую совершенно показание свидетеля Пайста, игнорирую потому, что это показание неверно: неверны подробности, неверно все в общем. Он утверждает, что Мезина стояла на панели одна около двух минут и затем столько же времени простояла, разговаривая с Укшинским. Итого четыре минуты! Это невероятно, — это опровергнуто Дальгаммером. Пайст утверждает, что Укшинский переходил через дорогу от университета, — это тоже опровергнуто. Не он ли утверждает, что Укшинский отталкивал обеими руками спасательный круг, а ведь это обстоятельство отрицается всеми очевидцами. Наконец уверение, что, схватив Мезину за талию, он донес ее от верхней панели до самой воды, не выдерживает критики. Это физически невозможно, — Мезина кричала бы, боролась, а ничего подобного не было. Но я не хочу сказать, что Пайст — ложный свидетель, выдумывающий события, чтобы припутать свое неизвестное имя к загадочному процессу. Просто он в темноте, сидя на пароходной пристани, не разглядел хорошо происходившего, перепутал и время, и место и ошибочно утверждает, что Мезина стояла сверху на панели, тогда как в действительности она стояла внизу, у самой воды.
Показание этого свидетеля подрывается особенно тем, что никто из других свидетелей его на пристани не видел и что он в тот вечер никому не рассказал о виденном им событии, а лишь на другой день явился в участок для изложения своего показания.
Объяснение Укшинского, что его столкнула в воду Мезина, подтверждается и дальнейшими событиями, имевшими место в воде. Свидетели-очевидцы дают об этих событиях самые противоречивые показания, но тем не менее все сходятся на следующих фактах: что Укшинский и Мезина упали в воду вместе, что пробыли в воде около десяти минут, что почти все время Укшинский находился около цепи, за которую держался, что его стало относить течением от цепи лишь после того, как брошенный спасательный круг ударил его в голову, и что, наконец, немедленно после того, как вытащили Укшинского, в том же месте всплыл и труп Мезиной. Эти факты бесспорны. Исходя из них, мы прежде всего видим, что Укшинский не мог держать Мезиной, так как руки его были заняты — он держался ими за цепь. Предположения, что он держался за цепь одной рукой, а другой сдерживал Мезину под водой или что он сдерживал ее, обхватив ногами, — невероятны. Но допустим на минуту эти предположения, допустим, что, будучи искусным пловцом, он ухитряется и сам держаться за цепь, и сдерживать ее под водой. Очевидно, чтобы сохранять при этом то неподвижное положение, в котором, по показанию свидетелей, он все время находился, надо применять значительные искусно и верно рассчитанные усилия. Но вот в голову его летит круг, и от удара он впадает в бессознательное состояние. Руки выпускают цепь, и его относит вниз по течению. Казалось бы, теперь он должен выпустить Мезину и положение его должно измениться. Ничуть не бывало, его в том же самом положении начинает относить от цепи. Не ясно ли, что он не держит Мезину? Вот как было в действительности: когда Укшинский упал в воду от толчка Мезиной, то прежде всего, ища спасения, он ухватился обеими руками за цепь. Падая вслед за ним, Мезина ухватила его за ноги и, впав сразу в бессознательное состояние от потрясения и резкой перемены температуры, пошла ко дну, продолжая конвульсивно сжимать его ноги. Глубина в этом месте равняется двум аршинам и пяти вершкам, и вполне понятно, что при таком положении голова Укшинского могла находиться над поверхностью воды. Не умея плавать, он всеми силами держится за цепь. Члены его коченеют от стужи, на ногах он чувствует страшную ношу, вода шумит около ушей и каждую секунду готова захлестнуть его, силы слабеют… И вот круг, пущенный чьей-то меткой рукой, летит ему в голову; он погружается на мгновение в воду, впадает в бессознательное состояние и выпускает цепь. Волнением от подъехавшего в этот момент парохода начинает относить Укшинского, а вместе с ним и труп Мезиной от цепи. С парохода удается зацепить его багром. Его тащут, за ним волочится Мезина, его вытаскивают, и немедленно вслед за ним на поверхности воды появляется труп Мезиной. Багры и руки направляются к трупу, но машинист парохода пускает вдруг машину, винт работает, образуется водоворот, и Мезина погружается навсегда в свою водную могилу…
Вот как было, господа присяжные заседатели! Такое объяснение дал Укшинский в участке, едва придя в себя от обморока, так объяснял он у судебного следователя, и, наконец, сегодня в последний раз я повторяю вам от его имени те же объяснения. Какой истины хотите вы еще искать?!
Но, чувствую я, вам не хочется верить; вижу я, вам не хочется разрешать то, что так долго и хлопотливо созидалось обвинением. Все так хорошо связано: любовь, измена, ревность, месть, — остается только венчать эту цепь событий обвинительным приговором. Во всем такая ясность, такой простой смысл. Увы! — человек часто влагает в явления смыл, им вовсе не присущий. Вспомним средние века, времена наивной веры в суды Божии, времена ордалий. Двоих подозреваемых в преступлении бросали в воду: который шел ко дну, считался невинным, а кто не тонул — преступником. Мы далеко ушли от этих суеверий, но мы бессознательно удерживаем более утонченные формы подобных же заблуждений; мы не верим во вмешательство воли Божией, но зато слишком много приписываем воле человеческой. Двое упали в воду, один утонул, другой выплыл, — значит, первый утопил второго. И мы, анализируя волю человека, коченеющего в воде, приписываем ему нашу логику и вкладываем ему в голову адские планы, совершенно забывая, что нам, спокойно здесь сидящим, столь же мало доступна логика захлебывающегося и коченеющего в предсмертной судороге человека, как и его мозгу с нарушенным кровообращением недоступны наши спокойные размышления. Выхватив из массы пристрастных и сбивчивых свидетельских показаний какой-либо шаблонный мотив вроде ревности или мести, мы от этого мотива чертим прямую линию до загадочной драмы и говорим: «Какая удивительная ясность — вот измена, вот ревность, вот убийство!» Мы оперируем этими понятиями и выстраиваем их, как солдат на смотру, забывая, что в жизни все идет по совершенно иному порядку, что каждое явление, каждый акт воли человеческой имеют не один, не два, а сотни постоянно изменяющихся, постоянно борющихся мотивов, которых мы не можем ни проследить, ни взвесить. Мы забываем, что все наши тонкие планы и расчеты ежедневно рушатся на наших глазах и что намеченные нами пути всегда внезапно пересекает то, что мы называем «случаем». Пора, давно пора отрешиться нам от наивной веры в какую-то предустановленную гармонию между ходом мыслей в нашей голове и ходом событий кругом нас.
Я кончил, господа присяжные заседатели. Суд возложил на меня задачу защиты; убеждение мое в невиновности подсудимого сильно облегчало мне исполнение моей обязанности. Теперь наступает ваша задача постановить приговор, в котором бы вас впоследствии не упрекнула совесть.
В своем последнем слове подсудимый со слезами на глазах по-прежнему уверял в своей невиновности.
После продолжительного совещания присяжные заседатели признали Укшинского виновным в убийстве в состоянии запальчивости и раздражения, и суд приговорил его, по низшей мере наказания, к отдаче в арестантские отделения на четыре года, с лишением всех особенных прав и преимуществ.
ЛОВКИЙ АВАНТЮРИСТ
Зимой 1901 года проживавшая в Берлине госпожа Кюпперс, 36-летняя перезрелая девица, отчаявшись выйти замуж, поместила в газетах объявление о желании вступить в брак с каким-нибудь «приличным господином». Объявление достигло своей цели. К госпоже Кюпперс явился вскоре молодой, прилично одетый человек и, отрекомендовавшись техником Александром Беспрозванным, объяснил, что он холост, имеет недвижимое имение в России, около Петербурга, и предложил ей руку и сердце.
Беспрозванный понравился старой деве, и она пригласила его навещать ее почаще. Он стал почти ежедневно заходить к ней и часто рассказывал о том, что отец его — очень богатый человек. В результате очарованная молодым джентльменом Кюпперс согласилась выйти за него замуж.
Они были объявлены женихом и невестой, и отпечатанное по этому случаю объявление было разослано всем родным и знакомым невесты с извещением, что свадьба назначена на 10 марта.
15 февраля Александр Беспрозванный отправился с невестой к ее знакомым Рудольфу и Полине Фемель, проживавшим в городе Иекельсбурге. Знакомые невесты приняли молодого человека очень радушно, и он некоторое время жил в их доме, пользуясь добрым гостеприимством.
Одновременно с этим Рудольф Фемель получил от кого-то мешочек с золотыми монетами, на сумму до 500 марок, и передал его на хранение своей жене. Последняя спрятала деньги в шкаф в присутствии Беспрозванного, но — увы! — деньги эти вскоре бесследно исчезли.
Провожая молодого жениха на вокзал, сын Рудольфа Фемеля догадался, кто похитил 500 марок: при покупке Беспрозванным билета у него оказалось в портмоне много золотых монет, тогда как раньше он почти совсем не имел денег.
Возвратившись в Берлин, Беспрозванный продолжал поддерживать тесные отношения с Кюпперс, ежедневно навещал ее и уверял, что отец его скоро приедет из Петербурга в Берлин, чтобы присутствовать на их свадьбе. В доказательство этого жених читал Кюпперс письмо, написанное будто бы его отцом, извещавшим, что он привезет в подарок невесте своего сына дорогие бриллиантовые серьги и богатую шубу. В заключение письма вскользь упоминалось о том, что отец везет сыну также и деньги — около 4 000 рублей.
24 февраля Беспрозванный зашел к невесте и узнал, что она получила от одного своего знакомого 800 марок.
— Такие большие деньги опасно хранить у себя, — стал уверять он невесту, — отдай их на хранение мне.
Простоватая немка, вполне доверяя жениху, беспрекословно вручила ему деньги.
— Будь спокойна, — сказал ей Беспрозванный и сообщил при этом приятную весть: на следующий день должен был приехать его отец.
— Ты, Белла, пожалуйста, явись на вокзал, надо обязательно встретить моего старика, — просил Беспрозванный, а затем, распростившись с невестой, немедленно поспешил покинуть Берлин.
Когда на другой день Кюпперс явилась на Силезский вокзал, там ни отца, ни сына Беспрозванных не оказалось.
Обманутая женщина заявила обо всем берлинской полиции, и летом 1901 года Александр Беспрозванный был задержан в Петербурге. Оказалось, что он уже давно женат и имеет четверых детей.
Кроме проделки с глуповатой немкой, ловкий авантюрист ухитрился сфабриковать и подложный вексель.
В марте 1900 года петербургский купец И. И. Кондратьев получил от Беспрозванного в уплату долга вексель в 100 рублей, выданный будто бы московским купцом И. Н. Филиным. Однако прошел срок, а вексель никто и не думал оплачивать. Тщетно прождав денег, Кондратьев предъявил вексель к протесту и, к своему удивлению, узнал, что он подложный и что никакого купца Филина, выдавшего этот вексель, в действительности не существует.
Экспертизой было доказано, что вексель этот написал сам же Беспрозванный, который, боясь ответственности, заблагорассудил скрыться из Петербурга за границу.
На предварительном следствии он упорно отрицал свою виновность и настаивал на том, что купец Филин не вымышленное лицо, а действительно был должен ему 100 рублей и что хотя он, Беспрозванный и состоял в любовной связи с Кюпперс, но не считался ее женихом и никаких денег у нее не брал на хранение. Точно так он отказывался признать себя виновным и в краже 500 марок у Рудольфа Фемеля.
По справкам оказалось, что Александр Ильич Беспрозванный — выкрест из евреев, раньше назывался Абрамом Мордкелевым и был приписан к мещанам города Кронштадта.
В октябре 1902 года он предстал перед санкт-петербургским окружным судом.
Молодой, представительный человек, лет 34-х, прилично одетый, Беспрозванный выглядел истым джентльменом; немудрено, что он мог вскружить голову легковерной немке.
Защищался он сам и заявил, что давно уже не живет со своей женой, так как она занимается предосудительной профессией, давая пристанище «милым, но погибшим созданиям».
— Что же касается Кюпперс, то, собственно говоря, я действительно находился с ней в связи, но и только!.. Никаких денег я никогда не брал у нее, — объяснил Беспрозванный. — Впрочем, я получил от нее в подарок золотые часы, но за то ездил по ее делу в Лондон.
Из прочитанного письменного показания госпожи Кюпперс, между прочим, выяснилось, что, в надежде на скорое замужество, она тридцать пять вечеров кормила коварного жениха (у нее был колбасный магазин) и давала ему взаймы деньги. В благодарность за это подсудимый называл ее «своей милой невестой» и написал ей такое письмо:
«Дорогая Белла, очень хорошо сплю и никогда не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Благодарю, моя горячо любимая Белла! Твой Александр».
Узнав адрес отца вероломного жениха, Кюпперс сообщила ему письмом о своей радости, что она скоро станет женой его сына. К ее ужасу, ответ отца был следующий: «Не связывайтесь с этим негодяем, — у него жена и четверо детей. Я же давно отказался от своего сына и ничем не могу вам помочь».
Ошеломленная Кюпперс хотела было объясниться по этому поводу с женихом, но последний в это время уехал из Берлина.
Как обнаружилось из свидетельских показаний, подсудимый жил более чем скромно за границей, постоянно нуждался в деньгах и имел всего один костюм, хотя и уверял, что у него в Петербурге находится огромная дача. Если бы не легковерная госпожа Кюпперс, разыскивавшая по объявлению женихов, ему, по всему вероятию, пришлось бы очень плохо в материальном отношении.
Раньше в Петербурге он уже судился за подлоги и был лишен всех особенных прав и преимуществ.
Ознакомившись с обстоятельствами дела, присяжные заседатели вынесли Беспрозванному обвинительный вердикт.
Резолюцией суда он был приговорен к отдаче в исправительные арестантские отделения на четыре года.
СЕМЕЙНЫЙ РОМАН
В прошлом году осенью перед судом присяжных заседателей предстал крестьянин Федор Сорокин, обвинявшийся в покушении на убийство любовницы своего отца.
Как выяснилось из обвинительного акта, преступление это имело место 9 марта 1902 года на Нижегородской улице, в Петербурге.
Около 11 часов утра в квартиру дровяника А. Сорокина наведался его сын Федор, молодой человек 22 лет.
Самого Сорокина в это время не было дома, и в квартире находилась только его сожительница Елена Гаврилова с своей сестрой Марией.
Молодой человек был радушно принят ими, и его пригласили посидеть в столовой.
Мало-помалу завязался оживленный разговор. Ничего не подозревая, Гаврилова и ее сестра весело смеялись.
Вдруг произошло нечто совершенно неожиданное.
Молодой человек внезапно встал со стула, вытащил из кармана огромный нож и, как зверь, кинулся на Гаврилову.
Все это было делом одной секунды.
Прежде чем перепугавшаяся женщина успела выбежать из комнаты, Федор преградил дорогу и ожесточенно стал полосовать ее ножом.
Сестра Гавриловой от ужаса замерла на месте.
Нанеся несколько ран Елене, преступник поспешно выбежал на улицу.
Истекая кровью, Гаврилова начала отчаянно взывать о помощи. К ней присоединилась девушка, наконец опомнившаяся, и на их крики в столовую прибежал дворник.
— Был молодой Сорокин… хотел убить, — в ужасе говорили женщины.
Окровавленная Гаврилова была отправлена в больницу, где при медицинском освидетельствовании у нее были найдены три широкие раны. По мнению врачей, ввиду обильной потери крови ранение Гавриловой могло быть опасным для ее жизни. К счастью, ей вовремя оказали медицинскую помощь, и она благополучно выздоровела.
Явившись на другой день в полицию, Федор Сорокин чистосердечно сознался в своем преступлении и объяснил, что так жестоко расправиться с молодой женщиной заставило его вмешательство ее в семейную жизнь Сорокиных. По его словам, ради этой женщины отец Сорокин бросил на произвол судьбы свою жену с детьми и нисколько не заботился о них. От этого на родине, где проживала покинутая семья, все хозяйство их пришло в полнейший упадок, и им стала грозить суровая, безысходная нужда. Как сам Федор, так и все его родные несколько раз пытались уговорить старика Сорокина оставить свою любовницу и вернуться к жене. Но все было тщетно. Прожив с Гавриловой около 9 лет, Сорокин и не думал прерывать своей связи с ней.
Наконец, не видя никакого другого исхода из этого тягостного для семьи положения, молодой сын решился убить любовницу отца как главную причину их семейного разлада.
9 марта утром отец Сорокин ушел куда-то из дому.
Запасшись большим финским ножом, Федор явился к молодой женщине, чтобы свести с ней счеты.
По его словам, он стал настойчиво просить ее не губить семьи и разойтись с Сорокиным.
— Никуда я не уйду, да вам и дела до этого нет, — возразила будто бы она.
Тогда, раздраженный, он набросился на нее и начал наносить удары ножом.
В свою очередь старший брат его, Василий, объяснил на следствии, что старик Сорокин, вступив в любовную связь с Еленой Гавриловой, стал явно пренебрегать семьей. Денег на родину он посылал мало и был, видимо, предубежден против сына Федора. Последний служил одно время у отца в качестве приказчика по продаже дров, но отец остался им недоволен и отослал его к своей брошенной жене.
Федор прожил на родине около полутора лет и когда вернулся в Петербург, то увидел, что его прежнее место занято братом Гавриловой.
Отец отказался снова принять его, и отверженный сын, вообще недолюбливавший молодой женщины, еще более возненавидел ее, считая ее главной причиной семейных неприятностей.
Обвиняемый — довольно симпатичный молодой человек, с простоватым, неинтеллигентным лицом. Защищал его присяжный поверенный А. В. Бобрищев-Пушкин.
В качестве свидетелей были вызваны отец Сорокин, его сожительница Гаврилова и ее сестра.
Потерпевшая — молодая, красивая, лет 26-ти, производила впечатление развитой, интеллигентной женщины.
Судя по ее показанию, подсудимый раньше хорошо относился к ней и питал уважение. Точно так же и 9 марта он держал себя скромно и мирно разговаривал с ней, не поднимая никаких вопросов о ее связи с отцом. Потом вдруг на него что-то нашло, и ни с того ни с сего он принялся зверски колоть ее ножом.
С своей стороны отец Сорокин говорил, что Федор вел предосудительный образ жизни, утаивал полученные с покупателей деньги, грубо обращался с ним и даже воровал. Однажды сын сбежал от него и промотал одежду, ночуя по ночлежным домам.
Разыскивая беглеца, старик Сорокин нашел его в компании с подозрительным субъектом. Когда он хотел задержать блудного сына, последний дал ему подножку, чтобы сбить на землю, а его товарищ намеревался поколотить старика. Сорокин тем не менее все-таки привел сына домой и, по его собственному выражению, «немного посек его» за озорничество.
Отец Сорокин представляет собою типичного торговца-дровяника. Лет под 55, одет по-купечески и держится с достоинством.
Он уже вторично женат. Первая жена его умерла лет двадцать тому назад. В 1884 году он снова женился, но вторая жена оказалась сварливой особой и приревновала Сорокина к жене его брата. После этого между ними возник разлад, и Сорокин оставил жену. В 1894 году он случайно познакомился с молоденькой девушкой Еленой Гавриловой, которая понравилась ему. Он вскоре добился ее взаимности, но когда родители Гавриловой узнали об ее романе с женатым человеком, они выгнали ее из дома. Сорокин решился взять девушку к себе на квартиру и жил с нею уже как муж с женой. От этой связи у них было двое детей.
По словам Сорокина, как его сожительница, так и сын обыкновенно очень хорошо относились друг к другу.
Заседание санкт-петербургского окружного суда по этому делу продолжалось два дня.
В общем, несмотря на опрос многочисленных свидетелей, причины покушения подсудимого на Елену Гаврилову представляются странными и на судебном следствии не были в точности выяснены.
Федор Сорокин ссылался раньше на то, что сожительница его отца внесла полнейший разлад в семью и, благодаря ей, старик Сорокин перестал посылать деньги своей брошенной жене.
Между тем оказалось, что Сорокин не переставал снабжать деньгами свою семью, и у его жены были даже отложены небольшие деньги в сберегательную кассу на «черный день». Имея на родине дом, несколько десятин земли, лошадь и корову, семья Сорокина могла существовать безбедно даже и без его помощи.
Месть за разбитую семейную жизнь мачехи также не могла подвинуть Федора на преступление.
Напротив, к Елене Гавриловой подсудимый питал одно время хорошие чувства и по-родственному называл ее «мамочкой».
В свою очередь, и потерпевшая на суде производила вполне благоприятное впечатление.
Сойдясь с Сорокиным, она была для него хорошей подругой и несла на себе всю черную работу по хозяйству.
Сначала Сорокин служил у кого-то приказчиком и занимал с Гавриловой всего одну комнату. Молодая женщина в этой время заменяла прислугу: она варила обед, стирала белье и мыла полы. После Сорокину удалось завести свое дело; он удачно повел торговлю дровами и, став обеспеченным человеком, не забыл и Гаврилову. Она сделалась уже «барыней» и пользовалась уважением со стороны всех знакомых Сорокина.
Имея своих детей, она не забывала также и о семье Сорокина и участливо относилась к его младшему неудачнику-сыну, попавшему, наконец, на скамью подсудимых.
Несколько загадочным явилось на суде также и поведение отца Федора.
По закону старик Сорокин мог отказаться от свидетельских показаний — и тем не менее он все-таки выступил в качестве свидетеля.
Трудно судить, что руководило им в данном случае, но несомненно было одно: старик топил сына, хотя, быть может, бессознательно. По крайней мере, большая часть показаний его клонились далеко не в пользу подсудимого.
Очевидно было, что между отцом и сыном существовала глубокая рознь.
Во все время судебного следствия подсудимый упорно молчал, с апатичным видом посматривая в сторону отца и его сожительницы. Он как будто нисколько не интересовался исходом следствия, от которого зависела его судьба.
Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Таганцев, энергично настаивавший на обвинении.
Потерпевшей Еленой Гавриловой был предъявлен гражданский иск в сумме 1 000 рублей за лечение и утрату трудоспособности, вследствие нанесенных ей ран. Интересы ее поддерживал помощник присяжного поверенного Квашнин-Самарин. После него защитник произнес следующую речь:
— Господа судьи и присяжные заседатели! Вам здесь говорили о возмездии. Да, конечно: суд со всеми его усовершенствованиями ведь исторически и возник из первобытной дикой мести. Когда люди поняли, что она, часто несправедливая, всегда жестокая, немыслима в общежитии, они учредили суд, и обиженный знал, что теперь уже незачем самому мстить обидчику: есть люди, которые отплатят за него, и не только «око за око, зуб за зуб», а иной раз за раны исцеленные превратят всю жизнь осужденного в гнойную, незакрывающуюся язву. И личная месть отжила свой век. Но, по выражению известного профессора-криминалиста, преступное и безнравственное — два круга, находящих один на другой, но друг друга не покрывающих. Есть преступники, которых не запятнало их дело, которым всякий охотно подаст руку, как честным людям, и есть деяния, глубоко безнравственные, от которых иной раз гибнет не одна, а много жизней и на которые нет суда, нет управы. И человек бьется, теряет разум в буквально безвыходном положении и взывает: «Господи, где же Ты?» — без ответа, и спастись нельзя, и идти некуда… И тогда, при бессилии суда, замененная им личная месть поднимает голову. И мы говорим: что за дикий самосуд, недостойный двадцатого века! Но когда видим, какие несчастия довели человека до него, рука не поднимается на осуждение. Девушка брызнула кислотой в лицо своему соблазнителю, дворянин убил разорившего его ростовщика, незаконный сын вышиб глаз отцу револьверным выстрелом… и их деяния не вменены им в вину. А ведь они мстили… мстили за себя лично. Но насколько легче и радостнее работа вашей судейской совести, когда вы имеете дело не с личной местью, а заступничеством за дорогих, за близких… И такое заступничество глубоко неверно: кровью ничего спаять нельзя, — но вырвите у человека любовь к родным и тогда судите за такие деяния. Мне вспоминается литературный тип старовера-фанатика: «Все праведники, все святые, — думал он, — получат награду за свои добрые дела, они страдают лишь здесь; а что, если сделать такое доброе дело, за которое и здесь, и на Страшном Суде получишь одно проклятие?» Безумная мысль, порожденная горем, повитая несчастной жизнью. И вот — другая, такая же: «Пусть я погибну, сделав страшное дело, но со мною погибнет и она, разлучница. Все равно погибать либо им, неповинным, либо ей. И я паду сам вместе с ней искупительной жертвой, но спасу их, моих дорогих, дам им покой и счастие». Нет, не поможешь кровью, — тоже безумная мысль; но разве не видите вы, что она может явиться лишь под гнетом безысходного горя, зародиться не в порочной душе, а в молодой, способной на благородный порыв, на подвиг самоотвержения?
И все видят это, все понимают, что доказанный подобный мотив — смерть для обвинения. Вот почему так стараются вырвать его у нас. Доказан ли он — в этом все. И, исследуя это, я старался быть вполне беспристрастным. Вы помните, сколько раз я сознательно выяснял вещи, решительно невыгодные для подсудимого.
«Слово принадлежит защите подсудимого», — сказал господин председатель. Это не совсем верно. Я в этом деле не защитник только. Законное увлечение, законное пристрастие сторон неуместны здесь. Они были бы почти клеветой относительно противной стороны… Здесь так сплелись интересы, что каждое неосторожное слово ляжет на кого-нибудь тяжким гнетом. И если давно указан идеал обвинителю в чудном термине «говорящий судья», я хотел бы, чтоб говорящего судью вы здесь нашли и в защитнике.
Но через какие дебри неправды приходится пробиваться к истине! Я не о той неправде говорю, которая явилась от смущения темных людей, впервые явившихся в эту залу… Подсудимый говорит: «Отец мало посылал в деревню». Его спрашивают: «Сколько мало?» — «Ничего». — «Это разница! Мало или ничего?» — «Ничего», — повторяет подсудимый и говорит очевидный абсурд, так как не может не знать, что о посылках покажут все свидетели, и вы видите, каким образом «мало» превратилось в «ничего».
Старику крестьянину, не позволяя читать ни слова, показывают письмо издали: «Да вы скажите — ваша рука или нет? Ваша рука?» И он сбивается и дает противоположные ответы.
Вашим здравым смыслом, не подверженным цензуре, как слово защитника, вы лучше всего объясните себе причину таких явлений. Но есть другая неправда, настоящая. Когда старуха мачеха и дядя, глядя на скамью подсудимых, не решались вам рассказать о ссорах и кражах в деревне, — они говорили неправду, которая лучше, чем правда — если правда еще — отца подсудимого. И когда эта забитая женщина, точно пришедшая к нам из времен крепостного права, повторяла каким-то рабским голосом: «Я довольна мужем… Мне недурно живется в деревне… недурно… недурно…» И это «недурно» звучало, как похоронный звон, — разве ее бледное, испитое лицо не являлось живым обличителем ее слов?! Вглядитесь в него — это ли лицо счастливой женщины? А сказать иначе нельзя, потому что сзади сидит Александр Михайлович, а спорить с Александром Михайловичем ой-ой-ой как трудно! Рассердится он на ее показание — и конец: перестанет, пожалуй, вовсе посылать в деревню и те крохи, что посылал до сих пор. И брат, бедный брат, тоже это понимает, и почти все родичи Александра Михайловича на очных ставках с ним обнаруживали необычайную податливость. Вот сам он держится совсем иначе. В то время как его деревенская жена с недоумением отказалась от поданного ей господином судебным приставом стакана воды, он чуть не графинами поглощал эту воду и старался выдавить воду из собственных глаз. Тихий, скромный, в наглухо застегнутом сюртуке, он пришел сюда, с елейными вздохами всячески топя сына в двухчасовом показании. Он кругом обиженный, бедный… не то что тысячи рублей, которую у него почему-то просили взаймы, у него ста рублей нет, у него полена дров нет, — у дровяника, глядя на зимнее время. Но попрекнули его заплаченным за него бедным братом шестирублевым оброком — и проснулась гордость в Александре Михайловиче. Шагнул он вперед, распахнулся сюртук, засияла двубортная золотая цепочка. «Что? Шесть рублей? Да я шестьсот рублей сейчас могу выложить!» Вот правда-то и сказалась, и только по таким отдельным проблескам можете вы в этом деле добраться до правды… А то все: «Как перед Богом!», «Как перед Богом!». Это «Как перед Богом» вроде поговорки стало и у него, и у его брата, и я под конец уж привык. Как скажут: «Как перед Богом», я так и знал: сейчас скажут неправду Александр и Арсентий Михайловичи.
А господин гражданский истец говорит: «Мы пришли сюда не нападать, а защищаться…» Для самозащиты забрасывают подсудимого грязью, для самозащиты откопали приказчика, служившего у Абрамова девять лет тому назад, когда и самой госпожи Гавриловой при старике не было. Да позволит мне господин поверенный гражданского истца почтительно, дружески снять с него маску, — она все равно вся сквозит. Скажем словами из «Севильского цирульника»: «Кого здесь обманывают?»
Гражданский истец от госпожи Гавриловой? Полноте! Поверенный Александра Михайловича, — вот это так! Кто поверит, чтобы госпожа Гаврилова, живущая в его доме, могла по своей инициативе предъявить этот иск? Одним словом своим он мог запретить ей это: «Оставьте, я не хочу, чтоб губили моего сына». Но он сам является его обвинителем. Он бегал за розысками порочащих его свидетелей, носил куколки и шоколад Дмитрию Сорокину для его дочери: «Я тебя выставлю свидетелем со своей стороны», он выкопал все пятна его жизни. Раньше всего: пусть это все правда, — разве с такой правдой идут на суд? Разве закон делает отца добровольцем обвинения, доносчиком на судебном следствии? Закон понимает чувство отца, и когда отец не желает воспользоваться своим правом отказаться от показания — это значит, у него есть за сына доброе слово, есть чем помочь ему. Александр Михайлович знает позор и стыд, что испытывают на этой скамье, вынес он тяжесть и обвинительного приговора, кассированного за отсутствием состава преступления. С обычным блеском, обычным талантом провел это дело присяжный поверенный Марголин, и когда вновь случилось несчастие в доме — Александр Михайлович вспомнил о своем бывшем защитнике: «Мне опять нужна ваша помощь; у меня погибает сын. Я ни разу не был у него в тюрьме, он изнывает под гнетом тяжкого обвинения… ему грозит страшная кара. Помогите же мне навалить бревно на моего сына!»
При такой злобе, такой «правде», можно ли верить хоть единому слову этого противоестественного отца? Если он способен на такую «правду», не способен ли он и на ложь, на клевету против сына? И действительно, он обвиняет всех родичей, кроме себя… он обижен, — напрасно они от него отвернулись, напрасно уличают его во лжи на каждом шагу. «Вы поставлены здесь между вашей гражданской женой и вашим сыном», — сказал ему господин председатель, и он не колебался ни минуты. Если б по какому-нибудь случаю эти родные пришли свидетельствовать о нем до начала его связи с госпожой Гавриловой, не то бы услышали мы, не было бы в них этой злобы. А теперь злоба есть безусловно, но чем она вызвана? Прежде он был заботливым отцом и дядей, хоть и крутым и взбалмошным иногда. Мы присутствуем при истории постепенного угасания в человеке доброты и порядочности по мере того, как он богател и отдалялся от деревенской жизни. Он женился крестьянином в одну неделю, «потому что нужна была работница». Он бросил жену, потому что работница больше нужна не была. Он пытался здесь запачкать ее, обвиняя в гадких подозрениях, в том, что эта покорная женщина невозможным характером делала ад ему в доме, властному главе семьи. Но все здесь единогласно уличили его во лжи. Бросил он ее потому, что не удовлетворяла она его городским запросам, что он при средствах мог завести себе «жену гражданскую», покрасивее и помоложе. Непривычно как-то это слово, не по-русски звучит оно, но его употребляли здесь, — пусть уж будет «жена гражданская». Здесь читал панегирик ее добродетелям господин гражданский истец. Он, конечно, мог делать это беспрепятственно… не унизились же мы до расследования частной жизни молодой женщины, живущей с богатым стариком; во всех таких процессах можно говорить о всевозможных семейных добродетелях. Однако несколько цифр: она тогда была чистильщицей ягод, а старик Сорокин получил за три месяца четыреста рублей; пятьсот рублей, кроме того, было у него уже принакоплено, и он вскоре завел свое дело. Жили с самого начала «шикарно», по указанию свидетельницы Анны Сорокиной, вызванной господином гражданским истцом. И сошлись теперь впервые на этой скамье жена законная и жена гражданская. Никогда они раньше друг друга не видели; пример тому, как при сложном общественном строе человек издали, никогда не видя другого, может отравить ему всю жизнь… Одна три года сажавшая и косившая, в крестьянском платье, с испитым лицом — и другая, с острым малокровием и румянцем во всю щеку… Жена законная, жена счастливая, живущая там в холе и достатке… бездна какая-то денежная, а не жена, — сколько ни высылай ей, все мало, все оброк не заплачен, все долги — видно, она там задает лукулловские обеды. И жена гражданская, бедная и обиженная… Говорят, и к Федору она лучше была, ласковее, и любовь-то Федора к своей мачехе «прошла на судебном следствии как-то бледно». Да, вот «любовь» Александра Михайловича к госпоже Гавриловой была ярка, как всякий пустоцвет, хоть и принесла плоды горькие. Тут на следствии было еще словечко: «Чужая мать». Неродная была для Федора Серафима Сорокина, а «чужая мать». Не родила она его, не вскормила своим молоком, но вошла в дом, когда ему было полтора года, и нянчила и лелеяла все детство. Бабушки умерли скоро, осталась она с ним одна. И говорят: «Да где доказательства, что он любил ее?» Ссылаются на какие-то мелкие ссоры. Да не лишайте же подсудимого простых человеческих чувств! Где доказательства, что он любил ее! Она десять лет его нянчила и лелеяла.
Разбирая жизнь Федора с раннего детства, анализом свидетельских показаний защитник устанавливает неверность показания отца о кражах и растратах сына, кроме одной кражи у Абрамова, совершенной без разумения, под влиянием старшего товарища, двенадцать лет от роду. Федор не пропадал от отца, — Александр Михайлович сам прогнал его от себя, хотя тот несколько раз приходил к отцу бездомный, оборванный. Как бы там ни было, кто прав, кто виноват, — назидательно только одно: в 1894 году Александр Михайлович сходится с госпожой Гавриловой, в 1895 году Федор — на Горячем поле.
Как ни усиленно отвергали здесь деревенскую нужду даже те, кто от нее страдал, — она установлена рядом фактов: хозяйства не было, лошади не было, одна корова, в лавку полгода были должны два рубля, оброк в шесть рублей заплатил Арсентий, да так и не получил его обратно. Но сущим лучом света является письмо Арсентия к племяннику. Защитник сопоставляет это письмо с льстивым письмом Арсентия Александру Михайловичу: «Я и все наши поздравляем и желаем Лене (Гавриловой) здоровья на новую жизнь». —
«Все… значит, и жена законная поздравляет гражданскую, — вот до чего доходит унижение! А за глаза не то. Особенно характерна фраза Арсентия в письме, что из-за такой подкладки он не согласен своего топить. Значит, ему предлагали. Из письма видно, что Александр Михайлович и теперь, после события 9 марта, собирается продать постройки. «Гром не грянет, мужик не перекрестится», — а ему и гром ничего! А история с малолетним сыном Серафимы Сорокиной? Знала мать, отправляя мальчика в город, что напрасно посылать его к отцу. Но не нашлось места у брата Василия, отослал он Леню туда, и остался мальчик на лестнице, в квартиру его не пустили… и постоял Леня, и побрел на улицу, не зная, куда преклонить голову, и пришлось Лене жить в чужих людях, и брат отказался от места, чтобы пристроить его.
— Господа присяжные заседатели! Забудьте все, что вам говорила защита. Если бы правда была вконец задавлена на судебном следствии, если бы все оно представляло лишь потоки грязи и лжи против подсудимого, — неужели не было бы довольно одного этого безвинного мальчика на лестнице у родного отца, чтобы осветить дело ярким светом, чтобы вы поняли и самого Александра Михайловича, и то, какие горькие, неизведанные мучения терпела от него вся семья?
После перерыва защитник перешел к юридическому анализу. Слабым пунктом обвинения является бессилие указать другой мотив преступления, кроме указываемого подсудимым. Как это всегда бывает в слабых пунктах, прокурор и гражданский истец здесь разошлись. Опровергая выставленные ими мотивы, защитник отмечает редкий случай: обвинители торгуются с правосудием, а подсудимый нет.
— Гражданский истец тихим голосом, кротко и нежно просит подать Христа ради какое-нибудь обвинение — хоть в легких ранах. Но нам подарков не надо — не по милости гражданского истца, а по правде Федор и не может быть обвинен ни в чем другом, так как мы имеем дело с добровольно оставленным покушением. Когда пришла весть, что Александр Михайлович собирается все распродать, она наполнила ужасом зависевшую от него деревенскую семью. Это было началом конца, — Александр Михайлович был готов вовсе их бросить. Прошлое было тяжко, но терпели, а тут грянуло в глаза страшное будущее. Как ни мало заметно волнение на лице Федора, на этот раз заметили — он отнесся к этому «неравнодушно». Ничего не ответил он, сказал только: «Нехорошо это с его стороны», и с тех пор залегла в нем недобрая дума. В тумане этой думы купил он нож, — положение было безвыходно, и вся родня указывала на нее, на разлучницу, как на причину всего. И он пошел к ней.
Нарисовав картину покушения и установив, что Федор сам остановился, нанеся лишь легкие раны при виде Гавриловой, лежавшей в крови, и что он колол, по заключению экспертов, нетвердой рукой, потому что, чего хотел разум, не хотела воля, — защитник ждал полного оправдания не ради Федора, которому после всего перенесенного безразлично обвинение в легких ранах, а потому что то мелкое обвинение, которого просят здесь, уничтожит весь тот урок, весь тот глубокий смысл, который будет заключаться в оправдательном приговоре.
— Не как защитник больше я обращаюсь к вам, а как общественный деятель к общественным деятелям, — закончил присяжный поверенный Бобрищев-Пушкин. — В наше время разложения семьи, теорий, ее ниспровергающих, вы — ее последний оплот. Вы слышали, как спросили госпожу Гаврилову: «Знали вы, сходясь с Александром Михайловичем, что у него там, в деревне, вторая семья?» Итак, вторая семья — семья брошенная, законная, а семья гражданская уже стала первой семьей. Вот что вы слышали здесь. Вы слышали теории о гражданских женах. Я готов понять это слово. Я понимаю, что вследствие многих причин люди не могут обвенчаться иногда и живут вместе, как муж с женой, но не заедая ничьей жизни, не становясь никому поперек прямой жизненной дороги, не строя счастье на чьих-либо слезах. А когда молодая женщина живет с богатым пятидесятилетним стариком, забывающим ради нее свои основные обязанности, забывающим голос крови, — не слишком ли пышен для нее титул гражданской жены, не довольно ли было вежливо назвать ее сожительницей? Докажите же вы, представители общества, как относитесь вы к подобным взглядам. Напомните, что семья — ячейка государства, что над ней смеяться нельзя, — пусть призадумается общество над вашим приговором. Перед этой общественной стороной бледнеет даже участь подсудимого.
Тяжело, ненормально сложилась его молодая жизнь: «чужая мать» была у него, чужой и отец. Может быть, в вас он встретит, наконец, людей родных.
После блестящего резюме председательствующего господина Камышанского, всесторонне охарактеризовавшего это несколько загадочное дело, присяжные заседатели вынесли Федору Сорокину оправдательный вердикт.
ПРОЦЕСС ГАЗЕ
Осенью 1902 года скамью подсудимых в санкт-петербургском окружном суде занимал мещанин Алексей Газе, составивший себе печальную известность своим процессом.
Красивый молодой человек 32 лет, Газе одно время пользовался большой популярностью в рядах так называемой «золотой молодежи». Он обладал недурным голосом, позволявшим ему с успехом воспроизводить модные цыганские романсы, увлекательно говорил и потому легко одерживал победы над прекрасным полом. Хорошо владея французским языком, он обыкновенно выдавал себя за парижанина, хотя на самом деле был еврей.
От жизни Газе брал все, что можно было, и, по-видимому, зарабатывал большие деньги. Любя только легкие, но выгодные профессии, он занимался и рекламированием заграничного шампанского в России, и сбором объявлений для помещения в коночных вагонах. Судя по удостоверению, выданному Газе одной рекламной фирмой, заработок его от агентуры достигал солидной суммы в несколько тысяч рублей в год.
Около 4 лет тому назад Газе познакомился на даче с красивой молодой женщиной Аделаидой, которая была представлена ему как невеста одного богатого инженера, на время приехавшая из Москвы. Газе очень весело провел с ней целый день и вечером вызвался проводить ее с дачи в Петербург.
Дорогой они оживленно разговаривали; молодая пикантная женщина все более и более нравилась Газе, и наконец он предложил ей зайти в какой-то фешенебельный ресторан. Она охотно согласилась, и они вдвоем просидели в отдельном кабинете ресторана до 4 часов утра.
Оставшись очень довольна знакомством с Газе, молодая женщина просила его заходить к ней почаще, и
Газе стал ежедневно навещать ее. Знакомство постепенно переходило в нечто более близкое, и Газе почувствовал, наконец, что он увлекся.
Через две недели и Аделаида призналась ему, что он произвел на нее глубокое впечатление.
— Я буду откровенна с вами и ничего не скрою, — сказала она и посвятила его в свою интимную жизнь.
Она была бедная девушка и уже с 16-летнего возраста принуждена была заботиться о куске хлеба. Имея влечение к сцене, она поступила в опереточную труппу и вскоре сделалась жертвой людской пошлости. С ней познакомился молодой человек, который потом бросил ее на произвол судьбы. Между тем отец ее был горчайший пьяница и беспрестанно требовал денег на водку. Кроме того, на ее же попечении были младшие братья и сестры.
Очутившись в безысходной нужде, она не знала, что делать. В это время за ней стал ухаживать богатый старик. Она не чувствовала к нему никакого влечения, но нужда заставила ее подарить его своей любовью. Три года жила она со стариком и пользовалась полным достатком. Старик, видимо, любил ее и относился к ней с большим уважением. Тем не менее ему пришлось распроститься с ней, и, получив назначение на должность где-то за границей, он уехал из России. Расставаясь с молодой женщиной, старик обеспечил ее сторублевой «пенсией» в месяц.
Затем Аделаида познакомилась со студентом-техником и полюбила его. Он был в то время бедняком, и молодая женщина стала отдавать ему все деньги, получаемые от старика. Студент дал клятвенное обещание жениться на ней по окончании курса.
Однако курс им был окончен, прошло еще два года после этого, а молодой инженер и не думал выполнять своего обещания.
— Я боюсь, что он обманет меня, — говорила Газе молодая женщина. — Но теперь я встретила вас, и мне кажется, что вы — честный человек. Скажите по совести: можете ли вы жениться на мне? Я вам поверю и не вернусь уже более в Москву, где живет мой инженер.
Сильно привязавшись к Аделаиде, Газе дал обещание вступить с нею в брак.
Через месяц она стала торопить со свадьбой. Иначе, по ее словам, из Москвы мог приехать инженер, и тогда она за себя не ручалась.
— Надо повременить немного, в силу материальных обстоятельств, — возражал Газе.
— Как знаешь, — недовольно говорила молодая женщина.
Спустя несколько дней Газе пришел к ней на квартиру и узнал, что из Москвы приезжал какой-то инженер и увез Аделаиду с собой.
Оскорбленный Газе начал жаловаться одной своей знакомой на вероломство молодой женщины, жестоко надругавшейся над его любовью.
— Да неужели вы серьезно хотели жениться на ней? — удивилась знакомая.
— Конечно, — ответил он.
— Боже вас сохрани!
И знакомая охарактеризовала Аделаиду как ловкую куртизанку, которая приезжала в Петербург специально эксплуатировать одного бывшего своего любовника.
— Ее прошлое таково, что вы должны Бога благодарить за то, что она уехала, — говорила знакомая.
Под влиянием ее слов Газе мало-помалу начал успокаиваться, и сердечная рана не так уже терзала его.
Вдруг случайно на Большой Морской улице он снова встретился с Аделаидой.
Увидев его, молодая женщина стала умолять, чтобы он не отталкивал ее.
— Я виновата перед тобою. Прости… Но я люблю тебя… Без тебя я не могу жить, — со слезами говорила она. — Не только женой, я согласна быть твоей любовницей, служанкой, всем, чем угодно.
Газе был ошеломлен таким неожиданным натиском.
Страсть снова вспыхнула в его сердце, и он поверил словам Аделаиды. Они опять сошлись и два года жили очень хорошо.
По словам Газе, он ни в чем не мог упрекнуть Аделаиду за это время. Она была для него доброй, честной и любящей подругой. Ухаживая за ним, как за малым ребенком, предупреждая все его желания, она, наконец, совершенно поработила его волю. Он стал на все смотреть ее глазами, думал только о ней…
Считая его французом, Аделаида искренно удивлялась, почему он не носит креста.
— Я куплю тебе крест, — предложила она.
— Хорошо, — равнодушно согласился он.
После, однако, Газе признался ей в своем еврейском происхождении и перешел в православие.
Прошло некоторое время, и она опять завела речь о браке.
— Ты обещал ведь жениться… Теперь, видя мою любовь, трудно сомневаться во мне, — говорила она настойчиво.
На этот раз Газе уже не протестовал и зимой 1901 года обвенчался с Аделаидой.
К его удивлению, после брака характер молодой женщины вдруг сильно изменился. Она стала пренебрежительно относиться к нему и отвергала его ласки.
Муж попробовал объясниться с ней, и вот что она ему сказала:
— Два года я играла комедию… Мне нужно было выйти замуж!.. Я этого достигла и больше жить с вами не буду. Не сегодня завтра я уйду.
Газе был ошеломлен услышанным и, убежав из дому, бесцельно бродил по городу до утра.
Через несколько дней молодая женщина оставила квартиру мужа. Мало того, она возбудила еще против него обвинение в краже ее сундука с вещами. Дело об этом должно было рассматриваться в камере мирового судьи 1-го участка, но обвинительница отказалась от обвинения и вскоре снова сошлась с мужем. Через месяц совместная жизнь их превратилась в ад, и молодая женщина опять сбежала. Несколько месяцев Газе не видел ее, хотя и слышал, что она ведет разгульную жизнь.
30 декабря 1901 года Газе написал жене письмо с просьбой назначить время для свидания, но не получил ответа.
На другой день он случайно встретил жену на Загородном проспекте, недалеко от Владимирской церкви. Газе быстро подскочил к ней и схватил за плечо.
— Вас-то мне и надо! — заговорил он взволнованно. — Зайдемте в ресторан.
Однако молодая женщина инстинктивно стала бояться мужа и под каким-то предлогом завела его на Стремянную улицу, где жил пристав 1-го участка Московской части, намереваясь попросить у него защиты от преследовавшего мужа. Но едва она подошла к парадной двери дома № 7, как вдруг Газе, очевидно догадавшийся об ее намерении, выхватил из кармана револьвер и выстрелил ей в спину.
Молодая женщина в ужасе стала звонить, чтобы поскорее отперли дверь.
— Опомнись, что ты делаешь! — закричала она, оборотившись к мужу.
Но тот выстрелил во второй раз. Она бросилась бежать через отпертую дверь вверх по парадной лестнице. Вслед ей прогремели еще три выстрела.
Сбежавшиеся дворники немедленно обезоружили Газе.
При медицинском освидетельствовании жена его оказалась легко раненной тремя пулями.
На допросе у судебного следователя она выставила себя жертвой неудачно сложившейся семейной жизни. По ее словам, Газе был жестокий эгоист и, имея любовницу, не стеснялся в то же время грубо эксплуатировать свою жену. Он бил ее и настойчиво требовал денег, какими бы путями они ни были добыты. Ей приходилось поэтому обращаться даже к своим бывшим поклонникам, и Газе не возражал. Напротив, нередко он сам посылал ее за деньгами в такие места, где надо было платиться иногда своею честью. Вообще в своем показании Аделаида не пощадила мужа и обрисовала его с самой непривлекательной стороны.
Наоборот, Газе настойчиво утверждал, что она была злым демоном в его жизни и разбила его счастье. Безумно любя жену, он все прощал ей и просил только одного — взаимной любви. Из-за этого он не остановился даже перед браком, хотя и знал все грязное прошлое Аделаиды. Он надеялся, что семейная жизнь исправит ее и сделает честной женщиной, но его постигло горькое разочарование. Жена откровенно заявила ему, что она только «играла комедию», желая переменить свое запятнанное девичье имя на фамилию мужа. Она презирала его, и, доведенный до отчаяния ее поступками, он решился покончить с собой самоубийством. С этой целью он стал носить в кармане заряженный револьвер.
Прежде чем наложить на себя руки, он долгое время тщетно пытался усовестить жену, но она только цинично оскорбляла его.
Встретившись с ней накануне Нового года, он сказал ей, что застрелится на ее глазах, и получил новое оскорбление.
— Такие подлецы не стреляются, — презрительно возразила она.
Ожесточенный этими словами, он выпустил в нее из револьвера все пять пуль…
В результате мещанин Газе предстал перед санкт-петербургским судом по обвинению в покушении.
Дело это слушалось в 1-м уголовном отделении и привлекло массу публики, но, по распоряжению председательствующего, женщины вовсе не допускались в зал судебного заседания.
Защитником со стороны обвиняемого выступал присяжный поверенный М. К. Адамов.
На суде, между прочим, обнаружилось все неказистое прошлое жены Газе. Она была дочерью известной в свое время воровки, прозванной за свою ловкость «второй Золотой Ручкой». Преступная мать крала, главным образом, в магазинах и с этой целью водила с собой Аделаиду. Однажды обе они попались на краже, и дочь была приговорена судом за укрывательство к трехнедельному аресту. После этого она дебютировала в оперетке и постепенно закрутилась в омуте беспутной жизни.
Выйдя замуж за Газе, она не покидала своих прежних интимных знакомств, и у нее постоянно находились богатые покровители. По-видимому, она пользовалась успехом среди них, и один покровитель, загадочно подписывавшийся в своих письмах: «Твоя ледяная сосулька», даже очень щедро субсидировал ее. Не мог не знать об этом и сам Газе, но он хладнокровно мирился с подобным фактом. Требуя от жизни только удовольствий и денег, супруги страдали нравственным индифферентизмом и, не задумываясь, пользовались чужими средствами. Одно время они жили даже на сторублевую «пенсию», которую ежемесячно высылал из Персии один из близких друзей Аделаиды. Когда денег не хватало на широкую жизнь, Газе отбирал у своей жены бриллианты, подаренные ей поклонниками, и пускал их в заклад.
Чтобы снискать к себе особенное уважение, Газе обыкновенно рекомендовался очень состоятельным человеком, не нуждающимся в средствах, и упоминал про какого-то мифического «дядюшку-миллионера». Жену же он выдавал, при случае, за племянницу графини Толстой, принадлежащую к именитой, аристократической семье.
Главным обвинителем Газе на суде явилась его жена, в словах которой сквозила непримиримая ненависть к нему. Из показаний ее выяснилось, что прошлое ее действительно не особенно чисто, но об этом и сам Газе был хорошо осведомлен. Тем не менее это его не шокировало. Он смотрел сквозь пальцы на ее поведение и заботился только об одном — о деньгах.
По словам жены, Газе отличался диким, необузданным характером, делавшим невозможной семейную жизнь. Очень дурно обращаясь с ней, осыпал ее грубой бранью и всячески йздевался над ней. Однажды он вскочил ей даже на спину в присутствии посторонних людей и, когда она возмущенно запротестовала, изо всей силы ударил по щеке. Но брезгуя пользоваться деньгами, которые она получала от поклонников, Газе тем не менее способен был иногда и на ревность.
Аделаида отправилась раз в Итальянскую оперу и возвратилась поздно домой.
— Где ты пропадала? — ревниво встретил ее Газе.
— Заходила к своей бывшей хозяйке чай пить, — ответила молодая женщина.
Но он не поверил и, набросившись на нее, стал душить.
Аделаида с трудом вырвалась из его рук и отчаянными криками начала сзывать к себе на помощь людей.
Когда на квартиру прибежал дворник, Гаде взволнованно объяснил ему, что у Аделаиды был только приступ галлюцинации…
— Хорошо было бы зарезать тебя! — озлобленно сказал он жене во время одной ссоры и показал острый кинжал, который находился у него в кармане.
В другой раз он чуть было не привел свою угрозу в исполнение.
Смертельно перепуганная, молодая женщина прибежала к своему брату искать защиты.
— Что у тебя с мужем? — спросил брат, догадавшись, что между супругами разыгралась обычная ссора.
— Он хотел мне сейчас вонзить в грудь нож, — стала жаловаться Аделаида.
В последнее время она узнала от одного из своих знакомых, что Газе купил револьвер и угрожает убить ее.
Аделаида с театральными жестами и нервной аффектацией несколько часов подряд рассказывала судьям про своего мужа и его некрасивые поступки.
Показания ее дышали трудно скрываемым ожесточением.
— Вы видите, что это за особа… Моя жена грязнит меня и старается лишь об одном: послать меня на каторгу, — заметил обвиняемый, обращаясь к присяжным заседателям. — Но вы сами, может быть, испытали увлечение и любили, и вы поймете меня…
Когда Аделаида оставила его квартиру, Газе намеревался водворить ее обратно, через полицию, а затем решил обратиться за советом к уважаемому пастырю, отцу Иоанну Кронштадтскому.
«Обремененный тяжелой скорбью и не находя выхода из дьявольского положения, я обращаюсь к вам, святой отец, — писал Газе. — Мне 31 год. Принял я православие без всяких убеждений и корысти. До 30 лет я жил без веры… Душа моя страдает теперь. Я хочу молиться, но не знаю как. Научите… Может быть, ваша молитва вернет мне покой!»
— Вы это письмо отослали? — спросил председательствующий у подсудимого.
— Отослал, но ответа не было…
Из других свидетельских показаний обнаружилось, что подсудимый нередко жаловался своим знакомым на неудавшуюся семейную жизнь и в последнее время стал нервничать.
— Да разведись ты с женой, — советовали ему.
— Не могу… не в силах, — сознавался он.
На следствии обвиняемый рассказывал также, что один из родственников Аделаиды откровенно признался ему, что им нужно было найти только дурака, который женился бы на ней, и что теперь она может жить с кем хочет.
В день преступления, по объяснению Газе, он намеревался покончить с собой и с этой целью поехал на Елагин остров. Дорогой, однако, он встретился с женой.
— Нам не к чему более встречаться, дороги наши разные, — говорила она.
Раньше, до своей злополучной женитьбы, он находился в любовной связи с госпожой Освальд, которая также была вызвана в суд.
Это — симпатичная, молодая женщина. Познакомившись с Газе еще лет семь тому назад, она вскоре полюбила его. Они вступили в связь, и у молодой женщины родился от него ребенок. Но на пути их встретилась ловкая, уже много видевшая красавица Аделаида — и слабохарактерный Газе порвал свою связь с Освальд.
Затем, когда Аделаида сбежала от него в Москву, он снова явился к покинутой сожительнице.
— Прости… То было только увлечение, а теперь оно прошло, — стал оправдываться он.
Освальд опять сошлась с ним — и опять появилась соперница. На этот раз связь окончательно порвалась, и Газе женился.
— Какое у вас чувство осталось к подсудимому? Дружба? Любовь? — задал вопрос председательствующий.
— Я его и теперь люблю, — с грустью ответила Освальд.
Она настойчиво утверждала, что Газе никогда не пытался воспользоваться ее деньгами. Если он и занимал иногда мелкие суммы, то вскоре возвращал. Аделаида же нисколько не любила его, и все желание ее сводилось лишь к одному — выйти замуж. Расставшись с Освальд, подсудимый писал ей: «Я сделал по отношению к тебе подлость, а та св… терзает меня». Продолжая любить Газе, молодая женщина страдала за его разбитую жизнь, за его неудавшийся, тяжелый роман. Встреча с ним на суде очень сильно подействовала на Освальд, и с ней сделался нервный припадок. Ввиду ее болезненного состояния, суд принужден был ограничиться кратким опросом.
После разрыва с мужем Аделаида повела далеко не скромный образ жизни. По словам ее квартирных хозяев, мещан Королькевичей, молодую «соломенную вдову» начал утешать в одиночестве пожилой офицер, посещения которого имели интимный характер. Навещали ее также и другие мужчины, делая, по большей части, поздние визиты. При этом молодая женщина старалась обыкновенно, чтобы в комнате у нее находился только один гость и не мог бы встретиться с кем-либо из других мужчин. Временами у нее совсем не было денег, а затем вдруг появлялись более или менее крупные суммы. Иногда даже в квартиру Королькевичей неизвестно от кого присылались деньги чрез посыльного, с просьбой передать их Аделаиде Газе.
Странное поведение квартирантки не могло понравиться Королькевичам, и они дали понять ей об этом. Аделаида стала извиняться и сообщила под секретом, что таинственный офицер — один из ее покровителей.
— Мог ли муж заподозрить ее в чем-либо предосудительном? — спросил председательствующий у свидетеля Королькевича.
— Безусловно, мог… Поведение ее было просто неприлично, — подтвердил свидетель.
Так же нехорошо отзывалась об Аделаиде и одна из ее бывших знакомых, госпожа Шкулевич. На допросе у судебного следователя эта свидетельница рассказывала, что Газе — жестокий человек и возмутительно обращался со своей женой, нередко выгоняя ее из дому. После, однако, она почувствовала угрызения совести и, не будучи в силах сдерживаться, открылась во всем своему знакомому:
— Что мне делать? Я мучаюсь и невыразимо страдаю от того, что, по просьбе Аделаиды, говорила ложь относительно ее мужа, — обратилась она к нему за советом.
— Признайтесь судьям, что вы сказали у судебного следователя неправду, — посоветовал ей знакомый.
Вызванная в окружной суд, она действительно созналась, что дала раньше заведомо ложное показание против Газе.
— На самом же деле, — объяснила она, — во всем виновата только Аделаида, которая нарочно раздражала своего мужа, чтобы иметь возможность уйти от него.
Как обнаружилось на суде, Шкулевич находилась в последнее время в ссоре с женой подсудимого.
По словам свидетельницы, Аделаида, узнав от кого-то, что она решилась раскрыть всю правду, озлобленно набросилась на нее и поколотила.
— Теперь одним свидетелем меньше будет, — говорила она при этом.
Во время знакомства с своей будущей женой Газе занимался, между прочим, агентурой от имени рекламной фирмы Моньена по сбору объявлений для расклейки в вагонах различных конно-железных дорог и в омнибусах. По-видимому, Газе пользовался большим доверием владельца этой фирмы, и последний охотно выдал ему несколько сот рублей на свадьбу, в виде аванса. Про свою невесту Газе говорил тогда, что она
Происходит из именитой семьи Араповых и владеет солидным состоянием.
В бумагах его при аресте были найдены, между прочим, довольно интересные письменные документы. Газе любил в свободное время пофилософствовать о тщете жизни. В своих записках он то предается различным воспоминаниям о прошлом, то горько сетует на разбитое семейное счастье. В его освещении разыгравшихся событий он является только благородной жертвой людской пошлости, а жена — коварной сиреной с прекрасным лицом, но гадкой душонкой.
В аллегорической сказке «Лисица и Заяц», написанной Газе с литературным талантом, изображается краткая история его жизни:
«Жила-была на свете хитрая лиса, которая, кроме пушистого хвоста и красивой, хотя и помятой мордочки, ничего более не имела. В лесу за ней волочились все звери, в компанию которых случайно попал и глупый заяц. Между тем лиса была клейменая и хотела вывернуть свою шкуру. Не долго думая, она так окрутила глупого зайца, что он отрекся от своей веры и родных, и вышла за него замуж. В результате лиса оказалась злым вампиром, и влопавшийся заяц принужден был продать свою душу черту».
Нетрудно понять, кого подразумевал автор этой сказки.
Наконец, в своей «исповеди» Газе подробно описывает все обстоятельства, приведшие его роковым образом на позорную скамью подсудимых. Само собой разумеется, что к самому себе он относится несколько пристрастно.
Судебное следствие закончилось только на третий день, и, основываясь на его данных, товарищ прокурора Христианович поддерживал обвинение против Газе.
Наоборот, защитник последнего, присяжный поверенный Адамов, произнес горячую речь в оправдание подсудимого. По его мнению, в данном деле существуют три начала: закон человеческий, закон нравственности и закон природы, имеющий перевес над всем. В своих действиях Газе был ослеплен страстью любви, и это довело его до скамьи подсудимых. В то время как сама Аделаида Газе на суде грозно мстила мужу, — за него стоит написанное им письмо к отцу Иоанну Кронштадтскому. Если бы оно дошло по своему назначению, Газе не совершил бы тогда своего преступления, так как получил бы от уважаемого пастыря нравственную поддержку. Опираясь на евангельский завет, присяжный поверенный Адамов просил «милости, а не жертвы».
После совещания присяжные заседатели признали Газе виновным в покушении на убийство жены с заранее обдуманным намерением.
Резолюцией суда он был приговорен к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на четыре года.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 133 000 РУБЛЕЙ
В санкт-петербургской судебной палате, с участием сословных представителей весной 1903 года в течение десяти дней рассматривалось интересное дело о злоупотреблениях на Балтийской и Псково-Рижской железных дорогах.
Зал судебного заседания был переполнен. На нескольких столах и на полу в качестве вещественных доказательств лежали огромные кипы конторских книг, разных документов. Скамью подсудимых занимали: бывший главный бухгалтер железнодорожного управления Виктор Цветков, счетоводы Павел Кириллов и Александр Яковлев, кассир Василий Минаев, запасный старший телеграфист Николай Вдовин и штабс-капитан запаса Иван Кованько, обвинявшиеся в растрате казенных денег. Перед ними находился целый ряд представителей адвокатуры.
Защитником главного подсудимого В. Цветкова выступал присяжный поверенный Аронсон и со стороны В. Минаева — Карабчевский; П. Кириллова защищали Волькенштейн и Самуильсон, Н. Вдовина — Булавинцев и Гольдмерштейн, А. Яковлева — Маргулиес и Яблоновский и И. Кованько — Грузенберг. Гражданскими истцами от Козухиной биржевой артели были присяжные поверенные Турчанинов и Раппопорт, и от управления Балтийской и Псково-Рижской железных дорог — Шпанов и Феодосьев.
Злоупотребления на Балтийской и Псково-Рижской железных дорогах раскрылись в 1899 году. В сентябре этого года до сведения прокурора санкт-петербургского окружного суда дошло, что в главной кассе и бухгалтерии железнодорожного управления дела обстоят неладно. Ввиду этого было произведено предварительное следствие, которое обнаружило грандиозное расхищение казенных сумм.
Главным кассиром управления железных дорог служил один из артельщиков Козухиной биржевой артели — крестьянин В. Минаев, поддерживавший дружеские отношения с главным бухгалтером Цветковым. Летом 1899 года Цветков поссорился из-за чего-то с подвластным ему счетоводом Кирилловым, и последний был удален от службы. Однако он вскоре же опять был принят на прежнее место.
— Как же Цветкову не взять его обратно, когда они вместе мошенничали, — стали говорить по этому поводу другие служащие управления.
Разговор этот был подслушан артельщиком Семеновым, который вскоре узнал, что у главного бухгалтера и Кириллова не хватало около 18 000 рублей по операции наложенных платежей, к чему был причастен также и счетовод Яковлев. Семенов донес об этом артельному старосте, и дело дошло, наконец, до государственного контроля. Началась ревизия.
27 августа были пересчитаны денежные суммы в главной кассе железнодорожного управления. Когда старший контролер после проверки ушел, Цветков приказал одному из артельщиков взять в кассе 100 000 рублей и отдать их в Государственный банк. По-видимому, он хотел, чтобы эта крупная сумма была два раза засчитана в счет главной кдссы, но проделка его не удалась, и контроль обнаружил в кассе недочет в 96 633 рубля. Составленный об этом акт был передан главному бухгалтеру для подписи.
— Подписываю на себя смертный приговор! — взволнованно воскликнул Цветков, взяв в руки роковой акт.
Догадываясь, в чем дело, контролер Соловьев стал расспрашивать бухгалтера о растрате.
— Не я один, но и другие, — коротко ответил Цветков.
Подтвердились также слухи о злоупотреблениях в выдаче денег по наложенным платежам, и начальник дорог, инженер Глазенап, как на виновного указал на бывшего счетовода Яковлева, уволившегося от службы еще в 1897 году.
Главного кассира арестовали. На допросе он чистосердечно сознался в растрате казенных денег, назвав при этом своими сообщниками Цветкова, Филиппова и Кириллова.
По справкам выяснилось, что когда инженер Глазенап. был назначен начальником Балтийской и Псково-Рижской железных дорог, то пригласил на должность главного бухгалтера В. Цветкова, а последний, в свою очередь, просил принять на службу в бухгалтерию Кириллова, Филиппова. На канцелярские расходы Цветкову должно было отпускаться ежемесячно по 90 рублей авансом, но оказалось, что он за один только июль 1899 года ухитрился получить на этот предмет 800 рублей. В 1895 году начальнику станции Рига — Александровские Ворота предстояло выслать 2 200 рублей на уплату наложенных платежей, — и сумма эта не была выслана.
Ввиду несомненных улик, Цветков сознался, что он действительно получал из кассы по нескольку раз деньги на квартиру, жалованье и канцелярские расходы. Однако, по словам Цветкова, он думал возвратить со временем все излишне перебранное, а в растрате Минаева вовсе не принимал никакого участия.
Филиппов и Кириллов оправдывались тем, что они только повиновались приказаниям главного бухгалтера.
Для определения суммы хищений в главной кассе была организована особая комиссия, которая проработала два месяца и определила общий недочет по кассе в 123 232 рубля и по авансу начальника железных дорог — в 11 640 рублей. Часть этого недочета была пополнена различными денежными поступлениями, а остальная сумма в 129 262 рубля была обеспечена Козухиной биржевой артелью, внесшей на эту сумму процентные бумаги в санкт-петербургское губернское казначейство.
Между прочим, оказалось, что для служащих управления Балтийской и Псково-Рижской железных дорог было вполне возможно заимствовать из главной кассы более или менее крупные денежные суммы, так как станционная выручка обыкновенно доходила за сутки до сорока — восьмидесяти тысяч рублей и в течение нескольких дней никуда не сдавалась.
Особая комиссия обнаружила также большую растрату по операции наложенных платежей в сумме 29 107 рублей. Оплаченные уже свидетельства вторично предъявлялись, и по ним снова выдавались деньги. Участвовали в этом злоупотреблении счетовод Яковлев и некто Кованько, который был известен управлению дорог почему-то за представителя чайной фирмы «Цзинь-лунь». На дознании выяснилось, что Кованько никогда и ни у какой чайной фирмы на службе не находился. Одно время он занимался лишь комиссионерством и с счетоводом Яковлевым познакомился случайно по делу о продаже недвижимого имения. По объяснению Кованько, счетовод этот был состоятельным человеком, ссужал его небольшими суммами и, как казалось ему, занимался чем-то вроде ростовщичества. По крайней мере, должниками Яковлева состояли многие мелкие служащие. Завязав с 1893 года отношения с ним, Кованько скоро оставил комиссионерство как мало прибыльное занятие и начал собирать различные объявления для помещения в повременных изданиях. После счетовод стал просить Кованько, чтобы тот получал за него из главной железнодорожной кассы деньги по наложенным платежам. Кованько охотно исполнял просьбы счетовода и таким образом получил деньги по 126 свидетельствам наложенного платежа. Нечего и говорить, что все эти свидетельства, снабженные подписью Кованько, на сумму свыше 20 000 рублей при проверке оказались дважды оплаченными.
С своей стороны, кассир Минаев выдал главному бухгалтеру 22 776 рублей, и эта сумма нигде по книгам не была записана.
Кроме того, в дело оказался замешанным и запасный телеграфист Н. Вдовин.
Начало злоупотреблений относится к 1893 году, причем обнаруженный недочет по кассе распределялся следующим образом: на долю Цветкова — 30 243 рубля, на Минаева — 72 861 рубль и на Яковлева, Кованько и Вдовина — 30 097 рублей. Окончательная же цифра недочета определилась в сумме 133 891 рубль.
В результате все они, а также и счетовод Кириллов, были привлечены к уголовной ответственности; преследование же против Филиппова за недостаточностью улик прекратилось.
В растрате признался только один Минаев, да и то на сумму не более 8 000 рублей, которые он, по его словам, употребил на личные расходы.
Кириллов и Яковлев, отрицая свою виновность, сваливали все на главного бухгалтера, приказания которого они исполняли. На него же ссылался и кассир.
Сам Цветков утверждал, что хотя он и получил от Минаева по счетам и ордерам 22 776 рублей, но эта сумма составляет его частный долг Минаеву, и он ее обыкновенно погашал. В растрате же казенных денег бухгалтер не признал себя виновным.
В свою очередь, обвинявшиеся в соучастии Кованько и Вдовин оправдывались тем, что они ничего не ведали о практикующихся злоупотреблениях на Балтийской и Псково-Рижской железных дорогах. По словам Кованько, он никакого вознаграждения не брал с Яковлева за получение денег по наложенным платежам. Хотя Яковлев и просил его никому не говорить об этом, но он не догадывался, в чем кроется секрет.
Дело слушалось по особому присутствию санкт-петербургской судебной палаты.
Следствие началось с допроса контролера Соловьева, являвшегося одним из самых важных свидетелей.
По открытии заседания председательствующий сообщил, что эксперт-бухгалтер Г. Э. Перлен представил медицинское свидетельство о болезни и не может явиться на суд. Это непредвиденное обстоятельство сильно взволновало истцов и защитников. Присяжный поверенный Шпанов заявил, что рассмотрение дела необходимо отложить до выздоровления эксперта. Его поддержали присяжные поверенные Турчанинов и Раппопорт. Защищавший главного подсудимого В. Цветкова присяжный поверенный Аронсон также находил, что присутствие эксперта при допросе свидетелей крайне важно в интересах дела. Наоборот, помощник присяжного поверенного Грузенберг, присяжный поверенный Карабчевский и представитель обвинительной власти признавали возможным допросить часть свидетелей и в отсутствии эксперта.
— Весь интерес дела заключается в экспертизе, которая должна указать сущность преступления. Без эксперта нельзя слушать данного дела. Быть может, придется даже снять его с очереди, — горячо протестовал присяжный поверенный Раппопорт.
— Я также нахожу, что судебная палата должна отложить опрос свидетелей на один-два дня, пока эксперт выздоровеет, — настаивал присяжный поверенный Аронсон.
Судебная палата после предварительного совещания постановила слушание дела продолжать.
Из показаний контролера Соловьева выяснилось, что когда он производил ревизию сумм главной кассы железнодорожного управления, то в первый день оказался недочет в 90 рублей, а на другой день суммы кассы значительно увеличились.
— Что это у вас: то меньше, то больше? — удивлялся контролер, еще не догадываясь о злоупотреблениях.
Бухгалтер Цветков, видимо, был смущен и избегал прямого ответа.
Суммы кассы должны были выражаться в цифре до 236 000 рублей, — при ревизии же оказалось около 136 000 рублей, а остальные 100 000, по объяснению Цветкова, были отправлены в Государственный банк. После он действительно представил соответствующую квитанцию банка, в подтверждение своих слов.
Однако староста биржевой артели предупредил ревизора:
— У нас по книгам артельщиков что-то неладно… Сто тысяч рублей дважды записаны.
Контролер поспешил вызвать кассира Минаева.
— Из каких сумм были переведены в банк сто тысяч рублей? Из тех ли, которые я уже засчитал, или из других? — допытывался он.
Минаеву пришлось сказать правду: в главной кассе, после отсылки денег в банк, оставалось только 36 000 рублей.
Контролер сделал донесение о растрате приблизительно на 100 000 рублей, и в результате началась тщательная ревизия. Шкафы и столы с документами были опечатаны. Появилось какое-то гнетущее настроение, и даже сам начальник Балтийской и Псково-Рижской железных дорог, инженер Глазенап (ныне умерший), очевидно, растерялся от неожиданно раскрывшихся злоупотреблений. Главный бухгалтер, кассир и причастные к этой истории счетоводы немедленно были уволены от должностей.
По словам контролера Соловьева, замечалось странное отношение ко всему этому со стороны начальника дорог, и ревизующие, по-видимому, не пользовались его сочувствием. Существовали как будто два резко обособленных мира: с одной стороны — высший, железнодорожный, и с другой — низший, контроль.
По распоряжению начальника дорог, в его присутствии был вскрыт пакет с документами, но когда контролер составил об этом акт — инженер Глазенап наотрез отказался от всего: он будто бы и распоряжения не делал, и не присутствовал при вскрытии пакета. Однако артельный староста, на вопрос Соловьева, решительно удостоверил это обстоятельство.
— Как же это так вышло? — расспрашивал контролер Цветкова, когда растрата сделалась несомненным фактом.
— Не я один… Тут все участвовали, начиная с больших, крупных, и кончая мелкими сошками… Это выйдет громкое дело, — взволнованно говорил бухгалтер.
— Из его слов можно было отчасти заключить, что во всем этом как будто и сам начальник дорог принимал участие, — объяснил в заседании судебной палаты господин Соловьев.
Далее из свидетельских показаний обнаружилось, что «недоразумения» на Балтийской и Псково-Рижской дорогах в отношении денежных сумм бывали и раньше, причем они объяснялись различными обстоятельствами, в которых трудно было разобраться. Однажды даже как будто не хватало свыше 300 000 рублей, и тем не менее после поверки отчетности разница выразилась всего в несколько сот рублей.
По мнению контролера Соловьева, обнаруженная растрата производилась, может быть, систематически с самого возникновения этих дорог или со времени перехода их в казенное управление, но, во всяком случае, не один год. Только прежде концы благополучно прятались в воду, — в последнее же время возникла своего рода фальшь: не успели хорошо спеться, как в прежние годы, и злоупотребления всплыли на свет Божий.
— Как же раньше это оставалось неизвестным контролю? — спрашивают свидетеля.
— От нас скрывали, — ответил он и высказал предположение, что все справки, которые обыкновенно давались ревизующим, были заведомо подложные.
В общем, получается странное впечатление от таких свидетельских показаний.
Злоупотребления по операции наложенных платежей, по словам господина Соловьева, совершенно разнятся от злоупотреблений по главной кассе, и в них Минаев не мог участвовать. Номера на извещениях о наложенном платеже с преступной целью или совсем вытравлялись, или как бы нечаянно заливались чернилами. Артельщики на этой операции беспрестанно менялись, и удержался долее всех один только Вдовин.
Присяжный поверенный Аронсон, защищавший главного бухгалтера, обратился к свидетелю-контролеру с вопросом:
— Вы упомянули о том, что, очевидно, спевались для сокрытия злоупотреблений… Но замечали ли вы сами какие-либо неправильности или подлоги?
— Нет.
— Если не замечали, то отсюда и вывода нельзя делать, что спевались, — говорил защитник.
— Цветков, между прочим, получил по ордерам у кассира до двадцати трех тысяч рублей.
— А обнаружила ли ревизия, что эти ордера проводились по книгам, как оправдательные документы? — осведомился защитник.
— Нет.
— Значит, ордера оставались только в руках самого Минаева как доказательство, что он дал Цветкову деньги?
— Да.
— В таком случае, не брал ли Минаев ордера у Цветкова, как расписки, писанные его кровью, и как доказательство против самого бухгалтера в том, что он — сообщник кассира? — вставил присяжный поверенный Аронсон, стараясь наметить путь для защиты.
Порядки в управлении Балтийской и Псково-Рижской железных дорог были странные. Еще в начале 90-х годов контроль замечал, что из управления несвоевременно представляются квитанции казначейства на вносимые в казну деньги. Станционная выручка задерживалась в главной кассе нередко до 5 дней после отчетного числа, и так как это происходило систематически, то контроль завел переписку с управлением. Переписка, однако, оказалась совершенно бесплодной. В феврале 1895 года контроль доложил, наконец, обо всем государственному контролеру и просил его сообщить об этом министру путей сообщения.
В своем письменном показании покойный инженер Глазенап, управлявший Балтийской и Псково-Рижской дорогами, объяснил, что он никаких словесных распоряжений о выдаче главному бухгалтеру денег из кассы не делал и что последний не получал особого вознаграждения за вечерние занятия.
— А мог начальник дорог приказать бухгалтеру написать ордер на выдачу кому-нибудь денег? — спросил присяжный поверенный Турчанинов контролера Соловьева.
— Мог.
— Имел ли право главный бухгалтер получать вознаграждение за вечерние занятия? — в свою очередь задал вопрос присяжный поверенный Аронсон.
— Имел право.
— В таком случае, как же начальник дорог утверждает, что Цветкову не выдавалось вознаграждение за эти занятия? Значит, это неправда? — допытывался защитник.
— Вознаграждение обыкновенно выдается из остатков свободных сумм, — последовал неопределенный ответ.
Особенно характерным являлось показание другого свидетеля — артельщика Семенова.
— Служил я в управлении, — рассказывал он, — под начальством Минаева. Он у нас старшим артельщиком считался… Сначала была тишь да гладь да Божья благодать, а затем пошли разные толки… Будто бы Минаев пользуется деньгами из кассы на свои надобности и тому подобное… Пошел я однажды в портерную бутылочку пивца выпить. А время-то было четыре часа дня — занятия в управлении кончились. Приходят другие служащие и стали разговаривать. Я слушаю: «Кириллова-то опять приняли», — удивляется кто-то. «Как не принять, — говорят, — ведь у него с Цветковым восемнадцати тысяч не хватает, вместе мошенничали…» Прослушал я это и сообщил старосте.
Из дальнейшего рассказа свидетеля оказывается, что Минаев и Кириллов поспешили «сплавить» его из Петербурга, так как предстояло общее собрание артели, и они боялись, чтобы словоохотливый Семенов не наболтал лишнего.
— Вы и теперь состоите артельщиком? — осведомился присяжный поверенный Аронсон.
— Да, состою.
— Какая же доля на вас падает из суммы, внесенной артелью в обеспечение растраты?
— Рублей двести с небольшим.
— А сам Цветков должен вам что-нибудь?
— Должен две тысячи рублей… Обращается раз ко мне Яковлев и говорит: «Выручи господина Цветкова, дай ему две тысячи^ он имение покупает». — «Чего ж он сам не скажет мне?» — спрашиваю я. «Ну, ему неловко, — отвечает Яковлев, — ведь он главный бухгалтер». Дал я две тысячи рублей и взял векселя. Только он не платил… Да-с… Ну, конечно, подавать в суд на Цветкова нельзя было, — ведь тогда, значит, мне пришлось бы распроститься с местом и поблагодарить Балтийскую дорогу за ее хлеб-соль… Так и не получил денег.
— Давно Минаев состоит в артели? — спросил присяжный поверенный Карабчевский.
— Лет двадцать пять.
— Во время перехода дорог в казенное управление все было в порядке?
— Все.
— Одолжал ли Минаев деньги служащим?
— Бывало… рублей по двадцать — тридцать.
Жизнь Минаева, по словам свидетеля, была вне всяких подозрений. Квартиру он занимал скромную, а обедать обыкновенно ходил к сестрам. Артель решительно ни в чем предосудительном не могла его заподозрить.
— Может ли быть, чтобы Минаев присвоил себе шестьдесят или семьдесят тысяч рублей? Вы поверили бы этому? — продолжал спрашивать защитник.
— Если бы это было, то, наверное, он позволил бы себе что-нибудь лишнее, — говорил Семенов.
Судя по свидетельским показаниям, Минаев был вполне зависим от воли главного бухгалтера. Вопреки заявлению бухгалтера, он решительно отрицал, что Цветков брал у него деньги в форме частного долга.
— Бухгалтер выдавал расписки на имя правления, — какой же это частный долг?! — протестовал кассир-подсудимый.
В числе других сумм оказались также растраченными и деньги с концерта, устроенного в пользу железнодорожного общежития, — около 3 000 рублей.
Судя по некоторым данным, в управлении Балтийской и Псково-Рижской железных дорог одно время царили самые «милые» порядки и казенными суммами не пользовался только ленивый.
— Брали все, кто хотел, — коротко объяснил Минаев агенту сыскной полиции, когда тот явился арестовать его.
Бывший агент сыскной полиции Лукащук узнал о растрате от самого старосты биржевой артели и немедленно навестил железнодорожное управление.
— У вас, говорят, растрата? — обратился он к главному бухгалтеру.
— Нет, не может быть! — запротестовал Цветков.
Минаева агент не застал в квартире и нашел его ночевавшим у родственника.
Увидев господина Лукащука, кассир-артельщик с легким вздохом сказал:
— Слава Богу, — я ожидал, что меня арестуют! Конец моим мучениям! Вчера хотел было броситься с Николаевского моста в воду. Я не так виноват, как думают, — на свои надобности я растратил только пять-шесть тысяч рублей.
Из кассы, по словам Минаева, выдавались деньги многим лицам под ордера и простые записки. Часть этих документов кассир представил агенту сыскной полиции; некоторые же более важные бумаги оказались разорванными.
— Раньше я намеревался лишить себя жизни и потому порвал несколько записок, — признался Минаев.
Большая часть денег, по его мнению, должна была попасть в карман главного бухгалтера. Помимо того, кассиру остались должны и многие служащие на Балтийской дороге.
Когда господин Лукащук узнал, сколько расходуется на канцелярские принадлежности в бухгалтерии, — он прямо был поражен.
— Что ж, у вас чернила пьют, как чай, что ли? — изумлялся он.
— Не говорил ли вам Минаев, что, выдавая деньги под некоторые документы, он знал, что они ничего не стоят? — задал вопрос присяжный поверенный Аронсон, обращаясь к агенту сыскной полиции.
— Нет, не упоминал.
— А что за квартира была у Минаева? Хорошая? — в свою очередь, осведомился присяжный поверенный Карабчевский.
— Очень неприглядная. Он занимал маленькую комнатку с одним окном, выходившим к стене дома. Обстановка была скудная.
Из рассказов других людей агент сыскной полиции узнал, что Минаев, несмотря на свой пожилой возраст и седину, сошелся с бывшей цветочницей из «Альказара» и поддерживал с ней интимные отношения. Родные Минаева говорили про него, что он — добрый, отзывчивый человек, охотно помогал всем и щедрой рукой раздавал деньги направо и налево. Больших, крупных денег у него никогда не видели, и сам господин Лукащук не может поверить, чтобы Минаев на свою скромную жизнь растратил шестьдесят или семьдесят тысяч рублей.
— Судя по результатам дознания, я считал, что деньги остались не у Минаева, — пояснил, между прочим, агент сыскной полиции.
— Начальник дорог почему-то старался, чтобы вы скорее ушли, и не желал вашей помощи? — спросил у него присяжный поверенный Аронсон.
— Да, это по всему было видно, — последовал ответ.
Когда агент сыскной полиции сообщил о растрате покойному инженеру Глазенапу, последний был, видимо, взволнован этим известием и стал заступаться за главного бухгалтера.
— Не может этого быть, я сам знаю Цветкова за хорошего, безупречного человека, — уверенно возражал он.
Показания сослуживца Цветкова, бухгалтера Самохвалова, первоначально касались, главным образом, счетовода Яковлева.
Свидетелю-бухгалтеру, служащему в управлении Балтийской и Псково-Рижской железных дорог около 23 лет, случайно пришлось обратить внимание на странное явление с некоторыми наложенными платежами: они по два раза оплачивались!
— Что это такое? — начал допытываться он у Яковлева.
— Не знаю, — равнодушным тоном ответил тот.
— Но ведь за это с вас же спросят! — говорил Самохвалов.
Излишне переплаченных денег по наложенным платежам оказывалось тогда на сумму 19 000 рублей, и после некоторого колебания Яковлев заявил, что он внесет от себя 17 000 рублей, а остальные 2 000 будут пополнены артелью.
— Я доложу о нашем разговоре начальнику, — предупредил Самохвалов.
Счетовод хладнокровно отнесся к этому.
На другой день в газетах проскользнул слух об обнаруженных на Балтийской дороге злоупотреблениях, и после этого Яковлев передумал вносить 17 000 рублей.
— Все равно мне придется фигурировать на суде, — объяснил он бухгалтеру.
— Сколько Яковлев получал жалованья? — заинтересовался присяжный поверенный Аронсон.
— Шестьдесят рублей.
— Он был очень богатый?
— Да считался состоятельным человеком, — говорил свидетель-бухгалтер.
Своим знакомым Яковлев обыкновенно рассказывал, что он счастлив в игре и ему приходится иногда выигрывать по 200–300 рублей за вечер.
С своей стороны, присяжный поверенный Карабчевский осведомился — какие отношения были у Минаева с Цветковым.
— Как подчиненного, — объяснил Самохвалов.
Опрос свидетелей производился очень медленно ввиду множества защитников и гражданских истцов.
Артельщик Луковской, занимавшийся сбором денег, объяснил, что часть денег, прежде чем поступить в кассу, оставалась в руках главного бухгалтера. Цветков брал деньги, по большей части, под расписку, обещая составить соответственный ордер на следующий день. Минаев попытался было однажды прекратить такую неправильную выдачу денежных сумм, но получил строгое «внушение» со стороны главного бухгалтера.
— Мужик! — сердился Цветков. — Ты на бирже можешь распоряжаться, а не здесь…
Кассиру оставалось только извиниться перед бухгалтером.
В отношении Минаева обнаружилось, что при каждом получении станционной выручки он брал из нее часть денег и, пополняя предшествовавшую выручку, отсылал ее в банк. Таким образом, бывший по кассе недочет легко замаскировывался.
Присяжный поверенный Карабчевский спросил одного из свидетелей — служил ли Минаев на железных дорогах до перехода их в казенное управление.
Свидетель отвечал в утвердительном смысле.
— А бывали ли у него тогда растраты?
— Нет.
— Числился он в то время кассиром, или, может быть, был еще другой, самостоятельный кассир, не из артельщиков? — с своей стороны задал вопрос присяжный поверенный Аронсон.
— Да, был особый кассир… Минаев, собственно, тогда не был кассиром.
— И, может быть, недочеты ранее у него тоже случались? — осведомился, в свою очередь, подсудимый Цветков.
— Были, что-то на три тысячи.
У другого свидетеля-артелыцика — Еремина подсудимый Минаев допытывался:
— Не приходилось ли вам когда-нибудь просчитаться и передать лишние деньги?
— Случилось раз… Просчитался на тысячу рублей, — говорил свидетель.
— А я мог ошибиться в выдаче денег?
— Трудно ручаться… Вполне возможно.
— Можете ли вы сказать, что я пьянствовал, кутил, играл в карты и тому подобное?
— Напротив, насколько я вас знаю, вы — скромный человек.
Свидетель Агеев рассказывал, что помещение главной кассы было довольно тесное и состояло из одной комнаты, в которой нередко скапливалось свыше десятка артельщиков, исполнявших денежные поручения.
Что касается запасного штабс-капитана Ивана Кованько, то его, главным образом, касалось показание мещанина Козлова. Последний содержал гостиницу, в которую довольно часто наведывались Кованько и счетовод А. Яковлев. По-видимому, они были в хороших отношениях и называли друг друга уменьшительными именами. «Скажите Ване, что я жду его в правлении», — распоряжался Яковлев, когда не заставал Кованько в гостинице.
— Бывал ли Кованько пьян? — навела справки защита.
— Да, выпивали водку порядочно, очень даже порядочно, но только держались скромно, — сообщил свидетель Козлов.
Подсудимый Вдовин отличался скромным образом жизни и ни в чем предосудительном не был замечен. По словам свидетеля Луковского, счетовод Яковлев говорил ему, что Вдовин совершенно ни при чем в настоящем деле. Ему приходилось оплачивать подозрительные документы о наложенном платеже с помарками и подклейками, но ведь и другие артельщики так же халатно относились к этой операции. Помарки и подклейки почему-то считались за обычное явление.
Сам Цветков — пожилой человек с интеллигентным, худощавым лицом — настойчиво уверял, что он получал из кассы деньги только с разрешения самого начальника дорог; в злоупотреблениях же не принимал участия, да и не догадывался о них.
— Клянусь, я не виновен, — с жаром говорил Цветков.
Старший счетовод Кириллов, указав, что в его распоряжении было 16 человек, объяснил:
— Я подписывал лишь то, что другие счетоводы делали; проверять каждого из них не имел возможности.
По словам Кириллова, в главной кассе замечалось удивительное отношение к деньгам. Они валялись повсюду, и это почему-то считалось обычным явлением. Когда на проверке не хватало денег, начинались поиски, и деньги находились более или менее крупными суммами на полу, в дровах, в печке! Кассир относился к этому вполне равнодушно.
— Все сведения, которые я давал, были совершенно правильны, — продолжал Кириллов. — Я верил своим счетоводам. Не могу признать себя виновным в каких-либо злоупотреблениях… Я прослужил на железных дорогах двадцать семь лет, из них семнадцать лет на одной только Рязанско-Уральской дороге, и выслужил небольшую пенсию. Меня знали как человека честного и добросовестного, мне доверяли большие деньги…
Когда Кириллов перевелся на службу в управление Балтийской дороги, там царил полнейший хаос.
После обнаружения недочета начальник дорог позвал Кириллова к себе в кабинет. Там уже находились главный бухгалтер и агент сыскной полиции.
— У кассира найдены документы, подписанные вами… Вы с Цветковым совершили растрату, — объявил начальник дорог.
— Я не только ничего не растратил, — ответил Кириллов, — но не знаю даже, в чем дело.
Кириллову, однако, велели сдать должность. Опасаясь недоразумений, он настаивал на выдаче ему описи сдаваемых документов, так как через его руки прошло одних только талонов подрядчикам на сумму до 4 000 000 рублей. После Кириллов намеревался зайти в управление, но раздумал. Ему передали рассказы других служащих о том, что инженер Глазенап выгнал Цветкова вместе с счетоводами со службы и отдал распоряжение: «Если кто-нибудь из них явится, гоните в шею».
— За что меня уволили? — жаловался потом старший счетовод.
— Ну, что ж поделаешь, ведь сам Глазенап так распорядился, — утешали его сослуживцы.
К счастью, Кириллову удалось вскоре встретить знакомого инженера с юго-западных дорог, и тот принял в нем участие.
— Инженер Глазенап сделал большую ошибку, — сказал он, выслушав рассказ уволенного счетовода. И, благодаря его содействию, Кириллов с 1900 года поступил на службу в правление 1-го Общества подъездных путей.
Подсудимый Яковлев отказался от объяснений, настаивая на своей невиновности. По его словам, оплаченные уже свидетельства наложенного платежа у него из стола систематически кем-то выкрадывались.
— Я только признаю недочет около восьми тысяч рублей, — говорил четвертый подсудимый, кассир Минаев. — На свои надобности я ничего не истратил. Жил я, как вам известно, скромно; получал жалованья сорок рублей, столько же от артели и рублей тридцать пять за заведование отчетностью, — для меня хватало. У меня был лишь прочет.
На Балтийской дороге Минаев служил с 1890 года. На первых порах у него тоже случился прочет, но по неопытности, — в то время и в самой бухгалтерии трудно было добиться какого-либо порядка.
— У меня работы масса: я выплачивал и жалованье, и деньги подрядчикам, ездил в казначейство и раздавал артельщикам иногда до ста тысяч рублей, — пояснил Минаев. — Я положительно не мог проверять, не было времени. Легко при таком положении передать лишние деньги. Цветкову я давал деньги вовсе не беззаконно, а по ордерам и запискам. Надо принять также во внимание и то, что я находился у него в полнейшем подчинении. Он распоряжался деспотически. Если бы от него поступила жалоба в артель, меня вышвырнули бы вон или оштрафовали бы на сто рублей, что у нас практикуется.
— Как же вы объясните, что обнаружился недочет свыше ста тысяч рублей? — задал вопрос председательствующий.
— Я полагаю — путаница по книгам, трудно разобраться, — ответил Минаев.
— Вы семьдесят тысяч рублей могли бы передать?
— Ни в каком случае! Это бросилось бы в глаза даже мальчику. Я мог передать тысячу рублей, ну пять тысяч, но не больше.
— В каком году. у вас случились прочеты?
— Две тысячи рублей — в тысяча восемьсот девяносто девятом году, а пять тысяч — в тысяча восемьсот девяносто восьмом году или в начале тысяча восемьсот девяносто девятого года.
— До последней ревизии вы не знали, что есть недочет на сотню тысяч, и думали, что все обстоит благополучно? — спросил присяжный поверенный Аронсон.
— Не знал… могли быть уничтожены некоторые документы.
— Может, вы что-нибудь скажете? — обратился председательствующий к пятому подсудимому — Кованько.
— Я не знал, что получаю наложенные платежи по фиктивным свидетельствам… Думал — настоящие, — оправдывался подсудимый.
Вдовин также выгораживал себя из соучастия в злоупотреблениях с наложенными платежами.
После объяснений подсудимых приступили к опросу эксперта.
— Скажите, пожалуйста, — обратился к нему присяжный поверенный Аронсон, — начальник дорог требовал из кассы денег на покупку геодезических инструментов в Париже?
— Да, это значится по ордеру.
— А потом, спустя некоторое время, вернул эти деньги обратно в кассу?
— Да.
— Но как же так? Значит, никаких геодезических инструментов не было куплено, — заметил защитник.
— Должно быть…
— Вы можете утверждать, что недостача в кассе была злостным присвоением Минаева? — с своей стороны осведомился присяжный поверенный Карабчевский.
— Настаивать на этом я, конечно, не могу, — последовал ответ эксперта.
В заседании судебной палаты эксперт-бухгалтер Перлен дал, между прочим, заключение о состоянии главной кассы железнодорожного управления. Всего растрата составляет 133 891 рубль 43 копейки, из которых недочета по кассе — свыше 96 000 рублей. Чтобы успешно скрывать злоупотребления, заинтересованные в этом лица несомненно хорошо изучили характер прежних ревизий и умело прятали концы в воду. Некоторые случаи присвоения денег замечались еще в начале 90-х годов, причем иногда часть сумм выдавалась с разрешения начальника дорог.
Как Цветков, так и Кириллов во время экспертизы давали некоторые разъяснения.
— Какое содержание получал начальник дорог? — спросил, между прочим, присяжный поверенный Шпанов у одного из свидетелей.
— Двенадцать тысяч рублей жалованья и тысяча двести рублей наградных.
— А Цветков?
— Четыре тысячи пятьсот рублей.
— Зачем эти вопросы? — перебил председательствующий.
— Я считаю необходимым выяснить это, так как возник в некотором роде ложный слух, что сам инженер Глазенап мог нуждаться в деньгах и заимствовать из кассы, — ответил гражданский истец.
— Но не собиралась ли какая-нибудь подписка для семьи Цветкова? — спросил также и присяжный поверенный Аронсон.
— Да, между служащими устраивалась в пользу его семьи подписка… После его увольнения со службы она осталась без всяких средств, — объяснил свидетель.
К концу заседания, когда председательствующий намеревался объявить судебное следствие оконченным, со скамьи подсудимых поднялся вдруг счетовод Яковлев.
— Я хочу сделать заявление.
— Что вы желаете сказать? — спросил председательствующий.
— Я сознаюсь в своей вине и готов показать всю правду, — хладнокровно сказал Яковлев.
По его признанию, он запутался в долгах и, не будучи в состоянии извернуться, принужден был прибегнуть к преступной операции по вторичной оплате свидетельств наложенного платежа.
— Кованько действительно не знал, что свидетельства эти подложные, — объяснил он. — Ничего не ведал об этом и артельщик Вдовин.
— Сколько же вы присвоили таким способом? — спросил председательствующий.
— Не знаю…
— Ну, пять рублей? Сто? Тысячу?
— О, гораздо больше! Свыше двадцати тысяч…
Когда Яковлев опустился на скамью, нервно встал главный бухгалтер Цветков. Он, видимо, был взволнован.
— Господин председатель, я, в свою очередь, желаю сделать заявление, — проговорил он.
— И вы тоже? Какое?
— В растрате я признаю себя виновным… Могу дать подробное объяснение.
— Значит, также сознаетесь?
— Да, я сознаюсь в растрате, — начал говорить Цветков, — если только это будет сочтено вами, господа судьи, за растрату… Тридцать тысяч рублей я действительно получил из кассы, не отказываюсь, но получил их не для себя, а для своего начальника, инженера Глазенапа… Я не нуждался в деньгах, получая около пятисот рублей в месяц… Этого для меня было вполне достаточно. Теперь я стал нищим и оставил свою семью нищей.
По словам подсудимого, покойный инженер Глазенап увлекался биржевой игрой и был известен за рьяного игрока. Получаемых им 13–14 тысяч рублей жалованья было недостаточно. Он забирал вперед свое жалованье, квартирные деньги. Были дни, когда он нуждался не только в тысячах, но даже в сотнях тысяч рублей.
— Он беспрестанно обращался ко мне, — говорил Цветков. — Покупал ли начальник карету, я немедленно призывался, чтобы дать ему деньги; приобреталась ли пролетка — меня снова призывали для той же цели.
Не пощадил Цветков и Козухину биржевую артель, к которой принадлежал кассир Минаев. По словам Цветкова, далеко не все члены этой артели отличаются честностью. Не было такого года, чтобы кто-нибудь из артели не растратил чужих денег. Столь же предубежденно относился Цветков и к самому Минаеву, а также к старшему счетоводу.
— Я очень доверчив и верил Кириллову, но, может быть, между ним и Минаевым существовала сделка…
— Следовательно, вы признаете, что не сами растратили тридцать тысяч рублей, а отдали их инженеру Глазенапу? — спросил председательствующий Цветкова.
— Безусловно.
— Может быть, и вы желаете подробно рассказать о произведенной вами растрате? — обратился председательствующий к другому подсудимому, счетоводу Яковлеву.
— Я уже говорил… Извещения о наложенных платежах поступали ко мне, я их удерживал и потом взыскивал снова деньги. Кованько казался мне бедным человеком, и я поручил ему получать наложенные платежи… Но он не знал о мошенничестве.
— Вы ему давали что-нибудь из денег?
— Ничего.
Слово было предоставлено представителю обвинительной власти.
Поддерживая обвинение против всех шести подсудимых, товарищ прокурора Зарудный не верил рассказу Цветкова про покойного начальника дорог. Цветков в настоящем деле, по мнению обвинителя, несомненно, является главным действующим лицом, счетовод Кириллов — его правой рукой, а кассир Минаев — центральной фигурой, около которой все вертелось.
Напомнив слова Цветкова: «Я подписываю свой смертный приговор» и «Не я один брал», товарищ прокурора остановился на признании Цветковым как своей вины, так и соучастников. Объяснения Цветкова клонятся к тому, что все хищения произведены не им, а другими подсудимыми, но и другие подсудимые также не остаются в долгу. Яковлев, например, сперва заявил, что извещения о наложенных платежах похищал из его стола Цветков, хотя потом он несколько и смягчил это выражение. Что же касается указаний на инженера Глазенапа, то обвинитель видит здесь голословность. Если Глазенап и пользовался суммами операционного аванса, то ведь в результате он все пополнил. Наоборот, товарищ прокурора видит в Цветкове главное действующее лицо. Попытка Цветкова свалить всю вину на Глазенапа недостойна и никого не может убедить в невиновности Цветкова. Трудно поверить тому, чтобы последний похитил 30 000 рублей исключительно только для Глазенапа. Яковлев сознался в своей вине, и сознался не так, как Цветков, а целиком, без оговорок. Правда, он выгораживает Кованько и Вдовина, но это вряд ли верно.
Виноват, в свою очередь, и Кириллов — этот пособник Цветкова, так как давал заведомо неправильные сведения ревизорам.
Кассир Минаев также не мог не знать, что Цветков неправильно требует деньги, потому что не представил ни одного оправдательного документа. Что касается Кованько и Вдовина, этих «маленьких людей», то хотя товарищу прокурора и жалко их, но, по его мнению, они все-таки виновны. Кованько, превратившийся из блестящего офицера в собирателя объявлений и затем статиста театра Неметти, 128 раз подписал уже оплаченные извещения по наложенным платежам, причем подписывал иногда свое имя неправильно, очевидно, с умыслом, употребляя букву «С» вместо «И». Объяснить все это нетрезвым состоянием его, во всяком случае, нельзя. Наконец, последний подсудимый — Вдовин уличает себя своими же записями в книгах.
Тем не менее обвинитель все-таки находит, что и Вдовин, и Кованько заслуживают снисхождения.
Представитель гражданского иска со стороны управления Балтийской и Псково-Рижской железных дорог, присяжный поверенный Шпанов, большую часть своей речи посвятил выяснению тех сумм, в растрате и незаконном присвоении которых должен нести ответственность каждый из подсудимых. Согласно с выводами экспертизы, эту денежную ответственность гражданский истец определяет, в общем, в 133 201 рубль 43 копейки с процентами.
Присяжный поверенный Раппопорт, выступавший со стороны Козухиной биржевой артели, начал свою речь с указания на ту исключительную роль, которая ему выпала в этом процессе: ему, гражданскому истцу, по задачам своим естественному пособнику прокурора, приходится не обвинять, а, наоборот, защищать тех подсудимых, против которых может быть направлена денежная претензия со стороны артели. Членами последней были подсудимые Минаев и Вдовин, игравшие в управлении железных дорог лишь роль покорного орудия в руках главнейших заправил, какими были Цветков и Яковлев. Артель Козухина никогда не отказывалась платить за провинности своих членов, но несправедливо возлагать на нее денежную ответственность за грехи главарей, совершенно чуждых артели. Последняя ревностно блюла интересы своих 800 членов и до поры до времени назначала ревизии, которые для артельщиков-подсудимых всегда являлись внезапными, в то время как ревизии правительственного контроля заранее предвиделись: по установившемуся паролю «быть завтра в сюртуках», все знали, что на следующий день будет ревизия, которая, конечно, и проходила благополучно, и все успокаивались; не мог только успокоиться простой артельщик Мысов, который и натолкнул на раскрытие злоупотреблений, сообщив старосте артели о своих наблюдениях.
Присяжный поверенный Раппопорт остроумно охарактеризовал железнодорожные порядки, где ревизор сидел на ревизоре и где все-таки исчезли огромные суммы. Последняя ревизия-экспертиза, по его словам, принесла страх и трепет железнодорожной бухгалтерии и вместе с тем великий конфуз для контроля.
Уделив большое место защите артельщика Вдовина, как «маленького человечка», по недоразумению попавшего на скамью подсудимых, — поверенный Козухиной артели закончил свою речь указанием, кто и как в управлении запускал руку в сундук: покойный начальник дорог брал, как человек воспитанный, аристократично, без расписок, брал и возвращал; Цветков брал уже под расписки и ордера; как действовал Кириллов — осталось неизвестным; Яковлев же оперировал как игрок-смельчак, — он каждую минуту мог попасться в подлогах и растрате, но шел напролом, словно держал последний банк; наконец, кассир Минаев взял просто, по-мужицки, грубо запустив руку в золото. «А над всем этим, — дополнил присяжный поверенный Раппопорт, — высится недреманное око контроля, недреманное, но слепое».
Другой представитель артели, присяжный поверенный Турчанинов, занялся главным образом разработкой цифрового материала и, детально разобрав особенности данного дела в отношении гражданского иска, остановился на недоказанности точных сумм понесенных управлением дорог убытков.
После перерыва начались речи защитников. Первым говорил присяжный поверенный Аронсон, удачно сгруппировавший весь тот фактический материал, который мог хоть несколько послужить облегчению участи главного подсудимого — бухгалтера Цветкова.
— Грустно, но все слишком ясно в этом деле! — сказал, между прочим, защитник, обращаясь к особому присутствию судебной палаты. — По редкому делу обрушивается такая тяжесть обвинения: и со стороны товарища прокурора, и со стороны гражданских истцов, самих обвиняемых и даже свидетелей. Цветкова упрекают также в том, что он потревожил кости своего покойного начальника. Но ведь из следствия видно, что инженер Глазенап не был безупречен как начальник, — отчего же Цветкову нельзя сослаться на него?.. Ни в каком случае нельзя утверждать, что Цветков был злым гением в этом деле. Зло проистекало уже помимо него, в самом корне дела… Если он и виноват, то только в том, что сам сделал, а не в грехах других людей.
Ходатайствуя об облегчении участи подсудимого, присяжный поверенный Аронсон закончил свою речь следующими словами:
— Я прошу только милости для него. Почти тридцать лет беспорочной службы, семья, приближающаяся старость и нищета — все это дает право на снисхождение судей.
Счетовода Яковлева защищал помощник присяжного доверенного Маргулиес, который оспоривал правильность обвинения Яковлева в растрате.
Растратчиком, по мнению защитника, может быть лишь то лицо, которому имущество вверено; деньги же, будто бы растраченные Яковлевым, были вверены Вдовину. С одинаковым основанием можно обвинить в растрате и убийцу чиновника, который, убивая кассира, берет казенные деньги и растрачивает их, — а это ведь юридическая нелепость. Так же неправильно обвинение Яковлева в подлоге официальных документов. Свидетельства и извещения по наложенным платежам ничем не отличаются от накладных, а правительствующий Сенат в одном из руководящих решений признал, что накладные представляют собой документы не официальные, а частные. Хотя Яковлев поздно сознался в подлоге и растрате, но это запоздание объясняется тем, что он был не один: одновременно с ним привлекались многие, а при таких условиях создается известная преступная солидарность, вторгающаяся в психику преступника и мешающая победе угнетенной совести над инстинктом самоохранения. Помимо того, Яковлев — игрок, изнервничавшийся и развращенный атмосферой общего хищения. Для того чтобы сделать в этой обстановке то, что он сделал, не надо большого напряжения злой воли. Основываясь на этом, защитник просил также и для него снисхождения.
С своей стороны защищавшие П. Кириллова помощники присяжного поверенного Волькенштейн и Самуильсон доказывали, что подсудимые не представляли никаких заведомо ложных сведений по отчетности, — давали только неверные сведения, и это хотя не оправдывает подсудимого, но значительно облегчает степень его виновности. Ввиду этого защита просила особое присутствие судебной палаты, в случае осуждения Кириллова, помимо обычного снисхождения, возбудить еще ходатайство в установленном порядке о смягчении участи подсудимого высочайшим милосердием.
Защитник Минаева присяжный поверенный Карабчевский произнес страстную, образную речь, изобиловавшую меткими выражениями. Обрисовав личность подсудимого как слабовольного, добросердечного человека, порабощенного Цветковым, защитник мастерски нарисовал психологическую картину и выяснил пассивность той роли, какую пришлось играть Минаеву в царившей в управлении железных дорог хищнической вакханалии.
Помощник присяжного поверенного Грузенберг, защищавший И. Кованько, начал свою речь следующим обращением:
— Жалко Кованько… очень жалко… Сколько раз эти слова повторялись и прокурором, и гражданским истцом! Приведет господин прокурор обвинительный довод, остановится и пожалеет Кованько. Вздохнет и снова пожалеет. И так как обвинительных доводов было пять, то пять раз и пожалел он его. Особенно господин обвинитель пожалел Кованько в заключительной части своей речи, когда требовал применения к нему… самой строгой статьи карательного закона. Поверенный управления железной дороги не только пожалел, но и заявил, что он не видит никаких улик: одни только необоснованные подозрения. Но так как особое присутствие может все-таки обвинить Кованько, то и он поддерживает гражданский иск в тридцать тысяч рублей в отношении этого Кованько. Своеобразная жалость! Жутко становится от нее, и мне остается заявить моим противникам покорную просьбу не утруждать себя жалостью и приберечь ее для тех, кто в ней нуждается. Кованько обойдется и с одной правдою.
Далее защитник указал, что виновность Кованько сводится, в сущности, к вопросу психологическому: верил ли он Яковлеву, входил ли в оценку тех свидетельств, по которым получал для Яковлева деньги? Кованько, без сомнения, видел в Яковлеве чиновника крупного, влиятельного. Служа ранее в полку, он привык доверять офицерам. Оставив службу в силу недостатка средств, Кованько сразу попал в водоворот жизненной битвы, и здесь ему не повезло.
Останавливаясь на уликах, защитник доказывал их несостоятельность и ссылался на полное отсутствие корысти в действиях подсудимого.
— Корыстных целей не установлено, в жизни Кованько нет ничего порочного и грязного, — что же может дать право ломать эту жизнь?
Присяжные поверенные Булавинцев и Гольдмерштейн, горячо доказывая полную невиновность Вдовина, просили об оправдании его.
Всем подсудимым было предоставлено сказать свое последнее слово.
— Я виноват… я брал деньги… я растратил, — взволнованным, прерывающимся голосом произнес Цветков. — Пощадите меня!.. У меня жена и четверо детей… Я нищий… Больше сказать нечего.
Подсудимый заплакал и закрыл лицо руками.
— Исполнял свои обязанности по мере возможности… не виноват, — проговорил Кириллов.
— Проигрался в карты, стал брать деньги по наложенным платежам, думал возвратить со временем, но не удалось, — объяснил Яковлев.
— Я прошу только милосердия, — добавил Минаев.
— Я был гвардейским офицером, — сказал Кованько. — Я с честью поддерживал традиции и никогда не лгал… Что свидетельства наложенного платежа были подложные — мне не было известно. Ничего нечестного я не делал и не сделаю.
— Не знал я о злоупотреблениях, — закончил Вдовин.
На разрешение особого присутствия санкт-петербургской судебной палаты было поставлено 25 вопросов.
После продолжительного совещания судебная палата приговорила В. Цветкова, П. Кириллова, В. Минаева, А. Яковлева и И. Кованько к лишению всех особенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения: Цветкова и Минаева — на один год шесть месяцев, Яковлева — на один год три месяца, Кириллова — на один год и Кованько — к заключению в тюрьме на девять месяцев.
Вместе с тем ввиду особых обстоятельств, служащих смягчению участи Кириллова, судебная палата постановила ходатайствовать, чрез министра юстиции, пред его императорским величеством о замене присужденного Кириллову наказания заключением в тюрьме на шесть месяцев, без ограничения в правах.
Николай Вдовин признан по суду оправданным.
На всех осужденных возложены судебные издержки, и с них же, в разных частях, постановили взыскать в пользу управления казенных Балтийской и Псково-Рижской железных дорог до 133 000 рублей, главным образом с Минаева — свыше 72 000 рублей.
Иск Козухиной биржевой артели, по преждевременности, оставлен без рассмотрения.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УБИЙЦА
В 1900 году на южных железных дорогах было несколько случаев дерзкого нападения на пассажиров, с целью грабежа. Неизвестный злоумышленник действовал при этом крайне хладнокровно, очевидно, по заранее выработанной системе, и долгое время оставался необнаруженным, несмотря на тщательные розыски. Наконец, таинственные нападения приняли настолько угрожающий характер, что буквально навевали на пассажиров панический страх. Они ночью подозрительно следили друг за другом, завязывали двери купе платками и даже нанимали особых сторожей, которые охраняли их во время сна.
5 апреля, утром, в почтовом поезде юго-западных дорог на пути между станциями Гниляково и Застава № 1 найдена была убитой дворянка Олимпиада Горич, 28 лет. Труп ее находился на полу купе 1-го класса в сидячем положении и, тщательно прикрытый платком, первоначально был принят поездной прислугой за обыкновенный пассажирский багаж. Вещи в купе были найдены в полном беспорядке. Внутри дорожного саквояжа Горич заметны были на коже следы крови, а боковое отделение его оказалось наполненным кровью. В кошельке Горич находились только почтовые расписки, некоторые записки и 42 копейки мелочью, причем на обороте свидетельства одесского полицеймейстера на имя Горич имелись ужасные следы окровавленных пальцев человеческой руки. Различные письма, счета, пассажирский билет, связка ключей, складные ножницы и портфель-бумажник с визитными карточками были беспорядочно разбросаны на постели. Кроме того, в купе был найден неизвестно кому принадлежащий окровавленный носовой платок с меткой «М».
При судебно-медицинском осмотре трупа на нем были найдены несколько ран, из которых одна проникала в грудную полость. Все они были нанесены острым орудием вроде длинного ножа или кинжала.
На предварительном следствии обнаружилось, что госпожа Горич служила гувернанткой у дворянина Ржанчинского, в местечке Николаевке Херсонской губернии и села в вагон почтового поезда вечером, 4 апреля, на станции Врадиевка. Ехала она в Одессу к родным и, имея при себе около 20 рублей, в пути неоднократно жаловалась поездной прислуге на тяжелый, как бы чесночный запах в занятом ею купе. 5 апреля, когда было обнаружено убийство Горич, около 6 часов утра один из железнодорожных рабочих, отправившись из казарм станции Перекрестово на работу по направлению к станции Мордаровка, заметил на земле, между рельсами, длинный, тонкий окровавленный нож с деревянной ручкой. Нож был доставлен судебному следователю и при осмотре оказался обоюдоострым, удлиненным кинжалом-стилетом с простой, совершенно новой деревянной рукояткой. Клинок этого стилета по внешнему виду напоминал укороченную фехтовальную рапиру, которая, по-видимому, была переделана сперва в палку со стилетом, вынимавшимся при нажиме пружины, находившейся в углублении палки. По предъявлении этого стилета врачу, производившему вскрытие трупа Горич, последний нашел, что ширина этого стилета соответствует длине ран, усмотренных на трупе, и что раны эти могли быть причинены именно этим орудием.
Первоначально все принятые полицией меры к обнаружению таинственного убийцы не привели ни к какому результату. Предполагалось, что убийство Горич было совершено на романической основе или из мести, ввиду чего была расследована прежняя жизнь покойной и все ее отношения с родными, близкими и случайными знакомыми. Однако все розыски в этом отношении установили только одно, — убийство могло быть совершено лишь лицом, желавшим воспользоваться имуществом покойной.
Через три месяца после этого снова в купе 1-го класса почтового поезда, шедшего из Одессы в Киев, утром найдена была убитая пассажирка. На этот раз жертвой преступления сделалась дворянка София Володкович. Труп ее лежал на диване, тщательно прикрытый пальто и платком. Ремни у саквояжа, бывшего у Володкович на перевязи, были перерезаны ножом, причем саквояж, в котором находились деньги и заграничный паспорт, оказался пустым. Ручной кожаный сак был разрезан ножом, а деревянная шкатулка, где хранились драгоценные вещи, была взломана. В этом же купе были найдены перочинный нож, воткнутый в спинку дивана, и откупоренная бутылка минеральной воды, которою убийца, по-видимому, вымыл окровавленные руки, оставив на полу лужу воды, смешанной с кровью. Горевший в купе фонарь «жазался завешенным принадлежавшей убитой Володкович кофтой. Вся обстановка купе представляла следы убийства с целью грабежа.
Судя по вскрытию трупа Володкович, она была убита без сопротивления и борьбы с ее стороны. Одна из пяти ран на ее голове была нанесена тяжеловесным орудием вроде молотка или куска железа, и на месте удара образовалось в черепе отверстие. Рана эта, сама по себе, безусловно, смертельная, повлекла за собой моментальную смерть. На груди и спине Володкович оказались 14 колотых ран, длиною от 1 до 2 сантиметров, причем одна из них проникала сквозь левое легкое. По мнению врача, производившего вскрытие трупа, все эти раны были причинены узким кинжалом в виде стилета, длиною не менее 15 сантиметров.
Из осмотра документов, найденных в купе, выяснилось, что покойная Володкович принадлежала к богатой дворянской польской семье и постоянно проживала в городе Кракове. В Одессе она гостила у родственников и, отправившись вечером 8 июля на станцию Гайсин к своим знакомым, в имение помещика Ярошинского, ехала в отдельном купе, которое заперла на ключ. В дороге при ней находилось около 7 000 рублей наличными и 3 выигрышных билета 1-го и 2-го займов.
В тот же день, около 5 часов утра, ее пропавший из саквояжа заграничный паспорт был найден в двух верстах от станции Затишье, возле рельсов правого железнодорожного пути на Киев.
Обстоятельство это, в связи с тем, что на станции Перекрестово, ближайшей к северу от Затишья, почтовый поезд скрещивается с пассажирским поездом, идущим с севера в Одессу, невольно привело к выводу, что убийство Володкович было совершено на перегоне между станциями Ивановка и Затишье и что убийца вскоре после совершения убийства пересел на встречный пассажирский поезд.
20 июля того же года в городе Николаеве в магазин золотых вещей Цукермана явился неизвестный молодой человек и предложил купить у него лом золотых изделий. Сойдясь с Цукерманом в цене по 2 рубля 60 копеек за золотник, неизвестный выдал ему расписку о продаже золота и расписался на ней «Николаем Ивановичем Павленко».
Поведение незнакомца во время продажи золота показалось Цукерману подозрительным, ввиду чего он поспешил послать одного из своих приказчиков в полицейскую часть.
В магазин немедленно же явился околоточный надзиратель, и на его расспросы незнакомец объяснил, что он паспорта не имеет, а золото разновременно приобрел на Кавказе.
Арестовав продавца золота, надзиратель нашел у него 365 рублей наличными деньгами, перевод николаевского отделения Государственного банка от 20 июля в Москву на 1 700 рублей, клочок бумаги со списком бриллиантов и других драгоценных камней, часы, золотую цепочку с брелоком, усыпанным бриллиантами и рубинами, паспорт нижегородской мещанской управы на имя Петра Алексеева Малышева и разные заметки, векселя и расписки. Кроме этих вещей, у задержанного оказались 2 пустых вскрытых конверта на имя Петра Алексеева Малышева, которые он по дороге в полицейскую часть выбросил на улице. Конверты эти были с заказных писем с адресом до востребования — один в Николаев и другой в Одессу. Первый был сдан в Батуме и получен в Николаеве 15 июля, а второй — в Одессе 14 июля городским письмом. Адрес на обоих конвертах оказался написанным рукою задержанного незнакомца.
По поводу денег и вещей неизвестный объяснил, что часы, цепочку и брелок он купил в Одессе, а деньги получил в наследство от отца; относительно же паспорта заявил, что паспорт его и что он действительно Малышев. Подписался же на расписке фамилией Павленко вследствие нежелания заводить с Цукерманом знакомство. Не отрицая, что адреса на конвертах написаны им собственноручно, Малышев утверждал, что послал эти конверты на свое имя, вследствие свойственной его характеру «странности»; объявить же, что содержалось в конвертах, он решительно отказался.
Когда о задержании Малышева сделалось известным начальнику одесского сыскного отделения, последний нашел необходимым проверить — не окажется ли Малышев убийцей Горич и Володкович. Для этого Малышев был отправлен в Одессу, где, как обнаружилось на следствии, он проживал последние три года, занимаясь продажей бумаги из больших магазинов в мелкие лавочки. Для развозки бумаги Малышев нанимал приказчиков с залогом и, не имея собственных средств, пользовался залоговыми деньгами для своих операций. Некоторое время он держал в Одессе кофейню, но дело пошло плохо, и он принужден был закрыть ее.
Часто меняя квартиры, он старался жить без прописки и скрывал от кредиторов свое местопребывание. Не имея никаких средств и испытывая крайнюю нужду, он заложил в ломбарде все имевшее какую-либо ценность имущество и довольствовался углом в комнате, где проживали несколько человек. Сильная нужда неоднократно заставляла Малышева выходить на поденную работу, между тем как прошлая жизнь его протекла в сравнительном довольстве.
Сын железнодорожного подрядчика, он воспитывался в нижегородском реальном училище и, выйдя из 2 класса, служил некоторое время на железной дороге десятником, а затем получил от матери, после смерти отца, несколько тысяч рублей и взял подряд на постройку участка Ливны — Мелмых. После неудачного подряда, проживая полученные от матери деньги, Малышев занимался то писчебумажной торговлей, то продажей кож и, наконец, истратив все деньги, занялся доставкой бумаги в мелкие лавки.
В конце марта 1900 года он скрылся из Одессы и появился вновь только 9 июля, в тот же день купив для себя у одного ювелира дорогие золотые часы.
При расследовании выяснилось, что некоторые из найденных у него золотых вещей раньше принадлежали покойной Володкович. Между прочим, у него же оказались и обломки золотого браслета с латинской надписью: «Per aspera od astra», который был подарен когда-то Володкович княгиней Щербатовой.
В результате подозрение в убийстве Володкович пало на Малышева, и он был привлечен к уголовной ответственности.
Он, однако, не признал себя виновным и, ссылаясь на слабость памяти, объяснил, что отобранный у него лом золота он купил будто бы во Владикавказе у неизвестных ему туземцев, а отобранные деньги частью выиграл в карты, отчасти же получил от матери. По его словам, в последнее время он путешествовал, редко останавливаясь где-нибудь более чем на 2–3 дня, причем никогда и нигде не предъявлял своего паспорта. Ездил он на пароходах по Волге, побывал на Кавказе, в Москве, Владимире и других городах, а затем прибыл на пароход из Новороссийска в Одессу. Найденная у него записка с перечислением драгоценных камней — не его, и как она к нему попала — Малышев не знает; в выброшенных им в Николаеве конвертах хранились векселя и записки, которые он сдавал на почту в заказных письмах до востребования лишь с той целью, чтобы они не утерялись в дороге.
Тем не менее, зная, что у Володкович были похищены 3 билета внутреннего с выигрышами займа и предположив, что именно эти билеты Малышев пересылал по почте на свое имя туда, куда собирался ехать, — судебный следователь запросил николаевскую почтовую контору: не отправлял ли Малышев куда-либо заказного письма, и получил ответ, что 20 июля, в самый день ареста, на имя Малышева послано было в Москву заказное письмо, весом в 4 лота. Письмо это было выслано обратно из московского почтамта, и в нем действительно оказались все три выигрышных билета, похищенные у Володкович.
В то же время, путем справок в одесской точтовой конторе, в казанском, нижегородском и николаевском отделениях Государственного банка и в одесской конторе того же банка, судебный следователь обнаружил, что 13 июня Малышев перевел из Одессы в Казань на свое имя 6 000 рублей, а 22 июня перевел через нижегородское отделение Государственного банка в Николаев 2 000 рублей и 4 000 рублей сдал в это отделение на бессрочный вклад.
Опрошенный по этому поводу Малышев, продолжая отрицать свою виновность, объяснил, что 6 000 рублей, которые он перевел из Одессы в Казань, а также и 3 билета выигрышного займа он выиграл на пароходе у неизвестного человека. Отказавшись затем отвечать на другие предложенные ему вопросы, Малышев заявил, что он еще «подумает».
При продолжении следствия было выяснено, что летом 1900 года Малышев проживал в гостинице «Болгария», где пробыл всего один день и, оставив там свои вещи, неизвестно куда скрылся. 20 июня того же года он отправил из Николаева в Харьков посылкою на свое имя до востребования ящик с драгоценными вещами. По осмотре вещей, оставленных Малышевым в гостинице «Болгария», в числе их оказались: карта Российской империи с железными дорогами, разные бумаги и заметки и жестяная коробка с 15 пузырьками, наполненными жидкостями, кристаллами и порошками. Химическим исследованием было установлено, что большинство этих пузырьков заключало в себе сильнодействующие вещества и яды: цианистый калий, опий, морфий, экстракт белладонны и хлороформ. Вместе с тем из почтовой конторы была вытребована и посылка, отправленная Малышевым из Николаева в Харьков, и в ней были найдены четыре золотых браслета, куски золотого колье, аметистовые подвески от колье, усыпанные бриллиантами, золотая брошь с кораллами, золотое кольцо с сапфиром, такое же кольцо с изумрудом и 12 пакетов с драгоценными камнями: бриллиантами, рубинами, жемчугом и проч. Все эти вещи, как выяснилось, принадлежали раньше убитой Софии Володкович.
25 декабря Малышев обратился к прокурору одесского окружного суда с просьбой приехать к нему в тюрьму для личных объяснений. Сущность этих объяснений, подтвержденных затем Малышевым при допросе его 15 января судебным следователем, сводилась к следующему: в мае 1900 года Малышев, по его рассказу, проигрался в карты и, находясь в крайности, решил поправить свои дела путем преступления. Под влиянием этой мысли он сначала накупил себе ядов, а затем 7 июля приобрел на толкучем рынке в Одессе у неизвестного лица кинжал с тяжелой железной ручкой и на другой день выехал из Одессы по железной дороге в вагоне 3-го класса. Билет он взял до станции Болта, но ночью в вагоне, в котором он сидел, испортился вдруг тормоз, и поезд остановился в пути. Малышев вышел на площадку и заметил, что рядом с его вагоном находится вагон 1-го класса. Тогда-то у него, по непонятной ему самому ассоциации мыслей, явилась странная идея, что в эту ночь он должен совершить преступление. Когда поезд тронулся в путь, Малышев вскоре вошел в соседний вагон и здесь наудачу отворил первое попавшееся ему на глаза купе. Оно было заперто, но, воспользовавшись бывшими у него щипцами-плоскогубцами, Малышев легко открыл его. В купе была только одна дама, которая в это время спокойно спала. Не имея намерения убивать пассажирку, Малышев хотел только ошеломить ее и ручкой кинжала два раза ударил по голове. После этого он начал осматривать ее вещи, как вдруг она стала стонать все громче и громче, и лишь тогда, придя в какое-то неистовство, он начал наносить ей удары острием кинжала. Сколько именно раз он ударил кинжалом — Малышев не помнит, но наносил удары до тех пор, пока она не умолкла. Потом он забрал все ее ценные вещи и деньги и вышел на площадку вагона. Когда поезд остановился около какой-то станции, он поспешил спрыгнуть на платформу и со встречным пассажирским поездом возвратился обратно в Одессу.
Сопоставив данные, обнаруженные предварительным следствием по делу об убийстве Софии Володкович, с обстоятельствами убийства Олимпиады Горич (совпадение места, цели и орудия преступления, один и тот же способ убийства и прикрытие в обоих случаях трупа платком, пледом и другими вещами, и в связи с тем, что в купе, в котором была убита Горич, оказался платок с меткой «М»), судебный следователь пришел, наконец, к убеждению, что убийца обеих женщин — одно и то же лицо.
Привлеченный к следствию в качестве обвиняемого в убийстве Олимпиады Горич Малышев виновным себя не признал и объяснил, что платка с меткой «М» у него никогда не было.
— А где вы провели ночь на пятое апреля? — стали расспрашивать его.
— Не помню… запамятовал, — растерянно говорил он.
По справкам обнаружилось, что в 1895 году Малышев судился уже в симбирском окружном суде за то, что в ночь на 3 мая 1894 года, проезжая на пароходе по реке Волге, он проник через открытое окно в каюту 1-го класса, где спал доктор медицины Джорж Карин, и, когда тот проснулся, напал на него с обнаженным кинжалом. Будучи признан виновным в покушении, Малышев был приговорен тогда к заключению в тюрьму на 4 месяца.
Еще в то время при задержании Малышева на пароходе у него были найдены баночки и пузырьки с разными ядами и сильнодействующими веществами. Кроме того, он обвинялся также в покушении в ночь под 1 июля 1900 года между станциями Раздельная и Вапнярка на вооруженную кражу из купе 1-го класса у пассажирки Берты Шполянской и в покушении на убийство ночью 2 июля 1900 года на станции Кодыма жандарма Луки Буряна в то время, когда тот намеревался его арестовать.
Покушение на госпожу Шполянскую было проведено при следующих обстоятельствах. Вечером 31 мая 1900 года из города Одессы, направляясь в Волочиск и далее в Вену, выехала с курьерским поездом жена одесского купца Берта Шполянская, которая и разместилась с гувернанткой, своей внучки, Эмилией Кандильон, в купе 1-го класса. Соседнее купе заняла ее дочь, Фанни Райх, а в следующем купе находился муж последней, инженер Райх. Около 11 часов вечера, закрыв купе изнутри и не погасив зажигающегося из коридора фонаря, Шполянская и Кандильон расположились спать. Сон их, однако, был тяжел и тревожен, — чувствовался запах табака и коньяка, ощущались головная боль и тошнота. Наконец, Шполянская, заложив руки под подушку, задремала. Вдруг она почувствовала, что кто-то лезет к ней под подушку и хватает ее за руки. Вскочив, она подняла крик, разбудила Кандильон и тут же заметила, что какой-то мужчина, плотно сложенный и с курчавыми волосами, быстро уходит из купе. Фонарь был потушен. На крик госпожи Шполянской явился вагонный служитель и, узнав, в чем дело, позвал кондуктора и вместе с ним отправился по вагонам осматривать поезд. Это произошло между станциями Крижопол и Вапнярка, когда поезд шел полным ходом. Вскоре кондуктор встретил молодого человека без фуражки, с вьющимися волосами, за которым шел поездной служитель Остапенко. По словам последнего, пассажир этот вошел в вагон 1-го класса незадолго до прихода на станцию Вапнярка и, не ответив на вопрос, что ему нужно, направился в другие вагоны. Пропустив подозрительного незнакомца вперед, кондуктор пошел за ним.
— Вам что угодно? — спросил незнакомца встретившийся служитель Ченцов.
— Скоро ли будет станция? Я хочу напиться, — сказал на это подозрительный пассажир, тревожно озираясь по сторонам.
— Пойдемте, я вам дам в соседнем вагоне воды, — обманул его Ченцов и вместе с кондуктором повел его в вагон, где находились Шполянская и Кандильон.
Когда эти женщины увидели незнакомца, они испуганно вскрикнули:
— Это он! Это он!
В то же мгновение незнакомец выбежал из вагона, соскочил на подножку и, сильно придерживая дверь, никого не подпускал к себе. Когда же кондуктора пытались задержать его со ступеней соседнего вагона, он, наведя на них револьвер, грозил убить их.
Вскоре поезд стал подходить к станции и уменьшил ход. Только этого, по-видимому, и дожидался злоумышленник. Воспользовавшись удобным случаем, он ловко соскочил с подножки вагона на землю и скрылся в степи.
Когда впоследствии был задержан Малышев по подозрению в убийстве Володкович, он был предъявлен также Шполянской, ее гувернантке и кондукторам, и все они нашли в нем большое сходство с таинственным злоумышленником, спрыгнувшим с поезда.
Весной прошлого года Петр Малышев предстал, наконец, пред одесским окружным судом.
Преступник, столь хладнокровно-зверски расправлявшийся со своими жертвами, — еще совершенно молодой человек, лет 24-х, из нижегородских мещан. В юности он обучался в реальном училище, но отличался ограниченными способностями и пробыл два года во втором классе. Ввиду этого, по малоуспешности, он был взят матерью из училища и стал пытаться пристроиться где-нибудь по коммерческой деятельности. Ему, однако, не везло, да и по своему характеру, самолюбивый и мечтавший о широкой жизни, он не мог примириться с скромным существованием простого, рабочего человека. Он пробовал счастья в игорных притонах и всюду терпел неудачу. В конце концов, потеряв надежду добром завоевать счастье, он уже 17-ти лет пошел на преступление. К этому времени и относится его нападение на Доктора Карина, с целью ограбления. После этого на Нижегородской железной дороге был ограблен инженер, причем, как выяснилось после, в районе этого преступления одновременно находился и Малышев. Но принимал ли он какое-либо участие в этом преступлении — осталось неизвестным.
Признавшись в убийстве Володкович, преступник тем не менее упорно отрицал свою виновность в другом убийстве и утверждал, что он никогда не встречался с покойной Горич.
По объяснению начальника сыскной полиции, Малышев хотел было раньше чистосердечно сознаться во всех своих преступлениях, но потом побоялся, чтобы его за целый ряд убийств не предали военному суду.
Как Горич, так и Володкович — обе были убиты в сонном состоянии.
Первоначально, когда в вагоне почтового поезда был найден труп Володкович, подозрение в убийстве падало на многих лиц, даже на ее мужа, с которым она не жила и который, к счастью, успел доказать свое alibi. Подозревались и ее случайные спутники, и поездная прислуга, за которой был организован тщательный секретный надзор. Между прочим, существовало также предположение, что с Володкович покончил в вагоне специально подговоренный для этого какой-нибудь наемный убийца.
На суде Малышев признался и в краже из купе госпожи Шполянской.
Из показания последней можно судить, насколько хладнокровно «оперировал» опасный преступник. Забравшись в ее купе, он оставался там и после того, когда гувернантка проснулась и отдернула оконную занавеску. Как мрачное привидение, он неподвижно стоял у окна. Шполянская и ее спутница были убеждены, что он чем-то окуривал их, чтобы заставить их впасть в бессознательное состояние. По крайней мере, после в купе ясно ощущался специфический аптечный запах, несколько похожий на хлороформ.
Как известно, у Малышева при аресте было найдено много различных сильнодействующих аптекарских снадобий.
— Зачем они вам понадобились? — спрашивали его на суде.
— Так, просто… я собирал яды для коллекции, — оправдывался он.
Конечно, такому объяснению трудно было поверить.
Решительный и находчивый, Малышев действовал поразительно смело и не останавливался ни перед чем. После неудавшейся кражи у госпожи Шполянской он через два дня случайно попался на глаза одному из кондукторов. Однако прежде чем кондуктор успел задержать его, он быстро вылез в окно и, как кошка, ловко вскарабкался на крышу вагона. Оттуда он спустился в загородку для скота, а когда его стали ловить — выстрелил в жандарма из револьвера и скрылся.
Судебное следствие было неблагоприятно для Малышева, и представитель обвинительной власти фактически доказывал виновность его в убийстве двух пассажирок, с целью ограбления, и в краже в поезде. По мнению прокурора, Малышев представляет собою опасный тип преступника, специализировавшегося в железнодорожных убийствах. Оба убийства — и Володкович, и Горич — дочти тождественны между собой по своей обстановке. Страшного преступника, не ведавшего жалости к своим несчастным жертвам, безусловно необходимо обезвредить, избавить от него общество, и потому не может быть никакой речи о снисхождении к нему. Он должен понести за свои ужасные злодеяния достойное возмездие. Пусть в труде и молитве он замаливает свой тяжкий грех, и только в них он должен искать успокоения возмущенной совести.
Защита Малышева сделала все, что могла — указывала на его молодость и просила о милосердии, — но задача ее на этот раз была не из легких. За таких преступников, как Малышев, трудно сказать что-либо хорошее в их пользу.
Просил о снисхождении и сам Малышев. Предчувствуя строгую кару, он, видимо, сильно волновался, взгляд был блуждающий, руки судорожно тряслись и Сдавленный голос нервно дрожал.
Присяжные заседатели совещались не более 8 минут и вынесли ему обвинительный вердикт, отвергнув только виновность его в убийстве Горич. Снисхождения Малышеву не было дано.
Резолюцией окружного суда он был приговорен к лишению всех прав состояния и к бессрочным каторжным работам.
ДЕЛО АКУШЕРКИ ПИЕВЦЕВИЧ
Несколько лет тому назад жена титулярного советника В. Воропинская случайно познакомилась с акушеркой Элеонорой Пиевцевич. Акушерка произвела на нее благоприятное впечатление, они вскоре близко сошлись между собой, завязалась тесная дружба, и постепенно слабохарактерная госпожа Воропинская совершенно подпала под влияние своей знакомой.
По происхождению потомственная дворянка, Элеонора Пиевцевич в то время жила более чем скудно и нередко нуждалась в насущном куске хлеба.
Узнав, что ее знакомая — довольно богатая женщина, ловкая акушерка взялась заведовать всеми имущественными делами Воропинской. Благодаря этому она стала бесконтрольно распоряжаться всеми доходами с имения Воропинской и, наконец, взяла у нее, как будто на хранение, 25 000 рублей. Прибрав эти деньги к своим рукам, акушерка сочла уже излишним церемониться с обобранной ею женщиной и после ссоры выгнала ее из квартиры, вместе с детьми, на улицу. Обманутой Воропинской удалось получить из своих денег всего лишь около 7 000 рублей, да и то после целого ряда унижений, и она решилась, наконец, заявить обо всем прокурору санкт-петербургского окружного суда.
В результате против акушерки Пиевцевич было возбуждено уголовное преследование, и она попала на скамью подсудимых.
На следствии обнаружилось, что госпожа Воропинская вышла замуж еще в 1876 году, молодой девушкой, но семейная жизнь ее оказалась неудачной. В 1891 году мужа ее признали слабоумным, и над ним была назначена опека. Сама она также производила впечатление женщины неразвитой и болезненной. Благодаря ее слабохарактерности, ее мог эксплуатировать сякий человек с более сильной волей. Этим обстоятельством и не замедлил вскоре воспользоваться некто Ранушевич, родственник ее мужа, поселившийся в семье Воропинских и забравший, в конце концов, в свои руки все их имущественные дела.
После нескольких лет безусловного подчинения Ранушевичу Воропинской в 1896 году удалось, наконец, выйти из-под его влияния, как раз в то время, когда он намеревался посадить ее в сумасшедший дом. Достигла этого освобождения Воропинская только благодаря содействию познакомившейся с ней акушерки Пиевцевич, которая переселила ее с семьею к себе, обратилась к адвокатам и добилась опеки над имуществом Воропинских, а самого Ранушевича подвела под уголовную ответственность за вовлечение в невыгодную сделку. '
Одно время Воропинская была тяжело больна. Несколько оправившись от этой болезни, она подпала под влияние энергичной Элеоноры Пиевцевич, которая стала руководить всеми ее делами. Ранушевич обременил имение Воропинской на Петергофском проспекте такими долгами по закладным, что за неплатеж процентов оно было даже назначено к продаже с публичного торга. Чтобы избежать этого, Воропинская, под влиянием Пиевцевич, продала имение генерал-лейтенанту Викуловскому за 55 000 рублей, но из этой суммы было удержано долгов 38 712 рублей, и Воропинская получила на руки всего 16 288 рублей. Подчиняясь авторитету решительной акушерки, она в присутствии нотариуса предложила ей взять эти деньги на хранение, но Пиевцевич решительно отказалась. Однако же, когда обе они вышли из конторы нотариуса на лестницу, где никого посторонних не было, акушерка потребовала, чтобы Воропинская немедленно передала ей все деньги. В мае 1897 года Воропинская получила откуда-то еще 6 761 рубль, которые Пиевцевич также отобрала на хранение. Таким образом, в руках акушерки скопилось денег Воропинской около 23 000 рублей. В разговоре с одним знакомым она проговорилась, что эти деньги были внесены ею на хранение в банк на свое имя.
Вскоре после этого наступил и конец дружбе между акушеркой и Воропинской. У них произошла ссора из-за истязания детей Воропинской, над которыми Пиевцевич состояла опекуншей. Не долго думая, опекунша безжалостно выгнала ее с малолетними детьми и слабоумным мужем из квартиры перед самым праздником Пасхи.
Между прочим, выяснилось, что Пиевцевич все доходы брала себе, выдавая Воропинской на жизнь ничтожную сумму. В апреле 1898 года Воропинская, зайдя в баню, к своему ужасу, заметила, что у ее маленького сына все тело исполосовано рубцами от плетки, которой била его жестокая акушерка.
Ребенок этот и послужил окончательным поводом к разрыву.
По совету знакомых, Воропинская отправилась к присяжному поверенному Н. П. Карабчевскому, который принял в ней живое участие. Узнав, в чем дело, он пригласил к себе Пиевцевич для объяснений, но та резко заявила ему:
— Знайте, что я стою на законной почве и никому отчета давать не обязана.
Такой энергичный отпор побудил Н. П. Карабчевского предложить Воропинской, чтобы она никаких расписок Пиевцевич не выдавала. Опытный юрист понимал, что бесцеремонная акушерка легко может выманить у своей безвольной жертвы оправдательные для себя документы, и опасения его действительно оправдались. Пиевцевич под разными угрозами удалось вскоре взять у Воропинской расписку, в которой было сказано, что последняя все следуемые ей деньги получила и что расчеты между ней и акушеркой совершенно окончены.
Только после этого присяжный поверенный Карабчевский, поняв, что дело добром не кончится, посоветовал подать жалобу прокурору. Воропинская плакала, сетовала на свое безволие, но все-таки согласилась на подачу жалобы.
На суде Пиевцевич не признала себя виновной и объяснила, что угрозами она никаких расписок у Воропинской не вымогала. По словам подсудимой, у нее и до знакомства с Воропинской было своих денег до 10 000 рублей, и она лишь только 1 000 рублей приняла от нее в благодарность за хлопоты по делам опеки семьи Воропинских.
Подсудимой, однако, напомнили справку из Волжско-Камского банка, из которой видно, что в 1897 году, вслед за продажей имения Воропинской, акушерка внесла на хранение 20 000 рублей, которые в 1898 году взяла обратно.
Не смущаясь этим, Пиевцевич заявила, что 9 000 рублей из этих денег она получила от человека, от которого имела дочь и который в 1881 году умер, 1 400 рублей ей подарило другое лицо, умершее еще ранее, а остальную сумму она заработала акушерской практикой.
При дальнейшем допросе подсудимая упорно утверждала, что она поступила с Воропинскими так, как ей повелевал долг христианки.
— После Ранушевича я приняла их к себе, и мы жили в небольшой комнате, спали как попало, на корзинках и ящиках, — говорила она. — Дети Воропинской ходили в рваной, грязной одежде, они были в лишаях и, очевидно, поражены были экземою; не только другие, но и я нередко без брезгливости не могла за ними ухаживать, но я все-таки ухаживала… я была бескорыстной рабой Воропинской.
В общем, однако, она заметно путалась и давала сбивчивые объяснения.
Когда зашел вопрос о ее бедности и затем быстром обогащении, Пиевцевич стала решительно утверждать, что у нее и раньше были свои деньги, но только она о них никому не говорила.
— Сколько же у вас было денег? — спросили ее на суде.
— Десять тысяч рублей.
— Да ведь вы, кажется, до знакомства с Воропинской испытывали крайнюю нужду… Откуда же были у вас деньги?
— Но я говорила, что девять тысяч рублей мне подарил один человек, с которым я прижила дочь…
— Значит, девушка, которая жила при вас в качестве воспитанницы, — ваша дочь?
— Племянница, только очень дальняя, — смущенно ответила Пиевцевич.
— Объясните точнее.
От объяснений, однако, подсудимая отказалась.
Вызванные в суд нотариусы Држевецкий и Каченовский могли засвидетельствовать только одно — что в деловых операциях Воропинской подсудимая обыкновенно играла первенствующую, руководящую роль.
Особенный интерес представляло показание присяжного поверенного В. И. Добровольского, как человека, хорошо знавшего деловые отношения между Воропинской и Пиевцевич.
В разговорах с этим свидетелем Пиевцевич высказывала, что деньги Воропинской она положила в банк на свое имя потому, что помещать их на имя Воропинской ей казалось небезопасным, ввиду могущих последовать взысканий с Воропинской в пользу кредиторов. Тем не менее свидетелю это заявление показалось странным, так как он знал, что Воропинской грозило взыскание по одному лишь иску некоего Захарова в 2 1 / 2 тысячи рублей, да и то по иску крайне спорному, который Захаров и проиграл затем в окружном суде.
Раньше присяжный поверенный Добровольский имел доверенность от Пиевцевич на ведение ее искового дела с Пашкевичем, дом которого она уговорила купить Воропинскую. После, однако, убедившись, что акушерка присвоила себе деньги Воропинской, он поспешил отказаться от этой доверенности.
С своей стороны, Брянцев, опекун над умалишенным мужем Воропинской, утверждал, что за все время совместной жизни Пиевцевич с Воропинской первая была полной хозяйкой в денежных делах.
Наконец, одна из свидетельниц, познакомившаяся уже давно с подсудимой, настаивала, что Пиевцевич до сближения с Воропинской имела очень ничтожную акушерскую практику, — собственных же средств у нее не было, и потому она с своею дочерью жила в большой нужде.
— У Пиевцевич иной раз не на что было пообедать, — уверяла свидетельница, — но с тысяча восемьсот девяносто шестого года, с тех пор, как у нее поселилась Воропинская, средства сразу появились. Она уже совершенно отказалась от практики и так подчинила себе Воропинскую, что та без ее разрешения не имела права производить ни малейшего расхода.
Судебное следствие по этому делу продолжалось два дня, после чего слово было предоставлено представителю обвинительной власти.
Находя преступление Элеоноры Пиевцевич вполне доказанным фактом, товарищ прокурора Вогак поддерживал против нее обвинение.
В свою очередь, присяжный поверенный М. М. Жван, выступавший со стороны подсудимой, произнес в ее защиту горячую, прочувствованную речь, которой предостерегал присяжных заседателей от осуждения невинного человека.
Особенной убедительностью и полнотой отличалась речь гражданского истца, присяжного поверенного М. Г. Казаринова, предъявившего со стороны потерпевшей иск в 18 000 рублей.
— Весной тысяча восемьсот девяносто шестого года, — начал он, — подружились две дамы: госпожа Воропинская и госпожа Пиевцевич. Они были как бы созданы одна для другой. У одной были средства и никаких финансовых способностей, у другой, наоборот, громадная практическая сметка и никаких средств. Госпожа Воропинская, вообще, обладает способностью выискивать себе друзей и советников. Еще несколько лет тому назад она сблизилась с неким Ранушевичем. Господин этот тоже обладал громадными финансовыми способностями: за короткое время управления делами Воропинских он извлек из их имущества около восьмидесяти тысяч рублей чистого дохода для своего кармана. Прокуратура уже третий год изучает его финансовую систему и подводит его бухгалтерские статьи под статьи Уложения о наказаниях. Он, вероятно, и до сих пор заведовал бы делами Воропинской, если бы не зашел слишком далеко. Он пожелал засадить Воропинскую в сумасшедший дом и стал настаивать, чтобы она ехала с ним для этой цели в Ревель. Это путешествие Воропинской вовсе не улыбалось, и она стала изыскивать способы спастись от Ранушевича. Но как спастись? Обратиться к полиции, к прокурору, к адвокату — все это были такие хитрые соображения, что в голову Воропинской прийти не могли. Ее голова вырабатывала один проект — бежать, и в достоинствах этого проекта ее окончательно убедила ее новая подруга, госпожа Пиевцевич.
И вот в один прекрасный вечер все семейство, состоящее из детей и параличного мужа, под руководством госпожи Воропинской бежало с Измайловского проспекта на Малую Итальянскую улицу и укрылось в подвальной комнате, занимаемой госпожою Пиевцевич. Теснота была страшная, — легли спать кто на столе, кто под столом, — но зато в этот вечер семейство Воропинских вздохнуло спокойно. Госпожа Воропинская радовалась, что ей так ловко удалось перехитрить Ранушевича; дети были очарованы ласковым приемом новой тетушки, и лишь сам господин Воропинский ни о чем не думал, так как обязанность думать за него, по указу сиротского суда, была возложена на его опекуна.
Так, при участии госпожи Пиевцевич, совершилось «освобождение» Воропинских от ига Ранушевича.
И действительно, господин Ранушевич больше не появлялся, так как, обладая тонким чутьем, понял, что ему более делать нечего.
Госпожа Пиевцевич принялась устраивать новую совместную жизнь на дружеском принципе «что твое — то мое». Деятельность закипела по всем направлениям.
Прежде всего надо было внести внутреннюю организацию в семью. Найдя, что для господина Воропинского одного опекуна мало, она прибавила ему еще одного — в своем лице. Госпожа Воропинская по своим способностям тоже не далеко ушла от мужа, — поэтому над детьми ее, а равно и над имуществом была тоже назначена опека в лице той же госпожи Пиевцевич. От госпожи Воропинской, единственного лица, остававшегося формально правоспособным, госпожа Пиевцевич взяла на свое имя неограниченную доверенность, и, таким образом, бразды правления над всей семьей Воропинских оказались в руках госпожи Пиевцевич.
После этого госпожа Пиевцевич с особой любовью принялась за денежную часть.
После погрома Ранушевича оставались крохи, и их надо было спасти. Находя, что недобросовестно заниматься своим делом, когда на руках святое дело опекунское, госпожа Пиевцевич сняла свою акушерскую вывеску и отдала все свои досуги и силы имущественным делам Воропинских. Заботы госпожи Пиевцевич я могу сравнить с заботами доброго пастыря, который приютил у себя овец, потрепанных волком. Он ходит за ними, моет, чешет, кормит, и овцы, по природе существа кроткие и незлобивые, беззаветно вверяются хозяйской доброте. Но — увы! — как только у них отрастает надлежащей длины шерсть, — их стригут наголо и гонят со двора, утешая, что стриженую овцу сам Бог бережет.
Время первой стрижки наступило для семьи Воропинских ранней весной тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Двадцать первого апреля получены от продажи их дома пятнадцать тысяч двести двадцать восемь рублей, а тридцатого апреля у госпожи Пиевцевич открывается в Волжско-Камском банке текущий вчет; восьмого мая поступают еще деньги Воропинских в размере шести тысяч семисот шестидесяти одного рубля, и немедленно же за этим текущий счет госпожи Пиевцевич увеличивается.
Всего было получено Воропинскими за две недели двадцать две тысячи рублей, а у госпожи Пиевцевич за это же время появилось на текущем счету восемнадцать тысяч рублей. Глядя на эти цифры, можно подумать, что стрижка была не совсем чистая и что четыре тысячи рублей остались у Воропинских. Но это предположение ошибочно. Из целой массы квитанций, записок, счетов банкирских контор и модных магазинов мы видим, что госпожа Пиевцевич, кроме восемнадцати тысяч рублей, внесенных ею в банк, покупала для себя выигрышные билеты и государственную ренту и, наконец, приобрела много вещей и нарядов. Таким образом, видим, что стрижка была безукоризненная и что из почтенной суммы двадцать две тысячи рублей Воропинская получила, как отмечено в ее записной книжке, подачку в восемьдесят шесть целковых…
Господа присяжные заседатели! Первый вопрос, который предстоит разрешить, — это куда девались деньги Воропинских и откуда появились деньги у Пиевцевич? Для решения этого вопроса обратимся сначала к самому несомненному и к самому благоприятному для госпожи Пиевцевич источнику — к ее же собственным объяснениям. У господина судебного следователя госпожа Пиевцевич давала самые разнообразные объяснения относительно происхождения текущего счета в восемнадцать тысяч рублей. В этих объяснениях были недомолвки и полупризнания, которые она затем взяла назад. Мы не будем пользоваться против госпожи Пиевцевич этими полупризнаниями, взятыми ею обратно. Нам не нужно оружия, оброненного в смятении самим неприятелем.
Остановимся на объяснениях, которые она дает теперь. Она утверждает, что внесла на текущий счет свои деньги, которые раньше держала дома.
Как возможно это, госпожа Пиевцевич?! Вы держали дома восемнадцать тысяч рублей — и жили в семирублевой комнате; закладывали носильное платье, сидели без хлеба, брали в невозвратный долг рубли у знакомых, теряли вещи в залоге, изнемогали в борьбе с нищетой — ив это время, оказывается, у вас дома лежали восемнадцать тысяч рублей! И этот капитал, на проценты с которого вы могли существовать безбедно, вы втуне хранили в щелистом комоде вашей каморки и не боялись, что деньги сгорят, что их украдут! Или, быть может, вы всегда и всюду носили деньги при себе; быть может, идя за займом и протягивая правую руку за рублем, вы в левой держали капитал в восемнадцать тысяч рублей? Да нужно ли серьезно опровергать это! Если у вас имелся этот капитал, то когда и откуда получили вы его? Сперва говорили вы разным лицам, что деньги эти получены от продажи имения, но это уверение ничем подтвердить не могли, и даже указать самое местонахождение имения для вас представилось невозможным.
Далее вы указывали на доходы с акушерской практики. Мы знаем, есть акушерки, зарабатывающие десятки тысяч, но они наперечет и не живут в подвалах. А что может зарабатывать повивальная бабка, снимающая угол, в который заходит лишь бедный люд из соседних домов, неся свои скудные гроши? Впрочем, зачем предположения, — свидетели достаточно говорили нам о скудости ваших заработков, а ваша обстановка, ваш образ жизни говорили нам о том еще красноречивее. Нет, госпожа Пиевцевич, ваша акушерская вывеска была символом вашей борьбы за кусок хлеба, и вы с негодованием сорвали эту вывеску, как только почуяли, что ваш завтрашний день обеспечен, что ваш завтрашний кусок хлеба оплачен, хотя бы и дорогой ценой — ценой преступления.
Что еще говорили вы? Капитал был вам подарен двумя лицами. Где же они?.. О! адреса их постоянные, — один на Волховом, другой на Смоленском кладбищах.
Так вот к каким объяснениям вынуждены были вы прибегнуть; не имея никакой надежды на помощь от живых, вы прибегаете за помощью к мертвым. Но могильные плиты, если только вы сумеете найти их, ничего нам не скажут.
Нет, не верим мы и этим объяснениям, и не потому не верим, что вас здесь судят, а потому, что ваши объяснения сами себя осуждают, потому что не может человек, десятки лет державший у себя капитал, не указать хоть одну живую душу, которая бы об этом знала! Деньги — сила, сила живая, каждый день о себе говорящая; как ни прячьте вы их в подполье, а скоро и ваши друзья, и соседи, и все в околотке будут знать, что у вас имеются деньги. У них есть запах, к которому нос человеческий особенно чуток.
Ведь нашли же у вас при обыске массу счетов, квитанций меняльных лавок, записок. Почему же все они начинаются с двадцать первого апреля тысяча восемьсот девяносто седьмого года? Дайте нам хоть один счет, хоть один клочок бумаги, относящийся к вашим денежным операциям до этого злополучного двадцать первого апреля. Увы! — нет такого клочка…
Нужны ли еще доводы? А между тем имеется еще довод, и довод веский. Это — то, что у Воропинской и не было, и нет ни копейки, о чем нам здесь говорили свидетели.
Итак, ясно как день, что все деньги Воропинской были взяты Элеонорой Пиевцевич и положены ею в банк на свое имя.
Передача денег сделана была с глазу на глаз, без свидетелей, и не воспользоваться ими при таких условиях, когда кругом какие-то жалкие, обделенные умом существа, представлялось, с точки зрения Пиевцевич, просто непростительным. Но, с другой стороны, сразу раскрывать карты, круто повернуть дело было бы слишком легкомысленно, а осторожность и обдуманность — главные свойства госпожи Пиевцевич. Ей пришлось играть двойную игру: с одной стороны, охранять свои интересы, с другой — не доводить до роковых пределов терпение и доверчивость Воропинской. И вот долгое время она искусно лавирует: предпринимаются разные операции, покупаются дома, вносятся задатки, ведутся процессы. При всякой сделке присутствует и хлопочет, как хозяйка дела, Воропинская, но все бумаги и акты совершаются на имя Пиевцевич.
Ей следовало еще выждать время, пустить деньги в разные обороты и операции, запутать дело так, чтобы нельзя было, в конце концов, разобрать, где кончаются убытки Воропинской и где начинаются барыши Пиевцевич. Но она не выждала… Кто в год хочет дойти до богатства, тот через полгода будет у виселицы, — говорит испанская поговорка. Так вышло и здесь. Госпожа Пиевцевич не вытерпела. Ей стояло поперек дороги это забитое, никому более не нужное семейство, и она стала давить, притеснять, истязать несчастных людей. Воропинская не имела другого прозвища, как «дура» или «сумасшедшая», дети были сведены на положение щенят, и в столовой, для назидания им, повешена была плеть — опекунский жезл госпожи Пиевцевич.
И вот, как некогда с Ранушевичем, так и здесь, капля переполнила чашу. Тот покушался на свободу Воропинской, — Пиевцевич задела ее материнское чувство, начав истязать ее детей.
Как произошел разрыв, как складывались дальнейшие события — вам известно, и я их повторять не буду.
Поняв, что она поступила не вполне обдуманно, Пиевцевич решилась несколько исправить дело. Под предлогом вернуть деньги заманила она Воропинскую в контору нотариуса Каченовского, передала ей там часть капитала и отобрала такую расписку, которая полагает конец всем расчетам между ними и в гражданском суде оспорена быть не может.
Вот вся история, господа присяжные заседатели. Госпожа Пиевцевич присвоила все состояние Воропинских и не хочет возвращать. Мы понимаем, что семейство Воропинских — семейство особенное, как бы созданное для того, чтобы его обирали, но нельзя же отнимать и последнего. Госпожа Пиевцевич хорошо вооружена для борьбы с жизнью — и умом, и выдержкой, — она не погибнет. А с этими людьми что станет через год, два, когда они проживут последнее?!
Мы просили госпожу Пиевцевич, чтобы она вернула хоть те шесть тысяч рублей, которые нам удалось заарестовать в Государственном банке и в депозите санкт-петербургской судебной палаты. Она не пожелала этого… Так пусть же нас рассудит суд совести!
Думается мне, господа присяжные заседатели, приговор ваш будет таков, что госпожа Пиевцевич не скажет после него: «Зачем любить людей, зачем исполнять законы Божеские и человеческие, когда преступление, хорошо обставленное, может служить источником спокойного существования?»
Думаю я, что не откажете вы ей и в снисхождении, чтобы показать, что милость, над которой она всегда так жестоко смеялась, — не пустой звук и что этой милости хватит даже на тех, кто ее попирает.
Присяжные заседатели удалились в совещательную комнату в первом часу ночи и вынесли вердикт лишь в четвертом часу утра. Решение их оказалось неблагоприятным для подсудимой: она была признана виновной в присвоении чужого имущества на сумму свыше 30 000 рублей, хотя и заслуживающей снисхождения.
Поверенный гражданской истицы уменьшил свой иск до 9 750 рублей и просил взыскать только эту сумму.
Резолюцией санкт-петербургского окружного суда дворянка Элеонора Пиевцевич была приговорена к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житье в Архангельскую губернию, с воспрещением отлучаться из назначенного места жительства в течение двух лет. Гражданский иск признан подлежащим удовлетворению в сумме 9 750 рублей с процентами.
Приговор решено было представить на высочайшее усмотрение его императорского величества.
Осужденная хладнокровно выслушала решение своей участи.
ЧУДОВИЩНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Одним из самых ужасных злодеяний начала XX века, несомненно, является преступление австрийского подданного Александра Кара, совершенное им зимой 1901 года в Москве. Преступление это, возмутительное по своей бытовой обстановке, невольно наводит на мрачные мысли о нашей современной молодежи.
В субботу, 15 декабря, в 9-м часу вечера, в квартире главного пивовара Хамовнического завода, А. О. Кара, были найдены убитыми его жена Гедвига, дочь Марта, 18 лет, и — с слабыми признаками жизни — другая дочь, Гедвига, 7 лет.
Последнюю поспешили немедленно отправить в университетскую клинику, но медицинская помощь оказалась излишней, и, не приходя в сознание, несчастная девочка в тот же вечер скончалась.
Вскрытие трупов обнаружило, что госпожа Кара и обе ее дочери были убиты тяжелым орудием вроде топора.
Семья А. О. Кара состояла, кроме убитых, из четырех сыновей, из которых 20-летний Александр Кара был самым младшим. 30 октября все сыновья, за исключением Александра, уехали в Саратов. Кара занимали большую, в 11 комнат, квартиру в нижнем этаже дома Стрельцовой, против Хамовнического завода. Во втором этаже того же дома были расположены квартиры врача Бородулина и дворянки Славиковской. Парадный ход в квартиру Бородулина шел из сеней, общих с квартирой Кара, причем дверь сеней на улицу запиралась изнутри на железный крюк. По субботам старик Кара имел обыкновение уезжать на чешские собрания и возвращался домой около часа ночи.
15 декабря он уехал в 7 1/2 часов вечера. Через полчаса в его квартиру пришел с бельем крестьянин Андреев. Жена Кара выслала ему через дочь Марту деньги, и Андреев, забрав грязное белье, ушел.
В качестве единственной прислуги у Кара служил крестьянин Василий Титов, исполнявший черную работу, который после ухода Андреева оставался в кухне. В начале 9-го часа к нему из столовой вошел остававшийся дома сын Кара и, бросив рубль, приказал скорей идти в магазин Карцева за конфетами. Магазин этот находился довольно далеко от квартиры Кара, и, наскоро одевшись, слуга поспешил уйти.
Тотчас же вслед за этим Александр Кара отослал из квартиры и семилетнюю девочку Иванову, приходившую почти каждый день играть с его маленькой сестрой.
Спустя минут двадцать прислуга Бородулина проводила из нижних общих сеней приходившего к доктору крестьянина Архипова, заперла за ним дверь на крюк и, возвратившись обратно в кухню, услышала вдруг, что кто-то из квартиры Кара побежал по нижним сеням, хлопнул парадной дверью, а затем стал подниматься наверх к врачу. В ту, же минуту раздался сильный звонок, и, когда прислуга отворила дверь, в квартиру Бородулина вбежал сильно взволнованный А. Кара.
— Доктора! Убили, убили! — дико закричал он и, схватив Бородулина за руку, потащил вниз, на первый этаж.
— Убиты! — возбужденно говорил он, указывая врачу на трупы своей матери и сестер.
Вскоре в квартиру Кара явились несколько служащих пивоваренного завода и прошли в спальню. Здесь к ним подошел А. Кара и указал на валявшиеся на полу кредитные билеты. Билетов этих было два, в 500 и 100 рублей. Тут же в спальне, близ стены, стоял раскрытый сундучок, в котором хранились разные золотые и серебряные вещи, 5 закладных листов московского земельного банка и 1 350 рублей кредитными билетами. Из этих денег, лежавших в особой деревянной коробке, оказались похищенными 750 рублей. В кухне, на полу, перед столом был найден окровавленный топор-колун, принадлежавший семье Кара и ранее, осенью, пропавший из сарая на дворе.
На расспросы прибывшего около 9 часов вечера помощника пристава Александр Кара сначала ничего не отвечал, а все убегал в неосвещенные зал и спальню. Потом стал вдруг сбивчиво рассказывать, как он сидел в кухне и услыхал крик в комнате Марты; бросившись туда, он будто бы увидел обеих сестер убитыми и сейчас же побежал через кухню в переднюю, чтобы позвать доктора Бородулина; в это время он заметил неизвестного человека, который, выйдя из залы в переднюю, поспешил скрыться на улице.
Узнав во время этого рассказа о приезде своего отца в квартиру Бородулина, Александр Кара поспешил туда и стал утешать отца.
Покрывая лицо и руки старика Кара жаркими поцелуями, сын, видимо, возмущался ужасным преступлением.
— О, если я узнаю, кто это сделал, я его собственными руками разорву! — словно в бреду твердил он.
Начальнику Московской сыскной полиции Александр Кара дал прежнее объяснение, ссылаясь на таинственного Незнакомца. Однако каждый вопрос, который задавался ему, по-видимому, ставил его в тупик, — он задумывался и отвечал не сразу.
При осмотре его одежды были обнаружены подозрительные следы крови на пиджаке, брюках, сорочке и носовом платке.
К ужасу всех, в ту же ночь Александр Кара принес повинную, сознавшись начальнику сыскной полиции в убийстве матери и сестер.
По его словам, днем 15 декабря он похитил из сундука в спальне 500 рублей, купил на эти деньги часы, два кольца, портсигар и спичечницу и спрятал их в сенях. Вечером, когда мать, узнав о совершенной краже, стала его упрекать, он, не помня себя, выбежал в сени, взял лежавший здесь за сундуком топор, вернулся в столовую и убил мать, а потом, отправив слугу за конфетами, убил и сестер.
Перед смертью несчастная мать обратилась к своему убийце с горьким упреком: «Ты всегда меня так любил… За что же ты мне это сделал?!»
Согласно указаниям преступника, над тамбуром двери из кухни в сени действительно были найдены в футляре золотые дамские часы и два дорогих кольца с драгоценными камнями.
17 декабря на допросе уже в качестве обвиняемого Кара, повторив свое сознание в убийстве, добавил, что он любил одну девушку и решил перед своим отъездом в Саратов 20 декабря сделать ей какой-нибудь подарок. С этой целью 15 декабря, около пяти часов дня, он отпер сундучок в спальне взятым из бюро матери ключом и похитил около 625 рублей. На похищенные деньги он немедленно приобрел в магазине драгоценных вещей
Хлебникова для подарка часы и два кольца, а для себя — портсигар со спичечницей и потом проехал в магазин готового платья Гирша, где купил за 85 рублей пальто. От Гирша он заехал к портному Цыпленкову и, оставив у него пальто, к 6 часам вечера вернулся обратно домой и ужинал вместе с семьей. После ужина, готовясь вечером ехать к любимой девушке, он отправился, по уходе отца, к Цыпленкову, взял у него новый смокинг и жилет и тотчас же вернулся домой. Однако мать к этому времени успела обнаружить кражу денег и позвала его для объяснений в спальню. На ее расспросы он откровенно признался во всем. Тогда мать в волнении бросила вынутые из шкатулки деньги на пол и стала упрекать его, пригрозив, что она о всех его проделках расскажет отцу…
Несмотря на свое сознание, Александр Кара тем не менее решительно уклонился от выяснения мотивов своего страшного преступления, заявив, что он и сам не знает, зачем ему нужно было убивать мать и сестер.
На дальнейшем предварительном следствии допросом многочисленных свидетелей удалось установить некоторые подробности дела и прошлое обвиняемого, которое он, видимо, хотел скрыть.
Девушка, которую обвиняемый отказался назвать, оказалась 17-летней Клавдией Смирновой. Познакомившись с ней на балу в Благородном собрании еще в начале 1900 года, Александр Кара стал бывать в доме ее родителей, но чаще всего встречался с ней на балах учителя танцев Цормана.
С лета 1900 года Смирнова начала замечать ухаживания за ней со стороны Кара, а 2 февраля 1901 года он, наконец, сделал ей предложение, получив как от нее самой, так и от ее матери согласие на брак, при условии, что он раньше устроит свое положение и переговорит с родителями.
Кара, успевший только что окончить курс в гимназии, выдавал себя за человека самостоятельного и материально обеспеченного. Он не стеснялся расходами и всегда был при деньгах. Г. Цорман видел у него в различное время, начиная с зимы 1899 года, значительные суммы денег в 200–400 рублей. На самом же деле А. Кара находился в полной зависимости от отца, получая от него и матери не более 70 копеек в неделю и рублей по 5 на праздники.
Со времени знакомства со Смирновой А. Кара стал вести рассеянный образ жизни и поздно возвращался домой, чуждаясь своей семьи и ее скромных интересов. Боясь отца, он скрывал от него свои поздние возвращения домой и никому не говорил о любви к Смирновой.
С лета 1900 года в семье Кара стали пропадать разные ценные вещи — браслеты, часы, серьги, микроскопы, велосипед.
Между прочим, объяснение обвиняемого о краже им из сундука лишь 625 рублей не подтвердилось. Было установлено, что около 5 часов дня, 15 декабря, наняв на Зубовской площади извозчика-лихача, А. Кара поехал к }6іебникову, где для уплаты 505 рублей за отобранные вещи вынул два кредитных билета в 500 и в 25 рублей. После того в магазине Гирша, платя за пальто сторублевой бумажкой, обвиняемый вынимал из кармана еще другой 500-рублевый билет.
18 января Александр Кара выразил желание дать новое показание и заявил, что у него была мысль убить только мать и отца, но не сестер, и что эта чудовищная мысль возникла у него в начале лета 1901 года под влиянием соображений о невозможности добиться согласия родителей на брак с любимой девушкой. С этой целью он припрятал случайно найденный в сенях топор и, кроме того, приобрел яд. Сначала он попробовал испытать этот яд на дворовой собаке. Но значительная доза стрихнина, проглоченная собакой, вызвала страшные мучения, и бедное животное околевало, корчась в предсмертных судорогах. Тогда ему стало жаль причинить такую мучительную смерть своим родителям, и он решил остановиться на топоре как орудии преступления. Тем не менее, по объяснению Кара, он все-таки не решался привести в исполнение преступную мысль лично, а подговорил какого-то встретившегося на улице субъекта, Ивана Гаврилова, которого 15 декабря около 6 часов вечера и провел в квартиру, спрятав в спальне родителей. Иван Гаврилов должен был ударить отца, когда тот перед отъездом на собрание за чем-либо наведался бы в спальню. Этот план, однако, расстроился, так как отец в спальню не зашел.
После отъезда старика мать обнаружила кражу денег из сундука, причем на мысль о краже ее, по-видимому, навели найденные ею футляры портсигара и спичечницы, которые сын забыл в своей комнате. Раскрыв сундук, мать нашла там 600 рублей, которые Кара хотя и похитил, но успел положить обратно.
Когда он сознался в краже и мать, рассердившись, бросила деньги на пол и ушла в столовую, прятавшийся Иван Гаврилов спросил: «Бить?» Кара отвечал: «Да».
После убийства Иван Гаврилов, заслышав скрип лестницы в квартиру Бородулина, бросился бежать в зал, а Кара пошел в кухню, услав слугу за конфетами, запер дверь. В это время он услышал крик малолетней сестры и, войдя в комнату сестер, увидал Гаврилова, который, покончив с Мартой, добивал окровавленную девочку. Испугавшись, Кара побежал к доктору…
Сознавшись в краже серег, микроскопов и велосипеда, Кара объяснил, что наемным убийцей был вовсе не Гаврилов, а немец-нищий, который ходил в их дом за подаянием.
Однако при проверке всех этих неправдоподобных объяснений обвиняемого никаких следов участия в деле ни Ивана Гаврилова, ни немца или какого-либо другого лица не было найдено. Было установлено только, что собаки с признаками отравления действительно околели во дворе дома Стрельцовой 24 августа и что одновременно с этим Александр Кара, по рецепту какого-то врача, получил из аптеки стрихнин в дозе, вполне достаточной для отравления двух взрослых человек.
Когда следствие заканчивалось, Кара снова изменил свое показание и на этот раз, по-видимому, чистосердечно признался во всем.
По его словам, отправившись после ужина к портному Цыпленкову, он забыл дома футляры из ювелирного магазина. Когда же он возвратился домой, этих футляров уже нигде не оказалось. Не обратив на это внимания, он стал собираться к Смирновой. В это время он вдруг услышал, что между матерью и сестрой идет разговор о драгоценностях. Вскоре из комнаты Марты вышла мать и начала расспрашивать его по поводу найденных футляров. Он стал говорить, что их дал ему Цорман, но мать не поверила, отправилась в спальню и, раскрыв сундук, обнаружила кражу. В этот же день он получил письмо от Смирновой, в котором она звала его. Но он знал, что она его не любит и хотя считается его невестой, а замуж может выйти за другого человека. Он решил сделать ей богатые подарки, для чего и совершил кражу у матери. Обнаружив кражу, мать пригрозила рассказать старику Кара. Угроза эта, как объяснил преступник, поставила его в безвыходное положение, ибо разбивала все его надежды жениться на Смирновой. Тогда он поднял руку на свою мать и ударом топора, который он же сам украл и припрятал, убил ее. Убил только он один, а таинственный немец-нищий и Иван Гаврилов — все это были нарочно выдуманные им, мифические личности, для затруднения розысков действительного убийцы.
Чтобы скрыть убийство матери, он решил заодно покончить и с сестрами, а затем уже поехать с подарками к любимой девушке. Однако, когда он раздробил топором голову маленькой Гедвиги и она жалобно застонала, — ему стало жаль ее! Им овладел страх, и он побежал тогда за помощью к доктору Бородулину…
Весной прошлого года Александр Кара предстал перед московским окружным судом.
Защищал подсудимого присяжный поверенный Ходасевич и со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Муратов.
Ужасная обстановка преступления и бесчеловечная, чисто животная жестокость, проявленная Кара, невольно возбуждали сомнение относительно его умственных способностей. Ввиду этого защитник счел необходимым поднять вопрос о психической ненормальности подсудимого.
Присяжные заседатели очень чутко отнеслись к этому важному вопросу, имеющему серьезное значение в современном уголовном судопроизводстве, и по их ходатайству окружной суд постановил рассмотрение дела Александра Кара приостановить и направить его к доследованию.
ДЕТОУБИЙСТВО
В санкт-петербургском окружном суде два раза рассматривалось одно и то же дело — об убийстве матерью своего ребенка. Подробности этого преступления, обнаружившиеся на судебном следствии, поистине ужасны.
В селе Михаила Архангела, под Петербургом, случайно был найден в отхожем месте труп ребенка. После медицинского вскрытия оказалось, что ребенок был рожден совершенно здоровым и прожил около двух недель. Начались розыски, и полиция вскоре узнала, что ребенка этого родила 21 мая крестьянка Дарья Егорова, проживавшая в том же селе. Она была замужняя женщина, но муж отбывал воинскую повинность и жил отдельно от нее. Воспользовавшись его отсутствием, она вступила в любовную связь с крестьянином Ларионовым. В результате появился ребенок-девочка. Боясь возвращения мужа со службы, Дарья Егорова, видимо, начала тяготиться ребенком и стала придумывать способ, как бы избавиться от него. С этой целью она направилась первоначально в воспитательный дом, но там отказались взять ребенка. 7 июня Егорова снова ушла в Петербург хлопотать об определении ребенка и возвратилась домой уже без него.
— Где же дочь твоя? — спросила квартирная хозяйка.
— Отдала ее девушке, она обещала поместить ребенка в воспитательный дом от своего имени, — сбивчиво ответила Егорова.
Через несколько дней, однако, она открыла страшную тайну своей знакомой, крестьянке Смирновой.
— Поклянись, что ты ничего не скажешь, — настойчиво потребовала Егорова.
Смирнова перекрестилась и, к своему ужасу, узнала, что несчастный ребенок умер не своей смертью.
Преступная мать была арестована, но не признала себя виновной в детоубийстве и упорно настаивала на том, что ребенок был отдан ею неизвестной девушке.
Первый раз Егорова предстала перед присяжными заседателями в 1901 году, и, на основании их вердикта, санкт-петербургский окружной суд приговорил тогда ее к каторжным работам на пятнадцать лет. Правительствующий Сенат, однако, отменил этот приговор, и дело снова перешло в окружной суд.
Вторично оно слушалось осенью 1902 года. На этот раз на судебном следствии выяснились совершенно новые обстоятельства, предшествовавшие преступлению.
Горько рыдая перед судьями, Егорова объяснила, что ребенка заставил убить ее любовник.
Жестоко обращаясь с ней, он беспрестанно твердил:
— Ты мне не нужна с девчонкой, проваливай с ней куда хочешь!
— Еще не оправившись от родов, больная, я не знала, что делать, — говорила подсудимая на суде. — Понесла я ребенка в воспитательный дом, а там говорят: «Ребенка от замужней женщины не можем взять». Я — к сожителю, а он все твердит: «Куда хочешь девай его, мне все равно». Хотела поступить кормилицей в Надеждинский приют, чтобы взять туда и своего ребеночка, тоже не приняли. Молоко, говорят, нехорошее. Прошлялась я тогда задаром целый день и опять пришла к полюбовнику.
— Ты с ребенком вернулась? — спрашивает он сердито.
— Да, — говорю.
Обозлился он.
— Пойдем со мной, — сказал, — я покажу тебе, куда его спровадить.
Пришли мы в поле, за селом.
Там небольшая лужа была.
— Топи! — говорит.
Взяла я ребеночка и лицом вниз опустила в лужу. Замер, сердечный…
После повел полюбовник к отхожему месту и сам открыл люк.
— Бросай, — говорит.
А у меня-то руки не поднимаются.
— Что ж, — говорит, — ждешь?! Хочешь, чтобы я тебе по морде надавал?
— Ох, швырнула я!.. Простите, ради Бога! — с плачем вскрикнула Егорова и упала на колени перед судьями.
— Встаньте и успокойтесь, — принужден был сказать председательствующий.
Из дальнейшего рассказа подсудимой выяснился целый деревенский роман.
Она была знакома с Ларионовым еще до своего замужества. Ловкий ловелас, он обольстил ее и заставил вступить с ним в любовную связь, но жениться не хотел.
Родители девушки, против воли, поспешили выдать ее замуж за однодеревенца Егорова, но мужа ее скоро взяли в солдаты, а прежний любовник снова стал преследовать ее.
— Поедем в Питер, — начал сманивать он. — Тебе все равно не жить без меня, а если супротив будешь, то убью.
В Петербурге Егорова служила кухаркой и, получая ничтожное жалованье — 4 рубля в месяц, всецело подчинилась влиянию своего любовника, обиравшего ее. Затем возвратился со службы и ее муж, и уже от него она родила в тюрьме другого ребенка.
В числе свидетелей на суде фигурировал также и сам Ларионов — молодой, коренастый субъект, с грубым, жестким лицом. Показания свои он давал крайне сбивчиво и, не отрицая связи с обвиняемой, в то же время решительно отказывался от соучастия в ее преступлении.
Подсудимая — молодая женщина, 28-ми лет.
— Отчего ж вы раньше, при первом разборе дела, говорили иначе? — спросил Егорову председательствующий.
— Я боялась Ларионова, он мне грозил, — призналась она.
Защитником с ее стороны выступал присяжный поверенный Плансон, который произнес страстную, глубоко прочувствованную речь, взывавшую о милосердии.
После непродолжительного совещания присяжные заседатели признали Егорову виновной в убийстве незаконнорожденного ребенка, но без заранее обдуманного намерения, и заслуживающей снисхождения.
Окружной суд приговорил ее к лишению всех особенных прав и преимуществ и к заключению в тюрьму на три года.
ПОБЕГ В АМЕРИКУ
Летом 1901 года в квартире богатой купчихи А. А. Мальм в Петербурге было обнаружено крупное хищение.
4 июня госпоже Мальм понадобились деньги, и она стала отпирать свой несгораемый железный сундук. К ее удивлению, однако, ключ решительно не входил в замочную скважину, и ей пришлось наконец обратиться к помощи своего брата. Тот, осмотрев замок, сразу догадался, в чем дело: в замочной скважине находился сломанный конец другого ключа.
После долгих усилий сундук удалось все-таки открыть, и госпоже Мальм оставалось только наглядно убедиться, что она сделалась жертвой дерзкой кражи. Все процентные бумаги, хранившиеся в сундуке, на сумму свыше 42 000 рублей, оказались исчезнувшими.
Так как за два дня до этого из квартиры госпожи Мальм неизвестно куда скрылся ее лакей, молодой, 25-летний человек, Ян Латтик, то подозрение в краже процентных бумаг невольно пало на него. Тем не менее, несмотря на тщательные розыски, местопребывание его долгое время оставалось неизвестным. Удалось лишь обнаружить, что исчезнувший лакей был близко знаком с крестьянином Яном Мустом, служившим слесарем на заводе «Феникс», и часто виделся с ним. 2 июня этот слесарь, тоже молодой человек, подарил своему брату Югану 120 рублей, передал 5 рублей на подарок невесте и, не взяв на заводе расчета, внезапно поспешил уехать из Петербурга.
Прошло некоторое время. За братом Муста был учрежден тайный надзор, и в конце июня полиция узнала наконец, что на его имя пришло из Гамбурга письмо. Оно было перехвачено и передано для прочтения служившей у госпожи Мальм немке Вильгельмине Михлер. Последняя, ознакомившись с содержанием письма, сообщила полиции, что Муст находится в Гамбурге вместе с Латтиком и намеревается ехать через «большое море», если только Латтик не обманет и даст ему деньги.
Таким образом, становилось несомненным, что процентные бумаги госпожи Мальм были украдены ее лакеем, бежавшим за границу. По поручению потерпевшей Вильгельмина Михлер поспешила выехать в Гамбург, чтобы задержать его, но было поздно, и она не застала там ни Муста, ни его приятеля. Оба они, как оказалось, еще 30 июня успели выехать на пароходе «Св. Патриций» в Нью-Йорк.
Полгода о них не было ни слуху ни духу, как вдруг 30 декабря Ян Муст снова появился в Петербурге. Его немедленно арестовали, а через месяц после этого в Петербург возвратился из-за границы и сам Латтик.
На допросе лакей-беглец чистосердечно сознался в похищении процентных бумаг и объяснил, что кража эта была совершена им по предварительному уговору с Мустом, который изготовил для него поддельный ключ. Разменяв процентные бумаги в банкирских конторах, оба они бежали из России в Гамбург, а оттуда уехали в Северную Америку. Первоначально они поселились в Нью-Йорке, а затем начали кочевать по различным американским городам. Муст вскоре заскучал по России, где у него оставалась невеста, и наконец, рискуя своей свободой, решил во что бы то ни стало вернуться на родину. После его отъезда Латтик почувствовал себя совершенно одиноким в чужой стране. Его стала одолевать тоска, бывшие при нем деньги быстро уходили, и в довершение всего его обокрали в Филадельфии на крупную сумму. Волей-неволей и он принужден был возвратиться в Россию.
Однако приятель Латтика решительно отвергал свое соучастие в похищении процентных бумаг и утверждал, что хотя он и был знаком с Латтиком, но ездил в Гамбург исключительно на свои собственные средства, чтобы приискать работу.
Впоследствии и Латтик значительно изменил свое первоначальное показание и стал настаивать, что он оговорил своего приятеля и что тот действительно ничего не знал о совершенной у госпожи Мальм краже.
Осенью прошлого года и лакей и слесарь предстали перед присяжными заседателями.
На суде Ян Латтик подтвердил свое признание в краже процентных бумаг. По его словам, зная, где хранился капитал хозяйки, он сам смастерил поддельный ключ, открыл сундук и вынул из него сверток с процентными бумагами. Когда он вышел на улицу, ему случайно попался навстречу слесарь Муст. Из опасения, чтобы кто-нибудь не отнял у него деньги, Ян Латтик стал уговаривать приятеля ехать с ним за границу. Муст подумал, что госпожа Мальм сама наградила деньгами своего лакея за хорошую службу, и согласился на предложение приятеля.
В Филадельфии Латтику пришлось познакомиться с представительным господином еврейского происхождения, и тот, пообещав приискать для него хорошее место, завел его в подозрительный дом. Там было очень весело, танцевали разряженные женщины и царил бесшабашный разгул. Латтику любезно поднесли стакан особой настойки. Он выпил ее и вскоре впал в бессознательное состояние.
Очнулся Латтик уже на мостовой, посреди улицы. Представительного незнакомца нигде не было видно.
Хватившись за карман, в котором было зашито до 30 000 рублей банковыми билетами, «русский американец» заметил, к своему ужасу, что он сделался жертвой наглого грабежа. На дорогу оставалась только небольшая сумма, и Латтик еле-еле добрался до России.
Несмотря на то что Ян Латтик, выгораживая своего приятеля, принимал всю вину на себя, товарищ прокурора Христианович поддерживал обвинение против обоих подсудимых.
Защищали обвиняемых присяжный поверенный Бобрищев-Пушкин (слесаря) и помощник присяжного поверенного Крепе (лакея).
После продолжительного совещания присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт только одному Латтику.
Резолюцией санкт-петербургского окружного суда он был приговорен к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на два года шесть месяцев.
Ян Муст был признан оправданным по суду.
ОТРАВЛЕНИЕ
На рассмотрение санкт-петербургской судебной палаты зимой прошлого года поступило интересное бытовое дело о мещанине Якове Ворстмане, обвинявшемся в отравлении своей родственницы.
Как выяснилось на следствии, подсудимый проживал вместе со своей семьей в окрестностях Ревеля и пользовался обыкновенно репутацией хотя и бедного, но скромного труженика. Семья его состояла из жены и нескольких малолетних детей. Достатки были небольшие, приходилось урезывать расходы и нередко отказывать себе в самом необходимом. Тем не менее Ворстманам все-таки жилось сравнительно хорошо благодаря согласию в семье.
И вдруг скромная, обыденная жизнь этой семьи была резко нарушена приездом богатой тетки Ворстманов.
Старушка преклонных лет, смотревшая уже в могилу, Христина Вебер обладала довольно значительным капиталом, и немудрено, что все Ворстманы встретили ее с распростертыми объятиями.
Началось усердное соревнование между Яковом Ворстманом и другими родственниками. Все наперебой желали переманить к себе богатую старушку, чтобы чем-нибудь поживиться от нее. В конце концов победа осталась за Ворстманом, и тетка поселилась в его семье.
Мало-помалу он стал прибирать старушку к рукам и предлагал ей различного рода денежные комбинации, чтобы капитал приносил пользу. Старушка вполне доверилась своему любезному племяннику, и, воспользовавшись этим, Ворстман весь ее капитал положил в банк на свое имя. После этого обращение его с теткой уже изменилось. Он начал небрежно относиться к ней, перестал быть почтительным, и отношения между ним и Христиной Вебер постепенно все более и более ухудшались.
Наконец старушка принуждена была оставить семью Ворстмана и решила переехать к его матери и сестрам.
Очевидно, это совсем не входило в расчеты племянника, и он стал явно противодействовать свиданиям старушки с другими родственниками. Все Ворстманы перессорились между собой и озлобленно смотрели друг на друга. Ни о каких родственных чувствах уже не было и помина.
Так продолжалось до осени 1901 года, когда Христина Вебер вдруг тяжко заболела. Болезнь ее оказалась загадочной. 16 ноября старушка, бывшая раньше здоровой, внезапно почувствовала в организме сильные боли, 19 ноября Яков Ворстман поспешил зачем-то уехать из дому, а через два дня его тетка отдала Богу душу. Скоропостижная смерть ее носила ясные следы отравления, и в результате все упорно заговорили, что в этом виновен не кто другой, как ее племянник, польстившийся на деньги Вебер.
Собранные против Ворстмана улики казались несомненными, и он был привлечен к уголовной ответственности как обвиняемый по 1451 ст. улож. о нак.
Предварительное следствие складывалось неблагоприятно для него. Факт отравления Вебер был безусловно подтвержден врачебной экспертизой. Жена Ворстмана старалась убедить всех, что старушка-тетка могла и сама нечаянно отравиться, принимая лекарство вроде гофманских капель. Однако при расследовании во всей квартире Ворстманов не только не оказалось какого-либо лекарства, но даже и аптечных склянок. Между тем против подсудимого было и его бегство из дому незадолго до смерти тетки, и различные косвенные обстоятельства: захват денег старушки, ссоры с ней.
Помимо того, Яков Ворстман неожиданно обрел себе на судебном следствии суровых обвинителей в лиде своей матери и сестер. Все они представили целый ряд случаев враждебных отношений между подсудимым и его теткой, которые, по их мнению, и привели к роковой развязке. Ворстмана они считали, несомненно, виновным в смерти Вебер. Это далеко не родственное показание матери с сестрами на сына и брата производило тяжелое впечатление.
Основываясь на данных следствия, товарищ прокурора Гриневич находил преступление Якова Ворстмана вполне доказанным фактом и потому поддерживал против него обвинение.
Защитником подсудимого выступал присяжный поверенный В. И. Добровольский, который произнес следующую речь:
— Господа судьи! Нельзя отрешиться от того впечатления, которое оставляют в настоящем деле обличительные показания матери и сестер подсудимого Ворстмана. При поверхностном, не критическом отношении эти показания должны послужить основанием к безусловному обвинению. Но для меня это свидетельство матери и сестер, которое составляет главный материал по делу, не уличает, а оправдывает Ворстмана. При естественных отношениях нельзя себе представить, чтобы мать и сестры обвиняли своего сына и брата в тягчайшем преступлении, хотя бы у них и существовала полная и несомненная в том уверенность. Раз же мать выступает обвинительницей своего сына, то мы можем сказать, что вражда и ненависть этих лиц между собой дошли до сверхчеловеческих отношений, и правосудие с подобным негодным материалом, конечно, оперировать не может. Раз мы отбросим показание матери и сестер подсудимого Ворстмана, то вместе с тем из дела выпадает целый ряд ими же выставленных, или, правильнее говоря, созданных ими, улик. Стремление Ворстмана поселить у себя старуху, захват им ее денег, внесение их в банк, по его настоянию, на его имя, недопущение родственников до свидания со старухой и, наконец, дурное с ней обращение после захвата ее денег — ведь все это есть та накипь в деле, которая создана той враждой и ненавистью, которые возникли между Ворстманом, его матерью и сестрами.
Что же далее выставляется обвинением против Ворстмана? Единственно — факт неестественной смерти старухи Христины Вебер. Но этого, естественно, недостаточно не только для доказательства виновности Ворстмана, но даже для доказательства наличности в данном случае преступления. Из показания жены подсудимого видно, что в доме Ворстмана для истребления мышей всюду были разложены куски хлеба, отравленные так называемой швейнфуртской, или французской, зеленью. Старуха Вебер была подслеповата и, естественно, могла не различить отравленного хлеба. Слова жены подсудимого о нахождении в доме швейнфуртской зелени нашли себе подтверждение как в показаниях некоторых свидетелей, так и в данных экспертизы. Эксперты-врачи и химики первоначально признали, что отравление произошло при посредстве мышьяка, но затем, после показания жены подсудимого, удостоверили, что действительно имеется более данных, подтверждающих предположение, что отравление произошло посредством швейнфуртской зелени. Итак, мы имеем полное основание прийти к выводу, что в данном деле нет преступления, а лишь несчастный случай.
Но если даже предположить, что преступление доказано, что Вебер была отравлена, то возникает еще второй вопрос, который не разрешило и бессильно разрешить обвинение. Нам говорят о виновности мужа Ворстмана, но с таким же вероятием и даже с большим основанием можно говорить о виновности жены Ворстмана. Как известно, смерть старухи Вебер произошла 21 ноября, подсудимый же Яков Ворстман уехал из дому 19 ноября. Между тем, согласно всем свидетельским показаниям, смерть старухи сопровождалась картиной весьма острой формы отравления, что приводит к заключению, что яд был введен в организм умершей в ближайшее время до ее смерти. Таким образом, если старуха Вебер умерла от отравления, то оно должно было быть совершено одним из лиц, находившихся при ней в ближайшие часы пред наступлением смерти. Подсудимый Яков Ворстман в это время отсутствовал и стоит, следовательно, вне подозрения.
Если далее остановиться на уликах, специально уличающих, по взгляду обвинения, Ворстмана, то мы увидим, что они представляют ряд фактов, которые с одинаковым успехом могут быть обращены «за» и «против» подсудимого. Совершить преступление у Ворстмана не было ровно никакого стимула. Капитал старуха Вебер положила в кредитное учреждение на его имя без всякого принуждения, и, следовательно, для завладения капиталом Ворстману не требовалось прибегать к убийству. Переезд старухи к Ворстману также объясняется весьма просто: ее не захотело принять к себе семейство родственников ее Лимберг, а потому, получив там отказ, старуха поселилась у Ворстмана. Наконец, отъезд подсудимого не был бегством, как говорит обвинение, с места преступления; отъезд был вызван торговыми делами, подтверждением чего служит специальное приглашение, полученное Ворстманом от некоего Лифлендера.
В чем же основания для обвинения Ворстмана? — закончил защитник свою убедительную речь. — В настоящем деле можно найти основания для предположения несчастного случая с Вебер, для предположения виновности лиц, бывших при ней в день смерти, но в отношении подсудимого Ворстмана можно найти лишь достаточное основание для его оправдания.
После непродолжительного совещания санкт-петербургская судебная палата постановила считать Якова Ворстмана оправданным по суду.
КРАХ «РОССИЯНИНА»
Около 15 лет тому назад один из петербургских обывателей задался мыслью организовать на широких началах акционерное страховое и транспортное предприятие. Он выработал проект устава такого предприятия и познакомил с ним Э. Ф. Ландезена, камергера Д. В. Князева и П. П. Черемисинова, которые увлеклись этой идеей и согласились быть учредителями нового предприятия. В результате в Петербурге возникло страховое и транспортное общество «Россиянин», устав которого был высочайше утвержден 3 июля 1890 года. Основной капитал общества был определен в 2 500 000 рублей, для реализации которых следовало выпустить 10 000 акций стоимостью в 250 рублей каждая. Однако уже через полгода учредители возбудили ходатайство об уменьшении основного капитала до 1 500 000 рублей с выпуском только 6 000 акций. Подписка на акции пошла плохо, и к сроку оплаты их 50-процентным взносом — на 14 марта 1891 года — в кассу учредителей поступило лишь 311 000 рублей. Чтобы выпутаться из затруднительного положения и как-нибудь открыть действия общества, учредители решили обратиться к содействию Российского торгового и комиссионного банка, и последний через своего директора-распорядителя И. А. Слепушкина открыл им широкий кредит. Благодаря этому «Россиянин» мог уже начать свои операции, и 19 марта 1891 года состоялось первое общее собрание акционеров. В правление «Россиянина» были избраны: В. А. Евреинов — председателем, князь Н. И. Вадбольский, А. П. Менюшский, Н. А. Ухин и П. П. Черемисинов — директорами. Уже в начале деятельности правления возникли серьезные недоразумения между его директорами, принявшие вскоре такой острый характер, что И. А. Слепушкин признал необходимым устранить из правления некоторых лиц. Благодаря своему огромному влиянию он вскоре достиг того, что В. А. Евреинов принужден был сложить с себя звание председателя. После этого И. А. Слепушкин направил все усилия к тому, чтобы поставить возможно ближе к заведованию делами «Россиянина» своего знакомого — Н. П. де Росси, с которым он имел особое конфиденциальное соглашение по вопросу о возможно более широком и спешном сбыте имевшихся в комиссионном банке акций «Россиянина».
19 июля 1891 года состоялось чрезвычайное общее собрание акционеров «Россиянина», где наиболее крупными акционерами явились Российский комиссионный банк (1 296 акций), де Росси (800 акций), купец А. С. Семенов (400 акций), надворный советник Э. Ф. Пипер (200 акций). Оказалось, что ко дню этого собрания, по инициативе И. А. Слепушкина, из числа заложенных в комиссионном банке акций «Россиянина» были переведены 1 600 акций номинально на имя де Росси, который, в свою очередь, 800 акций перевел на имя старого знакомого Э. Пипера и еще на двух лиц, которые служили в страховом обществе «Помощь», где Н. П. де Росси занимал видный пост директора-распорядителя. Конечно, все они подали свои голоса за де Росси, который после собрания взял акции обратно, а оказавших ему дружескую услугу в награду перевел впоследствии на службу в общество «Россиянин».
В собрании 19 июля произошла полная перетасовка правления «Россиянина». Господа Евреинов, Ухин и Черемисинов вышли из его состава, и их место заняли де Росси, Семенов и Пипер, причем князь Вадбольский стал председателем правления, а де Росси — директором-распорядителем, с жалованьем в 12 тысяч рублей в год; кроме того, в его пользу отчислялись еще два процента с чистой прибыли общества. В этом же собрании было постановлено избавиться от одного из бывших директоров, «по его неблагонадежности», и возбудить против него уголовное преследование.
В результате Н. П. де Росси вступил в управление делами «Россиянина», но не как акционер, заинтересованный в правильном развитии общества, а лишь как агент Российского торгового и комиссионного банка, заботившийся только об интересах этого банка.
Князь Вадбольский только десять дней занимал председательский пост, а затем отказался от этого почетного звания и совсем ушел из состава правления. Его же место немедленно занял купец А. С. Семенов. Оставить должность председателя князь Вадбольский принужден был исключительно из-за де Росси, который систематически противодействовал ему во всем. Добившись удаления князя, де Росси предложил ему через Черемисинова «отступного» в сумме 24 000 рублей. Вместе с тем, удаленному «по неблагонадежности» директору за прекращение претензий к «Россиянину» дано было «отступного» в сумме 37 500 рублей, а какому-то мещанину Машкауцану за удачное в этом деле посредничество — 5 000 рублей.
3 августа 1891 года де Росси обратился в правление с докладом, в котором просил назначить ему в товарищи Э. Ф. Пипера, «так как он, де Росси, имел случай с давних лет близко познакомиться с высокими качествами и достоинствами господина Пипера». Правление согласилось, и Э. Ф. Пиперу было назначено особое, добавочное вознаграждение в сумме 8 000 рублей в год, с прибавлением одного процента из прибылей общества.
Наконец 28 сентября 1891 года «Россиянин» начал свою деятельность под непосредственным руководством Н. П. де Росси, который выговорил для себя по контракту годовое вознаграждение в сумме 19 000 рублей с неустойкой, на всякий случай, в размере 95 000 рублей.
Стремясь захватить в свои руки власть, де Росси вскоре добился от правления особой доверенности, которая делала его единоличным и бесконтрольным распорядителем всех дел общества. Тем не менее сознавая свою зависимость от Российского комиссионного банка, который имел большинство акций общества, де Росси заботился лишь о выгодах банка. Вся деятельность его красноречиво свидетельствовала о том, что существенные интересы «Россиянина» стояли в его глазах на втором плане и приносились в жертву интересам банка, самого де Росси и близких ему людей.
В течение короткого времени обществом было учреждено в России 368 транспортно-страховых и 85 исключительно страховых агентств, но дело в них велось в высшей степени беспорядочно. Никакого контроля над ними не было, и во всем царил полнейший хаос. Правление общества, например, насчитывало за томским агентством не сданных 43 513 рублей, а агентство утверждало, что оно имеет всего лишь 70 рублей. Пользуясь беспорядками, некоторые агенты не клали охулки на руку и брали все, что возможно; другие же занялись даже так называемой «торговлей пожарами». Само собой разумеется, что все это гибельно отражалось на материальных средствах общества.
Ссоры и крупные недоразумения возникали в обществе сплошь и рядом, причем они заканчивались обыкновенно тем, что лицам, могущим повредить молодому обществу, выдавалось крупное «отступное». Поссорился де Росси, между прочим, и с мещанином Машкауцаном, но последний, оказалось, знал очень многие «тайны», и де Росси поспешил выплатить ему 10 500 рублей, мало того, по его же распоряжению выдано было 7 000 рублей и брату Машкауцана, который почему-то тоже оказался неудобным человеком.
Собственные дела де Росси, по-видимому, процветали. В начале 1892 года ему, по предложению И. А. Слепушкина, было увеличено годовое содержание до 25 000 рублей в год. Не довольствуясь этим, де Росси ухитрился еще взять из кассы общества, без всяких оправдательных документов, 64 352 рубля, под видом особого комиссионного вознаграждения за привлеченные будто бы им страхования. Какие это были страхования — для всех осталось тайной, и в делах «Россиянина» никакого разъяснения по этому поводу не имелось.
В конце 1892 года де Росси, Семенов и Черемисинов узнали, что вдова купца Елена Григорьева желает продать свое пароходное предприятие на реках Волге и Каме. Предприятие это было приобретено на имя Семенова за 300 000 рублей, причем половину этой суммы госпожа Григорьева обязалась принять акциями «Россиянина». После этого де Росси заключил с Семеновым договор, согласно которому последний должен был перевозить все грузы «Россиянина», а в виде задатка, в счет будущих фрахтов, ему было выдано обществом 140 000 рублей. После же оказалось, что Семенов вовсе этих денег не получал из кассы. Вообще происходило что-то странное, и средства «Россиянина» исчезали как дым.
Де Росси, пользуясь своим исключительным положением, не стеснялся брать деньги из кассы на собственные надобности. То у него являлись «секретные расходы», то нужно было дать «отступное» или наградить кого-нибудь из служащих за вечерние занятия, хотя, как выяснилось после, некоторые служащие вовсе не получали этих наград. Под видом жалованья де Росси взял из кассы за два года до 45 500 рублей, а его товарищ Э. Ф. Пипер — свыше 29 000 рублей.
Положение «Россиянина» становилось все более и более шатким, и к 1 января 1893 года из общего количества пожарных убытков в 584 000 рублей общество не могло удовлетворить своих страхователей на сумму 283 000 рублей. Касса общества была истощена до крайности и не могла покрывать даже мелких расходов. Провинциальные клиенты, не получая удовлетворения, начали предъявлять обществу иски. Наконец, служившие в самом правлении «Россиянина» артельщики потребовали возвращения своих залогов в сумме 25 000 рублей.
Злополучное общество находилось уже в агонии. Чтобы поправить дело, де Росси решился на последнее средство: телеграммой от 1 июня 1893 года он предписал всем агентам поступившие от грузополучателей наложенные платежи переслать в Петербург, в правление общества. Таким образом ему удалось собрать 83 000 рублей, которые почти все были израсходованы на нужды правления, — грузоотправители же остались при пиковом интересе.
Между тем повсюду пошли слухи о крайне плохих делах «Россиянина», и ничего не подозревавшие до этого акционеры не на шутку встревожились. Поднялся переполох. Де Росси волей-неволей пришлось успокаивать их и уверять «честным словом», что все обстоит благополучно. Однако начало конца подходило. Один из крупных акционеров, присяжный поверенный фон Краузе, потребовал от правления «Россиянина» возбуждения ходатайства о назначении правительственной ревизии дел общества. Правление оставило это ходатайство без последствий, и фон Краузе, видя, что «Россиянин» доживает последние дни, довел обо всем до сведения директора департамента торговли и мануфактур.
Агония общества стала наконец подходить к концу. В кассе не оставалось ни гроша, и служащие тревожно ожидали, что будет дальше. Главные заправилы разбежались. Ежедневно поступали повестки от судебных приставов.
Семенов и Пипер отказались от своих должностей, и только де Росси до конца оставался на своем посту, с клятвой уверяя, что у него нет денег и что он ничем уже не может помочь делу. Тем не менее ему все же удалось временно оттянуть крах общества, уговорив нескольких лиц оказать «Россиянину» денежную помощь. Господа фон Краузе, Усачев и Седых согласились внести в кассу общества 170 000 рублей, но устранили из состава правления де Росси, Семенова и Черемисинова. Однако 170 000 рублей оказалось недостаточно для покрытия предъявленных к «Россиянину» претензий, и дальнейшее существование его стало невозможным. Из баланса на 1 октября 1893 года обнаружилось, что от основного капитала общества оставалось только одно воспоминание, между тем как общая сумма долгов «Россиянина» доходила до 1 130 630 рублей.
Исследовав положение дел общества, правительственная ревизионная комиссия пришла к заключению о его полной несостоятельности. Ввиду этого 4 декабря 1893 года, по распоряжению министров внутренних дел и финансов, действия «Россиянина» были прекращены повсеместно. Учрежденное впоследствии конкурсное управление по делам несостоятельного должника «Россиянина» признало к февралю 1898 года правильных претензий к этому обществу на сумму 787 483 рубля, на удовлетворение же этих претензий от реализации имущества «Россиянина» поступило всего лишь 226 263 рубля.
Общество было признано погибшим, главным образом, благодаря противозаконным и своекорыстным действиям второго состава его правления во главе с де Росси.
Во время проведения предварительного следствия по этому делу Черемисинов и Усачев умерли, и в качестве обвиняемых к уголовной ответственности были привлечены де Росси, Пипер и Семенов. Все они не признали себя виновными в злоупотреблении доверием общества и в присвоении и самовольных растратах принадлежавших обществу денежных сумм. При этом де Росси оправдывался тем, что гибель общества была вызвана внезапным закрытием его. Действия правительственной ревизии он называл «несообразными», а неблагоприятные для него свидетельские показания — «пустыми рассказами и баснями».
До судебного разбора и де Росси не дожил, и, за его смертью, скамью подсудимых в санкт-петербургском окружном суде заняли только А. С. Семенов и Э. Ф. Пипер.
Дело это слушалось весной 1903 года в течение шести дней.
Председательствовал господин Карчевский и со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Бибиков.
Защищали подсудимых присяжный поверенный Миронов и Таунлей (Пипера), Нестор (Семенова) и помощник присяжного поверенного Гольдштейн (покойного де Росси). А качестве гражданских истцов выступали: присяжные поверенные Марголин и Оппель — от имени госпожи Григорьевой, продавшей свое пароходство «Россиянину», и присяжный поверенный Тиктин и Спешнее — от конкурса его кредиторов.
Из вызванных судом свидетелей по делу о злоупотреблениях в обществе «Россиянин» многие не явились по разным причинам. Но и показаний тех свидетелей, которых суд опрашивал, в связи с обвинительным актом, вполне достаточно, чтобы создать яркую картину постепенной гибели грандиозного предприятия.
Первоначально Н. П. де Росси, по-видимому, и не мечтал когда-либо сделаться главарем «Россиянина». Это видно из его письма на имя комиссионного банкд от 31 октября 1891 года, в котором говорится, что «лично он, де Росси, не имеет ни намерения, ни средств сделаться акционером общества «Россиянин». Банк, однако, не остановился перед этим и передал де Росси 1 600 акций «Россиянина», открыв под них кредит. Делалось это исключительно с целью поставить де Росси во главе всего предприятия, существование которого было тесно связано с интересами банка. Банк рекомендовал де Росси как человека очень компетентного в страховом деле и пользующегося репутацией выдающегося общественного деятеля.
Тем не менее этот «деятель» оказался далеко не в курсе дела.
Успешная организация и деятельность транспортного отдела «Россиянина» всецело зависели от умелого и осторожного выбора личного персонала, особенно главных агентов и инспекторов общества. Важное значение в этом деле имели также устройство рациональной сети агентств и правильное распределение их в зависимости от экономического значения местностей и количества перевозимых грузов. Все это безусловно игнорировалось де Росси, и при назначении агентов на службу общества принимались в расчет не их личные качества и знакомство с транспортным делом, а лишь только то, сколько они могли купить у де Росси акций «Россиянина». Нечего и говорить, что о хорошем составе агентов при таких условиях нечего было и думать.
— Географическое распределение контор общества нельзя было признать целесообразным. Молодое, еще не установившееся предприятие, не имевшее ни достаточных средств, ни надлежащего контроля, стало на первых порах своей деятельности заводить агентства в таких отдаленных местностях, как Семиреченская и Забайкальская области.
Как велось агентами транспортное и страховое дело и как бесцеремонно относились они к самым существенным интересам общества, можно видеть из показаний члена правления общества Евреинова, юрисконсульта Кьорозовского, кассира Энгмана. По их словам, в деятельности агентов царил полнейший произвол; систематического контроля над ними не было; отчеты присылались неаккуратно и составлялись так запутанно, что не было никакой возможности разобраться в них; мало того, некоторые агенты не представляли отчетов в течение многих месяцев, и операции их даже для самого правления составляли непроницаемую тайну.
Иногда де Росси приглашал на службу в правление таких лиц, в которых не было ни малейшей надобности. Лица эти преспокойно получали тысячные оклады и… ничего не делали.
Не чужд был он и предприимчивости. В 1892 году киевский агент общества Юлиан Розенберг обратился к директорам «Россиянина» с предложением образовать компанию для постройки в Бердичеве конно-железной дороги. Все члены правления наотрез отказались от этого предложения, — и тем не менее де Росси лично, вместе со своей женой, вступил в компанию с Розенбергом. В результате в течение двух месяцев Розенбергу было выслано из кассы «Россиянина», по распоряжению де Росси, 18 000 рублей для оборотов киевского агентства. Куда делась эта крупная сумма — так и осталось неизвестным. После агент уверял, что он выслал 18 000 рублей обратно де Росси, а последний утверждал, что он никаких денег не получал от Розенберга.
Чтобы добиться главенствующей роли в собраниях, де Росси записывал на некоторых служащих правления известное число акций, и они обязаны были подавать голоса на общих собраниях за своего директора-распорядителя и отстаивать все его предложения. Вполне понятно, что при таком искусственном подборе голосов общее собрание «единодушно и с полным одобрением» утверждало все его предложения. Находились, впрочем, протестанты, возмущавшиеся такими бесцеремонными порядками, но при каждой попытке оппонировать председатель собрания А. С. Семенов немедленно лишал их слова. Между тем деятельность де Росси, как выяснилось после, была далека от забот об охране самых насущных интересов общества; даже в таком важном деле, как оплата акций предприятия и реализация основного капитала, он допускал всевозможные незаконные сделки и фиктивные операции. Вообще всюду с его стороны замечались произвол и игнорирование коренных требований закона и устава общества.
Кроме князя Н. И. Вадбольского, довольно крупная сумма денег была выдана неизвестно за что и его брату П. И. Вадбольскому, занимавшему одно время в «Россиянине» место инспектора. Как видно из обвинительного акта, существует предположение, что и эти деньги были выданы «за скромное и тихое поведение» по отношению к правлению «Россиянина». Через полгода, по распоряжению де Росси, и весь долг П. И. Вадбольского обществу в сумме свыше 5 000 рублей был списан «для уравнения счета».
Между прочим, в 1892 году де Росси заключил договор с содержателем типографии господином Киршбаумом на поставку для правления общества необходимого печатного материала. Согласно договору, за типографские работы должны были выдаваться не наличные деньги, а оплаченные акции «Россиянина» на сумму не более 25 000 рублей. Ввиду этого касса по распоряжению де Росси выписала в расход 25 125 рублей на покупку ста акций для господина Киршбаума, а затем акции эти были положены де Росси в отдельный конверт с надписью: «100 акций Киршбаума». После, однако, оказалось, что все эти акции значились за самим де Росси и, следовательно, им же самим были взяты из кассы 25 125 рублей. Господину Киршбауму потом пришлось предъявить обществу иск об уплате ему денег за печатные работы.
Из числа опрошенных свидетелей очень характерное показание дала вдова купца Е. С. Григорьева.
После смерти ее мужа в 1889 году осталось крупное пароходное предприятие на реках Волге и Каме. К госпоже Григорьевой по завещанию переходили четыре парохода, стоимостью по 50 000 рублей каждый, несколько грузовых барж, пристани и мастерские. Тем не менее за отсутствием оборотных средств она не могла продолжать этого предприятия и решила продать его.
Находилось много желающих приобрести это дело на льготных условиях и с векселями, но госпожа Григорьева требовала наличные деньги. Случайно она познакомилась с мещанином Машкауцаном, и тот посоветовал ей продать пароходство одному «солидному обществу». Когда госпожа Григорьева приехала в Петербург, этим «солидным обществом» оказался злополучный «Россиянин». В то время он, однако, мог всякого обмануть своим внешним видом. Дорогая обстановка повсюду в правлении, внушительные швейцары и отдельные кабинеты для каждого директора — все это заставляло думать, что дела общества процветают.
Немудрено, что госпожа Григорьева вполне доверилась «Россиянину» и охотно продала ему свое пароходство. Ей было объявлено, что пароходство может быть куплено за 300 000 рублей, в счет которых будут погашены ее долги, а несколько тысяч рублей она получит наличными деньгами и на остальную сумму в 139 000 рублей именные акции «Россиянина», уже оплаченные учредителями. Госпожа Григорьева согласилась на такие условия, сдала пароходство одному из директоров — А. С. Семенову и получила от него акции. Второпях она не обратила внимания на эти акции и, лишь вернувшись домой, обнаружила, что среди них только на 39 000 рублей было именных акций, а остальные акции не представляли гарантированной ценности.
Спустя некоторое время кредитор ее В. Мамонтов потребовал уплаты долга в 7 000 рублей, и она выдала ему на эту сумму акций «Россиянина». В. Мамонтов послал свою жену разменять акции на наличные деньги, но ей объявили, что акции эти ровно ничего не стоят. Конечно, Мамонтов поспешил возвратить их Григорьевой, и та наконец убедилась, что свое предприятие, стоящее до 400 000 рублей, она продала за чечевичную похлебку: и именные, и обыкновенные акции «Россиянина» ценились не выше стоимости бумаги. Она бросилась объясняться с директором А. С. Семеновым и грозила жаловаться. Директор, однако, не смутился и стал уверять, что дела «Россиянина» идут прекрасно и что акции его оцениваются уже по 300 рублей, а скоро поднимутся и до 400 рублей. Как бы в подтверждение его слов, к госпоже Григорьевой вскоре стали обращаться разные таинственные лица с просьбой уступить им ее акции по 300 и 350 рублей, но тут, очевидно, крылось «недоразумение»: просьбы были, а денег-то никто не давал за акции «Россиянина». Пришла, между прочим, к госпоже Григорьевой дама, которая стала усиленно просить продать ей сто акций по 350 рублей. Госпожа Григорьева согласилась, но, зайдя в правление «Россиянина», она увидела эту даму выходящей из директорской комнаты. По-видимому, все это проделывалось кем-то для отвода глаз. Поняв, в чем дело, госпожа Григорьева обратилась за содействием к присяжным поверенным Карабчевскому и Соколовскому. Адвокаты предъявили в коммерческом суде иск о ликвидации сделки между госпожой Григорьевой и А. С. Семеновым, состоявшим также членом и этого суда. Тем не менее коммерческий суд отказал в иске и, мало того, наложил еще на госпожу Григорьеву 6 000 рублей пени за неправильный спор. Дело перешло в правительствующий Сенат, но и там тоже отказали в иске, и госпоже Григорьевой пришлось снова заплатить пени в 6 000 рублей. В результате она просудила последние остатки своего имущества и была объявлена несостоятельной, с назначением администрации.
Другой свидетель, бывший юрисконсульт «Россиянина» И. М. Кнорозовский, касаясь внутренних порядков в обществе, отозвался о покойном де Росси как о необыкновенном труженике. По его словам, де Росси работал как вол и, являясь раньше всех в правление, уходил домой позже всех. Обладая удивительной памятью, он педантично относился к делу и не покладал рук до полного утомления. Тем не менее, по словам свидетеля, де Росси совершенно не знал транспортного дела, которым стал руководить в «Россиянине». Обыкновенно он придерживался ложного взгляда, что если агент общества будет приобретать его акции, то он и сам сделается заинтересованным в развитии его деятельности. Между тем такой агент, делаясь акционером, начинал влиять на правление и переставал быть подчиненным лицом, отчего значительно страдали интересы общества.
Дело в «Россиянине» было поставлено настолько широко, что действительно нетрудно было ошибиться относительно его прибыльности. Даже сам свидетель, близко стоявший к правлению, одно время заблуждался и думал, что общество отлично работает.
В общем, большая часть свидетельских показаний, как и обвинительный акт, касались, главным образом, покойного де Росси. Он был центром, вокруг которого группировались все алчущие «теплых» местечек. Сам любя деньги, он щедро раздавал их и другим лицам, которые так или иначе сумели примазаться к «Россиянину». Касса общества сплошь и рядом выдавала, по распоряжению своего полномочного хозяина, всевозможные «ссуды», «наградные», «отступные». Ознакомившись с деятельностью правления «Россиянина» времен диктаторства де Росси, ревизионная комиссия пришла к убеждению, что правление производило расходы за счет общества, нисколько не сообразуясь ни со средствами его, ни с действительной потребностью. Такой убыточный образ действий, по мнению ревизионной комиссии, должен быть всецело отнесен на счет самого директора-распорядителя. За какие-нибудь полтора года «Россиянин» истратил на жалованье правлению 95 490 рублей и служащим только в Петербурге — 119 592 рубля. На одни канцелярские расходы за это время пошло 12 326 рублей. Всего же на расходы главного управления «Россиянина» было выписано из кассы 281 740 рублей и на содержание агентств — 261 357 рублей. На командировки и разъезды по ордерам де Росси было отпущено 71 552 рубля, причем никаких оправдательных документов по этому расходу не было представлено.
Неудивительно, что 6 июня 1893 года де Росси вынужден был наконец доложить правлению, что ввиду недостатка оборотных средств он не в силах более вести дела общества и что «если 9 июня не последует усиления кассы на сумму не менее 100 000 рублей, то дальнейшее производство операций будет совершенно невозможным». В тот же день А. С. Семенов отказался от должности директора, а через месяц и Э. Ф. Пипер уведомил правление телеграммой из Берлина о своем отказе от службы в обществе. Когда в решительный момент пришлось оказать денежную помощь гибнущему «Россиянину», то де Росси заявил, что у него не имеется ни копейки. В свою очередь, Семенов с Пипером также сослались на полное отсутствие средств. 17 августа была назначена особая комиссия из представителей министерства финансов и внутренних дел, которая занялась подробной ревизией дел общества. Денег в кассе «Россиянина» к 1 октября оказалось всего лишь 939 рублей.
Подсудимый Э. Ф. Пипер в своем объяснении, главным образом, ссылался на покойного директора-распорядителя. По словам Пипера, акционером злополучного «Россиянина» он сделался случайно, по приглашению де Росси, которого знал раньше как своего бывшего начальника по службе в Главном управлении почт и телеграфов. Не обладая деньгами, Пипер сначала отказывался от приобретения акций, но де Росси пообещал ему место директора правления, и он прельстился. После, когда де Росси сделался директором-распорядителем, он, по выражению Пипера, так «околдовал» членов правления, что они беспрекословно выдали ему неограниченную доверенность. В январе 1893 года, перед отъездом Пипера за границу, к нему на квартиру пришел А. С. Семенов и незаметно подсунул для подписи какой-то протокол правления. После оказалось, что в этом протоколе говорилось о выдаче Семенову аванса за фрахты в сумме на 140 000 рублей.
Со своей стороны, подсудимый А. С. Семенов сослался на поквйного директора Российского комиссионного банка И. А. Слепушкина, который убедил его сделаться акционером «Россиянина», обещая устроить его в это общество директором. Сделавшись затем председателем правления «Россиянина», Семенов, по его словам, «свято и честно справлял свои обязанности, как подсказывали долг и совесть». Если же общество и погибло, то только вследствие «неблагонадежности некоторых лиц», беспрерывных судебных процессов и закрытия его административным порядком. Наконец, Семенов находил, что само правление «Россиянина» отнюдь не должно отвечать за деятельность своего директора-распорядителя, тем более что о незаконных действиях последнего правлению ничего не было известно. Де Росси только слишком широко воспользовался выданной ему от правления доверенностью.
Суд все время не переставал интересоваться «широкой» деятельностью главаря «Россиянина». Уже с первых дней вступления на должность директора-распорядителя де Росси дал понять о той важной роли, какую он намеревался играть в делах общества. Между прочим, ему не понравился князь Н. И. Вадбольский, занимавший ответственный пост председателя правления. Последовал целый ряд неприятностей и резких столкновений между ним и де Росси. Последний, видимо, стремился совершенно устранить князя Вадбольского от какого бы то ни было активного участия в делах «Россиянина», едко критиковал все его распоряжения и оказывал противодействие на каждом шагу. В результате князь Вадбольский вышел из состава правления.
Свидетель В. А. Евреинов, сложивший с себя должность председателя ради де Росси, чтобы не «тормозить» дело, сделал на суде краткий очерк возникновения общества. Его многие знали как бывшего преподавателя коммерческого училища, а Слепушкин был еще учеником при нем. Свидетель этот категорически отрицал факт получения князем Вадбольским «отступного» в 24 000 рублей. Князь с негодованием говорил об этом и желал во что бы то ни стало выяснить это некрасивое обстоятельство. Оказалось, что «отступное» взял П. Черемисинов якобы для передачи Вадбольскому. Узнав об этом, возмущенный князь несколько раз заходил к Черемисинову, но тот почему-то каждый раз не оказывался дома. Князю Вадбольскому удалось все-таки захватить его врасплох в правлении, но когда, решившись потребовать объяснений, он крикнул: «Стой!» — струсивший Черемисинов малодушно убежал.
По окончании опроса свидетелей суд приступил к экспертизе, которая в этом деле имеет несомненно решающее значение.
Ознакомившись с книгами и документами, касавшимися деятельности «Россиянина», эксперты пришли к противоречивым выводам. Бухгалтер Райх находил, что общество неправильно было учреждено и неправильно функционировало, определяя общую сумму начета на правление в размере 625 000 рублей. Наоборот, бухгалтер Перлен признавал и учреждение, и деятельность «Россиянина» вполне правильными и согласующимися с уставом; указываемый же другим экспертом начет он уменьшал на 80 000 рублей.
Несостоятельность общества, по мнению экспертов, произошла не от способа реализации учредителями основного капитала, а всецело зависела от директоров второго правления вообще, и директора-распорядителя Н. П. де Росси в особенности. К пагубным по своим последствиям мероприятиям членов правления следует отнести: 1) доверенность, выданную де Росси; 2) зависимость де Росси от бывшего комиссионного банка; 3) набор агентов ради большего, скорейшего и насильственного распространения акций, принадлежащих де Росси и банку; 4) отсутствие контроля над деятельностью и отчетностью агентов; 5) ненормальное поступление основного капитала; 6) злоупотребление деньгами, принадлежащими грузоотправителям по свидетельствам о наложенных платежах, а также и правительству по сбору казенной пошлины, и наконец 7) неправильное проведение по книгам операций, по распоряжениям директора-распорядителя, и полное отсутствие контроля по делопроизводству и счетоводству в главном управлении.
Основываясь на судебном следствии, товарищ прокурора Бибиков в своей речи набросал характерную картину злоупотреблений, творившихся в «Россиянине». Обрисовав обстановку, в которой действовали покойный де Росси, Пипер и Семенов, товарищ прокурора поддерживал обвинение против всех их. В своей речи он, между прочим, указал на то печальное явление, что банковские дела, подобные настоящему, являются уже делами заурядными, а совсем не исключительными. Недавно был харьковский процесс, теперь «Россиянина», и, быть может, предстоит еще что-нибудь в том же роде. Лица, злоупотребляющие доверием, подрывают кредит — эту основу народного благосостояния. Учетный процент поднимается, а кредит падает, и это только потому, что нарушается доверие. Настоящее преступление отличается от других тем, что делалось заправилами банка совершенно открыто, с сознанием своей силы. Перечислив подробно все прошедшие перед судом злоупотребления в «Россиянине», обвинитель в окончательном выводе пришел к тому заключению, что это общество было фиктивно с начала до конца. Фиктивно было его основание, фиктивны и собрания. Общество завлекало под свою ажурную вывеску наивных людей, и в конце концов доверчивые кредиторы получили по 16 копеек за рубль.
— К вашему приговору, господа присяжные заседатели, прислушивается общество, — закончил товарищ прокурора.
Выступавший со стороны конкурсного управления присяжный поверенный Тиктин довольно образно изложил, как нарождаются подобные эфемерные общества. Все они возникают по одному шаблону — нужен лишь досужий человек, обладающий громадным аппетитом. Подыскивается директор с чином действительного статского советника, а также и другой с титулом князя, пишется устав, а затем дело «финансируется» через банк. Начинается соглашение с банком, и тут происходит то же, что бывает иногда при свадьбах: жених думает, что деньги есть у невесты, невеста ожидает найти их у жениха, а в результате — ни у кого и ничего нет. Гражданский истец знает, что получить с обвиняемых нечего, но он все-таки просит признать их виновность принципиально, чтобы хоть это осталось на память детям потерпевших.
В свою очередь просил признать виновность подсудимых и помощник присяжного поверенного Оппель. Он имел своей целью заявить, что деятели «Россиянина» ограбили беззащитную женщину. В лице госпожи Григорьевой, по его словам, к берегам «Россиянина» подплыла вдруг большая, ценная стерлядь из Волги. Как упустить такой лакомый кусочек?.. Думали, гадали директора общества и решили разделить его между собой. В результате в руках Семенова оказалось пароходство, а у владелицы имущества — ничего не стоящие акции. Бесспорно, Семенов знал, что та бумага, которой он платил за пароходство, не имеет никакой цены. Как только совершена была эта сделка, выгодная для него и гибельная для Григорьевой, он немедленно же поспешил уйти из «Россиянина», отряхнув прах от ног своих. Если Семенов и будет оправдан, то все-таки уйдет с несмываемым пятном общественного бесславия, так как он нагло обманул неопытную, не умеющую вести коммерческие дела женщину.
— Меняются времена, гибнут люди, но зло живет и чудодействует. Нужно энергично и постоянно бороться с ним, — закончил поверенный госпожи Григорьевой.
Интересную речь сказал также и гражданский истец Хлебников, лично выступавший на суде. Он охарактеризовал «Россиянина» как кредитного недоноска, отданного на воспитание в приют комиссионного банка, где, однако, кормилицы — в лице Слепушкина и Циона — оказались очень плохими. Деятельность «Россиянина» была окутана сетью лжи, обмана и фикции. Богатые, всем известные учредители украшали списки только своими именами, но не принимали никакого участия в делах. Все были учредителями, когда нужно было получать деньги, а когда требовалось отдавать — они оказывались частными лицами. В заключение гражданский истец не только не просил обвинения, а, напротив, ходатайствовал об оправдании Семенова и Пипера, так как они представляют собой только обломки корабля, а кто снарядил этот корабль, тех на суде нет. По словам господина Хлебникова, он пришел в суд только ради заявления протеста.
Из защитников первым начал говорить помощник присяжного поверенного Гольдштейн, горячо отстаивая память Н. П. де Росси. По его словам, де Росси был вовлечен в это печальное предприятие заманчивыми обещаниями. В его интересах было только расширение деятельности общества, что совершенно совпадало и с интересами банка, так как банк был одним из крупных акционеров. Для семьи покойного не важен гражданский иск, который предъявляется к подсудимым. Для нее безразлично — присудят ли с нее 10 000 000 рублей или 10 рублей, — она все равно не в состоянии заплатить. Для семьи важна только честь, доброе имя близкого ей умершего человека. Де Росси был фантазером, но не преступником; честный человек, оставшись на старости лет нищим, он взял место какого-то агента, у кого-то на побегушках, и даже из этих скудных средств он все-таки внес в общество хоть 100 рублей. Ему выпало на долю редкое несчастье: его судят после смерти. Теперь де Росси не имеет покоя даже в последнем месте упокоения.
— Вы — судьи совести, дайте же хоть детям его возможность принести хорошую весть на его могилу! — обратился защитник к присяжным заседателям.
Присяжный поверенный Нестор, защищавший А. С. Семенова, просил суд отрешиться от невыгодного для подсудимого впечатления, которое было навеяно рассказом свидетельницы Григорьевой о неудачной продаже пароходства. Произнеся речь в защиту подсудимого и отрицая его виновность в злоупотреблениях, он вместе с тем указал присяжным заседателям, что само по себе нарушение устава акционерного общества без корыстных целей уголовно не наказуемо, а может иметь лишь гражданскую ответственность.
Наконец третий защитник, присяжный поверенный Миронов (со стороны Пипера), обратил внимание присяжных заседателей на то, что они пришли судить живых и мертвых.
— Ваше положение, господа присяжные заседатели, исключительное… Нужны осторожность и правильный взгляд на дело, — говорил защитник.
Что можно увидеть из этого дела? А то, что когда-то состоятельный купец первой гильдии Семенов принужден был перейти во вторую гильдию, а над делами его учреждается администрация. Чем занимается теперь Пипер, который, кажется, мог бы рассчитывать на хорошую службу? Восемь лет состоит лишь под судом. Ни одного дня у него не было спокойного, без нравственных страданий. Между тем Пипер ровно никакого значения как член правления не имел и только добросовестно исполнял свои обязанности. Благодаря Пиперу страховое дело шло прекрасно и давало большие доходы, но они поглощались транспортными операциями, до которых он не касался. Коллеги его мало церемонились с ним и брали его подпись только по необходимости. Все сделки с госпожой Григорьевой прошли в правлении в то время, когда он был за границей, и теперь ему приходится отвечать за чужие грехи.
Защитник очень скептически отнесся к деятельности «Россиянина», с его опрометчиво поспешным открытием сразу 450 агентств, и видел во всем бестолковое ведение дела. Предприятие вели на авось, не задумываясь, и по выражению защитника:
Торговали — веселились,
Подсчитали — прослезились
Пипер, на свое несчастие, носил тогда звание члена правления. В настоящее время ему 62 года, он — старый и больной человек.
— Я не прошу у вас милости для него, нет! Будьте только справедливы… Он должен быть оправдан, — настаивал присяжный поверенный Миронов.
На разрешение присяжных заседателей было поставлено свыше 70 вопросов о том — доказаны ли злоупотребления в обществе «Россиянин» и виновны ли в них де Росси, Пипер и Семенов.
Резюме председательствующего Н. С. Карчевского, чрезвычайно содержательное по своему характеру, отличалось в то же время полнейшей объективностью. Он приглашал присяжных заседателей воздержаться от обобщения настоящего дела с аналогичными банковскими делами и в обсуждениях своих строго держаться определенных рамок, касающихся только данного дела. Не затрагивая дела по существу, он указал лишь, что стороны были на высоте своего положения и достаточно осветили дело со всех сторон. Что же касается разногласия экспертов, то председательствующий находил, что мнение их не обязательно; не нужно смотреть на экспертов, как на авгуров, и воспринимать все, что бы они ни сказали: ведь у каждого и без того есть своя голова, своя логика.
Удалившись в особую комнату, присяжные заседатели совещались около 4 часов. В результате, признав творившиеся в «Россиянине» злоупотребления доказанным фактом, они вынесли обвинительный вердикт де Росси и Семенову. Оба они были признаны совершившими преступление без предварительного соглашения и заслуживающими снисхождения.
Резолюцией санкт-петербургского окружного суда было объявлено действительного статского советника Н. П. де Росси из-за смерти наказанию не подвергать, а санкт-петербургского купца А. С. Семенова лишить всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и отдать в исправительные арестантские отделения на восемь месяцев.
Отставной надворный советник Э. Ф. Пипер был объявлен оправданным по суду.
Гражданский иск признан подлежащим удовлетворению посредством взыскания с имущества покойного де Росси и Семенова в следующих размерах: в пользу конкурсного управления несостоятельного должника общества «Россиянин» — 466 483 рубля, в пользу госпожи Григорьевой — 139 000 рублей, в пользу бывших акционеров В. Е. Хлебникова — 10 000 рублей и Н. В. Хлебникова — 5 000 рублей, с процентами со дня подачи исков.
ДЕЛО О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ
Весной 1892 года в Малмыжском уезде Вятской губернии неизвестными злоумышленниками было совершено ужасное преступление, жертвой которого сделался крестьянин Конон Матюнин. Последний, страдая падучей болезнью, занимался обыкновенно сбором милостыни и с этой целью странствовал по уезду. В последний раз его видели в селе Старый Мултан вечером 4 мая, а через два дня после этого он был найден убитым. Труп его лежал в трех верстах от села на пешеходной дороге и был страшно изуродован. Голова была отрезана по самые плечи, и ее нигде не оказалось. На нижней части живота имелись странные пятна, словно от укола, проникавшие через всю кожу до подкожной клетчатки. Кожа с поверхностными слоями мышц была отодрана спереди до ключицы и сзади между лопатками до пятого грудного позвонка, который, в свою очередь, был перерублен в верхней части. Пять левых ребер и четыре правых были отрублены почти у самого позвоночника, так что образовалось большое отверстие в грудной полости. В груди не оказалось легких, сердца и его оболочек, — очевидно, с умыслом вынутых. Пищевод, лимфатическая аорта и нижняя полая вена были перерезаны. Голова, по-видимому, была отделена от туловища острым ножом, а ребра вместе с позвонком рубились топором.
Несмотря на то что Матюнин отличался крепким, атлетическим телосложением, труп его оказался в высшей степени малокровным, и даже большие вены не содержали крови. На обеих голенях его виднелись довольно большие кровоподтеки.
Так как около трупа нигде не было найдено крови на земле, то становилось очевидным, что он был перенесен на дорогу уже спустя довольно продолжительное время после убийства. Вместе с тем нищенское положение Матюнина, не имевшего при себе никаких ценностей, на которые злой человек мог бы польститься, находившаяся на нем в целости одежда и, главным образом, самый способ убийства с обескровливанием трупа и вырезанием грудных внутренностей и головы невольно заставили многих думать, что это преступление было совершено с какой-нибудь религиозной целью. По собранным следственной властью сведениям оказалось, что в данном случае могло иметь место единственно принесение человека в жертву вотяцким языческим богам, для чего требовались и внутренности, и кровь жертвы. Опрошенные по этому поводу вотяки действительно не отрицали существования среди них наряду с христианством и остатков их прежних верований в языческих богов, из которых главными считаются Курбан, Антас и Чупкан. В честь богов этих в определенное время совершаются особые моленья, и на них обыкновенно приносятся в жертву живые животные — бараны, гуси. Жертвоприношение заключается в том, что у животного подрезывается горло, и кровь выпускается в особую чашку, а внутренности его сжигаются потом на костре. При этом голова животного составляет главную часть жертвы, и ее закапывают в землю на месте моленья.
Кроме мелких животных, в жертву Курбану, который считается главным богом и злым духом, приносится иногда — при засухе, неурожае и повальных болезнях — и крупный скот вроде быков. В исключительных же случаях для умилостивления Курбана вотяки, по рассказам некоторых лиц, не останавливаются и перед человеческой жертвой. Такая жертва намечается особым колдуном, с указанием ее подробных примет. Разыскав подходящего под приметы человека, вотяцкие жрецы заманивают его к себе и приносят в жертву. Чтобы получить кровь, жертву подвешивают к чему-нибудь и наносят ей небольшие уколы в разных частях тела. После же труп переносится в такое место, где его заметили бы люди и похоронили по христианскому обряду. При несоблюдении этого условия Курбан, по поверью вотяков, не примет жертву и замучает ее участников. Являлось предположение, что и Матюнин тоже стал жертвой и с той же целью был вывезен на дорогу.
Вотяки, однако, решительно отрицали существование у них ужасных человеческих жертвоприношений. Тем не менее находились люди, — в том числе даже один из православных священников, — которые с уверенностью подтверждали это. В результате и судебный следователь, и прокурор, собрав подробные данные по этому вопросу, пришли к убеждению, что несчастный Матюнин сделался жертвой религиозного изуверства. Благодаря различным обстоятельствам, подозрение в этом страшном преступлении пало на старомултанских вотяков Дмитрия Степанова, Андриана Александрова, Семена Иванова, Василия Кондратьева, Кузьму Самсонова, Василия Кузнецова, Андрея Григорьева, Александра Ефимова, Тимофея и Максима Гавриловых и Андриана Андреева. Все они, как выяснилось на следствии, хотя и принадлежали к христианскому вероисповеданию, но в то же время, по своему суеверию, не отказывались посещать и языческие моления у крестьянина Моисея Дмитриева. По словам одного из свидетелей, Андриан Андреев еще перед праздником Святой Пасхи говорил по-вотяцки своим знакомым, что он видел во сне бога, который потребовал «кык-пыдес ванданы куле», то есть резать двуногого. Другой свидетель утверждал, что утром 5 мая ему пришлось случайно встретиться с Моисеем Дмитриевым, который прятал что-то на повозке и боязливо осматривался. После по селу стали ходить слухи, что «Кузька резал, а Васька за ноги держал». Кузька же (Самсонов) был известен в Старом Мултане за лучшего мясника и одинаково хорошо владел как ножом, так и топором. Потом он стал жаловаться кому-то, что богатые вотяки подговорили его за деньги зарезать нищего, но ничего не заплатили. Повсюду в селе шли всевозможные толки, в которых трудно было разобраться. Между прочим, Моисей Дмитриев был заключен в малмыжский тюремный замок, где он вскоре умер. Особенным его расположением пользовался в тюрьме арестант Голова, который не преминул потом довести до сведения властей о том, что Дмитриев сознавался ему в убийстве нищего и указывал своих соучастников.
В общем, предварительное следствие до такой степени неблагоприятно сложилось для заподозренных вотяков, что все они были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в убийстве крестьянина Матюнина с целью принесения его в жертву вотяцким языческим богам.
Из них никто не признал себя виновным. Тем не менее два раза рассматривалось это дело в сарапульском окружном суде — и оба раза присяжные заседатели выносили обвинительный вердикт.
Правительствующий Сенат дважды кассировал приговоры суда по этому редкому в уголовных летописях делу.
Благодаря своему исключительному характеру, дело это вскоре же приковало к себе жгучее внимание всего образованного общества. В этом отношении огромную роль сыграл известный писатель-беллетрист В. Г. Короленко, очень чуткий к чужой беде. Ни перед чем не останавливаясь, он употребил чрезвычайные усилия, чтобы в провинциальной глуши, в отсутствие опытных стенографов, создать подробный отчет по мултанскому процессу. Такой отчет дал полную возможность всякому интеллигентному человеку беспристрастно судить об этом темном деле, еще более затемненном неумелым ведением следствия. Трудно было сомневаться в том, что при важных упущениях, которые были допущены в процессе вотяков и точно констатированы правительствующим Сенатом, могла быть ошибка со стороны обвинивших их присяжных заседателей. Предварительное следствие велось чрезвычайно медленно, месяцами, даже по таким наиболее существенным вопросам, как исследование трупа и осмотр местности, где он был найден. Сознание у подсудимых добывалось чисто архаическими способами, и одного из них какой-то не в меру усердный пристав заставлял даже присягать перед чучелом медведя. Волей-неволей, благодаря следственным упущениям, создалась целая легенда о страшных человеческих жертвоприношениях. И отвечать на эту легенду должны были некультурные, невежественные дикари, которые, не понимая ужаса тяготевшего над ними обвинения, по-детски бормотали что-то в свое оправдание.
Между тем среди самих судей, видимо, существовало предубеждение, навеянное печальной легендой, и защита была стеснена до последних пределов. Даже при вторичном рассмотрении дела, уже после авторитетного напоминания правительствующего Сената о необходимости сугубого внимания к этому делу, как имеющему огромное общественное значение, со стороны сарапульского окружного суда были допущены настолько резкие нарушения прав защиты, что правительствующий Сенат, отменив и второй приговор, сделал вместе с тем суду замечание.
Несомненные заслуги в этом деле В. Г. Короленко, помимо его произведений, снискали ему всеобщие симпатии лучшей части общества. Ему главным образом были обязаны подсудимые-вотяки своим спасением от суровой, грозившей им кары.
В третий раз мултанское дело слушалось в городе Мамадыше казанским окружным судом с 28 мая по 4 июня 1896 года.
Заседаниями руководил сам председатель суда И. Р. Завадский. Со стороны обвинительной власти выступали товарищи прокурора Симонов и Раевский. Защиту подсудимых приняли на себя присяжный поверенный Н. П. Карабчевский, М. И. Дрягин и П. М. Красников, а также В. Г. Короленко.
Кроме экспертов — медиков и этнографов, вызванных судом, на заседаниях присутствовали несколько профессоров и ученых, командированных русскими университетами и обществами. Среди лиц судебного ведомства на суде в качестве наблюдателя находился также и прокурор казанской судебной палаты.
Состав присяжных заседателей был почти вполне народный, состоял из десяти крестьян, одного мещанина и только одного дворянина.
Судебное следствие и на этот раз казалось неблагоприятным для обвиняемых вотяков.
Товарищ прокурора Симонов допускал возможность человеческих жертвоприношений среди вотяков и поддерживал обвинение. По его мнению, в России многое еще не обследовано и остается неизвестным.
Другой обвинитель — Раевский в ярких красках набросал картину убийства Матюнина и доказывал участие в этом преступлении всех подсудимых.
По странному стечению обстоятельств, в залу суда в это время через открытое окно залетел вдруг откуда-то голубь и невольно смутил обвинителя. Сделав один круг над головами удивленных судей и присяжных заседателей, голубь вскоре выпорхнул обратно из залы.
Выступив в защиту вотяков, В. Г. Короленко сказал прекрасную, убедительную речь, дышавшую искренностью и задушевностью.
Рассматривая этнографическую сторону процесса, уважаемый писатель доказывал, что в вотяцкой мифологии не существует ни Курбанов, ни Антасов и других языческих богов, о которых упоминалось в обвинительном акте. Тем более нет среди мирного вотяцкого племени ужасного обычая приносить человеческие жертвы; в своих религиозных верованиях оно совершенно чуждо изуверства и кровавых заблуждений.
Данное дело глубоко заинтересовало все образованное общество, но не общественное положение, не какие-либо личные качества подсудимых привлекли к нему всеобщее внимание. Нет! Имена этих темных по своему развитию людей как были раньше неизвестными, такими останутся и по окончании процесса. Интерес этого дела, породившего за короткое время обширную литературу и вызвавшего специальные исследования, имеет общерусское значение. Обвинительный приговор суда как бы официально подтверждает, что среди одного из многочисленных инородческих племен, жившего почти в центре культурной России и около двухсот лет тому назад обращенного в христианство, — что среди этого племени до сих пор практикуется страшный каннибализм с человеческими жертвоприношениями. Наука беспристрастно отнеслась к подобному предположению и решительно отвергла возводимое на вотяков ужасное обвинение. Остается лишь очередь за судом присяжных заседателей, который должен явиться гласом народа.
По мнению другого защитника, Н. П. Карабчевского, мултанское дело представляет для присяжных заседателей поистине героически ответственную задачу.
— Вашего приговора, господа присяжные заседатели, ждет нетерпеливо и жадно целая Россия, — начал защитник. — Из душной, тесной залы этого заседания он вырвется настоящим вестником правды, вестником разума. Обычная формула вашей присяги «приложить всю силу разумения» превращается, таким образом, в настоящий подвиг, в торжественный перед лицом всего русского общества обет напрячь все ваши духовные силы, отдать их без остатка на разрешение этого злополучного и темного дела.
Разбирая детально неосновательность обвинения против вотяков, основанного на оговорах и пустых слухах, Н. П. Карабчевский коснулся в своей блестящей речи всех замеченных им несообразностей этнографического характера. Все улики в этом деле, по его мнению, ничтожны и должны рассыпаться в прах при первом же прикосновении к ним. Защита вовсе не призвана ставить свою собственную гипотезу на место гипотезы обвинения — что это «дело вотяков», — но почему же не заметить, что при некоторых подходящих условиях была возможность «подделать» труп так, чтобы после вина падала на ни в чем не повинных вотяков.
Все неблагоприятные свидетельские показания защитник подверг искусному анализу и, освещая их с своей точки зрения, указал на полную их несостоятельность.
— Вы, как бесхитростные люди, — говорил присяжным заседателям Н. П. Карабчевский, — можете, однако, задаться вопросом: слухи, говор, молва — откуда все это? Пожалуй, нет дыма без огня и — добрая слава лежит, а худая бежит… Смею вас уверить, что молва и сплетня живут гораздо более сложной психической духовной жизнью, нежели это может показаться с первого взгляда. Тут одной народной мудрости мало. Вопрос ждет еще своего великого психолога и исследователя. Мне кажется, что до первоисточника молвы труднее докопаться, нежели до центра земли. Возьмем хотя бы следующий исторический пример. Знаете ли вы религию чище, гуманнее, возвышеннее в своих основах, нежели христианство? Нет! Допустите ли вы, христиане, чтобы вас можно было заподозрить в принесении человеческих жертв? Нет. Но вы были заподозрены в этом; вас жгли и мучили, и легенда о ваших тайных изуверствах коварно облетела весь языческий мир! Под руками у меня сочинение известного апологета, защитника христианства Тертулиана, писателя конца второго века, учителя святого Киприана, чтимого и нашей Церковью. Некогда язычник, он впоследствии страстно предался учению Христа и со всем пылом своего пламенного красноречия оборонял христианство от диких нападок язычества. В своей «Апологии христианства» он, между прочим, пишет следующее: «Говорят, что во время наших таинств умерщвляем дитя, съедаем его (это приписывали, в этом обвиняли чистых последователей Христа!) и после столь ужасного пиршества предаемся кровосмесительным удовольствиям, между тем как участвующие в пиршестве собаки опрокидывают подсвечники и, гася свечи, освобождают нас от всякого стыда…»
Можно ли себе представить «молву», «народный говор», идущий далее в своей чреватой гонениями и всякими бедами клевете?..
«Молва питается единственно ложью, молве не может верить умный человек, — заканчивает Тертулиан, — потому что он никогда не верит тому, что сомнительно». Вы, господа присяжные заседатели, также, надеюсь, не поверите подобной «молве».
Подобно вам, я вижу подсудимых в первый раз; как и вы, я не руковожусь иным побуждением, кроме страстного желания открыть истину в этом злополучном деле, и не во имя только этих несчастных, но и во имя достоинства и чести русского правосудия я прошу у вас для них оправдательного приговора, — закончил Н. П. Карабчевский.
Речи остальных защитников были непродолжительны, но также отличались страстностью и старались разрушить грозное обвинение.
Присяжные заседатели совещались около часа и признали всех подсудимых невиновными.
Оправдательный приговор был встречен с редким единодушием. Публика была растрогана, и многие плакали. Талантливым защитникам была устроена овация.
ДОМАШНЯЯ ДРАМА
Весной 1902 года в Петербурге в квартире дворянки Н. Д. Андреевской неожиданно произошел трагический случай. Поссорившись с мужем госпожи Андреевской, племянник ее, В. Богданов, выхватил из кармана револьвер и сделал в него пять выстрелов. К счастью, во время это «расстреливания» Богданов был в высшей степени взволнован и выпускал пули в своего противника, нисколько не целясь. Благодаря этому, из пяти пуль только одна попала в Андреевского и слегка ранила его в спину.
На следствии оказалось, что Богданов, 19-летний юноша, учился в университете и проживал у своей тетки. Последняя была уже в преклонном возрасте, но это тем не менее не помешало ей после смерти своего мужа вступить во второй брак с дворянином Андреевским. Новый муж ее оказался беспринципным человеком и, не стесняясь жить на ее средства, повел разгульную жизнь. Совершенно игнорируя жену, он грубо обращался с ней и особенно недолюбливал ее племянника-студента. Последний платил ему той же монетой и открыто восставал против его предосудительного поведения.
14 марта к госпоже Андреевской наведалась одна из ее знакомых. Сам Андреевский в это время был в нетрезвом состоянии и, придравшись за что-то к жене, стал осыпать и ее, и ее знакомую грубой бранью. Под конец издевательство его дошло до таких размеров, что обе женщины начали рыдать.
На шум вскоре вышел из своей комнаты и племянник.
Узнав, в чем дело, он в высшей степени возмутился.
— Пора перестать вам выносить вечные оскорбления Андреевского… надо жаловаться мировому судье, — сказал он тетке
Рассвирепевший Андреевский заодно уже набросился с бранью и на студента.
В результате произошел крупный скандал, и, потеряв самообладание, племянник стал палить из револьвера в мужа своей тетки…
Зимой 1903 года В. Богданов предстал перед присяжными заседателями по обвинению в покушении на убийство.
— Признаете ли вы себя виновным? — задал ему председательствующий обычный вопрос.
— Да, я виновен, но только не могу с уверенностью сказать — желал ли я убить Андреевского, когда стрелял в него… утверждаю только одно, что я действительно был выведен из себя его поведением, — ответил подсудимый.
Среди других свидетелей в суд был вызван и сам потерпевший. Человек неопределенных лет, с вульгарной внешностью, он не производил особенно благоприятного впечатления. По его развязному объяснению, он женился только потому, что «старушка была богата, а ей было скучно». Браком этим, очевидно, возмущался ее племянник, который с первых же дней свадьбы стал во враждебные отношения к Андреевскому.
— Я очень желал сойтись с Богдановым, но не мог этого достигнуть: он меня невзлюбил, — откровенно признавался потерпевший.
По свидетельским показаниям, Андреевский часто кутил и вообще вел беспорядочную жизнь.
— Да, я люблю кутить, — не отрицал и он, — я много пью, но, может быть, это наследственное: мой отец тоже много пил и кутил… он имел двадцать тысяч десятин земли и все прожил.
Свидетели, в общем, дали далеко не лестную характеристику Андреевскому. Жена его при первом муже жила обыкновенно мирно и спокойно; когда же вышла вторично замуж, то в доме ее поднялся невообразимый кавардак.
— К Андреевским даже знакомые перестали заходить, — говорил один из свидетелей. — У них были вечные ссоры, скандалы и пьянство…
Чересчур вольное поведение Андреевского выводило иногда из терпения и его жену. Дворнику ее однажды пришлось быть очевидцем оригинальной сцены: поздно вечером Андреевский вернулся откуда-то со своей женой домой; супруг был навеселе и с чувством пел романс «Я обожаю», а супруга, ничем не смущаясь, била его в это время по щекам.
В качестве эксперта на суд был приглашен известный оружейник Лежен, который пришел к заключению, что отобранный у подсудимого револьвер — почти игрушечного типа и представляет опасность лишь при самых исключительных обстоятельствах.
По окончании судебного следствия товарищ прокурора Попов выступил с обвинительной речью против подсудимого. По мнению обвинителя, в данном деле можно принять во внимание и вспыльчивость молодой натуры, и возмущение предосудительными поступками потерпевшего, но лишь при том условии, если бы последовал только один выстрел. Богданов же, однако, выпустив пулю, не образумился и спустил курок во второй раз, в третий… Поэтому нельзя сказать ему: «Нет, не виновен», — он все-таки должен понести ответственность за покушение на убийство по несчастному стечению обстоятельств.
В свою очередь присяжный поверенный Захарьин, выступавший со стороны потерпевшего по иску в 45 рублей за его простреленный пиджак, старался реабилитировать честь Андреевского от неосновательного, по его мнению, обвинения в пьянстве и предосудительных поступках.
Защитник подсудимого присяжный поверенный Марголин произнес прекрасную, захватывающую по своему содержанию речь. Блестяще владея словом, с живыми, образными сравнениями, он подробно анализировал все то, что было сказано товарищем прокурора и его невольным помощником — гражданским истцом. Доказывая невозможность убийства из почти игрушечного, по словам экспертизы, револьвера, защитник вместе с тем обратил внимание присяжных заседателей на отсутствие в судебном следствии точных указаний на рану потерпевшего.
В заключение своей речи присяжный поверенный Марголин меткими штрихами набросал параллельные характеристики подсудимого и его «жертвы». Кто из них заслуживает больше симпатий — должны были решить сами присяжные заседатели.
После краткого совещания присяжные заседатели вынесли В. Богданову оправдательный вердикт.
ДЕЛО ДВОРЯНСКОЙ ОПЕКИ
Осенью 1901 года в санкт-петербургской судебной палате было рассмотрено редкое дело о расхищении дворянских опекунских сумм.
В 1897 году должность председателя санкт-петербургской дворянской опеки временно исполнял князь А. Д. Львов. 18 июля к нему возвратился вдруг казначей опеки Теофил Пржиленцкий и стал настоятельно просить четырехдневный отпуск. Ничего не подозревая, князь удовлетворил его просьбу, и казначей перестал являться на службу. Прошло более четырех дней, и о Пржиленцком не было ни слуху ни духу.
30 июля стало наконец известно, что казначей скрылся из Петербурга, захватив с собою и ключи от опекунской кассы. Ввиду этого, по распоряжению присутствия опеки, ее денежный шкаф был вскрыт, и в нем, по проверке ценностей, не оказалось 18 282 рублей наличными деньгами и на 127 980 рублей процентных бумаг. Очевидно было, что недобросовестный казначей, забрав опекунские суммы, поспешил скрыться с ними за границу. Против Пржиленцкого было возбуждено уголовное преследование, но место пребывания его, несмотря на тщательные розыски, не удалось открыть, и следствие пришлось приостановить.
Санкт-петербургский губернатор граф С. А. Толь немедленно же поручил вице-губернатору генерал-майору Н. А. Косачу обревизовать делопроизводство опеки и выяснить порядок хранения в ней денежных сумм. После этой ревизии губернское правление признало, что члены дворянской опеки граф Кронгельм, надворный советник Ф. А. Леве и коллежский асессор А. К. Бодиско являются виновными в неисполнении циркулярного предложения губернатора о хранении опекунских капиталов, в недостаточном наблюдении за казначеем относительно исполнения им предписания опеки о взносе денег в Государственный банк и в малом надзоре за кассой опеки, благодаря чему отчетные журналы представлялись казначеем в присутствие опеки без всяких оправдательных документов. Помимо того, граф Кронгельм, будучи заведующим казначейской частью опеки, не присутствовал при вскрытии и вкладывании в кассу опекунских сумм и, по закрытии кассы, не опечатывал ее. Передавая казначею процентные бумаги для каких-либо операций, граф обыкновенно не наблюдал за действиями казначея и не следил за своевременной передачей ему процентных бумаг, подлежавших отсылке в Государственный банк, упуская в то же время из виду прием и запись в казначейских книгах поступавших с почты ценностей.
Основываясь на этих данных, повлекших за собой расхищение более 146 000 рублей опекунских денег, губернское правление нашло, что ответственность за все это должна всецело падать на бывшего санкт-петербургского уездного предводителя дворянства генерал-майора Г. Н. Елисеева как председателя дворянской опеки, на временно исправлявшего его должность князя А. Д. Львова и на членов опеки графа Кронгельма, Леве и Бодиско. Ввиду этого все они были привлечены к уголовной ответственности.
На предварительном следствии обнаружилось невозможно халатное ведение дел дворянской опеки. Бухгалтерские и другие книги составлялись неисправно, в реестрах попадались недомолвки и пробелы, а алфавитный указатель, никем не скрепленный и совершенно растрепанный, не заключал в себе перечня всех опек. Мало того, в бухгалтерских книгах встречались такие пропуски, благодаря которым решительно нельзя было определить с точностью ни имущества, ни денежных сумм дворянской опеки.
Опекунская касса находилась в самой казначейской комнате и отпиралась обыкновенно или казначеем, или же его помощником, смотря по тому, кто раньше приходил на службу. Сколько хранилось в ней денежных сумм — этого никогда нельзя было точно установить, так как кладовых записок ни у графа, ни у казначея не было, а делопроизводство велось крайне беспорядочно. Обыкновенно Теофил Пржиленцкий делал в опеке все, что хотел, и в денежных делах ее являлся полным хозяином.
Документы опекаемых лиц, их векселя и расписки, хранившиеся в шкафу, были найдены в страшном беспорядке.
Кладовой опеки казначей также бесконтрольно распоряжался и только один имел в нее доступ.
В то время как Пржиленцкий являлся фактическим хозяином дворянской опеки, деятельность ее членов носила чисто формальный характер и сводилась, главным образом, к приему посетителей. Контроля над служащими решительно никакого не было, и все делопроизводство шло по исстари заведенному, рутинному порядку. Только раз в месяц члены присутствия крайне поверхностно ревизовали кассу. О внезапной же ревизии никогда не было и помину.
Как князь Львов, так и члены опеки решительно отказались признать себя виновными в небрежности и упущениях по службе.
По словам князя, он вступил в отправление обязанностей председателя санкт-петербургской дворянской опеки лишь временно, по случаю отпуска генерал-майора Елисеева, и поэтому не считал себя вправе изменять установившегося в опеке делопроизводства, тем более что и сам Елисеев просил его не делать никаких нововведений. Убедившись после в несовершенстве делопроизводства и других недостатках опеки, он неоднократно указывал на, это ее членам, и даже счел необходимым доложить об этом санкт-петербургскому губернатору графу С. А. Толю.
В свою очередь граф Кронгельм объяснил, что он во всем следовал установившемуся в опеке порядку и считал прочность железной кассы и надзор за ней дежурившего чиновника и сторожа вполне обеспечивающими целость опекунских сумм. За казначеем же он следил по мере возможности и часто делал ему напоминания о чрезмерном накоплении в кассе капиталов.
Третий подсудимый, Ф. А. Леве, ссылался на то, что, заведуя секретарским столом опеки, не считал себя вправе вмешиваться в сферу деятельности других членов.
Наконец, А. К. Бодиско утверждал, что он обращал все свое внимание только на вверенную ему часть делопроизводства и в кругу своей деятельности не допускал никаких промедлений. Следить же за казначеем или графом Кронгельмом он не был обязан, да и не имел право на это.
Что же касается бывшего председателя опеки, генерал-майора Г. Н. Елисеева, умершего до суда, то на предварительном следствии он показал, что, уезжая 10 мая 1897 года в отпуск, он сдал князю Львову опекунскую кассу в полной сохранности.
Дело это слушалось по особому присутствию судебной палаты, под председательством члена палаты В. Э. Длотовского, и привлекло в залу заседания многочисленную публику.
Защитниками со стороны подсудимых выступали: присяжный поверенный Герард (за князя Львова, Мазараки, за графа Кронгельма) и помощник присяжного поверенного Грузенберг (за Леве и Бодиско).
Обвинение поддерживал товарищ прокурора Ф. К. Бом.
Из свидетельских показаний вырисовывалась далеко не приглядная картина делопроизводства в санкт-петербургской дворянской опеке вплоть до обнаружения грандиозного хищения Теофила Пржиленцкого.
Временно исправляющий обязанности санкт-петербургского губернатора вице-губернатор генерал-майор Н. А. Косач объяснил, что при ревизии он застал полный хаос в железной кассе опеки. Пользуясь непорядками опеки, казначей Пржиленцкий мог многое не записать в книги и задерживать внесение опекунских сумм в Государственный банк.
Относительно разрешенного казначею четырехдневного отпуска одна из свидетельниц говорила, что Пржиленцкий на ходу поймал князя Львова и стал просить его освободить на время от занятий, чтобы иметь возможность перебраться на другую квартиру. Ничего не подозревая дурного, князь из любезности согласился на его просьбу.
В судебном заседании в качестве гражданского истца выступала также вдова полковника О. Н. Шауман, внесшая в дворянскую опеку незадолго до побега казначея 20 000 рублей четырехпроцентной рентой на имя своего сына. Рента эта, как и другие процентные бумаги, также оказалась исчезнувшей.
После свидетельских показаний и экспертизы книг были опрошены сами обвиняемые.
Князь Львов оправдывался тем, что незадолго до отпуска казначея опеки он был очень озабочен устройством пожарной выставки. Всецело занятый этим делом, он быстро прошел по канцелярии опеки и встретил Теофила Пржиленцкого, обратившегося к нему с просьбой об отпуске. Так как препятствий к этому не предвиделось, то он и дал свое разрешение на четырехдневный отпуск.
По словам князя, вступив в исполнение обязанностей председателя дворянской опеки, он был совершенно не подготовлен к этой должности и принужден был постепенно знакомиться с порядками опеки. Однако когда он удивлялся чрезмерному накоплению капиталов в опеке, то члены ее находили это вполне нормальным явлением.
Граф Кронгельм, с своей стороны, объяснил, что при вступлении на службу в дворянскую опеку он застал в ее кассе до 400 000 рублей процентными бумагами и деньгами. Он неоднократно выражал по этому поводу удивление казначею Пржиленцкому, но тот отделывался только объяснениями, что не успевает своевременно сдавать процентные бумаги в Государственный банк.
Между прочим, князь Львов обратил особое внимание на переполнение опекунской кассы и при ревизии 1 июля 1897 года, последней перед побегом казначея.
Когда вдова полковника О. Н. Шауман внесла в опеку 20 000 рублей в виде четырехпроцентной ренты, казначей стал задерживать взнос этой суммы на хранение в Государственный банк, находя ее «маленькой». В конце концов, чтобы не утруждать казначея, госпожа Шауман стала предлагать сама внести эту сумму в банк и представить в опеку расписку. Ей, однако, было отказано в этом под предлогом, что так не практикуется в дворянской опеке.
Остальные двое подсудимых подтвердили свои прежние объяснения, данные на предварительном следствии.
Присяжный поверенный Герард, выступавший со стороны князя А. Д. Львова, произнес в его защиту убедительную речь. Доказывая невиновность князя, прихотливой волей судьбы очутившегося на скамье подсудимых, защитник горячо настаивал на полном оправдании его.
Присяжный поверенный Мазаики и помощник присяжного поверенного Грузенберг доказывали в своих речах то обстоятельство, что закон в отношении подсудимых не определяет точно их обязанностей по опеке, и все они, в сущности, были в зависимости от дворянского общества. Общество же это в их действиях никаких упущений не усматривало, да упущений, собственно, и не было, расхищение опекунских сумм вовсе не являлось результатом их нерадения.
После продолжительного совещания санкт-петербургская судебная палата определила князя А. Д. Львова считать по суду оправданным, а графа Н. К. Кронгельма, надворного советника Ф. А. Леве и коллежского асессора А. К. Бодиско подвергнуть выговору с занесением его в послужной формулярный список.
Гражданский иск вдовы полковника О. Н. Шауман в размере 20 000 рублей удовлетворен полностью, 'с распределением его на всех трех осужденных. Так же поровну были возложены на них и судебные издержки.
Правительствующий Сенат, куда перешло затем это дело, определил в иске вдовы Шауман к бывшим членам опеки отказать, а графу Кронгельму объявить выговор без занесения его в послужной формулярный список.


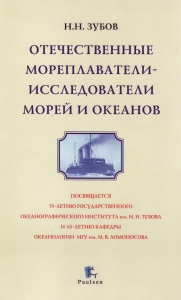





Комментарии к книге «Преступный мир и его защитники», Н. В. Никитин
Всего 0 комментариев