Александр Валентинович Амфитеатров Десятилетняя годовщина (2. VI. 1904 —2. VI. 1914) Антон Чехов и А. С. Суворин Ответные мысли
В течение 1913 года я получал очень много писем, предлагавших мне высказаться печатно о взаимных отношениях А. С. Суворина с А. П. Чеховым. В последнее время количество таких писем значительно увеличилось. Тон некоторых из них звучит уже не предложением, а требованием, а в двух я прочел дословно, что будет нехорошо, если я не напишу о Чехове и Суворине.
Берусь за эту задачу с величайшею неохотою. Вопрос об отношениях таких больших людей, как А. С. Суворин и А. П. Чехов, и их взаимовлиянии есть вопрос исторический. А исторические вопросы должны исторически же решаться. А для исторического разрешения этого исторического вопроса мы, современники обоих писателей, имеем еще слишком мало фактических данных, критически проверенного материала, потому решительно все, что сейчас пишется о Суворине и Чехове, не выходит за пределы априорного импрессионизма. И естественное дело: там, где еще не произведен строгий, опытный анализ, можно ли ждать дельного синтеза?
Я, равным образом, не обещаю к освещению этих отношений ничего, кроме личных впечатлений, которые, быть может, имеют перед некоторыми другими лишь два преимущества. Являются: 1) впечатлениями человека, знавшего и любившего обоих писателей;.2) впечатлениями, потерявшими всякую страстность и личный интерес, за давностью, отделившую меня от обоих писателей. С А. С. Сувориным я расстался 15 лет назад. За этот промежуток виделся с ним только однажды, в 1904 году – свиданием, очень любопытным и важным для личной характеристики А. С., но не имевшим никакого отношения к его общественной роли. Я не считаю себя вправе оглашать этот ночной разговор. Скажу лишь кратко, что весь он был посвящен семейному делу, волновавшему тогда А. С. Суворина: раздорам между ним и старшим его сыном Алексеем Алексеевичем, основателем «Руси». Нахожу должным прибавить, что в разговоре этом Алексеем Сергеевичем не было сказано ничего, что могло бы бросить дурную тень на Алексея Алексеевича и дурно характеризовать самого старика.
Итак, А. С. Суворин для меня – воспоминание пятнадцатилетней давности. Чехов уже десять лет лежит в гробу, и после 1898 года я, кажется, уже его не встречал, хотя именно в этот период между нами окрепли очень хорошие отношения по письмам. О Чехове я так много писал, что мне нечего распространяться о том, как глубоко я люблю и уважаю этого великого и мудрого писателя. Для меня Чехов – самая святая из святынь русской литературы, непосредственно примыкающая к Пушкину и Лермонтову, любимая, как Салтыков, стоящая рядом с Достоевским и Толстым, и, для нашего поколения, во многом выразительнейшая и нужнейшая даже обоих последних. Прибавлю к этому, как человек, знавший Чехова, то вблизи, то издали, почти четверть века, – что громадный талант и тончайший ум совмещались в нем с великою душою, беспредельною сердечностью без фраз и громких слов, с твердым и ясным характером, красота которого будет раскрываться с годами все в новых и в новых светах. Потому что при жизни истинный Чехов был спрятан от громадного большинства своих поклонников (не говорю уже о врагах!) за тою, знающею себе цену, скромностью мудрого наблюдателя-молчальника, которая создавала ему среди близоруких людей репутацию человека замкнутого, скрытного, гордого, даже сухого. Заглянув в нее, и не заметишь, как напишешь целую статью. А я уже достаточно рассказывал о том в своих «Славных мертвецах».
Вот почему мне всегда почти оскорбительно читать те статьи, те vies imaginaires, которых неловкое доброжелательство (опять-таки, не говорю уже о явном или скрытом доброжелательство) старается раздробить поразительную цельность личности Чехова искусственным делением его биографии на три периода, будто бы резко различные между собою: Антоша Чехонте, суворинский Чехов, Чехов либеральных дружб и московского Художественного театра. Неправда это. Не было трех Чеховых. Был он один, всегда все тот же, цельный, прямой, ясный, с первых резвых рассказов в «Будильнике» и «Осколках» до стука лопахинского топора в «Вишневом саде»… Ах, уничтожая сад дворян Гаевых, вырубил в нем роковой топор и семь досок на гроб Антону Павловичу! Сегодня его венчали лаврами, три месяца спустя лаврами забрасывали уже его могилу.
Непрерывную логичность, стройную последовательность, глубокую внутреннюю связь всей мысли и всей жизни Антона Чехова я готов отстаивать с полным собранием его сочинений в руках. Думаю, что печатаемое ныне, том за томом, собрание его писем, которого я еще не видел, дало бы мне только новый богатый материал к этому доказательству. А думать так позволяют мне прежние сборники чеховских писем, изученные мною недурно. И вот, повторяю, потому-то особенно неприятно, даже до противности, бывает, когда этого, кругом самостоятельного, сплошь естественного, последовательного, логического и с большою волею человека обращают, ни с того ни с сего, в какую-то пассивную куклу, которой поступки, мысли и писания зависели будто бы от того, с кем он в тот или другой «период» своей жизни и творчества был знаком и близок. Чехов был человек, да еще и какой, а вовсе не кукла, которою сегодня играет Суворин, завтра – Гольцев, послезавтра – Художественный театр, и т. д. И в этом кукольном переряживании, которым так часто хотят облечь Чехова, кроме унизительной для последнего фальши есть и еще одна нехорошая черта. Человеком человека ударить мудрено – разве уж ты уродился Ильей Муромцем:
А и крепок татарин – не ломится, А и жиловат, собака, – не изорвется!Но куклою человека ударить очень легко и можно. И вот, как скоро Чехова обращают из человека в куклу, то и начинают – весьма неглиже с отвагой – им помахивать по тем физиономиям, в коих форма носов не по вкусу тому или иному пишущему имя-реку. По-моему, и неумная, и ложная, и дурная это система. Так нельзя.
Фальшивость подобных опытов обнаруживается с особенною наглядностью, когда Чеховым стараются бить по Суворину. Большая ненависть к последнему наводит многих на тенденцию рассматривать «суворинский период» Чехова как темное пятно в жизни и творчестве Антона Павловича. Суворина при этом изображают каким-то демоном-отравителем, который губил и вовсе погубил бы чеховский талант, если бы его не спасла либеральная Москва.
Чехов очень хорошо сделал, что сошелся с либеральною Москвою. Да и не мог он с нею, в конце концов, не сойтись. Это сближение было совсем не случайным и внезапным, но естественным, логическим, непременным. Но я прямо и категорически утверждаю, что для того, чтобы либеральная Москва приняла Чехова в свои объятья, ему не пришлось ни на йоту изменить прежнему себе. Либеральная Москва приняла его совершенно тем же, каков он был у Суворина. И-в позднем покаянии, что в 80-х годах прозевала, в обычных предубеждениях, огромный талант – поклонилась она Чехову, а не Чехов ей.
Существовала в последние годы и еще существует тенденция умалять значение Суворина в жизни Чехова и развитии его таланта. Эта тенденция, питаемая чисто политическими мотивами, писателем-реалистом принята быть не может. Это – выдуманное. Беспристрастный, объективный исследователь это отвергнет. Сквозь какую призму ни глядеть на роль Суворина в жизни Чехова – она прекрасна.
Совсем нет надобности ее преувеличивать, уверяя, будто Суворин создал Чехова. Это такая же неправда, как та, что Суворин Чехова погубил. Создавать Чеховых путем редакторского и издательского доброжелательства нельзя. Для того, чтобы вырос орел, нужен орленок, а раз есть орленок, то он и в индюшатнике вырастет в орла. Нет никакого сомнения, что и без Суворина Чехов вырос бы в громадную литературную величину. Но нет также никакого сомнения, что Суворин, быстро угадав в Чехове орленка, преклонился перед ним со всем восторгом, на какой только способен был этот литературный энтузиаст. И с того дня с дороги Чехова могучая и властная рука убирала едва ли не все колючие шипы, обычно ранящие ноги молодых писателей. И орленок рос по-орлиному, а не по-индюшечьи, в такой свободе и холе, как вряд ли удавалось кому-либо еще из сверстников Чехова… Не о материальных только условиях говорю, хотя и о них забывать не следует, а, прежде всего, именно о моральных. Когда спорят о том, кто «открыл» Чехова, и стараются перебить эту честь у Суворина именами Григоровича и Плещеева – мне смешно. Потому что уж если полную-то правду говорить, то никто из трех названных не открыл Чехова. Эта Америка была открыта много раньше. А. Д. Курепин, роль которого в начале чеховской карьеры еще слишком мало освещена и оценена, и Н. А. Лейкин, широчайше открывший ему свой журнал для практики маленького рассказа, в которой Антон Павлович выработал свою сжатую технику, сыграли, как литературные крестные отцы Чехова, роль, уж никак не меньшую, чем Григорович и Плещеев. В особенности преувеличивается роль Григоровича.
Дело совсем не в том, кто именно, ознакомившись с рассказами Антоши Чехонте, крикнул о нем в уши Суворину: «Талант!» Подумаешь, мало подобных аттестаций о других слышал Суворин даже и от того же Григоровича, и от людей, которым он верил побольше, чем Григоровичу. А в том дело, что Суворин, проверив коснувшийся его слуха отзыв, сразу уверовал в Чехова. Понял в нем великую надежду русской литературы, возлюбил его с страстностью превыше родственной и сделал все, что мог, для того, чтобы молодое дарование Чехова росло, цвело и давало зрелый плод в условиях спокойствия и независимости – шло бы, в полном смысле слова, своим путем. Влюбленный в Чехова. Суворин не требовал от Антона Павловича никаких компромиссов с «Новым Временем». Зато почти десять лет оберегал его дарование от компромиссов подчинения какому бы то ни было литературному лагерю – компромиссов, неизбежных для художественного таланта в тяжелых условиях восьмидесятых девяностых годов и положивших свою печать на все без исключения тогда возникшие силы. Суворин бросил под ноги Чехову мостки, по которым молодой писатель перешел зыбкую трясину своих ученических лет, не нуждаясь для опоры ног ни в кочке справа, ни в кочке слева. И когда настало Антону Павловичу время выбрать свой общественно-литературный лагерь, он занял в этом лагере место, уже как сила авторитетная и власть имеющая, а не служкою на испытании. В печальных мытарствах подобных испытаний увяли дарования многих и многих, коих экзаменовали: «Како веруеши?» – до тех пор, пока свежие таланты не отцвели без расцвета, довременно впав в «собачью старость». А когда вспомнишь, кто иногда эти экзамены производил, да потом вдруг видишь, что экзаменуемых-то скушали, и экзаменаторы-то потом преспокойно пошли, во благовремении, на службу в чиновники особых поручений при Тертии Филиппове, Победоносцеве и Плеве и в директора лицеев при Шварце и Кассо, то делается очень нехорошо на душе… Суворин спас Чехова и от опасности истрепаться в безразличной мелкой работе, и от насильственной дрессировки своего таланта по трафарету тогдашних передовых толстожурнальных программ, и от озлобления экзаменующею диктатурою, создававшего нарочных реакционеров и притворных индифферентистов, которыми так богаты были именно девяностые годы. Он избавил его и от участи. Потапенка – налево, и от участи Кигна – направо. Дал ему вырасти внепартийным и независимым.
Те, кто говорят, будто Чехов суворинского периода чем-то разнился от Чехова «Русской Мысли», забывают, что почти одновременно Чехов печатал у Суворина столь русскомысльскую (если возможно подобное слово) повесть, как «Дуэль», а в «Русской Мысли» столь нововременскую (конечно, не в нынешнем, а в тогдашнем смысле), до безжалостности скептическую в отношении к главному общественному идеалу той эпохи, как «Записки неизвестного человека». И кто же не помнит, какою бурею в народническом лагере отозвались «Мужики» Антона Чехова? И, обратно, кто же не помнит, с какою злостью огрызалось иной раз на Чехова «Новое Время», еще когда он печатался в газете? Нет, не было ни Чехова суворинского, ни Чехова либеральной Москвы, а был только Чехов сам по себе, перед которым Суворин благоговел с первого его серьезного выступления в литературе, а либеральная Москва пришла к тому же благоговению десять лет спустя, при условиях нисколько не изменившихся. И в той заслуге, что гений Чехова мог спокойно развиться в такую победную самостоятельность, Суворину, конечно, принадлежит громадная часть, которая и останется незабвенной в истории русской литературы. И напрасно стараются ее умалить те, не столько критики, сколько политики, которым очень хотелось бы приобрести Чехова, но вычеркнуть из его жизни Суворина. Это все равно, что вычеркнуть из Чехова и «Сумерки», и «Хмурых людей», и «Дуэль», и «Иванова», не говоря уже об оставшемся позади Антоше Чехонте.
Не видав Алексея Сергеевича Суворина пятнадцать лет, не могу судить, каков он был в глубокой старости. Но, знав его с 1894 по 1899 год, я смею утверждать, что ни прежде, ни после не встречал редактора-издателя, который бы так уважал в сотруднике звание литератора, почтительно относился к его индивидуальности, берег каждое дарование, казавшееся ему симпатичным и кое-что обещающим. Вопрос даровитости для него решал все. Талант заслонял человека. Так, например, глубокий демократ по натуре, он недолюбливал в Сигме молодого бюрократа с аристократическими замашками, но признавал его талантливым, и это слово решало отношения. Я не застал в «Новом Времени» Жителя, но не только от других, а и от самого Алексея Сергеевича слыхал неоднократно, что это был человек крайне тяжелый: болезненно подозрительный, мучительно ссорливый, едва ли не одержимый каким-то психозом и иногда просто едва выносимый. Но Житель был талантлив и, стало быть, с Сувориным – квиты.
Из этих примеров суворинского культа талантливых людей ясно, что когда Суворину выпало на долю счастье встретить талант не в отрицательной форме какого-нибудь полубезумного Жителя, но свежим, чистым, благоуханным цветком незапятнанного чеховского дарования, старик должен был влюбиться в свою находку безгранично. Так оно и было. Недавно где-то в газете мелькнули мне слова о разрыве Чехова с Сувориным; Когда произошел этот разрыв, если был он вообще, – я не знаю. Во всяком случае, не в 90-х годах, так как в 1897 году Чехов, приезжая в Петроград, останавливался у Суворина не только в его доме, но даже в его квартире. Он был окружен в этот приезд таким благоговейным вниманием, что один старый литератор, несколько злоязычный, на вопрос мой, будет ли он на очередном суворинском четверге, преязвительно ответил:
– Право, не знаю-с, меня Антон Павлович не приглашал.
Суворин не выносил, чтобы о Чехове говорили дурно. Ом ревниво относился к критическим отзывам о Чехове, страдал, когда не нравилась какая-нибудь чеховская вещь. Скажу о себе самом. Я как-то долго не мог войти во вкус «Дуэли». И вот, однажды в Москве, в пору коронации 1896 года, мы двое, Алексей Сергеевич и я, оба влюбленные в Чехова, буквально переругались из-за «Дуэли». Я находил ее ниже чеховского таланта, а Суворин вопил, что Чехов ниже своего таланта ничего написать не может. Даже и сейчас смешно вспомнить, как мы, начав эту бурю в номере гостиницы «Дрезден», продолжали ее по лестнице, сели с нею на извозчика; к Триумфальным воротам оба истощили все свои слова, а затем уже ехали безмолвным двуглавым орлом, глядя в разные стороны до самой «Мавритании», и только за обедом, без слов, помирились. Ужасно я любил в таких случаях старика Суворина. Да и вообще я очень любил его и рад думать, что он, кажется, тоже питал ко мне хорошие чувства.
На почве того благоговения, которым в душе Суворина были окружены имя и образ Чехова, решительно не могли расти какие-либо погубительные для последнего отравы, о которых в последнее время пошли намеки и экивоки. Мне могут возразить, что ведь любовью можно заласкать и отравить хуже, чем злобою. Да, только не такой любовью, как была суворинская к Чехову, и не такого человека, как Чехов.
Вот теперь мы подходим к вопросу: влиял ли Суворин на Чехова?
Литературно влиял безусловно и не мог не влиять, как талантливый и широкообразованный старый писатель и одаренный превосходной справочною памятью, неутомимый разговорщик на литературные темы. Как тонкий ценитель художественного творчества, поразительно чуткий к образному слову. Как знаток русского языка и блестящий стилист. Это влияние я не только допускаю, но и знаю, что оно было. Чехов сам говорил мне, что двум воронежцам, Курепину и Суворину, он обязан окончательною очисткою своего языка от южных провинциализмов.
Что касается до влияния Суворина на общественные взгляды и вообще формировку мышления Антона Чехова – это влияние представляется мне не более вероятным, чем если бы кто сказал мне, что статуя была изваяна из мрамора восковой свечой. Очень широкое добродушие А. П. Чехова и снисходительность его к людям, неверно понятые и окрашенные иными чувствительными мемуаристами, придали, во многих воспоминаниях, образу его какую-то напрасную и никогда не бывалую в нем мармеладность. Точно этот поэт безвольного времени и безвольных людей и сам был безвольным человеком. Отнюдь нет. Чехов был человек в высшей степени сознательный, отчетливый, чутко ощущавший себя и других, осторожный, многодум и долгодум, способный годами носить свою идею молча, пока она не вызреет, вглядчивый в каждую встречность и поперечность, сдержанный, последовательный и менее всего податливый на подчинение чужому влиянию. Я не думаю даже, чтобы на Чехова можно было вообще влиять, в точном смысле этого слова, то есть внушить ему и сделать для него повелительной мысль, которая была чужда или антипатична его собственному уму. Чтобы чужая мысль могла быть принята, одобрена и усвоена Чеховым, она должна была совпасть с настроением и работою его собственной мысли. А работа эта шла постоянно, непрерывно и… таинственно. Кому из работавших с Чеховым неизвестно, что он иногда на прямо обращенные к нему вопросы и недоумения отвечал странным, ничего не говорящим взглядом либо еще более странными, шуточными словами? Кому, наоборот, не случалось слыхать от него произносимые среди разговора внезапные загадочные слова, которые повергали собеседника в недоумение: что такое? с какой стати? – а Чехова вгоняли в краску и конфуз. Это – разрешалась вслух, в оторвавшейся от окружающего мира сосредоточенности, долгая и упорная, безмолвная внутренняя работа писательской мысли над вопросом, когда-нибудь не нашедшим себе ответа, над образом, не нашедшим себе воплощения. Я сам был свидетелем подобных чеховских экспромтов, но особенно богаты ими воспоминания актеров московского Художественного театра. Типический аналитик-материалист, «сын Базарова», неутомимый атомистический поверщик жизни, враг всякой априорности и приятия идей на веру, Антон Павлович, я думаю, и таблицу умножения принял с предварительным переисследованием, а не на честное слово Пифагора и Евтушевского. Влиять на этот здравый, твердый, строго логический и потому удивительно прозорливый ум была задача мудреная. Правду сказать, вспоминая людей, о которых говорят, будто они влияли на Чехова, я ни одного их них не решусь признать на то способным. То, что имело вид влияния, очень часто было просто своеобразным «непротивлением злу», то есть какому-нибудь дружескому насилию, которому Антон Павлович зримо подчинялся по бесконечной своей деликатности. А иногда и по той, слегка презрительной, лени и равнодушию к внешним проявлениям и условностям житейских отношений, что развивались и росли в нем по мере того, как заедал его роковой недуг. Оседлать Чехова навязчивой внешней дружбой, пожалуй, еще было можно, хотя, сдается мне, и то было нелегко. Подавлять же и вести на своей узде творческую мысль Чехова вряд ли удавалось кому-нибудь с тех пор, как в Таганроге он впервые произнес «папа» и «мама», до тех пор, когда в Баденвейлере прошептал он холодеющими устами немецкое «ich sterbe».
Менее всего мог влиять на склад и направление мыслей Чехова А. С. Суворин. Если бы мне сказали наоборот: Чехов на Суворина, – я понял бы. Даже думаю, что это и бывало не раз. В «Маленьких письмах» Суворина, иногда так сверкающе великолепных, по всей вероятности, найдутся при тщательном их исследовании отблески чеховского света. Но чтобы Чехов подчинял свое общественное наблюдение и мысль суворинскому влиянию, я считаю столь же невероятным, как… Ну, я не знаю, кто сейчас в России самый знаменитый анатом! Павлов, что ли? Как вот ему – сочинить учебник анатомии под влиянием какого-нибудь блестящего художника-импрессиониста. Чехов как социальный мыслитель не мог быть под влиянием Суворина совсем не потому, чтобы между ним, врачом-восьмидесятником, слегка либеральным москвичом-скептиком эпохи, разочарованной и в революции, и в реакции, и в консерваторах, и в либералах, и А. С. Сувориным, главою тогдашнего «Нового Времени», с его политически приспособляющимся индифферентизмом, лежала в восьмидесятых и девяностых годах уж такая непроходимая пропасть. С Сувориным в то время отлично ладили люди гораздо более левые, чем Чехов. А с последним сблизиться ему было тем легче, что их роднил общий и совершенно однородный демократизм типических писателей-разночинцев. Я познакомился с Сувориным лет на семь позже, чем Чехов, уже близко к половине девяностых годов, когда газета его уже стремилась в правительственный фарватер и уже раздавался националистический девиз «Россия для русских», и вся сотрудническая молодежь в «Новом Времени», с А. А. Сувориным во главе, состояла из «государственников». Однако я живо помню, как иной раз-и далеко не редко – в старике, среди разговора, вспыхивал вдруг ярким огнем радикал-шестидесятник, и летели с его уст словечки и фразы не то что «либеральные», а, пожалуй, и анархические. Что он в душе был гораздо либеральнее многих молодых тогдашних «государственников», вышедших из развращающей школы гр. Д. А. Толстого – я нисколько в том не сомневаюсь. Да и имел тому неоднократные доказательства. И когда кто-нибудь из нас уж очень зарывался, старик осаживал: так нельзя. Это сердило, казалось непоследовательностью, даже неискренностью…
А в действительности старик – вечная жертва внутреннего раздвоения – просто жалел нас, молодых, рьяных и прямолинейных, опытным умом старого журналиста, памятовавшего из собственного прошлого, как часто литературное утро не отвечает за литературный вечер.
– Я напечатаю вашу статью, потому что она ярка, – сказал он мне однажды, – но когда-нибудь вы пожалеете, что ее напечатали.
А в другой раз он выставил мою статью уже из готовой полосы, и, когда я пришел «ругаться», Суворин возразил мне с большим чувством:
– Вы лучше поблагодарите меня, что я не позволил вам сломать себе шею.
И в обоих случаях он был прав. И наоборот, именно он отстоял мои «примирительные» корреспонденции из Польши в 1896 году, с которых начался мой первый разлад с «Новым Временем». Вообще, это оптический обман – сваливать на старика Суворина всю ответственность за реакционные струи в «Новом Времени» 90-х годов. Молодая редакция шла по пути государственно-охранительной идеи шагом и более последовательным в практике, и более повелительно формулированным в теории, чем нововременцы-старики.
Шестидесятная закваска, быть может, назло им самим делала их скептиками в идеях, которыми самонадеянно дышало поколение, воспитанное реакционными 80-ми годами. То, что молодой редакции казалось непременною программою, скептикам-индифферентам старой представлялось не более как пробным опытом: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. Это была и хорошая, и дурная сторона стариков. Хорошая потому, что препятствовала им доходить до абсурдов, до которых сгоряча, идя по прямой линии чисто умозрительной и при том априорной политики, договаривались сотрудники-восьмидесятники. Дурная потому, что поддерживала в них способность к импрессионистическим компромиссам, которые так удобно приспособляли каждую идею к обстоятельствам, что она не могла дойти ни до категорического торжества, ни до категорического крушения. Молодую редакцию «Нового Времени» государственнический культ привел, в порядке весьма быстрой эволюции, в идейный тупик, откуда не было никакого выхода. Здесь оставалось: либо признать разумность тупика и застрять в нем, последовательно принимая всю логику торжествующей реакции и участвуя в ней (Сигма, Энгельгардт), либо признать ошибочною уже исходную точку направления, которое тебя в этот тупик привело, и резко и решительно повернуть в сторону противоположную (Потапенко и я в 1899 году, А. А. Суворин с редакцией «Руси» в 1903). Старики, и во главе их сам А. С. Суворин, от подобных острых и тяжелых переломов были застрахованы именно своим скептическим импрессионизмом, поразительно отзывчивым и зыбким, и с широчайшею амплитудою. В ней преоригинально встречались и предобродушно уживались «увенчание здания» с анархизмом, религиозный идеализм с нигилизмом шестидесятых годов и воинствующий национализм с самым широким культурным космополитизмом. Трудно мне представить себе человека более русского, как в положительных, так и в отрицательных чертах характера, чем А. С. Суворин. А в то же время не много на своем веку встречал я и таких европейских людей, с его чисто западническим самообразованием, с любовью к западной культуре, к западным народам, западному искусству, с энтузиазмом к Франции, Италии.
И вот, например, эта черта чрезвычайно связала его с Чеховым, которого мы еще в «Будильнике» дразнили «западником Чехонте». Потому что, при совершенной своей тогдашней невинности по части иностранных языков, он – также из русских русский человек, настолько русский, что иностранцы его очень туго понимают – он, в то же время, умудрялся уже смолоду быть, в самом деле, типическим, насквозь западником в каждом произнесенном слове, в каждой написанной строке.
– «Вуй!» – крикнул западник Чехонте, – трунил над ним Курепин, описывая юбилей «Будильника», и уверял, будто «вуй» – единственное французское слово, которое нашему западнику известно… Шутка была преувеличена, но, конечно, мы все, питомцы гимназии семидесятых годов, очень дурно знали языки. А последние шестидесятники, как Курепин, весьма нас тем «пиявили».
Престранное это дело на Руси. Почти все типические, убежденные, ярые, с пеною у рта, можно сказать, ее азиаты – люди, чуть не с колыбели блистательно владеющие тремя-четырьмя западными языками, получившие, в полном смысле слова, европейское воспитание и даже иногда до старости лет предпочитающие русской речи французскую или английскую, потому что на родном языке они изъясняются не только с меньшим красноречием, но иногда даже не весьма бойко и правильно. А европеец русский, тоже почти всегда, достиг до практического и непосредственного знакомства с людьми, литературою и культурою Европы – хорошо еще, если в поздней юности, а то и в весьма зрелые годы. И почти никогда не говорит сколько-нибудь хорошо ни на одном языке, кроме родного. Кажется, этот контраст свойственен исключительно русскому обществу. По крайней мере, я не встречал его в других народах настолько типически выраженным на обе стороны. В таких, например, полярных представителях, как образованнейший, утонченнейший, начитаннейший барин-парижанин К. А. Скальковский – однако кругом азиат; и разночинец, в 26 лет принявшийся самообразованием чинить прорехи казенной школы и профессиональных университетских лет, далеко не блестяще воспитанный, совсем уж не утонченный и не так много читавший Антон Чехов – однако кругом европеец!..
Помню один разговор свой с А. С. Сувориным, когда он, недовольный моим упрямством по некоторому чисто частному вопросу, преподнес мне:
– Вы самодур, как все русские.
– Да уж будто все русские самодуры? – засмеялся я на его, столь типичную для него, гиперболу.
– Все! – закричал он, – все!.. Мы, от Петра Великого до последнего нищего не улице, все, все, все – самодуры, собственно говоря. И, пожалуйста, ангел мой, вы о себе иного не воображайте: и вы самодур, и я самодур, и Леля (А. А. Суворин) самодур… все!
– А Антон Павлович, – возразил я, подставляя старику излюбленный пробный камень, – тоже самодур?
Веселое лицо Суворина приняло выражение благоговейной нежности, которую имя Чехова всегда навевало на его черты, так напоминавшие умного удачника-бурмистра в большом и богатом барском владении. Помолчав, он произнес с удивительною теплотою, вдумчиво, убедительно, проникновенно:
– Антон Павлович? Нет, вот Антон Павлович не самодур. Он не только понимает – он знает линию жизни… Мы вот с вами понимаем, что дважды два – четыре, а все-таки нам хочется, чтобы было пять. И мы не утерпим: как-нибудь да попробуем, нельзя ли, чтобы вышло по-нашему – не четыре, а пять… А Антон Павлович и понимает, и знает. Поэтому он энергии своей на напрасную пробу не израсходует… нет!.. Зато, если мы с вами возьмемся доказывать, что дважды два – четыре, то истратим много слов, а все-таки не докажем так убедительно, как он одним словом…
И, радостно глядя на меня поверх очков; седой человек договорил в совершенном восторге:
– Узкий он человек, Антон Павлович, собственно говоря… чрезвычайно узкий человек!
Таким тоном договорил он и с таким хорошим лицом и взглядом, что любо и весело было смотреть на него, и почти завидно на молодую способность старика так страстно и сильно обожать любимый талант и, в восторге к этому мнимо «узкому» человеку, даже заочно греть его своей шуткой.
В присутствии Чехова для Суворина не существовало никого другого. Общеизвестна слабость А. С. к именитому обществу. Наедет к нему всякая превосходительная и сиятельная, мундирная и звездоносная знать. А он между именитыми посетителями бродит по кабинету подчеркнутым этаким демократом, в пиджаке и с сигарою в зубах, и чрезвычайно доволен… веселый… лукавый… старый… Но присутствие Чехова для него заслоняло упоение и этим покоренным мирком. Смотря на Чехова как на живой кумир, он даже ревниво и подозрительно относился к тем, кто в это время между ними становился, вмешиваясь в их разговор. Словом, любовь была настолько страстная и выражалась настолько ревниво, что Чехов иногда даже отчасти тяготился ее преувеличенным вниманием… Однажды, именно в 1897 году, в Петрограде, мы втроем – Антон Павлович, Вас. Ив. Немирович-Данченко и я – уговорились провести вечер вместе, поболтать о Москве и прошлых временах. Уже приехав в ресторан Лейнера, где мы должны были встретиться, я вспомнил, что ведь сегодня четверг и Чехов вряд ли может быть, так как это – суворинский день. Однако он не только пришел, но и, когда я выразил ему сожаление, что мы ошиблись в назначении дня, он возразил, что, напротив, – очень рад. И объяснил именно ту причину, о которой я только что говорил: стесняла его людность суворинских четвергов, влюбленное внимание хозяина и, отсюда, тайное недовольство и даже враждебность иных гостей, что такой тонкий наблюдатель, как Антон Павлович, конечно, не мог не заметить.
– Я люблю с Алексеем Сергеевичем вдвоем походить ночью по кабинету… – сказал он, между прочим. – Вы любите?
– Очень, когда он в духе.
Антон Павлович посмотрел на меня с удивлением и возразил:
– Слушайте же: он всегда в духе… Я мог бы ему ответить:
– Когда вас видит…
Но Антон Павлович продолжал, развивая мысль, с которой я не мог не согласиться, что о Суворине совершенно нельзя сказать, как об иных людях, что тогда-то он в духе, тогда-то не в духе… Настроение зависит не от него, а от человека, с которым он беседует. Он может быть совершенно убит, подавлен каким-нибудь впечатлением, но если вы подбросите ему в разговор живую, интересующую его тему – он сейчас же и сам не заметит, как вцепится в нее своей необычайно быстро хватающей мыслью, и весь от нее загорится, и хмурая туча с него сойдет, как бы ни важны были ее причины… «Разговорить» Суворина можно было когда угодно и от какого угодно настроения, и многие этим артистически пользовались.
Вот в этом была между ними глубокая разница. «Разговорить» Чехова было нельзя, и когда он, веселый Антоша Чехонте, задумался, то уже на всю жизнь и до самого Баденвейлера так никто его и не «разговорил».
Суворин частную свою жизнь прожил далеко не счастливцем. В прошлом его остались жестокие и тяжкие трагедии. Но у него был «счастливый характер», тот великорусский упругий и скользкий характер, который, по-моему, лучше всего выразил Щедрин в своем всевыносящем портном Гришке:
– Я, ваше высокородие, человек легкий…
Поэтому пережитые трагедии не отняли от Суворина ни бодрости, ни живучести, ни радостного отношения к жизни. Способность наслаждаться сладкою привычкою к жизни, говорят, не изменила ему до самого последнего конца, хотя два года он был лишен самого любимого своего дела: говорить. В этом он, по-моему, был очень схож с человеком, которого он не любил, который его не любил, а все-таки между ними было много общего: с В. В. Стасовым. В жизни А. П. Чехова, бедной «внешними фактами», никаких трагедий не было. За исключением дурного здоровья, он был, можно сказать, счастливый человек. Но вот его-то характер был уж совсем не «счастливый». В противоположность Суворину, он ужасно глубоко зачерпывал жизнь даже в самых незначительных ее мелочах. Совсем не заботясь о том, совсем непроизвольно. Уж как он смолоду был весел, а смех его и тогда уже сам собою разрешался в трагедию. Либо вдруг развертывал из-под своих, как будто поверхностных, резвых форм картину такой пошлости, что вдруг становилось гадко, жутко, грустно и «за человека страшно»… Вспомните моряка в его «Свадьбе». Вспомните парикмахера, который не в состоянии достричь дядю изменившей ему невесты… Черпал страшно глубоко, и каждая зачерпнутая капля всасывалась в него долго не проходящим неизгладимым впечатлением. И нараставшая сумма неизгладимостей, день за днем, сгущала то единство грустно-скептического настроения, которым так выразительно отмечены и последние сочинения Антона Павловича, и вообще весь он на переходе от XIX века к XX…
Чехов не был слеп в отношении Суворина. Он видел старика насквозь и не скрывал этого ни от других, ни от него. И любил его такого, как видел, отнюдь не прикрашивая и не идеализируя.
– Суворин вас любит, – сказал он мне в 1895 году. – Это хорошо. Слушайте же, он не худой старик.
Суворин видел Чехова лишь настолько, насколько тот позволял проникать в себя. Вообще-то этот разрешенный слой вряд ли был глубок. Чехов был не из тех, кто любит конфиденции. Но иногда он внезапно отворял храм души своей – именно перед Сувориным. О двух таких случаях я знаю непосредственно от Алексея Сергеевича. Он, со слезами на глазах, рассказывал, что, как ни высоко ценил он и ставил Антона Павловича, но только вот в подобных двух беседах – однажды в Петрограде и однажды в Венеции – понял он во весь рост все величие и всю трагическую глубину этого удивительного человека…
Оставим Чехову чеховское, а Суворину – суворинское и не будем несправедливы ни к тому, ни к другому. Ни Суворин не был бесом-соблазнителем, ни Чехов – наивно соблазненным ангелом. Оба они и лучше, и хуже сложившихся их репутаций, в которые и справа, и слева всякий охочий доброволец валит столько субъективной мифологии, сколько подскажет фантазия.
Суворин хотел добра Чехову и много сделал ему добра. Это – факт. Что же касается отрицательных черт, которые иные, с большими натяжками, невесть зачем, изыскивают в Чехове, стремясь обобщить их как результат «суворинского влияния», то, повторяю, все это – неудачные опыты политической полемики, а не литературного и идейного исследования.
Когда я мысленно проверяю далеко позади оставшиеся образы двух писателей, которым посвящена эта статья, странное и неожиданное получается противоположение. В каких бы моментах ни вспоминался мне Суворин – этот кипучий, газетный, злободневный человек, казалось бы, зубы съевший на житейской практике, неугомонный создатель громадных практических предприятий, необычайный умейник уживаться с нужными людьми, угадывать нужные моменты, и проч., и проч., – тем не менее он представляется мне, в конце концов, – и прежде всего, и после всего, – типическим русским мечтателем. Даже, пожалуй, прямо-таки Альнаскаром. Ему лишь, в отличие от подлинного Альнаскара, везло, необыкновенное счастье не только строить воздушные замки, очередные планы которых вплывали в его капризную, ищущую, беспокойную фантазию, но и осуществлять их. Однако какого-то главного своего замка, ради которого он на свет родился и жил, он так-таки и не выстроил. Больше того: может быть, даже и плана его не видал и себе не представлял, и в этом-то было его смутное, беспокойное горе, и этим обусловливалось его неустойчивое метание от факта к факту, от взгляда к взгляду, от человека к человеку. Это был человек, сотканный из мечты – искатель мечтою.
Совсем иное Чехов. Веселым ли юнцом, грустным ли больным в зрелых летах, он, великий изобразитель мечтателей, сам никогда не был мечтателем. Могущественный многодум, анализатор и систематик, он обладал умом исследователя, настолько точным и категорическим, что неумолимо строгая логическая работа превратила, наконец, его многодумье в собирательное однодумье. И однодумье это продиктовало для русского обывательского быта железные формулы, их же не прейдеши. Суворин хотел многого, но, по существу, не знал, чего он истинно хочет. Когда это желанное истинное вдруг, бывало, ненароком взглянет ему в глаза: вот оно я! – он не верил или полуверил. А то просто пугался и притворялся, будто не верит. Чехов всегда изумительно тверд и ясно знает, чего он хочет, во что он верит, что может сказать, что должен сказать. В этом смысле перед ним неожиданностей нет и быть не может. Всякому факту он глядит прямо в глаза, исследует его, классифицирует, вводит его, как новый препарат, в коллекцию своей атомистической лаборатории, впредь до теоретического обобщения. Отсюда – чеховская бесстрашная грусть: основная черта его творчества. Оба они были поразительно способны к наблюдению, но и наблюдение их было столько же различно, как характеры. В Суворине неугомонно билась жилка старого отметчика, охотника за явлением, каждый раз хватавшего факт как нечто новое, и часто встречающего его по-новому, совершенно вразрез впечатлению прежней с ним встречи. Он – наблюдатель-субъективист и импрессионист. Чехов – один из глубочайших, может быть, глубочайший из русских наблюдатель-объективист – шел через факт к закону жизни. Он – великий обобщитель ее, проникающий и устанавливающий ее органическое единство в прозрачной дифференциации ее явлений. На лестнице этого собирательного анализа он дошел до очень высоких ступеней, – и смею даже утверждать, – до ступеней, трагических для себя самого. Недаром же он под конец жизни стал подумывать об «Экклезиасте». Суворин, умерший на восьмом десятке лет, если бы он прожил еще столько же, все-таки дня не вынес бы без того, чтобы не занести на бумагу хоть несколько строчек непосредственных впечатлений жизни и не вести о них страстного разговора. Антон Чехов, едва перейдя на пятый десяток лет, почти перестал разговаривать и писать. И уж, конечно, не по истощению творческой мысли, так могущественно раскрывшейся в лебединой песне Чехова – «Вишневом саде», а потому, что мысль его с каждым днем приобретала все более определенную обобщающую категоричность. И последняя осенила Чехова таким мудрым и глубоким провидением жизни, что второстепенные признаки явлений уже перестали быть интересными прозорливому творцу как подразумеваемые сами собой. К этому периоду жизни Чехова относится его трагическая шутка о повести, из которой, написав ее, он стал удалять ненужные подробности и постепенными сокращениями довел ее до объема в одну строчку.
«Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастны».
Если принять знаменитое Павлово деление рода человеческого, как познавательной жизни, на два разряда: иудеев, которые чуда ищут, и эллинов, которые ищут мудрости, то Суворин и Чехов распределяются по этим полюсам совершенно твердо. Суворин, с его пылкою жадностью к новому явлению, новому факту, новому лицу, новой книге, весь пламеневший любопытством и смутными, редко самому ему внятными в полной мере ожиданиями, должен быть поставлен, конечно, на первый полюс. Хотя он и не весьма любил евреев (однако совсем не так сердито и убежденно, как повествуют враждебные легенды), но психический импрессионизм сближал его с мечтателями, по Павлу, иудейской категории: ищущими в жизни чуда, которое вот придет откуда-то извне и осветит жизнь. Чехов – весь на эллинском полюсе. Он знает, что чудес нет и не бывает, что о небе в алмазах могут мечтать Соня, Вершинин, Аня с Трофимовым, но не он, ищущий мудрости и находящий ее в ежеминутных печальных откровениях жизни о железнозаконном ее единообразии…
Суворин, хотя и воспитанник материалистов, шестидесятник, таил где-то на дне души мистическую жажду идеалистических и религиозных позывов, которых даже конфузился, когда они прорывались заметно для других. Он любил Достоевского и был, по существу, достоевец. Отсюда и его редкостная сентиментальность, с нервической готовностью расплакаться, как дитя, от разговора, от зрелища, от чтения, от сильной эмоции восторга, жалости или негодования. Чехов, который, как никто другой в русской литературе, и знал, и умел выражать, что человек человеком начинается и кончается, что человек – весь в себе и «du bist doch immer, was du bist», является самым чистым и безуклонным русским реалистом. Сентиментальности в нем не было ни капли, и уж вот-то именно – «суровый славянин, он слез не проливал». Он – антидостоевец. Как тип мыслителя-интеллигента, он тесно примыкает к Базарову. Как бытописатель – к Салтыкову. Как психолог и художник – к Мопассану, закончив и увенчав этим западным поворотом гоголевский период нашей литературы. Суворин – огромное воображение, чутье, инстинкт, эмоция и «человек волны». Прежде всего – эхо. Чехов – великое знание, воля, система и сила. Прежде всего – голос.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


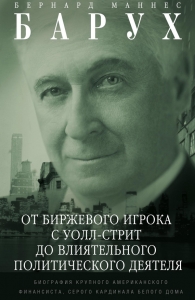


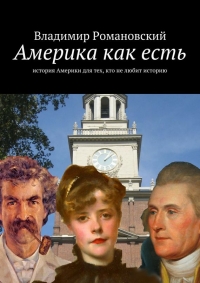
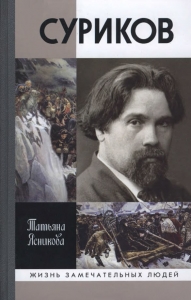
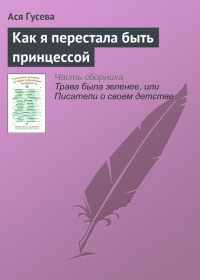
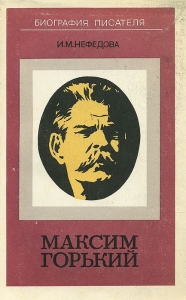
Комментарии к книге «Десятилетняя годовщина», Александр Валентинович Амфитеатров
Всего 0 комментариев