Джованни Джерманетто Записки цирюльника Из воспоминаний итальянского революционера
«г. Москва, 19 января 1955 г.
Дорогой наш друг и товарищ Джованни!
В день Вашего семидесятилетия Союз писателей СССР шлет Вам — верному сыну великого итальянского народа, передовому писателю и активному борцу против фашизма и войны, за мир и дружбу между народами — свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания. В Ваших книгах — «Записки цирюльника», «Феникоттеро», «Травальо» и других — нашли свое яркое отражение жизнь и борьба свободолюбивого итальянского народа — народа, давшего миру многих великих писателей и художников и ныне в труднейших условиях отстаивающего свою замечательную национальную культуру от посягательств иноземных поработителей.
Мы знаем Вас, дорогой Джованни, как давнего и испытанного друга советской литературы и советских писателей. От всего сердца приветствуем Вас в день Вашего семидесятилетия и желаем Вам многих, многих лет жизни и успехов в Вашей творческой и общественной деятельности.
Крепко жмем Вашу руку.
А. Сурков, К. Федин, К. Симонов, В. Ажаев, Д. Поликарпов»
Печатается по тексту
«Литературной газеты»
от 20 января 1955 г.
Предисловие к первому итальянскому изданию
Книга товарища Джованни Джерманетто «Записки цирюльника» была впервые опубликована в русском переводе в Москве в 1930 г. Она вышла затем еще в трех изданиях, из которых два популярных, общим тиражом в 110 тысяч экземпляров, а недавно и в немецком переводе. Мне кажется, что издание книги товарища Джерманетто на итальянском языке вполне своевременно[1]. Таким образом она станет известной также итальянским труженикам, которых автор, без сомнения, имел в виду прежде всего, когда писал свою повесть.
Джованни Джерманетто — подлинный интернационалист как по своим твердым убеждениям, так и по своему темпераменту борца. К тому же ему присуща способность ясно сознавать все явления жизни, внушать другим свои мысли и убеждения и применять их на практике, без чего идеи интернационализма рискуют остаться лишь благими пожеланиями. А эта способность в свою очередь является плодом его длительного пребывания в гуще рабочего движения, его непосредственной связи с массами трудящихся, с их жизнью, с их чаяниями и ежедневными переживаниями. Книга «Записки цирюльника» написана поэтому не только для нас, говорящих на итальянском языке, на языке подлинника. Революционеры и рабочие любой страны найдут в ней по крайней мере часть своего собственного опыта, своей собственной жизни. Они получат понятие, пусть общее, но тем не менее весьма реальное, о судьбах итальянского рабочего движения на протяжении целого исторического периода.
А каждый, кто принимал непосредственное участие в рабочем движении Италии, кто близко знает героические страницы его истории, его заблуждения, слабые и даже некоторые смешные стороны, не раз при чтении почувствует волнение и несомненно найдет в книге Джованни Джерманетто немало поводов для размышления.
История этого цирюльника, как мне кажется, по сути дела представляет ценность не только как история одного человека, но и как история многих — целого поколения людей, нашедших в идее социализма, в борьбе за освобождение трудящихся смысл своей жизни и силу подняться над миром мещанской глупости и корысти, над миром устаревших социальных отношений, основанных на произволе и коррупции одних и на раболепстве или бессильной ненависти к власть имущим других.
Действие повести развертывается в провинции Кунео, где жил и работал товарищ Джерманетто. Но как обширна эта провинция Кунео! Думаю, что она простирается от нищенских деревушек в горах Альп до далеких и убогих краев Сицилии и Сардинии. «Провинция Кунео» — это вся итальянская провинция, полуфеодальная, мелкобуржуазная, скептическая и ханжеская, болтливая и двуличная, кишащая людьми, раболепствующими перед богачами, но чванливыми, несправедливыми и жестокими к беднякам. И эту провинцию идеализируют, изображают в качестве некоего хранилища буржуазной добродетели, рассадника сильных характеров! Фашистская литература еще более распространила эту идеализацию провинции, доведя ее до смешного гротеска. Что такое «Страпаезе»[2], если не провинция Кунео, возведенная в образец национальной жизни? А «Италия селян», о которой распинаются Муссолини и его высшие чиновники? Разве это не образец огромной «провинции Кунео», в которой выродки и негодяи назначены королевским декретом старостами, где награжденные Джолитти[3] кавалеры[4] носят в лацканах фашистские значки, где пронырливые попы благословляют их, а труженики подыхают от голода?
Но даже в этой «провинции Кунео» зарождается социалистическое движение. Собственно говоря, можно сказать, что вклад, внесенный этой социальной средой в социалистическое движение Италии, был немаловажным. Социалистическое движение в Италии не было чисто пролетарским. Оно было также движением ремесленников, крестьян и всех противников феодализма и клерикализма. Оно представляло собой пробуждение, восстание целого народа против угнетения и эксплуатации, не дававших ему житья; против жандармов, сборщиков налогов и хозяев; против ханжества попов, монахов и монахинь, против государства. Все это составляло силу социалистического движения, но одновременно являлось также источником его слабости. Одно можно сказать с уверенностью: с зарождением и укреплением в итальянском обществе социалистического движения это движение» несмотря на все свои слабости, приобрело весьма характерные, революционные черты. И тогда деревенский цирюльник, инстинктивный бунтовщик, стряхивает со своих плеч ярмо всякой человеческой и божественной власти. Он уходит в город, на заводы, читает Карла Маркса, участвует в конспиративной деятельности, с открытым забралом вступает в борьбу с реакцией, бросает вызов всем власть имущим, ставит себя выше их. Он выдерживает натиск любых бурь, становится настоящим борцом, не признающим никаких других законов, кроме законов своей партии и революции.
На мой взгляд, ценность произведения товарища Джерманетто в том, что в нем в яркой и волнующей форме запечатлены основные элементы этого развития, этого бунтарства. Даже то, что на первый взгляд может в его повести показаться наивным или повторяющимся, вполне оправдано и достигает цели. Например, описание многочисленных эпизодов с полицейскими, арестами, глупыми преследованиями со стороны жандармов, комиссаров полиции, фашистов и судей Особого трибунала. Но ведь все они и образуют ту проклятую цепь, которая сковывает и душит итальянский народ. Все это и составляет полицейско-разбойничий характер нынешнего итальянского государства. Таким он проявляется в жизни и влияет на всех: на самого отсталого пастуха, на ученика парикмахера, на массы всего народа.
Умение дать широкое представление об этой общественной среде делает книгу Джерманетто популярным произведением в лучшем смысле этого слова. В пролетарской, социалистической литературе Италии такой книги еще не было. Все предыдущие попытки такого рода не удались. Их авторами были либо литераторы, попробовавшие напялить на себя одежду простолюдина, никого не обманув этим, либо простые люди из народа, пытавшиеся подражать литераторам, что дало еще худшие результаты. В период после первой мировой войны о рабочем движении было написано несколько повестей, исполненных ненависти к нему, да ряд очень скучных произведений, написанных видными буржуазными писателями. Эти произведения никто не читает сейчас, и никто их не будет читать в будущем. Итальянский народ, как правило, не читает книг нынешних итальянских литераторов, которые в большинстве своем всегда были фиглярами на службе хозяина, кривляющимися иногда для его потехи. Достаточно посмотреть, как они сегодня шагают в рядах реакции и объявляют себя убежденными фашистами, как они корчат из себя свободных и достойных людей, тогда как в действительности они дерутся за кусок хлеба, являясь лишь выразителями загнивающего и упадочнического мира.
С выходом в свет повести товарища Джерманетто рабочее движение своими силами утверждает себя в области литературы. Можно было бы, быть может, упрекнуть автора в том, что в его книге нет полного анализа происхождения и развития фашизма. Но автор может резонно ответить, что он писал повесть, а не резолюцию… Можно, конечно, найти в его книге и некоторые слабые места. Но главное, на мой взгляд, то, что каждый рабочий, каждый товарищ, который возьмет эту книгу в руки, прочтет ее от начала до конца с большим вниманием, страстью и волнением.
Вместе с автором читатель будет иногда смеяться, он почувствует себя связанным с этим деятелем нашей партии тысячами нитей симпатии, общности идей, чаяний и судьбы. Словом, читатель найдет в этой книге часть самого себя. И разве не в этом заключается самое большое достоинство произведения?
Пальмиро Тольятти (Эрколи)
Март 1931 г.
Глава I Ранние воспоминания
Самое раннее мое воспоминание — страдание.
Я как бы пробудился к жизни под влиянием острой, режущей боли: мне произвели операцию левой ноги, пораженной детским параличом.
Я лежу в кроватке. Вокруг меня: мама, отец, доктор, какие-то родичи. Мне было тогда около пяти лет.
Это воспоминание до сих пор живо в моей памяти. Последующие годы навсегда закрепили его.
У меня не было беззаботного детства, как у других детей. Я не был в состоянии ни бегать, ни прыгать и мог только наблюдать, как проделывали это мои товарищи. И я страдал от этого больше, чем от боли. Я рано приучился размышлять. Брат и сестренки, моложе меня, но здоровые — никто во всей семье у нас не болел, — были приучены помогать мне. Это меня и трогало и обижало. Я рос нервным, раздражительным ребенком: я чувствовал в себе силу и волю и… беспомощность. Как это унижало меня!
Вспоминаю нескончаемые споры между отцом и матерью по поводу моей болезни. Отец — рабочий-металлист, неверующий — работал часто сверх обычных одиннадцати часов в день, чтобы собрать денег на мое лечение, на докторов. Заветной его мечтой было отправить меня в Турин, в знаменитую тогда Маврицианскую лечебницу. Мать же, глубоко религиозная женщина, не признавала докторов и верила в святых и чудотворцев, тоже «знаменитых». Бедняжка каждый день открывала все новых «целителей».
В результате родительских диспутов меня то лечили электричеством, за которое отец расплачивался сверхурочными работами, то возили «на исцеление» ко всевозможным мадоннам и прочим святым, какие только были в городе и в окрестностях. Мать молилась, а я рассматривал разрисованные стены и изрядно скучал.
Однажды (мне исполнилось уже шесть лет) явилась к нам одна моя старая тетка — тетя Роза. В семье я часто слышал это имя. Она была важной персоной в одной из соседних религиозных общин. Оказывается, тетка открыла какого-то «целителя» в Мондови. Там находился большой монастырь, сооруженный одним из членов Савойской династии[5] в благодарность мадонне за какую-то одержанную им победу.
Несмотря на недовольство отца, который ворчал, что меня только напрасно утомляют, мы — тетка, мать и я — поехали в Мондови. Я-то был доволен: предстояло целое путешествие, сначала по железной дороге, потом на лошадях. Поездка туда прошла благополучно. Монастырь был очень велик, к нему стекалось много народу. В монастырской церкви была большая статуя мадонны с массой свечей перед нею. Священник в красной одежде (прочие священнослужители были одеты в черное) проповедовал. Все это меня развлекало. Правда, ноги от долгого стояния на коленях у меня затекли, но я не жаловался, так как мне была обещана шоколадка. Наконец мы поехали обратно. От монастыря до городка Мондови, где я прожил позже несколько лет, надо было ехать на лошадях, в старом дребезжащем дилижансе. На одном из поворотов лошади испугались, понесли и опрокинули дилижанс. Пассажиры, в том числе и я, отделались легкими царапинами, но тетка — почитательница стольких мадонн и святых — сломала себе ногу и вышибла последние оставшиеся у нее три зуба. Исцелились!..
Вообще не везло нам в этих путешествиях.
Однажды, во время подобного же путешествия, мы попали под сильный дождь. Мадонна — не помню, какая — и на этот раз не захотела исцелить меня, но постаралась зато, чтобы я вернулся домой основательно промокшим.
В этот период поисков исцеления отец мой работал в механических мастерских Савильяно[6]. Рабочий день длился тогда одиннадцать часов, но отец, как я говорил уже, прирабатывал еще два-три часика, чтобы сводить концы с концами.
Я хорошо помню вечер, когда впервые услыхал разговоры о восьмичасовом рабочем дне. Какая это была трагедия! В этот вечер отец вернулся домой бледный, печальный и растерянный. Он не сел, а упал на стул. Мы думали, что он захворал. Мать с тревогой спросила:
— Что случилось?
— С завтрашнего дня мы работаем только восемь часов в день, — мрачно ответил отец.
Это означало нищету!..
Вечером пришли двое соседей-рабочих, оба в полном отчаянии. У одного было восемь детей, у другого пятеро да еще в придачу старики родители.
Моя мать старалась успокоить отца:
— Придется урезать себя… Милосердный господь нас не оставит…
Брат и сестры играли у потухшей печки. Я слушал, что говорили старшие, и не мог понять, отчего они приходят в такое отчаяние; ведь и сам отец и его товарищи всегда жаловались на слишком длинный рабочий день.
На мой недоуменный вопрос один из приятелей отца ответил:
— Работы мало. Мы теперь меньше зарабатывать будем, малыш!
И я подумал обо всех этих святых и мадоннах, которым молились мать и тетя Роза, ходившая на костылях после поездки в Мондови. Мой мозг начинал работать, многое становилось понятным.
Несколько месяцев спустя рабочие стали работать только по четыре часа в день. Приближалась зима. Некоторые тайком рубили в лесу дрова.
Приятель отца однажды вечером тоже привез тележку дров. На следующий день к нему явились карабинеры[7] и увели его связанного, с кандалами на руках. Отец мой был этим очень расстроен.
Вечером в доме фабриканта был бал, и отец понес меня посмотреть на иллюминацию. Глядя на сверкающие окна, отец сжимал кулаки: мы ведь ложились спать раным-рано, чтобы не зажигать свечей.
Примерно в это же время я услышал разговоры о войне в Африке.
Однажды я видел, как уезжали солдаты. Провожавшие их женщины плакали.
Говорили о множестве убитых. Пока стоял поезд, мужчины принесли два ведра вина для солдат, но офицер запретил угощение. Публика запротестовала, раздалось несколько свистков. Я слышал, как кругом говорили:
— Бедные парни! Едут на убой!..
Потом — странные названия: Догали, Микаллэ, Абба-Гарима, Менелик, Таиту, Баратьери[8]…
Поезд наконец ушел…
Еще одно событие запечатлелось в моей детской памяти.
Это забастовка рабочих гончарного производства в Мондови, куда мы недавно перед этим переехали. Отец работал на большой посудной фабрике в качестве механика по осмотру и ремонту машин. Жили мы в фабричном доме, и я целые дни проводил среди рабочих. Здесь рабочий день продолжался одиннадцать часов, одинаково для всех: мужчин, женщин, детей.
Работа была тяжелая, а оплата грошовая: мужчины получали по пятнадцать чентезимов[9] в час, женщины — по десять, а дети за день — сорок-пятьдесят чентезимов. Общие условия были прескверные: хозяин возмутительно обращался с рабочими; однажды при мне он с грубой бранью рассчитал старую работницу только за то, что она разбила миску.
Италия переживала тяжелый экономический кризис; это было в период колониальной войны в Эритрее, когда молодой еще итальянский империализм делал свои первые шаги в Африке. Из Мондови на войну угнали тогда отряд альпийских стрелков, и многие из них были убиты в далекой стране.
По вечерам отец вслух читал газету, и до моих детских ушей доходило эхо общего недовольства и демонстраций, происходивших в больших городах. На фабрике я тоже часто слышал, как рабочие ругали хозяина, богачей, правительство.
Особенно нравилось мне слушать одного из них — резчика. Он был «иностранец» — так называли у нас всякого пришельца из другого места, хотя бы нашей же области. Он прибыл из Тосканы, говорил на литературном итальянском языке, что редко в Пьемонте[10], и говорил хорошо. Я постоянно вертелся возле него» Рабочие меня любили, а тосканец разговаривал со мной, как со взрослым, и никто из них не боялся, что я могу проговориться перед служащими, которые, как говорили рабочие, были все хозяйскими шпионами.
Даже подготовляя забастовку, рабочие не таились от меня.
Тосканец рассказывал, что в других городах рабочие объединены в профессиональные организации, и всегда добавлял:
— Здесь, в Мондови, социалисты занимаются только выборами и делают политику в кафе: у нас же, порка мадонна[11]…— Дальше следовал поток ругательств.
В одно прекрасное утро, несмотря на то что давно уже прогудел гудок, ни один рабочий не показался у ворот фабрики. Только какой-то «пузырь» — так рабочие называли учеников — грыз сухую корку, ожидая второго гудка.
Фабриканта, судя по его волнению, события застали врасплох; служащие же, казалось, ожидали их.
Хозяин во всеуслышание заявил, что, если рабочие через час не окажутся на своих местах, он закроет фабрику.
— У меня денег хватит. Я вел дело для вас, чтобы помочь вашим семьям, и вот какую благодарность вижу от вас!.. — и он возмущенно теребил свои усы.
Через час прибыло десятка два карабинеров, которые заняли все входы в мастерские.
Я знал о подготовлявшемся, и забастовка ничуть меня не удивила. Я принял ее, как обычную вещь. Но я ожидал большого шума, боевых схваток, а вместо этого рабочие сидели по домам.
Фабрика была в некотором отдалении от городка. Вечером помещение «рабочего кружка» было занято карабинерами, а по улицам сновали вооруженные патрули. Позже я узнал, что рабочие устроили собрание за городом и что они требовали прибавки в пятьдесят чентезимов в день для всех, без различия пола и возраста.
На другой день пронесся слух, что десять рабочих ночью были арестованы и отведены в тюрьму. Через два дня перед воротами фабрики предстали выборные от рабочих.
Сторож заявил, что у него приказ никого не пропускать. Подошли карабинеры. За ними хозяин, который, по обыкновению, принялся ругаться.
Рабочие, не отвечая на брань, просили принять их как представителей восьмисот рабочих фабрики.
— Можете считать себя уволенными, — ответил хозяин. — Я вас голодом заморю всех, если не вернетесь через час на работу!
Этот «час» был для него пунктом помешательства. Выборные ушли медленно, точно ожидая, что хозяин передумает и позовет их. На меня эта сцена произвела тяжелое впечатление.
Отец, с согласия бастующих производивший ремонт оборудования, в этот день был печален и озабочен.
Аресты продолжались, положение обострялось. В карету фабриканта было брошено несколько камней, ходили слухи о попытках поджога на фабрике. Однажды несколько рабочих, в числе которых был и тосканец, освободили арестованного рабочего. Они сбросили в канал одного из карабинеров, сопровождавших арестованного товарища, другой карабинер убежал.
Борьба затянулась на несколько недель, но победил голод.
Рабочие сдались и вернулись на фабрику, опустив головы. Они должны были согласиться на снижение платы на десять чентезимов, на увольнение некоторых из них. Несколько товарищей остались в тюрьме.
Но поражение послужило хорошим уроком: рабочие нашей фабрики стали организовываться, многие из них записались в социалистическую партию. Начала выходить еженедельная газета в Мондови, на родине Джолитти, того самого буржуазного деятеля, который свыше четверти века стоял во главе политической жизни Италии.
В это время я много читал. Я поглощал газеты и книги самого различного содержания, начиная с библии и кончая «Капиталом». «Капитал» и многое другое мне помог усвоить новый мой приятель — анархист Бизаньи.
Этот анархист имел свой собственный грандиозный план революции, для осуществления которого необходимо было вести пропаганду в войсках. Поэтому он, к всеобщему удивлению, пошел в армию добровольцем и дослужился до сержанта, но через несколько месяцев после его повышения я прочел в газетах, что он приговорен к пятнадцати годам каторги за «сеяние смуты в войсках».
Отец мой потерял надежду на помещение меня в Маврицианскую лечебницу, но продолжал по-прежнему работать по четырнадцать часов в сутки: он вбил себе в голову, что должен дать мне образование, сделать из меня школьного учителя, — не знаю почему, быть может, из-за моей больной ноги. Но и это оказалось невозможным: слишком дорого стоит в Италии образование! С болью в сердце он отказался от этой мечты.
Однако необходимо было как-то меня «устроить». Поиски закончились выбором карьеры… цирюльника.
— Не смог я добиться того, чтобы сын мой учился своей головой, пускай поучится на чужих головах! — шутил мой отец в те редкие минуты, когда он был расположен к юмору.
Итак, я попал в парикмахерскую. Намыливал щеки и слушал разговоры, ибо там велись диспуты с утра до вечера. Посетители были самых разнообразных политических оттенков: либералы, клерикалы, социалисты, демократы. Двое из них позже стали депутатами, один — клерикал Бертоне — стал министром. Сам хозяин парикмахерской был демократом. Я — нужно ли говорить об этом? — сразу стал на сторону социалистов.
Признаюсь, случалось, что в пылу дискуссий я забывал о том, что делаю, и вместо щек преусердно намыливал глаза или рот своих клиентов.
Я записался на вечерние общеобразовательные курсы и по-прежнему поглощал книги и газеты. Состоял также членом Интернациональной антимилитаристской лиги; это был расцвет деятельности Эрве[12]. Кроме того, я принадлежал к Союзу социалистической молодежи и усердно посещал партийные кружки. Ни отец, ни мать об этом ничего не знали. Когда меня выставили из вечерней школы за один мой ответ, который показался преподавателю «неблагонадежным», разразилась катастрофа. Дома поднялась буря. Отец мой, как истинный «свободомыслящий», не признавал свободы мнений. Мать молилась всем святым и мадонне, чтобы они возвратили меня на путь праведный.
Вдобавок к этому произошло еще одно событие. Я написал статейку — первый мой опыт в печати, — обращенную к новобранцам, и подписал ее: «Одна из матерей». Дело было как раз во время призыва в армию. Королевский прокурор усмотрел в моем писании «оскорбление армии». Во время обыска в редакции при статейке нашли и препроводительное письмо, подписанное мною, и вот, как раз во время бурных объяснений с домашними, мне принесли вызов в суд… и передали его прямо в руки матери!
Гроза надвинулась и с другой стороны. Написал я в социалистический двухнедельник «Женщина» статью, озаглавленную «О различных видах рабства женщины». Написал в сотрудничестве с одной девицей, к которой я, по секрету сказать, питал некоторую «слабость». Сотрудничество выразилось, собственно говоря, в том, что я написал, а она подписала статью.
Но не повезло мне с женскими псевдонимами! Полиция придралась к этой статье, девице дома жестоко влетело, и она… не выдержала… Как ни приятно ей было видеть свое имя в печати, все же во избежание неприятностей она открыла имя настоящего автора. Родители ее тогда обрушились на меня, как будто у меня не было своих родителей!
Ко всем моим несчастьям прибавился еще один забавный случай. Как-то в парикмахерской церковный служка, мальчишка-подросток, пока я его стриг, спросил у меня:
— А умеешь делать тонзуру[13]?
Мне еще не случалось этого делать, но я храбро ответил:
— Конечно!
И сделал. Прескверно сделал.
Когда настоятель церкви увидел эту тонзуру, он пришел в ярость. Побывал в парикмахерской, пожаловался моим родителям. Он заявил, что это кощунство, что тонзуру можно делать только с разрешения церковных властей, и грозил всякими ужасами.
От хозяина я получил нахлобучку, а от моей набожной матери выслушал еще одну проповедь.
Беда за бедой: пока я с нетерпением дожидался судебного процесса, первого в моей жизни, в одно из воскресений меня вместе с другим товарищем арестовали после нашего выступления на массовке за городом.
Ночь мы провели в каталажке на большом столе, в компании с воришкой, стащившим курицу, лоточником, кравшим медяки из церковных кружек, и пьяницей, распевавшим во все горло. Это было мое боевое крещение.
Домашние на этот раз призвали на помощь деда. И мне было ясно предложено: или перестать «строить из себя социалиста», или порвать с семьей.
Я выбрал последнее.
Глава II Первые шаги
По воскресеньям, когда кончалась работа в парикмахерской, мы с товарищем уезжали на велосипедах в соседние деревни вести пропаганду по поручению социалистической секции нашего городка. Мой товарищ был уже полноправным членом партии, я же числился в юношеской секции.
Я недавно только овладел искусством езды на велосипеде и очень полюбил этот спорт. Машина раскрепощала мою ногу и доставляла мне радость быстрого движения. Кроме того, она была мне полезна и не раз выручала во время пропагандистских поездок. Иногда, впрочем, она же приводила меня и в тюрьму.
Однажды это случилось по вине… русского царя! Во время приезда Николая II в Италию газета «Аванти»[14] подняла кампанию против русского самодержца, палача русских революционеров. Социалистический депутат Моргари выдвинул оригинальный лозунг: «Освистать царя, где бы он ни появился!» Лозунг был немедленно принят партией и с энтузиазмом подхвачен широкими массами трудящихся.
В результате этого Николай II, наметивший программу большого путешествия по Италии, вынужден был ограничиться визитом в королевский замок в Раккониджи, в провинции Кунео, находившийся меньше чем в ста километрах от французской границы.
И от этой границы до Раккониджи он ехал сквозь строй солдат и полицейских. Из домов, близких к границе, были выселены обитатели, близлежащие дороги перекопаны. Было строжайше запрещено приближаться к дороге, по которой пролегал путь коронованного гостя. Российский император ничего не увидел в Италии, кроме штыков. Были арестованы местные социалисты. Депутат Моргари, которому по закону нельзя было воспретить передвижение, должен был встречать царя свистом в Ракконидже.
Мы с товарищем решили тоже пробраться туда на наших неизменных велосипедах. Поехали мы без свистков, так как полиция усердно арестовывала всех, у кого находили свистки, даже детей. Но мы умели свистеть и при помощи пальцев.
Посвистать, однако, нам не удалось: вместе с велосипедами мы попали под замок.
Моргари удалось свистнуть только раз: его немедленно, несмотря на депутатскую неприкосновенность, удалили.
Но свист этот громовым эхом отдался в ушах Николая II, он вынужден был убраться восвояси.
Много позже ему пришлось услышать в своей стране рев бури, под который русский пролетариат «свистнул» своего царя уже по-настоящему.
Интересная штука — пропаганда на деревенских собраниях! Особенно в Верхнем Пьемонте, где господами положения были крупные землевладельцы, попы, Джолитти.
Обычно мы выступали — если это удавалось — тотчас же после церковной службы, так что аудиторию собирал нам… поп. Помню мое первое выступление. Дело было в августе. Жара, пыль… Когда мы после изнурительной езды на велосипеде по обожженной солнцем дороге приехали на площадь перед церковью, там не было ни души. Афиши, объявлявшие о нашем выступлении за громкой подписью «Социалистическая секция», исчезли. Поп грозил адом тем из верующих, кто пойдет нас слушать. Даже карабинеры, которые прибыли из казарм «охранять порядок», отправились в церковь.
Мы тоже заглянули внутрь и услыхали заключительную фразу проповеди:
— Итак, идите, чада мои, по домам и не слушайте, что говорят вам эти враги религии, семьи и отечества.
Это было великолепным способом возбудить любопытство.
Толпа хлынула на площадь и не торопилась расходиться. В это время старый башмачник, побывавший в Америке и видавший виды, к тому же усердный читатель «Азино»[15] и нашего еженедельника «Лотте нуове»[16], принес стол, поставил его посреди площади и, протягивая руку, торжественно возгласил:
— Вы — ораторы. А вот вам и трибуна!
Я взобрался на стол. Крестьяне сгрудились вокруг. За ними стояли карабинеры. Поп, загадочно улыбаясь, стоял на пороге церкви, оглядывая свою непокорную паству.
Я открыл было рот, но оглушительный шум покрыл мои первые слова. В чем дело? На площади появился отряд мальчишек, изо всех сил колотивших в старые керосиновые бидоны. Я остановился: говорить было невозможно. Карабинеры с любопытством слушали эту необычайную музыку. Поп имел вид генерала на удачных маневрах. Музыка, впрочем, прекратилась довольно быстро: бидоны были измяты, и ребятишки устали. В публике смеялись, потом шум надоел, послышались протесты. Кое-кто кричал:
— Дайте им говорить!
Стихло. Я снова попытался начать свою речь.
С колокольни раздался отчаянный трезвон. Очевидно, батюшка разработал свой план обстоятельно. Но и пономарь наконец утомился.
Я начал говорить. При первых же моих словах у стола вырос бригадир карабинеров:
— У вас есть разрешение произносить речи?
— Разрешения в этом случае не требуется, — гордо ответил я, так как знал правила, — достаточно известить власти. Это было сделано, иначе вы не оказались бы здесь.
— Я сам отнес сообщение к синдику[17],— поспешил подтвердить старый башмачник.
— Предъявите расписку, — предложил жандарм.
— Расписки мне не дали.
— В таком случае, синьор, вы не имеете права говорить. Объявляю собрание закрытым! — строго изрек бригадир.
— Но, — запротестовал я, — это превышение власти!
— А!.. Превышение власти?! Вы арестованы. Я не позволю оскорблять честь и мундир карабинера!
И он стащил меня со стола. Напуганная толпа, выдержавшая грохот жестянок и трезвон, мигом рассеялась. Меня с товарищем отвели в арестный дом.
В канцелярии бригадир обратился ко мне:
— Итак, вы подтверждаете слова, сказанные на площади?
И он стал перелистывать свою записную книжку.
— «Превышение власти», сказали вы? Подтверждаете? Если да, то вот, подпишитесь здесь.
Я подписался. Бригадир разгорячился.
— Я вам покажу, «превышение»! Они думают, я не понимаю… Отведите их в камеру!
Кто знает, как понимал он слово «превышение»? Ему чудился уже громкий процесс… повышение в чине…
В камере мы провели ночь. Утром нас освободили, но домашние узнали про мой арест еще накануне.
Снова семейный совет, в котором участвовал и дедушка.
— Никто в нашем роду никогда не был в тюрьме. Ты нас опозорил, ты недостойный… — И так далее, проповедь за проповедью.
Была тут и та самая тетушка Роза, которая сломала себе ногу на богомолье. С истинно христианским доброжелательством она заявила, что бог заклеймил меня еще до рождения, так как знал, что из меня выйдет.
Этим нравоучением и закончился семейный совет.
Глава III Я уехал в Турин
В Турине мне быстро удалось найти работу, и я с чувством полной свободы погрузился в жизнь большого города. Работа, Народный университет, Палата труда[18]. Разрыв с семьей чувствовался иногда, но как уже пережитое страдание. Работа в парикмахерской отнимала у меня очень много времени, парикмахерская была одной из самых крупных. Работали ежедневно с восьми утра и до восьми вечера; в субботу мы кончали в полночь, в воскресенье работали до десяти. В среднем я вырабатывал лир десять в неделю. Жил в мансарде вместе с рабочим-механиком. Мансарда наша была на самом чердаке, взбирался я туда чуть ли не полчаса. Товарищ мой читал любовные романы или приключения бандитов. Нрава он был угрюмого, вида мрачного и кончил жизнь свою самоубийством, утопившись в реке По.
Товарищи же по работе мрачностью не отличались. Я нигде больше не встречал — а вращался я среди рабочих самых разнообразных категорий — таких ничем не интересующихся и таких «услужливых» людей, как парикмахеры. «Чаевые» — вот их идеал! И для того чтобы получить два сольдо (четыре — это была сказочно щедрая подачка), они шли на всяческие унижения: льстили, изучали вкусы своих клиентов и соответственно объявляли себя монархистами, радикалами, верующими или безбожниками, добродетельными или распутниками, интересовались невероятными глупостями, аплодировали плоским остротам и т. п. Бессмертный «Севильский цирюльник» ничуть не преувеличение. Я знавал парикмахеров, которые всегда могли дать своим клиентам адресок… «комнат на час» или «чайного домика» с точным указанием расценок. За редким исключением, они все готовы были сделать за чаевые!
Они интересовались скачками, банко-лото, всякими спортивными состязаниями, причем увлекались не самим спортом, а связанной с ним игрой. Я знал парикмахера (я работал с ним в маленькой хибарке на окраине, под громкой вывеской «Цирюльник-филантроп», где брили и стригли действительно за гроши), который уверял, что «постиг все таинства» банко-лото. Посетители рассказывали ему свои сны, а он, объясняя их, указывал «хорошие» номера и за это получал щедро на чай.
— Синьору приснился арест за убийство? — И мой коллега глубокомысленно задумывался на мгновение. — Ясное дело: карабинеры — это одиннадцать, мертвый — сорок семь, убийство — девяносто… Ставьте одиннадцать, сорок семь, девяносто — у вас все данные выиграть!
Но сам он, бедняга, никогда не выигрывал!
Другой был знатоком лошадей и знал наизусть родословную каждой из них. Он давал советы любителям бегов и сам играл на тотализаторе. И неизменно проигрывал.
Впрочем, духом он не падал и на каждых скачках начинал сызнова:
— Лошадь такого-то ничего не стоит. Вот та, другая? Да, чистокровная кобыла: она ведь дочь такого-то рысака, получила большой приз на Лоншанских скачках в таком-то году, а мать ее… — порода! — получила премию Амедея Савойского! Если ставить на кого-нибудь, то, конечно, на нее!..
А на другой день после скачек брал в долг папиросы у товарищей и занимал на обед…
А велосипедные состязания! Были среди парикмахеров такие, которые после окончания работы ходили тренироваться, надеясь стать чемпионами.
Между собой они не дружили, завидовали друг Другу, ссорились… Южане, которых было много в туринских парикмахерских, хвастались, что они лучшие художники (парикмахеры любят так себя называть); северяне, конечно, считали себя гениями, и споры иногда доходили до потасовки.
Я высмеивал их и уверял, что наилучший художник, — конечно, хозяин, который всех нас великолепно «стрижет».
— Это верно. — соглашались некоторые.
Но, когда я заговаривал об их вступлении в профессиональный союз, они смолкали, мрачно поглядывали на меня.
— Хочешь, чтобы нас рассчитали?
Труд оплачивался плохо. Отношение было еще хуже. Клиенты смотрели на нас, как на существа низшего порядка. Обращались на «ты»: «Причеши-ка меня!», «Подстриги бороду!», «Завей усы!». А парикмахер должен был отвечать обязательно по титулу: «Да, синьор командор!», «Слушаюсь, синьор кавалер!» и т. д.
В плохоньких цирюльнях рабочих кварталов дышалось легко, но заработок был грошовый.
Меня недолюбливали за язык.
Как-то один пизанец спорил с уроженцем Сицилии. Этот последний хвастался, что ему случалось брить маркиза ди Рудини, председателя совета министров.
Пизанец оглядел его с видом превосходства:
— А я работал в Пизе в парикмахерской, которая обслуживала королевский дворец! — И он победоносно оглядел товарищей.
— Ты, что же, королевских собак стриг, что ли? — не удержался я.
Ну и была же история! Помирился он со мною только после того, как я уступил ему одного из своих наиболее щедрых клиентов.
И все же я с двумя-тремя товарищами вел здесь организационную работу, и мы сумели, правда с невероятными усилиями, добиться успеха.
Но «организованным» членам профсоюза приходилось плохо, хозяева к ним придирались, при первом же случае увольняли, а найти новое место было трудно: нас знали наперечет.
Как-то мне пришлось работать в центре, в роскошной парикмахерской на проспекте Виктора Эммануила, вблизи казарм; в парикмахерскую заходили все офицеры, а солдаты — разве только случайно. Надо было только посмотреть, как раболепствовали и хозяин и служащие, когда к нам заходил кто-нибудь из полковых «шишек»!
А когда приходил сам полковник, то это было словно второе пришествие! Хозяин собственноручно распахивал перед ним дверь, склоняясь с подобострастным «Мое почтение, синьор полковник», и затем вытягивался, как в строю. Парикмахеры кидались принять полковничью саблю, перчатки, фуражку, плащ…
А брошенные клиенты покорно ждали с намыленными щеками и подбородками.
В одно из воскресений, когда парикмахерская была битком набита военными и чиновниками — затесался даже и один епископ, — появился полковник. Он начальственно скомандовал:
— Поскорее, я тороплюсь!
И так как в этот момент я заканчивал бритье своего клиента, то высокая честь служить полковнику выпала на мою долю.
— Кто следующий?
Полковник приблизился к креслу, за которым я работал.
— Подстриги бороду, да поторапливайся!
— Садись! — ответил я.
Мгновенно в парикмахерской воцарилась мертвая тишина. Служащие оцепенели. В воздухе замерли руки с ножницами и бритвами, глаза хозяина выкатились из орбит, сам полковник посинел, но сдержался и сел в кресло.
Я, стараясь сохранить полное спокойствие, принялся за работу. Мои коллеги боялись глянуть в мою сторону, зато хозяин кидал на меня испепеляющие взгляды. У клиентов был растерянный вид, только несколько нижних чинов, брившихся в уголке, видимо, были довольны.
Полковник, пока я его брил, обращался ко мне на «вы». На чай он не посмел дать и удалился все еще посиневший. Хозяин долго расшаркивался перед ним и извинялся.
Как только он вышел, хозяин подошел ко мне:
— Вы сегодня же вечером получите расчет! Я заплачу вам за восемь дней вперед.
— Так рассчитываются с жуликами, — возразил я.
— От кого вы научились такому обращению?.. — зарычал вконец разгневанный хозяин.
— От полковника, — ответил я.
Вечером, забрав свои инструменты и причитавшиеся мне гроши, я ушел из парикмахерской. Начался тяжелый период поисков работы. Получить место было трудно: хозяева знали меня слишком хорошо. Переменить ремесло не позволяла больная нога. Потянулись черные дни нищеты. Заработок выпадал случайный, ничтожный. Сколько раз спасал меня от голодной смерти мой приятель, мывший посуду в одном из ресторанов, откуда он приносил мне остатки еды, собранные с блюд!
Но наш союз парикмахеров креп и разрастался. В один прекрасный день парикмахеры объявили забастовку. Кролики превратились в львов! Грозились избить хозяев, разнести в щепки парикмахерские… Забастовка тянулась недолго: хозяева пошли на уступки. Была увеличена заработная плата, дан отдых по понедельникам: но чаевые остались. Сами бастующие выдвигали отмену этого унизительного обычая скорее как агитационный прием.
В Турине я не мог больше найти себе работу, поэтому я перебрался в Савону, а оттуда — в Александрию. Я полюбил смену мест, но вскоре пришлось мне поехать в Мондови: захворал мой отец. Тяжелая и нездоровая работа, большей частью в подземных помещениях, длинный рабочий день, сверхурочные сломили его.
Я вновь вернулся домой. Никто уже не читал мне нравоучений, никто не старался переделать меня. Я зажил своей обычной жизнью: работал, учился, писал.
Отец умер. Я в двадцать лет стал главою семьи. Мать была хворая, трое ребят, еще маленьких, я — без работы, потому что был членом правления союза парикмахеров и потому еще, что «писал в газетах».
Одному из моих родичей удалось наконец найти мне место в Фоссано, где я засел надолго.
— Я навел о вас подробные справки. Знаю, что вы хороший работник и любите свою семью. Мне сказали, что вы образованны и умны, но… занимаетесь политикой. У меня политикой не занимаются. Запомните хорошенько: вне заведения вы можете делать, что вам угодно, но здесь — нет!
— А если какой-нибудь клиент сам заговорит о политике, что тогда я должен буду делать?
— Никто из моих клиентов не разговаривает о политике: у меня бывают только люди серьезные!
— Ладно!
И мы переехали в Фоссано.
Глава IV Борьба в маленьких городках. Бартоломео Ванцетти
Вот я и в новой моей резиденции. Это был маленький старинный городок со слабо развитой промышленностью. Много церквей, казармы, крепость, две тюрьмы, много торговцев, родовитое дворянство, попы. Попов особенно много. Кроме них, пехотный полк, артиллерийская бригада и эскадрон кавалерии. Вокруг городка — мелкое крестьянство. Во всем городе — восемнадцать тысяч населения. Ни одного рабочего кружка, ни библиотеки, ни даже читальни. Было рабочее общество взаимопомощи. Социалистической организации не было.
Однако нашлось несколько товарищей. Один из них изготовлял фруктовые воды, но занимался преимущественно изобретением летательной машины, которую назвал «ортогеликоптером» и которая должна была быть сконструирована по законам птичьего полета. Сколько птиц погубил этот парень, добиваясь постижения пленительной тайны полета! Все мальчишки городка приносили к нему птиц, попадавших в их руки, и он неутомимо изучал их крылья и строение тела.
Другой товарищ был булочник, добрый малый без особых талантов. Были еще два брата каменщика и один кузнец. С ними я сошелся очень быстро.
В парикмахерской, кроме хозяина, обо мне знали, прежде чем я еще приехал в Фоссано, все его клиенты: попы, офицеры, унтер-офицеры, купцы, тюремные надзиратели, рабочие, крестьяне. В маленьком городке даже мое появление было событием. Работа здесь была совсем иная, чем в большом городе: хозяин работал вместе с нами; очень много приходилось работать в субботу, воскресенье и среду (большая ярмарка). Хозяин, разумеется не желая этого, сделал мне своеобразную рекламу как социалисту, в результате чего я в первый же день моей работы был атакован одним из консерваторов, который посещал парикмахерскую ежедневно, как ходят в кафе, чтобы убить время. Я, конечно, отвечал.
Не прошло и двух недель, как благонамеренная парикмахерская превратилась в настоящий политический клуб. Забавнее всего было то, что сам хозяин, который никогда в жизни не занимался политикой, являлся главным застрельщиком наших диспутов. По утрам, прочитав газету, он открывал действия против меня, невзирая на то, были ли в парикмахерской клиенты или нет. Иногда я напоминал ему наш первый разговор; он досадливо пожимал плечами и продолжал громить меня и социализм. Собственно, благодаря этим диспутам со мною он позже стал муниципальным советником и асессором. Он доходил до пафоса: «Социализм — угроза, против которой надо бороться!» — и сообщал «ужасные» факты…
Крестьяне слушали его, раскрыв рты, я возражал. Так шли неделя за неделей.
Между тем я завязал сношения с местными социалистами. К нам присоединилось еще несколько рабочих, вместе с которыми мы основали социалистическую организацию и назначили одного из нас постоянным корреспондентом «Аванти» и еженедельника «Лотте нуове», выходившего в Мондови. Нам удалось также снять маленькую комнатушку, где происходили наши заседания, читались лекции и велись групповые занятия с рабочими.
Мой хозяин, узнав о существовании нашей секции, не рассердился, а в свою очередь — ученик, достойный учителя — принялся организовывать секцию христианско-демократической партии.
Первые корреспонденции из Фоссано, появившиеся на страницах «Аванти» и «Лотте нуове», были камнем, брошенным в стоячую воду. Городишко зашевелился. Три местных еженедельника: один — бесцветный, передававший хронику и поздравлявший новых «кавалеров» и «командоров» с получением ордена[19], другой — клерикальный и третий, влачивший жалкое существование от одних выборов до других, пока кандидат какой-либо партии не согласится хорошо заплатить за пропаганду его кандидатуры, — яростно набросились на нас.
Началась ожесточенная кампания: специальная рубрика была отведена «преступлениям» социалистов; в каждом номере появлялись статьи против «зловредной» деятельности социалистов, личные выпады против местных старых членов партии, которых между прочим упрекали в том, что они дали совратить себя «мальчишке-иностранцу»!
Хозяин мой, однако, не рассчитал меня, как я ожидал. Дело в том, что я привлекал клиентов в его парикмахерскую: друзья и единомышленники приходили обменяться со мной мыслями, враги — поспорить, а просто обыватели — поглазеть на «опасность», и деньги плыли в кассу.
В небольшом городке самые маленькие события имеют большое значение. Здесь царили ханжество и сплетня. Название городка звучало иронически (Fossano происходит от Fons Sana, что по-латыни означает «здоровый источник»).
Каждый обыватель перемывал косточки другого, начиная от генерала Бава-Беккариса, заслужившего в 1908 г. печальную известность расстрелом рабочей демонстрации, и кончая последним трактирщиком. Недаром «Кафе гранде», где собирались представители фоссанской родовой знати: кавалеры, командоры, каноники, богатые купцы и дельцы — избиратели Джолитти, было прозвано местными остряками «клубом злых языков»!
Немногочисленные социалисты мало чем отличались от прочих обывателей. Они отделялись от них во время выборов, собирали некоторое количество голосов и получали одно место в муниципальном совете, после чего затихали до следующих выборов.
Я сильно подозреваю, что кое-кто из консерваторов тоже голосовал за них, исходя из того, что «необходимо же иметь и меньшинство». А социалистическое меньшинство было так безобидно! Вообще в Фоссано при выборах граждане руководствовались примерно следующими соображениями:
«Такой-то очень порядочный человек — следует сделать его советником. Доходы у него хорошие, досуга много: он сможет заняться общественными делами и красть не будет».
И выбирали.
Но мы, молодые социалисты, нарушили это мирное житие: к великому изумлению почтенных граждан, мы, не ограничивая нашей пропаганды выборным периодом, каждое воскресенье разъезжали по деревням, а в течение недели вели агитационную работу в городе в нашем кружке.
Однажды мы, не входя в соглашение с другими местными демократами, устроили даже митинг, на котором я и мой товарищ защищали кандидатуры наших товарищей, ссылаясь на программу партии. Этого еще не случалось ни на одних выборах. Перепуганные граждане целую неделю судачили об этом событии, пока не подоспело другое.
Хозяин мой обслуживал соседний монастырь, куда время от времени посылались для «размышления» попы из других местностей. Однажды он послал меня туда побрить епископа.
— Помните, что ему надо облобызать руку и называть «монсиньор»!
Действительно, епископ на мое «здравствуйте» сунул мне под нос руку. Я вежливо пожал ее…
Больше меня не посылали в монастырь: знать и все попы городка были оскорблены, а хозяин на этот раз серьезно обиделся:
— Вы отвадите всех моих клиентов! Подумаешь, велика важность поцеловать руку монсиньору!
И не выдержал — сосплетничал:
— Он, наверное, будет кардиналом, говорят, что он близкий… гм, весьма близкий друг одной из принцесс королевского дома!
Но тут же испугался: а вдруг я напишу об этом в газету, и стал просить меня держать это в строгом секрете. Несколько дней он жестоко трусил.
Однажды мы решили организовать митинг в Виллафаллетто, километрах в десяти от Фоссано. В этой деревне у нас не было никого, кому мы смогли бы поручить расклеить афиши. Как всегда в таких случаях, я спросил у встречного крестьянина, нет ли у них «неблагонадежных». Крестьянин подумал, потом ответил:
— Да, один есть, булочник, некто Бартоломео Ванцетти. Но он не социалист, а из тех, которые убивают королей; он ни с кем не разговаривает, и с ним не любят беседовать.
Я попросил дать мне адрес и решил поговорить с таинственным анархистом.
На следующий же день я поехал в Виллафаллетто и без труда разыскал Ванцетти.
Он встретил меня недоверчиво. Я назвал себя.
— Такой-то, секретарь социалистической секции Фоссано. Я хотел просить тебя помочь нам…
Ванцетти, иронически усмехаясь, перебил меня:
— Понимаю, приближаются выборы…
— Дело не в выборах, — возразил я, — это будет пропагандистское собрание.
— Ну что вы сможете сделать в такой деревне? Здесь господствуют попы, народ безграмотен… Нет, я не хочу вмешиваться в это дело, у меня нет ничего общего с социалистами.
Я старался всячески убедить его.
— Думаю, что найдется общее: надо встряхнуть эту толпу, выветрить здесь ладан. Давай устроим так: я буду выступать, ты возражай мне, спровоцируем попа на выступление и докажем народу нашу правоту. Как видишь, найдется общее.
Но Ванцетти только качал голевой.
Мы долго спорили, он провожал меня за деревню. Говорил он на местном наречии. Чувствовался человек, много читавший и много думавший, твердо защищавший свои убеждения. Мне не удалось убедить его. Все же он согласился развешать афиши и отнес уведомление о собрании синдику. В воскресенье я с моим товарищем были встречены обычной «музыкой» и трезвоном.
Попы защищались отчаянно, организовывая против нас верующих крестьян. Случалось, что нас забрасывали камнями. Почти всегда собрание кончалось нашим арестом, причем полиция в рапорте сообщала, что она «спасала нас от народного гнева».
Много раз я вспоминал встречу с Ванцетти и никак не мог понять, каким образом в подобной обстановке мог появиться анархист. Но никогда я не думал, что мне придется еще раз организовать здесь митинг по поводу приговора к казни на электрическом стуле, вынесенного в Америке булочнику — анархисту из Виллафаллетто!..[20]
Это случилось в 1921 году. Нас было три оратора: коммунист, анархист и реформист. В этот приезд я познакомился с отцом и одной из сестер Ванцетти, той самой, которая потом совершила свое траурное путешествие в Бостон. Они умоляли меня не возбуждать общественного мнения; говорили, что, если делом займемся мы, от него откажутся епископ и депутат. Позже я узнал, что фашисты их запугали. Им удалось вырвать у отца Ванцетти согласие на запрещение объявленного нами митинга, который так и не состоялся. Мы покинули Виллафаллетто в сопровождении полицейских.
Эти подробности закулисной работы фашистов я узнал позднее из письма самого Ванцетти, написанного им из бостонской тюрьмы и помещенного в нью-йоркской итальянской газете в ответ на мою корреспонденцию на страницах одного из наших журналов. Письмо это — редкий документ человеческого хладнокровия — вскрывает всю мерзость клерикальных и либеральных деятелей, уже в те дни подчинивших свою политику фашизму.
Депутат Фаллетти (синдик Виллафаллетто), к которому я обратился по делу Ванцетти с сообщением о предполагавшемся митинге протеста, сказал мне:
— Не надо никакого митинга… Я лично уже занялся этим делом, хотя Ванцетти не заслужил, чтобы я им интересовался: когда совершают преступление, надо нести кару. Он опозорил нашу деревню, но мне жалко его семью. Что же касается Сакко, — его я не знаю.
Так умыл себе руки синдик Виллафаллетто.
Привожу письмо Бартоломео Ванцетти:
«Дорогие друзья из «Лавораторе»!
Я только что прочел корреспонденцию «Меднобородого»[21], появившуюся в «Лавораторе» 3-го с. м. под заглавием «Сакко и Ванцетти не должны умереть!» Автор впал в некоторые неточности, которые объясняются, конечно, непродолжительностью его пребывания в незнакомом ему Виллафаллетто, но которые, приписывая вину невинным, могут привести читателя к неправильным и ошибочным суждениям. Поэтому я решил написать это разъяснение, которое и прошу вас напечатать. Корреспонденция сообщает, между прочим, что депутат Фаллетти и префект Кунео — клерикал, дворянин, джолиттианец Фрутери ди Костильоле запретили митинг и ораторы избежали ареста, не попав в казарму карабинеров.
Без сомнения, «Меднобородый» писал это без злого умысла, но он ошибается. Не депутат Фаллетти и не граф Фрутери запретили митинг, а мой отец. Это было сообщено мне письмом моими сестрами. Когда фашисты узнали о готовившемся митинге, они направились прямёхонько к семье, которой возмущенно заявили, что достаточно было их одних, для того чтобы добиться помилования, и что вовсе не требовалось вмешательства «красных», и потребовали у моего отца выставить красных за дверь, если бы они явились, и атаковать их в местной газете. Отец мой, консерватор, но не фашист, ответил этим господам, что он был признателен «красным» за то, что они сделали для его сына, и что у него нет причины нападать на них. Позже моего отца запросил синдик, желает ли он, чтобы митинг состоялся. Мне грустно сообщить, что отец ответил отрицательно. Ораторы, очевидно, не были осведомлены об этих подробностях, объясняющих поведение местных властей, запретивших митинг. В этом и состоит неточность «Меднобородого», которую я и исправляю во имя истины.
В остальном его корреспонденция — великолепный реалистический набросок, рисующий мою деревню. Реакционные настроения ее объясняют поведение моего отца и слова депутата Фаллетти. Ни депутат Фаллетти и никто другой не могут сказать, чтобы я когда-либо обнаруживал преступные наклонности. С детских лет я в поте лица зарабатывал хлеб свой. Но я анархист, я приговорен, следовательно, для депутата Фаллетти я — висельник. Поведение моего отца как бы оправдывает такое мнение. Кончаю заявлением, что я в хороших отношениях с моими сестрами, братом, родственниками и моими старыми друзьями. Никто из них не стыдится меня. И мои сестры хотели бы сердечно принять «Меднобородого», землемера Кьярамелло и другого оратора, которым я посылаю привет и благодарность также от имени моих сестер.
Сердечно Ваш Бартоломео Ванцетти
Р. S.
Депутат Фаллетти рассматривал наше дело как обыкновенный случай, когда в виновности обвиняемых не сомневается даже защита или когда никто не заинтересован в их смертном приговоре и последующей казни. Поэтому он просил для нас помилования, то есть пожизненной каторги. Тем не менее — спасибо депутату Фаллетти.
Что же касается фашистского правительства, то для него не было ничего легче, как добиться правосудия, но по всему видно, что оно хочет быть помощником палачей.
9. VII. 1926 года».
Ванцетти написал мне еще одно письмо из тюрьмы, за несколько месяцев до казни. Он его послал в редакцию редактируемого мною еженедельника. Об этом я узнал гораздо позже. К сожалению, это письмо до меня не дошло из-за того, что я был выслан фашистами из провинции Кунео.
Когда прах Ванцетти прибыл в Филлафаллетто, деревня была словно на военном положении. К гробу были допущены только члены семьи и то в сопровождении полицейских и фашистской милиции.
Глава V Работа социалистической организации… и Лурдская богоматерь
Работа нашей социалистической организации, несмотря на все трудности, приносила свои плоды. Из кружка выросла Палата труда. Но было очень трудно подыскать для нее соответствующее помещение; одной комнатушки на чердаке, как это было раньше, теперь не хватало. У нас уже имелись три профсоюза: строителей, металлистов и текстильщиков. Кончился период политических диспутов по кафе и парикмахерским, начинался период реальной работы по организации рабочих. На выборах в палату депутатов мы выставили уже своего кандидата.
После длительных поисков мы нашли помещение, и работа закипела. Организовались новые союзы — сапожников, бумажников. Должен сознаться, что в Фоссано мне не удалось найти и десятка сознательных парикмахеров — числа, необходимого для организации профессионального союза. Классовое сознание работников бритвы здесь было еще ниже, чем в Турине, а число парикмахеров намного меньше.
В новом помещении мы разместились недурно. У нас был большой зал для собраний и несколько комнатушек для работы, где мы разместили кружки, библиотеку, врачебную и юридическую консультацию. Каждую неделю у нас происходили собрания, конференции, лекции. Часто наезжали секретари и пропагандисты различных профсоюзных организаций, к которым принадлежали наши местные союзы, давали директивы, поддерживали постоянную связь. Позже мы добились даже собственного секретаря для нашей Палаты. Нам удалось широко развить агитационную работу, провести несколько забастовок, увенчавшихся успехом.
В парикмахерской тоже кипела борьба. Почтенные клиенты в мое отсутствие схватывались с хозяином за то, что он держит меня.
— Стоило появиться этому иностранцу — никто даже не знает толком, кто он, — как все за ним и побежали!
Они советовали хозяину уволить меня, но, чтобы не показаться жестокими, говорили:
— Кто знает, сколько он зарабатывает как секретарь и журналист? Даром и собака хвостом не вильнет!
Отношения мои с клиентами явно портились. Однажды некий майор вздумал прочитать мне нравоучение:
— Мне было сообщено, что вас видели с моими солдатами. Знаете, это опасная игра! Я запрещаю вам останавливать солдат, иначе…
— Что такое? — перебил я, потеряв терпение. — Я гуляю, с кем мне нравится, и плюю на угрозы. Вам, очевидно, кажется, что вы разговариваете с рекрутом? Я запрещаю вам разговаривать со мной таким тоном!
Офицер, привыкший к совсем иного рода ответам в казарме, забил отбой.
Старшина карабинеров и комиссар «общественной охраны» братски делили между собой работу по слежке за мною. То один, то другой по очереди в дни наибольшей работы в парикмахерской — в воскресенье или среду — вызывали меня для «объяснений» с очевидной целью вынудить хозяина уволить так часто отсутствующего работника. Но — странная вещь — он держался за меня крепко.
С утра до вечера хозяин грызся со мною, но не сдавался.
В числе посетителей парикмахерской был каноник, придерживавшийся мнения, что «необходимо уважать всякое убеждение». Презабавный был каноник! Он вбил себе в голову «обратить» меня и мечтал свезти меня в Лурд (французский город в Пиренеях) к знаменитой мадонне, которая должна была исцелить мою ногу! Он вел свою кампанию «обращения неверующего» по особому методу: приносил мне религиозные бюллетени, посвященные описанию чудес, совершаемых лурдской богоматерью.
Аккуратно два раза в неделю я получал очередную дозу сообщений, которые действительно приносили мне пользу… снабжая материалом для антирелигиозной рубрики, которую я завел в «Лотте нуове».
Когда каноник решил, что почва достаточно подготовлена, он начал наступление. В один прекрасный жаркий полдень, когда обычно замирает вся жизнь в провинциальных городах, каноник появился в парикмахерской. Я был один и очень удивился, так как он отличался пунктуальностью, а это не был его день.
— Вот и прекрасно! — воскликнул каноник, приветливо здороваясь со мною. — Я именно и желал поговорить с вами с глазу на глаз.
— Садитесь, — пригласил я, полагая, что последует повествование о каком-нибудь необычайном чуде.
Каноник уселся, вытер пот, понюхал табачку и затем торжественно и внушительно, как подобает пастырю, начал:
— Я знаю, что вы социалист и неверующий. Я же — слуга господа, недостойный раб его, всячески пекущийся об исполнении воли его. — И снова понюхал табачку.
Я не понимал, куда он гнет.
— Вы знаете, как чту я лурдскую девственницу.
«Так, — подумал я, — новое чудо!»
Каноник продолжал:
— И вот, я твердо уверен, что она исцелит вашу ногу. Это исцеление спасет вас от неверия и направит на истинный путь. Я знаю, что только чудо убедит вас. Святая дева, которой я давно уже молюсь за вас, совершит это чудо. Я пришел к вам с практическим предложением. Что бы ни рассказывали о вас ваши враги, я знаю, что вы бедны и что вам не по карману поездка в Лурд даже с поездом богомольцев, который как раз отправляется на днях. У меня есть кое-какие сбережения. Я отдаю их вам на поездку в Лурд. Вы исцелитесь и убедитесь в том, что бог всемогущ. И так как вы умны, честны и добры, то из вас выйдет прекраснейший миссионер. Это будет блестящая победа веры, которая вполне вознаградит меня!
Каноник умилился, вспотел, из носа у него выглянула коричневая капля.
— А если я не исцелюсь? — возразил я.
— Это невозможно! Если вы не исцелитесь, у вас будет право писать все, что вам угодно…
— У меня и так есть это право.
Каноник вытер пот, обильно орошавший его лоб, и с новой энергией принялся уговаривать меня поехать. Он говорил долго, было очень жарко, и я с трудом боролся с дремотой, овладевавшей мною.
— Решайте: да или нет? — торжественно воскликнул каноник.
— Согласен, — произнес я, почти засыпая.
Каноник сиял.
— Я сейчас же бегу занять вам место в вагоне второго класса. Завтра приду с билетом — кстати, это мой день для бритья. — Он пожал мне руку и умчался с невероятной быстротой. Я скоро забыл о нем, занявшись клиентами.
На следующий день, однако, каноник не явился. Не явился он и в следующий «свой» день. Через некоторое время он прислал хозяину письмо со вложением абонементной карточки. Каноник писал: «Я не могу больше пользоваться вашими услугами. Причины этого я объясню вам лично».
Хозяин недовольно сказал мне:
— Причина эта — вы. Вы оскорбили его религиозные чувства.
— Никоим образом! Он хотел отправить меня в Лурд, я согласился. Чего же вам больше?
Физиономия моего хозяина превратилась в вопросительный знак.
— Вы едете в Лурд?
— Готов отправиться. Вы ведь знаете, что каноник уговаривал меня поехать туда. На прошлой неделе он предложил мне поехать за его счет. Ушел купить билет и не вернулся. Вероятно, он сообщил о моем «обращении» своим более умным коллегам, в результате чего вы потеряли клиента.
История стала притчей во языцех в городке. Каноника я так больше и не видел.
Глава VI «Аванти» Муссолини
Бедняга каноник, который, сам того не подозревая, сотрудничал в антирелигиозной работе «Лотте нуове», кончил тем, что был обессмертен на страницах «Аванти».
Я был необычайно счастлив, когда на страницах «Аванти» появилась моя первая корреспонденция. Главным редактором («директором») газеты был тогда Муссолини[22].
Муссолини!.. Главные редакторы «Аванти» всегда являлись руководителями Итальянской социалистической партии, но «Аванти» не везло. Все они кончали плохо. Первый из них — Биссолати — стал интервентистом (сторонником вступления Италии в мировую войну), затем министром национальной пропаганды во время войны и в палате депутатов грозил социалистам расстрелами! Энрико Ферри, некогда наш кандидат в парламент, превратился в фашиста. Это был самый развязный паяц, какого когда-либо знала политическая жизнь Италии. Оддино Моргари кончил реформизмом. Тревес — тоже. Кем стал Муссолини, мы знаем; чем он кончит, еще не известно.
И лишь один Серрати[23] хотя и отошел в начале от коммунистов, но после года борьбы с III Интернационалом все же признал свои ошибки и вернулся к нам. Муссолини, нынешний палач итальянского пролетариата, был, пожалуй, наиболее популярным из главных редакторов «Аванти». В его руках орган Итальянской социалистической партии перестал быть, как при Биссолати и Тревесе, вместилищем бесконечных статей, ложившихся кирпичами на мозги и в замаскированной форме призывавших к сотрудничеству с буржуазией. Газета стала по-настоящему боевой. Когда мне случается теперь перечитывать пыльные страницы бедного «Аванти», я размышляю о поражении, которое итальянский пролетариат потерпел после знаменательного захвата фабрик и заводов в 1921 г., и о судьбах нашей газеты и ее главных редакторов…
Но Муссолини заполнял всю газету собственной особой. Имя Муссолини пестрело на всех шести колонках ее, как красуется оно теперь на всех страницах «Пополо д’Италия»[24].
Статьи эти прекрасно подходили к нашей латинской психике: слова, слова, торжественные, напыщенные, громкозвучные. Последний документ того времени, его воззвание против войны, был все в том же стиле.
В сущности, все мы были приучены к такого рода пропаганде. Что такое социализм? Справедливость и свобода. Как этого достигнуть? Путем сотрудничества с наиболее передовыми элементами буржуазии и речами, более или менее зажигательными. Как сделать революцию? Весьма просто…
Муссолини превзошел всех своих предшественников в искусстве демагогии.
Я познакомился с ним в Милане, в помещении «Аванти», на одном из собраний корреспондентов этой газеты. Он мне показался иным, чем я его себе представлял, и это впечатление усилилось, когда я слушал его выступление: я был разочарован. Он все время говорил о себе, о своих предложениях, о своих статьях… Это было накануне войны в Ливии. Он дал нам директивы, объясняя, как писать корреспонденции, говорил долго. И небрежным жестом подписал наши корреспондентские карточки (моя была забрана вместе с прочими бумагами при обыске). В нем не чувствовался наш товарищ. В его отношении к остальным редакторам тоже было что-то неприятное.
Я снова увидел его в Турине, на выборах в палату депутатов. Он надеялся быть кандидатом от пролетариата Турина, но рабочие отклонили кандидатуры всех интеллигентов, а среди них было немало жаждавших принять на себя это бремя! Муссолини тоже жаждал, но, узнав о том, что выбор рабочих пал на рабочего же, Бонетто, поспешил снять свою кандидатуру. Он прибыл в Турин, чтобы выступить в защиту кандидатуры Бонетто. Он очень боялся перед этим собранием: националисты были по-боевому настроены и могли поколотить его если не как Муссолини, то как главного редактора «Аванти».
Это напоминает мне печальную историю с нашим товарищем, депутатом Этторе Кроче, которого жестоко избили фашистские студенты Болонского университета, где он был профессором. Избивая его, фашисты приговаривали:
— Мы бьем не профессора Кроче, к которому питаем большое уважение, а коммуниста Кроче!
И били весьма старательно…
Муссолини, вероятно, опасался подобного же раздвоения личности. В рабочем Турине в те времена это было мало вероятно. Будущий кандидат в Наполеоны все же жестоко трусил перед выступлением. Но когда, поднявшись на трибуну, Муссолини услыхал плеск аплодисментов, он сразу превратился в льва.
С тех пор я его больше не видел, но зато во всех полицейских учреждениях мог любоваться его портретами…
Тогда же я познакомился и с Серрати. Какая разница между ним и Муссолини! В Серрати с первого же взгляда чувствовался друг, товарищ. Он внушал безграничное доверие. Интересовался каждым из нас, заботился, спрашивал мнение, советовал. На работе он был строг, тверд, непреклонен. По окончании занятий становился юным и веселым, играл, шутил… С ним я встречался постоянно. Мы бывали с ним на многих конференциях и съездах, жили потом вместе в России и работали рука об руку в Италии вплоть до его смерти. Был в этих отношениях перерыв, когда мы боролись против него, но он вернулся к нам, по-прежнему неутомимый работник и отважный борец.
Тяжелая, полная лишений жизнь, тюрьмы, ссылки, эмиграция не ожесточили его сердца. В тюрьме, в Швейцарии, в Америке, на дальних островах среди океана и на близлежащих островах, куда ссылают на каторгу, — всюду оставался он тем же веселым другом и заботливым товарищем, готовым отдать последнюю рубашку первому, кому она понадобилась бы…
Глава VII Стачки. В больнице
Экономические условия работы строительных рабочих были прескверные, не лучше обстояло дело и с кирпичниками. Это вместе с нашей усердной пропагандой и усиленной агитацией привело рабочих к объявлению забастовки. Вещь небывалая на родине Бава-Беккариса!
В парикмахерской диспуты приняли грандиозные размеры. Можно было подумать, что настал конец света. Вопрос обсуждался со всех сторон:
— Прекратить работу как раз теперь, в сезон, когда можно так хорошо заработать!..
— Позволить смутьянам вскружить себе голову!
— Они уже столько потеряли за эти дни, что не хватит целого года прибавки, если им удастся ее получить, чтобы вознаградить потерянное! — рассуждали «теоретики».
— Пора с этим покончить. Засадить куда следует с полдюжины вожаков, и все кончится! — советовали «практики».
И все они сходились на одном:
— Никогда ничего подобного не было видано в нашем городе!
На меня сыпались насмешки, вопросы, угрозы. Строители победили, кирпичники продолжали забастовку. Хозяева заявили, что «сломят шею профсоюзу», и искали штрейкбрехеров. Таковые нашлись. Мне удалось узнать адрес одного из них, жившего в деревне возле Новара. Я написал ему, объяснил суть события, описал героическую борьбу его товарищей, отцов семейств, зарабатывавших так мало, что их дети почти голодали, наши усилия помочь им. Я убеждал его и его товарищей не ехать на работу в Фоссано.
Через несколько дней после отправки письма за мной явились карабинеры. Комиссар, отпетый пьяница, допрашивавший меня, заявил с торжеством:
— На этот раз вы попались! В этом письме имеются данные, по которым вас можно закатать на каторгу: покушение на «свободу работы». Обыщите-ка его и отведите в камеру!
На следующий день меня выпустили. Очевидно, комиссар, когда в его голове рассеялись винные пары, сообразил, что «покушение на свободу» было совершено не мною, а по отношению ко мне…
Штрейкбрехеров приехало только двое, остальные либо испугались, либо устыдились. Победили кирпичники.
Из забастовок этого периода следует отметить еще преоригинальную забастовку арестантов. В Фоссано, как я уже говорил, — две тюрьмы: Санта-Катерина и Кастелло. Первая из них — тюрьма, специально выстроенная, вторая же — старый замок, сооруженный в конце XIV века, с четырьмя башнями по углам, похожий на каменный стол, перевернутый ножками вверх. Свыше тысячи арестантов и сотни тюремщиков составляли население этих мрачных зданий. В обеих тюрьмах были устроены разнообразные мастерские: сапожные, ткацкие, корзиночные, которые обычно отдавались на откуп частным предпринимателям. Заключенные с утра до ночи работали на них, получая сорок чентезимов в день. Эта плата делилась на три части: одна шла тюремной администрации, другая откладывалась на сберегательную книжку заключенного, которая вручалась ему при выходе из тюрьмы; третья часть выдавалась заключенному на руки. Я знавал арестантов, которые после пятнадцатилетнего тюремного заключения выходили на волю с сотней заработанных лир.
Предприниматель, эксплуатировавший этих несчастных, был клиентом нашей парикмахерской и конечно, одним из самых ярых противников социалистов. С того момента, как он взял на себя тюремный подряд, союз обувников переживал тяжелый кризис. Безработица тянулась уже свыше года — явление, общее для всех городов, в тюрьмах которых имелись сапожные мастерские, отданные на откуп.
Профсоюз созвал конференцию для изучения этого вопроса: местом конференции был избран Фоссано. На конференции было постановлено провести ряд агитационных выступлений с целью заставить правительство уравнять заработок вольных и тюремных рабочих. Агитация привела к совершенно неожиданным результатам, быстро решившим судьбу начатой борьбы. Мы знали от тюремных сторожей, которых мне случалось брить, что среди заключенных бродило глухое недовольство оплатой, которую они получали. Оказалось нетрудным переслать им несколько записок. Мы писали им:
«Ваши товарищи по работе волнуются. Унизительные условия вашей работы не только обогащают ваших подрядчиков, но отнимают хлеб у многих рабочих и их семейств. Мы начали движение против эксплуатации, которой вы подвергаетесь. Протестуйте и вы, отказывайтесь от работы».
Одновременно мы разоблачали на страницах нашей газеты неслыханную эксплуатацию арестантов и вытекающие из этого последствия.
В одно прекрасное утро — прескверное для подрядчика — заключенные отказались работать. Так как они не могли не выйти из своих камер, то они пришли в мастерские, уселись за рабочие столы и все, как один человек, начали «белую» забастовку, которая в России известна под именем «итальянской».
Можете себе представить, какое впечатление это произвело в городе! Тюрьма Санта-Катерина была окружена солдатами. Странное дело, в Италии тюрьмы и полицейские управления носят всегда имена святых: туринское полицейское управление называется Сан-Карло, миланское — Сан-Феделе; римская тюрьма — «Царица небесная»; тюрьма Милана — Сан-Витторе; Болоньи — Сан-Джиованни и т. д.
Заключенные, снабженные для работы сапожными ножами, не позволили себе ни одной угрозы, ни одного жеста, несмотря на то что их хотели спровоцировать на акты насилия для оправдания «подавления». А ведь многие из них были людьми, привыкшими вспарывать брюхо своему ближнему. Но на этот раз они держались совершенно спокойно.
Начались переговоры. Заключенным предложили одну лиру и сорок чентезимов в день, что сразу уравнивало их с вольными рабочими. Подрядчик ходил совсем пожелтевший от злости. В парикмахерской громко ругали «смутьянов», которые «поддерживали связь с преступниками».
Как всегда в таких случаях, несколько тюремщиков было смещено, кое-кого из арестантов посадили в карцер. А я получил кучу благодарственных записок, нацарапанных карандашом, спичками и даже кровью. Нас вызывали в полицию, допрашивали, но ничего не добились. Тюремный капеллан, старый поп, говорил мне, что арестанты всегда вспоминали меня и других социалистов.
— Они вовсе не злые, — заканчивал он, — они просто несчастные…
Примерно в этот же период я должен был перенести операцию ноги.
Операция ожидалась довольно сложная. Доктор утешал меня тем, что, если операция удастся, нога выпрямится, а если нет, то ее отрежут и заменят искусственной.
— Делайте как хотите, — отвечал я. Да и что иное я мог сказать?
Отпуск я взял на три месяца, и, надо сказать, хозяин его дал охотно, с кучей добрых пожеланий. С деньгами обстояло хуже: я получил от него двадцать лир, и это было великой щедростью с его стороны. К счастью, в моей семье к этому времени работали уже все.
В госпитале, увы, не Маврицианском, о котором некогда мечтал мой отец, но в городском, прозванном «бойней», меня обступили монахини.
В Италии сиделками работают монахини, которые надеются хотя бы таким путем «уловить человеческие души». Монахиня, в ведении которой находилась палата, где я лежал, заявила мне:
— Послезавтра вы будете оперированы. Завтра вы исповедуетесь и причаститесь. Надо всегда быть готовым предстать пред судом божиим. Кого из священников вы предпочитаете: дона Гауденцио или дона Джованни?
— Спасибо, — ответил я, — не беспокойтесь, сестра, и не тревожьте ни дона Гауденцио, ни дона Джованни. Меня нечего исповедовать: я не верю в бога.
Монахиня испуганно воззрилась на меня.
— В правила госпиталя внесено исполнение религиозных обязанностей. Вы — христианин? Вот номер девяносто девятый исповедался уже.
— Оставьте меня в покое, сестра!
Монахиня ушла. Вскоре ее сменил поп. Он тоже говорил о больничных правилах, о боге и его милости и ушел не солоно хлебавши. К вечеру появился еще один.
Мои соседи по койке говорили:
— К девяносто восьмому (это был мой номер), увидишь, придет монсиньор.
И действительно, епископ остановился у моей койки:
— Здравствуйте, брат мой! Вы вновь прибывший?
— Да, это я. Вы, очевидно, хотите сообщить мне правила госпиталя? Предупреждаю, они мне известны.
Монсиньор был поумнее своих подчиненных.
— Нет, нет, будьте спокойны. Я умею уважать всякие убеждения и хочу просто поболтать с вами, если это вас не обеспокоит…
Я не ответил, но монсиньор принял молчание за знак согласия, уселся и продолжал:
— Как вы здесь себя чувствуете? Хорошо?
— Так, как может себя чувствовать человек, которому предстоит операция, — досадливо ответил я.
Не смущаясь, епископ продолжал, очевидно, пытаясь найти веский аргумент:
— Не надо волноваться. Профессор Изнарди — мировая известность, этого хирурга не прочь были бы заполучить к себе иностранные клиники. Наука ушла вперед… У нас здесь редки случаи смерти после операции, меньше одного процента. Конечно, всегда есть опасность… ошибка, заражение. Жизнь наша держится ведь на ниточке, а за нею… Мы верим в рай, в бога, вы — в то, что ничего не создается и ничего не исчезает… иные верят в переселение душ, иные — в небытие… Ясно одно, что всегда, надо быть готовым к смерти. Смерть всегда близка к нам, тем паче, когда предстоит операция…
И так далее, и так далее.
Монсиньор всеми силами старался посеять во мне свои семена. Я молча слушал. Мое молчание воодушевляло его, он надеялся, что тронул мое сердце. Наконец я улыбнулся.
— Святой Игнатий Лойола[25] из «Общества Иисуса» создал хорошую школу, не правда ли, монсиньор?
Епископ замолчал. Поднялся.
— Хорошо же ваше христианское милосердие, нечего сказать!..
Монсиньор двинулся к выходу.
— Я буду молиться о вас…
— Благодарю, не беспокойтесь.
Епископ исчез. Мой сосед, девяносто девятый номер, улыбнулся.
— Ну, этот больше не вернется.
— Правда ли, что ты исповедовался и причащался? Ты что же, верующий?
— Порка мадонна, как я могу верить? — заговорил сосед, с трудом приподнимаясь на кровати. — Не знаю уж, сколько месяцев я перехожу из больницы в больницу! И все почему? Ты только послушай! В первые дни моего приезда сюда — я еще не знал тогда, что такое жизнь большого города и какие бывают люди: я, видишь ли, с гор — так вот, повстречалась мне женщина. Красавица! Ну, точь-в-точь, как мадонна в нашей церкви в деревне. Остановила меня. Спрашивает, как пройти куда-то, а голос у нее нежный, глаза такие красивые! Смутила она меня… Я говорю, что не знаю города. Она предложила проводить меня. Ах, какая красавица! Я был при деньгах, пригласил ее поужинать. Согласилась. Ну, после ужина пошла меня провожать, осталась на ночь у меня. Точно сон какой-то! А когда я проснулся, — ни ее, ни часов, ни денег. Так-то! Пошел я в полицию, рассказал. Там смеются, говорят: «Не беспокойтесь, мы этим займемся». Это еще не все, милейший мой девяносто восьмой: сорок дней я провалялся в Сальсотто[26] — вышел, упал от слабости и тут же сломал себе ногу! И вот снова лежу… И это еще не все: несколько дней назад зуб у меня заболел. Посмотрел доктор и говорит: «Вырвать надо». — «Валяйте», говорю. Он вырвал, но, скотина этакая, вырвал-то здоровый вместо больного! А вчера еще одно несчастье: у меня левый глаз что-то разболелся; так вчера доктор и говорит мне, что надо из-за глаза еще ложиться в глазную клинику!..
— И ты за все это исповедовался? В благодарность господу богу?
— Черт побери, я исповедовался потому, что мне надоедали и потом с теми, кто исповедовался, обращаются лучше.
В палате забегали санитары, послышались стоны: на носилках внесли раненого. Его положили рядом со мною, на койку номер девяносто семь. Это был молодой еще парень, одетый в рабочий костюм.
— Безнадежен, — сказал мне один из санитаров. — Раздавлен трамваем. Часика два подышит, не больше…
Едва изувеченного положили на койку, как появилась монахиня:
— Хотите исповедаться, брат мой?
— Сукин сын бог и его мамаша! Дайте мне умереть спокойно! — прохрипел раздавленный.
Пришел врач, сделал впрыскивание и ушел. Ушли остальные.
Когда у несчастного началась агония и он уже и ругаться перестал, явился поп и совершил над умирающим все свои обряды. Позже пришла семья покойного. Утешая их, монахиня говорила:
— Он умер, как святой!
Через день меня оперировали; дело обошлось благополучно.
Сестра Роза, монахиня нашей палаты, пропела мне:
— Я молилась за вас, и бог вам помог…
— Ну и бог же у вас, если помогает безбожникам! — не выдержал я.
Сестра оскорбленно удалилась.
Я вернулся домой в значительно лучшем состоянии.
Глава VIII Война 1911 года
В Фоссано я не мог долго залеживаться. Дела было по горло, а народу стало меньше: агитационная работа, забастовки и связанные с этим аресты уменьшили наши ряды и активность нашей Палаты труда — явление, впрочем, обычное в Италии. Надо было пополнить ряды, надо было реорганизовать нашу Палату из местной в областную.
Провинция Кунео — область по преимуществу земледельческая, в которой земля раздроблена на мелкие владения, настолько мелкие, что в некоторых деревнях, поближе к горам, есть участки, урожая с которых хватает земледельцу только на полгода. В нагорной части имеется много виноградников, но и эти участки очень раздроблены. Так как здесь растут тутовые деревья, то распространено шелководство. Много мелких торговцев и ремесленников. Промышленность развита мало: есть металлические и химические заводы, кожевенное и гончарное производство. Условия работы тяжелые, организация слаба. Даже непосредственно после войны у нас на всю провинцию было не более двенадцати тысяч организованных.
Объединить местные профсоюзы было необходимо не только потому, что этого требовал центр, но и потому, что многие фирмы имели свои предприятия в разных городах провинции. Нужно было провести ряд предварительных совещаний перед областной конференцией. Для этого я был принужден оставлять парикмахерскую даже в самый горячий день — воскресенье. Это било хозяина по карману. Он выносил все: бури диспутов, которые я вызывал в его мирном заведении, мои «объяснения» в полиции, натиск благонадежных граждан, требовавших моего увольнения, но не мог выдержать денежных потерь. Он делал мне замечания и был явно недоволен мною. Но что оставалось мне делать? Не прекращать же организационной работы из-за него. Я нашел выход. Вместе с другим парикмахером, проработавшим десять лет в Париже, мы решили работать самостоятельно. Когда я сообщил об этом решении хозяину, того чуть удар не хватил.
В сущности, он любил меня, несмотря на мои частые отлучки.
— Вы с ума сошли! Кто пойдет к вам бриться? В наших краях социалистам нет ходу. Видели Ганья? Ему пришлось эмигрировать в Америку, другие сидят без работы. А Фузери (это был фабрикант лимонада и творец «ортогеликоптера», который так и не полетел) не может даже достроить свою машину. Если вы откроете парикмахерскую, ее будут бойкотировать. А ваш компаньон… — Он о нем отозвался плохо.
Но мы все же начали самостоятельно работать.
Сначала дело шло плохо: в первую неделю мы заработали по четырнадцати лир; нас действительно бойкотировали «благомыслящие» граждане; однако мало-помалу у нас образовался свой кружок клиентов. Новых лиц было немного: ходили товарищи, сочувствующие; ходил кое-кто из старых посетителей, попы, офицеры. Вероятно, из любопытства.
Немного времени спустя мы уже зарабатывали так, что хватало на жизнь, а свобода дискуссий у нас была неограниченная!
Кроме того, я мог беспрепятственно уезжать в любое время. Мой компаньон не протестовал: двойную нагрузку в такие дни он рассматривал как свою долю участия в пропаганде.
Это был период интенсивнейшей работы. Я вел пропаганду, составлял прокламации и воззвания, сам их развозил и расклеивал (у меня даже ведерко с клеем и кистью прикреплено было к седлу велосипеда!), был журналистом и газетчиком одновременно. По вечерам в Палате труда я писал заявления, составлял просьбы и заполнял формуляры для пострадавших на работе. У нас было устроено бюро медицинско-юридической помощи для того, чтобы вырвать пострадавших из рук адвокатов.
Из-за этих моих занятий я снова попал под суд. Меня обвиняли в «незаконном присвоении звания», однако пришлось оправдать.
Это случилось таким образом.
Как-то явился ко мне в парикмахерскую нищий, здоровеннейший мужчина, почти слепой. Он сообщил мне, что потерял зрение вследствие ранения при взрыве в шахте.
— Разве фирма не выплатила вам возмещения за инвалидность? — спросил я.
— Нет… дали мне сотенку лир.
У него были кое-какие документы. Я обещал переговорить с нашим адвокатом. Он оставил мне свои бумаги и адрес. Выяснилось, что он может получить с фирмы довольно крупную сумму за инвалидность. Директор шахты, получив соответственное уведомление, рассвирепел, вызвал к себе слепого и пожелал узнать, кто вбил ему в голову, что он может получить такие деньги. Нищий, для которого все «письменные» люди были равны, сказал: «Это адвокат из Фоссано…» И сообщил мое имя и адрес.
Я терпеть не могу адвокатов, а тут меня потащили в суд за присвоение этого звания!
Фирма прибегла к помощи своего адвоката, этот написал мне и полиции. Меня вызвали на допрос. Я не отрицал своего участия и вообще той помощи, которую я оказывал пострадавшему. Процесс, как я уже сказал, не удался. Меня оправдали, и буржуазным адвокатам не удалось «нагадить» социалисту.
Итальянская буржуазия снова усердно подготовляла войну в Африке. Правительство Джолитти при помощи миллионов, почерпнутых в «Банко ди Рома»[27], обрабатывало общественное мнение. Особенно старались националисты. Триполитания в их статьях превратилась в обетованную землю, в житницу Италии.
— «Триполи, прекрасная земля любви!..» — слышалось на всех площадях Италии.
Студенты перестали заниматься вопросом о Тренто и Триесте[28] и устраивали демонстрации, требуя завоевания Триполи. «Военная прогулка», — уверяли патриоты. Общественное мнение было достаточно умело обработано. Горе тому, кто осмеливался не верить в триполитанскую пшеницу, бананы, финики и в любовь триполитанцев к Италии! Эти арабы словно только и делали, что поджидали, выстроившись на «африканском золотом пляже», прихода итальянских судов с солдатами…
В эту легенду поверил даже кое-кто из членов социалистической партии. Пришлось кое-кого исключить из партии.
За патриотические чувства должны были расплачиваться проживавшие в Италии турки и… социалисты. Первые — за то, что они «угнетали бедных арабов», вторые — потому, что во многих городах отправление войск вызвало демонстрации, организованные социалистами. В Тоскане демонстрации приняли особенно бурный характер: разбирали рельсы, в некоторых местностях женщины с детьми ложились на пути и не пропускали поездов. Во всем этом обвинялись социалисты и турки. Поэтому магазины и дома турок были разгромлены, а социалистов сажали в тюрьмы и отдавали под суд.
На улицах развевались знамена, играла музыка, проходили солдаты.
Война! Война! И общее недовольство… Но никто не смел его выразить из страха быть принятым за турка или социалиста. Нас так и называли «турками», как позже называли «австрияками», «немцами», а еще позже — «русскими большевиками»…
В нашей секции тоже нашелся один любитель войны, знаменитый изобретатель «ортогеликоптера». Он тщетно пытался нас распропагандировать и кончил тем, что вышел из партии.
Муссолини был против войны, за что и попал под суд. У нас как раз в это время подготовлялась конференция для организации провинциальной Палаты труда. Товарищи, прибывавшие на конференцию из своей провинции, попадали за решетку. Их судили за намерение участвовать в собрании «крамольников» и приговорили к нескольким дням заключения.
Из нашей местности многие были призваны на войну. В одно из воскресений резервисты устроили демонстрацию, сильно взволновавшую обывателей и напугавшую власти. Неизвестно по чьей инициативе — только не от нас исходившей — они сошлись все на главную площадь города. Их было несколько сот человек. Не было никаких возгласов, никто даже не выступал, не провозглашал каких-либо лозунгов. Эта немая неподвижная толпа производила внушительное впечатление. Несколько офицеров, находившихся здесь, начали обходить собравшихся.
— Что вы тут делаете?
— Ничего. Освежаемся.
— Проходите, проходите!..
Никто не двинулся с места. Потом они так же внезапно и молча разошлись. Когда я прибыл на площадь с намерением произнести речь, я нашел там только нескольких солдат и множество карабинеров. На следующий день карабинеры явились за мной. Комиссар сообщил мне:
— Мы знаем все. Бесполезно отрицать. Нам известны также и ваши сообщники, которые уже все выложили. Поэтому лучше для вас сознаться.
— Сознаться? В чем?
Я прекрасно понимал, о чем идет речь, но был действительно неповинен!
— Не валяйте дурака! А вчерашнюю демонстрацию — кто ее подготовил? Мы знаем, что к вам ходит много солдат, двое из них уже сидят… Попробуйте отрицать ваши сношения с капралом Комеи и со старшим капралом Биболотти. У нас эти птицы запели!
— Значит, они умеют петь. Я пению не обучался.
— Нечего остроумничать! — вскипел комиссар. — Сознавайтесь — лучше будет.
Сознаться я ни в чем не мог. Меня обыскали и отправили в тюрьму.
— Смотрите-ка: цирюльник! — раздался голос из глубины камеры, куда меня ввели. — Каким ветром занесло?
Вопрошавший был один из моих клиентов. Его посадили за то, что он, подвыпивши, обозвал полицейского «грязным ослом». Через два дня меня выпустили.
Мои «сообщники», Комеи и Биболотти, один — социалист и другой — анархист, заходившие ко мне раньше каждый день читать «Аванти», долго не показывались после моего ареста. Наконец я получил от них записочку, назначавшую мне свидание за городом. Они рассказали мне, что сидели в тюрьме. Их допрашивал майор, сообщивший им, что я сам «запел». Им грозили, их уговаривали. Майор говорил:
— Я знаю, что вы порядочные парни, умные. Во всем виноват этот проклятый цирюльник. Мы хотим обезвредить его, а вы, как добрые итальянцы, должны помочь мне. Следите за тем, что он делает, бывайте у него по-прежнему и слушайте, что он говорит солдатам.
Этот бравый майор написал в полицию следующий безграмотный донос: «Внимательно следите за известным парикмахером, социалистом. Он плохой итальянец и развращает солдат. В воскресенье, во время демонстрации, его видели на площади. Он под сильным подозрением».
Глава IX Патриоты. Кунео. Любовь
Между тем «арабы с золотого пляжа» отчаянно защищались. Газеты возвещали блестящие победы, но «военная прогулка», начатая в 1911 г., затянулась и по сей день. И сейчас, как в былые времена, можно время от времени прочесть на страницах фашистской печати: «Повстанцы, которых оставалось несколько человек, окончательно усмирены». Если это соответствует истине, то почему так тяжело ложатся на государственный бюджет расходы по колониям? Почему до сих пор поступают из Африки извещения о смерти солдат, извещения, которые деревенские синдики потихоньку передают семьям убитых?
Сообщения из Ливии проходили через строгую цензуру, и суд был завален делами против наших газет, печатавших статьи о войне, затеянной империалистами. Реакция свирепствовала вовсю. Однажды вечером я пошел в театр, плохонький провинциальный театр. Скверная труппа изо всех сил старалась погубить великолепную оперу «Норма». Я собрался уже уходить, как вдруг в антракте подоспела вечерняя газета с сообщением об очередной победе в Ливии. Один из актеров появился перед занавесом и огласил телеграмму. Оркестр заиграл «Королевский марш», и вся публика встала, кроме меня. Кругом засвистели, зашикали. Какой-то офицер крикнул мне:
— Турок, турок!
— Идиот, — ответил я, — отправляйся в Африку геройствовать!
Явились карабинеры и забрали меня. Вечер вышел для меня определенно неудачным. Собачий вой театральной труппы сменился нудной речью начальника карабинеров.
— Вы кончите плохо, предупреждаю вас. Лучше бы вы занимались своей парикмахерской, а не лезли в политику. Для этого существуют синьоры адвокаты… У вас на руках семья, надо подумать о ней. Прямо невероятно, что я должен постоянно говорить вам одно и то же! Кончится тем, что мне это надоест.
— И вы перестанете читать мне нравоучения, не так ли? Это будет превосходно.
— С вами невозможно говорить! Теперь приходится вас задержать. Мне очень жаль…
— Тогда отпустите меня домой.
В этот самый момент в дверь постучали, и вошел тот самый офицер, который велел меня арестовать в театре.
— Освободите его! — приказал он.
Жандарм явно обрадовался: времена тогда в Италии были не такие, как сейчас, но я решил проучить офицерика.
— Мне хотелось бы знать, — обратился я к нему, — не думаете ли вы отделаться от меня так просто, синьор поручик? Вы посягнули сегодня на свободу личности, приказав карабинерам арестовать меня, и вы должны отвечать за это.
— Понимаете ли, я убежденный патриот и был оскорблен вашим поступком. Теперь это прошло, я весьма сожалею…
Поручик был молод, трусоват и, видимо, беспокоился за исход дела.
— Почему же вы, такой ярый патриот, не просите, чтобы вас отправили в Африку?
— Моя мать умерла бы от горя… — пробормотал поручик.
— Ах, вот как! Прочие солдаты, вероятно, не имеют матерей, подкидыши?!
Жандарм растерялся, не зная, как быть.
— Мы еще с вами поговорим, — закончил я и вышел.
На следующий день явился ко мне знакомый фотограф с каким-то ветеринарным врачом-офицером. Они пришли просить меня не предавать огласке инцидент с поручиком из-за его матери… Какая заботливость!
Дела я не замолчал. «Аванти» и «Лотте нуове» достойным образом заклеймили патриотические чувства нежного сына, добывающего военные лавры в занятиях любовью и спортом. Корреспонденция сделала свое дело: ревностный патриот вынужден был проситься на фронт. Я от души пожелал ему пулю на память о войне.
Происшествие с поручиком произвело сильное впечатление на солдат. Многие из них заглядывали ко мне в парикмахерскую: кто из любопытства, кто поговорить, а некоторые просили разрешить им указать мой адрес для получения из их провинции социалистической газеты, которую нельзя было получить в казарме. Заглядывали ко мне и офицеры. Эти следили за солдатами. Вскоре сказались и результаты офицерских визитов.
Как-то я заметил, что ко мне перестали ходить клиенты из казарм. Что случилось? Выяснилось, что командир отдал приказ, запрещавший «посещать заведение парикмахера — антипатриота и социалиста, которое находится на Виа Рома, № 46», под угрозой ареста и тюрьмы. Но солдаты недолго выдержали и снова стали забегать ко мне, уже украдкой, почитать газетку. Некоторые из них угодили за это на несколько дней под арест.
Иного рода атака была направлена против Палаты труда. Нас хотели во что бы то ни стало выселить из помещения. Пытались всячески осуществить это: соседи по квартире писали жалобы на шум, пение и игру на пианино; хозяин дома получал замечания от полиции, чем сначала пользовался для повышения платы; наконец нам предложили выехать. Другого подходящего помещения мы не смогли подыскать, и пришлось собираться то в кабачках, то за городом на открытом воздухе, в хорошую погоду. Комитет собирался по вечерам у меня в парикмахерской.
Попы тоже принимали участие в нашем выселении, после чего начали единым фронтом кампанию против «цирюльника-социалиста». Презабавная это была кампания! В это время появилась мода на женскую стрижку. В нашем городке пожелали следовать ей дамы света и полусвета, но никто, кроме моего компаньона, работавшего в Париже, не умел стричь a la garçon[29]. Таким образом, наша парикмахерская имела монополию на дамские головы… На нашей витрине появилась карточка: «Стрижка дам». Попы всполошились. Попы всегда против всяких новшеств. А тут как раз еще нечестивые руки социалистов производили эту эмансипацию причесок. С церковных кафедр зазвучали громовые речи против… исказителей дамской эстетики. Попы заметили слишком поздно, что создали нам бесплатную рекламу: число клиенток у нас возросло втрое! Мода…
Полагаю, что в настоящее время даже «Перпетуи»[30] почтенных батюшек стригутся a la garçon и, вероятно, сами же отцы духовные занимаются этим, подобно тому как нежные «Перпетуи» следят за их тонзурой.
Такого рода выступления возможны только в глухой провинции и в Кунео, знаменитом городке головотяпов, о котором синдик Кунео написал целую книгу. О нем же упоминает в одном из своих произведений де Амичис[31]: «Я провел свое детство в живописном пьемонтском городке Кунео, которому насмешливая легенда приписывает головотяпство».
Много легенд рассказывают о Кунео. Говорят, что жители Кунео делали пробу новой электрической установки ровно в полдень; что пускали фейерверки утром; что, когда правительство пожелало иметь план Кунео, отцы города послали в столицу лучший вяз с главного бульвара[32]. Рассказывают также, что в целях экономии община постановила упразднить должность палача и его помощников и приглашать их в случае нужды из Турина. Но когда туринский синдик потребовал семьсот лир за каждую казнь, отцы города впали в горестные размышления от такого расхода и решили вопрос мудро: предложить преступнику двести лир, и пускай отправляется в другой город, чтобы его там казнили…
Кунео не только город высокопоставленных головотяпов — это город крепких стародавних устоев и католического изуверства. Традиция господствует во всем: в мыслях, в нравах, в быту. Я испытал это на себе.
Мне понравилась девушка. Она была приветлива со мною, улыбалась мне. Я никогда не откладываю дела в долгий ящик. Сказал ей о своих чувствах, и она не отклонила их. Женщины — прирожденные дипломаты: когда не говорят нет, это значит да. Все шло, как полагается: мы прогуливались вместе и делали все, что обычно делают влюбленные. Но… встало одно «но». В этих краях для социалиста вопрос о браке — сложный вопрос.
— Ты переменишь свои идеи, когда женишься на мне? — спросила меня моя возлюбленная.
— Нет! — твердо ответил я.
Она огорчилась, несколько дней дулась, но это скоро прошло. Мы продолжали встречаться, мы жили почти рядом. Я старался убедить ее:
— Я не пойду с тобой в церковь, но предоставлю тебе свободу пропагандировать меня. Идет?
Она не возражала, но у нее не хватило храбрости сказать «да».
Я понимал ее нерешительность. В этой местности никто никогда не заключал гражданского брака. Местные девицы, которые постоянно прогуливались с офицерами на главной площади, целовались под тенью платанов, а иногда и посещали украдкой холостые квартирки своих приятелей, ни за что не согласились бы выйти замуж без попа и синдика. Какой скандал, какое бесстыдство!
Как-то моей матери сообщили, что я собираюсь жениться на еврейке…
— Правда? — спросила она. — А как же вы венчаться будете? В церкви или в синагоге?
Я хохотал.
— Когда я женюсь на еврейке, или на мусульманке, или на протестантке, милая мама, я не пойду ни в церковь, ни в синагогу, ни в мечеть. Обойдусь и без синдика.
Бедная мать только воздела руки к небу в знак своего отчаяния.
Родители моей невесты были католики и верующие. Она — тоже. И все же она решилась.
— Сделаем, как ты хочешь, но об одном прошу тебя: запишемся не здесь, а в Турине. Ты ведь оттуда. Я прошу тебя только об этом!
Я был счастлив. Занялся устройством квартиры, что было вовсе не легко. Пришлось обратиться к некоей фирме под слащавым названием «Благодетельница», которая выдавала мебель в рассрочку, сдирая с облагодетельствованных шкуру. Но я на это не обращал внимания: я был счастлив.
Незадолго до срока, назначенного моей невестой, она заявила мне:
— Я передумала, посоветовалась… Мне очень жаль, но я не могу огорчить своих родителей и твою мать. Если ты действительно любишь меня, ты должен принести мне эту жертву: пойти со мной в церковь. Все так делают, и всегда так было.
Удар был тяжелый. Я крепко любил девушку; знал, что вокруг нее вечно жужжали всякие монашки и ханжи со всего околотка, но еще надеялся. Я всячески пытался переубедить ее. Отойдя на миг от влияния окружавшей ее обстановки, она колебалась, почти соглашалась со мной, откладывала последнее решение. Борьба была упорная и мучительная. Я не хотел, не мог сдаться; надо было разбить старую традицию заглохшей провинции; я не имел права уступить. Пора было кончать.
Однажды вечером — какой это был унылый, туманный вечер! — состоялось наше последнее свидание в Турине. Я горячо убеждал ее, я умолял. Напрасно.
— Все так делают!.. — упорно твердила она.
— Но ведь ты же соглашалась… Я никогда не скрывал от тебя моих убеждений!
— Я знаю, я знаю, ты прав! Я знаю, что дурно поступаю с тобой… с собой… Но у меня не хватает сил, я боюсь… Прости меня! — И она плакала.
В стороне от нас, скрытая туманом, глухо шумела По, бросая свои волны о каменные стены набережной… Фонари тускло мерцали бледными пятнами… Редкие прохожие спешили по набережной, не оглядываясь.
— Итак, ты твердо решила?
— А ты? — слабо ответила она.
Мы поглядели друг другу в глаза. Она была бледна, неподвижна. А у меня ноги точно приросли к мостовой. Несколько минут тяжелого молчания.
Я сделал усилие:
— Прощай!
И я ушел. Больше я ее не видел.
Война, революционная борьба мало-помалу заглушали боль воспоминания; оно исчезло, как исчезла она в тот вечер, поглощенная туманом.
Фирма «Благодетельница» так и не дала мне мебели, ибо я перестал платить…
Глава X Начало мировой войны
Вопрос о помещении для нашей Палаты труда все еще не был разрешен. Мы записались в разные клубы в надежде обосноваться в одном из них. В центре города имелось прекрасное помещение, где открылся новый клуб; я немедленно записался в него. Членами клуба были мелкие лавочники, хозяйчики. Обо мне стали говорить: «Цирюльник наш обуржуазился». При выборах правления я был избран секретарем нового клуба, так как на этой должности приходилось кое-что делать, а остальные члены предпочитали более почетные и менее утомительные должности. В моем распоряжении были канцелярия и рассыльный клуба — толковый малый, который разносил повестки не только членам клуба, но и членам… нашей партии и сквозь пальцы смотрел на собрания, которые я иногда проводил в библиотечном зале, куда никто из членов клуба не заглядывал, предпочитая танцевальный зал.
Я предложил клубу ввести специальные, сниженные взносы, дающие право пользоваться библиотекой без права входа в танцевальный зал. Лавочникам эта затея понравилась, и я таким образом постепенно узаконил пребывание наших в библиотеке. Когда несколько лет спустя я смог произнести речь с балкона нашего клуба, в самом центре города, лавочники поняли нашу игру, но было слишком поздно: на пороге Италии стояла мировая война.
Но еще до этого мне вместе с другими сочувствовавшими нам членами клуба удалось провести устройство вечеров культуры в клубе. Пользуясь невежеством большинства членов, нам удалось внести в программу этих вечеров темы и ораторов, которые были нужны нам. Когда раздался выстрел в Сараеве[33], оказавшийся искрой, зажегшей мировой пожар, члены клуба даже с большим удовольствием слушали нашего оратора, высказывавшегося против войны. Они все тогда были против войны, эти мелкие буржуа… потому что большинство из них не вышло из призывного возраста. Позже, когда они запаслись всяческими льготами и получили подряды от крупных поставщиков армии, они все превратились в яростных интервентистов, с пеной у рта стоявших за «войну до победного конца», «во что бы то ни стало!..» Тогда и самого Джолитти они отправили на чердак, а божком их стал Биссолати.
Чрезвычайно хаотическим был этот период, между августом 1914 г., когда была объявлена мировая война, и маем 1915 г., когда в нее вступила Италия!
Никогда еще за всю историю Италии — этого «сада Европы» — не видели такого безудержного, такого сногсшибательного политического кувыркания, как за эти девять месяцев! Националистические журналы сначала хором приглашают вступить в войну совместно с Австрией и Германией, а через несколько месяцев требуют выступления совместно с Антантой! Триста депутатов — парламентское большинство — заносят свои визитные карточки в переднюю Джолитти, солидаризируясь с нейтральной политикой всесильного министра, а затем все сразу становятся ярыми интервентистами. Муссолини по поручению социалистической партии составляет воззвание против войны, а меньше чем через полгода воинственно бряцает оружием.
Борьба между центральными державами и Антантой за вступление Италии в войну велась очень активно. Миллионы полились рекой, и вокруг них началась пляска спекулянтов всех видов: поставщиков, промышленников, купцов, помещиков, политических деятелей и журналистов, от борзописцев «Идеа национале»[34] до Муссолини.
Социалистическая партия призывала массы к протесту против войны. Повсюду происходили антивоенные демонстрации.
Муссолини, имевший наглость выступить несколько раз с интервентистскими речами перед массами, был освистан.
Социалистические собрания были запрещены. Многие социалисты арестованы. Интервентисты рассыпались по всему полуострову, агитируя за войну.
В этот период я познакомился с Чезаре Баттисти, социалистическим депутатом из Тренто, ставшим интервентистом. Он объезжал Италию, призывая к освобождению Тренто и Триеста от австрийцев. Позже он попал в плен к ним и был повешен. Вокруг него вилась свора поставщиков на армию. В Кунео его жестоко освистали в театре. Накануне я встретился с ним в поезде, где сопровождавший его адвокат — миллионер, член демократической партии — уверял его:
— Увидите, «онореволе»[35], какая будет устроена вам встреча в патриотическом Кунео!
Баттисти слушал его невнимательно, усталый, подавленный. Казалось, он начинал понимать, куда привел его «идеализм», какова эта «родина», представители которой его окружали.
Он ответил холодно:
— В Брешии и Болонье меня освистали!
Он предугадывал встречу в Кунео.
Муссолини, изгнанный из социалистической партии, основал свою собственную газету. Он уверял, что ушел из «Аванти» с пятью лирами в кармане! Миллионы французского банка вполне позволяли ему совершить такое чудо. На страницах своего органа он начал гнусную клеветническую кампанию против Серрати, назначенного на его место главным редактором «Аванти». Он обвинял Серрати даже в убийстве, которое тот будто бы совершил в Америке. А ведь было время, когда Серрати по-братски делил с ним последний кусок хлеба, работал над его революционным воспитанием… Ладзари и Баччи, ответственные редакторы центрального органа партии, тоже подверглись нападкам со стороны ренегата Муссолини.
Весь август 1914 г. через Кунео ежедневно проходили поезда с пушками, с амуницией и солдатами по направлению к фортам на французской границе. Через несколько месяцев весь этот боевой багаж переправлялся обратно к Венецианской области. 24 мая 1915 г. Италия вступила в войну на стороне Антанты.
С объявлением войны положение не улучшилось. Монархия была в состоянии полного хаоса. Король более не был главой государства, потому что вследствие его отъезда на фронт был назначен блюстителем престола впавший в детство герцог Генуэзский. Король не был, однако, и вождем итальянской армии, так как войсками командовал генерал Кадорна[36]. Кадорна, ханжа, реакционер, жестоко расправлявшийся с солдатами и ненавидимый ими, был назначен маршалом Италии. Ближайшим его советником был его духовник, через которого с помощью целой сети военных капелланов действовал Ватикан. Банда попов, интервентистов на фронте и нейтралистов в своих приходах, беспрепятственно командовала Кадорной.
Музыка, флаги, речи… Каждый день отправляли на фронт солдат, запасных. Набор все усиливался. Дома оставались только старики да инвалиды. Во многих семьях забирали на фронт одновременно отца и сына. Каждый день мы провожали кого-нибудь из товарищей. Организации наши сильно редели. В нашей секции осталось всего несколько человек. Освобожденные от фронта рабочие предприятий, находившихся в распоряжении военного министерства, были запуганы и боялись слово промолвить, чтобы не быть отправленными на фронт. Интервентисты — адвокаты, журналисты, фармацевты, папенькины сынки — почти все оказались белобилетниками, крепко окопались в тылу, стали «незаменимыми», а крестьян и рабочих — квалифицированных рабочих! — отправляли на фронт. Время от времени кого-нибудь из семей вызывали в городское управление для сообщения печального известия. С каждым днем росла нужда, а хлеб дорожал и становился хуже. Но каждый день гремела музыка, вывешивались флаги и печатались бюллетени о победах над «вековым врагом»! Цензура, концентрационные лагеря, «чрезвычайное положение», аресты, приговоры… Уходили поезда, наполненные молодыми, крепкими людьми; приходили другие, санитарные поезда, из которых выносили на носилках изувеченные тела. Шеренгами, закованных в кандалы, гнали на фронт дезертиров…
Война! В поездах, в кафе, на улицах, в деревнях — повсюду опросы, проверка документов. Мобилизационная машина тщетно процеживала людей, боясь упустить хотя бы одного годного к истреблению человека» каждый раз, впрочем, забывая заглянуть в «тыловые окопы». Особенно охотились за социалистами; меня требовали шесть раз на освидетельствование. Наша деятельность, даже ограниченная, даже сдавленная полицейским намордником, вызывала тревогу. Газеты наши выходили с огромными белыми полосами, но все же выходили! За нами шла усиленная слежка.
В это время я был секретарем социалистической федерации нашей провинции. Почтовая цензура затрудняла наши письменные сношения, приходилось разъезжать. Велосипед очень помогал мне, но часто меня задерживали в пути и отправляли обратно. В места, наиболее отдаленные, я ездил поездом. Это было еще труднее: случалось, что, прибыв на место назначения, я прямо с вокзала попадал в тюрьму, где в лучшем случае мне выдавали препроводительный лист на место моего жительства. Этот лист я должен был представлять местному полицейскому комиссару, получая от него соответственную головомойку. В худшем случае меня отправляли этапным порядком в сопровождении двух жандармов.
Собраниям исполнительного комитета нашей федерации, ставшим весьма редкими, полиция всячески препятствовала. Цензура мешала переписке, мы были окружены надзором. Солдатам, как во время Эритрейской войны, было воспрещено посещать нашу парикмахерскую под страхом взысканий и немедленной отправки на фронт. И все же они, как и раньше, забегали к нам сообщить, что делается в казарме, отдать свой взнос на газету или почитать ее. И мы не только не прерывали наших связей с солдатами, но даже умудрялись печатать наши циркуляры и партийные документы на машинках штаба…
Как-то в начале войны, вечером, возвращаясь домой, я повстречался с несколькими солдатами. Они уезжали на фронт, были выпивши и распевали во всю глотку солдатскую песню с несколько необычным припевом:
Мы — альпийские стрелки, Бог — убийца! Нам нравится вино, Бог — убийца! И прекрасные женщины, Чтобы их любить.После этой песни один из них выкрикивал:
Вооружимся… и уезжайте!
Припев был из ядовитой песенки о шовинистах-«белобилетниках», которые выступали перед солдатами, провозглашая лозунг: «Вооружимся… и уезжайте с богом!» Солдаты узнали меня и окружили с возгласами:
— Да здравствует социализм! Приходится ехать на войну, черт побери — давайте веселиться: скоро подохнем, как бараны. Ничего не поделаешь, мы не в силах восстать. Как бараны, порка мадонна! Едем убивать австрийцев! Черт побери, я охотнее прикончил бы иных итальянцев!.. Не вас, — обратился ко мне восклицавший, — я знаю, кого охотно прикончил бы…
Вооружимся… и уезжайте!
— Да, у меня дома беременная жена! Они дадут ей шестьдесят пять чентезимов в день, будь они прокляты!..
Вооружимся… и уезжайте!
— Итак, едете? — сказал я.
— Что ж, уезжаем! А вы остаетесь… Пожалуй, было бы лучше иметь ногу, как ваша… Простите, не знаю уж, что и говорю. Я рад, что вы остаетесь, вы не хотели войны, мы знаем…
Вооружимся… и уезжайте!
— Черт побери их всех!..
Мимо прошел офицерик-интервентист, удобно «окопавшийся» в военном суде. Я знал его.
Увидя солдат, он постарался проскользнуть незамеченным, но они бросили ему вслед: Вооружимся… и уезжайте! Солдаты шумно распрощались со мной и пошли дальше, затянув новую песню:
Генерал Кадорна пишет королеве: «Если хочешь видеть Триест, Пошлю тебе открытку с видом». Пим, пам, пум!И все тот же припев: Вооружимся… и уезжайте!
На следующее утро я усердно протирал зеркала в парикмахерской и болтал с несколькими знакомыми, бездельничавшими в этот день, когда предо мною предстали два офицера. Оба были в парадных мундирах, при шпагах и в белых перчатках. Я принял их за клиентов.
— Чем могу служить?
— Вы догадываетесь, в чем дело?
— Полагаю, бритье или стрижка. Или то и другое?
— Пожалуйста без острот, — строго заявил один из них. — Вы должны знать, о чем идет речь. Мы — представители поручика, которого вы оскорбили вчера, и пришли требовать от его имени удовлетворения. Если вы берете обратно свои выражения, хорошо; если нет, он предоставляет оружию решить дело.
Все это он выпалил единым духом и воззрился на меня, воинственно опираясь на шпагу. Любопытная была эта сцена: расфранченные офицеры с торжественными физиономиями и я с пыльной тряпкой в руке, с трудом удерживающийся от смеха. Очевидно, офицер, слышавший вчера «вооружимся… и уезжайте», хотел смыть кровью нанесенное ему оскорбление. Я принялся протирать зеркала.
— Вот вам вызов.
Я продолжал свою работу.
— Если вы боитесь драться, подпишите извинение…
Мне это стало надоедать.
— Послушайте, уважаемые синьоры, — обратился я к офицерам, — драться я не пойду и подписывать извинений тоже не буду. У меня дела поважнее. Ваш приятель — теперь я понимаю, какую пилюлю он проглотил вчера вечером — лучше бы сделал, подняв этот вопрос вчера на месте. Что же касается страха перед дуэлью, то, конечно, легче вызвать на дуэль меня, чем идти сражаться на фронт: интервентистом легче быть в Фоссано, чем на Карсо[37].
Офицеры — видимо, из тех юнцов, воспитанных на «понятиях чести» и недалеких, каких дюжинами производят наши военные школы — были смущены, видя человека, отказывающегося драться на дуэли.
— Это ваше последнее слово?
— Да. Можете еще посоветовать вашему приятелю поскорее ехать на фронт.
Офицеры помялись на месте:
— Может статься, вы не произносили вчера оскорбительных слов? Может быть, их сказал кто-нибудь из тех пьяных солдат?
— Эти солдаты уже на пути к фронту. Что касается так называемых оскорбительных слов, то они только констатируют определенный факт. Больше мне нечего прибавить.
Пришедшие в это время в парикмахерскую клиенты дружно засмеялись. Офицеры ушли с меньшей торжественностью, чем пришли, и больше не показывались. Они не опубликовали, как это принято, ни факта вызова, ни его результатов. Но слухи об этом происшествии все же пошли и вызвали много пересудов и насмешек.
Глава XI Циммервальд
Было очень трудно составить себе правильное представление о том, что делалось на фронте и особенно на итальянском фронте. Публику кормили бюллетенями генерала Кадорны, описаниями сражений, составлявшимися в редакциях Милана и Рима, и сообщениями о зверствах австрийцев и немцев, ополчившихся на «латинскую цивилизацию». Об интендантских скандалах никогда не сообщалось. О наших контрабандных военных поставках в Австрию и Германию через Швейцарию или при посредстве Испании только шептались. О расстрелах восставших солдат говорили тоже вполголоса. Замалчивали также число дезертиров, особенно внушительное в южной Италии, где из них образовались целые банды.
Так прошел первый год войны и наступил второй. Кто заговаривал о мире, того клеймили кличкой пораженца, а для пораженца минимальной мерой наказания было три года каторжной тюрьмы. Интервентисты брали в кафе сегодня Триест, завтра — Горицию, но, окопавшись в тылу, и не думали отправляться на фронт. Каждый вечер можно было видеть их, склонившихся над картой военных действий, переставляющих флажки с одной позиции на другую, охваченных воинственным пылом. Ни слова о мире! Произносившие это слово были «австрияки», «изменники», «трусы», «пацифисты», «социалисты» — все эти слова были одинаково ругательные.
Экономические контрасты росли с головокружительной быстротой. Подрядчик, который смог построить себе домик во время войны в Ливии, теперь покупал дворец. Лавочники швырялись тысячами лир с большей легкостью, чем недавно одной лирой. Попы набивали карманы за счет панихид по убитым и молебнов о здравии сражающихся. Они вели усердную пропаганду за войну.
А продукты дорожали с каждым днем. Сахар, хлеб и масло нельзя было получить даже и по карточкам.
Муссолини пришлось уехать на фронт. Об его отъезде кричали долгое время, но он быстро вернулся. Говорили, что он был ранен в спину итальянскими солдатами и не рискнул больше искушать судьбу. Куда безопаснее для него были сражения в Милане, в редакции «Пополо д’Италиа», с социалистической партией — преследуемым, загнанным противником.
«Аванти» продолжал борьбу; Серрати мужественно боролся, спокойный, непоколебимый, как всегда, против цензуры и парламентской фракции, против генералов-убийц и воров-интендантов, верный лозунгам партии. «Аванти», безжалостно изрезанный цензурой, походил на инвалида войны, но таким-то он и был особенно дорог массам. Его жадно читали, оживленно комментировали.
При предприятиях были организованы особые комитеты промышленной мобилизации, в которых большинство принадлежало реформистам из Всеобщей конфедерации труда. Это были смешанные комитеты, созданные из представителей промышленников и рабочих организаций: интересы рабочих здесь защищались так, как всегда они защищаются при подобного рода сотрудничестве. Заработная плата при головокружительной быстроте роста цен на продукты питания снизилась на шестьдесят процентов против довоенного уровня, но рабочие, освобожденные от призыва, не решались жаловаться, боясь отправки на фронт. На каждом заводе был также введен военный контроль.
Я знал одного рабочего-металлиста, высококвалифицированного и способного. Он не хотел увеличить число выделываемых им частей и был вызван в контору военного контроля.
— Вы такой-то? — спросили его.
— Так точно, — ответил он по-военному.
— Вот вам приказ явиться завтра в штаб военного округа.
— Но я освобожден…
— Фирма нуждается в рабочих, которым она может доверять, а не в уклоняющихся, подобно вам. Каждый должен идти на жертвы, а вы, как мы узнали, недовольны своим привилегированным положением.
Через день металлист был уже в солдатском кепи, еще через день его угнали на фронт, откуда он не вернулся.
Около половины сентября 1915 г. «Аванти» не выходил несколько дней подряд даже в искалеченном виде. Видимо, произошло что-то серьезное. Вскоре я узнал, в чем дело.
Как-то утром ко мне явился железнодорожник и, выждав, когда мы остались одни, сказал:
— Я из Турина и должен тебе передать этот пакет.
В пакете были воззвания Циммервальдской[38] конференции. Как я им обрадовался! Значит, работа идет; значит, несмотря на измену многих вождей социалистов, не прекратилась интернациональная солидарность; значит, контакт снова восстановлен!
Надо было распространить воззвания, переслать их на фронт. Я оседлал своего стального коня и занялся этим делом. В течение нескольких дней мне с товарищами удалось распространить не только присланные воззвания, но и те, которые были напечатаны нами в большом количестве на знаменитых пишущих машинках штаба военного командования. Часть из них попала на фронт. По окончании этой работы ко мне на дом нагрянула полиция. Но самый тщательный обыск не дал никаких результатов.
Воззвания произвели сильнейшее впечатление. Рабочие и солдаты жадно читали и перечитывали их, передавая украдкой друг другу. Многие из них попали за это в тюрьму. Как и следовало ожидать, был задержан и я. «Задержать» — особый остроумный прием итальянской полиции, применяемый в целях «обезвреживания» данного лица. Вас могут задержать на неопределенное время в тюрьме без допроса и затем выпустить без объяснений. Объяснение я, впрочем, получил. Комиссар, ругаясь, грозил:
— Вы никак не можете угомониться! Я засажу вас надолго за решетку! Иначе с меня же взыщут! — Затем, смягчив тон, спросил: — Надо сознаться, ловко сделали… Теперь, когда вы уже отбыли наказание, и мы вас больше не задерживаем, скажите мне, откуда, черт возьми, появились эти воззвания?
— Почему вы обращаетесь ко мне с этим вопросом? Я их не видел.
— Не притворяйтесь!.. И он снова озлился.
— Я говорю вам, что вас интернируют, вы кончите этим!
И с этой угрозой он отправил меня домой.
Интернирование тоже было особым приемом «обезвреживания»; применялось оно только по отношению к иностранцам и социалистам. Многие из наших товарищей уже были интернированы: в Сардинии, на маленьких островках, в горах.
Глава XII «Военно»- и «мирнопленные»
Стали появляться первые военнопленные. Грязные, оборванные, голодные. Когда я увидел первый эшелон, мне сначала показалось, что привезли скот, тем более, что их, как и наших солдат, везли в вагонах для перевозки скота: «40 человек, 8 лошадей», но их грузили намного больше сорока и развозили по самым глухим уголкам полуострова. Они производили тяжелое впечатление. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из рабочих смеялся или издевался над ними, несмотря на то что интервентистские газеты усиленно разжигали ненависть «к врагу». Они проходили по улицам города: жалкие, согнутые фигуры вконец замученных людей, в сопровождении немногих солдат из запасных, негодных для фронта. Победители и побежденные мало отличались друг от друга: те же лохмотья, тот же усталый шаг, тот же печальный взгляд, точно смотрящий в пустоту.
Несколько тысяч пленных разместили у нас в Фоссано. Жили они в деревянных бараках, работали и за это получали черный хлеб и похлебку. Мы немногим могли помочь им. Наших солдат строго наказывали, если замечали их сношения с пленными, а тем более помощь… врагам. Помню, как-то я поместил в нашем журнале некролог на одного умершего австрийца. Муссолини в «Пополо д’Италиа» с пеной у рта накинулся на нас за это. Статья его, конечно, была перепечатана всеми газетами и газетками интервентистов. Началась усиленная слежка. Трудно было общаться из-за незнания языка: немцы, венгры, хорваты, болгары… Ну, как заговорить с ними? Все же мы находили способы общения с пленными. И даже преодолевали трудности языка. Разыскали переводчиков, обратились к помощи пишущей машинки и пересылали им прокламации партии с призывом к заключению мира.
Комендант концентрационного лагеря и его подручные офицеры были настроены крайне реакционно и обращались с солдатами жестоко. Я опубликовал — а цензура по странной рассеянности пропустила — сообщение о том, что комендант отправил в большой переход пешком больного солдата, который умер во время перехода; о том, что солдат заставляли работать в мороз в одних рубахах и били прикладами из-за пустяков, и еще многое подобное. Комендант рассвирепел. Он потребовал меня к себе для объяснений и написал приказ о моем «задержании». Когда мы распространили наши воззвания, он окончательно вышел из себя. Он и не подозревал, что эти листочки были отпечатаны в его канцелярии! Меня вызвали в комиссариат и предъявили несколько воззваний.
— Вам кое-что известно об этом? Не правда ли?
Я взял листочки, внимательно оглядел их:
— Ничего не разберешь. На каком это языке? — спросил я.
— Нечего ломать комедию, мы прекрасно знаем все: вы пишете, а… кто-то переводит.
Я решил держаться выжидательной тактики. Не опровергал и не подтверждал.
— Если бы вы находились на территории военных действий, вы получили бы шесть пуль в спину! Здесь же ограничитесь несколькими годами тюрьмы.
— Все, что вы мне сообщили, весьма любопытно, но кто может доказать, что я совершил столь черное деяние, за которое полагается расстрел или каторга?
— Мы знаем все. Вы слишком доверяете другим. Они же сообщают, куда надо, и расплачиваться приходится вам. Поэтому лучше сознаться, чтобы получить снисхождение.
Но я не сознавался. И так как доказательств не было, меня отпустили.
Несчастным пленным приходилось плохо. Многие умирали. Чтобы раздобыть хоть немного хлеба, они продавали все, что могли: солдатские кресты, медали за храбрость. Их было слишком много, и мы мало помогали им. Делали что могли. Разоблачали в нашей печати превышение власти, дурное обращение, стараясь их ободрить, посылая им прокламации, письма. Иногда удавалось и поговорить с некоторыми из них. Кое-кто понимал уже по-итальянски. Наши солдаты, находившиеся при пленных, братались с ними и, сколько могли, помогали им, несмотря на угрозы старших. Однажды я присутствовал при трогательной сцене.
Наш солдат с оружием, как полагается, сопровождал пленного австрийца с большим узлом. Австриец был уже не молод и с трудом тащил свою ношу. Солдат, моложе его, пожалел пленного и предложил помочь. Я видел, какой благодарностью засветился взгляд австрийца… Нести вдвоем было неудобно. Солдат остановился и сказал:
— Неси-ка ружье, а я понесу твой узел.
Так и пошли они дальше, два «вековых врага»; победитель — согнувшись под ношей, побежденный — с ружьем в руках. Я долго глядел им вслед…
Другой раз я видел, как солдат, наблюдавший за работой двух пленных, почувствовал себя дурно и упал на землю. Пленные бросились к нему, стараясь привести его в чувство. Потом отнесли его в казарму…
Бывало и так, что пленный, направленный в деревню на полевые работы, женился там на итальянке, к великому негодованию стопроцентных патриотов.
Мир!.. Мир!.. Его жаждали все — и «побеждающие» и «побежденные»! Слово это могло потрясать человеческие сердца до такой степени, что из-за него я попал однажды в полицию.
Я иногда захаживал в кино и от скуки играл на пианоле. Как-то после неизбежной порции патриотических картин шел один из обычных любовных фильмов: двое мужчин влюблены в одну и ту же женщину и собираются уже прикончить один другого, как узнают, что кокетничавшая с ними женщина имеет любовника, третьего. Соперники, узнав об этом, мирятся.
Когда на экране перед последней картиной, где двое обманутых влюбленных обнимаются, появилась надпись «Мир заключен», публика — преимущественно солдаты — разразилась рукоплесканиями и криками: «Да здравствует мир! Желаем мира!» Я играл и не следил за тем, что происходило на экране. Оператор мгновенно прекратил работу и осветил зал. Надпись исчезла, но публика бушевала. Солдаты, взобравшись на скамьи, выкрикивали во всю глотку заветное слово. Дежурные карабинеры растерялись и исчезли.
Солдат на следующий вечер не выпустили из казарм. Полиция искала виновных, и, так как в этот вечер я играл в кино, — нашли… меня. И не только арестовали меня, но и пригрозили хозяину злополучного кино лишить его патента, если он еще хоть раз позволит мне играть на пианоле!
Глава XIII Встречи во время войны
Мне пришлось снова — в пятый или шестой раз — проходить медицинское освидетельствование. Я явился в госпиталь Александрии.
Большая комната, грязная, провонявшая карболкой. В глубине ее — международная военно-медицинская комиссия: итальянский полковник-врач, английский военный врач и французский офицер.
Что за печальное зрелище развертывалось в этой унылой комнате! Горбатые, рахитики, кривые и хромые, много раз уже освидетельствованные, снова и снова обнажали свои язвы. Их всех без всякого врачебного осмотра смело можно было отправить обратно. И все же многих из них признали годными! Подошел мой черед. Меня уложили на стол, покрытый клеенкой, и итальянский полковник преусердно принялся измерять мою ногу. Ну и старался же он!
Наконец француз сказал:
— Мне кажется, здесь не о чем задумываться: освободить.
Полковник ответил на плохом французском языке:
— Я тоже вижу это, но даны специальные распоряжения, я не хочу нести ответственность.
Англичанин в этот момент отошел.
— Какого рода эти распоряжения? — спросил я тоже по-французски, не столько потому, что я надеялся получить ответ, сколько желая полюбоваться на физиономию полковника. Он ожег меня взглядом и не нашел ничего лучшего, как скомандовать:
— Молчать!
Все же ему пришлось освободить меня.
Покуда полковник диктовал писарю постановление комиссии, французский командир подошел ко мне:
— Вы социалист?
— Да, — ответил я. — В чем дело?
— Так. Я думал это. Я тоже социалист…
— Какого рода? — задал я коварный вопрос.
— Когда вы уезжаете? — уклонился он от ответа.
— Сегодня, в восемь вечера.
— Тогда мы сможем пообедать вместе?
— Почему бы нет? — ответил я.
Пробило полдень.
— Расходись! — закричал унтер. — Документы можете получить после трех! Живо!
Будущих защитников отечества поспешно выставляли за дверь, иных полуодетых, с башмаками в руках.
Я вышел с французом.
В ближайшем ресторане мы уселись за столик и начали разговаривать. Мой собеседник был человек средних лет, с острой бородкой, в круглых очках.
— Итак, вы социалист? — спросил я, когда официант принес суп.
— Да, — ответил француз, — состою в партии уже изрядное число лет. Вы тоже?
— Я в партии с 1903 г.: сначала в юношеской секции, а теперь — в социалистической партии. Но вы, как видно, защищаете… отечество?
— Конечно, — заявил французский социалист, — иначе и быть не может. Наше положение совершенно исключительное: на нас, как и на бельгийцев, напали. К тому же наше поведение оправдывает политика германских социалистов.
— Например, Карла Либкнехта?[39] — спросил я.
— Либкнехт — герой, — возразил мой собеседник, — но вся германская социал-демократия предала Интернационал!
— Точно так же, как и вы, французы.
— А вы, итальянские социалисты?
— Наша платформа существенно отличается от вашей. Мы выгнали Муссолини из партии, а не пошли за ним, тогда как вы в союзе с патриотами вошли в буржуазное правительство. Так или нет?
— Да, так. Но у вас было время обдумать положение, — защищался мой собеседник.
Мы долго спорили, но французский офицер не изменил своих взглядов.
— Надо победить германский милитаризм, чтобы можно было работать для социализма, — упорно твердил он.
— Утопия, господин майор, вредная утопия! Мы все разбиты, на радость буржуазии обеих сторон! — возражал я.
Мы расстались холодно. Я пошел за документами.
В большой комнате госпиталя длинный хвост проходивших осмотр ожидал выдачи документов, обмениваясь впечатлениями.
— Представьте себе, меня все же забрали… Вот никогда бы не подумал: сорок восемь лет, двое сыновей взяты: один на фронте, другой ранен, а у меня самого грыжа…
— Сделают операцию и отправят сражаться, — сказал горбун с живыми, умными глазами.
— Понимаешь ли, — испуганно сообщил ему отец двух солдат, — я нарочно не делал операции, чтобы меня не забрали… и вот…
Горбун рассмеялся.
— Не так уж плохо на фронте, — вмешался человек на костылях. — Я читал «Военный дневник» Муссолини…
— Ну и отправляйся туда!.. — прервали его несколько голосов.
— Ты говоришь это потому, что тебя-то не отправят! — сказал кто-то сердито.
— Я бы всех тех, кто хочет войны и кто считает, что на войне неплохо, обязательно отправил бы на фронт. Всех! И таких вот на костылях — тоже! — разгорячился субъект в огромнейших очках из невероятно толстого стекла.
— О, тогда, небось, быстро кончили бы воевать! — вскричал горбун.
— Вы все пораженцы! — старался перекричать всех человек на костылях. — Я, если бы мог, пошел бы. Мы все впадем в первобытное варварство, если не победим! Вы читали, что австрияки стреляют по палаткам Красного Креста?
— А ты знаешь, что наше командование пересылало снаряды при помощи Красного Креста? — спросил его крестьянин с огромным зобом.
— Враки! Это пораженцы распускают такие слухи… Счастье твое, что здесь нет карабинеров!
— А ты донес бы? Шпион! Попробуй только — отправишься домой с разбитой рожей!
Крестьянин старался пробраться к человеку на костылях. Тот струсил:
— Да нет же, я не о тебе говорю, тебя обманывают…
— Ах, ты, сукин сын! У тебя, вероятно, есть какое-нибудь предприятие, которое процветает при войне, а? — не унимался крестьянин.
— Нет! — оскорбился человек на костылях.
— Тогда ты просто дурак, — заключил крестьянин при общем смехе.
Сержант приступил к раздаче свидетельств.
— Сколько возьмешь за эту бумажку? — спросил отец двух солдат, больной грыжей и признанный годным для военной службы, у маленького человечка с мальчиком, получившего белый билет, указывая на документ.
Тот улыбнулся и, приподнявшись на цыпочках, произнес шепотом:
— Это не продается, сам понимаешь, но если у тебя найдется несколько сотенок, — он оглянулся и зашептал еще тише, — или, еще лучше, тысчонок, тогда… я объясню тебе способ, как уберечь шкуру…
— Ты это серьезно?
— Честное слово! Но… молчок! Ты откуда? Я уезжаю в восемь с четвертью. Еду в Альба.
— Я тоже еду с этим поездом в Каваллермаджоре. Значит, часть дороги вместе, успеем переговорить. — Крестьянин с довольным видом потер руки.
Человечек кивнул и принялся вытирать нос своему мальчику.
— Папа, когда ты оденешься солдатом? — полюбопытствовал ребенок.
— Я не пойду в солдаты, — ответил отец, — не мешай мне разговаривать.
Мальчонка задумался, потом понял:
— А… тебя возьмут в солдаты, когда ты подрастешь.
Это заключение ребенка рассмешило больных и увечных, большинство которых отечество признало уже достаточно выросшими.
Я отправился побродить по городу и на одной из площадей наткнулся на кучу народа, собравшегося вокруг «продавца счастья». Он торговал брошюрками, объясняющими таинство «банко-лото».
— Покупайте, о синьоры, самое дешевое счастье в мире! Не теряйте случая, потому что я сегодня вечером уезжаю. Только у меня имеется разрешение на продажу этого произведения, плода долгих и усердных занятий. Эта книга объясняет все сны, даже самые таинственные, и указывает номера лото, приносящие выигрыш! Подходите, синьоры, подходите!
Я узнал в ораторе одного из проходивших освидетельствование. В окружавшей толпе я заметил других; все они были более или менее выпивши: одни — от радости, что освобождены, другие — с горя, что взяты на военную службу. В Пьемонте вообще пьют охотно: пьют на свадьбе, на похоронах, на крестинах, при всяком удобном случае, пьемонтские вина недурны.
Торговец счастьем охрип и смолк. Слушатели запели:
Красивые парни станут солдатами, Поганые макаки останутся дома…Эту задорную песню тянули несколько слабых голосов; какой иронией звучали ее слова в устах этих жалких калек! Я побрел на вокзал. На платформе толпились солдаты в новых мундирах, вокруг них суетились дамы из Комитета гражданской мобилизации.
Они угощали отъезжавших солдат папиросами и конфетами.
Один из солдат взял предложенную ему пачку папирос, осмотрел и вернул ее:
— «Народные»… Даже, когда нас гонят на убой, не могут разориться на лучший сорт! Купили бы «Македонские»… — И он презрительно сплюнул.
Когда поезд, нагруженный солдатами, отходил, уезжавшие затянули насмешливую песенку:
Нашим офицерам — вино и бифштексы. А бедным солдатам — сухие каштаны! Пим, пам, пум!Подошел наш поезд. В вагоне, слабо освещенном, холодном, полупустом, я увидел маленького человечка с ребенком и больного грыжей отца двух солдат. Оба были навеселе. Мальчишка спал, закутанный в отцовский плащ.
Увидев меня, они позвали:
— Садись к нам! Все мы идем на фронт. Вот тебя освободили… — И отец двух солдат вздохнул. — Ты социалист? Ты против войны, не правда ли?
— Да, я против войны, я социалист, — ответил я.
— В Монфорте, — сказал маленький человечек, — есть один, — говорят, он социалист, — который очень хорошо говорит. Он знает гораздо больше попа! Пишет в газетах и может говорить три часа подряд! Ты его знаешь?
— Да, знаю.
Поезд двинулся. Контролер и карабинеры осмотрели наши документы. Отец двух солдат обратился к человечку и, многозначительно подмигивая, сказал, что им надо поговорить. Я поднялся, намереваясь уйти.
— Почему ты уходишь? — удивились мои собеседники.
— Вам ведь надо разговаривать.
— Нет, нет, оставайся. Ты ведь из наших. Тут надо помочь вот этому приятелю, — сказал маленький человечек и обратился к своему собеседнику:
— Итак, ты хочешь быть освобожденным от военной службы. Можешь заплатить? Нет, мне не нужно ни одного сольдо. Приезжай во вторник в Кунео на базар, и я тебя познакомлю с человеком, который тебе все дело устроит. Если сможешь, выложи две тысчонки, получишь белый билет. Работа настоящая, как следует. И подпись полковника — лучше не надо! Он сам бы признал ее за свою. Если не сможешь заплатить столько, то за пятьсот лир тебе дадут отсрочку на два месяца по уважительной причине: по болезни, по причине полевых работ… И этот документ сделан тоже превосходно. Конечно, первый лучше, а то по истечении двух месяцев надо начинать сызнова.
Отец двух солдат крепко задумался.
— Ладно, — вздохнул он, — я раздобуду две тысячи, но смотри, чтобы без обману!
— Клянусь головой этого невинного младенца, — торжественно произнес маленький человечек, приподнимаясь и положив руку на капюшон плаща, под которым спал его сын.
Толчок поезда и выпитое вино чуть не свалили его с ног.
— По рукам! Сделано, — сказал отец двух солдат. — А за совет по окончании дела я тебя угощу обедом.
— Будь, значит, во вторник на базаре, у каштанов, ровно в девять, возле киоска. Я там буду уже с человеком.
— Понимаю. А теперь глотнем.
И оба занялись бутылкой.
Глава XIV Господин префект
Несмотря на страх перед отправкой на фронт, рабочие волновались. Число собраний, которые надо было проводить, сильно возросло. Металлисты несколько раз уже собирались, конечно, тайно, так как при существовавшем положении нельзя было шутить; можно было попасть под военный суд.
Экономическое положение рабочих было настолько тяжело, что даже мобилизационный комитет признал правильными их требования, а это что-нибудь да значило.
После каждого собрания число сочувствующих нам рабочих возрастало. Собираться становилось, однако, все труднее. Чтобы узаконить эти собрания, рабочие подняли вопрос об их разрешении перед военным контролем, имевшимся при каждой фабрике.
Законных оснований для отказа не было. Попробовали запугать рабочих. Не удалось. Тогда поставили условием, чтобы я не присутствовал на этих собраниях.
— Он наш секретарь, — последовал ответ рабочих.
Разрешение было дано. Теперь следовало найти помещение. Знаменитый наш клуб был закрыт в начале войны вследствие катастрофического сокращения членского состава. Но за помещение, поскольку срок найма еще не кончился, продолжали платить из фонда общества. Я решил использовать это положение и, сговорившись с товарищами-металлистами, предложил правлению клуба платить за помещение, с тем чтобы мы могли проводить там наши собрания — не политические, а экономические. Правление, которое с горечью в сердце видело, как ежемесячно уменьшался фонд, согласилось, и мы, таким образом, устроили в клубе первый из наших профсоюзов. Наконец-то у нас было место, где мы могли встречаться! Понятно, что наша деятельность была очень ограниченна, и все же в один прекрасный день рабочая комиссия была вызвана в Комитет промышленной мобилизации и узнала о согласии его на небольшое повышение заработной платы. За металлистами вызвали позднее и рабочих химической промышленности, которая тоже зависела от комитета.
В других центрах мне также удалось провести «эко комические» собрания рабочих. Конечно, одновременно мы проводили и другие собрания, чисто политического характера. Они происходили ночью, на дому у товарищей.
Близость французской границы давала возможность при помощи товарищей-железнодорожников добывать французские газеты. Наше пьемонтское наречие имеет очень много общего с французским языком, который я и раньше немного знал, а подзанявшись, я смог читать газеты, получая, таким образом, сведения, которых не было в итальянской печати. Даже наш центральный орган «Аванти» не имел многих из них. С этими известиями и некоторой информацией, которую я получал от партии, я мог делать исчерпывающие сообщения своим товарищам.
Одновременно я рискнул даже перевести на итальянский язык «Над схваткой» Ромен Роллана… Сколько ночей провел я над этим томиком, с пальто на плечах и бутылкой горячей воды в ногах, так как стояли холода, а я экономил на дровах! И все это для того, чтобы увидеть мой труд изуродованным цензурой. Но меня это не смущало. Мы все же умудрялись использовать гранки многочисленных статей, отвергнутых цензурой, и посылали их по адресам товарищей в другие города и даже на фронт. Таким образом мы поддерживали с ними постоянную связь и информировали их о многих политических событиях.
Вместе с ростом нашей деятельности рос и материал по моему «делу» в полиции; моя корреспонденция, как и письма, приходившие на имя близких товарищей, просматривалась цензурой. В один прекрасный день начальник карабинеров явился ко мне.
— Вы должны завтра утром ехать в Кунео. Вот приказ от префекта. Я советую вам поехать. Если вы откажетесь, я буду вынужден отправить вас. — И, укоризненно покачивая головой, он добавил: — Я вам предсказывал, что это случится.
Я уехал: это был недурной случай провести собрание в Кунео… Префект Кунео граф ди Костильоле был старый джолиттианец, ханжа и реакционер. На меня он произвел впечатление епископа, одетого в светское платье. Рядом с ним сидел его секретарь.
— Вы, стало быть, не желаете прекратить вашу пропаганду? — обратился он ко мне. — Можно подумать, что для вас в Италии ничего не изменилось с двадцать четвертого мая. Всякий истинный итальянец не должен сейчас рассуждать, он обязан думать только о том, чтобы победить. На фронте умирают.
Префект говорил, как защитник по назначению: холодно, безразлично. Я наблюдал за ним. Он на меня не смотрел.
— Поняли? — спросил он.
— Вполне.
— Вам нечего сказать?
— О, я мог бы многое сказать, но вы заявили, что не следует рассуждать, и так как я не думаю, чтобы смог убедить вас, синьор префект, то я ожидаю вашего заключения.
— Вот вам мое заключение: если вы не прекратите своей деятельности, я вас интернирую! Если же вы согласны прекратить ее, подпишите. — И он подал мне бумагу.
Согласно тексту бумаги я обязывался не вести больше социалистической пропаганды, не выезжать из города, в котором проживал, и не сотрудничать больше в газетах… то есть добровольно интернировать себя.
Я не подписал. Префект взял обратно бумагу.
— Хорошо, — сказал он. — Это ваше дело. У меня готов уже приказ. Я отправляю вас в Сардинию в Иглезиас[40].
И он отпустил меня. Отпустил также и своего секретаря. Когда я был у двери, а секретарь уже вышел, префект вернул меня. Мы были одни.
— Послушайте, — сказал он, — ваш отказ подписать бумагу означает, что вы будете интернированы. Вам придется оставить город, семью, дела. В сущности, все это ненужная жертва. Если бы это смогло прекратить войну! — Старый аристократ оглянулся вокруг, как бы испуганный собственными словами. — Да! — продолжал он. — Если бы это могло положить конец войне! Ведь я тоже против войны[41].
— Против какой войны? — возразил я. — Если бы Италия выступила против Франции, вы были бы за войну, синьор префект! Ваша партия тоже обагрила руки в крови. Да! В пролетарской крови, здесь, в Италии, в Ливии… не больше и не меньше, чем всякая другая буржуазная партия.
— Вернемся к фактам: вы будете интернированы. Я не могу поступить иначе. Я и так слишком долго терпел. Я реакционер, как говорите вы, но я уважаю людей, во что-то верующих… Мне жаль отправить вас в Сардинию, — добавил он.
— А мне, если бы переменились роли, нисколько не было бы жаль отправить вас в Сардинию или еще дальше, — отвечал я.
Префект помолчал.
— Что ж? Вы рассуждаете логически: по-своему вы правы. И он окончательно отпустил меня.
Через несколько дней я получил приказ, интернировавший меня в моем городе. Префект не отправил меня в Сардинию, но интернирование меня в городе, где я проживал, было для меня, как секретаря федерации, тоже чрезвычайно неудобно, так как здесь полиции было легче следить за мной.
В это время я был одним из редакторов «Лотте нуове». В редакции тогда имело место любопытное смешение идей. Главный редактор стоял за победу Антанты, другой редактор полагал, что победа центральных держав дала бы большой толчок техническому прогрессу. Оба, однако, считали себя социалистами. Я держался точки зрения ЦК партии — был против всякой войны, ибо был убежден, что, кто бы ни победил — Антанта или центральные державы, — рабочие одинаково потеряют. Эти наши разногласия, конечно, сказывались на журнале.
— Я не согласен с тобой, — заявил главный редактор, — но, так как я признаю за товарищами право высказывать свои взгляды и так как ты тоже редактор, ты должен взять на себя ответственность за свои статьи и подписывать их.
Я стал подписывать, в результате чего реакционеры и цензура ополчились уже на меня лично. Особенно приглянулся я цензуре. Достаточно было, чтобы под статьей красовалось мое имя, как она испещрялась белыми полосами, иногда от нее оставались только заголовок и подпись. Однажды я сыграл злую шутку с цензором: изменив заголовок статьи Муссолини из «Пололо д’Италиа», я подписал ее своим именем. Она была уничтожена цензурой совершенно: остались только заголовок и подпись… Я испробовал всевозможные псевдонимы, заставляя таким образом цензора читать статьи, но результат был неизменно один и тот же. Только возрастал материал по моему «делу».
Глава XV Реакция, голод и Туринское восстание[42]
Чем дальше затягивалась война, тем свирепее становилась реакция: аресты, ссылки…
Солдаты, приезжавшие в отпуск, рассказывали об ужасах войны, о бесстыдном обогащении спекулянтов. Буржуазия окончательно перестала стесняться. Акулы войны своим поведением оскорбляли измученный лишениями народ. И в то же время они старались сеять раздор между крестьянами и рабочими. Первым они говорили: «Вас гонят на войну, а рабочие преспокойно зарабатывают себе хлеб на заводах». А рабочим напевали другое: «У вас нет даже черного хлеба, а крестьяне объедаются белым…»
В это время интервентистская печать вопила на все лады:
— Крестьяне, спасайте ваши земли!
— Рабочие, защищайте предприятия!
— Вперед! Вперед!
И обещали золотые горы!
Землю — крестьянам!
Рабочим — контроль над предприятиями!
Демократию!
Свободу!
Тем временем поставщики снабжали солдат башмаками на картонных подошвах и гнилыми консервами. Солдаты умирали от холода и простуды в окопах, заливаемых водою, или от негодной пищи!
Все чаще вспыхивали беспорядки, типичные восстания неорганизованных масс, какие бывают во время мрачных периодов истории в обстановке темных политических интриг.
В этот период платформа Итальянской социалистической партии отличалась от платформы большинства партий, объединяемых II Интернационалом.
Итальянская социалистическая партия высказалась против войны, отказалась войти в блок Священного национального союза, отказалась принять на себя часть ответственности за войну. Она держалась стойко. Предательство Муссолини не вызвало кризиса в партии. Наоборот: массы еще теснее сплотились вокруг нее.
Но эта платформа исключительно отрицательного характера не была боевой; не поддерживать и не саботировать войну — значило топтаться на месте. Партия, застывшая в пассивном отрицании, не видела пагубной деятельности реформистов, завладевших профсоюзами в сотрудничестве с промышленниками. Она не замечала зарождения в массах волны восстаний.
Трагедия итальянского буржуазного общества носит имя Капоретто[43]. Капоретто означает разгром армии, банкротство правящего класса и государственного аппарата, взрыв недовольства трудящихся масс. И в этой обстановке партия, представительница рабочего класса, упорно твердила: «Не поддерживать и не саботировать» войну, являющуюся крупнейшим актом насилия буржуазии над пролетариатом… В этом неестественном положении Итальянской социалистической партии и лежит причина поражения итальянского пролетариата.
Весна 1917 г. протекала особенно беспокойно. В Милане были беспорядки. Рабочие волновались и в других крупных промышленных центрах, особенно в Турине.
Когда в августе 1917 г. в Турине внезапно вспыхнуло восстание, партия, в начале войны не сумевшая провести всеобщую забастовку, не смогла и теперь принять на себя руководство восстанием, и оно было потоплено в крови. Я часто наезжал в Турин для поддержания связи с товарищем Грамши[44] и другими. На металлургических заводах был введен военный режим, обстановка была чрезвычайно тяжелая. За малейший проступок рабочих — не только мужчин, но и женщин и детей — сажали в карцер военной тюрьмы. За оставление работы виновный подлежал военному суду. Пострадавшие на работе не получали никакого возмещения. Профессиональные организации, представители которых — реформисты Коломбино, Буоцци, Гварньери и другие — входили в Комитет промышленной мобилизации, ничего не делали. Местная социалистическая секция была, конечно, против участия в комитете, но вопрос этот был решен в общем национальном масштабе, и реформисты из профсоюзов пошли на сотрудничество с промышленниками.
Часто вспыхивали забастовки. Внушительные демонстрации против войны произошли при похоронах жертв взрыва на пороховом заводе в Борго Сан-Паоло[45].
Приезд летом 1917 г. Гольденберга и Смирнова, делегатов русского Временного правительства, вызвал в Турине взрыв энтузиазма и грандиозные манифестации. Невозможно было вместить в залах Палаты труда всех желавших слушать русских делегатов, и поэтому им пришлось говорить с балкона. Это было первое открытое собрание с момента объявления Италией войны. К своему немалому изумлению, посланцам Керенского пришлось выслушать провозглашаемые туринскими рабочими лозунги большевиков и восторженные возгласы «Да здравствует Ленин!»
В конце июля в Турине обнаружился недостаток хлеба. Черный, тяжелый, со всевозможными примесями, малопитательный, он все же являлся основным продуктом питания рабочих масс. И его отсутствие взволновало население. После долгих часов ожидания в хвосте у хлебной лавки увидеть вместо хлеба надпись «Хлеба нет» было мало приятно для работниц, проработавших 10–12 часов на предприятиях. Такие надписи толпа встречала гневными криками и свистом. Можно легко представить себе настроение широких масс накануне туринского восстания. С одной стороны — трудящиеся, жаждущие хлеба и мира, а с другой стороны — капиталисты, подрядчики и поставщики, богатые бездельники, прятавшиеся в тылу и охраняемые вооруженными силами реакционного государства, собирающегося воевать «до победного конца».
22 августа хлеба совсем не оказалось в лавках.
На некоторых фабриках рабочие после обеденного перерыва не возобновили работу.
— Почему не работаете? — спросил один из хозяев.
— Потому, что мы не ели, — последовал ответ.
— Я пошлю грузовик за солдатским хлебом, — предложил он.
— Долой войну! — было ответом.
К пяти часам рабочие всех предприятий вышли на улицу. Освобожденные от призыва срывали с рукава отличавшую их трехцветную повязку и присоединялись к бастующим.
Был арестован секретарь Палаты труда. Реформисты пытались было выпустить «призыв к порядку», но им не удалось опубликовать его. Рабочая делегация была отправлена в Милан, в Центральный Комитет Итальянской социалистической партии и Конфедерацию труда, с требованием расширить движение. Но получила отказ.
Таким образом, восстание шло и развивалось без всякого руководства. Делегация от женщин отправилась к префекту и получила туманные обещания. На улицах толпа все возрастала.
Из какого-то проезжавшего шикарного автомобиля при виде взволнованной толпы раздался насмешливый голос:
— Сколько шума из-за хлеба! Кушайте пирожное!
Толпа всколыхнулась:
— Будем и мы есть пирожное!
Начался разгром кондитерских. Из центра движение перебросилось на окраины. Стали сооружать баррикады, но строили неумело, и взять их ничего не стоило. В Борго Сан-Паоло подожгли церковь, где годом раньше монахи высекли мальчика. Теперь припомнили и это.
Первые стычки с полицией. Первые жертвы. Рабочие громили оружейные лавки и вооружались. На помощь полиции были выдвинуты воинские части. Так как главным центром движения являлись две окраины: Борго Сан-Паоло и Баррьера ди Милано, расположенные на противоположных концах, то воинские части отрезали одну окраину от другой. Но эти отряды явно были ненадежны. Солдаты были бледны, хмуры, офицеры растеряны. Женщины приносили солдатам еду и говорили им:
— Не стреляйте, вы ведь наши братья.
Отряд альпийских стрелков, получив приказ стрелять, отдал свои ружья рабочим, что вызвало общий взрыв энтузиазма. И ни одного человека от партии! Лозунги толпы быстро менялись. Начали с требования хлеба, потом послышалось:
— Долой войну!
Затем:
— Требуем мира! Долой оружие! Прочь из окопов!
Распевали:
Сними свое ружье и брось его на землю. Мы требуем мира, мы требуем мира! Мы не желаем войны!Одно из отделений полиции было захвачено восставшими. Массы устремились в центр: к префектуре, к управлению полиции, к казармам.
Выступили на сцену блиндированные автомобили, затрещали пулеметы, двинулись танки. Улицы были залиты кровью. Город, погруженный в полутьму, треск пулеметов, грохот автомобилей…
Героизм туринского пролетариата был велик. Рассказывают, что в тот момент, когда тяжелые танки направлялись к окраинам, группа женщин прорвала солдатские цепи и преградила дорогу танкам… Они цеплялись за машины и не давали им двигаться. Приказ пустить в ход пулеметы не был выполнен. Солдаты, бледные, с залитыми потом и слезами лицами, не хотели стрелять…
Но сопротивление не могло длиться долго. Ходили разные слухи. Говорили, что социалистическая партия советует возобновить работу… Вождей не было… Через несколько дней восстание было подавлено.
По официальным данным, были убиты сорок два человека, по нашему же подсчету, мертвых было больше пятисот, раненые насчитывались тысячами.
Полиция запретила родным опознать убитых. Так и похоронили их неузнанными.
Аресты продолжались еще с месяц после подавления восстания. Был арестован в Милане также и Серрати.
На процессе арестованные отстаивали партийную платформу, но никто из них не набрался смелости выступить в защиту героического восстания тружеников Турина.
Лишь последующей борьбой рабочего класса 22 февраля 1919 г. удалось вырвать у правителей Италии амнистию, по которой были освобождены арестованные в дни туринского восстания.
Эхо революционных событий в Турине прокатилось по всей стране. На рабочих, крестьян, солдат, ремесленников и мелких торговцев туринское восстание произвело громадное впечатление. Но печать не нашла нужным осветить события в Турине. «Аванти» печатала лишь небольшие заметки и даже не попыталась освещать факты или публиковать документы о революционном выступлении трудящихся Турина!
Фоссано находится в шестидесяти километрах от Турина. Он был в эти дни отрезан от него. Но кое-какие сообщения все же доходили до нас, и в городе царило необычайное волнение среди всех слоев населения. Однако газеты ни словом не обмолвились о происходящем в Турине. Я прочитал о туринских событиях во французской печати. Даже «Аванти» известие об этом напечатал петитом.
У нас в городке составили по этому поводу воззвание и перевели его для пленных. В парикмахерской только и говорили о Турине.
Как всегда, выходили бюллетени генерала Кадорны, возвещавшие о победах и славе итальянского оружия…
А через несколько дней итальянская армия, разбитая наголову при Капоретто в беспорядке отступала и откатилась до реки Пьяве[46].
Глава XVI Съезд во Флоренции
Капоретто.
Дороги, загроможденные солдатами, бросившими свои полки, и беженцами на повозках, заваленных всяким скарбом, с маленькими детьми. Дороги, по краям которых стонут и умирают раненые, брошенные без всякой помощи. Мосты, взорванные прежде, чем бегущие перешли по ним. Ужасные сцены перед бурлящими реками. Грохот артиллерии, своей и вражеской, расстреливающей с обеих сторон обезумевшее население. Рассвирепевшие офицеры тщетно пытались остановить неудержимо катившуюся лавину гибнущей армии. Напрасно. Гонимая паникой, лавина эта докатилась до Пьявы, а беженцы и дезертиры рассыпались по всей стране.
Когда стало невозможно больше скрывать разгром армии, начали искать виновных в катастрофе; главной ее причиной объявили… восстание в Турине. На столбцах тех самых газет, которые раньше воспевали «героизм итальянского солдата», появились статьи, полные самых низких, самых подлых оскорблений по адресу этих же солдат. Все, начиная с Кадорны и кончая последней интервентистской шавкой, старались перещеголять друг друга по части ругани и угроз. Но даже и в этот тяжелый момент, когда «отечество» действительно было «в опасности», никто из господ, окопавшихся в тылу, не пошел на фронт. Они ограничивались тем, что громче других требовали суровой кары «изменникам»: расстрелов, больше расстрелов!
Буржуазия, напутанная катастрофой, в этот момент надавала много обещаний народу. Но пока что уменьшили и без того тощий паек, а население тюрем усиленно пополнялось. Охота за дезертировавшими солдатами и социалистами-пораженцами велась тоже весьма усердно. Длинные шеренги закованных дезертиров направлялись на фронт. Военные тюрьмы были переполнены, массовые расстрелы в прифронтовой полосе производились ежедневно. Имя генерала Грациани, руководившего расстрелами, стало синонимом палача…
И в этот период, когда государственный аппарат разваливался, а армия была разгромлена, рабочий класс не был организован для того, чтобы нанести последний, решительный удар своему классовому врагу, беглые солдаты, уходя с фронта, бросали свое оружие в кусты, вместо того чтобы направить его против буржуазии, крестьяне уходили в лес, вместо того чтобы занимать поля, рабочие не захватывали фабрик… Почему?
Почему из масс измученного тяжкими годами войны населения, из рядов разгромленных армий не поднялся голос, призывающий к борьбе против классового врага, против помещика, фабриканта, жандармов, короля, попов? Почему?..
Потому что политическая организация пролетариата не была на должной высоте. Итальянская социалистическая партия фактически не существовала в этот серьезный момент. Голос одного из ее вождей, Турати[47], раздался только для того, чтобы сказать: «Отечество наше на Граппа»[48]. Эту фразу подхватила буржуазия, ибо Турати хотел спасать на Граппа отечество буржуазии…
Англичане, французы, чехословаки и американцы прибывали на итальянский фронт; с помощью их на Пьяве организовывалось сопротивление. Итальянская буржуазия то прибегала к расстрелам, то обещаниями восстанавливала разбитые полки, уволив в отставку Кадорну, и постепенно приходила в себя.
Социалистическая партия созвала в это время в Риме свой чрезвычайный съезд.
Тогдашний премьер-министр Орландо[49] запретил его.
Съезд был необходим для того, чтобы выявить линию Итальянской социалистической партии, чтобы показать, что Турати с его «отечеством на Граппа» (речь его в виде листовок распространяли в войсках) вовсе не представлял партию и что основная масса членов партии против войны, за мир, а не за «защиту от нашествия врага», как уверял Орландо.
Итак, съезд был запрещен. Правое крыло партии приняло это безропотно, как нечто должное. Фракция левого большинства решила конспиративно провести партийную конференцию. И конференция состоялась во Флоренции. Ряд мер предосторожности был рекомендован товарищам на местах в особом секретном извещении.
Я был тогда секретарем провинциальной федерации Кунео. Мы тотчас же провели заседание бюро федерации и зачитали извещение центра. Тут-то и выявились колебания в самом руководстве федерации. Даже некоторые старые члены партии растерялись:
— Как это мы проведем конспиративную конференцию? С ума они там сошли, что ли? Съезд был назначен, Орландо его запретил… Ну и баста!.. По окончании войны мы покажем им на что способна настоящая демократия. А сейчас ничего нельзя сделать…
Но я держался твердо:
— Мы высказались за съезд, но сейчас вынуждены провести конференцию конспиративно.
Кто-то из товарищей предложил избрать меня делегатом. Остальные облегченно вздохнули. Должен сказать, что никто из руководителей этой организации не вошел впоследствии в ряды коммунистической партии. Через несколько дней я получил официальное приглашение.
Обрабатывая в парикмахерской головы своих клиентов, я усердно размышлял, каким бы мне способом поудобнее нарушить приказ, воспрещавший мне выезд, как вдруг на пороге появилась внушительная фигура начальника карабинеров. Я уже привык к посещениям низших чинов, но сам начальник… Очевидно, дело было серьезное.
— Мне надо поговорить с вами. Не зайдете ли ко мне? — любезно спросил он меня.
— Скажите, — спросил я, хорошо знавший «продолжение» подобных разговоров, — надо ли мне захватить с собой белье и книги?
— О, нет не беспокойтесь… На несколько минут…
— Тогда я приду, как только окончу.
Наши клиенты были приучены к подобного рода перерывам. Как-то мне пришлось оставить одного из них с наполовину сбритой бородой. Тогда тоже дело шло о «разговоре», который продолжался, однако, для меня… две недели.
Но на сей раз начальство сдержало слово и задержало меня только на полчасика. Когда я явился к нему, он восседал за столом перед некоей бумагой. Оседлав нос очками и расправив усы, он кашлянул два-три раза, как это обычно делают, когда не знают, с чего начать: начальник карабинеров нашего города не был оратором.
Все эти приготовления заняли у него столько времени, сколько требуется для того, чтобы прочесть небольшой документ, хотя бы лежащий вверх ногами. И я прочел. Это был весьма интересный для меня циркуляр Орландо.
Вот его содержание:
«СТРОГО СЕКРЕТНО
Тайный съезд ИСП во Флоренции
До сведения нашего министерства дошло, что известный парикмахер-социалист (следовали мои имя и фамилия) примет участие в съезде. Предписываю неуклонно наблюдать за ним, а также не допустить его отъезда во Флоренцию. Это должно быть сделано умело».
(Следовала подпись министра.)— Итак, вы собираетесь поехать на съезд? — спросил он меня.
— Какой съезд? — удивился я. — Разве вы не знаете, что Орландо запретил его?
Такой ответ, должно быть, не значился в программе начальника, так как он снял очки и принялся протирать их, между тем как я еще раз прочитал бумагу.
— Речь идет не о римском съезде, а о том, который будет во Флоренции секретно, — пояснил наконец он.
— Мне об этом ничего не известно. Здесь какая-то ошибка…
— В министерстве не бывает ошибок. Может статься, вы еще не получили извещения.
Жандарм действовал необычайно умело!
— В сущности, что вам угодно от меня?
— Вот что: так как вы, конечно, будете приглашены на этот съезд, то я получил приказ осведомить о вас флорентийскую квестуру, которая позаботится о том, чтобы вас не беспокоили местные националисты.
Начальник становился предупредителен и дипломатичен.
— Если дело только в этом, то нет ничего более легкого, — ответил я. Если вы мне обещаете не сыграть со мной никакой шутки, я обещаю известить вас о дне своего отъезда, как только получу приглашение на съезд.
— Прекрасно. Люблю иметь дело с умными людьми: всегда можно сговориться. Итак, решено.
Я распростился с ним и возвратился в парикмахерскую.
Через два часа я мчался на велосипеде к станции соседнего городка, а оттуда прямым поездом во Флоренцию. Сюда прибыли благополучно и заблаговременно, даже из самых далеких уголков Италии, все намеченные делегаты, и можно было бы прекрасно провести конференцию, если бы организационный комитет не оказался равноценным по своей «ловкости» моему жандарму, назначив заседание конспиративной конференции в помещении… социалистической федерации. На первое же заседание одновременно с делегатами, которых было около сорока, явилась сотня полицейских и карабинеров, которые с обычным «именем закона» заполнили зал и пригласили организаторов конференции поговорить с префектом.
Результатом этого разговора было запрещение проведения конференции во Флоренции и в ее провинции.
Забавная вещь. Орландо или, вернее, префект Флоренции сообщил нам, что закроет заседание после полуночи. Это давало нам возможность до полуночи обсудить положение. На этом заседании, кроме представителей различных провинций, присутствовали также Серрати, Ладзари, Фортикьяри[50], Кароти[51], Грамши и Бордига[52].
В этот вечер я впервые услыхал Грамши, и его выступление произвело на меня большое впечатление. После его речи здесь, в помещении, окруженном полицией, под нависшей над нами угрозой закрытия конференции, социализм стал для меня как-то более близким, конкретным. Я был приучен к длинным программным статьям и туманным, выспренним выступлениям крупных ораторов, в которых слова «справедливость», «свобода», «всеобщее равенство» были неизбежными придатками. Так говорили и писали, например, Прамполини, де Амичис и другие. Привык я и к острым антикапиталистическим выпадам Ладзари, к элегантной полемике Турати и Модильяни, к демагогическому разглагольствованию Муссолини… Но никто из них не спускался на землю из области пышного ораторского искусства.
В тот вечер передо мною раскрылись новые горизонты. Понятно и близко стало мне то, что происходило в революционной России. Идеи социализма ожили и облеклись плотью…
Грамши анализировал положение в Италии. Он констатировал поражение итальянского капитализма на фронте, разобрал причины дезорганизации государственного аппарата и закончил призывом:
— Необходимо действовать! Пролетариат фабрик и заводов устал. Но он вооружен. Мы должны действовать!
Серрати, Ладзари и большинство собравшихся высказались за сохранение прежней линии: «не поддерживать и не саботировать».
Но Орландо придерживался другого мнения… Около полуночи послышался у дверей шум, толчок и прозвучало неизменное «именем закона».
Мы, однако, успели сговориться продолжить наше заседание в доме одного адвоката (ставшего потом реформистом).
Мы покинули помещение федерации. Площадь была заполнена шпиками и полицейскими. За каждым из нас увязалась неизбежная «тень». Мы с Грамши и еще одним товарищем остановились в гостинице, где остановился также и Ладзари. Когда мы вошли в подъезд, «тени» исчезли. Осторожно выглянув из-за оконных занавесей, мы увидели их за углом. Как быть? Приближалось время, назначенное для продолжения конференции, но было ясно, что «тени» последуют за нами и снова сорвут заседание. Мы устроили военный совет. Было решено, что двое из нас должны принести себя в жертву и увлечь за собой «тени». Выбор пал на меня и другого товарища: Ладзари и Грамши должны были попасть на заседание.
Мы вышли из гостиницы и разошлись в разные стороны, чтобы разъединить наши «тени».
Началось мое ночное путешествие по незнакомой мне пустынной и полутемной Флоренции. Я надеялся найти извозчика или автомобиль, удрать на нем от моей «тени» и таким образом попасть на заседание. Но напрасно: Флоренция была пуста.
На одной из улиц меня остановил патруль, разыскивавший дезертиров, и потребовал у меня документы. Моя «тень» приблизилась и что-то прошептала начальнику патруля. Меня пропустили, моя «тень» последовала за мною, и снова началось блуждание по уснувшему городу…
Наконец-то автомобиль! Я прыгнул в него и громко дал адрес своей гостиницы. Шофер двинул машину, и «тень» моя окаменела на тротуаре. На ходу я дал другой адрес и через несколько минут был среди товарищей. Заседание продолжалось недолго. Каждый из присутствовавших получил резолюцию для распространения на местах.
На следующий день — мой поезд уходил только вечером — мы с товарищем осматривали «город цветов»[53]. «Тени» неотступно сопровождали нас. Очевидно, флорентинский префект все еще собирался раскрыть наш съезд.
Глава XVII Возвращение
Как мало пассажирских поездов даже на главных железнодорожных линиях: все пути забиты военными поездами. Едем мы медленно. Со мной Грамши, заведовавший тогда туринским отделением «Аванти». Мы говорим об «Аванти» и о журнале пролетарской культуры «Город будущего», единственный номер которого был издан Грамши. Я с наслаждением слушал Грамши. Пока поезд медленно тащится через поля Тосканы, он говорит о фабричных комитетах, в которых видит ячейки будущего рабочего государства и кадры революционной армии для грядущих боев. Говорит он просто, образы его ясны и наглядны.
— В борьбе, которая ожидает нас, социалистическая партия ничего не сможет сделать, оставаясь такой, какова она сейчас. То, что произошло в России, указывает нам путь. И даже когда «Аванти» превозносит революцию на своих страницах, она имеет в виду совсем не ту революцию, какую себе представляют наши вожди.
Входят карабинеры. Спрашивают наши воинские билеты. Мы оба — «освобожденные». На станции мы выходим из вагона, чтобы выпить горячего кофе и немного поразмяться.
Буфет весь разукрашен национальными флагами, а кофе до невозможности дорог и скверен…
В то время как мы стоя пьем его, дверь с треском распахивается и на пороге показывается солдат. В руках у него ружье, которым он потрясает, как булавою. С яростным криком он врывается в буфет и начинает сокрушать своим оружием все находящееся внутри разукрашенной флагами комнаты: мраморные столики, зеркала, посуду. Все это мелкими осколками летит на пол, хозяин вопит, прячась за стойку, солдат яростно продолжает свою разрушительную работу. Никто не решается приблизиться к беснующемуся человеку. Наконец двое карабинеров и несколько железнодорожников овладевают им и связывают его.
— Это сумасшедший, — говорит один из карабинеров, — позвони скорее в больницу!
Связанный солдат спокоен. Он улыбаясь смотрит на собравшуюся публику.
— Вы думаете, я спятил? Нет, я в своем уме. Но я не хочу идти на войну. Пошлите его, — и он указывает на буфетчика. — Иди, иди на войну, вместо того чтобы отравлять здесь добрых людей и наживаться на этом! Еще несколько таких посетителей, как я, и у тебя пропадет охота развешивать все эти флаги!
Его уводят.
— Сумасшедший! — шепчут собравшиеся.
Но мне он кажется здоровее многих из присутствующих.
В Генуе я расстался с Грамши: было бы неосторожно приехать вместе. В ожидании пьемонтского поезда я пошел осматривать город: ведь я принадлежал к тем тридцати девяти с лишним миллионам итальянцев, которые не видели Италии…
И здесь, как повсюду, оружие, музыка, раненые солдаты… На Виа XX Сеттембре я натолкнулся на полк шотландцев с оркестром впереди. Студенты-интервентисты встречали полк шумной манифестацией, распевая во все горло национальный гимн и заставляя лавочников закрывать магазины. Какой-то торговец зонтиками, чемоданами и прочими дорожными вещами торопливо убирал свой товар с улицы. Он знал по опыту, что патриотизм некоторых граждан выражался в несколько странной форме: они забирали с собой выставленные товары. Поэтому торговец зонтиками весьма торопился закрыть свое заведение. И все же его готовность способствовать конечной победе Антанты показалась недостаточной пробегавшей группе студентов.
— Пораженец! — закричал один из них, останавливаясь у злосчастной лавчонки, и в несколько минут лавчонка и витрины были разгромлены. Лавочник отделался легко: он смог отправиться без посторонней помощи в ближайшую аптеку на перевязку.
Полиция, как полагается, явилась, когда погром уже закончился, и арестовала всю собравшуюся публику, в число которой попал и я.
Захваченные патриоты победно распевали:
Триест — ты наш! Тебе — трехцветное знамя!Прибыл полицейский комиссар и был встречен криком:
— Да здравствует комиссар!
Комиссар, благосклонно улыбаясь, начал говорить:
— Я понимаю ваш энтузиазм…
— Да здравствует комиссар! — раздавалось все громче.
Зонтики, баулы, чемоданы кучею лежали вокруг…
— Но вы надежда Италии, вы должны не только демонстрировать. На вас лежат иные обязанности: пораженцы, джолиттианцы, социалисты строят свои козни, вы должны быть на страже, следить за ними, сообщать о них, если хотите, чтобы Италия победила!
— Да здравствует Италия! Долой социалистов! Смерть пораженцам!
Комиссар, упиваясь аплодисментами, продолжал свою речь. Наверно, никогда еще не встречали его столь восторженными овациями.
Затем он отпустил всех, в том числе и меня…
По дороге на вокзал мне пришлось снова пройти мимо лавчонки торговца зонтиками. Бедняга с перевязанной головой печально рассматривал остатки своего товара. Он не смел даже ругаться для облегчения.
— А вы делайте, как я, — советовал ему сосед. — Я теперь уже не выставляю товара на улицу и, как только почую демонстрацию, спускаю ставни, вывешиваю флаги, запираю двери и отправляюсь пропустить стаканчик-другой.
В Турине на вокзале ко мне приблизились два субъекта:
— Пожалуйте с нами!
— Нельзя ли узнать, с кем имею честь?
Мне были предъявлены соответствующие мандаты, и мы направились в Сан-Карло, туринскую квестуру, расположенную неподалеку от вокзала. Вице-квестор собственноручно обыскал меня, но ничего не нашел.
— Советую вам отдать самому эту резолюцию, как это сделал уже Грамши, если не хотите попасть в «Новую»[54],— грубо сказал мне недовольный результатами обыска вице-квестор.
— Какую резолюцию?
— Мы знаем все. Знаем, что, несмотря на запрещение, вы все же устроили съезд и вынесли резолюцию.
Ясно было, что резолюции у них не было. Только много времени спустя удалось им найти ее у одного из товарищей в Бари, после чего был арестован Ладзари, тогдашний секретарь партии.
После безрезультатного обыска меня отпустили. Перед отъездом в Фоссано я видел Грамши; ему вицеквестор тоже советовал отдать резолюцию, заявив, что я уже это сделал…
В Фоссано ко мне явились карабинеры и предложили «побеседовать» с начальником, который все еще ожидал моего сообщения о дне отъезда на съезд.
Он был взбешен.
— Где вы были? Разве вы не знаете, что не смеете покидать город без моего разрешения? Вы добьетесь того, что меня переведут, и вконец испортите мне карьеру… И подумать только, что я поверил вашему слову!
— Было поздно, когда я узнал о том, что должен ехать, и мне не хотелось вас беспокоить… — снаивничал я.
Жандарм обозлился еще больше.
— Неужели вы думали, что я до такой степени идиот, чтобы самому явиться сюда к вам — сообщить, что я еду на съезд, и, таким образом, сесть в кутузку?
— Ладно, вы сядете все равно за то, что выехали без моего разрешения. Кроме того, нам известно, что вы имеете сношения с пленными австрийцами, а также с пораженцем Грамши, который пишет в «Аванти». Да, да, вас видели с пленными, с которыми вы разговаривали по-австрийски.
Во время этой речи он ходил взад и вперед по комнате.
«Австрийский язык» принес мне несчастье в этот день. Я не выдержал и рассмеялся.
— Обыщите его! — загремел жандарм. — Обыщите внимательно и отведите в камеру! Там он научится…
Через несколько минут я очутился в камере. Там было уже несколько солдат, ожидавших отправки на фронт, и пьяный, распевавший:
Наш генерал Кадорна Изрядно отличился: Всех проституток в Красный Крест Устроить умудрился… Пим, пам, пум!Резолюция конференции, за которой так усердно охотилась полиция, была размножена и распространена. Мы перевели ее также и на «австрийский» язык для военнопленных.
Глава XVIII Мир и русская революция
Армия, отхлынувшая от Капоретто, докатилась до Пьявы. Здесь наконец установился фронт, и правительство Бозелли, впавшего в детство старика, сменившего Орландо, призвало к оружию стариков и детей. Пришлось и мне снова явиться на военно-медицинский осмотр, на этот раз в штаб армии в Турине. Здесь были врачи высших военных чинов с галунами на кепи, присутствовали и иностранцы — обычная интернациональная комиссия. И на этот раз меня освободили.
Война затягивалась.
Никто из виновников поражения при Капоретто не хотел признавать своей вины. Но мысль о затяжной войне беспокоила всех. Тревес[55] — быть может, в противовес знаменитой фразе Турати: «Наше отечество на Граппа» — заявил в палате депутатов: «Этой зимой ни один человек не должен оставаться в окопах!»
И даже папа римский, посылавший своих капелланов на фронт для поддержания духа бойцов, после туринского восстания оказался пораженцем — в своем апостольском послании он изрек о войне: «…бесполезное истребление»… Послание произвело немалое впечатление на фронте…
— Пора кончать! — шептались повсюду.
Заходившие ко мне в парикмахерскую солдаты говорили, когда не было никого постороннего:
— Надо сделать так, как сделали в России.
Говорили… А кровавая машина войны все еще работала. И полицейские репрессии росли с каждым днем. Моя поездка во Флоренцию обозлила жандармов Фоссано: я был подвергнут самому бдительному надзору. Видно, начальник жандармов и полицейский комиссар получили за меня изрядную головомойку.
К ужасам войны присоединилась свирепая эпидемия «испанки», косившая людей не хуже вражеских пуль. В Турине умирало до ста двадцати человек в день. Недостаток продуктов раздражал население, особенно женщин, которые, стоя в длинных очередях у лавок, совершенно открыто проклинали войну.
— Проклятая война! Барыни, небось, не стоят в очередях! Жрут кур и белый хлеб…
— Пора кончать!
— Надо сделать, как в России!
— Правильно, революцию надо!
— Будет и у нас Ленин!
Ленин! Это имя произносили, как заветное слово надежды, порой выкрикивали, как угрозу. Его можно было увидеть на стенах домов, на пьедестале памятников — всюду.
Как-то, когда я выходил из туринского отделения «Аванти», меня задержал проходивший мимо патруль и отправил как «неблагонадежного» в Сан-Карло[56].
Я застал там самую разношерстную компанию: пьяницы, воры, кокаинисты, несколько солдат… Шум, брань, воздух такой, что не продохнешь…
Некий подвыпивший субъект, взобравшись на стол, ораторствовал. Мой приход не прервал его красноречия.
— …Да, справедливости нет… И я докажу!
— Ложись спать, обезьяна!
— Заткнись, пустомеля!
— Докажу! Я был в Америке… Как только услышал, что у нас война с немцами, я приехал сюда. Записался добровольцем. Через месяц я уже был на фронте! Но у меня слабые нервы, и я попросился назад. И, представьте себе, синьоры, мне отказали…
— Хорош мальчик! А еще доброволец!..
— Тогда я сбежал. Работал на фабрике снарядов. И вот попался. Напился и попался… Нет больше справедливости на свете!.. Ведь я же все равно приносил пользу отечеству!..
— Трус, трижды трус! — заревел один из солдат. — Приехал воевать, а теперь прячешься за спины других.
И он сшиб оратора со стола.
— Я, — продолжал солдат, обращаясь к публике, — я не хотел войны, я боролся за то, чтобы ее не было, и двадцать месяцев провел на фронте! Сколько смертей я видел, сколько погибло товарищей на моих глазах! Голод, грязь, расстрелы… О, я хотел иногда получить пулю в лоб: конец всему, и баста — так и смерть не берет! А когда пришел в отпуск и увидел, что тут делается, я не смолчал, и вот я здесь! А этот из Америки приехал… обезьяна!
Солдат смолк, задохнувшись. Я внимательно смотрел на него.
— А ты за что? — спросил он меня.
— Я социалист.
— Да здравствует социализм! — заорал солдат. — Да здравствует!.. Смотри! — И он указал на стену.
Высоко, слабо различаемая в полутемной камере виднелась сделанная гигантскими буквами надпись:
«Evviva Lenin!»[57]
— Кто это написал? — спросил я.
— Я! — гордо ответил солдат.
— Как ты это сделал?
— Очень просто: вода и химический карандаш. Прочно.
— Ты социалист? — спросил солдата прилично одетый человек, державшийся в стороне.
— Да, социалист, — ответил солдат, — а ты что за птица?
— Полегче, ты разговариваешь с приличным человеком…
— Например? — рассмеялся солдат.
— Ваш социализм неосуществим, — продолжал его собеседник, пропуская насмешку мимо ушей.
— Почему это?
— Потому что невозможно, чтобы все люди были одинаковы…
— Еще бы, есть порядочные люди, и есть скоты, вроде тебя, — послышался голос из глубины камеры.
— Кто это там прячется? Выходи! — оскорбился «приличный человек».
Альпийский стрелок, ростом без малого два метра, очутился перед вызвавшим.
— Вот я. Что скажешь?
— Я… просто удобнее разговаривать, когда видишь друг друга…
— Понимаем… забил отбой. А кстати: ты-то кто? Я дезертир, послал к черту полк и ружье, а ты?
«Приличный человек» молчал.
— Ну, храбрее, исповедуйся!..
— Я… я жертва судебной ошибки…
Хохот присутствовавших слился с грохотом открываемой двери. В камеру вошел новый жилец. Этот тоже был хорошо одет. Оглядевшись, он вдруг с криком: «Ах ты падаль![58] Сыщик!» — набросился на «жертву судебной ошибки». Тот защищался.
В первый момент никто не счел нужным вмешаться в драку. Затем альпийский стрелок разнял их; оба были измяты, красны, задыхались. Вновь прибывший обратился к присутствующим:
— Этот субъект — полицейский шпион. Будьте осторожны. Сюда его посадили для слежки за вами. Он проник в наше общество: все юноши из хороших семейств, надо сказать. Мы прекрасно проводили время: красивые женщины, карты, иногда щепотка кокаина… А сегодня вот нас арестовали, и у меня конфисковали восемь тысяч лир… все из-за этой падали!
И он снова хотел броситься на своего врага. Альпиец удержал его.
— Это ты падаль! Сыновья «хороших семейств», как же! Все вы окопались в тылу!
— Он — содержатель чайного дома, этот сынок из хорошей семьи! — кричал «жертва судебной ошибки». — Я попал туда случайно, а он наживается на продаже женщин, он торгует своей женой. Вчера его видели у Порта Палаццо с жандармами, только не успели нас предупредить, но мы еще встретимся!
— Вот за кого мы сражаемся! — гадливо сказал альпийский стрелок. — Оба друг друга стоят! — И, встряхнув обоих, прикрикнул: — Теперь — куш! Не то… — И он показал внушительный кулак.
Один из достойной парочки что-то пробормотал, но увесистый удар мигом свалил его на землю. Другой молча прошмыгнул к нарам.
Вошли новые арестованные.
— Добрый вечер честной компании! — приветствовал один из вошедших. — Позвольте представиться: Тонио, по прозвищу Обезьяна, Марио Красавчик и Бастиано Длинный — это я. Нас подобрали в Баллоне[59], чтобы отправить на войну, но завтра выяснится, что у нас особые счеты с правосудием, и шкура будет спасена. Веселей, ребята, нас на войну не погонят!..
Снова раскрывается дверь и пропускает все новых и новых «постояльцев». Воздух сгущен до невозможности. Голова моя словно в тисках. На рассвете я ненадолго засыпаю, сидя на полу. При свете дня «Да здравствует Ленин!» ярко выделяется на стене. Надпись читают все. Вошедший надзиратель тоже.
— Кто написал?
Общее молчание.
— Знаю, что не скажете; все вы сволочь! Позовите маляра!
Приходит маляр с ведерком жиденькой известки и длинной щеткой замазывает грозную надпись.
К полудню стена просыхает, и надпись «Да здравствует Ленин!» сияет на ней так же ярко, как и прежде.
Снова явился маляр, и снова, как только просохла известка, надпись появилась на стене.
Тогда надзиратель прислал каменщика, и тот добросовестно выскреб букву за буквой. Надпись углубилась, потеряла цвет, но читалась превосходно.
— Разве можно стереть это имя? — победно улыбался альпийский стрелок.
Меня выпустили через четыре дня, а надпись все еще держалась на стене.
По пути в Фоссано в поезде встречаю старика крестьянина, дальнего родственника моего отца.
— Добрый день! — приветствует он меня.
— Давненько я вас не видал, — отвечаю я. — Что с вами случилось?
— Это, знаешь ли, не по моей вине вышло… Наш новый священник, такая уважаемая персона, видишь ли… запретил мне бывать у тебя. Он объяснил… ты ведь из тех — забыл вот, как называются, — что хотят поделить чужое добро. Ты не думай, я не верю этому, но, чтобы меня не упрекали, стараюсь заходить пореже.
— Славные сказки вам рассказывает ваш поп! Мы, правда, хотели бы поделить кое-что, например, земли Ровере, чтобы раздать участки тем крестьянам, которые, как вы, всю жизнь гнут спину и не вылезают из долгов.
— Это вот да! Это было бы по справедливости! А священник говорит, что вы не так: у кого, скажем, две свиньи, так вы одну хотите отобрать, и с курами, и с кроликами то же…
— А сколько кур и кроликов в год стоит вам ваш поп, дядюшка! — рассмеялся я.
— Ну, этого я не знаю… Надо поддерживать церковь… заработать себе рай…
— Откармливая попа?
— Оставим это… Я вот хотел попросить тебя об одолжении, даже о двух. Ты ведь пишешь в газетах и говоришь лучше самого попа…
— Охотно, если смогу, — ответил я.
— Я получил извещение, что Луиджи мой, слава богу, попал в плен к… — Дядюшка поскреб в затылке.
— Австрийцам? — подсказал я.
— Да, да, я это самое и хотел сказать. Так вот, напишу я ему, то есть не сам, потому что уже позабыл совсем, как… напишет Марьетта. Только адрес очень мудреный. Ты мне его напишешь? Да?
Я обещал.
— И еще мне нужен твой совет. Дело идет о ремонте церкви, для этого нужны деньги. Наш священник нашел банк, который дает ссуду, но нужны подписи двух поручителей на векселе. Он так высоко меня ставит, что обратился ко мне… Я подписать свое имя умею — это я говорю не для того, чтобы похвастаться, — но вот я не совсем понимаю суть дела с этой бумагой, с векселем. В чем тут дело?
— Дело вот в чем: кто поручится, платит по векселю из своего кармана, если взявший ссуду не сможет возвратить ее, — объяснил я.
Дядюшка погрузился в раздумье.
— Так, я понял. Только не говори, пожалуйста, никому, а то похоже, будто я не имею доверия к этому святому человеку. Ты что мне посоветуешь?
— Советую не подписывать векселя. Теперь мне понятно, почему поп не хочет, чтобы вы заходили ко мне. Этот «святой человек» боится не того, что я отберу у вас свинью, а того, что я открою вам глаза!
Дядюшка был серьезно озабочен и не знал, на что решиться.
— Я уже знаю, кончится тем, что вы подпишете вексель и оплатите его, а потом скажете мне: «Ах, если б я тогда послушался тебя!» — пошутил я. — Принесите мне адрес Луиджи, и я вам напишу несколько конвертов сразу.
Мы распрощались. Через несколько времени я узнал, что дядюшка оплатил векселя и жалел, что не послушался меня.
В Фоссано комиссар отобрал у меня проходное свидетельство, выданное мне туринской полицией, и объявил мне:
— Если вы еще раз уедете без моего разрешения, я засажу вас на три месяца. Пора кончить с этим! Зачем вы ездите в Турин?
— Я там покупаю мыло и прочие вещи для моей парикмахерской.
— Мы прекрасно знаем, что вы снюхались со злейшими врагами Италии, с теми, кто против войны. Где вы провели эти пять дней?
— Я провел их, действительно, в обществе самых отпетых негодяев, вы правы. Я провел их в Сан-Карло вместе с белобилетником, содержателем тайного притона, с ворами, с продавцами кокаина, тоже освобожденными от войны, с полицейскими сыщиками, никогда не бывшими на фронте, и прочей дрянью.
Глава XIX Съезд в Риме и 4 ноября
Известия о революционных событиях в России, доходившие до нас, захватывали дух. Даже по искаженным телеграфным передачам буржуазных агентств можно было судить, что «мужики» и рабочие не хотят больше воевать «до победного конца». Империя Романовых распалась, как карточный домик. Для нас с каждым днем становилось все яснее и яснее, что рабочие и крестьяне России стали брататься с солдатами, которые обратили оружие против буржуазии своей страны и отказались умирать за Антанту.
Колосс военной мощи старой России, на который союзники возлагали столько надежд, рухнул. Паника охватила банкирские круги Лондона и Парижа. Распространялись самые нелепые слухи. Уверяли, что «большевики продались немцам и потому агитируют за мир». Всячески поносили русский пролетариат и заигрывали с Временным правительством, на которое растерявшиеся банкиры перенесли свои надежды. Международная буржуазия работала вовсю, чтобы заставить русских сражаться и убедить новое правительство «сохранить верность союзникам». С Временным правительством без труда удалось спеться, но это было безнадежно по отношению к рабоче-крестьянскому правительству. Тогда была принята иная тактика — интервенция.
Сочувствие трудящихся масс было целиком на стороне русской революции. Вести из России, сообщавшие о новых порядках в освободившейся стране, доклады и дискуссии о фабрично-заводских комитетах овладевали вниманием рабочих, чувствовавших, что здесь было то, чего не хватало в традиционном социализме на Западе.
В Турине, где капиталистическое производство шире, чем в других значительных центрах Италии, неизбежно должна была образоваться наиболее спаянная масса благодаря хорошей организации и особым условиям, созданным войной. Самые условия работы — конвейерная система — толкали рабочих к единению, к большей солидарности. Это получалось само собой, так как работа имела характер коллективного усилия, в котором машина связывала собою множество работающих людей. Остановка машины означала прекращение работы целой системы машин, уменьшение заработка, и без того недостаточного при максимуме производства.
Эти рабочие особенно чутко ловили вести из России. Реформисты старались бороться с этой тягой к новому. Они чувствовали, что не смогут в дальнейшем воздействовать на заводских рабочих.
Брест-Литовский мир, который буржуазная печать пыталась изобразить как «большевистскую измену», был понят пролетариатом как решительный шаг к миру.
Буржуазия смертельно боялась этого слова. Сколько приговоров было вынесено за одно это слово! Припоминается мне один бедный деревенский трактирщик, которому банда патриотов выбила стекла в доме и разбила голову только потому, что трактир его назывался «Трактир мира».
Русская революция и все, что было так или иначе связано с большевиками и Лениным, становились все популярнее в Италии. «Кто не работает, тот не ест», — этот лозунг для итальянских рабочих масс заменял все четырнадцать вильсоновских пунктов, которыми восхищалась буржуазная Европа.
В таких условиях мы назначили наш новый съезд, на этот раз в Риме. Конечно, мне пришлось снова столкнуться с местной полицией.
— Теперь вам не удрать, — торжествующе заявили мне старшина и комиссар вместе.
— Но я и не намереваюсь, не поеду, если бы вы даже дали мне разрешение, — возразил я.
— Почему? — в один голос спросили оба.
— Вовсе не обязательно, чтобы меня избирали делегатом на каждый съезд.
— Так мы вам и поверили! Впрочем, можете просить разрешение.
В это время делегатский билет был уже у меня в кармане.
Министерство внутренних дел на этот раз разрешило съезд социалистической партии, но всячески старалось помешать ему и уменьшить число делегатов. Я, конечно, понимал, что был в числе тех, кому хотели воспрепятствовать попасть на съезд. Для меня было ясно, что за три-четыре дня до его открытия меня под каким-нибудь предлогом изъяли бы из обращения, засадив в каталажку. До съезда оставалась ровно неделя. Как быть? За мной неотступно следит полицейский: с самого утра он стоял у подъезда моей квартиры и весь день следовал за мною…
Однажды утром, заранее заготовив все, я выехал из дома в парикмахерскую на велосипеде в белой куртке, моем рабочем костюме, без шляпы. Я и прежде выезжал так, проделывая перед работой небольшую прогулку. Мой «ангел хранитель» привык уже к этому; он не беспокоился и на этот раз. Минут через двадцать я подъехал к парикмахерской.
Мой компаньон на пороге читал газету. Посетителей — никого. День был праздничный, солнечный — великолепный осенний день, когда приятно прогуляться подальше… Я повернул велосипед…
Через три четверти часа я был уже в деревне на другой стороне реки. Там меня ожидал товарищ с пальто, шляпой и прочим. Он довез меня в собственной повозке до ближайшей железнодорожной станции. Оттуда кружным путем — не вдоль Тирренского моря, а по Адриатической линии — я добрался до Кастелламаре.
В дороге все та же знакомая картина: оружие, флаги, вооруженные люди, но меньше воинственных выкриков, смелее и откровеннее разговоры о мире. В моем вагоне солдат рассказывал группе пассажиров свои приключения. Он был плохо одет, с истощенным лицом, грязен… Рассказывая, он кричал:
— Я больше ни за что не пойду туда, не пойду, если даже меня потащат! Пусть отправляются те, кому хочется воевать!
Никто не возражал ему.
На одной станции мы встретили воинский поезд. Он прошел мимо нас медленно, безмолвный; ни одной песни, ни одного возгласа… Когда он остановился, какой-то юный националист, взобравшись на багажный ящик, попытался произнести речь.
— Солдаты! Победа близка! Необходимо сделать последнее усилие, чтобы добить нашего векового врага!.. Наши храбрые воины…
— Довольно, паяц, поезжай-ка с нами!
— Послушайте!.. — пробовал оратор, но не смог продолжать. Пронзительный свист прервал его голос.
— Поезжай с нами, герой!
И молодца осыпали отборнейшими ругательствами, к которым присоединились корки хлеба, апельсинов и окурки. Он мгновенно исчез.
В Риме съезд происходил в Народном доме. Никогда мне еще не приходилось присутствовать на таком вялом съезде, как в 1918 г. Ни одним словом не откликнулся съезд на настроения рабочих масс, на готовящееся предательство реформистов. Без лозунгов, без борьбы идей он делил свое время между самозащитой Турати и демагогическими воплями Бомбаччи, который, казалось, после каждого своего выступления вот-вот кончится… Ладзари, Велла и Серрати — секретарь, помощник секретаря и редактор «Аванти» — в это время сидели в тюрьме: один — в Риме, другой — в Сицилии, третий — в Турине…
Делегаты больше занимались осмотром Рима, чем самим съездом. Столица производила впечатление празднично оживленного города: на каждом шагу музыка, каждый час новые выпуски газет, которые продавали пронзительно кричащие мальчишки, нескончаемый поток пешеходов и экипажей… Мы, провинциалы, глазели на все это с большим любопытством. Один из товарищей приехал из Пьемонта с двумя огромными чемоданами, полными различных продуктов.
— Жизнь в Риме дорогая, — говорил он мне, — вот я и захватил с собою кое-какой еды и две-три бутылочки.
В первый же день один из чемоданов у него украли. Он огорчился, но не надолго.
— Что за красавицы в Риме! Что за памятники! — восхищался он.
Вернулся я в Пьемонт через Флоренцию. В Эмполи мы встретили поезд с тяжелоранеными. Слепые, безногие, безрукие, некоторые неописуемо изуродованные. Барыньки из Общества гражданской мобилизации на этот раз не рискнули появиться со своими папиросами и конфетными коробками.
На всех станциях залы третьего класса до отказа набиты солдатами, ожидающими отправки на фронт. Все те же знакомые картины, только с более потускневшими красками. В Турине на станции разбрасывались листовки против русской революции, которая «предала союзников». Много позже, в период захвата фабрик, десятки тысяч этих листовок были найдены в несгораемых шкафах «Фиат»[60].
В Фоссано, к крайнему моему изумлению, меня не задержали, и комиссар не прочитал мне обычной нотации.
Немного спустя, 4 ноября, вечером, специальный бюллетень генерала Диаца, преемника Кадорны, сообщил о заключении перемирия.
Победа! На улицы высыпал народ, казалось, все сошли с ума, только спекулянты и поставщики хмурились. Для них мир значил конец бешеным прибылям, конец безудержной наживе. Значил еще хуже того: отчет перед уцелевшими, ответ перед пролетариатом.
Глава XX Дороговизна
Итак, мир! Солдаты, весьма медленно демобилизуемые, расходились по домам с «пакетами одежды», единственной военной добычей, которой могла похвастаться победоносная армия. Знаменитые пакеты содержали смену белья и отрез на костюм, все это завязанное в бумажный платок, на котором была изображена карта Италии с Тренто и Триестом на ней!.. Обидная ирония! Даже на «пакетах» наживались поставщики, обманывая «солдат-победителей» и государство: и белье, и платье не выдерживали носки.
По городам и селам Италии группами проходили то победители — «славные солдаты Италии», то побежденные — военнопленные. И те и другие одинаково оборванные, одинаково грязные, с общим выражением голода и страданий на лице, с общей у всех походкой насмерть утомленных людей. Вся разница в том, что у одних был знаменитый пакет, а у других его не было.
Перед Италией вставала перспектива безработицы, запущенные поля, неоплатные долги всей страны… Инвалиды, сироты, старики, оставшиеся без кормильцев… пятьсот тысяч убитых солдат, убитых «врагом» или расстрелянных Грациани и Кадорной. К этому еще надо прибавить детей, умерших от недостатка питания, тысячи погибших от «испанки» или павших в уличных боях на первых, неумело построенных баррикадах…
И в возмещение всего этого — пакет с гнилой одеждой в руках и пышные обещания буржуазии… Капиталистическая печать твердила: «Необходима дисциплина, иначе Победа (обязательно с большой буквы) потеряет свою цену». Другими словами: «Необходимы военные законы, чтобы охранять наши оргии».
Этот страх буржуазии и стремление во что бы то ни стало сохранить награбленное сказывались во всем. Несмотря на перемирие, газеты продолжали выходить с белыми полосами — следы военной цензуры. Аресты, самые бессмысленные, не прекращались. Дух возмущения возрастал среди уцелевших от бойни. Демобилизованные готовились к борьбе.
Мы в это время уже окончательно и официально завладели «Семейным клубом» г. Фоссано. Бывшие владельцы-мещане не решались протестовать. Здесь мы разместили социалистическую секцию и Палату труда. Ненависть хозяев, лавочников, попов и дворян против враждебной им организации была неописуема. Начиналась борьба, но в форме скрытой, замаскированной.
Агитация среди рабочих приносила свои плоды. При фабриках и заводах организовывались так называемые рабочие комитеты, состоящие из представителей от организованных рабочих, членов профсоюзов, — прообраз будущих фабрично-заводских комитетов.
Конгресс федерации металлистов первым начал борьбу за восьмичасовой рабочий день и за установление твердого минимума заработной платы. За ним в эту борьбу вовлеклись и другие предприятия.
Напуганные промышленники пытались противиться, но должны были уступить. Мне в качестве секретаря Палаты пришлось вести переговоры с хозяином одной крупной шелкопрядильни. Члены рабочего комитета, вместе с которыми я должен был идти к хозяину, ожидали меня во дворе предприятия. Во всех окнах фабрики показались работницы, приветствовавшие нас аплодисментами. Хозяин, встретивший нас в конторе, имел вид колбасника, у которого неожиданно протухли все его продукты. Совещание было кратким. Фабрикант, стараясь сохранить достоинство, заявил:
— Я современный промышленный деятель. Я никогда не был против организации. Однако я желаю, чтобы все было сделано серьезно. Признаю вашу комиссию и охотно буду разговаривать с вами. И так как другие мои коллеги согласились на восьмичасовой рабочий день, то и я принимаю его.
Промышленники уступили в этом вопросе, надеясь задержать таким путем дальнейшее развитие событий. Но по вопросу о минимуме заработной платы соглашение не состоялось. Все же рабочие из комитета были вне себя от радости.
Вечером того же дня в Палате труда состоялся грандиозный митинг. Так как залы бывшего «Семейного клуба» не могли вместить всех рабочих, мне пришлось выступать с балкона.
С этого момента события начали развертываться с необычайной быстротой. Повсюду митинги, открытые собрания рабочих; повсюду красные знамена, значки серпа и молота; на каждом шагу надписи: «Да здравствует Ленин, да здравствует Октябрьская революция!» По всей Италии волнения, забастовки… Даже служащие, профессора, судьи, увлекаемые нарастающей волной массового рабочего движения, организовывались и требовали улучшения своего положения.
На партийном съезде в Болонье[61] в 1919 г. было с энтузиазмом принято решение о присоединении Итальянской социалистической партии к III Интернационалу. Даже реформисты на этот раз не протестовали.
Но экономическое положение рабочих, несмотря на повышение заработной платы, все же оставалось ниже довоенного уровня. К этому присоединялась растущая безработица. Рабочие продолжали свое наступательное движение. Разразилась всеобщая забастовка в Турине; отправленная туда правительством бригада сардинской пехоты браталась с рабочими. Это было всецело заслугой товарища Грамши. Сам родом из Сардинии, он сразу нашел с солдатами общий язык. Своей умной и неустанной агитацией среди солдат на их родном наречии он добился того, что командование было вынуждено в срочном порядке отозвать из Турина бригаду сардинской пехоты…
В маленьких провинциальных городах настроение рабочих масс было не менее боевое.
Несмотря на заключение мира, продуктов не хватало и цены на них возрастали с каждым днем. Муниципальные советы устанавливали твердые цены, но тогда товары исчезали. Раздраженные рабочие обращались в Палаты труда.
— Что делает партия?
— Каковы ее директивы?
А партия все еще пережевывала довоенную жвачку: занималась расследованием жульничества интендантов, документировала свирепость генералов-палачей и тому подобное. Положение становилось угрожающим и настолько безвыходным, что власти растерялись.
Наш синдик решился на крайние меры. В один прекрасный день он созвал экстренное совещание в городском управлении. Кроме членов муниципального совета в совещании принимали участие представители от местного общества взаимопомощи, сберегательной кассы, спортивного общества, коммерсанты, промышленники, настоятели различных церковных приходов, комиссар общественной охраны, начальник карабинеров, судья, директора обеих тюрем и… Палата труда! В порядке дня был только один пункт: «Меры для преодоления существующего экономического кризиса». Этой краткой программе были предпосланы длинное вступление и не менее длинное заключение, перлы ораторского искусства синдика, в которых слова «отечество», «победа», «прогресс», «демократия», «бог», «монархия» переплетались в самых разнообразных сочетаниях.
Как только стало известно об этом совещании, мы устроили предварительное заседание для выяснения нашей платформы. После долгих споров и всевозможных предложений — припоминаю, один старый товарищ предлагал нам, например, призывать к… разграблению лавок — мы выработали следующие предложения:
1. Учет всех товаров, имеющихся в магазинах.
2. Реквизиция всех продуктов питания.
3. Открытие специальных лавок, где торговля производилась бы под рабочим контролем.
4. Организация за счет общины вооруженной милиции.
Выбрали комиссию из представителей от различных фабрик города. Я должен был выступить от имени комиссии.
Наступил вечер знаменитого совещания. Городское управление имело торжественный вид: служащие муниципалитета явились в сюртуках и цилиндрах, у подъезда и на лестницах были расставлены вперемежку полицейские и пожарные в парадных мундирах. Синдик — крупный землевладелец и клерикал — держался как любезный хозяин и приветствовал нашу комиссию глубоким поклоном.
Он открыл заседание торжественной речью…
— Отечество с божьей помощью, геройством своих сынов, во главе с его величеством, нашим обожаемым монархом, завоевало свои собственные границы, освободив от ига векового врага наших братьев из Тренто и Триеста, — заливался синдик, вытирая капли пота, падавшие со лба и щек на блестящий крахмал рубашки. — Эта блестящая победа поставила Италию в ряды великих держав, и мы можем гордиться этим…
Синдик приостановился, ожидая аплодисментов, которые, однако, не последовали. Я воспользовался перерывом и предложил перейти к делу.
Синдик поперхнулся и несколько секунд молчал: видимо, «дело» оказалось труднее красноречия. Наконец он нашелся:
— Кто просит слова?
— Я.
— Пожалуйста, пожалуйста! — заторопился синдик.
— Я говорю от имени Палаты труда, — начал я, оформляя таким началом право гражданства ненавидимой этим собранием нашей организации. — Всем нам хорошо известно существующее тяжелое положение, которое создано, однако, не пролетариатом. Мы надеялись услышать здесь серьезные деловые предложения, но вместо этого услыхали патриотические разговоры о монархии и победе.
На этот раз прервали меня:
— Требуем уважения к нашим убеждениям. Отечество…
— Хватит! У нас и так уж голова забита вашим отечеством! Нам хлеба надо! — закричала прядильщица, член нашей комиссии.
— Правильно! Подавайте нам хлеба, а не речи! — отозвался другой рабочий представитель, одноглазый Джизлено.
— Мы желаем слышать реальные предложения и не терять времени понапрасну, — добавил я.
Синдик растерялся, не зная, как держаться и что сказать: предложения, очевидно, не были заготовлены. Один из присутствующих чиновников, председатель кассы взаимопомощи, попросил слова.
— Стыдно, что муниципальный совет приходит на подобное совещание, не выработав конкретных пожеланий. И это перед лицом наших противников — социалистов!.. Я сражался на фронте, я стою за существующий порядок, но я нахожу, что вы поступили неправильно, и открыто говорю это.
— Прошу не забывать, что вы обязаны относиться с уважением к синдику! — закричал синдик, красный от гнева.
— Вы думаете этим заткнуть мне рот, синьор командор? Ошибаетесь! — вспылил в свою очередь председатель кассы. Поднялся шум. Среди всеобщего смущения попросил слова комиссар.
— Я предлагаю, чтобы каждый высказался о мерах к улучшению создавшегося положения. Я со своей стороны полагаю, что надо отдать строгий приказ торговцам не повышать цен на продукты под страхом ответственности перед существующими законами.
— Я как раз собирался предложить это, — обрадовался синдик.
Один из разбогатевших за войну лавочников, однако, возражал:
— Надо предложить это оптовикам. Они диктуют нам цены и постоянно повышают их! Мы не можем торговать в убыток!
Страсти разгорались. Владелец чугунолитейного завода и многих других фабрик призывал к «единению» и «жертвам». «Кризис всеобщий, — говорил он. — Все должны терпеть его последствия… Возврат промышленности к работе в мирных условиях расстраивает рынок, и нужны огромные усилия, чтобы привести его в порядок. Владеющие деньгами помещают свои капиталы в промышленность с большой осторожностью вследствие вызванного требованиями рабочих и волнениями нарушения равновесия…»
— Вот так патриот!.. — воскликнул один из рабочих и прибавил словечко, от которого задрожали стекла.
— Ну-с, что же мы все-таки будем делать? — насмешливо спросил председатель кассы.
Синдик, красный, растерянный, поднялся и мелодраматически произнес:
— Так как мне здесь не оказывают должного почтения, я подаю в отставку! С этого момента я больше вам не синдик.
Но ожидаемого впечатления это заявление не произвело. Только один из рабочих-металлистов иронически пояснил:
— Теперь, когда запутался, хочет удрать. Видно, легче произносить речи, чем дело делать. И не стыдно вам, черт побери?
— Я подаю в отставку, — меланхолически повторил синдик, — и мои полномочия передаю рабочим, а не моим единомышленникам, которые оставляют меня одного в этот трудный момент. — И, обратясь ко мне, воскликнул: — Вам, в ваши руки я сдаю свои полномочия!
Никто из присутствующих в растерянности не произнес ни слова. И в этой тишине вдруг зазвучала «Бандьера Росса»…
Вперед, народ! К восстанию! Красное знамя, красное знамя Восторжествует…—пели рабочие, толпившиеся внизу на площади.
Я оглядел зал. Какие это были напуганные, желтые и белые лица, с судорожными улыбками и ненавистью в глазах!
— Предлагаю муниципальному совету перейти в кабинет синдика и там обсудить конкретные мероприятия, — нашел наконец выход председатель кассы взаимопомощи.
Синдик и советники приняли предложение, и синдик первым поспешил в кабинет. Спустя некоторое время члены муниципального совета снова появились в зале, и синдик внес следующие предложения: установить твердые цены, снизить цены на пятьдесят процентов и… предложить Палате труда следить за выполнением этого постановления!
На площади толпа распевала:
Вперед, народ! Гремят пушки. Революция, Революция! Вперед, народ! Гремят пушки. Революцию сделаем мы! —и как припев: «Да здравствует Ленин!», «Долой короля!»
Под этот грозный прибой рабочей волны предложения муниципального совета были приняты без единого возражения, даже лавочники не протестовали.
Я попросил слова. Испуганные взгляды направились в мою сторону.
— Мы принимаем эти постановления, но при условии добавления к ним следующих пунктов.
И я зачитал наши четыре пункта.
Красное знамя Восторжествует! Да здравствует социализм И свобода!—гремело под окнами. Синдик позеленел.
— Вы, значит, не хотите принять наше постановление? Предложения Палаты труда равносильны отказу.
— Мы не можем его принять без гарантий, указанных нами. Ваши предложения без них — только надувательство рабочих масс.
— Это ваше последнее слово? — спросил синдик.
— Да! Потому что вы не сможете ни провести на деле твердые цены, ни заставить их снизить. Ваша блестящая идея сделать нас ответственными за исполнение ваших постановлений, не дав нам необходимых прав, показывает, что вы сами в этом не уверены и хотите предоставить нам расхлебывать кашу, которую вы заварили! Нет уж, следите сами за выполнением своих постановлений!
Внизу на площади шумели и свистели. Синдик заявил:
— Пора решать! Кто за предложение муниципального совета, пусть поднимет руку!
Все, кроме нашей комиссии, подняли руки.
— Теперь сообщим наше решение гражданам.
Служащие распахнули двери на балкон, нависший над бурлящей площадью.
Сильно побледневший синдик в сопровождении взволнованных советников вышел на балкон. Свистками, криками: «Долой!», «Хлеба!» — встретили его появление.
— Граждане! — начал дрожащим голосом синдик. — С завтрашнего дня устанавливаются твердые цены с согласия торговцев и одобрения местных властей. Цены снижаются на пятьдесят процентов.
— Знаем мы эти твердые цены! Пусть говорит рабочий комитет! Пусть выступит секретарь Палаты! — требовала толпа внизу.
Когда комиссия появилась в свою очередь на балконе, ее встретили дружными аплодисментами.
Раздались торжественные звуки «Интернационала»— и снова аплодисменты. Наконец я смог говорить.
— Мы передали ваши предложения совещанию. Они не были приняты. Вам предлагают еще раз твердые цены, которые, без всякого сомнения, будут так же проводиться в жизнь, как и прежде. Мы считаем это провокацией. Буржуазия, хотевшая войны, желает теперь, чтобы народ оплатил ее расходы.
Приближается время расплаты с виновниками войны и голода! Будьте готовы и дисциплинированны, ждите указаний партии и Конфедерации труда. Победим мы!
И так как к площади по одной из улиц направлялись солдаты, я добавил, повышая голос, чтобы и солдаты могли слышать:
— Подходят солдаты. Они такие же пролетарии и дети пролетариев, как и мы. Они не будут стрелять. Расходитесь по домам. Да здравствует революционная Россия! Да здравствует социализм!
Толпа разошлась с пением «Интернационала». Солдаты не произвели ни одного выстрела.
На следующий день повсюду были расклеены широковещательные сообщения о новых твердых ценах, а витрины и полки магазинов опустели.
Как быть? Партия не давала никаких указаний. Невозможно было начинать в маленьком городке самостоятельное выступление. Отдельные вспышки возмущения протекали стихийно.
Правительство перебрасывало свои силы из одного места в другое, подавляя беспорядки и опасаясь задерживать надолго солдат, в которых оно не было уверено.
Мы — я говорю о руководителях социалистической секции и Палаты труда Фоссано — агитировали и готовили массы в надежде, что партия примет наконец решение и выступит.
Теперь уже на всех заводах мы имели рабочие комитеты и делегатов от каждой мастерской.
Буржуазия медленно отступала, стараясь мстить из-за угла.
В городе был пущен слух, что я за «спасение магазинов» от ограбления получил от наших купцов десять тысяч лир.
Глава XXI Меднобородый
Узаконенный захват нами бывшего «Семейного клуба», преобразованного в Палату труда, неимоверно раздражал местную буржуазную печать. Как! В самом центре города, в прекраснейшем помещении, благодаря ловкости социалистов и слабости благонамеренных людей находится очаг возмущения! О чем думают власти?
Власти? Где были, действительно, власти в это время?
Три местные газетки — христианско-демократическая, клерикальная и либерально-демократическая — твердили без устали об этом, но трудно было сдвинуть нас с места. Тогда разозленные попы прибегли к любимому оружию церковников — клевете, направив ее на меня. «Необходимо, — думали они, — очернить в глазах публики этого проклятого парикмахера и его ближайших товарищей».
На страницах клерикальной газетки начал печататься роман под названием «Город солнца». Попы умышленно и жульнически ловко использовали название известного утопического произведения монаха XV века Томаса Кампанеллы. В романе описывалась среда, которая чрезвычайно напоминала общество в Фоссано. Главным героем этого «романа» был некто по имени Меднобородый, в котором без особого труда можно было узнать меня, носившего тогда бороду того самого цвета, который принимают кастрюли фоссанских хозяек накануне престольного праздника, когда они усердно натирают до медного блеска полы и посуду, а также усиленно моют своих ребятишек. Я был представлен в «романе» как преступный и продажный человек, а мой товарищи — марионетками, движимыми мною. Думаю, что никто не смог бы превзойти иезуитских попов Фоссано в искусстве фальсификации и клеветы. Для примера приведу несколько отрывков из этого, с позволения сказать, «романа»:
«Мы в кабинете Меднобородого: большой стол, заваленный бумагами, шкафы с сочинениями Маркса и других подобных писателей, на стенах — портреты Маркса, Энгельса, Турати и прочих святых от социализма; богатейшие шелковые ковры, телефон, резное золоченое кресло, тяжелые бархатные портьеры. Меднобородый, сидя в кресле, курит надушенную сигару. Задумчивым взглядом следит за дымом. Он одет в богатый костюм, на жилете виднеется толстая золотая цепь, на пальцах — кольца… Меднобородый высокого роста, худой, с темными глазами и черными волосами, борода его медного цвета. Когда ходит, он хромает, опираясь на артистически отделанную трость с позолоченной ручкой. Сейчас Меднобородый улыбается; он сладко мечтает в полутьме своего уютного уголка. Вдруг раздается стук в дверь.
— Войдите! — кричит Меднобородый. Входит маленький худенький человечек.
— Товарищ, — говорит человечек, — там делегация от рабочих. Можно впустить их?
— Ты спросил, чего им надо? Нет? Осел этакий! Сколько раз я тебе говорил, что я не могу терять время на пустую болтовню. Впусти их, да смотри, чтобы они хорошенько вытерли ноги сначала, и предупреди их, что плевать на пол нельзя; у этих свиней постоянно торчит во рту окурок!
Делегация вошла. Это пять рабочих, оборванных, грязных, истощенных. Какая разница между ними и Меднобородым!
— Что вам надо? — спрашивает Меднобородый, не отвечая на их поклоны и не приглашая садиться. Рабочие, со шляпами в руках, не знают, как приступить к делу.
— Ну, поскорее, у меня и без вас много дела.
— Вот, — начал один из них, — мы к вам, товарищ… На фабрике нам платят плохо. Мы пришли просить вас помочь нам, составить нам требования…
— Я понял уже. Сколько вас?
— Пятьсот шестьдесят, и живется нам очень плохо. Если вы нам поможете…
— Живется плохо потому, что вы овцы! Ладно, дайте мне десять тысяч лир, и я вам составлю требования, произнесу, где надо, речь — словом, помогу вам. Само собой понятно, что на выборах вы подадите голос за меня…
— Но где мы найдем десять тысяч лир? — воскликнули перепуганные рабочие.
— Обложите себя. Это пустяки. Я прошу у вас немного. Я добьюсь для вас прибавки в три лиры на человека в день. Вас пятьсот шестьдесят человек, значит, в день вы получите тысячу шестьсот восемнадцать лир, а за год — больше полумиллиона. Решайте: да или нет.
Меднобородый принялся играть перочинным ножичком, отделанным перламутром и золотом.
— Мы согласны, — ответили рабочие, — в воскресенье мы принесем задаток.
И вышли, низко поклонившись.
Довольный Меднобородый потер себе руки, затем написал несколько строк на элегантной бумаге и постучал серебряным молоточком по бронзовому колокольчику. Появился человечек.
— Отнеси это письмо по назначению…
* * *
…Ночь. Улицы пустынны. Высокий человек идет медленно и неровно по бульвару. Дойдя до наиболее темного места, он останавливается и подозрительно оглядывается по сторонам, затем вынимает ключ, отпирает замаскированную зеленую дверцу и скрывается за нею. Поднявшись по лестнице, он отпирает другую дверь, зажигает свет и снимает с себя шарф, наполовину закрывавший его лицо.
Это Меднобородый! Он раздевается, натягивает на себя шелковую пижаму. Садится. Комната, в которой он находится, великолепно убрана: альков, диваны, ковры, статуи, зеркала, картины нескромного содержания. В комнате матовый свет и нежный опьяняющий запах. Меднобородый нетерпеливо поглядывает на часы и прислушивается к каждому звуку извне. Время идет. Меднобородый нервно бросает докуренную сигару, зажигает другую. Вдруг он вскакивает. Внизу стукнула дверь, шаги… Входит молодая женщина.
— Добрый вечер, дорогая!
Меднобородый хочет обнять ее.
— Оставь меня, у меня мигрень, — отстраняет его женщина, сбрасывает манто и садится.
— Дай мне папиросу и стаканчик портвейна!
Меднобородый предупредительно нежен.
— Знаешь, что я видела сегодня в Турине? Кстати, ты отправляешь меня прогуляться в Турин с какими-то жалкими пятьюстами лир! Так вот, я видела шикарное меховое манто, и стоит оно всего-навсего пятнадцать тысяч лир! Я решила купить его. Ты ведь дашь мне денег, не правда ли? Впрочем, если и не дашь, я все равно куплю.
— Каким это образом? — спрашивает Меднобородый в смущении.
— Стоит мне только выразить желание… Если бы я не любила тебя, манто было бы уже на мне. Но ты ведь купишь его мне? Ты будешь горд твоей Нини? — И она обнимает его. — Купишь?
— Да, любовь моя!
Свет гаснет… Слышны поцелуи…
* * *
Меднобородый блестяще говорил на митинге:
— Рабочие, тогда как вы трудитесь из-за куска хлеба по десять часов в день, буржуазия пресыщается, захлебываясь золотом. У вас нет башмаков для ваших детей, а буржуазия украшает бриллиантами своих жен… Крестьяне! Вы обливаетесь потом под солнцем, в полях собираете жатву. А ваши хозяева на те богатства, которые вы извлекаете из земли, дают балы и проигрываются в Монте-Карло, уничтожая плоды ваших трудов. Единственный раз, когда эти синьоры занялись вами, рабочие и крестьяне, — это тогда, когда им понадобилось отправить вас на войну. Долой угнетателей! Да здравствует революция!
Меднобородый, улыбаясь, сходит с трибуны. Крики и аплодисменты сопровождают его…
«Роман» печатался с продолжениями несколько недель. Намерение автора было скомпрометировать меня и моих товарищей. Необходимо было, несмотря на отвращение, которое вызывала у нас эта нечистая стряпня, как-то на нее реагировать. Сначала мы думали судебным порядком привлечь автора к суду за клевету, но выяснилось, что для этого нет формальных оснований. Тогда я обратился к печати и написал открытое письмо председателю партии «Пополари»[62], католику, которому принадлежала газетка, приглашая его сообщить реальные факты, приняв на себя ответственность за их достоверность. Ответа не последовало, но роман несколько изменил свой тон.
Тогда я написал еще одно открытое письмо хозяину газетки:
«Я не получил вашего ответа на мое письмо; вы не можете отрицать его получение, так как я послал его с обратной распиской. Если по истечении десяти дней вы не возьмете на себя ответственности, как я это предлагал вам в предыдущем письме, я буду иметь право считать вас мошенником, негодяем и клеветником».
Хозяин газетки — адвокат, кавалер и католик — проглотил все эти словечки и ничего не ответил. Однако роман прекратили печатать, хотя под последним отрывком его и значилось: «Продолжение следует». А за мной осталась кличка «Меднобородый». Я принял это имя как литературный псевдоним. Его употребляли товарищи, и даже дома привыкли звать меня Меднобородым.
Глава XXII О выборах и некоторых веселых вещах
Движение против повышения цен разрасталось. Во многих местах оно переходило в открытые боевые выступления широких масс трудящихся.
Любопытно проследить поведение Муссолини в этот период. По поводу беспорядков в Генуе в связи с протестами против спекулянтов Муссолини пишет в своем «Пополо д’Италиа»: «Необходимо применять расстрел к этим акулам наживы». В Дальмине фашисты заняли предприятия Грегорини, и опять Муссолини произносит речь против разбогатевших на войне:
— Демократия, экономия — вот наш девиз! Мы требуем учредительного собрания и на вопрос: «Монархия или республика?» — отвечаем: «Республика!»
Муссолини плывет по течению и даже не прочь возглавить волну протеста. После речи Турати он пишет: «Редко итальянский парламент имел счастье слышать программу, до такой степени стройную, серьезную и продуманную, как речь Филиппо Турати». Тогда он пытался еще объединиться с наиболее «благоразумными» социалистами. После Ливорнского раскола социалистической партии (1921 г.) он пишет: «Итальянская социалистическая партия освободилась в Генуе в 1892 году от анархистов. Теперь она очистилась от коммунистов». Презабавные поклоны он еще отвешивал тогда социал-реформистам.
Рабочее движение ширилось, росла и наша организация. Еженедельник «Лотте нуове» выпускал специальное приложение, занятое нашей хроникой. Вместе с успехами росла и ненависть к нам местной буржуазии. Теперь все усилия ее были направлены на то, чтобы выселить нас из помещения бывшего клуба. В сентябре кончался срок найма помещения, и тогда нас законным образом можно было выставить на улицу. Мы усердно подыскивали новое помещение, но напрасно. Враги наши рассуждали так: «Когда эти проклятые социалисты не будут иметь места для своих собраний, тогда они поневоле рассеются». И прилагали все усилия, чтобы мы не могли ничего отыскать. Положение становилось серьезным. Особенно зол на нас был комиссар общественной охраны, старавшийся донимать нас всеми способами.
Как-то раз я отправил ему уведомление о предполагавшемся митинге и шествии; через двадцать четыре часа после этого ко мне в парикмахерскую явился полицейский и предложил мне следовать за ним в комиссариат. Почтеннейший комиссар д’Аванцо не отличался большим умом, но любил быть точным. Он протянул мне бумагу и сказал:
— Прочтите и подпишите.
Я сел и прочел следующее:
«КОМИССАРИАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА ФОССАНО
По вопросу: Уведомление о митинге и шествии.
Кому:
Синьору N. N., парикмахеру Фоссано, Виа Рома.
Комиссар общественной охраны в Фоссано принимает к сведению уведомление о митинге и шествии, представленное синьором N. N., секретарем Палаты труда и социалистической секции,
одобряет
порядок шествия и повестку митинга,
приказывает
наряду королевских карабинеров принять меры к поддержанию порядка,
предупреждает
вышеупомянутого синьора N.N., что если во время митинга и шествия будет петься «Рабочий гимн», то припев этого гимна должен быть таким, как его написал Филиппо Турати, то есть:
Или жить работой будем, Иль, сражаясь, мы умрем!а не:
И жить будем мы работой Без папы, без короля!и предостерегает
синьора N.N., что нарушение этого приказа приведет к прекращению митинга и шествия и аресту тех, кто будет петь, а также и подписавшего настоящее уведомление.
Комиссар Фоссано д’Аванцо».Я улыбнулся и подписал этот перл комиссарского творчества. Комиссар, большой поклонник д’Аннунцио и любитель цветистых фраз, спросил меня:
— Что должна означать ехидная усмешка, которая пробивается сквозь чащу волос, обрамляющих вашу физиономию? Вы не должны забывать, что я представитель закона…
— Ничего, синьор комиссар, — ответил я, — закона я не забываю; я просто подумал о бедном Турати…
Поклонник д’Аннунцио не понял иронии. Я попросил копию этого интереснейшего документа, в котором полицейский комиссар охранял авторские права социалиста Турати. Комиссар, впрочем, был прав: рабочие редко пели «Рабочий гимн», предпочитая ему «Интернационал», а когда пели, обязательно изменяли припев. Я сообщил товарищам о «предупреждении» комиссара, и бедняге д’Аванцо пришлось выслушать в течение дня многочисленные «бис» «Рабочего гимна» в исправленном издании и, кроме того, лицезреть свое произведение на страницах нашей печати!..
Комиссар был типичным полицейским служакой, из тех, которые способны на любую гадость для того, чтобы получить повышение или награду; наглые с более слабыми и пресмыкающиеся перед высшими, они в тревожный период, начавшийся после войны, вместе со своим главою, министром внутренних дел, показали всю свою низость.
Скольких из них я видел бледнеющими и заискивающими перед рабочей комиссией в период бурного расцвета рабочего движения! Однажды д’Аванцо сказал мне:
— Полагаю, что и социалистическое правительство будет иметь полицию.
Этот разговор происходил в то время, когда разъяренные рабочие осаждали магазины. Д’Аванцо мудро заботился о… возможном будущем!
— Конечно, — ответил я, — полиция будет нужна, но поумнее той, которую завел Нитти[63].
— Вы думаете, что в Италии не найдется толковых полицейских? Что все так уж и верны Нитти или Джолитти? Служишь, чтобы как-нибудь свести концы с концами.
Сколько подобных заявлений слыхал я в эти чреватые революционными событиями дни!
В один прекрасный день начальник карабинеров нашего городка явился ко мне в парикмахерскую и изнемогающим голосом заявил:
— Так дальше нельзя жить! От кого я должен получать распоряжения? Из префектуры никаких приказов. Не знаю, что и делать… А сколько нарушений за эти дни! Каждый делает, что хочет… Скорей бы уж революция, что ли! Так не может дальше продолжаться!
И ушел.
Приближались перевыборы в палату депутатов. Провинция Кунео имела двенадцать депутатов — все демократы, вернее джолиттианцы. Предстояла тяжелая борьба. Провинция была земледельческой, джолиттианской по преимуществу и клерикальной. Джолитти в начале войны стоял за нейтралитет. Крестьяне, ненавидевшие войну, знали это, и Джолитти ловко использовал свое положение.
В этот период я больше ездил по делам нашей федерации, чем брил бороды в парикмахерской. Я заглянул в самые глухие углы провинции и смог констатировать, что клерикальная, джолиттианская провинция проснулась и всколыхнулась. Случалось наблюдать презабавные факты. Мне пришлось как-то выступать в одной маленькой деревушке. Обычно я говорил на площади, но в этот день шел дождь вперемешку со снегом и дул пронзительный ветер. Собравшиеся крестьяне жались у подъезда и около трактира.
— Как быть? — говорили они. — Нельзя собраться на площади в такую непогоду.
Какой-то старик предложил:
— Почему бы нам не устроиться в церкви? Здесь уже проводила свое собрание «Пополари».
Совет понравился. Церковь была маленькая и открывалась только в дни больших праздников. Представители местной социалистической секции вместе со мною отправились к синдику.
— Что вам угодно? — любезно осведомился он.
— Мы устроили собрание, как вам уже известно, но на площади нельзя говорить. Не предоставите ли нам одну из зал?
— Свободных зал у нас нет; школа также занята.
— Тогда дайте нам церковь.
— Что за черт! Вы, социалисты, собираетесь говорить в церкви? — изумился синдик.
— Однако, — сказал секретарь, — разрешили же вы это политической партии «Пополари». Не правда ли?
— Это-то так. Но ведь «Пополари» — католическая партия. Вам я не могу дать ключи от церкви.
Мы пробовали убедить его. Напрасно. Пока мы спорили, крестьяне мало-помалу ушли. Мы остались втроем или вчетвером, продолжая бесполезный диспут. Наконец секретарь местной секции сказал:
— Идем, товарищи, ничего не поделаешь!
Несколько удивленный его уступчивостью, я вышел вместе с ним. На лестнице он шепнул мне:
— Поторопимся, церковь уже полна народу, и тебя ждут!
И он рассмеялся.
Пока мы спорили с синдиком, один из присутствующих прошел к сторожу и от имени синдика потребовал у того ключи. Сторож не усомнился в приказе и дал ключи. Церковь открыли, и в несколько минут она наполнилась до отказа.
Я начал говорить. Когда синдик узнал о случившемся, он пришел в ярость и затребовал из соседнего местечка карабинеров. Их явилось пятеро — все наличные силы местечка. Когда бригадир во главе своего отряда прибыл в церковь и увидел меня на месте попа, он с негодованием воздел руки к небу… и этим ограничился. Да и что мог он сделать в 1919 г. один с четырьмя карабинерами против нескольких сотен крестьян?
Это происшествие имело свои последствия. Церковные власти закрыли «оскверненную» церковь на полгода, и по истечении этого срока сам епископ освятил ее заново! Сторож получил нагоняй, а я должен был уплатить штраф за то, что произнес речь не в том месте, которое указал в предварительном уведомлении.
В другой раз я попал в деревню, расположенную в долине, прилегающей к Турину. Здесь было много сочувствующих партии, большинство — бывшие фронтовики. У первых домов деревни нас торжественно встретили оркестром, да еще каким! Тромбон, две мандолины и барабан! Эти славные ребята не знали, как получше принять нас, чем выразить свою радость. Я вспомнил об «игре» на керосиновых бидонах, которой когда-то сопровождали мои выступления в деревнях.
Было организовано торжественное шествие, митинг, открытие кооператива, первое заседание вновь образовавшейся социалистической секции, банкет… По окончании официальной части празднования нас пригласил к себе старик крестьянин, отец организатора празднества, свежеиспеченного секретаря только что открытой социалистической секции. Старик показал дом, сад, огород и повел меня в хлев. Этот хлев, вопреки обычаям наших крестьян, был образцово опрятен, что я ему и высказал. Старик засиял от похвалы.
— Вот это Рыжуха, — сказал он, кладя руку на круп коровы, — вот это Белячок, а это Мартино, — показал он на двух волов с блестящей шерстью. — Прекрасные работники! — Затем он представил мне теленка и, наконец, остановился перед великолепным быком.
— А это… — старик запнулся, — это бык…
— Как его зовут? — поинтересовался я.
Старик замялся.
— Скажи! — смеялся сын.
— Вы не обидитесь, не правда ли? — смущенно спросил старик.
— Почему я должен обидеться? — удивился я.
— Это лучшее, что у меня есть… И я дал ему имя «Меднобородый». — Старик был красен как рак.
Вечер мы провели среди крестьян, жадно расспрашивавших нас о России, о русской революции, о Ленине.
Мне выпала честь вести пропаганду в «вотчине» Джолитти, человека, прославленного скандалом в «Банко ди Рома» и Триполитанской войной, награждавшего орденами убийц-карабинеров, первого, кто снабдил оружием фашистов и в компании с реформистами подавлял движение рабочих, захвативших заводы.
Провинция Кунео действительно более тридцати лет была как бы собственностью Джолитти. Особенной преданностью ему отличался расположенный в горах городок Дронеро, его родина. И Джолитти называли «человеком из Дронеро».
Дронеро — город кавалеров и командоров, созданных всемогущим министром. Если вы, встретив на дороге пастуха или извозчика, обратитесь к нему со словами «кавалер», вы редко ошибетесь. Рассказывают, что однажды некий чиновник, обремененный многочисленным семейством, обратился к Джолитти с просьбой о вспомоществовании. Джолитти, приученный к иного рода просьбам, привычно написал на прошении: «Награждается орденом кавалера короны Италии…»
Пути сообщения в вотчине Джолитти прекрасно оборудованы: железные дороги, трамваи, автомобильные линии, мосты.
Вести здесь предвыборную работу было нелегко. Нам приходилось бороться не только с председателем совета министров, но еще с тремя министрами, из которых двое были джолиттианцами.
Первая же деревня, в которую я приехал вместе с одним из местных товарищей, встретила нас враждебно: во встрече участвовали обычные керосиновые бидоны, но в них колотили уже не ребята, а внушительные мужчины, вооруженные не менее внушительными дубинками. Говорить нам так и не удалось.
— Плохое начало… — заметил я товарищу.
В следующей деревне нам удалось организовать выступление, но аудитория нас удивила: ни свиста, ни замечаний, ни аплодисментов. Мертвая тишина. Во время речи, в которой я говорил о программе социалистической партии, никто ни разу не прервал меня.
По окончании не раздалось ни звука. Когда в полном недоумении я слез со стола, с которого говорил, ко мне подошел крепкий, энергичный старик и, пожимая мою руку, произнес:
— Я говорю от лица собравшихся здесь отцов семейств. Мы, горцы, привыкли говорить мало, но мы держим свое слово. Все мы будем голосовать за социалистов. Это мы решили промеж себя. Но если вы, социалисты, поступите так, как другие, мы вас кинем туда, — и он протянул руку по направлению к реке. — Вчера депутату Солери, министру, пришлось пройтись пешком вместо привычной его прогулки на автомобиле. Мы лучших наших людей потеряли на войне! Видите, что от них осталось! — указал старик на мемориальную доску, испещренную именами павших. — Хватит!
Нас пригласили в клуб, который позже стал помещением социалистической секции.
Старик сдержал слово: вся деревня голосовала за нас.
Во время этих предвыборных поездок чем только мне не приходилось заниматься мимоходом помимо программных агитационных выступлений! Однажды в Ачелио мне пришлось открывать мемориальную доску в память павших на войне. Тогда в каждом городке, в каждой деревушке воздвигали такие монументы. И в Ачелио на одной из главных улиц уже имелась такая доска, но это была доска «синьоров», как выразился о ней один из бывших фронтовиков.
— Ее соорудили богачи, — объяснил мне он, — окопавшиеся в тылу, и открывали ее поп, префект и фабриканты, и чего только не написали на ней: и «отечество», и прочие громкие слова! А на открытии нашей будет свой брат, простой народ. Мы хотели было приурочить ее открытие как раз к открытию «господской», но потом, чтобы не затевать истории, отложили. А то они еще оскорбят наших мертвых.
Хорошая эта была доска: без лицемерных фраз, простая, массивная, крепкая, как окружающие горы, как те, чьи имена резец увековечил на ее поверхности. Мы открыли ее под торжественные звуки «Интернационала», на празднестве присутствовал действительно только «свой брат»: ни попов, ни синьоров.
Оттуда я верхом на осле медленно добрался до последней в моем маршруте горной деревеньки. Здесь меня ожидали снег и сотни фронтовиков. Какие виды оттуда, и какие внушительные фигуры у альпийских стрелков! К немалому своему изумлению, я нашел здесь и наши газеты. Встретили меня, как старого друга.
— Я знаю твое имя, — сказал один из фронтовиков, — к нам доходит сюда «Лотте нуове». Правда, читать там было немного (он намекал на цензуру), но мы все равно понимали, в чем дело. Что за собачья жизнь! — и он сочувственно вздохнул.
— Будут ли ораторы от других партий? — осведомился я.
— Нет, я уверен, что не будут. Даже джолиттианцы не решатся.
Сколько вопросов задавали мне после моего выступления! И какие подчас наивные вопросы были! Сюда, в горы, доходило лишь слабое эхо нашей борьбы, но к нему жадно прислушивались. Больше всего вопросы касались русской революции. Говорил до глубокой ночи. Ночевку мне устроили в «байта», наполовину вырытом в скале домике, принадлежавшем сапожнику, ярому безбожнику, который развешал по стенам своего обиталища антирелигиозные карикатуры, вырезанные из «Азино». Сапожник рассказал мне, что, когда служанка местного попа приносит ему в починку свои или поповские туфли, она крестится и отворачивается от его картинной галереи.
— В сущности, — говорил он, — наш поп не злой и такой же бедняк, как и мы, но глуп. Сам не знаю, что привязывает нас к этим скалам? Я побывал в Америке и, поверите, только и думал, что об этих утесах, снегах, потоках… Я вовсе не почитатель отечества. Я, например, и не подумал вернуться, когда была объявлена война, а вот к камням этим, поди ж ты, тянет!..
На другое утро я снова оседлал своего осла и стал спускаться в долину. По дороге при удобном случае — на рынках, на площади, если выступал какой-нибудь оратор — я останавливался, слезал с ослика и говорил. Несколько раз мне пришлось выступать против попов, остальные ораторы были джолиттианцы и, понятно, кавалеры.
Достигнув долины, я нашел телеграмму из федерации, сообщавшую, что меня ожидают в одной из ближайших деревень. Расшатанная повозка, в которую был впряжен капризный мул, через каждые сто шагов лягавший копытом в передок, была любезно предоставлена в мое распоряжение. У въезда в деревню меня встретил торжественный кортеж празднично разодетых горцев со знаменами. Мы обменялись крепкими рукопожатиями, в воздухе замелькали шляпы, раздались крики приветствия.
Мое внимание привлекли знамена. Все они были более или менее красного цвета, но что за странные надписи красовались на них! «Братство св. Анны», «Первый приз на бегах», «Второй приз на лыжной гонке»… Я ничего не понимал. Где я?
— Не обращайте внимания на надписи, — сказал один из крестьян, — смотрите только на цвет. Мы взяли, что смогли найти, потому что нельзя же было оставить праздник без красных знамен.
Оркестр заиграл «Рабочий гимн», присутствующие подхватили хором: ни комиссар моего городка, ни сам Турати, увы, не узнали бы его! Митинг состоялся на главной площади. Сам синдик, любивший полиберальничать, предложил нам в качестве трибуны балкон своей канцелярии.
После речей последовал неизбежный банкет. Двое карабинеров, присланных для поддержания порядка, тоже приняли участие в празднестве. Вечером их пригласили выпить, и довольные, со шляпами набекрень, они превесело отплясывали в деревенском клубе.
Когда по окончании этой предвыборной поездки я вернулся в Кунео, мои товарищи искренне удивились, не найдя на мне синяков: такова была реакционная слава этой провинции.
Мне пришлось в этот период выступать и в самом Дронеро, этой цитадели джолиттианства. Говорил я в городском театре. Выступление было достаточно бурное, с оппонентами, со свистками, но и здесь обошлось без синяков. Самого Джолитти, конечно, не было: он объезжал более крупные места, где пожимал руки своим верным кавалерам, рассыпал улыбки, говорил — словом, старался изо всех сил, несмотря на свой преклонный возраст. Он чувствовал, что почва под ним начинает колебаться.
На всю провинцию нас, социалистов, способных выступать на собраниях и вести словесную борьбу, было не больше десятка против целой армии попов, адвокатов, кавалеров, вооруженных деньгами и автомобилями. У нас не было денег, и передвигались мы всеми возможными способами: на велосипедах, в дилижансах, повозках, верхом, а иногда и на лошади св. Франциска, то есть на собственных ногах… Однажды, чтобы мне вовремя попасть на собрание, где говорил министр Бертоне, которому я брил бороду в начале своей цирюльничьей карьеры и против которого я должен был теперь выступать, железнодорожники повезли меня на специально пущенном для этого локомотиве.
Во время этих лихорадочных разъездов по провинции мне привелось выступить в одном городе одновременно с Джолитти. Полиция не пропустила нас в помещение, где говорил премьер, мотивируя свой отказ тем, что собрание было «частного характера». Тогда мы устроили импровизированное собрание перед зданием. Но герой Римского банка не показался рабочим и ограничился своими верными командорами и кавалерами. А в Винадио, высоко в горах, меня встретили фронтовики, альпийские стрелки, а к ним присоединились солдаты из казарм. Как раз в этот день депутат Кассини, банкир, джолиттианец, предложил фронтовикам обед, во время которого намеревался произнести предвыборную речь. Фронтовики приняли предложение и оказали честь обеду, но, когда за десертом депутат поднялся, чтобы произнести речь, встал также и один из фронтовиков и, обращаясь к остальным, сказал:
— Товарищи! На площади через несколько минут будет говорить социалистический оратор. Я приглашаю вас послушать его, приглашаю также и депутата Кассини, который сможет произнести свою речь там, если пожелает.
Гром аплодисментов покрыл его слова: фронтовики двинулись к выходу, распевая «Красное знамя» и оставив почтенного депутата с синдиком, попом, бригадиром карабинеров, нотариусом и счетом за обед. Депутат, конечно, на площадь не явился.
Подобная история повторилась в Вальдиери — чудесном, затерявшемся в Альпах городке; и здесь фронтовики покинули собрание джолиттианцев, происходившее в здании городского управления, и пришли к нам. В это время здесь находился король, и королевская гвардия тоже пришла… охранять наше предвыборное собрание!
Интересно, что год спустя здесь на муниципальных выборах победили социалисты. И первым актом обновленного муниципального совета было обложение налогом королевского поместья, находившегося в этой общине. До того времени гражданин Виктор Эммануил III, по профессии король Италии, получающий жалованье в шестьдесят миллионов золотых лир ежегодно, коммунального налога не вносил…
По всей Италии кипела предвыборная борьба. Даже Ватикан, несмотря на свою политику непризнания итальянского правительства, поддерживал одних и боролся против других.
Всеобщее голосование дало социалистам в палате депутатов сто пятьдесят шесть мест из пятисот восьми. Это была большая победа. От нашего округа прошли четыре социалиста. Выставили кандидатом и меня, к великому негодованию многих из моих прежних клиентов, возмущавшихся при мысли, что их парикмахер может пройти в парламент. Меня, однако, провалили, и не в последний раз.
Социалистические депутаты по прибытии в Рим были избиты фашистами, излившими таким способом свое патриотическое огорчение от неудачных выборов. Руководство Итальянской социалистической партии в знак протеста объявило двадцатичетырехчасовую забастовку. Моя мать, узнав об избиении социалистических депутатов, воскликнула:
— Какое счастье, что тебя не избрали!
Но когда меня избили и без депутатских полномочий, бедняжка не нашлась, что сказать.
Глава XXIII Перед новыми схватками
Возник новый орган социалистической революционной мысли — «Ордине нуово»[64]. Естественно, что он стал выходить в Турине. Гигантские заводы «Фиат» сконцентрировали здесь значительные массы пролетариата, сплоченного рядом забастовок и боевых выступлений последних лет. Цвет итальянского пролетариата, бывший всегда в авангарде революционного движения, не был удовлетворен реформистским руководством социал-демократии. Массы переросли своих прежних вождей, они выставляли новые требования, стремились к новым методам борьбы и нуждались в новом, своем органе. Так возник «Ордине нуово». Его редакторы — Грамши, Тольятти[65], Террачини[66] — жили в теснейшем контакте с рабочими массами, а после некоторых колебаний новый рабочий орган четко и твердо поставил вопрос о создании фабрично-заводских советов. Существовавшие уже рабочие комитеты представляли удобную для этого базу, но требовали коренной реорганизации.
Ясно, что против этого течения встала вся реформистская профсоюзная бюрократия, совместно с мелкобуржуазными кооперативными и парламентскими социалистическими деятелями. Но рабочие, группируясь вокруг своего органа, стойко проводили новые методы борьбы.
1920 год особенно богат забастовками и восстаниями: в Турине, в Милане, в Бьелла, в Парме, в Неаполе десятки и сотни тысяч рабочих выражали свое недовольство и готовность к более серьезным боям. И не одни только городские рабочие — бастовали батраки, служащие, учителя. Социалистические депутаты распевали «Красное знамя» в здании парламента.
6 апреля объявили всеобщую забастовку бумажники. Единственная фабрика, которая работала еще, находилась в провинции Кунео. Ее хозяин, немец по происхождению, боясь «совращения» своих рабочих, кормил их и давал ночлег на самой фабрике. Работали круглые сутки в три смены. Проникнуть внутрь нам не удалось, но, установив пикеты, мы агитировали всех выходивших из фабрики рабочих, и большая часть из них на работу уже не возвращалась. Объем продукции фабрики, несмотря на непрерывную работу, снизился на пятьдесят процентов. Вскоре нас арестовали.
14 апреля разразилась всеобщая забастовка в Турине. Туринское издание газеты «Аванти» выпустило номер с агитационной виньеткой: вооруженный рабочий на часах у фабрики. А в это время руководство социалистической партии, созвавшее было Национальный совет в Турине, решило перенести его в Милан, потому что в Турине была всеобщая забастовка! Так отступали вожди перед революционным прибоем. Во главе движения стал агитационный комитет. В такой раскаленной атмосфере состоялось заседание Национального совета партии в Милане.
Для того чтобы попасть в Милан на это заседание, пришлось выехать из Фоссано ночью на велосипеде и проехать до самого Турина, то есть свыше шестидесяти трех километров. Из Турина мы с другим товарищем выехали в Милан на автомобиле, потому что поезда стояли. Милан был запружен фашистами и полицией. В Галерее[67] офицер-фашист проломил голову Серрати, но тот все же явился на заседание. Заседания эти были довольно бурными. Туринские делегаты во главе с Пальмиро Тольятти настаивали на расширении в национальном масштабе начатого ими забастовочного движения. Турати, д’Арагона[68] и десятки других именитых социалистов высказывались против. Они обвиняли товарищей из Турина в том, что те переоценивают местное движение. Эти слепцы не видели того, что происходило по всей Италии! После горячих прений Национальный совет отклонил предложение туринских товарищей. Это постановление произвело на туринских рабочих, оскорбленных уже тем, что заседания совета были перенесены в Милан, очень тяжелое впечатление. Они рассматривали поведение Национального совета как настоящее дезертирство.
Агитационный комитет выпустил последние бюллетени. Движение гасло, преданное — в который раз! — вождями социалистической партии.
Мы разъезжались из Милана на автомобилях: железные дороги еще не работали. Хотя шоферы тоже бастовали, но для партии было сделано исключение. Мне пришлось ехать вместе с представителем Французской социалистической партии Лорио. За Павией нам пришлось пересечь область, где свыше пятидесяти дней продолжалась забастовка батраков.
По въезде в одну из деревень наш автомобиль остановила группа забастовщиков.
— А, синьоры прогуливаются на автомобиле, не так ли? — сказал один из них, с красной повязкой на рукаве. В его голосе звучали насмешка и угроза.
— Мы ваши товарищи… — начал я.
— Теперь все стали товарищами! Перетрусили — вот и товарищи! — перебил он меня еще насмешливее.
Другие батраки окружили наш автомобиль. Лорио, не понимавший по-итальянски, с недоумением оглядывался вокруг.
— Слезайте! Машина конфискована! — приказал батрак с красной повязкой.
— Дорогой товарищ, — запротестовал я, — ты все-таки должен осмотреть документы. — Я протянул ему партийный билет и делегатскую карточку Национального совета.
При виде этих бумаг нахмуренные лица прояснились. Нам крепко пожали руки и извинились за беспокойство. Пригласили поговорить.
— Мы бастуем уже больше пятидесяти дней. Никто из центра не руководит нами. Каждое утро мы ожидаем — и до сегодняшнего дня напрасно — секретаря из федерации сельскохозяйственных рабочих… Никого! Сегодня как раз у нас собрание. Рабочие уже устали и начинают отчаиваться. Поля запустели… Жалко на них смотреть… Мы ведь любим эту землю, хотя она вымотала из нас все силы. А хозяева? Эти-то заботятся: вызвали карабинеров и отряды. Но последнее слово еще не сказано. Мы недаром боролись, поборемся еще. Ты произнесешь нам речь на собрании, пусть и француз скажет.
Деревенская площадь была заполнена толпой батраков. Когда сопровождавший нас товарищ с красной повязкой представил нас этой безмолвной массе истомившихся в ожидании помощи загорелых людей, громкие аплодисменты, сменившиеся пением «Интернационала», встретили нас. Лорио вытирал слезы, катившиеся по щекам. У меня сжалось сердце и не хватало духу сказать им, что партия отказывается расширить забастовочное движение.
По всей этой провинции, вплоть до Асти, где кончалась забастовочная зона, нас останавливали при въезде в каждую деревню. Встречали, как врагов, но, узнав товарищей, приветствовали и просили выступить. Лорио, потрясенный, говорил:
— Но ведь это революция! Надо действовать без промедления!
В полночь нас остановили для обычного осмотра у внутренней таможни[69], а через несколько шагов мы были окружены полицейскими и карабинерами во главе с комиссаром в трехцветном шарфе. Все внимание этой пестрой банды было обращено на моего французского товарища: я был старым знакомым.
— Мы узнали, что вы тайно выехали из Милана…
— Тайно? — рассмеялся я. — Мы получили официальное разрешение за подписью начальника полиции Гасти. Вот так открытие!
— Извольте молчать! — закричал комиссар и, обращаясь к Лорио, спросил — Ваше имя? Какой национальности?
Лорио, не понимавший ни звука по-итальянски, обратился ко мне.
— Чего он хочет?
— Он тебя спрашивает…
— Молчать! — прервал меня снова комиссар. — Я не дурак, понимаю, что вы хотите сговориться!
Я замолчал. Комиссар не понимал ни слова по-французски, полицейские еще меньше.
Начался самый забавный диалог, какой мне когда-либо приходилось слышать. Комиссар спрашивал, а Лорио неизменно отвечал:
— Не понимаю.
Комиссар повышал голос; затем стал кричать: ему, вероятно, казалось, что так Лорио поймет лучше.
Наконец, устав, комиссар обратился ко мне:
— Этот синьор, — он показал на Лорио, — русский. Не правда ли?
— Гм… Когда мы уезжали из Милана, он еще был французом… Если вы полагаете, что в пути он превратился в русского…
— Прошу без острот! Я говорю вам, что это русский. Вы, может, не знаете, но я-то знаю.
— Зачем же вы тогда спрашиваете у меня? Наконец, у него должны быть документы!..
— Знаем мы ваши документы! — насмешливо ответил комиссар.
Явился переводчик, и дело разъяснилось. Комиссар долго не хотел поверить, что Лорио не «большевистский агент». На всякий случай полиция сопровождала его до самой границы.
В Фоссано меня несколько раз допрашивали в охранке, куда я девал русского, с которым выехал из Милана.
Лавочники моего городка были объяты паникой. В один прекрасный день, когда я работал в парикмахерской, явился ко мне один из них.
— Синьор, — торжественно заявил он мне, — вы секретарь Палаты труда, и я вам, как таковому, вручаю ключи от моего магазина. Я больше не желаю нести никакой ответственности.
Я так и замер с бритвой в руке; мой клиент глядел тоже с великим изумлением на лавочника.
— Я не один, — продолжал лавочник, — другие так же рассуждают. Так не может продолжаться! Забирайте наши магазины, устраивайте кооперативы, где мы будем служащими, но только, ради бога, наведите какой-нибудь порядок. Так не может продолжаться.
— Послушайте, — сказал я, — после того как вы очистили свой магазин — мы прекрасно знаем, где вы спрятали товары (я, конечно, этого не знал), — вы являетесь к нам сюда и предлагаете нам ключи…
— Это не так!.. — пробормотал растерявшийся купец. Было ясно, что я попал в цель.
Истек срок найма нашего помещения, и нас выставили из «Семейного клуба». У нас имелось несколько скамеек, кое-какие книги, с полдюжины знамен и неограниченное количество веры в социализм! Но за все это мы, однако, нигде не могли раздобыть даже две комнаты в наем. Один товарищ, угольщик, наконец предложил нам свой склад. Когда-то здесь была часовня, и до сих пор еще виднелись остатки алтаря. Полукруглый свод ее был невысок и поддерживался посредине подобием колонны. Но он был достаточно просторен, этот склад, и мы решили в ожидании лучшего обосноваться здесь. Полчища мышей, пауков и всяких жуков были изгнаны из своих убежищ. По воскресеньям свободные от работы товарищи убирали, чистили, красили и всячески отделывали помещение своей Палаты труда. Делалось это с энтузиазмом и необыкновенно добросовестно. Через три недели бывший склад нельзя было узнать. Мы заключили длительный контракт, и на этот раз успокоились надолго. Здесь мы развернули работу вовсю. Вскоре у нас появилась своя еженедельная газета, орган нашей социалистической секции — «Лаворо» («Труд»). На муниципальные выборы социалисты впервые явились с четкой классовой программой. В муниципальный совет были избраны семь социалистов. Отчаянными усилиями буржуазии удалось сохранить за собой большинство, но весьма незначительное.
Глава XXIV Захват предприятий
20 августа 1920 г. началось великое рабочее наступление на всех больших предприятиях Италии. 3 сентября на металлургических заводах Турина уже развевалось красное знамя. Захват фабрик и заводов рабочими происходил во многих крупнейших городах страны. Крестьяне нескольких районов тоже подняли красное знамя и захватывали земли.
Захват предприятий в Турине произошел в ответ на угрозу промышленников закрыть их. Первые дни рабочие были несколько растеряны, тем более, что большинство техников и служащих оставило мастерские. Но это длилось недолго. Тут же были организованы рабочие советы, которые и стали во главе предприятий. Председателем совета на заводе «Фиат», самом большом предприятии Турина, был рабочий металлист Джованни Пароди[70], позднее он был заключен в каторжную тюрьму «Портолонгоне» — он был приговорен к двадцати одному году каторги. Прекрасный тип рабочего-революционера!
Заводские советы прежде всего позаботились о восстановлении производства, а затем встал вопрос об организации их охраны.
Промышленники были перепуганы и обозлены тем, что правительство допустило захват предприятий и не принимало никаких мер. Старая лиса Джолитти выжидал. По всей вероятности, он надеялся на помощь реформистского руководства Всеобщей конфедерации труда.
Он не ошибся: недаром д’Арагона позже не раз хвастался, что он не допустил революции в Италии. «Сильное сопротивление захвату фабрик, — думала старая лиса, — может привести к обострению кризиса и даже к революции в Италии».
По этому случаю рассказывали анекдот. Как-то делегация разгневанных туринских промышленников отправилась в Бардонеккиа, где Джолитти обычно проводил свои каникулы. Промышленники спросили у Джолитти, что он думает предпринять в связи с захватом предприятий.
— Пусть захватывают, а там посмотрим.
— Необходимо воспрепятствовать рабочим занимать заводы. Надо их выкинуть оттуда силой, долг правительства это сделать… Даже при помощи пушек, если это понадобится, — заволновался один из фабрикантов.
— Хорошо, хорошо, — ответил спокойно председатель совета министров. — Дайте-ка адресок вашей фабрики. Начнем ее бомбардировать…
Заводчики поняли…
В наших краях были захвачены рабочими только механические мастерские Савильяно, где некогда работал мой отец. Остальные предприятия были слишком мелкими. Захват производился обычно следующим образом: одна из уже занятых фабрик нуждалась для своего производства в продуктах, производимых другой фабрикой, и тогда захватывалась и та фабрика, которая могла дать эти продукты. Захват происходил очень спокойно, без эксцессов или каких-либо инцидентов именно потому, что войска и полиция не вмешивались.
Каждый хозяин ожидал с минуты на минуту, что наступит черед его предприятия. Лозунгом заводчиков было «спасать что можно спасти», но машины никак нельзя было отправить за границу, как они сделали с деньгами…
В Фоссано был чугунолитейный завод. Хозяин его, кавалер и джолиттианец, примирившись с неизбежным, ожидал со дня на день захвата своего предприятия.
В одно прекрасное утро к нему явилась рабочая комиссия. Заводчик немедленно принял ее: теперь были не те времена, когда протестовавшего рабочего можно было отправить на фронт.
Когда рабочие вошли в кабинет, заводчик, наживший несколько миллионов за время войны, окруженный своими служащими, бледный, сказал дрожащим голосом:
— Так лучше. Я готов работать в качестве технического сотрудника под ответственным руководством заводского совета. Он заикался.
Рабочие были удивлены: они пришли к хозяину, чтобы урегулировать некоторые вопросы сдельной работы, хозяин же, думая, что они потребуют передачи предприятия, предложил им весь завод.
Федерация металлистов, находившаяся в руках реформистов, желавших сорвать движение, вовсе не торопилась захватить все заводы.
На заводе Савильяно мне пришлось в период захвата много раз проводить митинги. В мастерских было свыше тысячи двухсот рабочих. Настроены они были великолепно, работали с энтузиазмом. Большинство служащих и технических работников осталось на местах.
Однажды перед открытием митинга, который должен был происходить на центральном дворе фабрики, один из инженеров признался мне:
— Производство держится на нормальном уровне, даже обнаруживает стремление к повышению… Знаете, я никогда не видел более дисциплинированных рабочих, а надо сказать, что у них теперь больше работы, чем раньше… Вы понимаете? (Инженер намекал на подготовку к защите фабрики и, кроме того, еще на караулы.) Я счел своим долгом остаться на работе и, как видите, остался.
Охрана велась очень строго. Когда в первый раз я пришел на завод, на полутемном дворе меня окликнул строгий голос:
— Стой! Кто идет?
Я остановился.
— Кто такой? Куда идешь? Пропуск!
И, прежде чем я успел ответить, рабочий-часовой навел на меня потайной фонарь. Он узнал меня.
— Почему ты не просил проводника? Смотри, чем ты рисковал.
И он показал мне свое оружие: остро отточенный стальной клинок длиною в полметра, насаженный на простую палку. Этим клинком он мог проткнуть человека насквозь, как птицу вертелом. Когда я пришел во второй раз, у часовых уже имелись ружья с достаточным запасом патронов.
Организовались рабочие очень быстро и очень толково. Настроение было твердое. Рабочие верили в победу и готовились к ней. Но… партия отсутствовала. За кулисами шла лихорадочная подготовка ликвидации победного движения пролетариата.
Промышленники были также весьма активны. Их представители перебрались в Милан, для того чтобы обсудить положение в Турине. Затем они выработали ряд предложений с некоторыми уступками рабочим, а правительство со своей стороны торжественно обещало установить рабочий контроль на предприятиях. Тогда д’Арагона, Коломбино и прочие их сподвижники вынырнули на сцену и принялись восхвалять обещания хозяев и правительства.
В туринской провинции, где во главе движения стало левое крыло социалистической партии и где туринское отделение «Аванти» и «Ордине нуово» сумели популяризовать движение и идею фабрично-заводских советов на предприятиях, потушить вспыхнувшее пламя было труднее. Но и здесь сомнения, неуверенность, усталость от напрасных ожиданий сделали свое дело. Движение угасало. Дольше всех держался Турин. Здесь в отделении редакции «Аванти» положение на предприятиях было главной темой обсуждений. Возврат предприятий промышленникам все же совершился и здесь. Джолитти не ошибся, рассчитывая на содействие реформистов. Говорят, что некий промышленник, увидев д’Арагона, указал на него приятелю:
— Видишь этого? Он спас Италию!
Джолитти немедленно опубликовал проект закона о введении на предприятиях рабочего контроля. Покуда велось обсуждение этого закона, промышленники получили обратно свои фабрики и заводы, а реакция организовалась и усилилась. Несмотря на обещания правительства, столь восхваляемые реформистами, были произведены многочисленные аресты среди наиболее активно проявивших себя рабочих.
Промышленники, прекрасно учтя только что пережитую опасность, быстро подготовляли поход на рабочий класс. Они развязали свои кошельки и организовали фашистские отряды, хорошо вооруженные и щедро оплачиваемые. Так начался подъем реакционной волны, принесшей к власти вождя чернорубашечников — ренегата Бенито Муссолини.
Реакция всей своей силой обрушилась на Палаты труда, на социалистическую печать, на кооперацию, на революционеров. Каждый день — поджоги, погромы, убийства… Тысячи мужественных рабочих и крестьян, участвовавших в захвате фабрик, заводов, земель, томились в тюрьмах, ожидая приговора. Редакция «Аванти» была разгромлена, Палата труда в Турине сожжена, а Всеобщая конфедерация труда… обсуждала проект закона о рабочем контроле, называя эту кость, кинутую Джолитти, крупнейшей победой пролетариата!
Теперь, по прошествии стольких лет, можно точно оценить эту «крупнейшую победу», которую итальянские большевики — так реформисты прозвали левое крыло социалистической партии — считали крупнейшим предательством!
Глава XXV Три съезда в Ливорно
В Ливорно за 1921 г. прошли три съезда. Это были: XVII съезд Итальянской социалистической партии, I съезд (учредительный) Итальянской коммунистической партии и съезд Всеобщей конфедерации труда.
После захвата фабрик рабочими и поражения этого движения расхождение между левой, центром и правой в Итальянской социалистической партии еще более усилилось. Захват фабрик был использован не только буржуазией, но и реформистами для того, чтобы кричать о «большевистской опасности». Реформисты утверждали, что захват показал неспособность большевиков руководить промышленностью. По этому поводу разгорелась весьма резкая полемика. Реформисты уверяли, что в Италии не может быть революции. Даже такой светлый ум, как Серрати, полемизируя с Лениным, отрицал, что восстание солдат в Анконе (восстание среди войск, отправляемых в Албанию), захват фабрик и земель, беспорядки в городах, вызванные дороговизной, туринское восстание — это симптомы революции, которую реформисты, не сумев использовать в своих целях, предали.
Ленин беспощадно боролся против итальянского центризма, во главе которого стал Серрати (позже признавший свои заблуждения), и отказался числиться среди сотрудников журнала «Коммунизм», являвшегося теоретическим органом Итальянской социалистической партии.
На съезде Всеобщей конфедерации труда победили реформисты. Несмотря на присоединение итальянской Всеобщей конфедерации труда к Профинтерну, реформисты продолжали работать в духе желтого амстердамского интернационала профсоюзов.
В сущности, во всей Италии мало было людей, способных провести должную работу по подготовке съезда социалистической партии. Реформисты устроили свои предварительные совещания в Реджио Эмилия, коммунисты — левое крыло партии уже называлось так — в Имола, а максималисты — во Флоренции. По имени этих городов были названы на съезде три различные резолюции, предложенные фракциями.
В моей провинции борьба приняла острые формы. Мы были уверены в своей победе. Уже на предыдущем областном съезде социалистической федерации (в 1919 г.) при выборах делегата в Национальный совет партии был избран коммунист вместо кандидата, выставленного правым крылом.
В Ливорно к моменту съезда атмосфера накалилась. На улицах происходили драки с фашистами. В театре Гольдони, где происходили заседания съезда, словесные сражения были не менее горячи. Товарищ Кабакчиев, выступавший от имени Коммунистического Интернационала, во время своей речи был несколько раз прерван.
Моментами боевое настроение так повышалось, что съезд превращался в настоящую преисподнюю. Тогда каждая из фракций затягивала свой гимн: мы — «Интернационал», максималисты — «Красное знамя», а реформисты — «Рабочий гимн», и — недаром же мы слывем музыкальным народом — это разноголосое пение до некоторой степени разряжало атмосферу.
После голосования, когда мы, коммунисты, выстроившись в колонну, покинули зал заседаний, чтобы перейти в театр Сан-Марко, где мы открыли первый съезд Итальянской коммунистической партии, секции III Интернационала, казалось, что душа оставила съезд.
Опустевшие места… Гробовое молчание оставшихся…
Уходя одним из последних, я заметил в углу зала Серрати, бледного, как полотно, с неописуемым выражением глядевшего нам вслед… И мне вспомнились слова товарища Ансельмо Марабини[71], произнесенные им в конце последней речи:
— Ты, Серрати, настоящий революционер, и ты вернешься еще к нам!
Пророчество Марабини сбылось: Серрати вернулся к нам.
После ливорнского съезда началась для коммунистов полоса тяжелой борьбы одновременно на два фронта: против все возрастающей реакции и против реформистов. В это время областная конференция компартии избрала меня секретарем федерации Кунео. У нас из семи еженедельников после раскола партии оставалось четыре. Это были: «Лаворо», «Рискэсса» («Восстание») «Соле дель Авенире» («Солнце будущего») и «Фальче» («Серп»), Следовало объединить их в один орган. Мы стали издавать «Рискосса» — орган коммунистической федерации Кунео. Это был первый шаг. До сих пор в социалистической федерации мы никак не могли добиться этого объединения, так как некоторые товарищи адвокаты не желали отказаться от редакторского титула, а между тем семь газеток Итальянской социалистической партии далеко не всегда выдерживали одинаковый тон.
На областной конференции Палаты труда большинство осталось за коммунистами…
Через несколько дней после этой победы я получил письмо от Исполкома коммунистической партии, в котором мне предлагалось занять место секретаря областной Палаты труда. Я ответил, что и так уж состою секретарем федерации и, кроме того, занят у себя в парикмахерской. Тогда мне предложили выбрать между парикмахерской и… партией. Я, конечно, не колебался. Я отказался окончательно от ремесла цирюльника и стал профессионалом-революционером. Это было в марте 1921 г. По условиям работы я оставил также и Фоссано и перебрался в Кунео, областной центр. Как бы обрадовались отъезду «проклятого парикмахера» мирные обыватели Фоссано, случись это несколькими годами раньше! Но теперь и в Фоссано коммунизм пустил прочные корни; Палата труда, коммунистическая фракция в муниципальном совете, крепкие ячейки на предприятиях…
Фашисты, наехавшие в Фоссано из разных городов провинции Кунео, оказали честь нашей палате, начав с ее осады свои военные действия в провинции. Но охрану Палаты несли новобранцы из Тосканы, бывшие свидетелями фашистских погромов в своих деревнях. Фашисты встретили серьезное сопротивление и вынуждены были отступить. Они обрушились тогда на мирных жителей города и избили их, оскорбляя и всячески издеваясь над ними. Позабавившись вдосталь, они уехали, как и прибыли, на грузовиках. За городом их встретили ружейным залпом. На призывный клич главаря банды «Фашисты, к нам!» никто не отозвался, и они, торопя шоферов и увозя раненых, помчались дальше. Дело было уже ночью.
На следующее утро все более или менее известные коммунисты были арестованы. Я как раз был в отъезде по делам Палаты труда. Узнав о происшествиях, я поспешил вернуться и тотчас же отправился в полицейский комиссариат.
Поручик карабинеров, присутствовавший при допросах, спросил меня, зачем я явился.
— У нас нет здесь своих адвокатов, поэтому будьте любезны сообщить мне причину ареста моих товарищей, — сказал я.
Поручик насмешливо ответил мне:
— И у вас хватает еще храбрости и нахальства являться сюда и спрашивать, в чем обвиняются арестованные коммунисты? Вы прекрасно знаете, что они стреляли по грузовикам фашистов.
— Дело не в храбрости или нахальстве, речь идет о законе и его нарушении, — возразил я сухо.
— Вы являетесь главным виновником, — вспыхнул поручик, — вы должны быть вместе с ними.
— Почему же вы тогда меня не арестуете? — спросил я.
— Правительство не желает вашим арестом способствовать вашему избранию в палату депутатов.
— Это меня не касается. Я пришел сюда, чтобы заняться защитой своих товарищей. Другие нападают, а коммунистов сажают в тюрьмы. Потрудитесь сообщить, в чем вы обвиняете арестованных.
— Арестованные коммунисты обвиняются в том, что они стреляли по грузовикам, в которых прогуливались фашисты. Ранено десять человек, из них один — тяжело. Есть указания на то, что это сделано коммунистами, — соблаговолил наконец объяснить поручик.
Было ясно: арестованы за то, что коммунисты. Доказательств никаких. Полиция обыскала квартиры не только арестованных, но и их родных и знакомых, но оружия не нашла.
Товарищей по истечении предельного срока предварительного заключения вынуждены были освободить за отсутствием улик. Фашисты не возобновили своей «прогулки» по городу, как любезно выразился поручик, ибо, хотя в городе не нашли ружей, все же выстрелы были меткие.
В новой моей резиденции, Кунео, я никогда не проживал больше двух дней подряд, находясь в непрерывных разъездах от одной секции Палаты труда к другой; профсоюзные собрания, политические совещания с товарищами, избранными в местные муниципалитеты, отнимали все мое время. Номера газеты я готовил, так сказать, на ходу, во время продолжительных остановок в каком-либо месте. Я так и возил с собою необходимейшие орудия редакционного производства: перо, бумагу, ножницы и клей.
Реакция усиливалась. Через Кунео по направлению к горам Тенда у французской границы проходили сотни беженцев из Тосканы, из Ломеллины, из Эмилии, спасаясь от фашистов и полиции, и обращались за помощью к нам. Сначала они по старой, укоренившейся привычке приходили в Палату труда, но вскоре пришлось устраивать эти посещения в более укромных местах, чтобы избежать полицейской слежки.
Однажды на условленный пункт явился ко мне парень, по виду рабочий.
— День добрый! Ты секретарь Палаты труда? — обратился он ко мне.
— Ты кто? — спросил я его.
— Товарищ, меня направил к тебе секретарь павийской Палаты труда, чтобы я…
— Документы! — потребовал я: парень определенно мне не понравился.
— Видишь ли, — ответил он мне, — документов мне не дали: секретаря не было в канцелярии, а меня должны арестовать. Помоги мне перейти границу.
— Ладно, — сказал я, — приходи сегодня вечером в девять часов на Пьяцца д’Арми.
Парень, довольный, ушел. Один из товарищей отправился следом за ним. Я не ошибся: не подозревая слежки, негодяй прямым рейсом отправился… в управление полиции.
Вечером он явился на свидание аккуратно в назначенное время и получил основательную взбучку вместо ожидаемых сведений.
Несколько дней спустя меня вызвали к следователю.
— Против вас имеется серьезное обвинение, — заявил мне следователь, пытливо глядя на меня из-под очков, — в оказании содействия тайной эмиграции.
Я молча выжидал, что последует за этим.
— Вы ничего не имеете сказать?
— Ничего.
— Вы переправляете рабочих через границу, у нас есть доказательства.
— Как это — переправляю? Не понимаю!
— Да, переправляете. Мы перехватили ваши письма к рабочим, которые собирались перейти границу. Рабочие эти разыскиваются полицией.
— Что же имеется в этих… моих письмах?
— Указания, как и где найти работу, — сообщил судья.
— Я обязан как секретарь Палаты давать эти указания.
— Согласен, но почему же вы всех их направляете для этого в Тенда? — ехидно спросил судья.
— А вы можете указать мне, где они могут теперь найти работу? В Тенда имеется центральная электрическая станция, каменоломня, работа по постройке линии Кунео — Ницца… — перечислял я, зная, что судье нечего возразить, так как других работ в провинции не имелось. Правда, у арестованных нашли мои письма, в которых я рекомендовал их союзу рудокопов в Тенда, что, по мнению судьи, должно было значить: «Переправьте их во Францию». Мне была устроена очная ставка с одним из арестованных, но судье это не дало ничего. И, несмотря на горячее желание посадить меня в тюрьму, ему пришлось меня отпустить за недоказанностью обвинения.
Глава XXVI Перед фашистским переворотом
«Ордине нуово», еженедельный теоретический орган компартии, скоро стал боевой ежедневной газетой. Мы находились в самом разгаре борьбы. Грамши своими коротенькими меткими статьями завоевал обширную рабочую аудиторию. Эти статьи поражали противника, как картечь. Много внимания газета уделяла фашистской опасности, предугадывая нападение на Турин. Буржуазия жаждала мести за пережитый страх и намеревалась встретить фашистов с распростертыми объятиями. Рабочие готовились к обороне.
Каждый свободный вечер я уезжал в Турин. Выезжал часов в девять вечера и к полуночи был уже в редакции «Ордине нуово», которую оставлял в четыре утра, так что к восьми я уже был у себя на месте. Эти бессонные ночи в редакции, проводимые с Грамши, заменяли мне отдых…
Чтобы проникнуть в помещение редакции, необходимо было пройти через два кордона: первый составляли полицейские, охранявшие вход во двор, второй — юношеская красная гвардия, расположенная внутри двора. Пробираться по двору было нелегко, так как он был тщательно подготовлен к встрече фашистов: перекопан, перерезан в разных направлениях колючей проволокой и другими заграждениями.
Полицейские обычно пропускали свободно всякого, желавшего войти. Дальше пройти было труднее. Красная гвардия состояла из рабочих-коммунистов. Строгие лица, зоркий взгляд. К чужому относятся настороженно, со своим приветливы и предупредительны.
В эти дни только старые товарищи осмеливались проникнуть в редакцию. Нашествия фашистов ожидали со дня на день.
Как известно, полиция во время фашистских налетов обычно исчезает, оставляя на произвол судьбы порученное ей помещение; вместе с ней исчезают и постовые карабинеры. И обычно, когда подходишь к редакции, учитываешь эти сигналы возможной опасности.
Войдя во двор и преодолев все заграждения, в сопровождении красногвардейцев попадаешь наконец в редакционную. Здесь всю ночь кипит работа. Все товарищи на постах. Вот Аморетти[72], он ныне на каторге, — прирожденный журналист, ведающий хроникой; вот Тольятти, Пасторе[73] — теперь в эмиграции. А вот и Грамши. Вернее — гора газет и бумаг, над которой развевается его пышная грива.
Заслушав шаги, он поднимает голову, и видишь его нос и глаза, живые, умные, ласковые глаза.
Он сейчас в каторжной тюрьме, в жаркой и душной Апулии, приговоренный к двадцати годам. Он был взят на посту, в тот самый момент, когда писал статью о новых чрезвычайных законах, жертвой которых стал еще до введения их. Генеральный прокурор фашистского Особого судебного трибунала в своем обвинительном акте по процессу членов ЦК Итальянской компартии так отзывается о товарище Грамши:
«При расследовании деятельности отдельных обвиняемых фигура Антонио Грамши сразу выделяется. Это он твердой рукой ведет партию в 1926 году. Он — душа всего движения, он указывает пути партии. Во время захвата фабрик он стоял во главе рабочих. Он действительный вождь партии…»
Грамши здоровается со мной и, указывая на красногвардейца, говорит:
— Видишь? Бедняги! Днем работают, а ночью на посту! Спят на бумагах… Вот это преданность! Сегодня у нас собрание. Ты остаешься?
— Конечно! — отвечаю я.
— Что нового в Кунео?
Название города он произносит всегда насмешливо: он знает легенду о Кунео и часто забавляется, заставляя меня рассказывать историю о головотяпах Кунео.
Я передаю ему последние новости.
— А что случилось на заседании муниципального совета у вас? Я что-то заметил в хронике…
— Ничего особенного, — ответил я. — «Пополари» возымела счастливую мысль отпраздновать день рождения генерала Бава-Беккариса, того самого, который восстановил с помощью пушек порядок в Милане. На торжественном собрании я попросил слова от имени меньшинства и почтил память жертв генерала. Конечно, произошел скандал. В дело вмешались бывшие там фашисты, и, как полагается, мы обменялись несколькими чернильницами и несколькими затрещинами. Вот и все.
Грамши смеется. Прибывают рабочие, делегаты мастерских главных фабрик Турина.
Совещание началось. Делегаты делали подробные доклады, очень деловые, без лишних слов. Грамши задавал вопросы, отвечал, разъяснял… Он не оратор, но каждое его слово полноценно; рабочие чувствуют в нем своего вождя и понимают его превосходно…
Реакция поглотила «Ордине нуово». Реакция торжествует… Но семя, посеянное «Ордине нуово», даст свои всходы. Рабочий класс, осознав свои насущные задачи борьбы, найдет способы их разрешения и не может не победить!
Съезд Всеобщей конфедерации труда постановил присоединиться к Профинтерну, но д’Арагона и реформисты усердно работали над тем, чтобы это не осуществилось. Мы, секретари-коммунисты, были в постоянной распре с вождями конфедерации, горячо желавшими избавиться от нас. Конфедерация точно так же, как и правительство, хотела посадить во все Палаты труда своих ставленников. Борьба с реакцией? Нет. Но с коммунистами, конечно, да!
Разве в Турине тогдашний секретарь федерации металлистов Буоцци не воспользовался реакцией и убийством товарища Ферреро, секретаря туринской секции, погибшего от рук фашистов, для того чтобы захватить в свои руки секцию, в которой раньше преобладающее место занимали коммунисты?
Но, несмотря на реакцию, агитационная работа в провинции Кунео не прекращалась. Фашисты делали все, чтобы помешать ей…
Однажды, когда я отправился на собрание бастовавших ткачей, на меня в поезде напали фашисты. Не говоря ни слова, один из них ударил меня дубинкой по голове. Я свалился и потерял сознание… Пришел я в себя в незнакомой комнате. Кругом толпились неизвестные люди. Я чувствовал боль в голове, в правой ноге, в плечах… я помнил только первый удар: очевидно, храбрые «чернорубашечники» продолжали избивать меня, когда я уже лежал в обмороке.
— Чей-то голос прервал мои размышления. Со мной говорил старшина карабинеров.
— Вы счастливо отделались. Это я вам говорю!
Я не очень был убежден в этом, но когда говорит начальство…
— Уверяю вас, — продолжал он, как будто бы прочитав мои мысли. — Если бы их было меньше, вам бы хуже пришлось, а так они дрались между собой.
— Где я?
— Будьте спокойны, вы у порядочных людей, — ответил другой незнакомец.
Позже я узнал, что меня вынесли на первой же станции и сдали одному булочнику, лавчонка которого находилась поблизости от станции. Я обернулся к жандарму:
— Так вы полагаете, что я счастливо отделался?
— Да. Конечно относительно. Скоро прибудет доктор, а пока что вы можете заявить о происшедшем властям.
— Кстати, вы присутствовали при этой сцене, как мне кажется?
— Да, — ответил он, несколько запинаясь, — но я был в другом вагоне…
— Следовательно, вы могли, — продолжал я, — задержать кого-нибудь из напавших, и тогда не надо было бы никакого заявления.
Жандарм помолчал, потом заявил:
— Все-таки оформим… Он взялся за карандаш.
— Не беспокойтесь, синьор, я не люблю комедий. Мы прекрасно знаем, что вам дан приказ не препятствовать фашистам. И устраиваемся, когда это возможно, за свой страх и риск. А теперь хватит.
Жандарм ничего не ответил. Пришел доктор. К счастью, кроме черепа, у меня ничего не было проломлено. Но головы жителей Пьемонта так же тверды, как альпийские скалы, и залечиваются очень быстро. Нога болела гораздо дольше.
Приближались новые выборы в палату депутатов.
Джолитти, любезничая с фашистами, избрал для перевыборов момент, когда в пролетарском лагере произошел раскол. На этот раз Джолитти оказался в одном списке с фашистом Де Векки, за которым числился целый ряд подвигов: поджог туринской Палаты труда, ряд погромов и убийство Ферреро, Беррути и десятка других туринских рабочих.
Для нас особая трудность предвыборной кампании состояла в том, что массы еще не успели сориентироваться в происшедшем на ливорнском съезде расколе нашей партии, что и хотел использовать Джолитти.
За несколько дней до выборов помещение Палаты труда в Фоссано — знаменитый угольный склад, — не тронутое фашистами, было наполовину разгромлено полицией. Искали оружие, которое во время захвата фабрик было раздобыто рабочими. Конечно, ничего не нашли. Полиция и на этот раз опоздала!
Наша партия начала кампанию за объединение пролетарских сил, за защиту своих организаций с оружием в руках, за открытую борьбу. В это же время (3 августа) социалистическая партия подписала позорное «соглашение о мире» с фашистами! Это соглашение было не что иное, как сознательное обезоруживание пролетариата, кровавая шутка фашистов, обманувших Итальянскую социалистическую партию. Соглашение было подписано со стороны фашистов Муссолини, Де Векки — тем самым, который вскоре после соглашения так блестяще отличился в Турине, — Чезарино Росси и другими, не менее знаменитыми бандитами. Со стороны социалистов расписались Баччи и Дзаннерини; от парламентской группы итальянской социалистической партии — Моргари и Музатти; от Всеобщей конфедерации труда — Бальдези, Галли и Капорали. Соглашение было скреплено председателем парламента. Стоит напомнить здесь имена подписавших этот чудовищный акт!
Мы энергично начали агитировать за активную самооборону рабочих. Только общее согласованное и быстрое вооруженное выступление рабочих могло бы еще остановить надвигавшуюся лавину фашизма. Встал вопрос о едином фронте. Сначала реформисты были против этого, потом, в один прекрасный день, согласились войти в Союз труда[74], образовавшийся из Всеобщей конфедерации труда, Объединения профсоюзов и Союза железнодорожников. Казалось, реформисты с этого момента решили действовать — и как можно скорее — без соответствующей подготовки! Был дан приказ о всеобщей забастовке, для руководства которой был избран тайный комитет. Солидарность масс была такова, что, несмотря на отсутствие какой бы то ни было подготовки, первый день забастовки вполне удался.
В моей провинции забастовка тоже началась прекрасно. Я объезжал на мотоциклетке промышленные центры провинции, поддерживая связь, развозя бюллетени и сообщая новости о движении в других провинциях. Повсюду мне сообщали, что меня ищут карабинеры. Аресты были действительно многочисленны, но мне везло. Прекрасно изучив провинцию, я знал, как проехать незамеченным, какую тратторию[75] не посещают карабинеры или полицейские, у кого можно безопасно переночевать. В Салюццо, где печатался наш орган «Рискосса», я как-то завез необходимый материал нашим типографиям, единственным, продолжавшим работу во время забастовки. Здесь карабинеры готовились встретить меня с распростертыми объятиями со стороны гор[76]. А я тем временем проехал со стороны долины и успел поговорить с товарищами. После беседы мне сообщили, что супрефект хотел бы поговорить со мной. Я протелефонировал в префектуру. Сам супрефект ответил мне:
— Приходите сейчас же в префектуру, мне необходимо спешно поговорить с вами.
— Весьма сожалею… но не могу. В чем дело?
— Послушайте, вы собираетесь опубликовать воззвание… Я обещаю дать вам разрешение, если вы разрешите водопроводчикам работать.
— Послушайте, синьор супрефект! Воззвание уже напечатано и распространяется… А что касается забастовки водопроводчиков, это дело, которое не входит в мою компетенцию. Если бы я и разрешил работать водопроводчикам, как вы выражаетесь, от этого положение с воззванием не изменится…
Я отошел от телефона и поспешил уехать.
Пора было вернуться в Кунео. Дело это было сложное, так как надо было пройти внутреннюю таможню у городских ворот. Мы с шофером, храбрым и преданнейшим товарищем-коммунистом, сопровождавшим меня во время поездки, решили попытаться пробраться в город около полуночи. Полусонная стража, поискав, нет ли при нас товаров, ничем больше не заинтересовалась, и мы благополучно въехали в город.
Несмотря на поздний час, город казался весьма оживленным. Мы направились прямо к дому одного товарища из федерации. Его жена сообщила нам, что пришло извещение о прекращении забастовки и что ее муж ушел в Палату труда. Я немедленно отправился туда же. Вокруг здания и внутри него толпился народ. В одной из зал произносил речь депутат из нашей провинции, социалист. Он говорил:
— Товарищи! Итальянские рабочие, несмотря на свирепую реакцию, обрушившуюся на нашу организацию, дали доказательство великолепного единодушия, отозвавшись как один на призыв тайного комитета Союза труда. Наши противники теперь знают, что мы всегда готовы! Теперь вы должны возобновить работу… Шум и недовольные голоса прервали его. — Таков приказ комитета. Четверть часа назад его сообщил мне лично префект, а префект не может дать неправильное сообщение…
Я не выдержал и поднялся:
— Прошу слова!
Мое появление взбудоражило зал. Публика была уверена, что я давно арестован. Я взобрался на трибуну.
Как ни был я приготовлен ко всякого рода событиям, сообщение о прекращении забастовки поразило меня.
— Товарищ депутат прекрасно знает, что приказ о прекращении забастовки передается специальной телеграммой местному забастовочному комитету, а не через посредство префекта полиции. Верить префекту, по меньшей мере, наивно. Во всяком случае я как секретарь областного комитета призываю товарищей продолжать забастовку! Если приказ о прекращении, который я заранее определяю как бесстыдное предательство, существует, он должен быть сообщен мне товарищами из комитета, а не главой местной полиции! Товарищи, стачка продолжается!
Громкие аплодисменты ответили на этот призыв.
Ночь я, конечно, провел в тюрьме: на этот раз полиция не дала мне уйти…
Главный начальник полиции был разъярен.
— Где вы были? Хорошенькое дело: вовлекли людей в забастовку и потом покинули их…
Невероятно, но достойный полицейский в досаде за свою неудачу упрекал меня в… предательстве рабочего класса! Комиссар отомстил мне тем, что задержал в тюрьме дольше других арестованных.
Наутро, увы, прибыла условленная телеграмма о прекращении забастовки. Это был тяжелый удар. Фашистские банды, притихшие во время всеобщей забастовки, снова с еще большим зверством возобновили свои погромные действия. Подавленным провалом забастовки, измученным столькими предательствами рабочим пришлось переключить свои силы на защиту от этих бандитов.
Глава XXVII IV Конгресс Коминтерна. Встреча с Лениным. Фашистский переворот
Тотчас по выходе из тюрьмы я получил от Исполкома партии сообщение о том, что я включен в число делегатов, посылаемых партией на IV конгресс Коминтерна и на II конгресс Профинтерна. Не могу описать волнение, овладевшее мною при этом известии.
Было решено, что товарищи должны постараться получить легальные заграничные паспорта.
Я пошел в префектуру. В Италии получить заграничный паспорт — дело длительное.
Комиссар был приятно удивлен:
— Как, вы хотите уехать за границу? Знаете, это было бы неплохо.
И затем добавил:
— Вы там рассчитываете остаться?
— Да, да! — ответил я.
На лице чиновника явно отразилась радость.
«Одним меньше», вероятно, думал он.
— Много потребуется времени для получения паспорта? — спросил я.
— О нет, зайдите через три дня.
Через три дня я зашел и… невероятно, но факт — получил заграничный паспорт! Ясно, что комиссар торопился отправить меня. Он был весьма любезен, даже пожелал мне счастливого пути.
— А на границе ваши коллеги не сыграют со мной какой-нибудь шутки? — спросил я.
Помилуйте, что вы!.. Он хотел еще что-то добавить, но удержался.
Тогда охотно отправляли за границу беспокойных людей. Теперь не то.
Дни, которые оставались еще до моего отъезда в Россию, прошли для меня в лихорадочном беспокойстве: я все еще боялся, что какое-нибудь происшествие или арест помешает мне уехать. Однажды утром полицейский, состоявший при Палате труда, сообщил мне:
— Комиссар желает говорить с вами немедленно.
Сердце во мне замерло: «Вот тебе и поездка!»
Оказалось, что в числе «преступлений», совершенных мною в качестве журналиста, числилось оскорбление короля. Этому я и был обязан вызовом к комиссару.
Дело происходило в конце августа 1922 г. «Стефани» — правительственное телеграфное агентство — за несколько дней перед этим сообщило в необычайно цветистых фразах, что «его величество наш обожаемый монарх вчера в Вальдьери при пожаре, происшедшем в скромной хижине горца, оказал помощь пострадавшим, не заботясь о личной безопасности».
Об этом событии вся итальянская печать кричала, как о великом подвиге. Я навел справки на месте происшествия и написал маленькую заметку в нашем журнале, в которой сообщал, что «король не вылил ни одного ведра воды, а если бы и вылил, то, получая шестьдесят миллионов лир в год, он прекрасно вознагражден за подобную сверхурочную работу. Пожарные, действительно рискующие жизнью, получают меньше короля, а, когда они погибают, «Стефани» не дает себе труда называть их имена». Подписана статейка была «Меднобородый».
Похоже, что король почувствовал себя обиженным! Комиссар предлагал мне сознаться, что я автор. Я отрицал это.
— Мы прекрасно знаем, что вы Меднобородый, — утверждал комиссар.
— Ничего вы не знаете, — запротестовал я; мне стало не по себе, ведь впереди были Россия, конгресс и… Ленин.
— Струсили, — язвил комиссар.
Но я уже овладел собой.
— Напрасно вы приписываете мне авторство. Но если угодно, я согласен на очную ставку с обиженным.
— Я запрещаю вам говорить в таком тоне об его величестве! — рассердился комиссар. И отпустил меня.
На улице я чуть не кувыркался от радости.
Через два дня я уехал с тремя или четырьмя товарищами.
Впервые мне приходилось переступить границы своего отечества легально, с собственным паспортом в кармане. Спокоен я не был: у меня нет большого доверия к паспортам, которые выдает итальянское правительство. Когда я должен был поехать в Париж для дачи показаний по делу Лорио, Монмуссо, Суварина и Моната, я был арестован итальянскими властями в Бардонеккиа: невзирая на законнейший паспорт, я провел несколько дней в тюрьме…
Да, легальные документы никогда не приносили мне удачи! На этот раз, однако, обошлось благополучно; вероятно, они всерьез надеялись, что я не вернусь…
На одиннадцатый день путешествия, холодным октябрьским утром, обняли мы первого красного часового, встретившего нас на рубеже Страны Советов! На станции Себеж мы ели первый борщ, подрагивая от первых укусов надвигавшейся русской зимы. Но что холод! Мы вступили на славную землю победоносной Октябрьской революции. Мы направлялись в Москву, красную цитадель, к которой устремлены надежды и чаяния трудящихся всего мира, гнев и ненависть их угнетателей!
Ленин! Не было в мире более популярного имени. В Италии его знали в самых глухих деревушках, в больших городах, в казармах, в рыбачьих поселках, на дальних островах и в горных хижинах, затерявшихся среди альпийских снегов.
Зрелые люди, молодежь, старики, дети и женщины прекрасно знали имя великого Ленина. Повсюду я встречал это имя: на стенах фабрик и тюрем, у подножий памятников, на сводах римских катакомб.
Тысячи пролетарских детей Италии носят это имя. Сколько тонн металла ушло на выделку значков с его профилем!
И вот теперь мне предстояло увидеть его, говорить с ним…
В Москве, в Ленинграде — тогда еще Петрограде — мощными потоками шествовали рабочие. Лес знамен, приветствия, музыка… Волнующие встречи на фабриках, в клубах, в казармах! Мы были растеряны, потрясены!
Праздник. Бесконечное шествие перед трибуной на Красной площади. Часами текли человеческие волны перед вождем, приветствуя делегатов, приехавших чуть ли не из всех стран земного шара. Кто из нас тогда чувствовал холод в легоньком пальтишке, рассчитанном на климат Рима, Генуи, Неаполя? У нас бились сердца, горели щеки, сияли глаза!
Потом в Кремле — торжественное открытие конгресса под звуки «Интернационала», пропетого на пятидесяти языках…
Мы с нетерпением ожидали дня, когда Ленин должен был выступить: увидеть его, услыхать, пожать ему руку, высказать волновавшие нас чувства…
И мне посчастливилось встретить его! Это было в одном из бесчисленных кремлевских коридоров. Столько хотелось сказать, а я растерялся и только мог выговорить:
— Здравствуйте, товарищ Ленин!
— Здравствуйте, товарищ! — и он протянул руку. — Вы француз? (Мое приветствие было по-французски.)
— Нет, итальянец, — невольно перешел я на родной язык.
— Я немного говорю по-итальянски, — перешел и он на этот язык. Толпа участников конгресса обступила нас.
Позже я вместе с другими итальянскими делегатами был у Ленина. Один из нас, неаполитанский рабочий, должен был передать ему привет от рабочих своего завода.
Увидев Ленина, он от волнения не смог произнести ни слова, сжал ему руку и заплакал. Ленин ужасно смутился.
Когда Ленин появился на трибуне, зал дрожал от приветствий. Все делегаты, встав, оглушительно аплодировали. Затем запели «Интернационал».
Я помню его глаза, ему одному присущий внимательный, острый взгляд.
Я увидел его еще раз в Кремле, после заседания. Он говорил по-немецки, медленно, просто. А я не знал немецкого и волновался, ожидая перевода.
IV конгресс Коминтерна имел особо важное значение для нашей компартии. На нем выявилось расхождение между Бордига и большинством итальянской делегации. Итальянский вопрос очень подробно обсуждался на конгрессе. Помню долгие ночные заседания, борьбу, сомнения делегатов и наконец голосование, при котором Бордига, представлявший крайнее «левое» течение в нашей партии, оказался в меньшинстве. Это происходило в тронном зале Кремля. В этот вечер председательствовал я. Было нелегким делом поддерживать порядок на столь важном и бурном заседании. Тогда только начиналась сложная и трудная работа нового руководства нашей партии, только что освободившейся от крайних «левых» элементов, над последовательным проведением принципов Коминтерна в партии.
С тех пор прошло много лет. Теперь наша партия, возникшая в борьбе, сформировалась и закалилась в боях с фашизмом. Многие члены партии пали в борьбе, их место заняли новые бойцы. Но партия оставалась неизменно на своем посту. Это единственная в Италии партия, которая устояла перед бурей и продолжает вести борьбу с фашистами. Своей силой и выдержкой она в значительной мере обязана руководству Коминтерна.
Ленин принимал живое участие в обсуждении итальянского вопроса.
Сообщение о походе фашистов на Рим, совершенном в специальных поездах, предоставленных им правлением железных дорог, застигло нас в Москве, как раз во время заседания конгресса. Вести были неясные, противоречивые. Я получил номер нашей «Рискосса»— литографированный: типография наша была разрушена фашистами.
Подробности переворота — кровавые подробности, убийство Ферреро, Беррути и многих других отважных наших борцов за дело рабочего класса, разрушения, неслыханные насилия над пролетариатом — все это мы узнали уже позже, в Берлине.
Наше возвращение на родину после конгресса должно было произойти нелегально. Только один из членов нашей делегации отказался вернуться в Италию: теперь он вне партии. Возвращались делегаты в декабре через горные перевалы в Альпах, в жестокую метель. Только я с двумя товарищами женщинами возвратился легальным путем по железной дороге, так как для меня горный перевал был недоступен. У нас было одиннадцать чемоданов, которые принадлежали товарищам, ушедшим пешком. Мы двинулись в путь последними, когда получили уже известие о благополучном их переходе. На границе полицейские и фашисты набросились на нас и на наши чемоданы. Пограничный комиссар, как оказалось, знал меня лично, он прожил несколько лет перед этим в Кунео. Нас раздели донага и обыскали так, как никогда еще в жизни не обыскивали. Обыск длился несколько часов; а затем целую ночь обследовали содержимое чемоданов. Благодаря лихорадочности, с которой производился обыск, и большому количеству похожих Друг на друга чемоданов мне удалось спасти от обыска два чемодана, подменив их в общей суматохе другими, уже обследованными. Полиция конфисковала множество мелких, незначительных предметов, которые потом фигурировали на процессе в качестве «вещественных доказательств», и освободила нас.
Перед моими глазами все еще стояли картины оставшейся позади, так далеко отсюда, революционной России: заседания конгресса, Ленин, московские и петроградские заводы, встречи с русскими рабочими.
Пограничная полиция отправила нас в Милан. Миланская — дала мне направление в Турин, но в Турине меня не пожелали принять и выдали подорожную в Кунео — мое последнее местопребывание. В Кунео повторилась та же история: местная полиция отказала мне в праве жительства.
— Но ведь я живу здесь!
— Вы бы сделали гораздо лучше, если бы не возвращались, — откровенно сказал мне тот самый комиссар, который с такой предупредительностью выдал мне несколько месяцев назад заграничный паспорт в надежде, что я не возвращусь обратно. — Да и что вам делать здесь? Палата труда теперь занята фашистами. Отправляя вас отсюда, я, в сущности, оказываю вам услугу. Когда фашисты узнают, что вы здесь, вам придется плохо.
— В этом я не сомневаюсь, — сказал я, — но полагаю, что вам будет трудно выбрать мне местожительство. Даже Турин, город, где я родился, не пожелал меня принять.
— Я дам вам направление в Фоссано.
В сопровождении двух жандармов я снова двинулся в путь. В Фоссано меня опять обыскали и отобрали семь миллионов пятьсот тысяч рублей (это было в 1922 г.), которые я привез с собой для раздачи товарищам на память о России.
Можете представить себе восторг полицейского комиссара и фашистов при виде этих сумм. Я совершенно серьезно потребовал расписку на эти миллионы с подробным перечислением номеров и серий.
«Вот оно, русское золото!» — думал комиссар, не без зависти пересчитывая кредитки.
Меня отпустили, предупредив, чтобы я ни с кем не разговаривал и не выходил из дому. Очевидно, ждали распоряжений на мой счет.
Фашисты созвали экстренное совещание, чтобы решить, что со мной делать. Двое из них с ружьями простояли у моего дома всю ночь, не пропуская в дом никого, кроме проживавших в нем. Совещание продолжалось до утра и было весьма бурным, вплоть до рукопашных схваток. Как я потом узнал, на совещании образовались три группы. Часть фашистов стояла за то, чтобы не трогать меня и лишь установить за мной строгое наблюдение. Вторая, более непримиримо настроенная, высказалась за избиение, касторку[77] и изгнание. Третья, одержавшая верх, требовала моего изгнания из провинции.
Между тем новость о моем приезде с быстротой молнии облетела весь городок: «Меднобородый вернулся из России!»
Желание товарищей послушать рассказы человека, который побывал в Стране Советов, который видел и слышал Ленина, было велико. Но у дверей дома стояли фашисты-часовые.
Дело было в январе. Выглядывая из окна, я неизменно видел чернорубашечников, прогуливавшихся по пустынной замерзшей улице. Кругом — ни души. Около десяти часов вечера, когда я грелся у очага, разговаривая с домашними, раздался стук в двери.
«Так, — подумал я. — Арест!» И пошел открыть дверь. Это был один из товарищей, радостно обнявший меня.
— Как ты прошел? — удивился я.
— Придут сейчас и другие, — сияя, сообщил он вместо ответа.
И действительно один за другим, молчаливые и сияющие, появились они у моего очага, пробираясь с соседней крыши во двор, а оттуда через окно.
До трех часов утра просидели они, слушая и забрасывая меня вопросами. Я рассказал им о конгрессе и его постановлениях, о Ленине — о нем они расспрашивали без конца, — о фабриках, детских домах, кооперативах, клубах…
С каким интересом, затаив дыхание, ловили они каждое мое слово! Какая радость и какая вера в то, что начато, что уже сделано и что будет еще сделано рабочим классом! Какая глубокая, какая трепетная нежность к Ленину!
Мы расстались, когда небо начинало сереть: товарищам скоро надо было идти на работу. Они разошлись постепенно, молча, незаметно, так же, как и пришли.
А внизу, перед наглухо запертыми дверями, двое посиневших от холода фашистов все еще продолжали стоять на часах…
Когда рассвело, фашисты явились и вручили мне постановление об изгнании (изгнание заключалось в запрещении проживать в городе, в провинции, в стране). Вместе с фашистами явились также комиссар и наряд карабинеров. Меня повели в комиссариат, где добросовестно вернули мне конфискованное… русское «золото». Комиссар имел недовольный вид: конфискуя миллионы, он искренне верил в их ценность и надеялся получить за это повышение и благодарность…
Перед самым отъездом у меня произошла встреча с генералом Капелло, гостившим у своих родственников в Фоссано. Он знал меня и приветствуя сказал: «Преследование делает честь преследуемому». В эту минуту генерал, командовавший армией во время войны, конечно, не предчувствовал, что попадет на каторгу. Фашистское правосудие приговорило его к тридцати годам по обвинению в соучастии в покушении Дзанибони на Муссолини, покушении, как известно, организованном полицией. Генерал Капелло, масон[78] и антифашист, в настоящее время находится в Сан-Стефано, там же, где находится и больной Террачини. Это одна из наиболее ужасных тюрем Италии. В ней сошли с ума Пассананте и Бреши, Два анархиста, покушавшиеся на жизнь короля Италии, и знаменитый калабрийский разбойник Музолино. (Просьба не смешивать его с тем, кто правит сейчас Италией!)
Глава XXVIII Изгнание и тюрьма
Фашисты приказали полиции Фоссано выполнить их постановление о моем изгнании.
В назначенный час ко мне явились фашисты и карабинеры. Я решил уехать по двум причинам. Во-первых, потому, что отказ привел бы к сценам насилия надо мной, от вида которых я хотел избавить мать и сестру, уже и без того напуганных прежним вторжением фашистов, когда они перерыли весь дом и сожгли мою библиотеку. Во-вторых, потому, что хотел избежать ареста, чтобы иметь хоть немного времени для работы в партии, которая переходила на нелегальное положение.
Фашисты приказали мне идти. Произошла тяжелая сцена прощания с матерью. Моя маленькая шестилетняя племянница, присутствовавшая тут же, бросилась на фашистов:
— Вы все гадкие, злые! — И разрыдалась. Даже чернорубашечные бандиты были несколько смущены…
На вокзале я увидел многих товарищей, но их не допустили ко мне. Все же они остались стоять до отхода поезда и долго махали мне шляпами на прощание.
Я узнал потом, что многих из них по уходе поезда арестовали и избили только за то, что они пришли прощаться со мной.
Конвой из двух полицейских и двух фашистов провожал меня до Турина. По прибытии туда они привели меня в полицейский комиссариат станции.
Я решил было, что по дороге приказ об изгнании превратится в приказ об аресте, но вышло иначе. Меня привели к комиссару, джолиттианцу, которого я знал по Кунео.
— В чем дело? — спросил он у одного из полицейских.
— Мы привезли вот этого, — указал полицейский на меня. — Его изгнали из Кунео и провинции.
Комиссар вскочил.
— Извольте немедленно выйти! — сказал он фашистам и затем обратился к полицейским: — Кто дал вам этот приказ?
— Синьор комиссар Фоссано, кавалер д’Аванцо… словесно, — поторопились добавить полицейские.
— И вы выполняете такого рода приказы? Итальянская полиция действует по приказу бандитского сброда! Позор! Синьор комиссар Фоссано постеснялся дать вам письменный приказ… Это унизительно!.. Вы свободны, — обратился он ко мне. — Пока я еще не намерен выполнять приказы фашистов! Существуют законы!
Я вышел. Положение мое было не из завидных. Работы никакой, в кармане восемьдесят лир, связь с товарищами порвана. Возвращаться в Фоссано не имело смысла. Товарищи были арестованы, газета уничтожена. Палата труда сожжена и разгромлена. Я решил остаться в Турине.
Временно я устроился у одного дальнего родственника, работавшего в маленьком кафе. Он уходил из дому в пять часов утра и возвращался после полуночи, а я оставался дома и, сидя на кровати, потому что зима была очень холодная, а в доме не было печки, писал статьи о России для «Лавораторе», единственной уцелевшей нашей газеты.
Прошло несколько дней. Как-то я прочел об аресте Бордига, Адзарио. Потом были взяты Гриеко[79], Берти. За ними другие… Однажды вечером жена швейцара сказала мне:
— Приходили двое синьоров, спрашивали о вас. — И, оглядевшись, прибавила шепотом: — Двое полицейских!
Было ясно. Следовало переменить квартиру. Я бродил по городу, пока случайно не встретил старого приятеля, которого давно потерял из виду. Он пригласил меня к себе.
— У меня тебе будет вполне безопасно, — уверял он.
Я принял его предложение. Он привел меня в одно из предместий Турина, в дом довольно подозрительного вида, но ничего другого не оставалось.
— Чем ты занимаешься теперь? — спросил я его за столом.
— Устраиваюсь… Честно теперь жить нельзя. Не удивляйся… С тобой я буду откровенен: я покупаю и продаю вещи… неизвестного происхождения.
Из огня да в полымя! Арестовать могли меня и здесь, но уже не за политические преступления, а за уголовщину…
Всю ночь напролет дом жил потаенной, но оживленной жизнью: приходили, уходили, приносили и уносили. Утром шум прекратился: работа кончилась. Наиболее честными квартирантами в этом доме были карманные воришки и проститутки. Послужные списки прочих были позначительней. Не помню, под каким предлогом, но в тот же день я покинул своего гостеприимного хозяина.
Мне удалось было найти работу за заставой в маленькой парикмахерской, штат которой состоял из хозяина и меня. Хозяин был славный малый, женатый, отец четырех ребятишек. Я жил и столовался у него. Клиентами парикмахерской, расположенной недалеко от По, были лодочники, садовники, возчики песка.
Народ все молчаливый и нелюбопытный. Здесь я мог спокойно писать для «Лавораторе».
Аресты продолжались. Население было терроризовано. Я работал уже с неделю. И вот однажды вечером в воскресенье, когда мы уже собирались закрыть парикмахерскую, вошел новый клиент. Прежде чем я успел сделать ему знак, он бросился мне на шею.
— Как живешь? Я знал, что ты побывал в Москве! Видел Ленина? Ты знаешь, что Бордига арестован?
И ряд других вопросов и восклицаний. Это был один из уцелевших товарищей. Побрившись, он ушел, сказав, что еще вернется.
— Тайну я буду соблюдать, — прибавил он.
По его уходе мы закрыли парикмахерскую и поднялись наверх. На столе дымилось традиционное блюдо макарон. Хозяин казался очень озабоченным. Я поиграл с его ребятишками, которые успели привязаться ко мне. Потом мы немного поболтали.
Подав кофе, хозяйка вышла из комнаты, и тогда хозяин сказал мне:
— Я слышал, что говорил ваш друг. Я знаю ваше имя, так как много раз читал ваши статьи в «Ордине нуово»… Я не знал и не подозревал, что у меня находится один из наших известных товарищей…
Я слушал, заранее угадывая заключение этой речи.
— Я сочувствующий. Всегда давал сколько мог, и даже вел пропаганду, как умел… — Он поднялся, поискал в одном из ящиков стола и показал мне несколько вырезок из журнала, в котором значилось его имя в списке лиц, подписавшихся на столько-то лир.
— Мне очень тяжело говорить об этом с вами. Но я не могу поступить иначе: у меня семья, и, если фашисты узнают, что вы здесь работаете, они разгромят все. Вы понимаете?
— Вполне, — ответил я.
— Я заплачу вам за две недели вперед вместо одной… — Видно было, что человеку действительно было неприятно выгнать меня.
Итак, я снова без работы и без крова.
В гостиницу я не мог идти по двум причинам: во-первых, это было мне не по карману, во-вторых, это значило наверняка быть арестованным. Несколько дней я пробыл в семье одного рабочего. Это были дни отдыха для меня. По вечерам, когда вся семья: отец, мать и пятеро сыновей — все рабочие — собирались вокруг огня, я рассказывал о своем путешествии в Россию.
Какими далекими мне казались теперь эти дни!
Однажды утром меня арестовали и отвели в полицейское управление Сан-Карло. Здесь меня привели к генералу Дзамбони, фашисту — главному начальнику полиции Турина.
— Где вы были до сих пор?
— В Турине, — ответил я.
— Где вы проживали?
Я отказался отвечать на этот вопрос.
— Прекрасно… Отведите его в «Нуове», — приказал генерал.
— За что я арестован? — спросил я.
— Вы это прекрасно знаете и еще имеете нахальство спрашивать.
— Я имею право по закону знать причину, — настаивал я.
— Уведите его!.. — рассердился генерал, и меня вытолкнули из его кабинета.
Через несколько часов началось мое путешествие по Турину в тюремном фургоне. Фургон должен был объехать все полицейские комиссариаты, чтобы погрузить всех арестованных и доставить их в тюрьму. Мы выехали часов в десять утра и только к трем часам пополудни приехали в «Карчери нуове».
Фургон внутри разделен на ряд маленьких камер-одиночек, в которые сажали по двое. В клетке, расположенной напротив моей, находились две женщины: проститутка, родом из Голландии, и уличная гадалка.
Проститутка, заливаясь слезами, причитала:
— Что со мной сделают? Долго ли меня продержат? Я иностранка, они должны принять это во внимание, к тому же Голландия в дружбе с Италией.
Гадалка ее утешала:
— Если б здесь не было так темно, я разложила бы карты и ты сейчас же узнала бы все.
— Нас посадят вместе?
— Если посадят вместе, я тебе обязательно погадаю. Можно и без карт, я умею по руке предсказывать будущее. Деньги у тебя есть?
— Их отобрали карабинеры!
Вот и большие ворота «Карчери нуове».
После обычных формальностей в канцелярии и тщательнейшего личного обыска, во время которого у меня отобрали подтяжки, шнурки от башмаков и галстук — у меня сначала хотели отобрать и палку, без которой я совершенно не могу ходить, — я был отправлен в новое обиталище, камеру № 13.
Через решетку падал луч солнца, и в первый момент тюрьма произвела почти приятное впечатление. Дверь камеры захлопнулась с обычным металлическим стуком. Я давно уже привык к этому звуку, и все же каждый раз он производит на меня тяжелое впечатление. Камера была обычного типа: сырая, мрачная, маленькая. Она рассчитана на одного, но в ней я нашел уже двух арестованных. Мы поздоровались.
По тому, как я направляюсь в угол, чтобы сложить свои вещи, один из арестованных узнает во мне привычного обитателя тюрем и, улыбаясь, замечает:
— Сразу видно, что ты не новичок!
Он занимает единственное сиденье — грубую скамейку, прикрепленную к стене, и ест. Другой растянулся на соломенном тюфяке, рядом с ним миска с похлебкой; он не ест, но и не спит.
— Да, — отвечаю, — я стреляный воробей.
— Ты что же, уголовный? — спросил он меня с полным ртом.
— Нет, политический.
Арестант, лежащий на матраце, смотрит на меня внимательно, тогда как мой собеседник улыбается со смешанным выражением восхищения и сожаления.
— Ну и типы же вы, политические! Что за удовольствие попасть сюда, не «поработав», не могу понять… — И, видя, что я смотрю на лежащего арестанта, добавляет: — Нищий, вшивый и глух как тетеря. Вчера я думал, что он притворяется, но теперь я уверен, он и бомбардировки не услышит; можешь говорить не стесняясь.
— Что же ты хочешь, чтобы я сказал?
— Вы счастливее нашего брата, — прерывает меня собеседник, — вам живется спокойно. А нам постоянно надо быть настороже, заметать следы.
— Да, конечно, — говорю я.
Собеседник расположен к излияниям.
— Тебе я могу рассказать. Вы, социалисты, не «падаль». Этот раз мне не повезло, поймали на месте. Я, к твоему сведению, специалист: работаю по памятникам. — И, заметив, что я не понимаю, объясняет: — Специалист по краже памятников. Это никого не обижает. Кому плохо оттого, что с памятника Кавуру исчезнет бронзовая доска или чего-нибудь не хватит у Виктора Эммануила II, прозванного «отцом отечества» за то, что имел кучу любовниц и незаконных детей, или на каком-нибудь другом памятнике не окажется цепей? А для меня это хлеб, потому что бронза в цене. По совести говоря, разве не лучше, чтобы эти бесполезные цепи пошли на какую-нибудь фабрику, на мельницу, на что-нибудь полезное людям?
Мой собеседник, видимо, доволен обнаруженной им эрудицией. Он подмигивает мне и берет сигару. Затем продолжает:
— Да, не повезло! Набрал я уже полный мешок цепей, хорошие цепи, ни одной ржавой!.. Слышу шаги… Обернулся — «близнецы»[80]! Попытался было улизнуть, да где уж там! На допросе я все-таки обставил «любопытного»[81], только никому ни гу-гу! Понял? — И, оглянувшись на соседа, он снижает голос: — Я назвался фальшивым именем. Собственно, имя-то настоящее, но не мое. Это имя моего дражайшего друга, славного такого парня, рабочего, у которого я забрал документы. Никогда ведь не знаешь… Всегда надо быть запасливым. Вот и теперь: меня поймали на месте — скорый суд и короткая расправа… Но если бы меня судили под моим настоящим именем, было бы хуже, так как я неоднократно попадался. Понял?
Он снова подмигивает мне и довольный потирает руки. У двери гремят ключи: вечерний обход. Входят два сторожа и старый надзиратель. Осматривают камеру, проверяют целость решетки.
— Кто тут новый? — спрашивает надзиратель.
— Я, — отвечаю.
Он мерит меня презрительным взглядом.
— Коммунист!
— Да.
— Я вам покажу коммунизм!
И, вращая глазами, удаляется.
Утром уводят в суд «специалиста». Он уходит довольный и на прощание говорит мне:
— Обернусь скоренько, заберу свое барахло — и на волю! Ты приготовь мне адресочки твоих, я их проведаю, расскажу о тебе. Надо помогать друг другу.
День, нескончаемый тюремный день проходит как всегда: обход камер, уборка, похлебка, прогулка — все то же, знакомое, как скверный, часто повторяющийся сон. Я хожу, курю… Сосед или ест, или спит. В промежутках он ищет в голове и густой бороде вшей, которых с видимым удовольствием давит ногтем на каменном полу.
Вечером вернулся в камеру «специалист». Вид у него был свирепый. Он ввалился, ни с кем не поздоровавшись, и тотчас же бешено заходил взад и вперед по камере, не глядя на нас.
— Что случилось? — спросил я. — Открыли тебя, что ли?
— Вот и надейся на друзей! — заговорил он, круто останавливаясь на ходу и глядя на меня. — Верь им, как же! Этот негодяй, эта каналья, этот жулик, о котором я тебе еще вчера рассказывал… Я думал, что он порядочный человек, а он, мерзавец, оказался преступником, и его полиция разыскивает! Я за него получу больше, чем дали бы мне лично! Искренно возмущенный, он идет к своему матрацу и мрачно укладывается спать.
Тишина. Мертвая, беззвучная тишина тюрьмы, нарушаемая только размеренными шагами стражи и окликами:
— Кто идет?..
…А ведь я был в России. Я видел его!..
На следующий день меня перевели из камеры № 13 в одиночку. На допрос все еще не вызывали. Переписка запрещена. Я ломал себе голову, стараясь понять причины столь необычного обращения.
Наконец мне сообщили, что я еду. Куда? Никакого ответа. Я решил, что в Рим. Вероятно, на процесс. Но почему не было допроса? Я ничего не знал о том, что происходило на воле. Первые известия сообщил мне уже в тюремном вагоне арестант, опрятный и симпатичный старик. Он рассказал, что идут аресты, главным образом рабочих, что фашисты жгут кооперативы, избивают и убивают людей, не щадя ни женщин, ни детей, громят и грабят жилища…
— Окаянные, — говорил о них старик.
— А ты не боишься, что встретишь здесь какого-нибудь фашиста? — заметил я ему.
— Ну, это невозможно, их не сажают.
— А ты здесь надолго? — спросил я его.
— О, на три сардских дня, — ответил он, и на мой вопросительный взгляд пояснил: — Три сардских дня — значит: сегодня, завтра и… всегда. Я бессрочный. Уж отбыл сорок шесть лет… За убийство. Убил и плачу за это. Плачу, пожалуй, слишком дорого… другие теперь убивают, крадут — и не расплачиваются, как я. Но я уже стар…
Глава XXIX В тюремном вагоне
Одной из самых тяжелых пыток, которым подвергают заключенных, можно считать путешествие в тюремном вагоне. Его, кажется, выдумал Джолитти, как и многие другие тюремные «усовершенствования». Мне пришлось совершить таким путем изрядное количество поездок по Италии.
Я встречал за границей многих людей, которые, захлебываясь, говорят о красотах моей родины: Рим, Венеция, Капри… Но они и не подозревают, что из сорока миллионов итальянцев тридцать девять и три четверти миллиона не знают своей страны и если кто-нибудь из них и путешествовал по ней, то это происходило или в вагонах для скота в период войны или… в тюремных вагонах.
Такого рода путешествие весьма длительно и чрезвычайно мучительно. Происходит оно этапами, с длинными остановками и медлительным продвижением. Однажды на переезд из Гарессио в Фоссано — расстояние между ними меньше шестидесяти километров — ушло три дня! От Турина до Рима — шестьсот шестьдесят километров. Прямой поезд, выходя из Турина вечером в восемь часов пятнадцать минут, прибывает в Рим на следующее утро в семь часов тридцать минут. Меньше двенадцати часов! Товаро-пассажирский поезд проходит это расстояние в восемнадцать часов, мы же употребили на это больше месяца.
Я крепко спал на моем жестком матраце, когда меня разбудили. Тюремный сторож с фонарем и связкой ключей стоял у двери камеры.
— Скорей, скорей одевайтесь! Пора ехать, карабинеры ждут!
Я оделся.
— Который час? — спросил я.
— Два. Надо торопиться, потому что поезд отходит в семь часов пятнадцать минут.
— Черт возьми! — выругался я. — Пять часов с четвертью, чтобы доехать до вокзала?
— Надо еще объехать полицейские участки и забрать других, — объяснил мне сторож.
Это был добрый старик, охотно разговаривавший с политическими. Он помог мне сдать «арестантское приданое» и затем отвел меня в канцелярию, где находилось уже около тридцати заключенных. Некоторые из них в арестантской одежде с номерами на груди, другие — в своей одежде. Люди всех возрастов, всех сословий.
По мере того как выполнялись формальности — вручение отобранных при поступлении в тюрьму денег и вещей, подписи, отпечатки пальцев и тому подобное, — заключенные один за другим переходили к карабинерам, которые надевали им на руки ручные кандалы.
Эти железные запястья не имеют ничего общего со старинными «цепями». По виду это два стальных браслета, объединенные вместе в форме прописной буквы Е. В два открытых квадратика всовываются руки, затем их замыкают отдельной планшеткой, привинчиваемой к трем концам буквы. Эти браслеты причиняют мучительную боль рукам, которые распухают и часто кровоточат. Длинной цепью арестанты связываются между собой, от первой до последней пары.
Когда подошла моя очередь, я запротестовал против наручников, так как не был в состоянии двигаться без палки.
Начальник нашего конвоя не соглашался принять меня нескованным. Чиновник тюремной канцелярии старался объяснить ему, что я никак не могу убежать даже со свободными руками, но тот ничего знать не хотел.
— Заковать его без всяких разговоров! — строго приказал начальник. — Правила это предписывают. Когда он совершал преступление, он мог ходить — пусть теперь расплачивается!
И мне надели браслеты. Я был последним в цепи. Когда раздался приказ двигаться, цепь медленно стала развертываться, и наконец подошла моя очередь идти. Закованный, без палки я не мог сделать ни одного шага, но мне и не пришлось его делать. Стоявший впереди меня старик со свертком белья под мышкой и клеткой с зябликом не двинулся с места. Заметив, что он стоит, остановились и шедшие впереди него. Вся цепь осталась на месте, несмотря на крики и угрозы конвойных. По цепи пробежала фраза: «Здесь есть один, который не может идти». Этого было достаточно; никакими силами нельзя было сдвинуть с места арестантов, среди которых один только я был политическим. Существует трогательная солидарность и среди уголовных. Начальник попробовал убеждать:
— Правила гласят: каждый арестованный должен быть закован. Поняли?
— Да, да, понял, — ответил ему я. — Применяйте ваше правило, но вам придется везти меня на тележке; это будет нелепо, но зато честь отечества и незыблемость правил будут спасены.
— Я приказываю вам идти! — заорал начальник.
— Не могу!
— Я вам еще покажу! — Он велел освободить одну мою руку и свирепо сунул в нее палку. Мы двинулись. Коридор за коридором, дверь за дверью, наконец мы на пустынной, слабо освещенной улице. Обычный тюремный фургон ожидал нас.
— Сколько арестантов? — спросил кучер.
— Двадцать, — ответил начальник.
— Черт подери! Куда же я их дену? У меня только шестнадцать мест. Да еще и конвойные… Кроме того, мне надо забрать и в других местах.
— Не беда, стиснем их маленько: не стоит их баловать, — успокоил кучера начальник.
Глухой ропот среди арестантов.
— Кто там разговаривает? Кто протестует? Ну-ка, выходи! — заорал начальник. Никто не отозвался.
Началось наше путешествие по городу. На каждой остановке фургона к нам втискивали новую жертву итальянского правосудия. Мы задыхались, скованные руки распухли и мучительно болели при каждой встряске расшатанного фургона. Старик с зябликом жаловался:
— Задохнется моя бедная пичужка!
Другой, тоже старик, дрожал за белую мышь. Это были старые каторжники, которым разрешается держать при себе животных. Преступники этого типа обычно нежно относятся к своим питомцам. Как-то в Анконе в тюрьме я знавал каторжника, тоже старика, который плакал, как ребенок, потому что его скворец сломал себе лапку. Как он за ним ухаживал! И действительно вылечил его.
Наконец мы добрались до вокзала. Некоторое время мы, выстроившись, ждали, пока подадут поезд. Затем нас разъединили и поодиночке ввели в тюремный вагон. Это длинный вагон, разделенный пополам коридором. По обеим сторонам коридора расположены крохотные камеры, в которых только один человек может сидеть. Летом в них задыхаешься, зимой мерзнешь. В дверях этих камер проделаны маленькие отверстия, выходящие в коридор. В наружных стенах окон нет. Наверху, в потолке, вставлены небольшие стекла двенадцати сантиметров в поперечнике. Но от пыли и дождей они загрязнены так, что ничего не видно.
Когда поезд тронулся, в мою камеру вошел начальник.
— Теперь вам не надо ходить, — злорадно сказал он и собственноручно закрепил мне наручники на обеих руках.
После этого нам роздали еду. Во время путешествия похлебки не дают. Арестанты получают только хлеб. Кандалов не снимают ни на время еды, ни при каких-либо других обстоятельствах. При отправлении естественных нужд карабинер помогает арестанту.
Обычно тюремные вагоны прицепляются к товаро-пассажирским поездам. Часто их отцепляют на узловых станциях, и на самые короткие переезды тратится неимоверное количество времени. От Турина до Александрии (шестьдесят километров) мы ехали десять часов. В Александрии мы высадились из вагона и уселись в фургон, отвезший нас в местную тюрьму. Здесь снова повторилась знакомая церемония: запись, личный обыск, отпечатки пальцев, путешествие в склад для сдачи вещей и наконец камера. Это так называемая пересыльная камера, где мы увидели необыкновенную грязь и запустение. «Все равно — завтра уйду отсюда», думает каждый вступающий в эту камеру.
В камере, в которую ввели нас, все стекла оказались выбитыми. Дело было зимой. Александрия — город северный, и погода стояла сырая и холодная. Всю ночь мы дрожали от холода, лежа на каменном полу, на разорванных соломенных тюфяках, еле прикрытые рваными одеялами, кишевшими насекомыми.
Так провели мы три дня. Затем снова подъем в два часа ночи, кандалы, фургон, путешествие по комиссариатам за другими арестованными, вокзал.
Когда, выстроившись на перроне, мы ожидали посадки, к начальнику нашего отряда подбежал тюремный сторож с преувеличенно-взволнованным видом.
— Синьор бригадир! — закричал он. — Знаете, что эти мерзавцы наделали? Они выбили все стекла в камере!
Арестанты запротестовали.
— В окнах не было ни одного стекла, когда мы прибыли, — заявил я.
— Молчать! — заорал бригадир и, обратившись к сторожу, спросил: — Сколько придется заплатить, чтобы вставить стекла?
— Не меньше пятидесяти лир, — ответил сторож.
Несмотря на наши протесты, бригадир заплатил эту сумму из наших денег, находившихся у него на хранении.
Позже, в 1926 г., я встретился в миланской тюрьме с арестантом, прибывшим из Александрии. Он рассказал мне, что ему и его товарищам также пришлось платить за отсутствовавшие в камере стекла…
Пьяченца. Четыре дня пересыльной камеры со всеми ее атрибутами. Здесь я нашел нескольких политических заключенных, осужденных за организацию вооруженных отрядов.
В грязной, заплеванной камере, при тусклом свете тюремной коптилки я четыре ночи напролет рассказывал о русской революции. Все заключенные, не только политические, но и уголовные, внимательно слушали. Задавали вопросы, иногда прекурьезные:
— А воры есть в России?
— Церкви там открыты?
— Ты видел большевиков?
— А ты не боялся там?
— В России можно поесть?
При звуке шагов стражи, обходившей каждые три часа камеры, чтобы проверить целость решеток, мои слушатели расходились по своим местам, но, как только стража удалялась, они снова окружали меня.
Глава ХХХ Тюремные встречи
Утром в день отъезда из Пьяченцы на вокзале в ожидании запоздавшего на несколько часов поезда нас поместили в один из станционных складов. Мы купили кое-что перекусить и разговаривали между собой. Старик с зябликом, несмотря на скованные руки, пытался вычистить клетку своего питомца. Я помогал ему свободной рукой, как помогал и другим: кому прикурить, кому разломить хлеб. Начальник партии, старшина, высокий белокурый парень, держался очень прилично: не запрещал маленьких вольностей, переходил от одного арестованного к другому, расспрашивал, откуда, на сколько «августовских лун»[82] приговорен, и так далее.
Почти все объявляли себя жертвой судебной ошибки или мести.
Подойдя ко мне, старшина спросил:
— А вы что сделали?
— Я? Тяжкое преступление: меня обвиняют в заговоре против государства, — ответил я.
— А вы коммунист? Может быть, из тех, которые были арестованы по возвращении из России? — На мой утвердительный кивок он тихонько добавил: — Расскажите что-нибудь о России.
Я начал говорить. Арестанты обступили меня. Карабинеры присоединились к ним. Все они слушали меня внимательно. Я говорил долго. Один из слушателей, осужденный за грабеж и нанесение ран, заметил, повторяя излюбленную фразу буржуазной печати:
— Большевики совершили ужасные злодеяния, весь цивилизованный мир против этих варваров.
Другой арестант обрушился на него:
— Что ты можешь знать? Веришь тому, что в газетах печатают? Заткнись лучше! Он был в России!
— Ну, на сегодня хватит, — прекратил диспут старшина.
К вечеру мы прибыли в Болонью. Нигде я не видел пересыльной камеры такого размера. В ней свободно помещалось семьдесят человек, настолько свободно, что молодежь, чтобы размяться после мучительного переезда, принялась бегать. Это была длинная и широкая комната с низким потолком, опиравшимся на несколько грубых колонн. Сырой свод и узкие щели окон, расположенных высоко под потолком, говорили о том, что это подвал.
Нас встретили возгласами и расспросами прибывшие раньше арестанты. Все нары были уже заняты, нам достались только соломенные тюфяки, лежавшие на полу. Когда я устраивался в углу, молодой парень, лежавший на соседних нарах и читавший «Рокамболя»[83], встал и предложил мне:
— Иди на мое место. Никто не смеет сказать, что Рыжий оставил лежать на полу больного. Ложись! Я молод, а ты хоть и не стар, но у тебя больная нога.
И он чуть ли не силой усадил меня на нары. Мы разговорились.
— Я убил в драке. Защищаясь. Меня закатали на восемь лет, потому что я не мог нанять хорошего адвоката. Бедняки всегда виноваты… Мне жалко только несчастную мать. — И он снова погрузился в «Рокамболя».
На соседних нарах двое тоже говорили об адвокатах:
— Я сам виноват. Пожалел мальчика: он только что университет окончил и напросился защищать меня. Он меня растрогал, сердце у меня слабое, я и позволил ему. А он спутал статьи закона, растерялся перед судьями, ну, меня, конечно, и закатали… Вот и делай добро людям!
— Я никогда не поддаюсь на эти просьбы, — гордо заявил его собеседник. — Однажды такой вот начинающий предлагал мне сто лир, чтобы я позволил ему защищать меня. Можешь себе представить! С моим-то именем и с моим прошлым! Я, разумеется, отказал.
На следующих нарах немолодой уже арестант рассказывал собравшейся вокруг него публике, как он ограбил банк. На полу двое играли в шашки.
Доской служил пол, разлинованный углем, шашками были пуговицы. Дальше элегантно одетый человек декламировал Кардуччи[84]. Несколько человек прогуливались по камере. Некоторые спали.
— А ты что делаешь, бородач? — спросил меня тот, кто «пожалел» адвоката.
— Я? Курю трубку, как видишь.
— Я уже давно на тебя поглядываю и никак не могу понять, к какой категории тебя отнести.
— ??
— Конечно! На взломщика ты не похож, на карманника — еще меньше, на грабителя — и подавно. Может быть, ты прикончил любовницу или ошибочно обсчитал твоего хозяина?
Я молчал.
— Дубина! — сказал его приятель. — Не видишь разве, что это политический? Не правда ли? — обратился он ко мне.
Я, не вынимая трубки изо рта, кивнул в знак согласия.
Громадный парень, настоящий Геркулес, до сих пор читавший обрывок газеты, вскочил с нар и бросился ко мне.
— Ты кто: анархист, социалист, коммунист?
— Коммунист.
Геркулес чуть не задушил меня в объятиях.
— Я тоже коммунист! Я из Масса. Знаю Биболотти[85] и других… Ты их знаешь?
— Знаю всех, — ответил я.
Обрадованный, с сияющими детскими глазами, он уселся рядом со мной. Он закидал меня вопросами, когда узнал, что я обвиняюсь по «Римскому процессу». По характеру его вопросов чувствовался настоящий товарищ. Я рассказал ему о России, о Ленине, о Советах, о фабриках, о Красной Армии. Последняя больше всего его интересовала. Потом он рассказал о себе:
— Я, знаешь, не умею говорить, но я не горюю, долг свой сумею выполнить, можешь спросить у Биболотти. Бедняга Биболотти! Я видел его, его жену и ребенка на улице перед горящим домом, «Грязные рубахи» — знаешь, у нас «чернорубашечников» прозвали так — подожгли его дом! Этого я не забуду… Он был ранен, ребенок плакал… порка мадонна, сколько их избил я в эту ночь!.. Когда палка сломалась, я перешел вот на это! — И Геркулес, тяжело переводя дыхание, показал мне невероятные кулаки. — Потом, понятно, пришлось удирать!
Он замолчал. Слушавшие с восхищением смотрели на него.
— Как паршивая собака, прятался от людей, — снова начал он, успокоившись. — Я всегда, бывало, ходил на собрания с Биболотти. Как он хорошо говорил! И так просто… Я все понимал, но сказать, — палач господь! — не сумел бы… Как-то раз он говорил в деревне. Несколько фашистов прерывали его, мешали слушать. Я взял их вот этак, — и Геркулес осторожно потряс двух слушателей, — они и перестали. После той ночи, когда они поджигали в Масса, я так вот и скитался. Только раз ночью пробрался к матери (бедная мама!), чтобы взять белья. Фашисты пронюхали и окружили дом. Я, чтобы не убили мать, решил бежать. Выскочил из окошка и, отстреливаясь, прорвал цепь. Двое из них упали. В меня тоже стреляли, да не попали.
Он снова замолчал.
Уголовные, привыкшие ко всякого рода переживаниям, слушали с глубоким интересом. Вошел обычный дозор, постучали по решеткам с особым ритмом — недаром же мы музыкальная нация, — проверяя, не подпилены ли они, порылись в тюфяках, пересчитали присутствующих и не досчитались одного.
— Одного не хватает! — крикнул надзиратель. — Пересчитать!
Пересчитали — не хватало двоих. Тревога!
— Как решетка, в порядке? — обратился надзиратель к музицировавшему сторожу.
— Так точно, синьор!
Снова пересчитали. На этот раз счет сошелся. Оказалось, что двое решили нарочно подразнить надзирателя и путали счет.
Когда дозор ушел, арестанты окружили Геркулеса.
— Теперь можешь продолжать, Тибурци[86].
— Тибурци? — печально усмехнулся парень. — А ведь вправду, фашисты прозвали меня Тибурци. Ты угадал… Ну и гонялись же они за мной по всей Тоскане! Потом я из газет узнал, что они подожгли мой дом и арестовали отца и двух моих братьев, совсем еще мальчиков. Мать умерла.
Он помолчал, склонив голову, и все смолкли вместе с ним. Потом отпил воды и продолжал.
— Но наш день придет! Не правда ли? — обратился он ко мне. — Я верю: придет. И тогда мы посчитаемся. Я ушел из Тосканы, пробирался к границе. Товарищи мне помогали. Так я добрался до Триеста. Надо было перейти границу во что бы то ни стало: я ведь тогда ночью убил фашиста, и за меня была назначена награда… как за Тибурци. Раз вечером в Триесте я зашел в трактир поесть. Как всегда, разговоры, споры за и против фашистов. Я молчал. Так мне наказывали: ведь надо было переходить границу. Чтобы уйти от искушения, я торопился доесть обед. В этот момент в трактир вломилась шайка фашистов с дубинками в руках, накинулась на рабочего, который тоже обедал, как и я, в уголке, и давай его избивать! Я не взвидел света, забыл про осторожность, схватил что под руку подвернулось — и на них. Троих из них уложил, а тут кто-то выстрелил. Выстрелил и я, чтобы проложить себе дорогу, и выбрался было из трактира, но на улице они меня все же подстрелили. Я был ранен в ногу, идти было трудно. Тогда я обернулся к ним, решил: лучше встречу лицом к лицу… Они тоже остановились. Я им тогда крикнул: «Собаки, подходи поближе!» Их было двое (прочие остались на месте). Трусы! И они стали стрелять в воздух, чтобы привлечь своих. Кругом — ни души. Окна и двери в домах заперты. Деваться некуда. На выстрелы прибежали карабинеры, тоже двое. Я стал к стене, решил дорого продать свою шкуру. Фашисты теперь осмелели, снова стали стрелять и кричать: «Арестуйте его! Это коммунист! Он стреляет!» Я на выстрел всегда отвечаю выстрелом. Одного уложил. Меня тоже ранили, я упал… Все же я боролся… Но подоспели другие, и… и вот я здесь…
Он снова замолчал.
Мертвая тишина была во всей огромной камере. Потом он опять заговорил:
— Один из фашистов был убит, другие ранены. Теперь меня пересылают в Масса на процесс — это за первого убитого, потом отправят в Триест, за другого. Мне наплевать на их суд. Я знаю, что, суди меня товарищи, они меня виновным не признали бы.
Он окончательно смолк.
Арестанты медленно и бесшумно разошлись по своим нарам. Тибурци перебрался на соседние со мной нары, и мы проговорили с ним почти всю ночь.
Через несколько дней мы расстались. Его повезли в Масса, нас направили в Анкону. Мы крепко обнялись на прощание.
Снова канцелярия, фургон, тюремный вагон… В фургоне сидящий рядом со мной арестант подмигивает мне и, указывая на свой сверток под мышкой, довольный, сообщает:
— Я его все-таки спер! Таких одеял, как в Болонье, нигде не найдешь. Ловко! Никто не догадался.
— Да зачем тебе одеяло? — поинтересовался я.
— Как зачем? Я из него нашью туфель арестованным… за табак и стаканчик вина. Семь лет долго тянутся, надо промышлять, — смеялся он.
В Анконе после болонского простора было особенно скверно. Тесная, невообразимо грязная камера, полчища насекомых. В углу монотонный голос вслух читает молитву:
— «Богородица дева, радуйся, благодатная…»
— Если ты не перестанешь — будь проклят ты и твоя благодатная Мария, — я тебе на голову парашу надену! — слышится чей-то раздраженный голос.
— Почему мне нельзя молиться? Ты тоже должен бы помолиться, в молитве найдешь утешение; все мы грешники, — заныл голос в темноте.
— Ты, может быть, и грешник, а я вор! — гордо ответил возражавший против молитвы. — Вор, и не стыжусь этого. Я краду, но краду у тех, у кого много. Пока будут люди, которые не работают и имеют деньги, дома, автомобили и катаются то к морю, то в горы, до тех пор и я не буду работать, буду красть, черт побери тебя и твою святую деву! Если идет все хорошо, тогда веселимся: отели, первоклассные рестораны, прекрасные женщины; плохо — хлеб, картошка, тюрьма… Я — вот! А ты что сделал? Небось, нагрешил, сын блудной девки!
— Я уже покаялся в грехах… Искупаю свою вину в тиши.
— Если бы в тиши! А то молишься вслух! Почему ты не хочешь сказать, за что ты здесь? Ну, выкладывай, а не то я подумаю, что ты…
— Правильно, пусть говорит! — раздались голоса прочих арестантов, заинтересовавшихся диалогом.
Старик молчал.
— Ну же, старая «падаль»!.. — настаивал вор.
— Никогда я не был «падалью», можете спросить у Джиджетто. Мы с ним вместе просидели два года в Салюццо, он знает, я никогда не был «падалью»!
— Правильно, синьоры, — подтвердил Джиджетто.
— Ты сговорился с ним, — протестовал вор. — Как это так: жили два года вместе, и ты не знаешь, за что он посажен?
— Виноват, — ответил Джиджетто, — я знаю, в чем дело, но обещал ему не говорить об этом. Но так как я человек чести и знаю правила порядочных людей, то могу сообщить это почтенному собранию, раз старик сам не говорит.
— А я еще купил тебе две пачки папирос! — плачущим голосом произнес старик.
— В случае если Джиджетто скажет, он этим оправдает себя. Говори, старик! В противном случае слово имеет Джиджетто, — наставительно изрек вор.
Несколько минут молчания. Джиджетто поднялся и заявил, обращаясь в угол, где лежал старик:
— Пасквале, я должен говорить во имя чести! Итак, этот человек, — он протянул руку по направлению к старику, — совершил одно из самых гнусных преступлений! Он изнасиловал девочку восьми лет, свою племянницу.
— Она сама захотела, — сказал Пасквале.
Хор ругательств и насмешек покрыл голос старика.
— Так вот почему ты не хотел говорить, старая свинья. И у тебя еще хватает смелости молиться! Прошу почтенное собрание объявить этого человека вне законов чести! Кто против этого?
Ни один голос не поднялся в защиту Пасквале.
— А теперь, — обратился к нему вор, — если я еще услышу твой голос, старая свинья, я тебя обработаю к праздничку! Смеет еще поминать святую деву и свою несчастную жертву!..
На прогулке меня ожидал приятный сюрприз.
Маршируя в паре со специалистом по железнодорожным кражам, я, к великому своему удивлению, услыхал, как меня назвали Меднобородым. Звавший был тюремный сторож, оказавшийся одним из клиентов моей парикмахерской.
— Что вы здесь делаете? — спросил он меня приветливо.
— Прогуливаюсь, — ответил я.
— Проездом, не так ли? И, конечно, за политические дела?
Я отвечал утвердительно.
Сторож подошел к решетке, отделявшей место для прогулок, и сказал мне вполголоса:
— В четыре часа я сменяюсь и тогда пойду предупредить о вашем прибытии Комитет помощи политическим заключенным. Куда вас направляют?
— В Рим, полагаю, на процесс.
— Это хорошо, черт подери! У меня в «Реджина чели»[87] имеется приятель. Я дам вам к нему записочку. Хороший парень, вы увидите. Вы мне тоже когда-нибудь дадите рекомендацию… когда будете депутатом. — И он засмеялся, довольный собственной остротой.
На следующий день я получил от комитета обед с записочкой, в которой было несколько строк приветствия от коммунистической секции. Не могу выразить, как тронул меня этот голос товарищей, от которых я был так долго оторван.
Я молча стоял перед присланной мне корзинкой, в сотый раз перечитывая записочку. Грубый голос сторожа призвал меня к действительности:
— Проверьте, все ли, и распишитесь!
В этот день я ел меньше обычного — содержимое корзинки я разделил между товарищами по заключению.
Через несколько дней мы двинулись дальше. На этот раз мы ехали по городу в открытом фургоне. Проезжая по одному из рабочих кварталов, я заметил, что многие из встречавшихся нам рабочих приветствовали наш фургон — кто рукой, кто помахивая шляпой… Я спросил у моих соседей, есть ли у них знакомые в Анконе. Знакомых у них не было.
— Может быть, они приветствуют карабинеров? — высказал предположение один из арестантов.
— Нет, — возразил начальник конвоя, — они приветствуют именно арестантов. Они знают, что через Анкону проходит много политических, и поэтому на всякий случай приветствуют каждый фургон.
Мы останавливались еще в Джулиа-Нова, в Кастелламаре-Адриатико, в Сульмона и к концу тридцать восьмого дня нашего отъезда из Турина прибыли в «Вечный город», прямехонько в «Царицу небесную».
Я был почти доволен. В этих краях — я это знал — находились мои товарищи: Гриеко, д’Онофрио и другие. И, кроме того, хоть на время оканчивалось мучительное путешествие.
Поздним вечером, почти ночью, меня отвели в камеру, в которой уже находились двое. Отдых был непродолжителен. На другой день после прогулки меня снова отправили на вокзал. Я протестовал, но напрасно.
— Вы поедете в Терамо, так как вас желает видеть тамошний прокурор.
И мы снова поехали с обычными остановками.
Расстояние меньше чем в сто километров я преодолел в четыре дня.
Глава XXXI Терамо. У следователя
Вот и Терамо. Наконец-то «дома»! Тюрьма здесь помещается в старом монастыре. Бывшие кельи превращены в камеры. В одну из таких келий ввели меня поздней ночью. Прочие «жильцы» уже спали. Я тоже уснул. Наутро я осмотрелся. Камера скверная, «жильцы» еще хуже, самые подонки преступного мира. Один из них подошел ко мне и заявил:
— Начальник камеры желает говорить с тобой.
— Что это еще за начальник камеры? Не понимаю, — ответил я.
— Начальник камеры избирается нами. Он наш глава, и мы должны ему подчиняться во всем: ты должен ему покупать, что он тебе прикажет, должен за него убирать камеру. Если нет…
— Если нет? — перебил я, глядя на него в упор.
Разговаривающий со мной замялся, обернулся в сторону остальных, притворившихся не заинтересованными в нашем разговоре.
— Итак, если нет?.. — настаивал я.
— Таковы законы нашего общества, — ответил мой собеседник, делая какой-то таинственный знак рукою.
— Я не понимаю ваших знаков, но прекрасно понимаю, на что вы рассчитываете.
И я обернулся к остальным, сбившимся в кучу.
— Кто из вас начальник камеры?
Мне указали маленького, худенького арестанта, с лисьей мордочкой и пронзительными глазками.
— Послушайте, — обратился я к нему, — вы ошиблись: я не принадлежу к вашему почтенному обществу. Я — политический. У меня нет никакого намерения мешать вам, но я желаю, чтобы меня оставили в покое. Прошу вас это запомнить.
«Начальник камеры» почтительно ответил мне:
— Маэстро, будьте как у себя дома и считайте, что слова, которые вам сказал этот кретин, не были произнесены. Это осел, который сам не понимает того, что говорит; жму вашу руку и прошу считать нас в полном вашем распоряжении.
Мне пришлось пожать с дюжину рук, тотчас же протянувшихся ко мне. Должен сознаться, что впервые за все время моих многочисленных тюремных встреч я сделал это с чувством истинного отвращения. Окружавшие меня преступники могли бы служить для Ломброзо прекрасным материалом для изучения психологии преступности. Нигде, никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким.
Около полудня в камеру заглянул надзиратель.
— Вы вновь прибывший? — спросил он меня.
Я ответил утвердительно.
— Вас поместили сюда временно. Сегодня вечером или завтра утром вас переведут в четырнадцатый номер.
Дойдя до двери, он обернулся, очевидно передумав.
— Соберите ваши вещи. Уборщик, помогите ему перенести нары в четырнадцатый номер!
Когда мы были в коридоре, надзиратель сказал мне:
— Мой милый бородач, вас посадили в прескверную компанию! Эти выродки обвиняются в самых отвратительных преступлениях и продолжают заниматься гадостями даже в тюрьме, несмотря на самый строгий надзор.
— Зачем же вы их держите всех вместе? — спросил я.
Вместо ответа надзиратель только пожал плечами.
В камере № 14 знали, что придет новый, и ожидали, выстроившись у самой двери. В монотонной жизни тюрьмы прибытие новичка — событие: он приносил вести с воли; а обо мне знали от сторожа, что я побывал в Стране Советов. Один из заключенных, симпатичный юноша, оказался товарищем, приговоренным к трем годам тюремного заключения за участие в забастовке в том городке, где он был муниципальным советником.
— Я знаю тебя по имени, — сказал он мне. — Тут тебе будет лучше; правда, политических, кроме меня, нет, но прочие — неплохие ребята, не из той сволочи, что в камере № 11.
С этим я согласился очень скоро. Мне помогли устроить нары, разложиться и затем потребовали рассказать о России. Все слушали меня с глубоким интересом, с волнением, хотя это были простые уголовные. Один из них убил двух лесных сторожей, другой — свою жену вместе с попом, который был одновременно ее дядюшкой и любовником; третий убил соблазнителя сестры. Из двадцати трех заключенных двое (включая меня) были политические, восемь сидели за «нарушение права собственности», остальные — за убийство.
Как водится, каждый рассказал мне свою историю. Один из них ожидал суда двадцать месяцев, другой — два года, третий — тридцать пять месяцев.
— Вы пишете в газете, — говорили они мне, — напишите о нас.
Я обещал.
Уже несколько месяцев я сидел, не зная официально причины ареста; я потребовал свидания с директором тюрьмы и получил его. Это был прелюбезнейший заика!
— Вы н-не прос-сидите дол-л-го, я эт-то з-наю. Чем м-могу с-служить?
— Я хотел бы поговорить с прокурором, — попросил я.
Он предложил мне написать заявление, после чего я ушел обратно в камеру.
Только что я устроился в новом жилище, как меня перевели в одиночку. Больше месяца меня продержали опять-таки без объяснений причин в строгой изоляции, даже на прогулке я никого не мог встретить. Прокурора я, конечно, не видел. Читал и перечитывал все, что можно было достать, но запас книг в тюрьме был небогат: библия, сонник, «Католические миссии в Конго», «Образцовый повар», «Прекрасная Магелона», «Собрание речей Криспи», «Граф Монте-Кристо» и тому подобное.
Каждый день я писал заявления, требуя допроса. Никакого ответа. Как-то я попросил грамматику русского языка. Мне принесли… немецкую! Просил, чтобы мне подстригли бороду, — отказали. Я тогда обратился к прокурору с этой просьбой и тоже получил отказ, мотивированный тем, что я не имею права «менять мои приметы».
Я обратился в «Министерство милости и правосудия»[88], но не получил никакого ответа. Тогда я прибег к последнему средству, употреблявшемуся в подобных случаях: я разбил в камере все, что можно было разбить. На грохот вбежали сторожа, надзиратель, его помощники. Произошло бурное объяснение, в результате которого я очутился в карцере.
Карцер, обычно помещающийся в подвале, на тюремном языке называется «ямой». В сырой и холодной яме нет окна, нары заменены покатой доской без матраца, паек состоит из куска хлеба и кружки воды. Курить нельзя. Книги запрещены. Прогулка раз в два дня в течение часа.
На второй день я потребовал врача.
Врач прибыл и отправил меня в тюремный лазарет. Здесь ко мне явился заика директор, сообщил, что меня скоро вызовут на допрос, и оштрафовал за разбитые вещи на двадцать восемь лир.
Через два дня меня действительно вызвали на допрос.
В небольшом зале за столом восседали трое: королевский прокурор, следователь и секретарь.
— Вы такой-то? — задали мне стереотипный вопрос. — Садитесь.
Я сел.
— Прежде всего мы должны сообщить вам, что вы подвергнуты заключению по двум ордерам, из коих один дан генеральным прокурором апелляционного суда в Милане, а другой — королевским прокурором римского суда.
— От какого числа эти два ордера? — спросил я.
— Первый от шестого января, второй — от седьмого того же месяца текущего года.
— Я ставлю вас, синьоры, в известность, что теперь уже апрель; я протестую против подобной волокиты.
— Вы имеете на это право. Считаю нужным сообщить вам, что я даже не знал, что вы находитесь в Терамо. Я просил туринский трибунал допросить вас, а не прислать сюда.
— Час от часу не легче! — не выдержал я.
— Вы обвиняетесь, — начал прокурор, — в возбуждении классовой ненависти, в подстрекательстве к восстанию против государственного строя. За это вы будете отвечать перед миланским судом. Кроме того, вы обвиняетесь в принадлежности к преступному сообществу и в заговоре против общественной безопасности; за это будете отвечать уже перед римским трибуналом или — этот вопрос еще не решен — перед судом Терамо.
— Для меня это одно и то же, — заметил я.
— По первому делу, — начал торжественно прокурор, — у меня такие вопросы: вы подписали манифест о слиянии с социалистической партией? И вы принимали участие в конгрессе Коминтерна, имевшем место в России?
— Да. Я подписал манифест и был на конгрессе Коминтерна в России. Но что же общего между этими двумя фактами и заговором против государства?
— Вы, значит, признаете это? — в один голос воскликнули и прокурор и следователь.
— Да, да, признаю, но я хотел бы, чтобы вы, синьоры, ответили на мой вопрос.
— Секретарь, пишите! — И, обращаясь ко мне, прокурор попросил: — Будьте добры, повторите ваше показание.
Я повторил.
— Следовательно, вы признаете то, что написано в манифесте, а также и директивы Коминтерна? — спросил королевский прокурор.
— Да, конечно, — ответил я.
— Прокурор и следователь изумленно переглянулись, как бы не веря своим ушам. Они думали, что им придется много поработать, прежде чем я сознаюсь, поэтому и явились вдвоем на допрос.
— Должен заметить вам, синьоры, что принятие директив Коминтерна произошло свыше двух лет назад, то есть когда была основана Итальянская коммунистическая партия, — пояснил я.
Прокурор и следователь снова переглянулись.
— Но знаете ли вы, что значит подписать манифест и следовать директивам Коминтерна?
— Думаю, что знаю.
— Это очень серьезно.
— Почему? — спросил я.
— Хватит. По первому делу допрос окончен. Секретарь, зачитайте показания.
Секретарь зачитал. Я подписал протокол.
— Теперь по второму делу. Вы являетесь членом Итальянской коммунистической партии?
— Нельзя быть делегатом на конгрессе Коммунистического Интернационала, не будучи членом одной из секций, входящих в состав Коммунистического Интернационала. Я член Итальянской коммунистической партии со дня основания.
— Теперь мы должны представить вам некоторые документы, конфискованные у вашего товарища — Презутти.
— Я мог бы заметить вам, что не отвечаю за материал, конфискованный у другого.
Прокурор и следователь переглянулись с некоторым замешательством.
— Знаком ли вам этот документ и принимаете ли вы на себя ответственность за него? — Прокурор торжественно протянул мне… программу Итальянской коммунистической партии.
— Знаком. Ответственность признаю. Но опять-таки должен заметить вам, синьоры, что год назад этот документ был опубликован на страницах наших газет, и за него тогда никто не был арестован. Чтобы покончить с этим, могу заявить сразу, что принимаю на себя ответственность за все подобные «документы», конфискованные у моего товарища, потрудитесь только перечислить их в протоколе. Уже без четверти двенадцать: вы опоздаете к обеду, а я буду есть мою похлебку холодной. Предлагаю на этом закончить.
Никогда мне не приходилось видеть таких изумленных лиц, как у этих чиновников.
— Что за типы вы, коммунисты! — воскликнул следователь.
— Если вы нуждаетесь в чем-либо… — предложил любезно прокурор.
— Я нуждаюсь только в одном: поскорее занять мое место в рядах партии, — ответил я им, подписывая протокол.
Меня отвели обратно в лазарет, а оттуда через два часа — в камеру № 14, обитатели которой встретили меня с радостью.
— Маэстро, — обратился ко мне сосед по нарам, вы умеете писать в газеты, помните вы ваши обещания?
— Великолепно помню, но как это выполнить?
— Мы сегодня раздобыли все необходимое. Все уже приготовлено. Один из сторожей отнесет написанное на почту. Мы уже заручились его обещанием. Вам придется о многом писать здесь.
Они показали мне чернильницу — кусок яичной скорлупы, наполненной чернилами. Ручку заменяла деревянная ложка, с прикрепленным к рукоятке пером. Достали и бумагу. В тот же день я написал первую тюремную корреспонденцию в «Лавораторе», единственную уцелевшую нашу газету в Триесте.
В центре камеры имелся столб, поддерживавший потолок. Я писал, сидя на полу, прислонившись к этому столбу. Некоторые из арестантов стояли вокруг меня, другие держались поодаль, притворяясь мирно беседующими, а один из них сторожил у дверей. Вечером корреспонденция была отослана. Через несколько дней нам удалось раздобыть номер «Лавораторе» с напечатанной корреспонденцией. С этой поры установилось регулярное наше общение с газетой. Эта работа была не только полезна моим товарищам по заключению, но и доставляла мне огромное удовлетворение. Мне казалось, что я снова возвратился после стольких месяцев перерыва к прежней жизни.
Однажды вызвали меня к следователю. На этот раз он был один. Он сообщил мне, что мое дело в миланском суде прекращено.
— Я мог бы послать вам извещение об этом через сторожа, — сказал он мне, — но предпочел вызвать вас сюда… чтобы поболтать немного с вами, если вам это не очень неприятно…
Я ничего не ответил. Он продолжал:
— Скажите, пожалуйста, вы видели Ленина?
Этот вопрос меня не удивил: сколько различных людей задавали его мне с тех пор, как я вернулся из Страны Советов.
— Да, — ответил я, — я видел Ленина, я слышал Ленина, я разговаривал с Лениным однажды вечером у него дома.
Следователь казался пораженным.
— Ленин — великий человек, — наконец сказал он, — и, оказывается, такой доступный? На каком языке вы говорили с ним?
— По-французски. Он знает немного и по-итальянски, говорит по-немецки, понимает английский.
Следователь забросал меня самыми разнообразными вопросами.
— А вы сколько языков знаете? — спросил он меня наконец.
— Несколько, — туманно отвечал я, с интересом наблюдая физиономию любопытствующего следователя, — я выучился им в парикмахерской между стрижкой и бритьем.
— Знаете ли вы, что на днях решается вопрос о вашем процессе? Завязалась борьба между апелляционным судом Аквила, которому подчинены мы, и Римом. Римские юристы хотели бы устроить процесс у себя. Вы понимаете, громкий процесс: конечно, будут знаменитые адвокаты… Идет соперничество.
В этот момент постучали в дверь.
— Войдите! — недовольно закричал следователь.
На пороге показался королевский прокурор. Лицо следователя мгновенно приняло почтительное выражение; он был порядком смущен:
— Милости просим, синьор командор! Я вот тут как раз занят с подследственным разъяснением некоторых пунктов… И, обращаясь ко мне, как будто продолжая расследование, спросил:
— Вам знакомы те статьи Уложения о наказаниях, по которым вы обвиняетесь?
— Да, это те самые, по которым несколько лет назад привлекался к суду нынешний председатель совета министров Муссолини.
— Прошу не касаться его превосходительства Муссолини! — оборвал следователь.
— Я коснулся его только для того, чтобы показать вам, что я действительно знаком со статьями, по которым теперь привлекают меня.
Королевский прокурор промолчал.
— Вы видели, синьор командор, — залебезил перед ним следователь, — сообщение о прекращении дела по миланскому процессу? Что вы скажете об этом?
— Скажу, что я не хотел бы быть на месте тамошнего следователя. — И он, иронически поглядев на меня, повернулся и вышел. Несколько секунд длилось молчание.
— В конце концов, — заговорил я, — непонятно, почему продолжается эта комедия…
— Какая комедия? — прервал меня следователь, находившийся еще под впечатлением замечания прокурора. Он нервно зажег папиросу и повторил: — Какая комедия?
— Комедия следствия по нашему процессу, — ответил я и, вынув из кармана кусок газеты, прочитал: «Не должно быть никаких дискуссий по вопросам внутренней политики. То, что происходит, происходит согласно моей воле и соответственно моим приказам, ответственность за которые я принимаю на себя… Не важно знать, существует заговор или нет». Муссолини сказал это в палате депутатов по поводу нашего ареста. Затем он добавил: «Посидят в тюрьме некоторое время, а затем я их отправлю в Россию!» Это значит, синьор следователь, что юстиции незачем заниматься нами!
Следователь промолчал на это, затем вернулся к волновавшему его вопросу.
— Существует, стало быть, соперничество между Терамо и Римом. Этот заговор открыл я! Я лично вел первые допросы, я же подписал приказ об арестах.
— Благодарю покорно! Это вы, значит, подписали приказ об арестах? Однако существует циркуляр де Боно[89], который гласит следующее: «Ни один арестованный коммунист не может быть освобожден без специального приказа министерства внутренних дел», то есть Муссолини. Ясно? Юстиция получает приказания от полиции! Я констатирую это, нисколько не удивляясь. Теперь вы обязаны держать меня, хотя бы у меня в доме ничего предосудительного не было найдено. И действительно, вы ничего не могли мне предъявить, кроме легальных материалов, к тому же конфискованных не у меня, а у моего товарища.
— Тут имеются политические соображения. Что касается самого дела, то честь его открытия принадлежит мне. Знаете ли вы, что я над ним провел бессонные ночи, я перечитал все ваши бумаги. Я представил заключения по этому делу. Весь этот материал, плод моей упорной работы, теперь хотят использовать другие только потому, что штаб коммунистической партии находится в Риме!
Он был очень забавен, этот человек, потерявший всякую осторожность и изливавший мне, послужившему, так сказать, ступенькой к его славе, все горести своего наболевшего сердца.
— Сражение еще не проиграно! Но если я его проиграю, я вас выпущу, увидите! Я не потребую продления вашего ареста по истечении срока предварительного заключения! — пригрозил он, красный от негодования.
— Не возражаю, — сказал я. — Но если даже вы и проиграете сражение, вы нас не выпустите. Вы тогда припомните, что я ваш классовый враг.
— Посмотрим!
И с этим многообещающим восклицанием следователь отослал меня в камеру.
Глава XXXII «Саveo signator!». Встреча с фашистом в тюрьме
В каждой итальянской тюрьме имеется свой поп, который по воскресеньям служит обедню, заведует тюремной библиотекой, напутствует умирающих, дает советы тем, кто хочет его слушать, и шпионит за заключенными. Он же является и их защитником перед тюремным дисциплинарным судом, когда они совершают какой-либо проступок.
Поп нашей тюрьмы был неприятной личностью. С арестантами он обходился грубо, меня же буквально не выносил: я не целовал ему руку и не ходил к обедне.
Однажды он зашел в нашу камеру.
Я знал его раньше по библиотеке. Все встали при его появлении, кроме меня.
— Почему вы не встаете? Разве вы не понимаете ваших обязанностей по отношению к старшим? — строго заметил он.
— Не понимаю, — ответил я.
— «Когда старший входит в камеру, заключенные должны при его появлении встать», — процитировал он гнусавым голосом.
— Весьма возможно, — возразил я, — но я никогда не видел тюремных правил.
И остался сидеть.
На следующий день в камере вывесили правила.
Подошел какой-то большой религиозный праздник. Почти все арестанты по этому случаю исповедовались. В нашей камере из двадцати четырех человек исповедовались только двое. Поп был разъярен.
— Это ваша вина, — объявил он мне.
— Почему?
— Вы ведете здесь антирелигиозную пропаганду!
— Я? По-видимому, вера моих товарищей была неглубокой, если смогла исчезнуть в такое короткое время, — возразил я ему.
— Любопытно было бы выслушать ваши аргументы против религии. Можете изложить их мне.
— Охотно, если бы мы были в равных условиях. Но согласно тюремным правилам вы старший, а в таких условиях свободная дискуссия невозможна.
Разговор происходил во время прогулки. Кроме арестантов и попа, во дворе находились один из канцелярских служащих и старший надзиратель.
— Мы можем разговаривать, как двое равных, — торжественно заявил поп, которому, очевидно, очень хотелось «посрамить коммуниста».
Мы начали с сотворения мира, но кончили дисциплинарным тюремным судом.
Произошло это потому, что при одном моем ироническом замечании рассерженный служитель господа, очень быстро начавший терять почву под ногами, воскликнул по-латыни: «Caveo signator!»[90]
— Переведите-ка эти слова, — потребовал я.
Поп, не ожидавший, что я мог понять его латынь, молчал.
— Переведите, иначе переведу я.
Поп чувствовал себя неловко, но молчал.
— Ладно! — заявил я, обращаясь к арестантам и указывая на попа. — Этот мерзавец, не находя больше возражений, позволил себе перейти на личные оскорбления…
— Молчать!.. — закричал поп. — Вы забыли, кто я.
— Вы мерзавец! — повторил я.
Канцелярист куда-то исчез. Надзиратель с растерянным видом ожидал приказаний. Арестанты с интересом наблюдали сцену.
— Я ваше начальство…
— Вы мерзавец! И вы еще обещали спор на равных условиях!
— Отведите его в карцер, — нашелся наконец поп.
И я вторично попал в «яму», где и просидел несколько дней. Меня вызвали в дисциплинарный суд, состоявший из директора тюрьмы, старшего надзирателя и секретаря. Там же находился и поп… в качестве моего защитника!
— В-вы ос-скорб-били почтеннейшего н-нашего настоят-теля, — строго заявил директор. — Ч-что вы м-можете сказать в с-свое оп-правдание?
— Прежде всего я отказываюсь от защитника, которого я уже квалифицировал достойным образом. Затем должен сообщить, что оскорбленным в данном случае являюсь я. Эпитет «мерзавца», который я здесь подтверждаю, был только определением поступка вашего настоятеля!
Меня отправили обратно в карцер и пригрозили привлечением к суду, уже не тюремному. В карцере, на хлебе и воде, на этот раз меня продержали долго; не помог и вызов врача. Я расхворался. Дни тянулись мучительно долго: ни книг, ни папирос. Минутами я боялся потерять рассудок.
Наконец меня выпустили. В коридоре мне встретился директор.
— М-мне оч-чень жаль, ч-что так в-вышло, но вы слишком уж б-бранились! Правила… — Он был очень любезен. — Там, в конторе, в-вас спрашивает д-депу-тат… з-забыл его имя… П-почему вы выз-звали депутата? Разве у вас им-меются претензии?
— Я никакого депутата не вызывал, и претензии, когда они у меня имеются, я привык высказывать сам — вам достаточно хорошо это известно. Кто этот депутат? Теперь понимаю, почему меня освободили из карцера!..
— В-вы сможете идти в четырнадцатый номер… А т-теперь пойдемте в контору.
Директор был озабочен: депутат парламента хочет говорить с одним из арестантов. Титул депутата пользуется большим почетом в Италии, особенно в провинции.
Таинственный депутат оказался моим старым школьным товарищем, рабочим, прошедшим в палату депутатов от максималистов.
— Какой добрый ветер принес тебя сюда? — обрадованно приветствовал я его.
— Проездом. Узнал, что ты здесь, и захотел повидаться с тобой.
— Я не-не м-мешаю? — почтительно вытягиваясь, спросил директор.
— Нисколько.
И я, внутренне потешаясь, представил его депутату.
— Такая ч-честь… Не п-пожелает ли онореволе осм-мотреть тюрьму? Я б-буду с-счастлив п-проводить в-вас…
Директор на радостях заикался больше обыкновенного. Депутат обещал осмотреть. Это был хороший парень; у него, правда, закружилась немного голова в Монтечиторио[91], но некогда он был неплохим пропагандистом. Рабочие Мондови многим обязаны ему. Мы часто проводили совместные митинги на площадях, вместе нас арестовывали, вместе и избивали… Ливорнский съезд нас разъединил.
Мы с ним еще долго беседовали. Потом он заявил мне на пьемонтском диалекте:
— Надо пойти с директором осмотреть тюрьму… Потом я зайду к тебе проститься.
И он ушел с директором, а я вернулся в камеру № 14, к искренней радости ее обитателей. Они уже знали о приезде депутата и забрасывали меня просьбами.
— Маэстро, — просили те, кто по нескольку лет ждал суда, — расскажите ему о нашем деле.
— Хорошо было бы ему сказать про хлеб и похлебку.
— Замолвите за меня словечко!
Для них депутат был чем-то вроде всемогущего бога! А он даже не зашел в эту камеру: вызвал меня еще раз в приемную, попрощался и уехал.
Как-то мне предложили зачислить меня в тюремную канцелярию на предмет писания писем для неграмотных арестантов, примерно восемьдесят процентов которых не умели писать.
— Вы будете помощником нашего писаря, без жалованья. Но если дело пойдет хорошо, сможете стать потом даже писарем. Теперешний наш писарь уже стар и долго не протянет. Тогда вы будете получать и жалованье — сорок чентезимов в день! — сообщил мне по секрету канцелярский сторож. Очевидно, передо мной открывалась блестящая тюремная карьера.
Я принял место.
Ежедневно проводил я четыре часа за писанием писем. Сколько горя, сколько страданий узнал я за это время! Арестанты выкладывали всю душу, сообщая мне то, что я должен был потом пересказать их матерям, женам, детям… Я облекал эти повествования в форму, доступную автору и будущему читателю, и прочитывал это потом автору, который слушал, затаив дыхание.
Интересная деталь: не умели писать обычно убийцы, совершившие преступление в состоянии невменяемости; воры почти все были грамотны.
Кроме писем родным я писал также всякие просьбы, заявления, прошения.
Эти люди, среди которых были каторжники с тридцатилетним стажем, относились ко мне, владеющему магическим искусством письма и их сердечному поверенному, с необычайным уважением и однажды доказали мне это на деле.
В нашей тюрьме, как и в прочих тюрьмах Италии, не было фашистов, преступления которых, даже самые что ни на есть уголовные, обычно рассматриваются властями… как «патриотические эксцессы». Все же несколько уж очень проворовавшихся фашистов, собравших с доверчивых патриотов и перепуганных граждан кругленькую сумму в семьдесят тысяч лир от имени одного несуществующего комитета, попали на скамью подсудимых.
Один из них после приговора очутился в нашей камере. Это был высокий двадцатичетырехлетний блондин, хорошо одетый, с фашистским значком в петличке. Держался он важно и объявил себя… жертвой политики.
Когда он прибыл, я находился в канцелярии, и я очень удивился, найдя в нашей камере фашиста, да еще и со значком. Учтя наличие двух столь разных течений, арестанты высказали пожелание устроить диспут.
— Я готов! — согласился я.
— С коммунистами мы разговариваем только дубинками! — заявил гордо фашист.
— И числом не меньше двадцати против одного! — пояснил я.
Фашист смолчал, и наш диспут этим ограничился. В тюрьме под руководством одного из заключенных я выучился лепить разнообразные вещицы из мякиша. Я сделал себе коммунистический значок, раскрасив красными канцелярскими чернилами серп и молот. Моим товарищам по камере значок очень понравился, к вечеру такие значки красовались уже на груди у всех.
На следующий день во время утреннего обхода камер мы, как всегда, стояли каждый у своих нар. Старший надзиратель, заметив мой значок, воскликнул:
— Как вы нынче элегантны!
По мере обхода, однако, он увидел второй значок, третий, четвертый…
— Понимаю… — многозначительно процедил он и, сняв фуражку, стал собирать в нее наши значки. Когда очередь дошла до фашиста, тот запротестовал:
— Как, вы у меня отбираете мой значок?!
— И у вас, как у других! Будете носить его, когда выйдете отсюда, — ответил надзиратель и отобрал значок.
Когда обход удалился, фашист подошел ко мне.
— Я понял великолепно! — прошипел он.
— Это было нетрудно, — подтвердил я.
Фашист был готов кинуться на меня. Один из моих клиентов, дюжий горец, отбывавший наказание за двойное убийство, приблизился к нему и, сбив с него шапку, произнес:
— Когда разговариваешь с ним, снимай шапку!
Фашист побагровел, поднял с пола шапку и снова надел ее. На этот раз уже не одна шапка, но и ее владелец свалился на пол. Он поднялся и хотел схватить кувшин, в котором держат воду в камерах, но новый удар швырнул его обратно на пол.
На этот раз он остался лежать. Остальные глазом не моргнули, делая вид, что не замечают происходящей сцены. Я остановил рассвирепевшего горца.
— Маэстро, — возразил он, — у нас равные условия: у обоих по паре рук. Пусть защищается! Но эти негодяи только тогда дерутся, когда их большинство!
И, обращаясь к фашисту, добавил:
— Теперь можешь идти и жаловаться надзирателю, но помни, что с «падалью», в какую бы камеру она ни попала, обращаются одинаково: у нас здесь свои законы!
Фашист, сидя на полу, вытирал кровь, струившуюся из носа. Потом он поднялся и, не говоря ни слова, лег на нары.
Глава XXXIII Процесс 1923 года
Вопрос о месте, где надлежало быть процессу, решился в пользу Рима. Следователь из Терамо проиграл сражение! И зол же он был!
В ожидании отправки на процесс я усердно изучал материалы по «делу», которые были приложены к обвинительному акту. Превеселое это было чтение! Материалы состояли из донесений комиссаров и агентов полицейской охраны; любовно подобранные по лицам и датам, эти донесения составили семьдесят восемь тетрадей!
Интересны списки конфискованных при обысках книг. Тут и «Кодекс законов об инвалидности», и «Собрание новелл», и «О фабрикации спирта», и «История Италии», и «Маленькие герои», и «Камо грядеши», и «Виконт де Бражелон» Дюма…
Один товарищ был арестован потому, что в его доме нашли брошюру «Тезисы и структура Коммунистического Интернационала», опубликованную издательством «Аванти» в 1919 г. У другого конфисковали четыре фотографии, приложенные к делу в качестве вещественного доказательства: фотографию его самого, Ленина, Бомбаччи[92] и Малатеста[93]. У меня конфисковали либретто оперы Верди «Бал-маскарад».
Страсть к раскрытию тайных шифров и изысканию всякого рода революционных «документов» временами заводила сыщиков очень далеко. Вот любопытная страничка из донесения одного из агентов:
«Пройдя в уборную, я увидел в дыре бумажку. Я извлек ее и констатировал, что она была написана на машинке и подписана условным именем «Лорис». Судя по тому, что она не была совершенно мокрая, можно было заключить, что она была брошена недавно.
Надеясь найти другие документы, я заставил открыть яму, но так как она была переполнена, мне не удалось более ничего найти».
Что за широкие горизонты раскрывались перед итальянской полицией!..
Один из товарищей, спасаясь от слежки, выбросил в канал бумажный сверток. Сообщение комиссара об этом гласит:
«Я велел исследовать канал от церкви св. Фустино до моста Каза Леоне. Без результатов. Тогда велел спустить воду и обследовать дно, но результат был опять отрицательный».
Все эти и подобные сообщения были приложены к делу. Это было тщательно документированное и обоснованное дело, в нем не хватало только сообщения о конфискованных у обвиняемых денежных суммах… сведения о которых не удалось получить и по окончании суда.
Процесс приближался. Я получал несметное количество писем от адвокатов, предлагавших свои услуги.
«Я не коммунист, — писал мне один из них, — но я стою за справедливость и не потребую с вас ни одного сольдо».
Почти все письма были подобного содержания. Один из адвокатов явился даже лично в тюремную контору. Это был молодой человек, показавший мне газеты с отчетами о процессах, на которых он фигурировал в качестве защитника.
— Напрасно беспокоились, — сказал я ему, — в случае необходимости мы смогли бы защищаться и сами, но партия уже подумала о нашей защите.
— Да, конечно, но беспартийный защитник лучше. Партийный должен создать из дела политический вопрос, тогда как я могу подвести под него чисто юридическую базу. Процесс я уже изучил…
Но я отказался от его услуг.
В одно прекрасное утро — действительно утро было великолепное — в комнату, где я писал письма заключенным, торопливо забежал сторож и шепнул мне с таинственным видом:
— Вас выпускают! Ш-ш-ш! Сам директор хочет вам сообщить об этом…
И исчез. Немного времени спустя ту же новость и с точно такими же предосторожностями сообщил мне помощник надзирателя, потом сам надзиратель, затем секретарь. Когда директор тюрьмы сообщил мне официально эту новость, о ней знали уже все товарищи из коммунистической секции Терамо… Кроме меня, освободили еще двух товарищей.
Товарищи по камере огорчились разлукой со мной, хотя и радовались за меня. Сколько теплых и искренних пожеланий услышал я от них!..
В коридоре мне встретился следователь.
— Ну-с? — торжествующе спросил он с видом человека, который сдержал свое слово.
На процесс я явился свободным гражданином. Но до процесса успел еще раз просидеть две недели за «оскорбление короля». Оказалось, однако, что этого рода «преступники» уже были амнистированы. Меня выпустили как раз накануне моего отъезда в Рим.
Это был действительно крупный процесс. Газеты уделяли ему много места. Зал заседаний суда и его коридоры все время были переполнены. Процесс продолжался десять дней.
В течение всего этого времени два раза в день менялась группа полицейских, занимавших место неподалеку от обвиняемых. Это не были ни конвойные, ни охрана: их присылали из различных углов Италии, для того чтобы они получили «личное представление» о государственных преступниках.
Нам пришлось выдержать борьбу с осаждавшими нас адвокатами. После долгих усилий удалось ограничить их число девятью.
Бордига по общему нашему уговору должен был произнести речь, остальные — ограничиться краткими заявлениями.
Речь Бордига, длившаяся полтора часа, произвела большое впечатление; в сущности его речь, а не речь прокурора была обвинительным актом.
Роль полиции на процессе была весьма печальна. С знаменитыми «шифрованными документами» она окончательно оскандалилась. Один из ее свидетелей похвастался, будто он расшифровал некоторые вменяемые нам в вину письма, так как он вместе с этими письмами нашел при обыске и ключ шифра. Этот свидетель, важная шишка из полиции, даже прославился мнимым своим искусством расшифровывать революционные документы. Увы, на процессе слава его лопнула, как мыльный пузырь, под огнем настойчивых вопросов товарищей. Они приперли его к стене своими рассуждениями о криптографии, при одном названии которой злосчастный полицейский, вспотевший, как мул в упряжке, почувствовал себя совершенно уничтоженным.
Мы ожидали сурового приговора и… были освобождены. Все, даже несколько обвиняемых по другому процессу. Тогда судебный аппарат не стал еще окончательно фашистским и придерживался буквы закона.
Когда председатель зачитал постановление о нашем освобождении, весь зал разразился рукоплесканиями. Командовавший нарядом карабинеров поручик с большим трудом удерживал своих подчиненных от выражения интереса и симпатий к обвиняемым. Муссолини, который, узнав об освобождении Серрати, обвинявшегося вместе с нами по миланскому процессу, сказал: «Если бы я мог предвидеть его освобождение, я направил бы к тюремным воротам фашистский отряд», и на этот раз не мог быть доволен римской юстицией. Тот факт, что вскоре он заменил ее более для него удобным Особым трибуналом, ясно доказывает это.
По освобождении я не поехал в Фоссано, так как получил сведения о том, что полиция снова меня ищет. Прямо из Турина по распоряжению партии я выехал в СССР. На этот раз без разрешения итальянского правительства.
Глава XXXIV Снова в Советской стране. Моя… смерть!..
Тяжелый удар ждал меня в России. Первая острая радость от пребывания в дорогой мне стране через несколько дней сменилась чувством тяжелого, безутешного горя: умер Ленин.
Я никак не мог этому поверить, я так хорошо помнил его живым! Казалось, так еще недавно я встретился с ним в кремлевском коридоре… И теперь увидеть его неподвижным среди непрерывного потока людей в Колонном зале!..
Но надо было жить и работать, вдвойне работать, потому что ушел он…
В Москве я нашел старых друзей: Серрати, Грамши. Серрати вернулся к нам: сбылось предсказание Марабини!..
Иногда по вечерам мы с Серрати вспоминали старые битвы. Он рассказывал отдельные случаи из своей богатой революционными приключениями жизни в Америке, во Франции, на далеких океанских островах, в Швейцарии…
— Где ты познакомился с Муссолини? — спросил я у него в один из таких вечеров.
— В Швейцарии. Потом знал его и в Италии. В эмиграции он всегда держался особняком, был угрюм, молчалив, любил позировать. К работе питал отвращение и предпочитал жить за счет товарищей. А работа в эмиграции не легка. Я целые дни тогда пропадал, носился из края в край республики, а он сидел у меня дома, бездельничал. Я всячески старался его приохотить к нашей работе, но он только пожимал плечами. Мелкая, ежедневная, кропотливая работа организатора была ему не по душе: подавай ему размах, командное положение, аплодисменты. В Италии он продолжал бывать у меня, работал плохо… все мечтал о журнале, о трибуне. Помню, когда я отказался от руководства одной провинциальной газетой — отказался потому, что не мог оставить другую партийную работу, — он примчался ко мне. Меня не было дома. Он полетел по указанному адресу, разыскал меня и стал просить рекомендовать его взамен себя, соглашаясь на меньшую даже оплату.
Серрати говорил о Муссолини чрезвычайно спокойно, покуривая при этом сигару.
— Он мечтал всегда о газете. И получил «Аванти». Но он пытался предать ее врагам пролетариата. Это ему не удалось. Тогда он разрушил ее.
При этом воспоминании голос Серрати меняется и брови сдвигаются. На мгновение он смолкает, затем тихо, медленно, как бы про себя:
— Я… я нанес ущерб партии, но вовремя спохватился. У меня впереди несколько лет, я исправлю еще то зло, которое причинил, не правда ли? Но он… он наградил тех, кто разгромил «Аванти».
Серрати встал и заходил по комнате.
— Наступают тяжелые времена. Что ж, поборемся, не так ли Меднобородый?
И он снова спокоен, улыбается.
— Расскажи-ка мне какую-нибудь историйку о Кунео!
Мы переходим к более веселым темам.
— Помнишь, как ты, в твоих горах, выступал на собрании против меня? — вспоминает он.
Помню ли я? Еще бы!
Как-то, возвращаясь с поездки по нашей провинции, я должен был задержаться в одной горной деревушке из-за поломки велосипеда. Оказалось, что в этот вечер здесь выступал Серрати, тогда максималист. Никого из коммунистов не числилось в списке ораторов, и я решился остаться на собрании. Как был удивлен Серрати, неожиданно встретившись со мною! У меня с собою совершенно случайно оказалось несколько номеров старого «Аванти» со статьями — и весьма боевыми — самого Серрати. Цитатами из этих статей я опровергал Серрати в тот вечер. Серрати был побит Серрати же!
— Этакая каналья, — говорит Серрати, — ты ведь мой ученик! — и смеется детским смехом.
Вскоре он уехал в Италию — на передовые позиции.
Мы проработали с ним рука об руку еще два года… до самой его смерти.
Во время этой моей поездки в Россию я… умер. Произошло это по двум причинам, одной из которых были размеры СССР, а второй — рассеянность моей родственницы.
Я работал в руководстве Профинтерна. Свой отпуск я решил посвятить ознакомлению со страной: предпринял весьма приятное путешествие по Волге, двигаясь, таким образом, с запада на восток. Возрастающее согласно законам географии расстояние между мной и моей родиной явилось причиной того, что моя мать не получала в течение трех недель моих писем, которые я, однако, писал ей регулярно раз в неделю. Случилось так, что в это же самое время мой брат получил от жены одного родственника, гостившего перед этим у него, телеграмму следующего содержания: «Твой брат скончался». И ни одного слова объяснения! Так как нас в семье только два брата, то было ясно, что речь идет обо мне! Он навел справки в редакции «Унита» и получил малоутешительный ответ: «Не имеем известий, наведем справки». Ни Коминтерн, ни Профинтерн ничего не могли добавить к этому. От матери скрывали печальное известие, но потом из боязни, чтобы она не узнала это из чужих уст, решили сообщить ей. В буржуазных газетах появились обо мне некрологи. Муниципалитет, где я числился муниципальным советником, даже вывесил флаг с траурной каймой. Не всякому при жизни бывает оказана такая честь! И не каждый имеет удовольствие читать некрологи о собственной особе. Смею уверить, что это были чрезвычайно доброжелательные некрологи, в которых меня называли «хорошим, честным противником», «отважным, бесстрашным бойцом за свои идеи, шедшим за них в изгнание и на каторгу», и тому подобное. Весьма приятно…
В самый разгар этой траурной кампании выяснилось, что телеграмма была послана гостившему у брата родственнику и сообщала она о смерти его брата.
Тут подоспела наконец и пачка моих волжских писем. Бедная моя мать чуть не умерла от радости. А в Москве, куда через итальянские газеты тоже дошла было весть о моей смерти, встретившийся со мной на лестнице товарищ из Индо-Китая Нгуен Ай Куок (Хо Ши Мин) чуть не упал в обморок.
— Ты жив!
— Как видишь! — ответил я.
Глава XXXV Римский салют
Через несколько месяцев после моей «смерти» я возвратился на родину.
Поэты и националисты называют Италию «садом Европы», но сад этот охраняется недобрыми садовниками, поливающими цветы его кровью трудящихся.
Передо мной встала задача проникнуть в оный сад без ведома охраняющих его.
Жителям пограничных местностей разрешается проезд с одной стороны границы на другую по специальным пропускам сроком на двадцать четыре часа. Выдаются эти пропуска довольно легко, особенно «приличным» персонам. По этой причине я оделся снобом, нанял автомобиль, закурил сигару потолще и с видом благонамеренного буржуа предстал перед дежурным чиновником таможни. Машина, толстое кольцо с фальшивым брильянтом на пальце и сигара, предложенная чиновнику, возымели магическое действие. Пропуск был мне немедленно выдан, и через несколько секунд моя машина остановилась перед пограничным постом, находившимся ужена итальянской земле. Часовой, даже не взглянув на пропуск, махнул рукой и произнес:
— В порядке, проходите!
Машина двинулась было, когда некий синьор, одетый в черное, вышел из домика, где помещался пограничный пост, и направился ко мне.
— Куда едет господин? — любезно спросил он на невозможном французском языке, который я смог понять только потому, что был итальянцем. Я назвал ближайший городок не без тайного опасения, так как вид этого субъекта не внушал мне доверия.
— Я пограничный комиссар, — сказал он, представляясь, и хотел взять на себя смелость попросить вас подвезти меня до X***, если это вас не обеспокоит.
— Помилуйте, нисколько!
Я пригласил его в автомобиль и принялся угощать сигарами. Дорогой комиссар, храбро пробираясь сквозь дебри языка, разговорился.
— Знаете ли, я плохо говорю по-французски, — признался он. — Я изучал этот язык, когда был еще мальчиком, много лет не было никакой практики…
— О нет, вы говорите очень точно; конечно, вам нужно упражняться, — безбожно врал я. Три четверти слов моего комиссара были даже не итальянские, а перлы южных наречий с примесью нескольких тосканских ругательств. Француз, конечно, ни за что не понял бы его. Обрадованный моей похвалой, комиссар, имевший в петличке фашистский значок, заливался соловьем… Я с видом настоящего иностранца-туриста рассматривал окрестности.
— Какие чудесные места! — восклицал я время от времени.
Места действительно были красивые… Комиссар, развалясь на подушках автомобиля, сиял:
— О, вы увидите, дальше еще прекраснее!
И в этом он был прав. При въезде в одну деревню я увидел, однако, иную, хорошо знакомую мне картину: карабинеры и фашистская милиция вели четырех человек, избитых и связанных. Начальник фашистов, подняв вверх дубинку, велел нашему шоферу остановиться, а нам выйти из автомобиля, но, узнав комиссара, разрешил нам следовать дальше и отсалютовал нам по-римски[94]. По дороге комиссар умиленно говорил мне о Муссолини. Наконец я освободился от него в X ***.
Прощаясь со мной, комиссар спросил:
— А когда вы собираетесь обратно?
— О, к вечеру я хочу быть дома. Я обедаю в Х***,— немножко покатаюсь по окрестностям, чтобы полюбоваться красотами вашей прелестной родины, и затем обратно.
— Если бы вы смогли захватить меня на обратном пути и довезти до границы, — попросил комиссар, — я был бы вам бесконечно благодарен.
— Весьма охотно, это для меня такое удовольствие! — и, вынув блокнот, я пресерьезно записал имя комиссара, название улицы и кафе, где он должен был ожидать меня, и час нашей встречи.
— Весьма благодарен вам! — растроганно повторил комиссар, прощаясь со мною римским салютом.
Я так и не узнал, сколько времени прождал он в кафе.
Глава XXXVI В подполье. Ячейки… в чемоданах
В Италии я должен был взяться за работу в Национальном профсоюзном коммунистическом комитете[95]. Эту работу мы старались вести по возможности открыто, тогда как всякую другую организационную работу вели уже в подполье. Это был тот период, когда фашисты, несколько притихшие было после взрыва общественного негодования, вызванного подлым убийством Маттеотти[96], начали поднимать голову, наглея пуще прежнего. Общественное негодование так и не вылилось ни в какую ощутительную для чернорубашечных бандитов форму. Компартия предлагала социалистам и реформистам объявить всеобщую забастовку. В ответ на это Всеобщая конфедерация труда во главе с ее секретарем д’Арагона, уже однажды «спасшим Италию», призывала… к спокойствию, увещевая рабочих, серьезно взволнованных фашистским террором, «не поддаваться на провокацию» коммунистов.
Реформисты — партия, к которой принадлежал убитый Маттеотти, — открыто высказывались против забастовки. Социалисты колебались и не высказывались. На призыв к забастовке откликнулись рабочие больших промышленных городов: Милана, Генуи (порта), Турина и отчасти Рима.
«Авентино» — парламентская коалиция из социалистов, реформистов, республиканцев и «пополари», которые вместе с коммунистами в знак протеста вышли из парламента, — всполошилась и открыто поносила коммунистов, которые вместо «демократического» способа — (читай: парламентской болтовни) сплачивали рабочие массы для активных выступлений.
Исполнительный комитет компартии 10 июня, в день, посвященный памяти Маттеотти, призывал рабочих на революционные демонстрации. Всеобщая конфедерация труда приглашала рабочих приостановить на десять минут работу! К этому невинному способу «протеста», избранному д’Арагона, присоединились… Конфедерация промышленников и фашистские профсоюзные организации.
Реформисты со своей стороны не пожелали вовсе обратиться к массам и поставили вопрос о «моральном осуждении» убийства. Муссолини вздохнул свободно. Таким образом, д’Арагона и компания снова… «спасли Италию», на этот раз фашистскую.
Вот в какой обстановке я возвратился на родину.
И все же мне удалось около двух месяцев продержаться на легальной работе. Работа была неимоверно затруднена, так как, помимо того что фашисты всячески старались удушить последние остатки нашей организации, по самому ходу работы нам, еще не ушедшим в подполье, необходимо было постоянно общаться с товарищами-подпольщиками. Слежка за нами была непрерывная, так как через нас фашистская полиция разыскивала и подпольщиков, и организована эта слежка была уже не так, как в блаженные времена доверчивых бригадиров жандармерии и красноречивых комиссаров полиции, когда буржуазия была растеряна и запугана.
В один из таких напряженнейших дней явился ко мне некий индивидуум, объявивший себя «товарищем».
— Иди на Пьяцца Миссори, там один товарищ должен вручить тебе паспорт.
— Никакого паспорта я не должен получить, — удивился я и не пошел, конечно.
Немного спустя явилось уже несколько субъектов. Один из них предъявил мне удостоверение агента политической полиции. С револьвером в руке он скомандовал мне:
— Руки вверх! — Затем, тщательно обыскав, спросил: — Где паспорт?
— Какой паспорт? У меня его нет.
— Пойдемте с нами! — снова скомандовал он, и мы направились в префектуру Сан-Феделе.
Там у меня опять потребовали паспорт, с которым я вернулся в Италию. Паспорта у меня, конечно, не было.
— Вы были в России. Каким образом вы смогли приехать обратно? — допрашивали меня.
— Без паспорта, — ответил я.
— Каким путем?
— Через границу. Но предупреждаю, что не скажу, как именно, так что и не старайтесь.
Меня отпустили, но приставили ко мне постоянного агента, что окончательно отравило мне существование. К этому присоединились еще частые «задержания» — каждый раз на несколько дней. По случаю приездов то короля, то наследника, то Муссолини, часто посещавшего Милан по личным делам, неизменно производились операции «изъятия из обращения» неблагонадежных. Делать что-либо в Конфедерации труда становилось совершенно невозможно. Последний призрак жалкой «свободы» профсоюзной работы рассеялся. Мы — коммунистическое меньшинство в Конфедерации труда — несколько раз поднимали вопрос о переносе организационной базы конфедерации непосредственно на фабрики. Но и реформисты и максималисты с трогательным единодушием отвергали всякий раз наше предложение. Еще со времени введения рабочих комитетов на предприятиях реформисты проявляли довольно слабый интерес к фабрике как базе организационной работы: они боялись успехов коммунизма в подобной обстановке. И не без основания: в Турине на выборах комитетов коммунисты обыкновенно побеждали реформистов и фашистов. В отместку за это фашисты упразднили рабочие комитеты, а реформисты постарались сорвать наше предложение о созыве фабричной конференции для организации сопротивления реакции, в чем и преуспели при благосклонной поддержке Конфедерации труда.
Забастовка металлистов в марте 1925 г. наглядно подтвердила необходимость коренного преобразования наших организаций.
Забастовку эту под давлением масс объявили… фашисты в своих профсоюзах. Дело было в Брешии. Местное отделение профсоюза металлистов дало распоряжение бастовать. Реформисты на заседании конфедерации подхватили лозунг. Таким образом, из Брешии забастовка распространилась на Ломбардию, Пьемонт, Венецию, Джулию и часть Лигурии, то есть на главнейшие промышленные центры Италии.
Фашисты перепугались. Правительство, надеясь разъединить и дезорганизовать рабочих, заняло помещения Палаты труда, нашего комитета и запретило выход газет «Унита», «Аванти» и «Джустиция». Нас усиленно разыскивали. Буоцци, секретарь федерации металлистов, потерял всякую связь с рабочими. Исполнительный комитет Палаты труда тоже утерял контакт с массами.
Реакция свирепствовала вовсю. Сопротивление рабочих масс росло, но, когда движение стало почти всеобщим, реформисты капитулировали перед буржуазией и сорвали забастовку. Сообщение федерации металлистов, призывавшее рабочих возобновить работу, было перепечатано всеми фашистскими газетами! В сообщении этом признавалось, однако, что масса целиком откликнулась на призыв к забастовке, и отмечалась дисциплинированность рабочих…
В этот период наиболее безопасным для нас местом был центр города. Мы встречались в ресторанах и кафе, обычно посещаемых крупными коммерсантами, здесь же мы виделись и с реформистами, совершенно растерявшимися. Они не могли сами без нашей помощи даже напечатать прокламации!
Несмотря на все возрастающие трудности работы, нам удавалось иногда даже устраивать выступления перед широкой рабочей аудиторией в городе. Делалось это, конечно, внезапно, наскоком и почти всегда оканчивалось арестом. Но загородные массовки и собрания не прекращались. По вечерам, по окончании трудового дня, рабочие со всеми предосторожностями выбирались далеко за город, в лес, в горы. Особенно удобно бывало это по воскресеньям под предлогом загородной прогулки. И полиции редко удавалось помешать таким собраниям.
Положение уцелевшей нашей печати было далеко не завидным: обыски, избиения, аресты редакционного и типографского персонала были заурядным явлением.
Редакция газеты «Унита» несколько раз подвергалась разгрому. То же самое происходило с издательством и с помещением коммунистических профсоюзов. В этом помещении чаще других находились товарищи Серрати, Роведа[97], Каррето[98], Террачини и я с моей собакой. Собраний здесь, конечно, никаких нельзя было проводить; работа по связи все же велась, но она была организована так, что следы ее легко было спрятать при появлении фашистов: в помещении были свои потайные места, немногие же текущие бумаги обыкновенно исчезали за корсажем нашей машинистки.
Это был период, когда компартия вела усиленную работу по организации коммунистических ячеек на предприятиях среди рабочих. Об этой нашей деятельности полиция, конечно, догадывалась, и главной ее заботой стало разыскивать эти ячейки. Но о самих ячейках она имела довольно туманное представление. В порядке дня работы полиции стоял лозунг: «Ищите ячейки». Но что это за «ячейки»? Агенты полиции вербуются в Италии по преимуществу из рядов безработных, пришедших из южных деревень, малограмотных и всегда чувствующих себя растерянными на «далеком севере». Что понимали они в коммунизме и его «ячейках» в больших городах? Первое время они боятся автомобилей и прохожих, потом засматриваются на витрины, на декольте проституток, на кафе и кинематографы. Невольно соблазняет их возможность дарового пользования всеми этими «благами земными» и возможность кое-чем похвастаться перед своими односельчанами по возвращении домой.
Миланский начальник полиции, учитывая состояние мозгов своих подчиненных, собрал их для инструктажа по вопросу о ячейках. Но по окончании его разглагольствований, закончившихся обычным «Да здравствует дуче»[99], бедняги понимали еще меньше, чем до инструктажа. Начальник полиции, без сомнения, был неплохой оратор; его беда заключалась в том, что он и сам толком не понимал, что такое «ячейка».
Воодушевленные докладом начальника полиции, полицейские с удвоенным усердием пустились на поиски таинственных ячеек. В порыве усердия и по установившейся уже привычке они заглянули и к нам.
Я вместе с Террачини спокойно работал, когда в помещение ворвался отряд полицейских.
— Руки вверх!
Начался обыск, сначала личный, затем помещения. Как всегда, перевернули все вверх дном, и вдруг — о восторг! — в одном из стенных шкафов нашли два чемодана. Торжествующие полицейские потребовали, чтобы мы их открыли. Ни у кого из нас не было ключей от этих чемоданов, мы даже не знали, чьи они, и поэтому отказались их открыть.
— Идите с нами! — приказал нам комиссар. И нас увели сияющие полицейские, унесли и чемоданы.
По дороге комиссар, обращаясь к Террачини, сказал:
— На этот раз, синьор адвокат, вы проиграли: мы их нашли наконец!
— Что вы нашли? — спросил его Террачини, снимая и протирая очки.
Комиссар вместо ответа указал на чемоданы. Террачини пожал плечами.
— Знаю, знаю, — сказал комиссар, самодовольно разглаживая усы, — вы притворяетесь, что ничего не понимаете, но в Сан-Феделе мы увидим!
— Мне самому интересно узнать, что в этих чемоданах, — сказал мне Террачини.
— Я скажу вам, синьор адвокат, — не выдержал комиссар, — в этих чемоданах находятся ячейки!..
И после такого великого открытия он замкнулся в торжественном молчании.
До сих пор помню взгляд Террачини, а также и свирепое лицо начальника полиции, когда чемоданы вскрыли…
Через несколько часов мы вернулись в редакцию и застали двух наших товарищей, явившихся за чемоданами, в которых они хранили белье на случай внезапной партийной командировки в провинцию с пропагандистскими целями.
Непрерывный надзор и свирепая цензура чрезвычайно затрудняли нашу работу. Полиция постоянно заглядывала в наши «легальные» учреждения, посещение которых для товарищей всегда было сопряжено с риском обыска, задержания или избиения. Поиски «ячеек», нелегальной литературы, тайных типографий и товарищей-подпольщиков не прекращались. Аресты делались наудачу — авось, поймаем кого надо. Однажды у одного из арестованных при обыске нашли записку следующего содержания:
«Будь завтра в десять утра на обычном месте. Как условный знак держи в руке сложенную «Спортивную газету»».
Так как «Спортивная газета» розового цвета, то все, кто держал на следующий день в руках газету, напечатанную на розовой бумаге, были арестованы. Занятая погоней за розовым цветом, полиция проворонила собрание красных.
Было решено отправить в СССР рабочую делегацию. Началась работа по организации этой поездки, в самый разгар которой меня «задержали» и отвели в полицию. В среднем меня «задерживали» (иногда на несколько дней) два раза в неделю.
— Вы едете в Россию? — спросил меня комиссар.
Я вопросительно взглянул на него.
— Ну да, вы будете сопровождать рабочую делегацию.
— Я ничего не знаю о делегации, — возразил я.
— Нечего рассказывать сказки… Впрочем, я убежден, что правительство разрешит эту поездку.
— Вы полагаете? — интересовался я.
— Еще бы! Тем более, что, если туда поедут и беспартийные рабочие или реформисты, они смогут по возвращении говорить плохо о России.
— Понимаю, — подтвердил я, — возможно.
— Так что вы можете сообщить вашему комитету, чтобы он лучше попросил паспорта, чем попасться при переходе границы, — посоветовал комиссар. На столе перед ним лежало несколько номеров «Унита» и наших подпольных органов.
— Я знаю об этом деле не больше вашего. Я прочел в газетах, знаю, что существует комитет по поездке…
Комиссар так и не добился от меня другого ответа.
Надзор за мною стал еще строже. Не помогали больше никакие средства: если я брал автомобиль, агент, приставленный ко мне, брал другой, а когда не было другого, усаживался рядом с шофером!
Сколько меблированных комнат переменил я за два года моей «легальной» работы, стараясь сбить с толку преследователей! В некоторых комнатах я прожил не больше месяца. Бывало и хуже. Как-то раз я нанял комнату; утром дал задаток, вечером приехал уже с чемоданом. Хозяйка встретила меня холодно, вид у нее был перепуганный.
— Послушайте, — заговорила она, — вы, конечно, порядочный человек, я не сомневаюсь, но сегодня утром, когда вы ушли, ко мне явился агент из полиции и потребовал, чтобы я показала ему вашу комнату. И он сказал мне, что вы коммунист! Я не совсем понимаю, что это значит, но я вовсе не желаю, чтобы полиция ходила ко мне на дом. Поэтому прошу вас подыскать себе другое помещение. Пятнадцать дней, конечно, вы можете остаться, как полагается, но потом не взыщите.
Из этих пятнадцати дней вряд ли я проспал в этой комнате пять ночей: остальные, по обыкновению, провел в тюрьме, что окончательно утвердило хозяйку в ее решении.
В конце этого периода мне посчастливилось. Я попал в дом бывшего советника судебного трибунала. Это был член партии «Пополари», яростный враг фашистов… конечно, в присутствии «доверенных» людей. Он великолепно знал законы и — бедный старичок — чрезвычайно негодовал, видя нарушение их полицией в отношении меня.
— В мое время, — говаривал он, — судили жуликов, злодеев. Теперь они на свободе! Достаточно носить «грязную рубаху», чтобы избегнуть наказания. Преследуют и арестовывают вас. А почему не арестовали соучастников фашиста Петтине, убившего собственную мать? Потому что они главари миланского фашизма! — горячился бывший судебный советник.
У него мне жилось сравнительно спокойно, хотя «задержания» следовали одно за другим. Дошло до того, что сама полиция сбилась со счету и однажды преусердно разыскивала меня, в то время как я… сидел в тюрьме! Все же я не прерывал работы и умудрялся бывать на собраниях.
Полиция считала меня очень хитрым: секрет был в том, что сама полиция была недостаточно умна. Недостаток этот она возмещала чрезмерной «активностью». Страх наказания и долгие бесплодные розыски приводили полицейских в ярость, которую они и вымещали на попадавших в их руки.
В таких условиях работа моя теряла всякую видимость «легальной» деятельности и имела тот недостаток, что я постоянно был на учете как полиции, так и фашистских отрядов. За это время я великолепно изучил фашистский календарь. Это было необходимо, чтобы заблаговременно, до всяких «дней памяти» и «празднеств», избегнуть «задержания». Ознакомился я также и с топографией их «слетов» и собраний в различных районах Милана. Но, несмотря на мою «образованность», эта полулегальная жизнь становилась все сложней. В сущности, товарищам, полностью находившимся на нелегальном положении, было легче, так как у них быстро создавались определенные условия, которые Не было необходимости менять каждые двадцать четыре часа. Правда, у семейных бывали осложнения, так сказать, домашнего порядка. У одного из подпольщиков было двое мальчиков, из них один уже довольно большой. Ребята эти официально… не существовали, потому что в силу «подпольных» обстоятельств своего рождения не были зарегистрированы. Им не позволялось играть с другими детьми, так как они могли как-нибудь случайно выдать отца. Время от времени они должны были запомнить новую фамилию.
— Знаешь, — сообщил мне как-то старший, — меня не зовут больше Мади. Меня зовут… Папа! Как меня теперь зовут? — обратился он испуганно к отцу.
Другой раз он играл кусочками нарезанной бумаги, на которых царапал что-то карандашом.
— Что ты делаешь, малыш? — полюбопытствовал я. И он серьезно ответил:
— Шифрую письма.
В школу его не посылали, сам отец по вечерам занимался с ним.
Глава XXXVII Мое паломничество в Рим
К каким только уловкам не приходилось прибегать, чтобы вести работу! Однажды, чтобы побывать на совещании ЦК в Риме, я присоединился к богомольцам, отправившимся в «Вечный город» на поклонение папе по случаю семисотлетия памяти св. Франциска Ассизского.
Фашисты, подлаживаясь к папе и католической церкви, помогали им ознаменовать этот юбилей как можно торжественней. Была дана большая скидка со стоимости проезда по железной дороге, и были установлены всякие льготы с помещением и питанием.
Я купил карточку богомольца и уехал с отрядом попов и ханжей. Всю ночь отряд этот распевал молитвы и псалмы. Это было удовольствие среднее, но зато никакого беспокойства от полиции. От Милана до Рима я ни разу не приметил ни треуголки карабинера, ни фашистской фески. В том отделении вагона, где был я, велись интересные разговоры.
— Видите ли, — говорил мне один из богомольцев, — фашизм вынужден считаться с нами. Нас, католиков, громадное большинство.
— Да, подтвердил другой, — эти фашисты мне разбили голову за то, что я не присоединился к их манифестации.
— Это произошло потому, — пояснил первый из собеседников, — что вы оказали сопротивление большинству: добрый католик никогда не должен противиться силе.
— Мне, в сущности, наплевать и на фашистов, и на католиков, и на коммунистов, — вмешался в разговор рослый, хорошо одетый богомолец. — Я воспользовался случаем побывать в Риме без больших затрат.
— Что вы говорите? — прервала его немолодая женщина.
— Молчите вы, синьора Анджела, вы ведь делаете то же самое, незачем корчить из себя благочестивую, — возразил ей хорошо одетый богомолец.
— Это так, но вслух говорить незачем. Религию все-таки следует уважать.
— Я тоже хочу повидать Рим, — вмешался еще один богомолец. — Говорят, что это прекраснейший город. Я хочу также навестить нашего депутата. Но скажите мне, пожалуйста, почему столько шума из-за этого святого Франциска? Должно быть, это очень значительная персона. И потом, я хотел бы знать, почему это фашисты, которые, по-видимому, его почитают, разгромили у нас кооператив, называвшийся «Католический кооператив сынов святого Франциска»?
— Но… дело шло ведь о сыновьях святого Франциска, — сострил один из богомольцев, читавший украдкой в уголке порнографический журнал.
— Они разбили даже его статуи…
— Братья мои, — заговорил вошедший в вагон поп, — прочтем наши вечерние молитвы. А после этого вы сосредоточьтесь и поразмыслите, что завтра, если господу будет угодно, мы прибудем в «Вечный город» и предстанем перед святейшим отцом. Каждый из нас, грешных, должен помнить, что это великое счастье и что мы не только его узрим, но сможем даже облобызать священную туфлю его и получить апостольское благословение. Молитесь же, братья, молитесь! — И он загнусавил: «Верую во единого бога отца, вседержителя…»
Присутствующие подхватили хором, и поп, заведя этот разноголосый концерт, перешел в следующий вагон. После его ухода большинство голосов смолкло, и собеседники уже шепотом продолжали прерванный разговор.
— Как только приеду в Рим, отделюсь от этого стада, — говорил хорошо одетый богомолец своему соседу. — Я вовсе не намерен целый день таскаться из одной церкви в другую. Сан-Пьетро[100] я, конечно, осмотрю. Что касается папы, я полагаю, что это такой же мужчина, как и все мы. Сказать тебе откровенно, я предпочитаю женщин! Говорят, что среди римлянок есть такие красотки!..
— Говори потише, ты! — ответил его сосед. — Я полагаю, что мы сделаем так: с вокзала выйдем вместе с прочими, будет, конечно, суматоха, тут мы и… потеряемся. Согласен?
— Идет!
На скамье против меня синьора Анджела читала «Цветочки св. Франциска»[101], тогда как ее сосед шептал ей что-то на ушко. Она улыбалась… В коридорах поезда многочисленные парочки дышали свежим воздухом у раскрытых окон. Эти даже не пытались читать «Цветочки»; при приближении попа, часто обходившего свое стадо, они отдалялись друг от друга и старались придать благочестивое выражение раскрасневшимся лицам.
— Мне надо еще зайти в министерство внутренних дел, — говорил кто-то в коридоре, — там у меня дела.
— А рекомендации у тебя есть? — спросил у него другой.
— Есть письмишко.
И он выразительно похлопал себя по карману.
— Благословен господь бог наш! — прогнусавил проходивший мимо высокий худой поп.
— Хвала его святому имени! — ответили оба в один голос, склоняясь перед попом, и, когда тот прошел мимо, добавили: — Чтоб ты сдох!
Я забился в угол и вскоре задремал. Меня разбудил молоденький поп, спрашивавший:
— Из какого вы прихода?
Я не подумал об этом и притворился спящим, чтобы выиграть время для ответа.
К счастью, мне вспомнилось название церкви, находившейся неподалеку от нашей редакции.
— Я из Сан-Бабила.
— Как же вы очутились в этом вагоне? Здесь все из Санта-Радегонда, — удивился поп.
— Не знаю, право, я не знал, что нас рассадят по приходам.
— Ну, как же так? Впрочем, все равно, — утешил меня поп. — С вокзала вы выйдете вместе с нами, а на площади будет легко разыскать хоругвь вашего прихода, и дальше вы уже пойдете со своими. Необходимо сохранять порядок.
— Мы уже в Риме? — осведомился я.
— Подъезжаем. Через несколько минут мы будем в столице католического мира, у ног его святейшества Пия XI.
— Весьма благодарен, — ответил я.
На платформу мы вышли из вагона колоннами. Попы обегали эти колонны, как псы, охраняющие стадо. Такими же колоннами мы вышли из вокзала на площадь. Я гордо прошел мимо карабинеров и отрядов фашистской милиции, толпившихся возле вокзала. С каждым шагом колонны таяли. Оставив позади себя опасную зону, я тоже покинул свою колонну.
Так как наше совещание должно было начаться только на следующий день, я решил оставшееся время посвятить осмотру Рима. Моя карточка богомольца открывала мне доступ во многие любопытные места. Прежде всего я осмотрел миссионерскую выставку в Ватикане. Это была интересная и поучительная выставка, на которой разнообразные статистические таблицы и диаграммы показывали огромную работу по «улавливанию душ человеческих», которую католическая церковь проделывает из года в год в разных странах мира, среди людей самых различных рас. Подобного рода обозрение планов и достижений одного из наиболее серьезных наших врагов дает ясное и четкое представление о его силе во всем мире. После осмотра такой выставки становится понятным, почему буржуазные правительства так дорожат дружбой папы.
Я осмотрел также Ватиканский музей, некоторые церкви и закончил осмотр католического Рима спуском в катакомбы св. Калликста. И здесь — это был 1925 год — я нашел на одном из древнейших сводов свежую надпись: «Да здравствует Ленин!»
Наше совещание прошло вполне благополучно. Обычно, когда появлялись сообщения о состоявшихся совещаниях вроде нашего и напечатанные резолюции, полиция спохватывалась и обрушивалась на нас, «легальных», направляя нас в тюрьму.
В одном из таких случаев я, дожидаясь в приемной своей очереди, невольно подслушал, как начальник полиции отчитывал своих подчиненных, не донесших ему заблаговременно о нашем совещании.
— Вы постоянно спите! Всегда спите! Коммунисты устраивают совещания Центрального Комитета, проводят массовки, митинги возле самых фабрик, а вы являетесь с запозданием! Позор! Ослы вы — и больше ничего! Это я вам говорю!
И на этот раз по возвращении из Рима я был задержан и отправлен в полицейское управление.
— Вы были на совещании Центрального Комитета, — заявил мне комиссар, как только я очутился перед ним.
— Я? И во сне не снилось! За кого вы меня считаете? Я простой профсоюзный организатор…
— Вы полагаете, что я такой же осел, как те полицейские, от которых вы удираете постоянно? — свирепо прервал он меня. — Ошибаетесь! Я могу арестовать вас, когда пожелаю… Поняли?
— Я прекрасно знаю, что вы можете арестовать меня, когда пожелаете. Вы это уже и доказывали! Но предположим, что я действительно умудрился участвовать на совещании ЦК компартии. Не кажется ли вам, что в этом случае вы не могли арестовать меня, хотя вам этого очень хотелось?
— Только потому, что эти идиоты проспали. Но не беспокойтесь, не все коту масленица!..
Он называл нашу жизнь масленицей!..
Устраивать свидания в роскошных ресторанах тоже становилось труднее. Сжимавшийся все теснее круг строжайшего надзора над нами настиг нас и здесь. После двух-трех раз приходилось менять место свидания, так как хозяева, обеспокоенные расспросами полицейских, начинали смотреть на нас косо и, что было еще хуже, следом за полицейскими появлялись фашисты. Однажды отряд их явился в тот момент, когда мы находились еще в ресторане.
— Где здесь коммунисты? — обратились они к хозяину.
— У меня коммунисты не бывают, — перепугался хозяин.
— Однако нам известно, что они приходят сюда обедать, — заявил начальник отряда и пригрозил: — Будьте поосторожнее, если не хотите неприятностей.
Очевидно, нас не узнали.
Это был период, когда охота за коммунистами приняла особенно яростный характер. Причина этого охотничьего рвения была следующая. После покушения Дзанибони на Муссолини стены Милана были украшены портретами «дуче», под которыми красовалась надпись: «Не трогать! Под страхом смерти!»
Спустя два-три дня на некоторых портретах оказались приделанными рога. Несмотря на жестокие избиения, которыми фашисты мстили за поруганную честь своего вождя, число портретов с рогами возрастало с каждым днем. Во избежание дальнейшего посрамления «дуче» фашисты вынуждены были снять портреты со стен Милана.
Глава XXXVIII Третий съезд Итальянской компартии[102]
Однажды приставленный ко мне агент остановил меня. Попросив извинения за беспокойство, он пожаловался:
— Знаете, меня уволили… — Вид у него был похоронный. — Мне оставалось только восемь месяцев до пенсии, к тому же я был на войне и получил там туберкулез. Они знали об этом и все же уволили меня. Это возмутительно! Что я буду теперь делать?
— Так… Очевидно, незачем было стараться, преследуя рабочих и делая себе карьеру. Как видите, чтобы не дать вам пенсии, вас выгнали вон.
Агент печально потряс головой.
— Я хотел попросить вас об одном одолжении: не сможете ли вы мне дать записочку к депутату До Сардо[103]? Это депутат от нашего города, и я хочу попросить его, чтобы он защитил меня от этой несправедливости.
— Очевидно, кроме отставки, вам еще хочется быть избитым? Ведь этот депутат — коммунист, и вы хотите теперь просить его защиты?
— Но он наш депутат, — упорно твердил опечаленный сыщик.
Взамен изгнанного агента ко мне приставили другого. Первые дни он весьма старался. Потом, изучив мои привычки, в то время достаточно регулярные, заявил мне:
— Послушайте, мне достаточно надоело сопровождать вас. Полагаю, и вам это тоже надоело. С завтрашнего дня я устраиваю себе каникулы.
Этот снисходительный шпик продержался при мне недолго: существовала особая инспекция для проверки работы агентов на местах.
Как-то, обедая в одном «тосканском» трактире, хозяин которого был, впрочем, неаполитанец, а вино неизвестно из какой области, я натолкнулся еще на одного любопытного сыщика. За мой столик подсел человек, которого по виду можно было принять за писца нотариуса. Одет он был в потертый костюм и шляпу тоже почтенного возраста. На носу — очки, в руках — пачка разнообразных газет. На одной из них я смог разобрать адрес: «Его превосходительству синьору начальнику полиции Милана». Я принял к сведению это указание.
Человек в очках, видимо, не прочь был поговорить. Он начал с замечаний о погоде и кончил политикой.
— Вы не занимаетесь политикой?
Отрицательный знак с моей стороны.
— Конечно, теперь трудно ориентироваться во всех этих партиях, но я — он принял вид человека, хорошо осведомленного — привык разбираться в этом. Возьмем, к примеру, полемику между коммунистами и реформистами. Это весьма интересно. Коммунисты остались верны программе, которая была у социалистов двадцать лет назад; они — революционная партия. Я очень интересуюсь этой полемикой, а также и дискуссией по поводу коммунистического съезда. Полагаю, однако, что правительство не разрешит его. Мы — там, где я работаю — очень следим за этим конгрессом. Никто из нас не коммунист — упаси боже, — но я, например, открыто говорю, что стою за Бордига. Других я менее понимаю, они, мне кажется, в меньшей степени революционеры…
— Я в этом не разбираюсь, — подал я реплику.
— Конечно, когда не следишь постоянно за газетами, трудно разобраться. Для этого требуется известная практика. Я, например, ежедневно просматриваю от тридцати до сорока газет: понятно, что я всегда осведомлен.
Этот «литературный сыщик» еще долго рассказывал мне о своих познаниях в политике и сердечной склонности к тому или иному деятелю… Мы встретились с ним еще раз или два, все в том же «тосканском» трактире, и я почерпнул от него несколько небесполезных сведений для своей работы…
Волна реакции грозила захлестнуть уцелевшие рабочие организации, и связь с массами становилась все более затруднительной.
Собрания наши проходили в самых разнообразных местах: на кладбищах, на баржах, на сеновалах горных деревушек. Одно областное совещание было проведено в заброшенной мельнице, другое — в полуразрушенном замке. Здесь мы пробыли несколько дней: спали на мешках, набитых сухими листьями, приготовленных для нас местными товарищами, ели всухомятку, огня не зажигали, чтобы не привлечь внимания полиции или фашистов. К несчастью, была прескверная погода: ветер, дождь. Но мы были веселы — борьба согревала.
Однажды заседание ЦК было назначено высоко в горах. Дело было зимою в конце 1925 г. Мне пришлось карабкаться по горным тропинкам семь часов подряд, чтобы добраться до пастушьей хижины, где было назначено заседание. Зато здесь мы были в полной безопасности! Мы спокойно провели совещание, пока члены нашей юношеской секции, рассыпавшись по ближайшим выступам, охраняли нас от нежелательных сюрпризов. Но в эту глухую пору в такую высь никто не заходит.
По окончании совещания мы спели «Интернационал». Снега и утесы услышали впервые этот гимн. В тишине альпийской природы, в редкий миг спокойствия, он потряс сердца людей, закаленных в битвах, привычных к тюрьме, преследованиям и жертвам…
Незадолго до съезда Итальянской компартии наблюдение за коммунистами еще более усилилось. Я буквально шагу не мог сделать без сопровождения сыщика. Но я твердо решил быть на съезде: ни разу не пропускал ни одного из них. Правда, миланская полиция была похитрее фоссанской, и командор де Санктис располагал более совершенными средствами, чем кавалер д’Аванцо…
Приставленный ко мне агент получил подкрепление, и теперь оба сыщика, дежуря поочередно, не оставляли меня ни на минуту. Ночью, как бы я поздно ни засиделся, я всегда мог видеть одного из них прохаживающимся под моими окнами. Все же выход нашелся, и, как всегда, самый простой… Как-то, отправляясь на собрание, я нашел способ ускользнуть от моего неизменного попутчика. Днем он обыкновенно в целях лучшего наблюдения за мною устраивался у подъезда на противоположной стороне улицы. По улице проходил трамвай, остановка которого находилась неподалеку от моей квартиры. Случалось, что время от времени у остановки встречались два трамвая, идущие в разные стороны, и таким образом ненадолго образовывалось прикрытие, довольно длинное, так как у проходящих здесь трамваев — по два вагона.
Спустившись к подъезду, я выждал этот момент и, шагая рядом с трамваем, успел дойти незамеченным до ближайшего бара. Проглотив чашку кофе, я дождался следующего благоприятного сочетания трамваев и пробрался в табачную лавку. Еще два таких маневра — и я у остановки. Я берег этот способ только для экстренных случаев и применил его, когда должен был ехать на съезд.
Путешествие это прошло без всяких инцидентов, несмотря на то что съезд происходил вне пределов Италии и границу мне пришлось переезжать по чужому паспорту: возможно, что именно поэтому и обошлось все хорошо.
Это был третий по счету и наиболее значительный съезд Итальянской компартии, на котором широко обсуждался вопрос о левом, бордигианском, течении. Открытие съезда совпало со второй годовщиной смерти Ленина, а также с годовщиной основания нашей партии. Это придало ему особенно торжественный характер.
Не потревоженные иностранной полицией, мы благополучно провели съезд и так же благополучно возвратились в Милан. Но здесь благополучию настал конец. Не успел я разобраться с дороги, как ко мне явилась полиция и потребовала меня к начальству. Никогда я еще не видал почтенного командора в таком бешенстве.
— Где вы находились эти пятнадцать дней?
— Должен заметить вам, — возразил я, — что я не поднадзорный и могу бывать, где мне нравится.
— Извольте изменить тон, — зарычал он, багровея, — иначе я вас засажу! Со мной шутки плохи! Пора покончить с этим! Вы были на съезде компартии, нам это известно. Были также Серрати, Грамши, Тольятти, Гриеко и другие. Попробуйте отрицать это.
— Я гражданин Италии, не находящийся под особым надзором общественной охраны, — повторил я, — хотя в действительности вы устраиваете за мной слежку, хуже чем за поднадзорным. Но все же официально я под надзором не состою и, следовательно, волен выезжать, куда хочу. Что же касается моего участия в съезде, я не обязан отвечать на этот вопрос.
— Что за типы эти коммунисты! — воскликнул главный комиссар. — Почему вы не можете устраивать ваши съезды открыто, как все прочие партии?
— Вся подготовка к съезду прошла на страницах нашей газеты.
— Да, подготовка, но не съезд! Чего вы опасаетесь? Я знаю, что, если бы вы попросили разрешения, вы, может быть, получили бы его.
— Может быть, — возразил я. — Но у нас есть по этой части опыт: мы убедились в том, например, что нельзя провести даже собрания в пять человек!..
— Значит, вы были на этом съезде?
— Я уже сказал вам, что не отвечу на этот вопрос, хотя бы вам вздумалось арестовать меня.
— И арестую, — снова обозлился он. — Я могу арестовать вас, когда хочу, даже сейчас!
— Как вам угодно, — возразил я.
— Послушайте, — переменил он тон, — меня интересует одно: где именно происходил съезд? В моем положении сейчас находятся семьдесят два человека, семьдесят два управления полиции, по числу итальянских провинций. Я задаю вам вопрос: съезд происходил в Милане? Ответьте «да» или «нет», и вы свободны.
Мне было понятно это любопытство миланского комиссара. Муссолини обрушил громы и молнии на полицию, прозевавшую наш съезд.
Комиссар не сводил с меня почти умоляющих глаз. И я уверен, что он, если бы я ему ответил, что съезд прошел не в подведомственной ему провинции, действительно на радостях отпустил бы меня. Но я отказался ответить на этот вопрос. Лицо его омрачилось. Он поднялся. Поднялся и я. Один момент казалось, что он бросится на меня, но, овладев собою, он спросил:
— Почему вы не хотите ответить?
— Потому, что я не обязан делать это.
— О, я знаю, вы, коммунисты, упрямые головы! Но мы с вами справимся! Готовятся законы…
Он остановился.
— Знаем. И поборемся!
Он все же не арестовал меня. Тогда полиция держалась еще с известной осторожностью по отношению к тем из нас, кто занимал руководящие посты в партии. Но с рядовыми ее членами она давно уже не стеснялась.
Глава XXXIX Покушение на Муссолини и разгул реакции. Смерть Серрати
7 апреля 1926 г. ирландка мисс Гибсон[104] выстрелила в Муссолини. Пуля чуть задела кончик носа «дуче». Гибсон была схвачена на месте преступления. Весь гнев и ярость фашистов обрушились на головы коммунистов: последовал разгром наших учреждений, бешеный террор.
Затем был издан закон об обществах, согласно которому в управлении полиции должны находиться списки членов всех обществ и объединений. По этому поводу меня вызвали в управление полиции.
— Вы должны дать список миланской федерации вашей партии, — сообщили мне.
— Обратитесь к секретарю федерации.
— Кто там секретарем?
(Секретарями федерации по постановлению партии выбирались всегда депутаты, как лица, пользующиеся так называемой неприкосновенностью и аресту не подлежащие).
— Депутат Бендини, — сообщил я.
— Вечно у вас депутаты! — досадливо заметил комиссар. — Погодите, кончится и эта масленица с депутатами!
«Арестую, когда захочу» и «масленица» были любимыми выражениями достойного командора.
В это самое время мы потеряли Серрати. Он пал на посту, направляясь в горы на одно из заседаний ЦК[105].
В тот день мы вышли вместе. Он радовался прогулке в горы: Серрати был прекрасным ходоком.
Часть дороги мы проделали вместе, а потом разделились, чтобы снова встретиться в условленном месте… Через несколько часов я увидел его бездыханным на крутой горной тропе, по которой он поднимался. Сердце, так много перенесшее за годы тяжелой революционной работы, не выдержало.
Вся миланская полиция была мобилизована по случаю его смерти. Буржуазия боялась его даже мертвого. Опасались демонстраций. Тело Серрати было перевезено в Милан ночью и помещено в одной из комнат подземелий миланского крематория. Известие о его смерти произвело сильное впечатление во всей Италии. С самого раннего утра к его гробу стали стекаться желавшие проститься с ним товарищи: рабочие, служащие, женщины, солдаты. Приносили цветы, расписывались в тетради, специально заготовленной. Вскоре гроб был весь покрыт цветами. Я с утра находился при гробе. Явился наряд полиции во главе с комиссаром.
— Вы кто такой? — взволнованно обратился он ко мне. — Убрать цветы сейчас же! Где подписи?
Я отрекомендовался и подал ему тетрадь, из которой предварительно вырвал все исписанные листы. Комиссар открыл тетрадь: все листы были чисты.
— Где подписи?
Я пожал плечами вместо ответа.
— Долой цветы! — обозлился комиссар.
— Цветов я не сниму. Какой закон запрещает принести цветы на гроб усопшего? Или вы боитесь мертвого?
— Мы не боимся никого! Очистить от публики помещение! Убрать цветы! — скомандовал комиссар полицейским. — Здесь можно только проходить.
Присутствующие товарищи запротестовали: полиция принялась «очищать» комнату от посетителей и цветов. Один из товарищей пошел предупредить входящих, чтобы они спрятали цветы.
Полицейские сняли цветы с гроба, и печальная церемония прощания возобновилась. Комиссар удалился. Проходившие товарищи приносили с собой цветы, мужчины — в карманах или под полою, женщины — в сумках, под платками… Они склонялись над гробом, некоторые целовали крышку гроба и, уходя, оставляли красный цветок. На глазах у растерянных полицейских гроб снова покрылся цветами. У многих по щекам катились слезы. Один солдат разрыдался над гробом; пришлось его вывести, спасая от ареста.
К вечеру снова явился комиссар и приказал прекратить «демонстрацию». Мы попросили разрешения сфотографировать гроб, у подножья которого красовались три венка: один от Коминтерна, другой от Итальянской компартии и третий от миланской федерации партии. Пока товарищи устраивали венки и фотограф прилаживал свой аппарат, я и товарищ Репосси, тогда депутат от Милана, а теперь каторжанин, занимали полицейских разговорами. Польщенные беседой с самим «онореволе», агенты не приметили ни красных лент, ни венков, ни надписи на них. Когда они спохватились, дело было сделано: часть негативов и ленты уже исчезли.
— Где ленты? — спросил рассерженный комиссар.
— У меня! — ответила одна из работниц.
— Отдайте!
Она запротестовала; ее увели в комиссариат, где после бесплодного обыска отпустили. А мы благополучно отнесли в потайное место и негативы и ленты.
В день похорон у входа в крематорий собралась огромная толпа, несмотря на опубликованное полицейскими властями запрещение участвовать в похоронах, мотивированное соображениями «общественного спокойствия». По сведениям фашистской печати, присутствовало свыше десяти тысяч человек; в действительности цифра эта должна быть увеличена в несколько раз.
В самый крематорий были допущены только несколько членов семьи и представителей партии, всего четырнадцать человек при пятидесяти полицейских!
Пепел, собранный в небольшую урну… вот что осталось от одного из лучших революционеров Италии… Но его дело, его мысли, его чувства сохранены партией.
Вспомнились мне его слова на третьем съезде партии в 1926 г.:
— Вернувшись снова к вам, я чувствую себя переродившимся. Я ничего не прошу, кроме разрешения работать с Коммунистическим Интернационалом.
В доме Серрати я застал Ладзари.
— Лучше бы умер я! — твердил печально старик. — Я уже стар, он мог бы еще много сделать для пролетариата!
Он плакал…
Вскоре умер и он.
11 сентября — новое покушение на Муссолини: бомба Лючетти[106]. Снова аресты, избиения и убийства. И, конечно, новые ограничения наших «свобод».
Террачини и Биболотти были арестованы на другой же день после покушения и больше не были освобождены, так как при них был найден компрометирующий материал. Арестовали было и меня, но за отсутствием улик выпустили. Ненадолго!
Полицейская петля затягивалась все туже, работать легально было совершенно немыслимо, и партия почти целиком ушла в подполье. Но нельзя было добровольно отказываться даже и от тех жалких крох законности, которые еще уцелели от начавшегося террора, и полулегальная деятельность наша все еще не ликвидировалась окончательно.
Но что это была за деятельность! «Унита» конфисковывалась до четырех раз в неделю. «Задержания» превращались в непрерывный арест. Дубинка работала вовсю. Чувствовалось, что не сегодня-завтра петля затянется окончательно.
Фашисты решили торжественно отпраздновать годовщину «похода на Рим». Поэтому обычные аресты неблагонадежных граждан, коммунистов в первую очередь, начались не за два дня, как обычно, а за целую неделю. 28 октября была годовщина, а 21-го рано утром меня арестовали. В участковом отделении в то утро нас собралось восемнадцать человек, из которых одиннадцать — коммунисты. После традиционного путешествия в фургоне по комиссариатам мы прибыли в Сан-Витторе.
Тюрьма была уже набита до отказа: в камерах-одиночках помещалось по пять человек. Многие из арестованных не вмещались в камерах, и их разместили в коридорах. Несмотря на это, новые партии прибывали каждый день. Тотчас же по прибытии я установил связь с Террачини.
Мы полагали, что и на этот раз дело кончится обычным, более длительным, соразмерно торжественности годовщины, «задержанием» и что после празднования нас выпустят. И действительно, с 30 октября началось освобождение арестованных. На следующий день оно приостановилось, но, так как это случилось в воскресенье, мы не беспокоились, решив, что храните ли «складов человеческого мяса» хотят воспользоваться правом на праздничный отдых.
В понедельник уборщик сообщил мне:
— Вчера утром опять было покушение на Муссолини, в Болонье.
— Ну, — сказал я товарищам, — теперь подождем с освобождением!
В этот день никого не выпускали. Ночью начали прибывать новые группы арестованных. Многие из них были ранены, избиты… Они описывали сцены насилия, разгрома. Людей хватали на улице, избивали, уводили…
На другое утро я узнал о прибытии товарищей из «Унита». У них были повязки на головах. Нам удалось раздобыть номер какой-то газеты, из которой мы узнали о новых законах: о восстановлении каторги, роспуске партий, введении смертной казни, закрытии всех антифашистских газет.
Было ясно, что рассчитывать на скорое освобождение не приходилось. Надо было позаботиться о получении белья и прочих необходимых вещей.
Еще через несколько дней я на прогулке увидел Грациадеи, Репосси и других депутатов.
Итак, никаких иллюзий!
Кроме тесноты, нас донимало еще и религиозное рвение наших тюремщиков: чуть ли не каждый день — церковная служба. Годовщина похода на Рим — торжественная обедня; 31-го — воскресная обедня; 1 ноября — торжественный молебен по случаю «избавления дуче от опасности»; 4 ноября — годовщина победы — снова обедня; 11 ноября — опять обедня в день рождения короля!..
Я написал квартирной хозяйке, прося ее приготовить мне чемодан с наиболее необходимыми вещами: нам стало известно, что уже работала специальная комиссия, приговаривавшая к ссылке на каторгу!
В один прекрасный день нам велели «собрать вещи». Это не всегда означает, что нас выпустят на свободу; в нашем случае это исключалось.
Внизу, в канцелярии, я встретил многих других товарищей. Они были прекрасно настроены. Я не разделял этого чувства.
Обычно арестованных по распоряжению охранки отправляли для установления личности в центральный комиссариат, а оттуда обратно в тюрьму, в ожидании дальнейших распоряжений. Очевидно, такая же процедура кругового путешествия в тюремном фургоне ожидала и нас…
Около полудня в канцелярию, где мы ожидали, явились карабинеры с мешком ручных кандалов, в которые начали заковывать арестованных. Бригадир спросил у надзирателя:
— Сколько арестованных мне даешь?
— Пятьдесят, — последовал ответ.
— Черт возьми! Это последний мой заезд сюда, потом я займусь другими делами, а в фургоне у меня вместится только тридцать, самое большее сорок — и то, если среди них нет толстых.
— Что же я буду делать с остальными? — спросил недовольный надзиратель, которому предстояла скучная операция повторного вписывания уже выписанных было арестантов.
— А это уж твое дело. Я больше не приеду сегодня. Заеду завтра, может быть, через месяц. Можешь заново вписать их: все равно они вернутся.
Арестованные волновались, стараясь поскорее получить наручники и успеть попасть в фургон. Мы не торопились: не все ли равно? Бригадир был прав. И мы остались сидеть в канцелярии. Это спасло нас.
Когда фургон уехал, надзиратель пришел в полное отчаяние.
— Ну что мне делать с вами?!
— Отпустите нас, — советовали мы ему, — мы ведь «задержанные». У вас об этом есть данные. Вы можете спокойно освободить нас.
— Это так… — отвечал надзиратель.
— Позвоните в управление, — предложили мы ему.
— Правильно, позвоню. — И он снял трубку. — Алло! Дайте центральную… Да. Говорят из Сан-Вит-торе, из канцелярии. Вот в чем дело: у меня тут семнадцать арестованных, все «задержанные». У меня нет средств передвижения…
Он слушал ответ.
— Да, да, все в порядке. Ордера проконтролированы.
Мы ждали, затаив дыхание.
— Хорошо, хорошо. До свидания, мое почтение! — И надзиратель повесил трубку.
Он был доволен и потирал себе руки.
— Можете уйти, вы свободны, — обратился он к нам.
Немногие минуты, которые нам пришлось провести в канцелярии, показались мне целой вечностью: я все боялся, что вот-вот зазвонит телефон и надзиратель получит новый, иной приказ. Но, очевидно, в центральном управлении все потеряли головы.
Мы вышли на улицу.
— Теперь пойду домой и закажу себе макароны! — сказал один из наших товарищей, весело шагая по тротуару.
— Ты с ума сошел! — возразил ему кто-то. — Идти домой! Не понимаешь разве, что нас освободили по недоразумению?
Мы разделились. Я забежал к себе на минутку захватить самое необходимое и сейчас же ушел оттуда. Другие, задержавшиеся дома, были схвачены в тот же вечер и снова отправлены в тюрьму.
В городе было осадное положение; имеются раненые, убитые. По вечерам улицы оцеплялись полицией, которая пропускала прохожих поодиночке. Таким путем были схвачены многие товарищи. Фашистские отряды бушевали: громили и жгли наши редакции, помещения газет, профсоюзов, квартиры отдельных товарищей… Нас усиленно искали. Пробовали взять хитростью: посылали по нашим адресам приглашения пожаловать в управление полиции для ознакомления с новым декретом или для объяснений по такому-то вопросу. Делали вид, что считают нормальным наше пребывание на свободе!
Но мы уже знали список лиц, приговоренных к лишению свободы (я в том числе — на пять лет). Позже наше дело было передано Особому трибуналу, по приговору которого члены наших центральных органов в числе семнадцати — среди них: Грамши, Террачини, Маффи[107], Роведа, Борин и почти все арестованные до издания законов об «исключительном положении» — получили в совокупности около трехсот лет каторжной тюрьмы. Мотивировка этого приговора представляет собой наилучшее признание активности и значительности революционной деятельности нашей партии.
Не без гордости привожу здесь обвинительный акт Особого трибунала против меня:
«Такой-то, известный под псевдонимом «Меднобородый», согласно рапорту миланской полиции от 16 марта 1927 г., известен как активный пропагандист со специально антимилитаристическим уклоном.
В 1922 г. был послан партией в Россию. Возвратился на родину в 1923 г. В 1924 г. судился по статье 118, п. 3 (Римский процесс). В том же году снова выехал в Россию, где вел активную пропаганду и состоял корреспондентом «Унита» под псевдонимом «Меднобородый». С 1926 г. состоит членом ЦК партии, а также членом Национального профсоюзного коммунистического комитета. Кроме того, входил в административный совет издательства «Унита» в Милане. Отзыв командора Лучиани, т. 48, л. 178, гласит: совмещал различные партийные обязанности. Умелый организатор, бывший секретарь Палаты труда, родом из Пьемонта, близкий друг Террачини и Грамши. Многолетняя организационная практика сделала его ценным сотрудником Грамши в деле реорганизации партии; прекрасное знание им рабочих масс делает его способным руководить Национальным профсоюзным коммунистическим комитетом.
Обязанности, выполняемые им, и его способности заставляют считать его одним из наиболее ответственных за деятельность партии в 1926 г. Был приговорен к ссылке с лишением свободы, но исчез и до настоящего времени числится в бегах».
Таков был обвинительный акт против меня, с которым я ознакомился, уже находясь «в бегах».
Глава XL Заключение
Несмотря на невероятные строгости, я с месяц еще прожил в Милане и принял участие в нескольких совещаниях. Мы вынуждены были окончательно отказаться от легальной работы, и переход в подполье дал мне возможность продержаться еще некоторое время в Италии до отъезда за границу.
На глазах у меня пали последние оплоты легальной работы по организации трудящихся масс. Мы предложили Всеобщей конфедерации труда пересмотреть ее программу действий и реорганизоваться заново. Но реформистские руководители конфедерации не пожелали даже выслушать наши предложения. Несколько дней спустя, 4 января 1927 г., семеро членов центрального комитета Всеобщей конфедерации труда, находившиеся в Милане, постановили распустить старую конфедерацию и перешли на сторону фашизма. Другие, бежавшие в гостеприимную Францию, объявили, что работа в Италии невозможна.
А 20 февраля того же года революционно настроенные рабочие (коммунисты, социалисты, реформисты и беспартийные), собравшись в Милане на тайную конференцию, избрали Временный центральный комитет конфедерации труда и положили начало подпольной профсоюзной работе. Эти рабочие, рискуя свободой и жизнью, приняли вызов реакции, доказав этим, что борьба возможна во всяких условиях.
И она продолжается и по сей день — эта неравная героическая борьба.
Тысячи наших товарищей томятся на каторге, в ссылке, в тюрьмах. Многие из них умерли, другие убиты, замучены. Иные вынуждены были бежать, оставив жен, детей…
Реакция итальянского капитализма носит имя «фашизм». Жестокая реакция, которая на седьмом году своей власти еще более усиливает свои свирепые репрессии, потому что она… трусит. Она боится тех, кто, несмотря на неслыханные пытки, с высоко поднятой головой бросает ей в лицо боевой клич:
— Долой фашизм! Да здравствует коммунизм! Да здравствует его вождь — Ленин!
Примечания
1
На русском языке вышло до сих пор четыре издания, одно из них с иллюстрациями. На итальянском языке «Записки цирюльника» изданы семь раз (два издания — в Париже, одно — в Москве и четыре — в Италии после освобождения от фашизма). Кроме того, известны пять изданий на немецком, по три на английском и испанском языках, два на французском, польском и украинском и по одному изданию на финском, голландском, чешском, японском, белорусском, еврейском, татарском, словацком, венгерском, китайском, албанском. В общем «Записки цирюльника» уже вышли в 40 изданиях на 20 языках общим тиражом свыше миллиона экземпляров.
(обратно)2
Имеется в виду течение в буржуазно-фашистской литературе, воспевавшее «красоты» примитивной деревенской жизни.
(обратно)3
Джолитти, Джованни (1842–1928) — итальянский буржуазный политический и государственный деятель; лидер так называемых левых либералов. В период 1889–1921 гг. неоднократно занимал министерские посты и возглавлял итальянское правительство. Джолитти — наиболее крупный представитель итальянского буржуазного парламентаризма. В целях укрепления господства и расширения социальной базы империалистической буржуазии широко использовал систему социальной демагогии, показных реформ, политической коррупции. Острие внутренней политики Джолитти было направлено против единства рабочего класса севера с крестьянством юга страны. По отношению к промышленным рабочим он проводил политику мелких подачек, подкупая, верхушку рабочего класса; по отношению к крестьянству Юга Джолитти проводил политику беспощадных репрессий и кровавого подавления аграрных движений. Внешняя политика Джолитти была направлена на осуществление захватнических притязаний итальянского империализма. В 1911 г. правительство Джолитти развязало агрессивную войну против Турции, закончившуюся захватом у последней Триполи, Киренаики и Додеканесских островов. В начале первой мировой войны Джолитти возглавлял «нейтралистский» лагерь итальянской буржуазии. В сентябре 1920 г. при прямой помощи реформистских профсоюзных лидеров Джолитти сорвал развернувшееся в Северной Италии революционное выступление пролетариата (захват рабочими фабрик и заводов). С приходом к власти фашистов в 1922 г. Джолитти отошел от активной политической деятельности.
(обратно)4
Имеются в виду лица, награжденные орденами и медалями.
(обратно)5
Савойская династия — одна из царствовавших династий в Италии. С 1034 до 1416 г. это — савойские графы; с 1416 до 1720 г. — савойские герцоги; с 1720 до 1861 г. — короли Сардинского королевства; с 1861 до 1946 г. — короли объединенного Итальянского королевства. В мае 1946 г. Виктор Эммануил III, скомпрометировавший себя многолетним сотрудничеством с фашизмом, был вынужден под давлением демократических сил отречься от престола. В референдуме 2 июня 1946 г. итальянский народ высказался за республику. 18 июня 1946 г. итальянская монархия была упразднена и Италия провозглашена республикой.
(обратно)6
Савильяно — небольшой город, промышленный центр провинции Кунео.
(обратно)7
Карабинеры — жандармы.
(обратно)8
Имеется в виду первая война итальянского империализма за захват колоний в Африке: в Эфиопии и Эритрее (1895–1896 гг.). Догали, Микаллэ и Абба-Гарим — места крупнейших сражений. Менелик — негус Эфиопии; Таиту — его жена; Баратьери — бездарный главнокомандующий итальянским экспедиционным корпусом
(обратно)9
Чентезимо (centesimo) = 1/100 лиры.
(обратно)10
В Италии в каждой области говорят на особом наречии, иногда сильно отличающемся от наречий других областей.
(обратно)11
«Порка мадонна» — распространеннейшее итальянское ругательство, означающее «свинья богоматерь».
(обратно)12
Эрве, Гюстав (1871–1944) — в прошлом активный деятель социалистической партии — в ту пору основал Интернациональную антимилитаристскую лигу. В период первой мировой войны стал проводить ярую шовинистическую пропаганду в пользу империалистической войны «до победного конца». Позднее занимал антисоветские, профашистские позиции.
(обратно)13
Католические священники и монахи выбривают себе макушку; это является знаком их духовного звания и называется тонзурой.
(обратно)14
«Аванти» («Вперед») — ежедневная газета, центральный орган Итальянской социалистической партии; основана в декабре 1896 г. В годы первой мировой войны газета занимала непоследовательно-интернационалистскую позицию, не порывая связи с реформистами. Газета выходит и в настоящее время.
(обратно)15
«Азино» («Осел») — антиклерикальный сатирический иллюстрированный журнал, пользовавшийся в Италии большой популярностью
(обратно)16
«Лотте нуове» («Новая борьба») — социалистический еженедельник, выходивший в г. Мондови.
(обратно)17
Синдик — председатель муниципалитета.
(обратно)18
Палата труда — местное объединение профсоюзов в каждом крупном населенном пункте.
(обратно)19
Титулы «кавалеров» и «командоров» присваивались лицам, награжденным орденами; итальянские правители щедро одаряли ими по преимуществу военных и своих политических друзей.
(обратно)20
Ванцетти Бартоломео (1888–1927) — был казнен в США на электрическом стуле вместе со своим товарищем Никола Сакко 23 августа 1927 г. Оба они несколькими годами раньше эмигрировали в США в поисках работы. В 1920 г. Сакко и Ванцетти были арестованы по обвинению в убийстве двух банковских служащих, перевозивших крупную сумму денег. Несмотря на то что оба обвиняемые доказали свое бесспорное алиби, так как во время убийства, совершенного в г. Соут-Брентре (штат Массачузет), они находились в другом городе, американское «правосудие» приговорило их к казни на электрическом стуле. Американские власти целых семь лет продержали Сакко и Ванцетти в камере смертников. За спасение их жизни выступали миллионы трудящихся и прогрессивные люди всего мира, в том числе Максим Горький, Бернард Шоу и другие. Весь мир гневно протестовал против этой жестокой расправы американских империалистов с двумя невинными рабочими. Ныне, по прошествии более тридцати лет после этого «легального» убийства, совершенного американскими судьями, в США и в Италии созданы десятки комитетов, поставивших себе целью реабилитировать память Сакко и Ванцетти, павших жертвами американского «правосудия».
(обратно)21
Меднобородый — псевдоним товарища Джерманетто.
(обратно)22
Муссолини, Бенито (1883–1945) — ренегат Итальянской социалистической партии, главарь итальянского фашизма, диктатор Италии в 1922–1943 гг. В 1919 г. образовал фашистские погромные отряды для борьбы с революционным движением. В октябре 1922 г. в соответствии с указаниями монополистов и королевского двора инсценировал «поход на Рим» и захватил власть. Внутренняя политика Муссолини была направлена на подчинение итальянской экономики монополиям и удушение демократического движения; внешняя — на осуществление агрессивных планов итальянского империализма. В 1935–1936 гг. фашистская Италия захватила Эфиопию, в 1939 — Албанию, в 1936–1939 гг. осуществила в союзе с фашистской Германией интервенцию против Испанской республики; совместно с гитлеровской Германией развязала вторую мировую войну, а 22 июня 1941 г. присоединилась к преступному нападению германских фашистов на СССР. Разгром германских и итальянских войск на советско-германском фронте и связанное с этим усиление антифашистского движения в Италии привели к падению диктатуры Муссолини (25 июля 1943 г.). 28 апреля 1945 г., в период всенародного освободительного восстания в Северной Италии, Муссолини, возглавлявший марионеточное правительство на оккупированной гитлеровцами итальянской территории, был захвачен партизанами и казнен по приговору военного трибунала Комитета национального освобождения.
(обратно)23
Серрати Джачинто Менотти (1872–1926) — один из видных руководителей Итальянской социалистической партии. Участвовал в ее создании в 1892 г., редактор центрального органа партии «Аванти» и фактический руководитель ИСП с 1914 по 1923 г. Серрати в 1920–1921 гг. совершил грубые ошибки, заняв центристскую, максималистскую позицию. Эти ошибки он впоследствии признал и в 1924 г. во главе фракции «третьеинтернационалистов» вступил в Итальянскую коммунистическую партию. С этого момента и до последнего дня своей жизни Серрати был активным членом Центрального Комитета ИКП, преданным и мужественным борцом за дело рабочего класса.
(обратно)24
«Пополо д’Италия» («Народ Италии») — ежедневная газета, орган фашистского диктатора Бенито Муссолини.
(обратно)25
Лойола, Игнатий (1491–1556) — католический монах, основатель наиболее реакционной организации католической церкви — ордена иезуитов («Общество Иисуса»). Лойола считал допустимым любые преступления в интересах папства и церкви. Имя Лойолы стало синонимом лицемерия и преступности, прикрываемых религиозным ханжеством. В 1622 г. папа римский провозгласил Лойолу «святым».
(обратно)26
«Сальсотто» — венерическая больница в Турине.
(обратно)27
«Банко ди Рома» («Римский банк») — крупный банк, находящийся в руках клерикалов и сыгравший большую роль во время агрессивной войны в Ливии
(обратно)28
Тренто — область в Южном Тироле, Триест — порт на Адриатическом море (с преобладающим итальянским населением), принадлежавшие до первой мировой войны Австро-Венгрии; в 1918 г. были присоединены к Италии. Требование о присоединении к Италии Тренто и Триеста представляло собой боевой клич «ирредентистов» — националистов, агитировавших за вступление Италии в войну на стороне Антанты.
(обратно)29
Стрижка a la garçon — «под мальчика».
(обратно)30
«Перпетуи» — прозвище «экономок» безбрачных католических попов.
(обратно)31
Амичис Эдмондо де (1846–1907) — известный итальянский писатель-социалист.
(обратно)32
Непереводимая игра слов: по итальянски «pianta» одновременно означает «растение» и «план».
(обратно)33
Речь идет о выстреле сербского студента националиста Гавриила Принципа, который 28 июля 1914 г. убил австрийского наследного принца. Выстрел в Сараеве дал Австро-Венгрии повод предъявить Сербии ультиматум, за которым последовали мобилизации и открытие военных действий.
(обратно)34
«Идеа национале» («Национальная идея») — орган националистов, позднее примкнувших к фашистам.
(обратно)35
«Онореволе» («уважаемый») — титул депутата парламента Италии.
(обратно)36
Кадорна, Луиджи — генерал, главнокомандующий итальянскими войсками с 1915 г. по октябрь 1917 г.
(обратно)37
В районе горы Карсо (Истрия) шли бои между итальянскими и австрийскими войсками во время первой мировой войны.
(обратно)38
Речь идет о первой Циммервальдской конференции социалистов-интернационалистов, происходившей в сентябре 1915 г. в Швейцарии. Конференцией был принят манифест против империалистической войны.
(обратно)39
Либкнехт, Карл (1871–1919) — выдающийся деятель германского рабочего движения. На протяжении ряда лет вел активную революционную работу, борясь против оппортунизма в рядах германской социал-демократии. В 1912 г. был избран депутатом рейхстага. С первых дней первой мировой войны Либкнехт выступил как интернационалист. Он голосовал в рейхстаге против военных кредитов, разоблачал германский империализм, поддерживал большевистский лозунг — «превращение войны империалистической в войну гражданскую». В мае 1916 г. за организацию демонстрации против войны Либкнехт был арестован и приговорен к 4 годам каторжной тюрьмы, однако под давлением широких масс в условиях революционного подъема был освобожден в октябре 1918 г. В декабре 1918 г. принимал активное участие в создании Компартии Германии. 15 января 1919 г. был схвачен реакционной военщиной вместе с Розой Люксембург и убит.
(обратно)40
Иглезиас — маленький городок на о-ве Сардиния.
(обратно)41
Большинство приверженцев Джолитти в 1914 г. были сторонниками выступления Италии на стороне Германии и Австрии, против Антанты.
(обратно)42
Туринское восстание — вооруженное восстание туринских рабочих, вспыхнувшее 23 августа 1917 г. Возмущенные милитаристской политикой итальянского правительства, ввергнувшего страну в империалистическую войну, и вдохновленные примером революционной борьбы рабочего класса России, рабочие Турина пять дней вели героическую неравную борьбу против войск и полиции. Восстание было подавлено с бесчеловечной жестокостью: более 500 рабочих было убито и свыше двух тысяч — тяжело ранено.
(обратно)43
При Капоретто итальянские войска были разбиты австрийцами.
(обратно)44
Грамши, Антонио (1891–1937) — один из основателей Итальянской коммунистической партии, видный деятель международного рабочего движения. Родился в семье мелкого служащего. В 1913 г. вступил в социалистическую партию. Редактировал ряд социалистических периодических изданий. Во время первой мировой войны вел революционную антивоенную пропаганду. В 1919 г. основал в Турине еженедельник «Ордине нуово» («Новый строй») — теоретический орган, который вел борьбу за создание компартии.
В 1921 г. на Ливорнском съезде социалистической партии ее левое крыло, возглавленное Грамши и Тольятти, порвало с реформистско-центристским крылом этой партии и основало Компартию Италии. С IV конгресса Коминтерна (1922 г.) — Грамши — член Исполкома Коминтерна. Руководил революционным движением рабочего класса против фашизма. После захвата власти Муссолини (1922 г.) вел энергичную борьбу за разгром оппозиции в партии, за создание единого рабочего фронта и за объединение всех антифашистских сил. По инициативе Грамши компартией была организована газета «Унита». В 1924 г. Грамши был избран в парламент. В ноябре 1926 г. он был арестован, а в июле 1928 г. осужден фашистским судом на 20 лет тюремного заключения. В тяжелых условиях заключения Грамши продолжал работать для партии. Созданные им в тюрьме труды по теории марксизма явились важным вкладом в разработку политических и теоретических проблем итальянского рабочего движения. В 1937 г., замученный фашистами, он скончался в Риме в тюремной больнице.
(обратно)45
Одно из предместий Турина, прозванное рабочими «Республика Сан-Паоло».
(обратно)46
Пьяве — река в Южных Альпах.
(обратно)47
Турати, Филиппо (1857–1932) — итальянский социалист-реформист. До первой мировой войны и после нее — лидер правого крыла Итальянской социалистической партии. После раскола социалистической партии в 1922 г. возглавил реформистскую Унитарную социалистическую партию.
(обратно)48
Гора Граппа — гора в Италии в предгорьях Альп, в области Венето. В районе этой горы в 1917 г. проходил итало-австрийский фронт. Положение на фронте в тот период для Италии складывалось неблагоприятно, и итальянские правящие круги при содействии реформистских вождей развернули в стране широкую пропагандистскую кампанию, пытаясь разжечь милитаристские настроения в народе лозунгами: «Отечество в опасности», «Судьба родины решается у горы Граппа» и т. п.
(обратно)49
Орландо, Витторио Эмануэле (1860–1952) — крупный итальянский государственный деятель. Несколько раз был министром, а в 1917–1919 гг. — премьер-министром.
(обратно)50
Фортикъяри, Бруно — коммунистический депутат итальянского парламента, член первого Исполнительного комитета Итальянской компартии; впоследствии был исключен из партии за принадлежность к антипартийной группировке Бордиги.
(обратно)51
Кароти, Артуро — бывший коммунистический депутат и популярный детский писатель. Умер в эмиграции.
(обратно)52
Бордига, Амадео — до IV конгресса Коминтерна был секретарем Итальянской компартии. Исключен из партии за контрреволюционную деятельность во главе левацкой антипартийной группировки.
(обратно)53
Итальянское название Флоренции — Firenze — происходит от слова fiore — цветок.
(обратно)54
«Новая тюрьма» — название тюрьмы в Турине.
(обратно)55
Тревес Клаудио (1868–1933) — видный итальянский социалист-реформист, один из сторонников Турати.
(обратно)56
Сан-Карло — тюрьма при центральном управлении полиции Турина.
(обратно)57
«Да здравствует Ленин!»
(обратно)58
«Падаль» — на итальянском тюремном жаргоне доносчик, шпион.
(обратно)59
Баллоне — квартал трущоб Турина.
(обратно)60
«ФИАТ» — сокращенное название крупнейшей итальянской автомобильной фирмы.
(обратно)61
Съезд Итальянской социалистической партии в Болонье, происходивший с 5 по 8 октября 1919 г., закончился поражением реформистов и принятием огромным большинством голосов резолюции Серрати, в которой говорилось, между прочим, о вхождении Итальянской социалистической партии в III Интернационал.
(обратно)62
Партия «Пополари» — так называемая «народная» партия, основанная в 1919 г. агентами Ватикана с целью раскола рабочего движения. Большая часть руководителей этой партии впоследствии примкнула к фашизму. Прямой наследницей «Пополари» является правящая ныне в Италии партия «христианских демократов», которая вкупе с социал-демократами группы Сарагата, монархистами и неофашистами верно служит интересам американских монополистов.
(обратно)63
Нитти, Франческо Саверио (1868–1953) — крупный государственный и общественный деятель Италии. Премьер-министр в 1919–1920 гг. В период фашизма Нитти выступал против фашистской диктатуры.
(обратно)64
«Ордине нуово» («Новый строй») — теоретический орган, основанный Антонио Грамши, возглавлявшим левое крыло Итальянской социалистической партии. Выходил с 1919 по 1925 гг. под редакцией Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти, вначале два раза в месяц, а потом ежедневно.
(обратно)65
Тольятти (Эрколи), Пальмиро (р. 1893) — генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии. Родился в Генуе в семье мелкого служащего. Окончил Туринский университет, где познакомился с Антонио Грамши. В 1914 г. вступил в Итальянскую социалистическую партию. В 1919 г. стал одним из редакторов органа туринских революционных социалистов «Ордине нуово» («Новый строй»), который резко выступал против реформистско-соглашательской политики правого руководства партии. Под руководством Грамши и Тольятти туринская секция Итальянской социалистической Партии стала одной из самых боевых организаций итальянского пролетариата. Руководимая Грамши и Тольятти группа «Ордине нуово» внесла решающий вклад в дело создания Коммунистической партии Италии. В 1922 г. Тольятти был избран в состав ЦК Компартии Италии, в 1923 г. — в Исполком партии. С 1921 г. он руководил центральным органом партии — «Иль коммуниста», а с 1924 г. — газетой «Унита» («Единство»). За революционную деятельность Тольятти неоднократно подвергался арестам. В 1926 г. Тольятти по решению партии эмигрировал из Италии. С 1924 г. Тольятти — член Исполкома Коминтерна (ИККИ), с 1928 г. — член Президиума ИККИ. После ареста Грамши (1926 г.) Тольятти был избран генеральным секретарем компартии. Под его руководством компартия, находившаяся в подполье, развернула активную борьбу против фашизма. В 1935 г. Тольятти был избран секретарем Исполкома Коминтерна. В 1936–1939 гг. он принимал непосредственное участие в борьбе испанского народа против итало-германской интервенции и мятежников. В годы второй мировой войны Итальянская коммунистическая партия под руководством Тольятти возглавила борьбу патриотов Италии против фашистского режима Муссолини, а после его падения в 1943 г. — национально-освободительную войну против гитлеровских захватчиков, оккупировавших Италию. После окончания войны коммунистическая партия под руководством Пальмиро Тольятти превратилась в крупнейшую, авторитетнейшую партию в стране. Тольятти является крупным теоретиком-марксистом, автором ряда работ по вопросам итальянского и международного рабочего движения.
(обратно)66
Террачини, Умберто (р. 1895) — видный деятель итальянского рабочего движения, член Руководства Итальянской коммунистической партии. Принимает участие в рабочем движении с 1911 г. В 1919 г. был избран секретарем туринской секции социалистической партии, тогда же вошел в марксистскую группу «Ордине нуово». Один из основателей Итальянской компартии, он в 1921 г. был избран членом ЦК и Исполкома ИКП. В 1926 г. был заключен фашистами в тюрьму. Находился в тюрьмах и ссылке до августа 1943 г., принимал деятельное участие в национально-освободительной войне итальянского народа (1943–1945 гг.). В 1946 — начале 1947 г. — вице-председатель, а в 1947 г. — председатель Учредительного собрания; с 1948 г. — сенатор, с 1950 г. — член Всемирного Совета Мира.
(обратно)67
Галерея — модный торговый пассаж в Милане.
(обратно)68
Д'Арагона — итальянский профсоюзный лидер того времени, реформист.
(обратно)69
От того времени, когда Италия была раздроблена на целый ряд государств, в некоторых областях еще сохранились внутренние таможенные заставы; вывозимые местные продукты облагаются специальными налогами.
(обратно)70
Парода, Джованни — рабочий-металлист, член компартии с момента ее основания. В настоящее время — член ЦКК Итальянской коммунистической партии.
(обратно)71
Марабини, Ансельмо — старейший деятель итальянского социалистического движения, был членом I Интернационала; с 1921 г. — член ИКП; одно время — председатель ЦКК партии. Умер в 1949 г. в возрасте 84 лет.
(обратно)72
Аморетти, Джузеппе — еще в молодости вступил в ИКП. Был редактором «Унита». Особый фашистский трибунал приговорил его к долголетнему заключению. После освобождения из тюрьмы продолжал активно работать в подполье. Во время пребывания по поручению партии заграницей заболел и умер.
(обратно)73
Пасторе. Оттавио — член ИКП с момента ее основания. Бывший железнодорожник. Ныне — сенатор. Один из лучших партийных публицистов.
(обратно)74
Союз труда — рабочее объединение, которое по замыслу коммунистов должно было объединить силы всего итальянского пролетариата против фашизма; оно было предано реформистами.
(обратно)75
Траттория — трактир, столовая.
(обратно)76
Город Салюццо расположен в долине реки По, у подножия отрогов Альп.
(обратно)77
Одна из пыток, применявшихся фашистами: жертву насильно заставляли выпивать литр касторки, что нередко приводило к разрыву кишок и к смерти.
(обратно)78
Масоны или франк-масоны, — участники религиозно-мистического движения, возникшего в XVIII веке, призывавшего к «нравственному усовершенствованию» людей и «братской любви». Масонство до сих пор распространено в капиталистические странах.
(обратно)79
Гриеко, Руджеро (1893–1955) — один из старейших членов и руководящих деятелей Итальянской коммунистической партии; сенатор, видный публицист; автор ряда теоретических работ, в частности по аграрному вопросу.
(обратно)80
Так называли карабинеров, почти всегда патрулировавших попарно.
(обратно)81
На воровском жаргоне — судья.
(обратно)82
На условном тюремном языке — год.
(обратно)83
«Рокамболь» — приключенческий роман французского писателя Понсон дю Террайля.
(обратно)84
Кирдуччи, Джозуэ (1835–1907) — знаменитый итальянский поэт-лирик.
(обратно)85
Биболотти, Алодино — коммунист, бывший секретарь коммунистической федерации в Масса-Карраре (Тоскана). Несколько раз был избит и ранен фашистами, которые сожгли его дом и изгнали его из Тосканы. Впоследствии был приговорен к восемнадцати годам каторги. Умер в 1951 г.
(обратно)86
Тибурци — легендарный разбойник, пользовавшийся большой популярностью в Италии.
(обратно)87
«Реджина чели» («Царица небесная») — так называется главная тюрьма в Риме.
(обратно)88
Официальное название министерства юстиции.
(обратно)89
Де Боно — начальник департамента полиции, один из участников убийства Маттеотти.
(обратно)90
Соответствует русской поговорке «бог шельму метит».
(обратно)91
Монтечиторио — здание итальянской палаты депутатов.
(обратно)92
Бомбаччи, Никола — ренегат компартии, впоследствии перешел к фашистам. Во время второй мировой войны расстрелян итальянскими партизанами.
(обратно)93
Малатеста, Энрико — известный итальянский теоретик анархизма.
(обратно)94
Римский салют — приветственный жест древних римлян, принятый итальянскими фашистами: приподнятая, вытянутая вперед рука.
(обратно)95
Национальный профсоюзный коммунистический комитет — орган, объединявший коммунистов, которые вели работу в профсоюзах.
(обратно)96
Маттеотти, Джакомо (1885–1924) — итальянский социалист, с 1922 г. — секретарь реформистской Унитарной социалистической партии. Проявил большое личное мужество в борьбе с фашизмом. В 1919–1924 гг. — депутат парламента. После выборов в апреле 1924 г. выступил на первом заседании нового парламента с разоблачениями мошеннических избирательных махинаций фашистов. Был похищен и убит 10 июня 1924 г. фашистской бандой по приказу Муссолини. Убийство Маттеотти дало сильный толчок развертыванию антифашистской борьбы в Италии.
(обратно)97
Роведа — коммунист, бывший секретарь профсоюза деревообделочников. В настоящее время — член Центральной Контрольной Комиссии ИКП.
(обратно)98
Каррето — рабочий-металлист, долгие годы находился в заключении за принадлежность к компартии. Ныне — профсоюзный деятель.
(обратно)99
По-итальянски «вождь».
(обратно)100
«Сан-Пьетро» — собор св. Петра в Риме.
(обратно)101
«Цветочки св. Франциска» — рассказы о Франциске Ассизском (1182–1226). Автор неизвестен.
(обратно)102
III съезд состоялся в Лионе в январе 1926 г.
(обратно)103
До Сардо — коммунистический депутат от Сицилии. Умер в каторжной тюрьме.
(обратно)104
Гибсон — ирландка, покушавшаяся на жизнь Муссолини. Английское правительство настойчиво ходатайствовало и добилось высылки ее из Италии на родину.
(обратно)105
11 мая 1926 г. Серрати, страдавший тяжелой болезнью сердца, умер в пути на нелегальное заседание Центрального Комитета Итальянской коммунистической партии, которое должно было состояться в горах в районе озера Комо (на швейцарской границе).
(обратно)106
Лючетти — итальянский анархист, был приговорен к смертной казни за покушение на Муссолини 11 сентября 1926 г.
(обратно)107
Маффи, Фабрицио (1868–1954) — один из ветеранов социалистического движения в Италии. Член коммунистической партии с 1924 г. В 1926 г. был арестован и приговорен к нескольким годам ссылки и тюремного заключения. После крушения фашизма — сенатор, член ЦК Итальянской коммунистической партии.
(обратно)
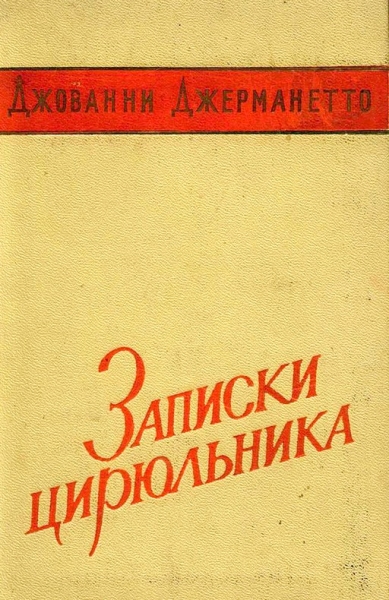
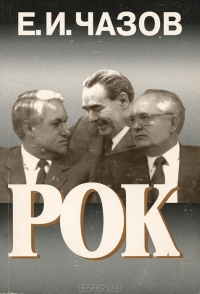
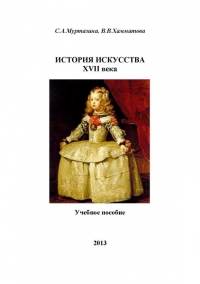

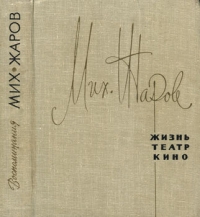
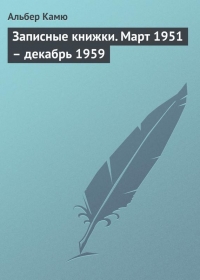
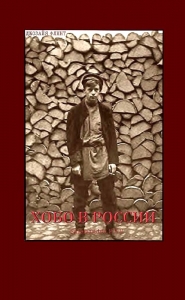

Комментарии к книге «Записки цирюльника», Джованни Джерманетто
Всего 0 комментариев