Лоренцо Да Понте Мемуары Лоренцо Да Понте
«В Вене было не более двух маэстро, действительно достойных, по моему мнению, этого имени: Мартини, на тот момент фаворит Иосифа II, и Вольфганг Моцарт, которого я имел случай повстречать в то время у барона де Ветцлар, его друга; Вольфганг Моцарт, хотя и обладавший от природы музыкальным гением, возможно, величайшим из всех композиторов прошлого, настоящего и будущего, не мог еще развернуть во всем блеске свой божественный гений в Вене из-за череды происков своих врагов; он пребывал там во мраке и неизвестности, подобно драгоценному камню, который, спрятанный в недрах земли, скрывает там секрет своего блеска. Я не могу без ликования и гордости подумать, что только моя настойчивость и моя энергия стали, по большей части, причиной того, что Европа и весь мир стали свидетелями полного раскрытия волшебных музыкальных композиций этого несравненного гения»
Лоренцо да Понте.Мемуары Лоренцо Да Понте, венецианского поэта, либреттиста Моцарта, переведенные с итальянского на французский г-ном К. Д. де ла Шаванн, а с французского на русский Л. М. Чачко.
I
Я публикую свои Мемуары. Но поскольку я не пишу историю человека, выдающегося по своему рождению, своим талантам или блеску услуг, оказанных им своей родине, я буду говорить по возможности мало о своей стране, моей семье и моем детстве; я ограничусь фактами, которые, хотя и не будучи замечательными, смогут, по крайней мере, своей странностью и неожиданностью, доставить несколько часов развлечения моим читателям.
Я родился 10 марта 1749 года в Ченеде, маленьком городке, однако пользующемся некоторой известностью в Венецианском государстве. В возрасте пяти лет я потерял свою мать. Отцы, по большей части, мало занимаются первыми годами своих детей, мои ранние годы были полностью заброшены; читать и писать – была вся моя наука в одиннадцать лет. В этом возрасте мой отец удосужился дать мне некоторое образование. К сожалению, он выбрал дурного воспитателя. Это был крестьянский сын; он поменял своих быков и телегу на направляющую ферулу и внес в свои новые обязанности всю неотесанность своего происхождения; он вложил мне в руку грамматику Альваро и возымел претензию обучить меня латыни. Я учился несколько месяцев и абсолютно ничего не усвоил. Несмотря на это отсутствие знаний, все упорно смотрели на меня как на ученого; я был наделен превосходной памятью, редким умом, я обладал легкой речью, быстрой реакцией и при этом неутолимой жаждой познания. При этих счастливых качествах, мой отец с удивлением видел, сколь мало я извлекал из уроков своего учителя. Он хотел выяснить причину этого, и ему не стоило больших усилий в ней разобраться. Он зашел однажды в мою учебную комнату и стал наблюдать, стоя позади моего педагога. Тот же, разозленный ошибкой, которую я сделал, повторяя урок, сжал кулак и обрушил его мне в голову с силой, подобной удару кузнеца по наковальне: это было, впрочем, его ежедневное времяпрепровождение. Не могу сказать, обида или боль вызвала у меня невольную слезу; эта слеза не ускользнула от внимания моего отца. Она поразила его в сердце. Приблизиться к педагогу, схватить его за волосы, выволочь его вон из комнаты и спустить с лестницы было делом одного мгновения, обрушив на того все, что попалось ему в руку, включая мою грамматику Альваро – первую причину этой сцены. В течение трех лет речь больше не заходила о латыни. Мой отец был уверен, что именно отвращению к моему наставнику следует приписать мой малый прогресс в изучении этого языка, и, может быть, он был прав. Исход этой сцены был для меня фатальным: до четырнадцати лет я оставался полностью отстранен от какой бы то ни было науки и, поскольку весь мир оставался в мой голове в своем естественном состоянии, я краснел, оставаясь менее продвинутым по сравнению с остальными молодыми людьми Ченеды, которые, забавляясь, называли меня умственно отсталым. Не могу описать, насколько сильное смущение я ощущал при этом, и какая жажда знаний меня охватывала. Поднявшись однажды на чердак, где мой отец имел привычку складывать свои старые бумаги, я нашел там несколько книг, которые, полагаю, составляли всю его библиотеку. В этой куче авторов, более или менее известных, я наткнулся вскоре на томик Метастазио. Я прочел его на одном дыхании, и стихи этого божественного поэта произвели в моей душе эффект самой восхитительной музыки. Десять лет спустя после смерти моей матери отец сочетался вторым браком и дал мне в мачехи молодую девушку, которой не было еще и семнадцати лет; ему было в это время свыше сорока. Поощряемый желанием развить свой ум и предвидя между тем последствия столь диспропорционального брака, я понял, что мне следует изыскивать других ресурсов, которые я не мог больше надеяться найти в отчем доме. В ту пору епископом Ченеды был монсиньор Лоренцо Да Понте; это был человек высокого благочестия, большой толерантности, наделенный самыми редкими христианскими добродетелями; он обладал, кроме того, глубоким влиянием на мое семейство. Я решительно представился ему и попросил поместить меня, как и одного из моих братьев, в семинарию, которой он руководил. Мой поступок понравился этому уважаемому прелату. Он увидел в нем с нашей стороны живое стремление к получению образования в наилучших условиях. Он согласился с радостью и даже взял на себя, с редкой добротой, оплату всех расходов, достаточно больших, связанных с этим предприятием. Прогресс, который мы обнаружили в нашей учебе, отвечал надеждам нашего благодетеля. Менее чем в два года мы уже писали с элегантностью на ученой латыни, с особенным старанием занимаясь этой дисциплиной, так необходимой ученикам, которым предназначалось принять сан священника. Что же касается современных языков, они рассматривались только как дополнение. Мой отец заблуждался относительно моей склонности и поощрял меня, более в согласии с обстоятельствами, чем в соответствии с отцовским долгом, стремиться к Церкви; таким образом, я воспитывался, чтобы стать священником, хотя был увлекаем, согласно своему вкусу и по природе, к занятиям вполне противоположным, таким, что в восемнадцать лет, способный сочинить за полдня проповедь или более пятидесяти стихов элегантной латынью, я был не в состоянии написать письмо в несколько строк на своем родном языке. Первый, кто был поражен этой ошибкой образования и вызвался ее исправить, был аббат Кальяри, молодой священник, наделенный горячим и поэтическим воображением, недавно вышедший из коллежа в Падуе, где чтение Данте и Петрарки было столь же распространено, как и Горация и Вергилия; он начал, прежде всего, читать, объяснять, а затем и прививать вкус большому числу учеников, составлявших его класс, к прозе, а также стихам наших национальных поэтов. Среди молодых людей, наиболее прилежно воспринимавших его уроки, особенно отличались Джироламо Перучини и Микеле Коломбо. Я обязан влиянию, которое они оказывали на меня, более, чем другой причине, быстротой моих успехов в поэзии. Полагаю, я здесь должен привести факт, который, при всей кажущейся несерьезности, дает представление о том влиянии, что может оказать на юное воображение добрый совет или опасение неодобрения. Коломбо учился хорошо; он писал итальянские стихи, полные очарования и грации. Он доставлял себе удовольствие читать мне их время от времени, чтобы побудить меня делать попытки к поэтическому творчеству. Я рискнул заняться этим. Желая попросить у моего отца некую небольшую сумму денег, я решил получить ее наиболее легким путем, адресовав ему эту просьбу в форме сонета. Напрягая мозги, я смог выдать четыре первых стиха:
Сонет
Передайте мне, прошу вас, о, мой отец, Пятнадцать-двадцать су, если можете, Тогда я возьму в руки мою гитару И воспою хвалу деньгам.Я собирался продолжить дальше, когда взрыв смеха, разразившийся позади меня, заставил меня резко повернуть голову, и я увидел Коломбо, читающего мой последний стих и повторяющего его тоном, каким слепые нищие гнусавят свои жалобы под аккомпанемент мандолины. Я заплакал от злости и три дня не осмеливался смотреть в лицо Коломбо, который, доведя поддразнивание до конца, не прекращал преследовать меня своей пантомимой; наконец, изводя меня довольно долгое время, он доказал мне свою дружбу, дав совет не стесняться, но стараться писать лучше. Я стал теперь читать и изучать наших лучших авторов, до того, что забывал пить и есть: Данте, Петрарка, Ариосто и Тассо стали моими наставниками; менее чем в шесть месяцев я знал наизусть весь «Ад» первого, самые прекрасные сонеты второго и самые замечательные куски двух других. После того, как я сложил и сжег более двух тысяч стихов, я получил, наконец, надежду на возможность состязаться с моими соучениками.
По случаю присвоения нашему ректору высшей степени, я прочел сонет. Я говорю здесь об этом только для того, чтобы дать представление о том прогрессе, который я совершил за эти шесть месяцев. Поскольку я работал втайне, все мои товарищи отказывались признать, что эти стихи мои. Только Коломбо поверил этому. Он дошел даже до того, что дал клятву не писать более по-итальянски, клятву, которую позднее его заставила нарушить юная и прекрасная особа, в которую мы оба оказались влюблены, и которой одновременно адресовали творения нашей музы. Это всеобщее недоверие, стимулируя мое самолюбие, заставило меня удвоить усилия и принять решение посвятить себя единственно поэзии. Менее чем в два года я поглотил не только всех наших классических авторов, но все сколько-нибудь заслуживающие внимания творения; я их читал, я воспроизводил на латыни их самые замечательные страницы, я их переводил по нескольку раз, комментировал, критиковал, тренируя этим свою память, и упражнялся в во всех родах композиции, во всех ритмах, впитывая их самые прекрасные мысли и стараясь поднять мой стиль до их высот, словом, отождествляя себя, насколько это возможно, с этими неподражаемыми образцами, среди которых божественный Петрарка всегда занимал у меня особое положение, и у которого я, при каждом чтении и в каждом стихе, находил все новое очарование. Таким образом, упорной работой, по прошествии трех лет, я смог усовершенствоваться, и часто мои стихи вызывали триумфы. Кантата, представленная мною на конкурс, в числе других самых отличившихся молодых людей Ченеды, принесла мне самые большие поздравления; далекий от того, чтобы гордиться этими похвалами, я здраво отнес их не более чем к вежливости и ободрению, которое принято всегда давать молодости, я работал над тем, чтобы со временем их заслужить. Я избегнул, таким образом, подводных камней, о которые разбиваются обычно молодые таланты, которые полагают, что достигли апогея, в то время, как они едва должны были бы всерьез браться за учебу. Некоторые счастливые природные свойства, большая любовь к поэзии и весьма чистые принципы принесли бы мне, без сомнения, репутацию поэта, если бы моя несчастливая судьба не бросала меня все время, вопреки моим лучшим побуждениям, и не толкала беспрестанно под откос к самым жестоким жизненным испытаниям, вырывая из этого мира и его нежных укрытий, без которых человеческий ум не может достигнуть целей, которые он себе ставит.
II
Я завел, за счет большой экономии, маленькую коллекцию книг, которую предполагал увеличивать покупкой лучших итальянских авторов. У нас был в Ченеде старый букинист, который, несмотря на свою малую эрудицию, имел достаточно вкуса, чтобы собрать в своей лавке лучшие творения литературы, где я мог легко найти те, которых мне не хватало. Я выбрал там несколько «Эльзевиров», чья стоимость значительно превосходила содержимое моего бедного кошелька. Этот добрый старик придумал способ, который должен был уладить его дела и мои; у него был сын-сапожник, речь шла о том, чтобы поставлять ему кожу с фабрики моего отца и оплачивать таким образом мои счета у него. Способ пришелся мне по вкусу, я прибежал домой, проник украдкой в магазин, стащил там три кожи, связал их аккуратно в пакет и понес за спиной под одеждой, направившись к открытой двери наружу; я встретил там мою мачеху, болтавшую с соседками. Трепеща, что она заметит мою кражу, я сделал пируэт, чтобы ускользнуть в другую дверь, но, оказавшись на улице, не мог избежать того, чтобы пройти мимо этого женского конгресса. Едва сделав несколько шагов, я услышал, как одна из этих женщин громко сказала: – «Как жаль, что такой красивый молодой человек горбат!». Я сделал прыжок, чтобы проскочить стороной, но при этом резком движении мой пакет упал, к великой радости болтушек. Моя мачеха бросилась вперед, чтобы его схватить, в то время, как я, продолжив свой путь, бросился со всех ног к моему доброму букинисту, которому рассказал о своей неудаче. Я дал ему некоторый задаток, настойчиво попросив сохранить для меня несколько книг, которые я выбрал, на что он любезно согласился. Моя мачеха не замедлила доложить обо мне моему отцу; тот пришел назавтра в коллеж высказать мне свои упреки, так что я никак не мог его утихомирить и еще менее – добиться у него суммы, которая была мне нужна и которая не превышала дюжины пиастров. Однако дело обернулось к моей пользе; преподобный епископ вызвал меня к себе и потребовал от меня детальный рассказ, который выслушал со слезами на глазах, затем выдал мне сумму, достаточную, чтобы покрыть мой долг. Удовольствие, что я получил от своего приобретения, длилось недолго: ужасная болезнь, продолжавшаяся шесть месяцев, которая ввергла мою семью в тяжелую тревогу на мой счет, несколько домашних несчастий, которые постигли моего отца, и, под конец, смерть монсиньора да Понте, моего покровителя, не только лишили меня надежды продолжить мою учебу, но погрузили в бедность мою семью, которая находила в щедрости этого прелата защиту и помощь. Это был год потерь, я вынужден был лишиться большей части моих книг, как для поддержания в порядке моего гардероба, так и для моих ежедневных нужд. Это состояние нужды заставило меня отказаться от руки молодой девушки, которую я нежно любил, и выбрать путь, противный моим вкусам и моим занятиям, который привел к тысяче несчастий, которые воля и ненависть моих врагов использовали, чтобы угнетать меня в течение двадцати лет. Я обойду молчанием детали этого жестокого периода, чтобы перейти к тому моменту, когда фортуна, казалось, мне улыбнулась. Монсиньор Зиборги, уважаемый каноник кафедрального собора, захотел заменить благодетеля, которого мы оплакивали, и стать покровителем моих братьев и меня. Он облегчил нам поступление в одно из своих прекрасных заведений, которыми всегда гордилась Венеция. По его рекомендации я был принят, вместе с двумя из моих братьев, в семинарию Портогруаро, где смог продолжить свое обучение. Я прослушал курсы философии и математики, не теряя, однако, из виду моих дорогих муз, и, в то время как наш профессор силился объяснить нам Эвклида, Галилея и Ньютона, я тайком читал и учил наизусть то «Аминту» Тассо, то «Верного пастыря» Гуарини. К концу года я декламировал под единодушные аплодисменты кантату в честь Св. Луи; последние стихи особенно вызвали всеобщее одобрение. «Ревнивое небо лишило нас нашего благодетеля, как если бы эта звезда заставляла померкнуть небесный свод». Высокая оценка, данная этим стихам видным лицом, принесла мне кафедру риторики, которую Монсеньор де Конкордиа вручил мне в тот же день. В течение некоторого времени моей навязчивой идеей было совершенствоваться в изучении древнееврейского языка, который я уже знал, и предаться древним грекам, понимая, что без их углубленного чтения нельзя стать поэтом. Я колебался принимать эту кафедру, но, поддавшись на уговоры моего ректора, который питал ко мне большую дружбу, и еще более надежде улучшить положение моего отца, я согласился; итак, в возрасте, когда я сам еще нуждался в учении, я принял на себя тяжелую ношу преподавать другим классическую литературу. Мне едва исполнилось двадцать два года; более тридцати молодых людей, исполненных рвения и чувства соперничества, недавно еще моих соучеников, были поручены моим заботам. Епископ не переставал поощрять мое самолюбие и мое усердие, весь город смотрел на меня, представляя себе мое постоянное напряжение. Я удвоил свои усилия, чтобы достойно выполнить обязанности, которые были на меня возложены, и то, что мои учителя не имели времени мне преподать, я постигал сам, преподавая моим ученикам. Как говорил ученый раввин: Ulmissamidai rabadi miculam (цитата на древнееврейском, ולמיסה מדי רבדי מכולם, по смыслу – все доброе накапливается – прим. перев.). Мое повышение на этой кафедре стоило мне враждебности двух или трех профессоров семинарии, которые стали моими ожесточенными гонителями. Согласно им, не имея углубленного знания ни математики, ни физики, мое образование было неполным, и я был не более чем поверхностный болтун, злой версификатор. Чтобы ответить на эту клевету, я составлял различные куски итальянской и латинской поэзии, на различные сюжеты, среди прочих – дифирамб в честь ароматов, и сделал так, чтобы они читались публично в конце года учениками моего класса; они заслужили всеобщее одобрение. Какое унижение для моих врагов видеть меня объектом восторга всего состава студентов, самых выдающихся ученых города и самого епископа! Их ненависть не знала границ. Наконец, после двух лет борьбы, терпения и самоотверженности, я счел ношу выше моих сил и подал в отставку; это привело к тому, что, плавая между тысячей различных проектов, моя несчастная звезда направила меня в Венецию.
III
В расцвете сил и в кипении страстей, наделенный приятной внешностью, увлекаемый дурными примерами, я предался всем соблазнам удовольствия и забросил полностью литературу и учебу. Я испытал могучую страсть к одной из самых прекрасных, но также и самых капризных сирен этой столицы; все мое время было отдано самым легкомысленным развлечениям. За исключением нескольких часов, оторванных от сна и посвященных чтению, я не удосужился, за те три года, что длилась эта связь, добавить что-либо к тому, что я уже знал. Единственный раз Провидение, как мне казалось, проявило ко мне сочувствие и дало шанс избегнуть опасности. Устав от ревности и капризов женщины, с которой я был связан, я имел, к счастью, привычку заканчивать мои вечера в кафе «Литераторов», месте, где собирались культурные люди Венеции. Находясь там как-то вечером во время карнавала, я вижу входящего гондольера, который, пробежав взглядом вокруг, с таинственным видом, сделал мне знак выйти и следовать за ним; он отвел меня на берег соседнего канала и провел на барку, привязанную напротив кафе; не сомневаясь совершенно, что он был направлен моей любовницей, которая часто приходила встречать меня на этом самом месте, я молча сел рядом с женщиной, которая там находилась. Ночь была темная, и, поскольку занавески гондолы были опущены, была полная темень. Обменявшись первыми словами, не узнав голоса подруги, я стал убежден, что наше положение, более чем двусмысленное, явилось результатом ошибки, но, отнюдь не желая закончить таким образом приключение, начало которого задело мое любопытство, я ощутил руку на своих губах, согласно итальянскому обычаю; эта рука была милая, и, почувствовав, что ее хотят отнять; я удержал ее нежно, давая понять самым уважительным образом о своем повиновении. Моя прекрасная незнакомка продолжила просить меня отодвинуться. Я сделал то, чего она хотела. Поняв по ее акценту, что она иностранка, я употребил все свое красноречие, чтобы она позволила мне, по крайней мере, проводить ее до ее жилища; она упорно отказывалась, и я должен был уступить, больше не настаивая. Единственная милость, что я добился, состояла в том, что она согласилась принять мороженое, за которым я отправил нашего гондольера. При свете фонаря, с которым он пришел, я увидел молодую женщину замечательной красоты и изысканности; ей могло быть восемнадцать лет, ее наряд был безупречно хорошего вкуса, манеры утонченные, и разговор обнаруживал тонкий и образованный ум. Восхищенный, я хранил молчание; но заметив, что мой вид произвел на нее благоприятное впечатление, я приободрился и ощутил еще более живое желание с ней познакомиться. Чувствительная к вниманию, которое я ей оказывал, она решилась, наконец, сказать мне, что странная ситуация, в которой она оказалась, дает ей право уклониться от моих вопросов, но что обстоятельства могут измениться, и что, возможно, мы сможем как-нибудь увидеться. Она дала мне слово, что в этом случае она изыщет способ; я ответил на ее доверие, назвав себя, и мы назначили место и время нашего будущего рандеву, после чего я оставил ее одну. Каждый вечер я с нетерпением приходил в кафе и каждый раз испытывал разочарование и новую пищу для страсти, которая, разгораясь от препятствий, нарастала с каждым днем и набирала тем более силы, что гнет, под которым я жил, становился невыносимым. Подавленный и разочарованный, я решил покинуть Венецию и предпринять путешествие, это великое средство для лечения сердечных ран – напрасная надежда; отсутствие только оживило мои воспоминания, и по истечении восьми дней борьбы с самим собой, более влюбленный, чем прежде, я возвратился в Венецию. Пусть объяснит, кто может, странности сердца! Поглощенный единым образом, я оказался достаточно легок, чтобы снова взвалить на себя ненавистное ярмо, от которого бежал, и принять предложение моей прежней любовницы поселиться у нее. Тем не менее, моей первой заботой было прийти в кафе и поинтересоваться, не приходило ли какое-либо послание в мой адрес. К моему большому огорчению, я узнал, что появлялся гондольер, и что ему было сказано, что я в путешествии. Я решил, что мне следует оставить всякую надежду встретить когда-нибудь мою прекрасную незнакомку. Однажды, когда я прогуливался по площади Сен-Марк, я почувствовал, что меня дергают за полу моей одежды, и в то же время услышал, что произносят мое имя; это был гондольер, который отводил меня на мое первое свидание, и который, с радостью, написанной на лице, восклицал: «Какое счастье! Я тотчас скажу моей хозяйке! Этим же вечером». Затем он убежал, не слушая моего ответа; и действительно, вечером я увидел его поджидающим меня на том же месте, и последовал за ним. Едва я ступил ногой на ее гондолу: «Ну вот, – сказал мне голос, который заставил меня задрожать, – я сдержала свое слово»; и в то же мгновение она отдала приказ отвезти ее к себе. Я был препровожден в элегантные, но простые апартаменты; она усадила меня рядом с собой. «Прежде всего, – сказала она, – надо, чтобы вы, наконец, узнали, кто я и в силу каких обстоятельств я нахожусь в Венеции».
IV
«Я родилась в Неаполе; мое имя Матильда, я дочь и единственная наследница герцога де М… Мой отец, у которого было двое детей, когда он имел несчастье потерять мою мать, женился, после десяти лет вдовства, на девице низкого происхождения, которая не замедлила взять над ним необычайную власть; пользуясь слабостью его характера, она смогла то ли полностью погасить, то ли в значительной мере подавить в нем отцовские чувства. Ее первым распоряжением было заставить выехать в Венецию моего брата, который был помещен в коллеж, где умер менее чем в шесть месяцев. Что касается меня, которая ожидала тогда своего одиннадцатилетия, она добилась, чтобы меня поместили в монастырь в Пизе, где я прожила шесть лет, не пользуясь утешением увидеть моего отца, ни даже получать от него известия. Монахи постарались использовать все средства обольщения, чтобы убедить меня принять постриг, но я оказала им упорное сопротивление. Однажды утром, к моему большому удивлению, моя мачеха вошла в мою комнату; она прибыла накануне вместе с моим отцом, который, как говорила она, слишком устал от путешествия и побоялся переживаний, которые мой вид наверняка вызовет у него. Затем, изображая передо мной полнейшую материнскую любовь, она продолжила: «Я с удовольствием узнала, что вы не чувствуете никакой склонности к монастырской жизни; я решила вывести вас в свет. Ваш отец, который доверил мне ваше будущее, и который знает, что я не ценила бы вас сильнее, если бы вы даже были моей собственной дочерью, предложил вам замужество по моему выбору. Вы будете безусловно счастливы. Если вы пообещаете мне полностью подчиниться моей воле, вы завтра покинете эти стены, которые вам противны, если же нет!..» Я, которая испытывала ужас перед монастырем, и которая, после шести лет тюрьмы, сгорала от желания обнять моего отца, – едва я услышала эти слова, как, обвив ее руками, воскликнула: «Я соглашаюсь со всем, что вы мне прикажете». Она прижала меня к сердцу и, покрыв поцелуями, потребовала, чтобы я покинула этот дом тотчас же, не дожидаясь завтрашнего дня. Мы сразу направились в отель, где остановился мой отец; когда он увидел меня, лишь единственное восклицание вырвалось из его уст: – Моя дочь! – Ваша дочь, ваша послушная дочь! – ответила моя мачеха. Природа вступила в свои права, наша радость и наше счастье были безграничны. Не теряя времени мы выехали в Неаполь, где единственной заботой стали приготовления к свадьбе. Моя мачеха велела приготовить две комнаты, примыкающие к своим апартаментам; я там поселилась, однако я тут же заметила, что я являюсь там объектом строгого наблюдения; я не могла выйти без ее разрешения и мне было невозможно завязать какой-либо разговор вне ее присутствия. Однажды, когда я, погрузившись в свои размышления, была, как обычно, одна, она вдруг вошла и, отведя в свою комнату, дверь которой заперла за собой, достала из шкафа ларец с жемчугами и каменьями. «Это колье, – сказала она, – первый подарок вашего будущего супруга; это лишь прелюдия к богатым украшениям, что ждут вас в его дворце, и которые достойны положения, которое вы должны занять при дворе. Постарайтесь не оказаться неблагодарной и будьте мне признательны за то, что я для вас делаю». Внезапно дверь распахнулась, и я увидела безобразного старика, сопровождаемого двумя священниками и многочисленной свитой из ливрейных лакеев и пажей. Мой отец следовал за ними, молчаливый, опустив голову.
«Вот ваш супруг, Матильда, – говорит мне моя мачеха и, повернувшись к старику, добавляет – Принц, вот супруга, которую вы получаете из моих рук, и лишь затем – из рук этих благочестивых священнослужителей». Я онемела. Принц бормотал некие слова, которых я не слышала; вернувшись к себе, охваченная горем и отчаянием, я испустила ужасный крик, я сорвала вуаль, которую укрепили мне на голову, и, отворив дверь в коридор, воскликнула вслед толпе голосом, прерываемым рыданиями: «Милости! Милости!», падая на колени перед моим отцом. В мгновенье ока комната опустела. Этот акт неповиновения вызвал ярость этой коварной женщины. Оставшись наедине со мной и моим отцом, у которого не хватало энергии, чтобы меня защитить, моя мачеха с силой зазвонила в звонок. Прибежали два служителя и отволокли меня, скорее мертвую, чем живую, в коляску, где я потеряла сознание. Придя в себя, я оказалась в комнате, меблировка которой состояла из убогого ложа, стола и двух стульев; окна были забраны железными решетками и расположены так высоко, что невозможно было до них достать. Охваченная тысячей мыслей, остаток дня я провела в стонах и рыданиях. Ближе к вечеру послышался снаружи звук ключа, дверь отворилась, и я увидела вошедшую женщину отталкивающего вида и фигуры. Не произнося ни слова, она поставила на стол корзину и, внимательно меня оглядев, вышла. Открыв корзину, я нашла там кусок хлеба и графин воды. Так прошло пятнадцать дней, в течение которых я каждый раз видела эту женщину и получала ту же провизию. Я опасалась, что эта комната должна стать моей могилой, когда на пятнадцатую ночь, едва уснув, я проснулась от шума, производимого человеком, который вошел ко мне. Это была женщина, которая, проскользнув ко мне, сказала мне на ухо: «Не бойся ничего, я твоя кормилица». Я бросилась ей на шею; она позвала меня немедленно следовать за ней, что я и проделала; у двери дома мы нашли запряженную почтовую коляску и молодого человека в дорожном одеянии, держащего в руке пакет с завернутой в него мужской одеждой; моя кормилица сказала, что передает меня своему сыну, и что мое единственное спасение состоит в бегстве. Я быстро переоделась в одежды, которые они мне дали, и мы уехали. Проехав стрелой Рим и Флоренцию, мы остановились только в Падуе, где я и остановилась отдохнуть. Во время поездки мой спутник смог мне рассказать, как моя мачеха с помощью позорного торга, при котором она продала меня и огромное наследство, принадлежащее мне по завещанию моей матери и которое составляло мое приданое, получив от человека, который хотел на мне жениться, значительную сумму денег; как мой отец, полностью отстранившийся от этой отвратительной интриги, но обеспокоенный моей грустной ситуацией, обратился к моей кормилице, чтобы меня освободить, и как, наконец, чтобы облегчить ей выполнение этой задачи, он вручил ей кошелек золота и шкатулку с драгоценностями, которая мне и была передана. Я чувствовала себя как спасшаяся при кораблекрушении и возблагодарила Провидение. Мы не знали, однако, что нам делать дальше; эти украшения могли нас выдать. Пребывание в Падуе не казалось мне надежным, мы решили переехать в Венецию, где обычай носить маску давал мне шанс оставаться неузнанной. Соответственно, я села на корабль, отправлявшийся из Падуи в Венецию. В первый день с нами было только три попутчика: две бедные женщины и молодой человек; по уважению, которое оказывали ему члены экипажа, я сочла, что он должен быть лицом знатным; у него был больной вид, и он воспользовался этим, чтобы держать постоянно на лице свой платок. Он мало разговаривал. По прошествии двух часов он догадался о том, что я женщина, и сказал мне об этом. Я покраснела, что подтвердило его догадку и сделало его менее осторожным; он проявил, однако, деликатность, разговаривая со мной таким образом, что никто не мог нас услышать. В невозможности помешать ему делать свои умозаключения, я могла, по крайней мере, просить его держать свои догадки при себе, пообещав, что тотчас по приезде в Венецию я попытаюсь удовлетворить его любопытство. Он поведал мне, что принадлежит к знатной фамилии Мочениго, одной из самых знаменитых в республике. Высадившись с корабля, он предложил мне свою руку, чтобы отыскать отель, и я, привлеченная изысканностью его манер, благородством речи, и не имея возможности обойтись без поддержки в этом иностранном городе, сочла возможным доверить ему частично мой секрет. Менее чем в восемь дней наши отношения изменились на более близкие. Это был обмен сердечными чувствами. Мы не были влюблены друг в друга, то, что мы испытывали друг к другу, было лишь живой симпатией. Он обладал умом и совершенным воспитанием. Мне казалось тем более неотложным воспользоваться его протекцией, что сын моей кормилицы поведал мне о своем желании вернуться в Гаэту, где он оставил жену и троих детей, которые не могли к нему приехать. Я покинула мой отель, чтобы обосноваться в этом доме, где я вас принимаю и где я живу в совершенном уединении. Я чувствовала, однако, насколько мое положение ложно, и испытывала поэтому чувство грусти, причины которого не могли ускользнуть от Мочениго. Он предложил мне пожениться. Он мог на это пойти, говорил он, потому что был свободен и ни от кого не зависел. Его предложение меня тронуло, однако я попросила времени на размышление. Однажды он предстал передо мной в необычное время, попросив у меня одолжить ему сотню цехинов, которые он вернет мне завтра; я дала их ему. В последующие дни он продолжал свои визиты, не говоря мне ни слова. Как-то утром его слуга передал мне записку, в которой тот просил у меня такую же сумму. У меня было еще много денег; к тому же, в моей шкатулке находились большие ценности, я могла, не напрягаясь, удовлетворить его запросы, и я постаралась это сделать. Однако, эти два повторных займа стали порождать сомнения в моем уме. Этот несчастный молодой человек, должно быть, испытывал, как почти все нобли этой страны, роковую страсть к игре? Я осмелилась затронуть эту струну, я оказалась права. Он поведал мне даже, что во время этого карнавала он проиграл значительные суммы, которые не в состоянии вернуть; по правде, он обещал исправиться, но мне стало понятно, что эти обещания таковы же, как всех игроков. Мало помалу его визиты становились все более редкими и короткими; он был человек рассеянный и мечтатель; он находил все время предлог, чтобы уклониться от того, чтобы меня сопровождать, хотя знал прекрасно, что я никогда не выхожу одна; именно этому обстоятельству я обязана встречей с вами. Он должен был быть в кафе, где были вы в день нашей первой встречи; схожесть лиц, костюма, маски, что вы держали в руке, были причиной ошибки. Вы знаете остальное. Но вы не знаете, что с той поры, как я сделала это фатальное открытие, я разрываюсь между моим чувством к нему и тем, что мне диктует благоразумие; нарушение им своего слова лишило меня всяких колебаний. Не сомневаясь, что я встречу его в игорном доме, где он имеет привычку бывать, я направилась туда, чтобы увериться в этом и заявить о своем решении прекратить всякие отношения между нами. То ли влюбленный в другую женщину, то ли поглощенный владеющей им страстью, он оказался нечувствителен ко всему тому, что не является ею, он не обнаружил никакого волнения и легко согласился с доводами, которые я привела в пользу того, чтобы нам прекратить встречаться. Позднее он покинул Венецию. С тех пор, верная обещанию, которое я вам дала, я пыталась вас найти. Узнав о вашем отъезде, я начала уже терять всякую надежду, когда судьба нас вдруг вновь свела. Итак, вот что я вам предлагаю. Если ваше сердце свободно, что в вашем возрасте бывает редко, если вы чувствуете смелость забыть и переменить свою родину, я предлагаю вам свою руку и свою судьбу, которую я считаю весьма высокой, чтобы заверить вас в значительном положении, которое вы сможете занять в той части света, которую изберете. Неважно, какое это будет место, поскольку я буду там пользоваться свободой и буду счастлива с вами».
V
Как ни соблазнительным мне показалось это предложение, оно было слишком неожиданным, чтобы принять его немедленно. Я попросил три дня, которые мне были предоставлены, без того, чтобы она показалась мне обиженной этой отсрочкой. Единственно, она посмотрела на меня грустно и как бы под гнетом дурного предчувствия. Я провел два часа с ней; вернувшись к себе, я встретил ужасную сцену ревности, в продолжение которой я ушел в свою комнату и лег в кровать. Но внутренняя борьба, которая обуревала мной, лишила меня сна весь остаток ночи. Я сравнивал между собой двух женщин, которые оспаривали мою судьбу. Одна, живая, веселая, не имеющая никакого образования, была наделена природным умом, который очаровывал всех, кто к ней приближался. Блондинка, небольшая, сложения хрупкого и деликатного, она обладала темпераментом, доходящим до неистовства. Вспыльчивая, деспотичная, она обладала моралью, вполне контрастной ее физическому облику. Другая, крупная, благородная, импозантная, с волосами и глазами эбенового дерева, под внешне властным видом скрывала нежность ребенка и чистоту ангела. Ею нельзя было не любоваться. К тому же, чем никак нельзя было пренебречь, она предлагала мне судьбу превыше всего того, о чем я мог мечтать. Если, в силу привычки, мое сердце склонялось в пользу первой, разум советовал выбрать ту, которая, я полагал, должна была обеспечить мое счастье.
Вот почему всю ночь и последующие я не переставал плавать в нерешительности, когда новая сцена, еще более сильная, чем первая, заставила меня решиться. Я попросил у Матильды три дня, пошел уже восьмой, а я все еще не давал ей определенного ответа. Я, между тем, не переставал с ней видеться, и даже по нескольку раз, каждый день. Однажды вечером, когда я оставался с ней позднее, чем обычно, она сказала мне: «Завтра, либо мы покинем Венецию, либо я ухожу в монастырь». Я попросил у нее срока еще до завтра, поклявшись, что это будет последняя отсрочка и наша участь будет решена. Вернувшись к себе, я нашел разверзшийся ад. Моя фурия, со стилетом в руке, ждала меня за дверью. Не зная, предназначено было это оружие против нее или против меня, я вырвал его из ее рук и холодно прошел в свою комнату, куда она хотела за мной последовать, но я ее вытолкал. Оставшись один, я покинул дом и устремился к Матильде, решившись на этот раз предложить ей бежать либо в Лондон, либо в Женеву. Еще не было и двух часов пополуночи. Я стучал безуспешно в ее дверь, наконец, старая женщина, которая пришла мне ее отворить, вся в слезах, рассказала, что несколько минут спустя после того, как я ее покинул, к ней явились сбиры инквизиции, вручив ей ордер следовать за ними, и силой усадили ее в гондолу. Я был в ужасе. Тайна, с которой этот адский трибунал проводил свои деспотические и варварские решения, и ужас, который он наводил, особенно в Венеции, убеждали меня в невозможности не только оказать ей какую-либо помощь, но и когда-либо узнать о ее судьбе. Я обвинял себя в этом несчастье, и эта мысль добавляла мне горя и угрызений. Следовало, однако, отступить и ограничиться слезами в этом несчастье. В действительности, в течение двенадцати лет я не слышал более разговоров о Матильде. Только шевалье Фоскарини, посол Республики при дворе Вены, на мой рассказ об этом происшествии поведал мне, что эта несчастная девушка по подстрекательству своей гонительницы была заключена в монастырь Новообращенных. Он узнал о ней и ему повезло помочь ей выйти оттуда после шести лет заточения и вернуть ее отцу, которого смерть этой женщины освободила от ее посягательств.
Итак, я остался скованным в своих первоначальных цепях, которые по истечении двух смертельных лет стали более, чем всегда, тяжелыми и невыносимыми. Женщина, под владычеством которой я жил, пребывала под властью своих сильных страстей и, в частности, страсти к игре; ее брат, личность бесчестная, исполненная спеси и, что хуже всего, полностью подчиненная своим желаниям, был почти всегда причиной наших споров. Я пытался руководить им, иногда снисходительно, чаще – с отвращением. Мало помалу, я тоже стал игроком. Не будучи богатыми, ни они, ни я, мы вскоре исчерпали наши деньги, начали делать долги, закладывать вещи, потом – их продавать.
В это время в Венеции существовал известный игорный дом под названием «Ридотто», в котором знатные богачи имели исключительную привилегию терять свои деньги, так же как и знатные бедняки – на самых жестоких условиях займов, которые предоставлялись им, по обращении к Абраму. Мы проводили там все ночи, и почти всегда, возвращаясь к себе, мы проклинали игру и тех, кто ей подвержен.
VI
Этот дом был открыт только во время карнавала. Мы бывали там вплоть до последнего дня, и у нас не было ни денег, ни способа их добыть. Охваченные этой пагубной страстью и поддерживаемые надеждой, этим фатальным миражом игроков, мы закладывали или продавали свои последние вещи, что у нас еще оставались. Собрав таким образом десятку цехинов, мы отправились как-то в Ридотто; там во мгновение ока все было потеряно; можно представить себе наше настроение, когда, оглядывая канал, мы искали себе гондолу; гондольер меня знал, я несколько раз с ним обходился довольно щедро. Видя нас грустными и молчаливыми, этот человек кое о чем догадался и спросил у меня, не нужны ли мне деньги. Приняв вопрос за шутку и ответив в том же тоне, я сказал ему: «Да, пятьдесят цехинов мне бы не помешали». Он посмотрел на меня с улыбкой и, не сказав ни слова, направил свою барку к земле и, соскочив легко на набережную, попросил нас подождать несколько минут; когда он вернулся, он сунул мне в руку пятьдесят цехинов, прошептав сквозь зубы: «Держите и знайте гондольеров Венеции». Я был поражен. Но при виде этих денег мое искушение было столь велико, что не позволило мне никакого из размышлений, которые внушила бы мне без сомнения деликатность в любом другом случае. Броситься в Ридотто, войти в первый же салон, подойти к банкёру и поставить половину суммы на карту было моим единым порывом. Я выиграл и сделал пароли; я продолжил и играл со счастьем столь постоянным, что менее чем в полчаса у меня руки были полны золота. Тогда, увлекая мою компаньонку к лестнице, я слетел вниз по ступенькам, чтобы отдать моему бравому гондольеру сумму, что он одолжил, к которой я добавил значительную благодарность. Я велел отвезти нас домой. Едва я опустошил мои карманы и высыпал золото на стол, как постучали в дверь: это был ее брат. При виде этого богатства, испустив крик радости, он бросился к нему и, наполнив своими доблестными руками до верху карманы, задал вопрос: «Вы все это добыли в игре?». На мой утвердительный ответ он воскликнул: «Ну что ж, подайте руку моей сестре и следуйте за мной. Я поставлю все это на банк, и вы увидите результат». Сопротивление было бесполезно; я сдался, ворча, и мы последовали за ним. Он сидел и стучал картами; нас вскоре окружили игроки. Было уже заполночь; все прочие банкёры ушли. Играли с исступлением. Две первые тальи были ему благоприятны; все золото со стола скопилось перед ним. Мы не осмеливались обратиться к нему ни словом, но делали всевозможные знаки, чтобы заставить остановиться. Они были бесполезны, он упорствовал, начал третью талью, которую не успел довести до конца; едва протекла половина игры, шансы изменились, и все исчезло. Сложив карты с великолепным апломбом и завладев рукой своей сестры, он пожелал мне доброй ночи. Невозможно передать, что со мной приключилось; я удалился в соседнее помещение, называемое несчастливыми игроками и отвергнутыми любовниками комнатой вздохов. Они могли там без помех отдаться своему дурному настроению. Осажденный тысячей покаянных размышлений, я кончил тем, что там задремал, и проснулся только ясным днем; зала была почти пуста. Рядом со мной находился человек в маске, ожидая моего пробуждения; он попросил у меня немного мелочи. Пошарив безуспешно в моем кошельке, я машинально сунул руку в карман одежды. Каково было мое радостное удивление, когда я нашел там горсть цехинов, которые, в пылу моего вчерашнего счастья, я забыл, и которые ускользнули от алчности моего благородного грабителя! Я дал этому человеку цехин, который он сразу схватил, затем, смотря мне в лицо, добавил: «С условием, что я отдам его вам у меня». Говоря так, он взял игральную карту и написал на ее изнанке свой адрес и, передав ее мне, сказал, что я не пожалею, нанеся ему визит. Мой разум был занят моей находкой, и, еще более, благом, которое я сейчас принесу в наше существование, я положил карту в карман, не обращая на нее внимания, и пошел, лучше сказать – побежал домой. Моя подруга ждала меня у окна; она сделала мне знак не шуметь; она спустилась, открыла дверь и, не дав мне произнести ни слова, сказала: «Ступайте в соседнее кафе и приходите, только когда я вас позову». Сказав это, она отошла от окна; я повиновался и, спустя два часа, появился слуга и дал мне знак следовать за ним. Он провел меня в мало посещаемый проулок, упирающийся в канал, в конце которого я должен был ее найти. Мы сели в гондолу; в ней она разразилась рыданиями.
– Если вы плачете от потери ваших денег, – сказал я ей, – утешьтесь.
– Нет, – ответила мне она, – я плачу о своей судьбе и о дурном поведении моего брата, который решительно хочет выгнать вас из дома. Мерзавец говорит мне, что, поскольку от вас нечего больше ждать, так как он полностью вас выпотрошил, бесполезно терять мое время; он предложил мне, чтобы вас заменить, богатого выскочку, вашего заклятого врага.
Убежденный, что это я являюсь причиной ее слез, и желая их осушить, я швырнул ей на колени сотню цехинов; улыбка вернулась на ее уста, и ее хорошее настроение возросло пропорционально величине суммы. Я рассказал ей про эпизод с маской в Ридотто, и мы начали обсуждать образ наших действий с ее братом. Поскольку золото единственно имело магическую власть производить впечатление на этого скота, нам пришла в голову идея внушить ему, что я обладаю искусством создавать этот металл, – дело, которое было легко исполнить. Эта невинная шутка могла позднее стоить мне жизни. Его сестра подсказала мне, что в этот момент он находится в Ридотто, откуда не собирается выходить. Я направился туда к нему; он посмотрел на меня, не приветствуя, как если бы я был незнакомец. Я вступил в игру горстью золота, которая в несколько минут умножилась с необычайным везением и произвела волшебный эффект; человек, который не удосуживался узнать меня в начале вечера, начиная с этого момента вдруг стал утопать в изъявлениях вежливости и разного сорта ласк. Он унизился до того, что попросил одолжить у меня десяток цехинов. Я дал ему двадцать, с которыми он получил шанс заиметь двадцать других. Он захотел мне вернуть эту сумму, которую я убедил его сохранить, как приносящую ему удачу, что и действительно случилось. Мы вышли вместе; он более не владел собой. Дорогой он попросил у меня прощения за то, что произошло накануне, и извинился за то, что потерял огромную сумму, что выманил у меня, дойдя в своей наглости до того, что назвал ее займом и заверил меня, что намерен отдать ее с первых же своих выигрышей. Я поблагодарил его за это намерение, сказав, что эта потеря должна рассматриваться лишь как несчастный случай, я избавил его от нее, я дошел даже до того, что пообещал ему, что если он согласится быть благоразумным и пообещает не задавать мне никаких вопросов, я буду счастлив время от времени предоставлять мой кошелек в его распоряжение. Он сжал меня в своих объятиях, уверяя, что никогда не проявит нескромности, выспрашивая мои секреты, каковы бы они не были; затем он попросил подождать его по пути в книжной лавке и побежал рассказывать сестре чудеса на мой счет; в то же время он распорядился снова поселить меня в апартаментах, что я у него занимал, и которые он заставлял было меня покинуть. Несколько недель мы жили в самой полной гармонии. Наша удача в игре была постоянна и позволяла нам удовлетворять наши вкусы в тратах. Но я не мог обойти молчанием эпизод, который, будучи еще более необычным, чем может показаться, был столь же правдив, как и те события, что случились со мной, и о которых я еще расскажу.
VII
В первое воскресение поста, шаря в карманах, чтобы навести порядок в моих бумагах, я наткнулся на карту, что дал мне человек в маске в Ридотто. Отдохновение разума, которым я наслаждался в этот момент, позволило мне удовлетворить возникшее чувство любопытства. Я решился продолжить авантюру и подался по указанному адресу. Вид окрестностей не показался мне обещающим больших сложностей в завершении дела. Я постучался несколько раз в дверь без ответа, наконец, дверь отворилась с помощью веревки, протянутой сверху лестницы. Я поднялся, не встретив ни слуги, ни провожатого, и, оказавшись перед дверью комнаты, вошел туда. Она была пуста; на шум, что я произвел, из соседнего помещения вошел старик, черты которого не показались мне совсем незнакомыми. Он был одет с приличной простотой, лицо почтенное, черты тонкие, голос проникал до души, внушая большую симпатию. Он приветствовал меня церемонно, взял за руку и ввел в кабинет, который служил ему библиотекой, предложив сесть.
– Я благодарю вас, добрый молодой человек, за ваш визит, – сказал он мне, – не от меня зависит, если он окажется для вас не полезен.
Я собрался ответить, но он не дал мне времени, попросив выслушать его, не прерывая, затем продолжил:
– Я очень стар, вы видите; мне более семидесяти восьми лет; по законам природы мне осталось мало жить, но, прежде чем покинуть этот мир, я хотел бы загладить один грех, что лежит на мне. Я остановил свой взгляд на вас, чтобы вы помогли мне достичь этой цели.
– На мне?
– На вас. Если не учитывать тяжести лет и сердечных тревог, я – один из самых счастливых людей на земле. Не судите обо мне по той просьбе, что я высказал вам в Ридотто, а также по скромности моего внешнего вида; я богат, здоров и телесно и умственно, за мной нет ни долгов, ни угрызений совести, я хочу, чтобы вы в это поверили. Прежде, чем задать вам вопрос, я хочу довести до вашего сведения, кем я был и кто я сейчас.
VIII
Моя родина – Ливорно, мой отец – богатый коммерсант этого города, – умер, оставив меня в двадцать два года единственным наследником пятидесяти тысяч экю. Этот достойный и превосходный отец отдал меня в обучение в коллеже во Флоренции, он выбрал для меня профессию врача, но необходимость ликвидировать дела его компании заставила меня, вопреки желанию, заняться делами факторинга. В течение четырех лет, погруженный в это грустное занятие, я достиг жалких результатов, будучи вынужден отправляться за море и подвергаться опасностям плавания; я решился поддаться зову сердца, и разные кредиты и предоставление денег в долг, опирающиеся на мой деловой опыт, привели к тому, что, по истечении четырех лет у меня не осталось и сантима от наследства моего отца. Я питал непреодолимое отвращение ко всем видам коммерции, соответственно, я покинул тайно и навсегда Ливорно и поселился в Болонье, затем, два месяца спустя, в Венеции. Едва поселившись в этом последнем городе, я подцепил вялотекущую лихорадку. Умирая в нищете, без друзей, без кредита, без денег, я был вынужден просить милостыни, чтобы продлить свое существование, которое, как мне казалось, не должно было тянуться долго.
Бывают более или менее счастливые шансы в любой профессии; первые три месяца я возвращался каждый вечер с двадцатью восемью-тридцатью ливрами в кармане, и поскольку этот доход наполовину превышал мои ежедневные расходы, я завел небольшой капитал, который не однажды внушал мне желание сменить этот способ существования, но опасение слечь больным и неуверенность в карьере, которую я мог бы избрать, заставляли меня продолжить жизнь, которую я вел; это длилось сорок семь лет. За этот долгий период я не только восстановил свое здоровье, но, в силу упорядоченности моей жизни и экономии я оказался владельцем десяти тысяч дукатов, не считая того, что я использовал для покупки имущества, библиотеки и пожертвований людям, более бедным, чем я; я попытался было вернуться в Ливорно, но, после некоторых колебаний, не мог решиться покинуть Венецию, где нашел столь сострадательные души. Я забыл сказать, что через какое-то время после моего приезда я снял совсем маленькое меблированное помещение, у одной вдовы. Я жил там на протяжении двадцати двух лет. У этой вдовы имелась, в то время, когда я там поселился, маленькая дочка, всего нескольких месяцев; моя хозяйка была порядочной, но бедной, этого оказалось достаточно, чтобы я привязался к ней телом и душой. Я относился к ее ребенку первые годы с отцовской нежностью; она росла у меня на глазах, она была чудом ума и красоты. Я был счастлив руководить ее воспитанием, обучая ее всему, что дает хорошее образование. Ей было двенадцать лет, когда я стал давать ей первые уроки. Я был счастлив легкостью, с которой она усваивала эти уроки, и прогрессом в ее обучении. В семнадцать лет она сносно писала и в прозе и стихами. Я не остался нечувствителен к ее обаянию, и до беспамятства в нее влюбился; двадцать пять лет разницы, что были между нами, не могли ни загасить, ни уменьшить мою страсть. Однажды, оставшись наедине с ее матерью, я рассказал ей обо всех особенностях моей жизни и закончил свой рассказ, попросив у нее руки дочери.
– Боже сохрани, – ответила мне она, – чтобы мне пришла в голову мысль отказать вам в моей дочери! Сможет ли она сделать вас столь же счастливым, сколь, я уверена, она будет с вами; – и она призвала свою дочь. Та, то ли из симпатии, то ли из привычки жить возле меня, с полной безмятежностью на лице приняла предложение, что я ей сделал. Немного времени спустя я на ней женился. Я снял этот дом, где в течение семнадцати лет я наслаждался всем блаженством, что может вкусить на этой земле смертный. Долгая и жестокая болезнь забрала у меня мою жену, которая оставила мне, для утешения в старости, лишь дочь. Счастье этого ребенка – вот то, о чем я вам говорю, это дело, которое я хочу завершить, прежде чем умру. Моя дочь отнюдь не лишена достоинств; она добра, хорошо образована и красива, в моих глазах. Возможно, моя отцовская любовь внушает мне иллюзию: посмотрите на нее, судите о ней сами; после этого вы узнаете остальное». Сказав это, он вышел и вскоре вернулся с дочерью, которая показалась мне сущим ангелом. После обмена первыми любезностями старик сказал: «Дочь моя, вот человек, о котором я говорил и которого предлагаю тебе в супруги, если вы не имеете, что возразить, ни один, ни другая». Изумление заставило меня окаменеть; в ответ на мое молчание, он сказал: «Следуйте за мной, я ободрю вашу неуверенность», и, введя меня в третью комнату, открыл большой сундук, окованный железом. «Я хочу показать вам, – добавил он, – то, что до сей поры было неизвестно никому на свете». Я был ослеплен, мне казалось, что я в бреду. «Вот пятьдесят тысяч цехинов, которые станут вашими в тот день, когда вы женитесь на моей дочери. С моей смертью, а может быть и раньше, если необходимо, я добавлю к этому еще. Вот уже два года, как я про себя сделал выбор относительно вас в качестве зятя; вы мне нравитесь, как только я вас увидел, вы приобрели мою симпатию, и затем возникло это желание. Каждый день вы подавали мне милостыню на мосту Святого Георгия, где я сижу, и каждый день, зная ваше непрочное положение, я говорил себе: «Должно быть, его сердце склонно к благотворительности и его душа – к добродетели, чтобы столь быть приверженным одному из самых добрых предписаний христианской религии!».
Мое изумление было безгранично, когда я увидел, что этот человек знает не только мое имя, но и все самые интимные подробности моей жизни. Страсть, что я таил в сердце, мешала мне принять эти столь выгодные предложения, было еще обстоятельство, которое я не стал ему раскрывать. Щедрость его поступка заслуживала, однако, полной откровенности, и я должен был, прежде всего, избегать его ранить. «Я проникся до глубины души размерами богатства, которое вы мне предлагаете, – ответил я ему, – но мне непозволительно стать его счастливым обладателем. Я должен с полной откровенностью доверить вам мотивы моего отказа. Я не в том положении, чтобы можно было думать о женитьбе». Он несколько мгновений хранил молчание. «Мой дорогой сын, – ответил он мне наконец, – я разочарован вами». Я провел остаток дня с отцом и дочерью, и все это время и тот и другая состязались в дружелюбии. Я настолько был покорен другой женщиной, что предпочесть ее этой судьбе казалось мне вещью самой естественной. Я не замедлил вскоре раскаяться, но было слишком поздно. Менее чем месяц спустя это очаровательное дитя вышло замуж за венецианского патриция, который выбрал своей резиденцией Вену; мне дано было позднее встретить их в Вене и жить, близко общаясь с ними во время моего пребывания в этой столице.
IX
После дня, проведенного в спокойной семейной обстановке, я вернулся, немного поздно, к себе; меня ожидала сцена иного рода. Я нашел ту, которой только что принес себя в жертву, в приступе неистовой ревности. В таких случаях эта женщина бывала необычайно груба; увидев меня, она запустила мне в лицо бутылку чернил. Инстинктивным движением я протянул руку вперед, чтобы защититься; осколок стекла поранил меня так глубоко, что в течение месяца я не мог пользоваться правой рукой. Я решил, что этим ограничится продолжение этой сцены; я ошибался; она проскользнула в мою комнату, когда я спал, и взмахом ножниц отрезала кудри, что лежали у меня на шее, и так ловко, что только утром, при моем пробуждении, я заметил, что, новый Самсон, я встретил свою Далилу. Ее единственной целью было удержать меня дома, она этого добилась. С какого-то времени одна знатная дама взяла меня учителем своих двух детей; она щедро мне платила и общалась со мной с уважением. Мое состояние не позволило мне выходить, она имела любезность прийти самой и справиться о причине моего отсутствия. Она скоро догадалась о ложном положении, в котором я находился, и результатом ее наблюдений было то, что меня уволили. Потеря этой работы была для меня гибельна во всех отношениях. Сцены насилия учащались; я был рабом до такой степени, что мог выходить только ночью, всегда в сопровождении и только для того, чтобы идти в Ридотто. В довершение всего, наше везение нас покинуло, между тем как расходы оставались те же и еще возросли из-за потребностей брата, который черпал из моего кошелька и восседал за нашим столом. Однажды, когда он потратил свои деньги, он грубо вошел ко мне и, с угрозой на устах, потребовал у меня сотню цехинов. Я заверил его, что не имею такой суммы. «Что ж, постарайтесь ее добыть, потому что я знаю, что вы владеете секретом делать золото, и я требую, чтобы вы меня ему обучили». Чтобы задобрить этого грубияна, я вынужден был отдать ему все, что у меня было, и пообещать, что через неделю я наберу требуемую сумму. С этих пор у меня стали открываться глаза, и я стал осознавать глубину пропасти, что разверзлась у моих ног, и ущерб, что я наношу своим поведением для моей репутации. Один из моих братьев, который был очень ко мне привязан, как из дружеских побуждений, так и в силу природной склонности, напрасно старался длительное время вытащить меня из этого состояния мерзости. Я слишком находился во власти любви и игры, чтобы прислушаться к столь разумному голосу. Я видел зло, но не имел сил от него бежать. Печальный случай проделал то, чего не могли добиться ни братские советы, ни сознание опасностей, которым я подвергался в течение трех лет. Священник из Фриули, мой товарищ по обучению в Портогруаро, испытывал ко мне чувство самой близкой дружбы; он явился ко мне однажды вечером предложить поужинать, что делал охотно и весьма часто. Мы обычно оставались после еды на несколько часов поболтать. В этот день он ушел сразу после ужина. Мгновение спустя я собрался сам выйти; вечер был дождливый, и я хватился моего пальто. Его в доме не оказалось. Я был, однако, уверен, что положил его на стул, рядом с входной дверью. Ко мне не было в этот день других визитов, кроме этого священника; пальто исчезло, но я отказывался думать, что это исчезновение произошло из-за него. Пришел мой брат и помог мне в моих розысках. Вдруг мой слуга, более сообразительный, чем мы, и который не испытывал к этому священнику большого уважения, сказал мне со смехом: «Я почти уверен, что найду ваше пальто». Он вышел, и вернулся, крича нам издалека: «Я был прав; месье аббат заложил его за восемьдесят ливров у вашего соседа старьевщика». Я был уничтожен и сокрушен. Мы вышли, и с помощью суммы, что я выдал, пальто было мне возвращено. Мой брат не мог себе помешать высказать: «Видите, до чего доводят дурные страсти!..». Оставшись один, я принялся серьезно размышлять. «Вот, – говорил я себе, – священник, друг, которого я приблизил к себе, способен злоупотребить гостеприимством и совершить столь позорный поступок! Какие страсти привели его к такому позору? Игра или, возможно, любовь!». Едва эти два слова выскользнули из моего рта, смертный холод обуял меня с головы до пят и охватила решимость: отказаться от карт, от женщины, которой я стал рабом, и от города, где встречается столько соблазнов. Не теряя времени, я схватил перо и написал брату следующие строки:
«Жером! Прощайте игра, любовные увлечения и Венеция. Я уехал бы немедленно, будь у меня деньги. Но я клянусь, что не более чем в три дня моя клятва будет выполнена. Возблагодарим Господа. Прощай».
Я отправил мое письмо; не дожидаясь завтрашнего дня, прибежал мой брат, раскрыл свой кошелек и выдал мне сумму, которая была достаточна на мои первые нужды. Это было не первое и не единственное доказательство братской дружбы, что давал мне этот бедный мальчик. Смерть, похитив его у меня безвременно в возрасте тридцати лет, лишила меня зараз товарища, советчика и друга – трех вещей, столь редких в этом мире, которые столь трудно встретить, даже в брате! При этих редких качествах, он обладал превосходным умом, широкой эрудицией и исключительным вкусом во всех жанрах литературы. Большая скромность и редкая вежливость доставляли ему уважение и привязанность всех тех, кто имел счастье его знать. Я не смогу в достаточной мере оплакать эту невосполнимую потерю. Пусть мне простят это короткое отступление и отнесутся с симпатией к слезам, обязанным столь дорогой для меня памяти.
X
Вернемся, однако, к аббату. Заря едва пробилась, когда я получил следующую записку:
«Мой друг, вчера вечером я оказался повинен в недостойном поступке. Я лишил вас вашего пальто, которое заложил за восемьдесят ливров. Самое ужасное, что я отправился играть и проиграл эти деньги. Я в отчаянии. Я, разумеется, отправил бы вам мое пальто, чтобы компенсировать вашу потерю, но оно старое, слишком короткое для вас, хотя и приспособлено для этого сезона. Однако вы не сможете в нем ходить. Что делать? Располагайте мной».
Чтение этой записки внушило мне жалость. Я вышел и пошел к нему; видя меня, вооруженного кинжалом, который я всегда носил на всякий случай, он побледнел, задрожал всеми своими членами и, не разжимая зубов, взглянув на меня с ошеломленным видом, бросился бежать по улице. Я последовал за ним; он направился в проулок, заявив, что он сейчас бросится в канал. Может быть, у него не было намерения это сделать, но вид был такой; как бы то ни было, я подошел вовремя, чтобы его удержать, и вместо того, чтобы его упрекать, ограничился тем, что повторил ему спокойно слова моего брата: «Видите, к чему приводят дурные страсти». Его замешательство достигло высшей степени; сдержанность моих слов глубоко его задела. Он не мог сдержать слез, и я не мог ему помешать в этом. Я обнял его, ободрил и пообещал больше не говорить ни о чем, если, в свою очередь, он пообещает мне покинуть Венецию. Он дал мне в этом слово. Я дал ему немного денег, и он ушел. Этот человек, который не был лишен ни воспитания, ни таланта, всерьез занялся учебой и через несколько лет получил кафедру литературы в семинарии К. вместе с должностью кюре в маленькой приходской церкви, где, насколько я знаю, все годы содержал на свои средства некоторое число бедных – благочестивое искупление этой несчастной авантюры. Этот пример меня укрепил в решении удалиться от такого опасного места, как Венеция. Как был бы я счастлив, если бы имел смелость поступать так же во всех обстоятельствах, когда моя душа оказывалась захвачена страстями! Если бы душа не имела слабостей, я бы никогда не терял из виду счастливых результатов этого мужественного поступка. Ни слезы, ни мольбы, ни даже угрозы куртизанки, которой я объявил о своем решении, не преодолели принятого мной решения; я вернулся в Ченеду, и не прошло и десяти дней, как Провидение, так сказать, вознаградило меня за ту победу, которую я одержал над собой. Две кафедры литературы были вакантны в семинарии Тревизо, просвещенного города в Венецианском государстве, они были предложены моему брату и мне. Мы заняли их оба с воодушевлением. С единственной целью жить около меня мой брат отказался от места секретаря, которое ему предлагали в одной патрицианской семье; не могу выразить радость, что я испытал, освободившись, наконец, от моей постыдной цепи!
XI
Та, что непрерывно в течение трех лет удерживала меня в подчинении и, несмотря на мой уход, который она именовала моей изменой, продолжала, как она говорила, меня любить, пустилась в новую интригу и дошла до того, что злоумышляла против моей жизни, чтобы дать своему новому любовнику доказательство того, что всякая связь между нами разорвана. Она взяла за обыкновение писать мне каждый день, чтобы уверить меня в своем постоянстве. Первого января я получил от нее эту простую записку:
«Если вас заботит мое счастье и моя жизнь, приезжайте немедленно в Венецию; в десять часов вечера я буду у своей кузины. Ваша подруга».
Получив эту записку, я бегу на почту нанять коляску, чтобы выехать в Местре. Сильный холод заморозил лагуны, и только после нескольких часов мне удалось, с помощью четверки крепких гондольеров, пробиться через лед из Местре в Венецию. Была почти полночь, когда я причалил у двери палаццо, где ждал меня мой злой гений. Дверь была заперта. Положив руку на дверной молоток, я был резко остановлен. Я услышал в то же мгновение умоляющий голос, говорящий мне: «Синьор, во имя Господа, не входите». Это был мой старый слуга, которого я при своем отъезде оставил этой женщине. Не давая мне времени ответить, он продолжал увлекать меня до другого конца моста. Увидев, наконец, что мы в безопасности, он сказал мне тихим голосом: «Знайте, что ваша любовница завела другого любовника. Это молодой венецианский нобль, один из первых бретеров города. Ревнуя по поводу связи, которая, как он знает, существовала между нею и вами, хотя она и заверила его, что больше вас не любит, он потребовал, чтобы в этом убедиться, чтобы она заманила вас в ловушку». Невозможно описать мое изумление и негодование при этих его словах; слепой от гнева и уязвленного самолюбия, не слушая ни разумных советов этого верного служителя, ни голоса благоразумия, я возвращаюсь к двери палаццо, решив отомстить. Он следует за мной, чтобы оказать мне поддержку в случае нужды, но я чувствую себя достаточно храбрым и достаточно хорошо вооруженным, чтобы защититься одному против убийцы. Я решительно стучу. Мне открывают дверь; я устремляюсь по лестнице с кинжалом в руке. На верхней площадке я встречаю эту женщину. Была почти полночь, она была одна; при виде меня она испустила крик радости и бросилась мне на шею. Неприличное одеяние, в котором она появилась, и это новое вероломство удвоили мою ярость. Я грубо ее оттолкнул, произнеся такие пророческие слова: «Пусть рука Господа покарает это гнусное создание!». В это мгновение мне показалось, что луч божественной доброты осветил мой разум и излечил меня от всех моих безумств. Кинувшись на лестницу, я спустился по ней с быстротой человека, который убегает от большой опасности. Я бросился в свою гондолу и вернулся в Местре, а оттуда – в Тревизо, где уже более не хотел и слышать разговоров об этой несчастной куртизанке. Начиная с этого момента, свободный от всякой озабоченности, я начал снова развлекаться в нежном общении с музами. У меня были все жизненные удобства и большие возможности. Я собрал себе прекрасную и обширную библиотеку, которую мог обогащать всеми авторами, которых считал достойными этого; в этом городе я нашел, помимо этого, объединение ученых, которые поддерживали во мне дух здорового соперничества; многочисленную молодежь, пылающую любовью к славе; выдающегося прелата, полностью преданного науке; блестящее общество друзей литературы и литераторов; наконец, прекрасный климат, благоприятствующий поэтическому вдохновению, – таковы были в течение двух лет блаженные составляющие моего образа жизни. Я делил свое время между моим братом и Джулио Тренто, изысканным литератором, с глубокими научными познаниями и тонким вкусом. Это его возвышенной критике, тонкости его суждений, не менее чем его дружбе и его положению среди самых больших ученых, я обязан успехами своих литературных трудов в Тревизо. Пьеса в стихах, озаглавленная «Ла Цехина», которую я прочел перед Академией, в значительной мере взрастила мою поэтическую репутацию и доброе мнение, которое сложилось обо мне у епископа и в стране. По окончании учебного года мой брат и я были предложены на более значительные кафедры. Эти милости ранили самолюбие других профессоров, которые, полагая себя более заслуживающими этого, чем мы, претендовали на эти должности. Эти люди, наделенные глубокими знаниями, полностью лишены были воображения и той инстинктивной способности, которую дает вкус к искусству, и которую, если ее нет в твоей природе, очень трудно приобрести. Этот тонкий вкус, могу сказать это со всей откровенностью, был привит впервые мне и моему брату еще в коллеже. В течение сорока лет в этом и состоял наш метод; были применены правила, разработанные нами, и изучались авторы, имена которых были еще неизвестны на момент нашего приезда в Тревизо. В этот период случились большие события и странные превратности в моей жизни, которые поставили меня перед карьерой, совершенно противной той, для которой до того, как казалось, предназначали меня мое образование и мои вкусы. В моем качестве преподавателя литературы, итальянской и латинской, предполагалось, что я должен буду читать моим ученикам в последний день учебного года куски из моей композиции на сюжеты, более или менее научные. Тема, которую я избрал в этом году, была, к несчастью, следующая:
– Исследовать, будет ли человек счастливее в своем естественном состоянии, чем в условиях социальных институций?
Из-за невежества моей аудитории и, особенно, из-за более чем злобных интерпретаций моих соперников этот вопрос вызвал скандал; его сочли, или захотели счесть, противным социальному порядку; он вызвал гнев падуанских Реформистов, которые, вместо того, чтобы рассматривать его как игру ума, и пропустить мимо ушей, сочли своим долгом признать его нарушением законов и вызвать меня в Сенат Венеции. Это августейшее собрание оказалось, таким образом, в первый раз вовлечено властями в обсуждение чисто литературного вопроса. Назначили с большой помпой день для дискуссии. Друзья, родственники, и особенно семья Джустиниани, среди членов которой был епископ Тревизо, советовали мне идти защищаться самому. Я вернулся в Венецию, где имел счастье познакомиться с Бернардо Меммо, одним из самых просвещенных ученых Республики. Он меня выслушал и обещал мне свою поддержку, более того, он пообещал мне протекцию Гаспаро Гоцци (брат знаменитого драматурга Карло Гоцци – прим. перев.), человека выдающегося, ценимого Реформистами и их советчика. Полагаясь на мнение Меммо, я отправил ему мою композицию, сопроводив ее пьесой в стихах, написанной по его настоянию и ему посвященной, которая произвела на него большое впечатление. К сожалению, умы были столь предубеждены, что даже его доброжелательные слова послужили оружием против меня. «Этот молодой человек, – сказал он, – не лишен таланта, он нуждается только в ободрении. – Тем более, – отвечали Реформисты, ему нужно избавиться от возможности стать опасным». Преследуя меня, они прятали ненависть, которую питали против фамилии Джустиниани и особенно против епископа, которого они хотели унизить через персону его подопечного. Один из братьев этого епископа несколько лет назад заставил осудить падуанского профессора за то, что тот написал послание, которое папство сочло нападением на себя. Чтобы отомстить, Реформаторы хотели отобрать у меня кафедру в Тревизо, как тот профессор потерял свою в Падуе. Так, в агонии нашей несчастной Республики, из мести или по капризу, осуждались невинность и талант. Из-за единого слова нескольких невежд извращалось общественное мнение.
XII
День моего судилища был, наконец, назначен и извещен звуком трубы. Я выбрал в качестве адвокатов Меммо и Загури, но, то ли от словесной робости, то ли из-за влиятельности моих обвинителей, среди которых фигурировал монах Барбариго, один из самых усердных реформистов, то ли, наконец, из-за наивности обвинения, из-за чего мои защитники не сомневались ни на мгновение, что я должен быть оправдан, они не соизволили взять слово. Я нисколько не отягощаю детали этого зрелища, одновременно трагического и бурлескного. Мои мнения, объявленные еретическими, анализировались и комментировались до абсурда; зачитывались итальянские и латинские стихи, чтобы доказать с очевидностью, что я заслуживаю строгого наказания. Сенаторы, Проведиторы, словом, вся правительственная верхушка, склонны были видеть в элегии, которой я был автором, явление американского дикаря в Европе, аллюзию против нее и против мантии Дожа. Все высказывались против меня, требуя отмщения. Некоторые горячие головы доходили даже до мнения, что лишение меня свободы и даже жизни не будет слишком сильным искуплением за то, что они называли моим мятежом против самодержавия. Я ограничусь только тем, что скажу, что Светлейший Сенат Венеции «много слушал, мало понял и ничему не научился». Я был объявлен виновным и достоин наказания; единственно, не пришли к согласию насчет размеров этого налагаемого на меня наказания; это оставили на усмотрение реформистов. Все советовали мне бежать, я единственный, сильный в своей невинности, твердо стоял на своем и считал своим долгом противостоять грозе. Я слишком хорошо знал политику Венеции, которая не имела привычки лаять, когда могла убить, и думал, что использованная в этом деле лексика содержала слишком много грома, чтобы привести к чему-то конкретному. Я не ошибался: мое наказание, если подходит здесь это слово, было всего лишь странным. Приглашенный через несколько дней пред Трибуналом реформистов, я подвергся следующему приговору:
«Да Понте из Ченеды, по решению Светлейшего Сената, наказывается тем, что не может более преподавать в коллеже, семинарии или университете Светлейшего государства Венеции в должности профессора, лектора, преподавателя, служителя, и т. д., и т. д., и т. д., под угрозой вызвать негодование Правительства».
Я склонил голову, накинул мой платок на рот, чтобы удержать взрыв смеха, и вышел из зала. Мой брат и Меммо ждали меня на ступенях лестницы со смертельной бледностью на лицах; моя улыбка их успокоила. Меммо, который не один раз был Государственным Инквизитором и который глубоко знал политику и законы своей страны, был поражен, с его уст слетело: «Гора родила мышь», но, прижав быстро палец к губам, он обнял меня и проводил домой. Остаток дня прошел в насмешках над Ареопагом; к ночи мы пошли навестить Загури, чья радость и веселье были не меньше наших. Меммо предоставил мне в тот же вечер кров у себя, и я провел некоторое очень приятное время, деля досуги между дружбой и философией. Я был представлен моими меценатами сливкам столичного общества, которые, по ходу событий и благодаря покровительству этих двух просвещенных мужей, принимали меня с радушием и учтивостью, что вскоре заставило меня забыть мою опалу. С точки зрения литературных почестей и более – материальных интересов, я имел все, чего могло бы пожелать мое самолюбие и что соответствовало моим вкусам. Кошелек Меммо был мне открыт, он проявлял деликатное внимание, чтобы упредить все мои потребности, я посещал самых известных литераторов, все венецианские дамы воздавали мне хвалы. Все хотели меня видеть, слушать мои стихи, и все поносили реформистов и Сенат. В этот период я свел знакомство с самыми знаменитыми импровизаторами Италии, среди них назову аббата Лоренци, монсиньора Стратико и Аттанези, которые внушили мне идею стать самому импровизатором. Мой брат тоже загорелся этим желанием, и мы оба заслужили высокую репутацию в Венеции, где нас знали обычно под именем импровизаторов из Ченеды.
XIII
Легкость импровизации приемлемыми стихами на все сюжеты и любыми рифмами – почти исключительная привилегия итальянской нации – должна сама по себе убеждать, насколько поэтичен итальянский язык, который своим изяществом и мелодичностью замечательно пригоден для спонтанности выражения и позволяет мгновенно выразить то, что в других языках достигается лишь с помощью длительных размышлений. Эта новая способность, неожиданно открывшаяся во мне, еще более увеличила благоволение Меммо и его желание дать мне доказательства этого. Его дружеское отношение ко мне, однако, чуть не стало для меня гибельным. Этот превосходный человек, который по своему рождению, своим знаниям и величию своей души не имел себе равных в Республике, держал при себе молодую девушку по имени Тереза, обделенную очарованием ума и тела, но обладающую всем коварством, какое может быть дано природой женщине. Она имела над ним тираническую власть, которой он не мог противиться. Первое время у меня был шанс ей понравиться. Меммо и я посвящали часы чтению и размышлениям. Влекомый желанием быть мне полезным и представить меня своим многочисленным друзьям, он выходил затем обычно вместе со мной. Его частые отлучки предоставляли Терезе большую свободу; она использовала ее, чтобы принимать у себя молодого человека, который за ней ухаживал и которого она, чтобы упрочить свое положение, возымела намерение женить на себе. С первых дней своего появления этот молодой человек внушил некоторую симпатию Меммо, но, по причинам, о которых можно догадаться, эта симпатия вскоре сменилась неприязнью, до такой степени, что он его прогнал, предписав Терезе отказаться от всякого с ним общения. Она, поскольку этот запрет противоречил ее планам, употребила по отношению к Меммо все мыслимые средства, чтобы заставить его изменить свое решение. Однако, исчерпав свои усилия, она явилась ко мне со слезами на глазах молить моего участия и просить меня заступиться за нее. Я взялся за это и преуспел; молодой человек не только снова вернулся, но сам Меммо привел его снова, к большому удовлетворению Терезы и ее семьи; брак состоялся. В день свадьбы, после ужина, который прошел очень весело, я пришел, как обычно, в апартаменты Меммо, расположенные на верхнем этаже, к которым мои примыкали. Мы оставались там несколько часов, болтая: когда мы собрались расставаться, Мемо, провожая меня, сказал:
– Спите спокойно, вы сделали сегодня доброе дело для Терезы.
Проходя мимо комнаты новобрачных, мне показалось, что я услышал мое имя, произнесенное в разговоре между ними. Я останавливаюсь, глубокая тишина, царящая в доме, позволила донести до моего слуха следующие слова, исходящие из уст мужа:
– Да Понте имеет слишком большое влияние на патрона; его пребывание в доме опасно для нас. Ты видишь, с какой легкостью он преодолел препятствия, которые мы не могли победить.
– Если ты в этом уверен, – отвечала Тереза, – я заставлю его вскоре убраться отсюда.
Онемев от удивления и негодования, я вернулся к себе, не зная, на что решиться, и колеблясь между тысячей проектов. Остаток ночи прошел в этой неуверенности.
Утром я вошел к Меммо и рассказал ему о том, что услышал.
– Это вам послышалось, – холодно заметил он.
Все осталось в том же положении, и мы направились в столовую, где собралась уже вся семья Терезы. За завтраком Меммо мог убедиться, что я не ослышался. Тереза на меня не смотрела, не возвратила мне даже приветствия и не предложила мне даже чашки шоколада, который дала всем сотрапезникам. Меммо заставил меня взять его чашку и покинул стол, я сделал так же и последовал за ним, но ни один, ни другой не проронили ни слова. В обед собрание было более многочисленным, и снова повторилось такое же дурное обращение по отношению ко мне; Меммо, казалось, был этим расстроен, я – еще больше.
– Почему вы не обслуживаете да Понте? – настоятельно спросил он.
– Вы сами его обслуживаете, я тут не нужна.
Моя кровь вскипела в жилах, я, желая избежать скандала в доме моего благодетеля, поднялся и удалился к себе в комнату. Там, собрав мои вещи, я направился в порт, откуда каждый вечер уходила барка в Падую. Я направился туда, имея только десять экю в кармане; после оплаты проезда у меня осталось шесть. Я разом лишился, из-за черного коварства двух неблагодарных, покровителя, друга и, более того, преданного руководителя, и всех надежд, которые внушало мне его благоволение. Я ощутил в то же время нужду, которая меня ожидала в Падуе, куда я, правда, направлялся к брату, который оканчивал там свою учебу в университете; однако этот брат находился в положении, когда должен был более рассчитывать на меня, чем я на него. Я надеялся также найти там человека, которому я оказал несколько услуг, и надеялся, что он будет, возможно, счастлив прийти мне на помощь; эта надежда не оправдалась. Этот человек был священник из Далмации, который получил, благодаря высокой протекции некоей дамы, кафедру канонического права в Падуе. Я познакомился с ним у Меммо, который принимал в нем участие. Он составил вступительную речь, чтобы произнести ее перед студентами и учеными профессорами; однако он слабо владел языком Цицерона, который так и не выучил как следует, и эта речь обнаруживала его невежество. Он прочел ее Меммо, который мне ее передал, спросив мое мнение. Я не скрыл от него, что нахожу ее слабой; Меммо был огорчен за автора, который был ему рекомендован и которому он хотел помочь; он направил его ко мне, поручив мне исправить эту речь. К счастью для него, аббат отнюдь не был из людей самонадеянных, он добродушно согласился с этим предложением и, поскольку он должен был покинуть Венецию через три дня, я не стал терять времени, и в двадцать четыре часа его рассуждение было исправлено. Он уехал, произнес речь и заслужил похвалы. Он написал нам о своем триумфе; я не буду повторять здесь его изъявления благодарности и признательности. На этого человека я и рассчитывал слегка. Естественно, ему я и собирался нанести визит, и направился к его жилищу. В тот момент, когда я постучался в его дверь, я машинально поднял голову и мне показалось, что кто-то быстро отпрянул от окна. После достаточно долгого ожидания слуга открыл мне дверь и со смущенным видом сказал, что его хозяина нет дома; боясь ошибиться и желая прояснить мое сомнение, я отошел на несколько шагов и стал наблюдать. Я знал, что близился час, когда он имел обыкновение направляться в университет; действительно, я ждал недолго; я увидел, что он выходит; дружески подойдя к нему, я сказал ироническим тоном: «Благодарю вас, месье аббат, что вы доставили мне случай узнать вас»; затем, поприветствовав его, я повернулся спиной, чтобы уйти; он задержал меня, ухватившись за полу моего платья. Он бормотал какие-то извинения, которые лишь лучше характеризовали его неблагодарность и низость его души. Меммо, которому я по приезде моем в Падую написал, рекомендовал меня ему в самых настойчивых выражениях, но ни эта рекомендация, ни память о моей давней услуге не оказали эффекта на этого далматинца с окостеневшим сердцем; вспомнив вдруг о том, что оригинал его дурного доклада находится еще у меня в руках, и что публикация этого труда в том виде, в каком он был составлен, будет для него весьма оскорбительна, он решился оказать мне некоторые услуги, надеясь, что моя деликатность помешает мне это сделать. Я проник в его мысли, отправил ему его рукопись и больше его не видел. Он ответил Меммо и не рассеял его опасений: «Да Понте, – написал он, – не мог доставить мне большего удовольствия, чем передав мне оригинал моего доклада; я охотно пожертвовал бы полусотней цехинов, чтобы забрать его из его рук». Между тем, Меммо имел любезность отправить мне оставшееся из моих вещей, это расширение моего гардероба позволило мне предстать на публике. Я разделил на пятьдесят частей полсотни франков, что у меня были, с твердым намерением использовать их на мое содержание в течение пятидесяти дней, положившись в остальном на Провидение. У меня имелся, таким образом, один ливр или двадцать венецианских су на день: восемь – на койку, пять – на чашку кофе каждое утро и семь – на еду. В течение сорока двух дней я пробавлялся хлебом и черными оливками, которые, будучи солеными, удваивали мой аппетит, и водой для питья, скрывая от всех, даже от своего брата, тяжкую необходимость такой бережливости. Это положение улучшилось в результате странной выходки судьбы. Молодой человек, который хвалился своими успехами в игре в шашки, объявил однажды вызов всем в эту игру в том кафе, которое я посещал. Я полагал себя достаточно сильным в этой игре, чтобы никого не бояться. Мне пришло желание испытать себя. Было назначено количество партий. У меня хватало оплатить только первую, если бы судьба мне не благоприятствовала. Я выиграл и продолжил; мы сыграли таким образом двенадцать партий. Он заплатил мне двадцать два пиастра, признав себя побежденным. Остальные молодые люди из университета, присутствовавшие там, решив, что они должны отомстить за честь своего товарища, предложили мне новый вызов в игре в ломбер. Местный обычай принуждал меня согласиться, несмотря на малое желание, что я испытывал. Мне везло таким же образом, и прежде, чем прозвонило полночь, я вернулся к себе, хорошо поужинав, с тридцатью шестью пиастрами в кармане. Эта нежданная перемена стала счастливым предвестником моего будущего. Между тем, я продолжал играть с тем же успехом. Эта жизнь не была мне по вкусу, хотя и дала мне случай познакомиться с интересными людьми, особенно с Чезаротти, который оказал мне честь, выделяя меня, не знаю, то ли благодаря Меммо, то ли из-за моих стихов. Между тем, хотя я и нашел в превратностях фортуны неожиданную поддержку, в которой мне отказывали люди, обращаясь к моему прошлому и желая вызвать во мне более почтенные источники благосостояния, я решил покинуть Падую и вернуться в Венецию. Карло Маццола, элегантный поэт, первый, который смог записать оперу буффо, и благодаря которому я свел дружбу с Меммо, увлек меня туда.
XIV
По возвращении в Венецию, моей первой заботой было возвратиться к Меммо. Я был встречен им, как и Терезой, с распростертыми объятиями; Меммо предоставил мне снова свой дом и свой стол, от которых я отказался, предпочтя им, не без причины, делать ему визиты, которые он мне возвращал. Немного времени спустя наши отношения стали столь же близкими, как и раньше. Загури, со своей стороны, выдавал мне все свидетельства самой живой сердечности и предложил мне должность своего личного секретаря, чтобы я помог ему в его непростых трудах. Загури был совершеннейший молодец. Превосходный поэт, хороший оратор, крепкий законник, человек, полный вкуса и любви к изящным искусствам; более щедрый, чем позволяла ему фортуна, и занятый более другими, чем самим собой. Я проводил возле него замечательные часы. Это ему я обязан знакомством с Джорджио Пизани, Гракхом Венеции той эпохи. Это имя будет неоднократно возникать под моим пером в этих Мемуарах. Пизани захотел доверить мне воспитание своих детей, я взялся за это от всего сердца. Я оказался неожиданно под покровительством и защитой трех могущественных и знатных персон, соперничающих между собой в приветливости и щедрости. Я мало занимался поэзией в это время; обязанности, к которым понуждала меня моя двойная профессия, развлечения, которые предоставляла эта страна для моего возраста, живость моих страстей, все способствовало тому, чтобы по возможности отвлекаться от нее. По наущению моих друзей я занялся импровизацией, бывшей тогда в моде. Должен признать, что нахожу этот жанр поэзии полностью противным поэзии писанной; действительно, должно казаться удивительным, что, если не считать утонченных и редких гениев, которые пели и импровизировали прекрасные стихи, столь малое их число выделялось за границы посредственности, когда брались их записывать.
XV
Представился случай просветить Меммо насчет хитростей женщины, которой он посвятил свое существование. У меня было много случаев, когда я мог, со всей откровенностью, попытаться коснуться этого вопроса, но было слишком очевидно, что эти попытки могли лишь привести к полному разрыву между нами. Однажды он спросил меня, в первый и единственный раз, знаю ли я, с кем я говорю. Такова была фраза, принятая среди венецианских ноблей, когда они опасались, что кто-то забывает об их рождении и положении. Мой ответ был, что «если я это забуду, я не буду ни столь свободен, ни столь искренен». Он меня понял и простил. «Надо, – добавил я, – чтобы вы позволили мне вас убедить. Что я и сделаю, если вы пообещаете ни слова не предать Терезе».
– Что ж, попытайтесь, и в этом случае я обещаю молчать.
Я взялся за дело. Эта девица была подвержена пылким страстям, но, как и другие подобные, легко меняла привязанности. Она очень быстро утешилась в потере мужа, умершего вскоре после женитьбы, и устремила взоры на другого молодого человека, допущенного в дом. Этот молодой человек, у которого не было никакого положения, стремился исправить этот недостаток всеми способами, порядочными и нет. Осведомленный о его намерениях, я притворился, что хочу с ним подружиться, что мне было легко. Обрадованный авансами, что я ему расточал, он открыл мне свое сердце, попросив способствовать в его маневрах. Я все ему обещал, при условии, что он получит у Терезы полное признание в ее клевете, и, благодаря этому признанию, можно будет разрушить ее интриги. Он добился этого с тем большей легкостью, что эта женщина была убеждена, что может все себе позволить безнаказанно с человеком, столь порабощенным, как Меммо. Однажды, когда я застал его наедине с Терезой, он мне сказал, смеясь: «Идите сюда, я знаю все, и я радуюсь сердцем. За вас, потому что сегодня вы в моих глазах еще более достойны дружбы и уважения, чем всегда; за меня, поскольку я тем более убежден в любви моей Терезы, что она не может даже предположить, что другой оспаривает с ней мое сердце. Бедное дитя убеждено, что я ценю вас более, нежели ее. Эта ошибка делает ее несправедливой. Надо ее пожалеть. Нет, нет, моя Тереза, я тебя люблю, я люблю и буду любить только тебя». Затем, пожав ей руку, он поцеловал ее в лоб и осушил свои повлажневшие глаза. Эта страсть, это ослепление, скажу больше – это безумие не ослабевало до последнего часа этого превосходного человека, этого возвышенного философа. Немного спустя Тереза вышла замуж за своего нового любовника в доме Меммо; она стала матерью нескольких детей, к которым Меммо считал себя обязанным проявлять отцовскую заботу. Став вдовой, она продолжала быть опекаемой им, так что, девица, жена или вдова, вплоть до приблизившейся старости, она оставалась единственным арбитром сердца и разума этой избранной души. Какой урок для бедного человечества!
XVI
На этом этапе моей жизни я оказался обласкан женщинами, уважаем мужчинами и ценим моими покровителями, словом, в апогее моих успехов и опьянен надеждами. Я прожил некоторое время этой замечательной жизнью. Мои враги сами, казалось, смирились и забыли обо мне. Моя злая звезда захотела, чтобы Пизани, движимый своей любовью к справедливости и своим глубоким знанием законов и конституции Венеции, которые он вознамерился заставить возродиться во всей полноте, вызвал враждебность грандов и породил страх у ретроградов этого города; они поклялись его погубить. Но его замечательное красноречие и, помимо этого, его репутация неподкупного человека доставили ему столько сторонников среди самих патрициев, что их многочисленность перевесила влияние богатых и влиятельных, которые обратили против меня свои первые мстительные стрелы. Начали с того, что стали внушать, что это отвратительно, что человек, исполненный столь разрушительных принципов, автор «Элегии Американского дикаря», отъявленный хулитель Сената и его руководства, невзирая на присужденный арест, осмелился заняться воспитанием и внушать свои вредоносные доктрины детям человека, известного противника грандов. В то время, как огонь тлел под пеплом, некий сонет, бестактность которого взбудоражила публику, стал вскоре повсеместно темой разговоров. Моя преданность Пизани, соединенная с любовью к моей стране, вырвала его из-под моего пера для целей самых значительных, и им был награжден один из самых недостойных персонажей клики, который, более всех остальных, старался заправлять в республике. Часть аристократии, но часть неразумная, этой клики не понимала, что, действуя так, она поступает самоубийственно и толкает народ к подрыву своего авторитета. «Вот, венецианцы, – говорил я в этом сонете, – действительная причина, что заставляет меня покидать мою родину. Правда вызывает гнев глупцов». Эти слова оказались пророческими. Мой сонет, написанный на венецианском жаргоне, расходился по рукам; он был прочитан, очевидно, всеми сословиями, и гнев тех, на кого он нападал, не знал более границ. Женщины, которые действовали заодно с Пизани и мной, вопреки своим мужьям, учили его наизусть и произносили в кругу знакомых под раскаты смеха, подчеркивая самые острые моменты; укол становился все более раздражающим. Пытались хлестать седло, не смея бить лошадь. Выискивали и находили обвинения и обвинителей. Мерзавец, который посещал дом, где я часто бывал, взялся донести эти обвинения до Трибунала по богохульствам. Он заявил, что я ел ветчину в пятницу – он ел ее вместе со мной; что я пропустил воскресную мессу несколько раз – он сам не посещал ее ни разу в жизни. Я был извещен об этом доносе самим Президентом этого трибунала, который был добр ко мне и был первым, кто посоветовал мне немедленно покинуть Венецию. «Если им будет недостаточно этих обвинений, они придумают другие, – сказал мне он, – им нужен виновный, они его найдут». На этот раз мои друзья, убежденные более, чем когда бы то ни было, что моя свобода и моя жизнь находятся под угрозой, заговорили со мной тем же языком. Джованни Лецце, у которого мой брат был секретарем и другом, предложил мне укрыться на одной из своих вилл, где пообещал мне надежное убежище до той поры, пока гроза не пройдет. Но, не чувствуя больше в сердце никакой любви к родине, столь несправедливой к Пизани и ко мне, считая ее столь же слепой к своим собственным интересам, как и к неминуемому упадку, я обратился к моим трем покровителям и нескольким другим лицам, наиболее благоволившим ко мне: все поддержали мое решение покинуть Венецию и ее обитателей, и я направился в Гориц.
XVII
Гориц – это старинный и очаровательный маленький городок в Немецком Фриули, расположенный на берегах Исонзо, примерно в двенадцати милях от Фриули венецианского. Я въехал туда 1 сентября 1777 года, не достигнув еще двадцати девяти лет, не зная там никого и не располагая никакими рекомендательными письмами. Я направился в первую попавшуюся гостиницу, неся сам мой багаж, который состоял из одежды, небольшого количества белья, Горация, которого я сохранил в течение более чем тридцати лет, потерял в Лондоне и снова нашел в Филадельфии, Данте, аннотированного мной, и старого Петрарки. Блеск моего багажа не способствовал тому, чтобы расположить в мою пользу хозяйку гостиницы; однако, едва я вошел, она предстала передо мной с кокетливым видом, который еще более обещал мне в будущем; она проводила меня в одну из своих самых хороших комнат. Эта женщина была молода, красива, свежа и веселого нрава, она была одета на немецкий манер, в чепец с золотым плетением на голове, несколькими витками тонкой цепочки венецианского плетения на шее, округлой и белой как алебастр, цепочки, располагающейся окружьями на ее прекрасной груди, которую она наполовину прикрывала; маленький жакет сжимал ее талию, гибкую и грациозную, шелковые чулки покрывали ее тонкие лодыжки и ее прелестные маленькие ножки феи были обуты в розовые башмачки. Еще не прозвонило шести часов; поскольку за весь день я выпил только стаканчик вина и съел кусочек хлеба, я попросил ее собрать мне ужин. К моему несчастью, она говорила только по-немецки и на местном наречии, и я не понимал ни слова ее, как и она – меня. Я пытался перевести мою мысль знаками, но она придала им любовный смысл. Я, однако, был столь голоден, что мог бы есть камни. Пока я пытался дать ей понять, что мне нужно прежде всего поесть, я увидел проходящую мимо двери служанку, несущую превосходное жаркое из птицы, предназначенное другим путешественникам. Я метнулся к блюду с кошачьей ловкостью, схватил его и оторвал кусок, который был мною поглощен в мгновенье ока; он показался мне столь вкусным, что я охотно разгрыз бы и косточки. Моя хозяйка поняла, наконец, чего я хочу, и велела принести мне превосходный ужин, который ее присутствие сделало для меня еще более лакомым. Не имея возможности обмениваться словами, мы заменяли их жестами и переглядываниями. Когда подали фрукты, она достала из кармана маленький ножик с серебряным лезвием и отделила кожицу от груши, из которой съела половинку, а другую передала мне, затем она передала ножик мне, и я обменялся с ней той же любезностью. Она выпила стакан вина вместе со мной, научив меня говорить «Гезундхейт»[1] и подняв свой стакан, я понял, что она приглашает меня выпить за ее здоровье и что она пьет за мое. Я плохо произнес это слово, она заставила меня произнести его два или три раза, все время наполняя и осушая свой стакан. Не могу сказать, Бахус ли это или какое-либо другое божество заставило циркулировать огонь в ее жилах; за два часа подобной игры живой румянец окрасил ее щеки и ее глаза заблестели необычайно. Красота ее была идеальна. Она вставала со стула, подходила, бросая на меня взоры, вздыхала и снова садилась. Сцена протекала в присутствии двух молодых служанок, довольно красивых и одетых примерно так же как и она, которые нам прислуживали и наблюдали нашу пантомиму. К концу ужина одна из них удалилась и несколько минут спустя вторая, по команде, отданной по-немецки, удалилась тоже, затем вскоре появилась снова, принеся книгу, и затем ушла окончательно. Оставшись наедине со мной, моя хозяйка подошла ко мне и, перелистывая книгу, заложила ее через небольшие промежутки листочками бумаги, на которых написала слова, которые заставляла меня прочесть; эта книга была немецко-итальянский словарь. На одной из этих бумажек она написала: «Ich liebe sie»[2]. Переведя, в свою очередь, с итальянского, я дал ей прочесть: «Und ich liebe sie»[3]. Я был восхищен; мы беседовали таким образом долго, помогая себе словарем и взаимно заигрывая друг с другом, последствия чего было легко предвидеть. К счастью, прибыло несколько колясок зараз; моя прекрасная хозяйка поневоле вынуждена была меня покинуть и оставить в размышлениях. Четверть часа спустя, оживленная, она снова предстала передо мной в сопровождении двух юных девиц, которые присутствовали при моем ужине. Эти последние принесли мороженые и сласти, которые я поглощал с их хозяйкой, в то время как одна из них запела немецкую арию, первые слова которой гласили:
«Я люблю мужчину из Италии».
Слушая ее, я представил себе Калипсо и мог вообразить себя Телемаком[4]. Закончив песню, моя немецкая нимфа вышла вместе со своей напарницей, и я во второй раз остался тет-а-тет с хозяйкой. Тут я почувствовал, что настал момент обострить ситуацию; я беру словарь и заставляю ее читать слово «спать». Она понимает, дергает сонетку, снова появляется одна из служанок, а хозяйка меня оставляет. Служанка готовит мою постель, показывает мне то, что необходимо для туалета, затем смотрит на меня с улыбкой. Ошибочно интерпретировав ее мысль и решив, что она ждет от меня небольшое вознаграждение, я даю ей монету, которую она отвергает с жестом великолепного презрения; но, грациозно взяв меня за руку, она целует ее, оставив во мне непередаваемое ощущение. Все эти кокетливые ухищрения, которые продолжались более пяти часов, меня неимоверно развлекли. Наконец, я заснул и назавтра, проснувшись позже, чем обычно, я нашел в соседней комнате превосходный завтрак и хозяйку, которая меня ожидала. Перед сном я, к счастью, выучил и постарался запомнить самые обычные комплименты, и среди них тот, который она предпочитала: «Ich liebe sie». Завтрак окончился, она меня покинула, и, вернувшись в свою комнату, я нашел там двух или трех женщин, принесших корзины, полные красивых безделушек, которые они обычно предлагают иностранцам. В два часа их пришло уже под двадцать. Я не мог помешать себе счесть странным, что в стране, столь известной строгостью нравов допускается подобное поведение, которое легко может перейти в распущенность. Как это возможно, – говорил я себе, – что под правлением Марии-Терезии, властительницы, известной суровостью своих законов, в стране, где полиция наносит столь часто ночные визиты, где иностранец с такой строгостью бывает вынужден называть себя, свою родину и свою профессию; в государстве, наконец, где священники, монахи и агенты правительства осуществляют столь внимательное наблюдение, можно встретить подобное свободное поведение. Я не мог согласовать эти легкие нравы с немецким уголовным правом, которое, как я слышал, сравнимо с нравами Святой инквизиции Испании. Увы, противоречия, всюду противоречия!
XVIII
Я провел десять-двенадцать дней в этой гостинице и то с помощью словаря, то с помощью грамматики мы вели беседы по четыре-пять часов подряд каждый день, почти постоянно на тот же сюжет, и почти каждый раз наши переговоры завершались неизменным «Ich liebe sie». Я составил маленький словарь из всех любовных слов и фраз; он мне оказал большую помощь во время моего пребывания в этом городе. Я заметил, однако, по неприятной легкости, на которую я не обращал ранее внимания, что мой кошелек почти пуст, так что при всей малости, что я тратил, это почти пуст закончилось абсолютно пуст по сравнению с тем, что я привез с собой в Гориц. Моя прекрасная хозяйка не замедлила обратить внимание на мои затруднения и, со щедростью, мало присущей лицам ее профессии, сделала мне предложения, которые меня тронули; она дошла до того, что сунула однажды вечером мне под подушку кошелек, полный золота, от которого я отказался и его ей вернул, исполненный благодарности. Я никогда не забывал о чувстве собственного достоинства, не позволявшем черпать из кошелька женщины, хотя многие из них не проявляли такой же деликатности относительно меня. Это проявление щедрости заставило меня принять решение покинуть гостиницу; я сменил место обитания и думал залатать, с помощью моих стихов, брешь, которую проделал в моих финансах за те двенадцать дней, что, новый Ринальдо, я провел под чарами этой Армиды. Мы остались, однако, в наилучших отношениях, и я оставался ей предан до конца ее жизни, которая к несчастью была слишком короткой. Она угасла семь месяцев спустя, двадцати двух лет, унесенная злокачественной лихорадкой. Я пролил обильные слезы по поводу безвременной смерти этой юной и прекрасной женщины, которая, по возвышенности своих чувств заслуживала родиться в сословии, в котором блистала бы с наибольшей яркостью. Она была, неопровержимо, одним из лучших человеческих созданий, что я знал за восемьдесят лет моей жизни. Быть может, если бы она жила!..
XIX
Между императрицей Марией-Терезией и Фридрихом Прусским был заключен Тешенский мир. Мне пришла в голову мысль написать на этот сюжет оду, которую я озаглавил «Битва орлов», по аллюзии с гербами двух властителей. Я посвятил ее графу Гвидо де Кобенцль, одному из первых сеньоров Горица и Германии, отцу дипломата, который, благодаря своему умению смог достичь этого счастливого результата. Эта композиция впоследствии стала источником почти всех моих литературных успехов в этой стране. Я отнес ее графу, который принял меня радушно и прочел ее в моем присутствии; она, кажется, ему понравилась. Он велел ее отпечатать на свои средства и распространил многие экземпляры между самыми влиятельными особами, в тот момент очень многочисленными в этом городе. Чтобы представить себе число и древность знатных фамилий Горица, которыми славна эта страна, надо прочесть небольшой труд графа Р. де Коронини, озаглавленный «Анналы Горица». Я встретил в этой замечательной резиденции не одного Мецената, который меня поддержал. Я не могу без живого чувства благодарности передать мои воспоминания об этих Страсольдо, Лантиери, Кобенцль, Альтем, Тунах, Коронини и Ториани. Они оказались мне более чем полезны. Я никогда не смогу в достаточной мере восхвалить их либерализм и их учтивость, они любили меня за меня самого и за мои стихи; они предупреждали мои нужды и привносили столько деликатности в свою щедрость, что мое самолюбие никогда не страдало. Счастливы страны, населенные такими людьми! Сама бедность перестает быть оскорбительной для того, кто имеет душу достаточно возвышенную, чтобы не рассматривать благодарность как бремя. Внутреннее спокойствие, которым я был обязан этим избранным душам, заставляет меня благословлять даже мои несчастья.
XX
Я жил в убогой комнате, которую снимал у маленького торговца зерном. Мы оба были бедны и, следовательно, жили в полнейшем согласии. Простота моего крова не была однако препятствием для постоянных визитов, которые я принимал. Все служители муз желали со мной познакомиться, одни – чтобы мной восхищаться, другие – в надежде найти основание для критики. К числу этих последних принадлежал некий Колетти, который был печатником, в мечтах ощущал себя поэтом и не мог слышать похвал, которые мне воздавали, не испытывая чувства острой зависти, которая доводила его даже до утверждения, что я не являюсь автором «Битвы орлов»; в обоснование этого он приводил тот довод, что после этой оды я не создал ни одного стихотворения: надо сказать, что, действительно, его муза вследствие поэтического недержания извергала каждый день все новые рапсодии; ему, столь плодовитому, казалось невозможным, чтобы я мог хранить столь долгое молчание, будучи настоящим поэтом. Другой печатник города, Валерио, который его от души ненавидел и который услышал эти слова, явился представиться мне с единственной целью мне их передать. Его навязчивой идеей было уговорить меня объявить Колетти поэтическую войну, которая его уничтожит. Я на это только посмеялся, посоветовав ему поступить так же, но его желчь была слишком взволнована против своего типографического соперника, чтобы он мог последовать моему совету. Он зачастил ко мне с визитами, непрестанно повторяя ту же песню; я продолжал смотреть на этого Колетти как на недостойного моего внимания; Валерио, полагая, что мне плохо у моего хозяина, который имел привычку напиваться пьяным и, что еще хуже, бить свою жену, потому что вино делало его ревнивым, хотя она и не была ни молодой, ни красивой, – этот Валерио, повторяю, предложил мне, весьма любезно, комнату у себя, от чего я не смог отказаться. Его гостеприимство было столь велико и приятно, что я счел, в свою очередь себя обязанным оказывать ему все услуги, какие смогу. Он просил у меня только одну – стихи, и это как раз была та единственная, которую я не мог решиться ему оказать. «Когда, – говорил мне он, – мы покараем этого безумца Колетти?». Колетти не был безумцем, он был лишен поэтического вкуса и не обладал никакими познаниями, без которых не может обойтись литератор; зато он обладал плохо сочетающимися между собой тщеславием и высокомерием: он был ментор, льстец, скрытный, завистливый и прикрывал вуалью фарисейского лицемерия необычайную склонность к распутству. В глаза он надоедал мне напыщенными восхвалениями, за глаза не прекращал меня поносить. На вопрос, что он задал мне однажды, почему я не стараюсь укрепить мою репутацию в Горице некоей новой продукцией моего изысканного гения, я ответил ему с улыбкой: «Я скажу вам на это стихами», и, возвратившись к себе, чувствуя себя в ударе и поощряемый его странным вопросом, заперся и написал по вдохновению сатирическую оду, которую отнес Валерио, объяснив ему мотив, который меня к этому побудил. Трудно описать его радость и удовольствие, которое доставило ему это чтение, не будучи поэтом, он не был полностью лишен этого критерия, который необходим, чтобы отличить хорошее от посредственного. Я затронул струну, которая вибрировала чудесным образом в его ухе; я не назвал никого, но Колетти и его компания вполне там узнавались. Валерио поторопился отпечатать этот кусочек и отправить циркулировать по городу, к большой радости моих друзей и друзей издателя; Колетти дрожал от ярости, но затаился, чтобы себя не выдать. «Все полагают, – сказал он мне, – что вы попытались обрисовать меня в вашей сатире; в действительности, я не могу так считать». Но вуаль была слишком прозрачная; он был узнаваем еще лучше оттого, что не осмеливался признаться, и он не упустил случая отомстить. Эта брошюрка, говорю это искренне, была довольно хорошо воспринята в обществе, все не скупились в похвалах. Граф Коронини, видя, с какой легкостью я трактую сюжеты столь различные, попросил меня перевести итальянскими стихами свой труд «Анналы Горица» и вознаградил меня за это как большой сеньор. Я провел восемь месяцев в полнейшем спокойствии, лишь одна мысль тревожила время от времени мое счастье – это то, как дурно обошлась со мной, незаслуженно, моя родина, которую я так ценил и которой, тем не менее, был так предан. Я не мог, впрочем, подавить в себе неясное желание вернуться туда, чтобы снова увидеть мою семью и друзей, таких как Загури, Меммо и Пизани. Тем временем через Гориц проехал Карло Маццола, направляясь в Дрезден, где он был назначен Поэтом при придворном театре. Он пришел повидаться со мной и поведал мне о зловещем исходе процесса, затеянного против Пизани, который, будучи назначен Прокуратором Св. Марка – самой высокой должности в Республике, оказался в ночь своего назначения захвачен Государственными Инквизиторами и заключен в замок Вероны. Плача о судьбе этого друга, я потерял всякую надежду когда либо увидеть Венецию и просил Меццола найти мне, если можно, должность при дворе Дрездена; он мне пообещал это, внушив надежду на легкий успех, пояснив, что он пользуется протекцией Премьер-министра, графа Марколини, который почтил его своей дружбой. Директор театра в Горице пригласил довольно хорошую труппу комедиантов. Мои покровители предложили мне сочинять для этой труппы и поставить там драму, даже трагедию, но, поскольку я никогда не писал для сцены, я не осмеливался рисковать, из опасения потерпеть неудачу и ослабить репутацию, которую доставили мне мои лирические произведения. Тем не менее, поддавшись на уговоры некоей просвещенной дамы, я взялся за перевод одной немецкой трагедии, который, то ли по вине автора, то ли по моей имел только две постановки. Чтобы оправиться от этого удара, я предложил этой же труппе «Графа Варвика» французскую трагедию, переведенную частично моим братом, а частично мной. Она имела некоторый успех.
XXI
Общество Горица продолжало оказывать мне любезный и благожелательный прием, и я отвечал на это, слагая стихи, которые всегда читались с удовольствием и соответственно распространялись. Нескольким из этих сеньоров, преданных литературе, пришла мысль основать в их городе некое аркадское объединение под названием Академия. Граф Гвидо Кобенцель стал ее президентом, меня захотели туда включить под именем Лесбосского Пегаса. Колетти, в своем качестве печатника, был избран секретарем, он должен был регистрировать и публиковать все, что там производится; эти функции устанавливали между нами что-то вроде литературного братства, которое, в силу его хитрости и изворотливости, предполагалось считать искренним. Я не стал относиться к нему с почтением, поскольку мое мнение о его таланте не переменилось. Думая, что он забыл о прошлом, я поведал ему о моем желании податься в Дрезден, вместе с Маццолой, с которым он меня видел. Он выразил удивление и огорчение, но полагаю, в глубине души он испытал большое удовлетворение. Я говорил об этом также и с другими персонами, и прошло едва ли два месяца со времени этого разговора, как я получил из Дрездена письмо, которое призывало меня в эту столицу, чтобы занять там почетную должность при дворе. Это письмо не было написано самим Маццолой, но содержало его подпись. Адрес был написан его рукой, я узнал почерк. Я показал его моим друзьям, которые были единого мнения, и, взвесив большие преимущества, которые могли проистечь из этого для меня, дали мне совет ехать, что и заставило меня решиться. Накануне назначенного дня граф Л. Торриани, во дворце которого я обитал некоторое время, созвал все общество на блестящий ужин. По выходе из-за стола сели играть. В этих знатных фамилиях было принято собираться время от времени у каждой из них, раз или два в месяц, и посвящать загородной поездке или прогулке верхом деньги, что выигрывались или терялись на этих вечерах. Эти деньги, накопленные в копилке, использовались каждый раз в конце сезона. Мне повезло, так как это собрание было последним в году. Надо было наметить использование всех этих накопленных средств. В этих обстоятельствах высказывались три предложения. Предоставлялось дамам высказать два первых, а третье резервировалось за хозяином дома. Дамы посовещались. Одна из них высказалась за верховую прогулку в окрестностях Граца, вторая – за бал-маскарад. Благородный граф, представив мотивы моего отъезда, предложил, в свою очередь, использовать эту сумму на то, чтобы оплатить мое путешествие из Горица в Дрезден. Эти различные предложения были поставлены на голосование, следовало отвечать «Да» или «Нет». «Верховая прогулка?» – спросил граф. «Нет» – был общий ответ; «Бал-маскарад?» – еще более энергичное «Нет» было ответом; «да Понте в Дрезден?» – единодушное «Да» прозвучало в зале. Тогда графиня, ангел доброты, а не женщина, взяла копилку; она приготовилась ее разбить, когда другие дамы высказали предложение добавить еще пожертвований, и эта идея была с энтузиазмом поддержана всеми. К копилке, разбитой графом Страсольдо, подошли все, чтобы добавить в содержимое еще что-то, все было собрано в красивый шелковый платок, который графиня вручила мне, сказав такие любезные слова: «Соблаговолите, синьор да Понте, принять то, что вам передают ваши друзья из Горица; живите в той стране, куда вы уезжаете, столько счастливых лет, сколько заключается в этом платке золотых монет; вспоминайте иногда о нас и будьте уверены, что мы будем часто думать о вас». Ждали моего ответа; но растроганный этой неожиданной сценой, я остался безгласным. Граф взялся поблагодарить за меня эту благородную ассамблею, и мое молчание было более выразительным, чем все то, что я мог бы сказать. Столько свидетельств внимания меня так глубоко взволновали, что вся моя ночь протекла в слезах и в раскаянии о том, что я покидаю этот город, в котором нашел таких чувствительных покровителей. Назавтра, за завтраком, граф Торриани, заметив мою грустную озабоченность и желая меня расшевелить, увлек меня к графу Кобенцль и оба, после короткой беседы, сошлись во мнении, что я должен без промедления податься к Маццоле. Граф Кобенцель дал мне письмо к своему сыну, известному дипломату, который находился в Вене, и которому мы были обязаны Тешенским миром. Я поехал…
XXII
В Вене я нашел весь город в трауре; Императрица Мария-Терезия, властительница, пользующаяся всеобщим обожанием своих народов, умерла. Я остановился только на три дня, чтобы передать молодому графу Кобенцель письмо его отца. Я встретил превосходный прием; когда я откланивался, он вручил мне книгу, на первой странице которой был прикреплен булавкой банковский билет на сто флоринов; внизу было подписано: «От Кобенцеля да Понте на его дорожные расходы». В Дрездене я направился прямо к Маццоле, который при виде меня воскликнул: «Да Понте в Дрездене!». Этот прием меня поразил. Он подбежал и заключил меня в объятия, но при этом не дал мне и рта раскрыть и тем более ответить на его объятия. Видя мое молчание, он продолжил: «Вы вызваны в театр Санкт-Петербурга?». Получив, наконец слово, я сказал: «Я приехал в Дрезден, чтобы увидеть моего дорогого Маццолу и, если можно, воспользоваться его милостью, также как и его друзей». Я ответил машинально и почти не чувствуя, что говорю. «Браво, – ответил он, – вы, возможно, прибыли кстати». Затем, отведя меня в гостиницу, он стал беседовать со мной на разные темы, но никак не затронул вопроса о том письме, что мне написал. Было за полночь, когда он ушел, оставив меня погруженным в тысячу смутных мыслей. На следующий день я вернулся к нему. На мой вопрос, помнит ли он о своем обещании, данном в Горице, он ответил: «Я его не забыл, но до этого дня не представлялось никакой оказии; я вам написал об этом».
– Вы об этом написали?
– Я поспешил вас заверить, что я человек слова, и известить вас, что принц Антуан, брат Выборщика, находится здесь без секретаря, я подумал обратиться к премьер-министру, чтобы поговорить с ним о вас, что я проделаю с тем большей срочностью, раз вы уже здесь.
Я оставался у него весь остаток вечера, пытаясь развеять свое заблуждение. Вернувшись к себе и собравшись с мыслями, я пытался ухватить нить этой интриги. «Маццола, – говорил я себе, – мне писал, но вместо этого письма я получил другое, незнакомым почерком, но при этом с его подписью. Эта подпись – не поддельная ли она? В этом случае, кто на подозрении? Это не может быть никто иной, как Колетти, которого я разоблачил в моих стихах и которому мое пребывание в Горице было неудобно». Я рассмотрел все обстоятельства; это письмо имело действительно штемпель Дрездена; надпись на конверте была действительно Маццолы; было очевидно, что его вскрыли, чтобы заменить письмом, которое призывало меня приезжать немедленно. Но каким образом попало оно в руки Колетти? Колетти был одним из самых горячих сторонников этого моего путешествия; все сомнения пропали, и я еще более убедился, что именно ему я обязан этой коварной интригой. Провидению, однако, не было угодно, чтобы это вероломство стало для меня фатальным; наоборот, кажется, оно обернулось к моей выгоде и привело к ситуации, в которой я бы обрел прочное счастье, если бы не преждевременная смерть Иосифа II, слишком ранняя для его любовниц и для моих надежд. Я продолжил мое пребывание в Саксонии, где Маццола оказывал мне гостеприимство столь щедрое и столь сердечное, что у меня не было сил от него оторваться. С другой стороны, я надеялся найти там со временем почтенного положения. Мы редко расставались, Маццола и я; он был весьма занят тем, что писал, переводил или аранжировал драмы для театра Двора, который в то время располагал одной из первых трупп в Европе. Чтобы не сидеть без дела, я взялся ему помочь, и он согласился. Итак, я брался переводить, а также сочинять для него то ариетту, то дуэт, иногда целую сцену, на которую он мне указывал. Он работал в то время над драмой Кино, которая, если я правильно помню, имела название: «Атис и Сибела». Роль Сангариды мне казалась хорошо очерченной и полной интереса; я предложил ему сделать ее перевод. Должен сказать, что он нашел перевод превосходно сделанным; он также не мог отказать себе однажды задать мне вопрос, почему я не попытаюсь поработать для театра. «Вы не можете себе представить, до какой степени упало драматическое искусство в нашей стране и какую надо проявить смелость, чтобы посвятить себя ему полностью. В действительности, в Италии не существует ни одного драматического поэта, серьезного или комического, заслуживающего хотя бы малейшего уважения. Метастазио – в Вене, Морелли и Коттеллини – в Санкт-Петербурге, Карамонди – в Берлине и Мильявакка – при дворе в Дрездене, где Маццола его только что заменил. Что до бесчисленных писак, которые водятся в изобилии, ни один не способен написать сносную драму, и всякие Порта, Зини и другие литературные пигмеи того же сорта одни снабжают театры Венеции, Неаполя, Флоренции и других городов. От чего это зависит, если не от постыдной скупости директоров, которые все, тратя баснословные суммы на знаменитого певца или певицу, предлагают, без малейшего стыда, пятнадцать или двадцать пиастров за либретто, которое стоит трех месяцев и более работы своему автору. Другая причина: это глупость регентов хора, которые не краснеют унижать свой талант, посвящая его низким и тривиальным рапсодиям, достойным разве лишь неаполитанских лаццарони, вместо того, чтобы обращаться к утонченным шедеврам, таким, как творения Метастазио. Между тем я не говорил об идее, что подсказал мне Маццола. Она пустила ростки у меня в голове, она наэлектризовала меня позднее и заставила устремиться на арену одного из первых театров мира. Я был представлен Маццолой его друзьям, в числе которых был граф Марколини, премьер-министр и фаворит Выборщика, и почтенный ученый, бывший иезуит, отец Юбер, который разделял с ним уважение и милость Суверена. О. Юбер оказал мне честь, допустив в свой круг; ободренный его добротой, я без затруднения рассказал ему эпизод с письмом, которое заставило меня покинуть Гориц и которое я дал ему прочесть. Внимательно его изучив и выслушав историю моей маленькой сатиры на Колетти, он нашел мои предположения более чем основательными. Он одобрил мою деликатность по отношению к Маццоле, с которым находился в большой дружбе. При всех своих достоинствах сердца и ума о. Юбер обладал и совершенным вкусом и страстной любовью к литературе и поэзии. Он испытывал особое преклонение перед Кольта, Лименой (?) и Бернардо Тассо; казалось, он получает удовольствие, слушая мои стихи, но мне понадобилось немного времени, чтобы решить, что Маццола не испытывает большого желания видеть меня опубликованным в Дрездене, предпочитая видеть меня импровизатором, потому что эта мода проникла и в Германию. Маццола имел для этого большие основания. Я, не желая быть ни слепцом, ни неблагодарным, зная об удовольствии, которое испытывает о. Юбер от чтения прекрасных псалмов Бернардо Тассо, счел возможным, не раня самолюбие Маццолы, сочинить несколько в том же стиле, чтобы доставить удовольствие нашему общему другу, поскольку этот жанр столь отличен от театрального. Я сочинил таких семь и прочел их Маццоле; он первый посоветовал мне посвятить их о. Юберу и взялся передать их ему от моего имени. О. Юбер выказал благодарность и дал их прочесть премьер-министру и Выборщику. Все трое меня щедро вознаградили. Эта денежная помощь оказалась для меня весьма кстати. Помимо этого одобрения, которое я счел весьма почетным, добавлю, что позднее такой же прием был оказан этим Псалмам изрядным числом итальянских литераторов, среди коих приведу с законной гордостью Уго Фосколо, человека, который посмел бороться с Альфиери и Монти в жанре трагедии и почти превзошел их в лирике. Фосколо засыпал их восхвалениями:
Et eris mihi magnus Apollo[5].
Известность, которую получило это творение, позволила расширить мои связи.
XXIII
Среди прочих, я часто посещал, несмотря на нарастающую занятость, дом художника, отца двух прекрасных юных дочек. Мое сердце, естественно, чувствительное, позволило себе увлечься, и я оказался без памяти влюблен в двух сестер. Обе платили мне взаимностью, полагая каждая себя единственным объектом моих предпочтений; иллюзия, которая, отвергая всякое чувство соперничества, позволяла им пребывать между собой в полнейшей гармонии. Мать, хотя и приближалась к сорока, была еще хороша и отличалась изяществом ума. При всем благонравии, она не оставалась нечувствительна к восхвалениям; те, что я ей адресовал, были отнюдь не лестью. Я видел все ее усилия относить их только к выражениям чистой дружбы. Немногого не хватило, однако, чтобы эти любезности с моей стороны, хотя и вполне невинные, не стали причиной несчастья для всех. Мне не было еще и тридцати лет, я обладал приятной внешностью и был образован. Я был итальянец, поэт и превзошел науку нравиться; могу, однако, заверить здесь, что с восемнадцати лет, времени моих первых влюбленностей, и вплоть до сорока, когда я завершил их женитьбой, я никогда не говорил женщине: «Я люблю вас», не будучи уверен, что влюблен в нее настолько, чтобы исполнять при ней все обязанности, которые налагает на меня роль чичисбея. Частенько мои знаки внимания, мои глазки, комплименты банальной вежливости интерпретировались как декларация намерений; но, в сущности, сердце в этом совершенно не участвовало, я лишь следовал капризу и ребяческому тщеславию в желании внести немного волнения в невинную и наивную душу, но никогда не доводил дело до слез и раскаяния. Моя любовь к этим двум сестрам, немного странная, как может показаться, была живой и искренней; я часто спрашивал себя, к которой из них лежит мое сердце, и мне невозможно было ответить на этот вопрос. Я был счастлив только вблизи них: если бы закон мне это позволил, я, полагаю, женился бы на них обеих. Придерживаясь этих принципов, я имел силы жить в близкой дружбе с этим семейством более двух месяцев, не произнося ни перед одной, ни перед другой из этих очаровательных девушек ни малейшего слова любви. Я был немного менее сдержан с матерью, которой сказал однажды, любезничая, в присутствии нескольких людей, что, если бы она не была замужем, я охотно бы к ней посватался. Она посмеялась, затем прошептала мне на ухо: «Влюбленный в дочь ухаживает за матерью». Оставшись наедине, она добавила:
«Дорогой да Понте, пожалуйста, не перебивайте меня.; настала пора положить конец этой комедии. Мои две дочери слишком вас любят, и, если я не ошибаюсь, вы влюблены в обеих. Благоразумная мать не может более закрывать глаза, я сожалею, что раньше не поговорила с вами; я очень боюсь, что одна из нас, быть может, даже все три, окажутся жертвами этого молчания. Все молодые люди, что приходят ко мне, заметили ваши ухаживания, и те, кто могли бы иметь некоторые намерения относительно моих дочерей, удивлены этим и не осмеливаются делать каких-либо демаршей. Вам следует, наконец, высказаться. Я не прошу у вас ответа немедленно; даю вам срок до послезавтра, но ни часу более». После этих слов она меня покинула. Эти слова явились для меня ударом молнии. Я поднялся, чтобы уйти, в это время в комнату вошел отец в сопровождении своих дочерей – обе в слезах и в дорожном платье; он меня приветствовал и, прощаясь, сказал: «Синьор да Понте, мы должны уехать на некоторое время, и я пришел с вами попрощаться». Ситуация обострилась; при любых других обстоятельствах женитьба оказалась бы затруднена, но в моем положении я не мог в этом и сомневаться. Не считая того, что моя причуда любить одновременно обеих сестер парализовала мой выбор, я не мог жениться на одной, не делая несчастной другую. Я был погружен в свои размышления, когда ко мне зашел Маццола. Моя озабоченность была такова, что я его не видел и не слышал, когда он спрашивал меня некоторое время, пока я не заметил его присутствие. Я спрятал от него лицо, чтобы скрыть мою озабоченность. Он взял меня за руку и окликнул. Он был в курсе моей двойной страсти; над которой он иногда потешался; я рассказал ему, что произошло. «Утешьтесь, – сказал он, – горести любви преходящи, есть более тяжелые», и в доказательство показал мне письмо: «Вот, – сказал он, – письмо от вашего отца, оно было запечатано в другое, направленное в мой адрес». Это письмо было вложено в черный конверт, и Маццола, который знал его содеожание, поспешил вручить его мне, чтобы дать другое направление моим мыслям. Лекарство было сильное, но оказалось эффективным. Дрожащей рукой я открыл его и прочел скорбную новость о смерти моего горячо любимого брата Джироламо. Хотя уже долгое время я знал о тяжести его болезни, боль, что я почувствовал при известии о его смерти, не стала менее острой. Этот обожаемый мальчик, помимо высочайших достоинств, которыми он обладал, участвовал, вместе с нашим старым отцом, в содержании многочисленного семейства своим жалованием, получаемым на достаточно высокой должности, которую занимал; так что эта смерть была событием вдвойне печальным для семьи, неспособной самой себя содержать, из которой ни один член не был в состоянии прийти на помощь ее главе. Эта мысль усугубила мое страдание; страдание было столь велико, что лишило меня даже возможности облегчить мое отчаяние слезами. Как ни были велики старания Маццолы засвидетельствовать мне свое сочувствие, я не мог ответить ему ни единым сердечным словом. «Ну же, успокойтесь, – говорил он мне, – я дам вам прочитать другое письмо, которое изменит ваш настрой». Это письмо было из Венеции, в нем говорилось, что в городе ходят слухи о том, что да Понте бежал в Дрезден, чтобы занять там пост придворного поэта. «Дорогой друг, – говорилось там, – берегитесь, эти да Понте опасны, вы их знаете». С этими тремя ударами, полученными одновременно, мне невозможно было понять, какой из них для меня чувствительней. «Я не верю, дорогой друг, – ответил я, – что вы можете заниматься тем, что говорят в Венеции». Маццола, поглощенный чтением, даже не слышал меня, но, немного спустя я увидел, что он бросает на меня украдкой взгляды, как будто эти «ходят слухи» произвели на него неприятное впечатление. Если бы он не придал значения этой клевете, зачем бы он дал прочесть мне этот параграф? Так поступив, он дал мне убедительный повод для предположений, недостойных для нас обоих. Когда он кончил читать, я ответил только пренебрежительным взглядом и хранил молчание. Маццола покинул меня. Тысячи мыслей клубились в моей голове, и, окинув взглядом все события моей жизни, картина которых живо отобразилась перед моим живым воображением, мне показалось, что я слышу повелительный голос, говорящий мне: «Надо покинуть Дрезден». Взяв перо, я написал о. Юберу:
«Достопочтенный и преподобный отец, завтра я уезжаю из Дрездена, карета отправляется в десять часов, я буду у вас около девяти, чтобы с вами попрощаться. Да Понте».
Я отправил ему эту записку, было десять часов вечера. На следующий день я занял место в карете на Прагу, немного погодя я был у о. Юбера и дал ему подробный рассказ о случившемся. Убедившись в моем решении и выразив сожаление о причине, его вызвавшей, он попросил меня вернуться повидать его за полчаса перед тем, как садиться в карету. Вернувшись к себе, я написал матери двух девушек: «В десять с четвертью я уже буду далеко от Дрездена, этот отъезд – это единственный способ исправить зло, которое я невольно причинил. Я полюбил, это правда, но никогда изъявление этой любви не исходило из моих уст и не выйдет в дальнейшем; два земных ангела дали мне пример этой сдержанности. Пусть небо прольет на вас и на ваше семейство все свое благоволение!». В назначенный час я был у о. Юбера; он позаботился приготовить мне небольшую дорожную посылку с провизией. Он сам набросил мне на плечи хорошую и удобную шубу и настоял на том, чтобы я согласился принять маленькую шкатулку, закрытую серебряным замком, с условием, чтобы я открыл ее только на первой почтовой станции. Я не удержался от того, чтобы ему не подчиниться. Когда я открыл ее, я нашел там Боэция «de Consolatione philosophiae»[6] и Фому Кемпийского, плюс кошелек с сотней флоринов. Я был глубоко тронут, и могу заверить, что никогда, в самом полном опьянении радостью, не испытывал такого нежного чувства, как то, что я испытал в это мгновенье, при том, что было мне так тяжело на сердце. Когда я попрощался с ним, он сжал меня в своих объятиях: «Поезжайте, – сказал он, – сердце мне говорит, что все будет к лучшему». В этот момент его лицо показалось мне освещенным небесным светом. С годами его слова стали для меня как бы пророческими, и действительно, если мое счастье не длилось вечно, это лишь оттого, что не в натуре человеческой наслаждаться им на этом свете. В тот момент, когда я пишу эти мемуары, достигнув возраста шестидесяти лет, полагаю, я должен сказать, что если я и не пользовался постоянным счастьем, как он мне пожелал, я не испытал тем более и постоянной серии неудач; добавлю также, что, к чести человечества, если в мире я встречал злых людей и гонителей, я встречал также таких как о. Юбер. В десять часов я пришел к Маццоле в дорожной одежде. Я не дал сказать ему ни слова, бросился ему на шею и сказал только:
«Дорогой друг, благодарю вас за все, что вы для меня сделали; я уезжаю в Вену. Вы можете известить об этом ваших друзей в Венеции, и в особенности того, кто высказал вам столь благотворные мнения». Он остался пораженный; полагаю, я отметил на его лице печаль. Я снова обнял его и пошел на почтовую станцию; он подошел туда в то же время, что и я, и, взяв листок бумаги, написал эти любезные слова:
«Друг Сальери, мой любимый да Понте передаст вам эти строки; сделайте для него все, что сделали бы для меня: его сердце и его ум того заслуживают. «Pars animae, dimidiumque meae»» Он подписал и передал мне листок. Сальери в ту эпоху был один из первых композиторов, любимый императором и близкий друг Маццолы. Человек ума, столь же ученый, как и руководитель капеллы, он был весьма сведущ в литературе. Эта записка, которую я принес ему сразу по приезде, стала источником всех благ, которых я был удостоен в Вене.
XXIV
Не владея тогда в достаточной мере немецким языком, первое время я общался только с итальянцами. Среди этих соотечественников я встретил очень образованного человека, большого почитателя Метастазио и замечательного импровизатора. Он говорил со мной о своем идоле и читал ему стихи, посвященные знатному немецкому сеньору, сотрапезником которого он бывал, и которые по его просьбе я сочинял. Слушая их, Метастазио выразил желание познакомиться со мной. Я был представлен ему моим новым другом; я был им принят с той учтивостью, которая была ему в высшей степени присуща и которая пронизывала его творения. Он говорил со мной о моих творениях и простер любезность до того, что захотел сам прочитать их в избранном кругу, собравшихся вечером у него; эти стихи были моей поэмой «Филемон и Бавкида». Метастазио начал это чтение, затем, устав, он передал мне рукопись, и я завершил чтение. Эта милость такого большого поэта, похвалы, которых он меня удостоил, имели большой резонанс в Вене. Увы! Мне больше не дано было счастья видеться с этим замечательным человеком, который в своих весьма почтенных годах сохранил всю свежесть и колорит молодого возраста и всю силу своего таланта; его беседа и советы были мне весьма полезны. Он умер вскоре от горя; возможно, нам не дано будет узнать причины этой смерти; люди любят приобщаться к интимным сторонам жизни великого человека.
XXV
Со смертью Марии-Терезии имперская казна была почти опустошена бесконечным количеством ее пансионеров. Этого штриха достаточно, чтобы понять, до какой степени куртизаны злоупотребляли великодушием благородного сердца этой владычицы. Семья Эдлинг де Коритц включала семь членов, из которых один был епископом. Эта семья получила от неисчерпаемых щедрот императрицы пенсионы для отца, матери, братьев, сестер и всех домашних слуг. Епископ оказался однажды тет-а-тет с государыней; говоря о нуждах его епархии, она спросила, не может ли она еще что-либо сделать для него или его родных. «Ваше величество, ответил святой прелат, мы все щедро одарены вашими милостями, остались только две старые лошади моего отца, добрые животные, которые служили ему в течение тридцати трех лет, и которых надо продать, потому что они слишком стары и их приходится кормить задаром». И мгновенно святой епископ получил три сотни флоринов в год на инвалидов – двух добрых животных его отца, которых не будут отныне запрягать. Иосиф II, при своем восшествии на престол, распорядился о временной отмене всех ее пенсионов, сохранив за собой право продолжить те из них, которые покажутся ему имеющими больше оснований на эту милость; по своей чрезмерной чувствительности Метастазио увидел в этой мере, которая была всеобщей, унижение и забвение своих давних и почтенных трудов; он почувствовал в ней столь невыносимое унижение, что оно стоило ему жизни. Император, между тем, позаботился написать ему сердечное письмо, в котором заверял, что он никоим образом не подразумевается в этом решении, и что его пенсионы ему будут сохранены; это письмо пришло слишком поздно. Что до меня, то, благодарение небесам, я не боялся подобной смерти; ревность, зависть и несправедливость – единственное, что было всегда моим уделом.
XXVI
Я вел праздную жизнь, и деньги, что я привез из Дрездена, постепенно потратились; я не мог забыть, как жил в Падуе на черных оливках, и как был там вспоен водой Бренты во время сорокадневного моего строгого поста. Я начал, наконец, понимать, что мне следует подумать об экономии; вместо того, чтобы держать за собой в городе жилье, которое обходилось мне слишком дорого, я снял скромную комнату у портного, в предместье Видден. Мне в то же время повезло познакомиться с молодым человеком, дружным с изящной словесностью, достаточно благожелательным, чтобы предоставить мне средство поддерживать на приличном уровне мои потребности в течение нескольких месяцев. Я узнал также из циркулирующих слухов, что император имел намерение снова открыть в столице Итальянский театр. Мне вспомнилась идея, что внушил мне Маццола, и я возымел амбициозное намерение стать придворным поэтом. Долгое время я испытывал безграничное восхищение перед государем, из уст которого слышались все время изъявления новых черт гуманизма и величия; эти чувства поддерживали мои надежды. Я отправился повидать Сальери, он не ограничился тем, что обнадежил меня в моих надеждах, он взялся воспользоваться для меня поддержкой Генерального интенданта театров и, если понадобится, самого государя, у которого он пользовался особой милостью. Он действовал настолько удачно, что в первый же раз, когда я имел честь быть представленным императору, ему не понадобилось высказывать мое прошение, но лишь выразить свою благодарность. Хотя восхваления Иосифу II звучали из всех уст и отовсюду о нем отзывались как о самом совершенном владыке, мысль о том, что вот сейчас я предстану перед ним, внушила мне невыносимую робость. Но впечатление доброты, внушаемое видом его благородного лица, его голос, ласковый и приятный, простота его манер, отсутствие пышности в его окружении, позволили мне забыть, что я нахожусь в присутствии коронованной особы. Мне приходилось слышать, что он часто судит о людях по первому впечатлению. Мне показалось, что я не произвел на него неблагоприятного впечатления, я сужу об этом по милостивому приему, оказанному мне; он соизволил расспросить меня о моих частных обстоятельствах, моей стране, моей учебе и причинах, которые привели меня в Вену. Я отвечал со всей возможной краткостью, и мои ответы, хотя и лаконичные, казалось, его удовлетворили. Как последний вопрос, он спросил меня, сколько я сочинил драм.
– Ни одной, сир, – ответил я.
– Хорошо, хорошо, – бросил он, – мы имеем дело с девственной музой.
Затем он меня отпустил. Мое сердце переполнилось радостью, благодарностью и восхищением от его августейшей личности. Этот момент был, без преувеличения, одним самых сладостных в моей жизни, и я его никогда не забуду. Я был вполне удовлетворен, когда пришел Сальери сказать мне, что мне повезло понравиться государю; эта мысль меня поддерживала во время моей короткой театральной карьеры в Вене, и я в полной мере пользовался заповедями Аристотеля, которого, по правде говоря, я читал мало и еще менее изучал; они вели меня в моих исканиях в процессе сочинения многих работ, что я представил на Императорском театре. Это они, наконец, помогли мне выйти с победой из борьбы, что я вынужден был вести против голодной своры архаических педантов, завистливой толпы, настоящего бича литературы, среди которых, к сожалению, был человек выдающийся, оказывавший мне честь питать ко мне зависть и искать возможности лишить меня моего поста.
XXVII
В то время, когда я представлялся Иосифу II, в Вену прибыла превосходная труппа, состоящая из замечательных певцов, прославившихся по всей Италии; не теряя ни мгновения, я стал на них работать. Я перечитал все, что было написано и поставлено в этом городе, чтобы сообразовать мои идеи со вкусами обитателей Вены. Некий Варезе, как и многие другие называвший себя поэтом, поскольку написал одну оперу-буффо, скорее буффон, располагал единолично коллекцией из более чем трех сотен подобных сочинений. Я явился к нему, чтобы попросить показать мне эти сочинения. Он посмеялся надо мной и сказал: «Эта коллекция – настоящее сокровище; полагаю, я – единственный обладатель такого собрания; вы не можете себе представить, сколько она стоила мне денег и трудов. И не надейтесь, что я позволю выйти хотя бы одному тому из моей библиотеки». Все, чего я смог добиться, это перелистать некоторые из них в его присутствии; пока я читал, я все время ощущал его глаза, неотступно следившие за мной в страхе, без сомнения, что я вырву несколько листочков из его собрания шедевров. Я просмотрел пару десятков из них. Бедная Италия! Интриг, характеров, мизансцен, стиля – ничего там не было, и, хотя они должны были, по идее, увеселять публику, можно было подумать, что автор не ставил иной цели, как вызвать у нее слезы. Такова была продукция, доставлявшая тогда удовольствие итальянцам. Я подумал, что мне не составит труда написать что-то лучшее. Я решил, что в моих операх будут попадаться то там, то тут некие счастливые мотивы, что язык будет не искаженный, характеры будут четко очерчены и что слова, наконец, будут слушаться с удовольствием. К сожалению, вскоре я узнал по опыту, что вкуса и доброй воли недостаточно, чтобы сочинить драму, которую можно поставить на сцене.
XXVIII
Со всем уважением должен заметить, что обязан всем Сальери сочинившему музыку к моему первому творению; он был действительно одним из первейших мастеров той эпохи. Я принес различные сюжеты и мои планы, чтобы он мог сделать выбор. К несчастью, этот выбор остановился на сюжете, совершенно лишенном шансов на успех: «Богач на день». Я начал работать, но мне не понадобилось много времени, чтобы понять разницу между замыслом и его воплощением. По мере того, как я писал, под пером возникали и множились без конца трудности. Сюжет не давал мне ни достаточного числа характеров, ни разнообразия инцидентов, способных поддерживать интерес в течение двух или трех часов, что должно было длиться представление. Я находил мои сцены холодными, действие затянутым, диалоги сухими, идеи тривиальными, мои вокальные вставки – плохо привязанными. Мне казалось, наконец, что я не умею более писать, тем более писать стихи, словом, мое перо казалось мне палицей Геркулеса в руках пигмея. Так или иначе, я довел до конца мое первое творение; единственно финал не удавался; этот финал, тесно связанный с произведением, должен подвести итог всей пьесе и внушить к ней интерес. Это в нем должен развернуться талант музыканта и актеров и сосредоточиться весь эффект пьесы. Речитатив здесь исключен; финал должен включать только пение и представить все жанры: адажио, аллегро, аморозо, гармониа. Короче, он должен завершаться тем, что на музыкальном языке называется стретта, которая одна резюмирует всю силу драмы. В финале должны участвовать все актеры, сколько бы их ни было; они должны появляться по одному, по двое, по трое или больше, если надо, петь соло, дуэтом, терцетом, и, если природа драмы этому противится, поэт должен это восполнить, вопреки критерию здравого смысла и всем правилам Аристотеля; творение должно быть завершено; если это получилось плохо – тем хуже для автора. После всего сказанного, нетрудно себе представить затруднение, в котором я оказался; двадцать раз я порывался бросить в огонь все, что написал, и признать свое поражение. Наконец, поломав голову, измучив мозги и обратившись ко всем святым, я достиг цели; я закончил пьесу. Только что завершенную, я засунул ее в дальний ящик, откуда достал только по прошествии пятнадцати дней, чтобы перечесть на холодную голову. Она показалась мне еще более жалкой; надо было, однако, вручать ее Сальери, который уже окончил первые сцены и теребил меня по поводу остальных. Я встретился с ним, повесив нос, и, не произнося ни слова, вручил ему либретто. Он просмотрел его все передо мной и заявил: «Хорошо написано, но нужно посмотреть это на подмостках. Тут есть арийки и очень хорошие сцены, которые мне нравятся; мне нужны, однако, некоторые легкие изменения, скорее из музыкальных потребностей, чем по иной причине». Можете представить себе радость, что причинили мне эти слова, и, легко уяснив себе все, что требовалось, я начал верить, что мое творение в действительности не так уж и плохо, как мне представлялось. В чем же состояли, однако, эти легкие изменения? В том, чтобы изуродовать, удлинить или укоротить почти все сцены, вставить новые дуэты, терцеты и квартеты, изменить размер стихов в ариях, ввести новые хоры, что должны быть спеты… по-немецки! Устранить почти полностью речитативы, и, соответственно, изменить разворот интриги и перспективу, за то малое время, что оставалось до дня первого представления, при том, что осталась едва сотня стихов от моего первоначального проекта. Музыка была закончена, работа должна была быть представлена, когда в Вену прибыл знаменитый аббат Касти, поэт, чья репутация имела резонанс по всей Европе и была обязана, в частности, его «Галантному орешку», настолько же превосходному поэтически, насколько скандальному в отношении морали. Он столкнулся одновременно со смертью Марии-Терезии, которой он далеко не нравился, и смертью Метастазио, которая делала вакантным пост придворного поэта; он рассчитывал, что по своим достоинствам, благодаря протекции своих могущественных друзей, в особенности графа де Роземберг, который, несмотря на преклонный возраст, любил еще «звуки грубой арфы эротического певца», он без затруднений получит этот пост, объект своих притязаний. В тот же момент прибыл также и Паезиелло, музыкант известный и уважаемый императором, в высшей степени ценимый венскими меломанами и полагающий себя несравненным. Паезиелло заявил о своем желании написать музыку к драме. Его прибытие смутило Сальери; «Богач на день» оказался отложен в долгий ящик, и в Вене говорили только о Касти и Паезиелло. Трудно вообразить себе нетерпение актеров, графа де Розенберг, друзей Касти, наконец, всего города; имя Касти было у всех на устах. Поскольку в круг моих интересов входило знакомиться со всем, что касалось Имперского театра, я первым делом достал «Короля Теодора» – таково название первой оперы Касти. Я, не откладывая дело до момента, когда приду к себе, зашел в кафе и перечел всю пьесу два раза с начала и до конца. Язык был в ней чисто тосканский, стиль правильный, стихи были не лишены ни изящества, ни гармонии; в них были тонкость, элегантность, блеск. Арии были прекрасны, куски с ансамблями – чудесны, финалы – поэтичны, и однако, на мой взгляд, в драме не было ни жара, ни интереса – ничего драматичного, наконец. Действие было затянуто, характеры не прописаны, развязка неправдоподобна и почти трагична. Каждая часть, взятая отдельно, была хороша, но все вместе – отвратительно. Я не смогу лучше описать мое впечатление от прочтения этого творения, как если сравнить его с набором драгоценных камней, смонтированным неумелым ювелиром. Читая «Короля Теодора», я убедился, однако, в недостатках моей пьесы. Я воздержался, впрочем, передавать это мое впечатление кому бы то ни было. Касти был в Вене более непогрешим, чем Папа в Риме. Я отложил на время решение вопроса. Несколько недель спустя его опера была представлена, и успех был огромный. Могло ли быть иначе, певцы были безупречны, декорации превосходны, костюмы великолепны, музыка божественна; и поэт, с улыбкой на устах, принимал все поздравления от энтузиастов как обязанные исключительно достоинствам его пьесы. В то же время клика Роземберга повторяла повсюду и при всяком удобном случае: «Какое произведение! Какая замечательная композиция!». К этим восхвалениям добавлялись в небольшом числе непредвзятые, и во главе их – сам император, повторявший на разные лады: «Какая пьеса! Какая музыка!». Этот единодушный хор восхвалений обескуражил Сальери, который за целый год больше не решился предложить дирекции «Богача на день». Решив дать успокоиться этому всеобщему опьянению, он предпочел в этих обстоятельствах отправиться в Париж, с намерением сочинять музыку к своим «Данаидам». Я не был раздосадован этим отъездом, который дал мне возможность поразмышлять и укрепить мои идеи относительно театра. В то же время я был в достаточной мере счастлив, чтобы заняться глухими тропами, ведущими к моему могучему сопернику; мне казалось, что лучшим способом его переиграть будет написать пьесу, лучшую, чем его собственная. По возвращении Сальери из Франции «Богач на день» был представлен к обсуждению. Главная роль предназначалась для Сторас, которая в то время была в расцвете своего таланта и вызывала восхищение у венцев; но эта певица болела и ее следовало заменить; не имея, из кого выбирать, пришлось взять то, что было под рукой; фатальным образом, актриса, назначенная, чтобы исполнить эту роль, оказалась на это совершенно неспособна; пьеса провалилась. И это еще не все. С целью помочь несчастному, не лишенному таланта, но находящемуся в полнейшей нужде, я дал переписать мою рукопись некоему Чьяварино. Этот Чьяварино был связан дружбой с бездельником того же толка, что и он, Брунати, который, как и множество других ничтожеств с Парнаса, мечтал тоже стать придворным поэтом; Чьяварино показал рукопись Брунати, и тот вздумал подвергнуть ее гнусной критике, которую решил распространить по театру в самый день представления. Он сообщил свой план Касти, перед которым хотел выслужиться, и Касти, счастливый, что может мне навредить, одобрил, просмотрел и откорректировал этот памфлет, добавив ему смысла, которого там не хватало, и несколько колкостей в мой адрес. Чьяварино, обновивший свой гардероб благодаря моей благотворительности, решил послужить им инструментом, сам взявшись за распространение памфлета, чтобы сделать приятное Касти и его покровителю Розембергу. Такие пустяки должны показать, как мои добрые намерения относительно моих соотечественников встречали неблагодарность с их стороны, и, наконец, какого рода борьбу я должен был выдерживать долгие годы; при этом, я никогда не питал иллюзий относительно достоинств «Богача на день»; либретто было положительно плохим и музыка – отвратительной. Сальери, вернувшись из Парижа, еще под впечатлением от музыки Глюка и «Данаид», музыки столь отличной от нашей, скомпоновал свою партитуру совершенно во французском вкусе, без всякой реминисценции со своими прекрасными и нежными мелодиями, которые он, казалось, забыл на берегах Сены; но, чтобы лучше было понятно вероломство моих врагов, достаточно сказать, что они попытались представить дело таким образом, как будто мне одному пьеса обязана была своим провалом, в то время, как в опере-буфф слова, в основном, играют вспомогательную роль. В этих обстоятельствах они уверяли, наоборот, что все достоинство спектакля держится на таланте поэта, оно не зависит даже от актеров, которые в данном случае осыпали меня проклятиями. Они не понимали, как можно спеть такие слова, и особенно, как маэстро набрался самоотверженности, чтобы положить их на музыку. Сам Сальери дошел до того, что поклялся страшной клятвой, что даст скорее отсечь себе руку, чем напишет хоть ноту на мои стихи. Что до Касти, он повел против меня войну совсем с другой стороны: он встал на мою защиту, но его похвалы вредили мне намного больше, чем открытая критика.
Pessimum inimicorum genius laudantes.[7]
«Да Понте, – говорил он, – ничего не смыслит в драматическом искусстве. Что с ним случилось? Неужели ему понадобилось заняться сочинением опер, чтобы почувствовать себя достойным человеком? Никто не может заниматься этим, не имея верного вкуса, достаточного таланта и, особенно, серьезного образования».
Ему важно было всех уверить, что я неспособен работать для театра, и, осыпая меня похвалами во всем, что не касалось этой грани таланта, он стяжал себе право заставлять себя слушать в том, что он отказывал мне в этом единственном таланте. Каждый день вылупливался против меня новый пасквиль. Один писака, Нунцио Порта, поэт типа Брунати и даже хуже, опубликовал сатиру, кончающуюся следующими словами:
Ослом ты родился, ослом и умрешь; Сейчас я сказал немного, позже скажу больше.
Надо сказать, что на это я ответил несколькими пьесами, также сатирическими, и при этом еще более едкими, но сочинял я их более для того, чтобы развлечься, чем под воздействием гнева или досады. Эти пустяки не были драмами, Касти оказал мне честь, сочтя их восхитительными и сравнив со своими «Гинлеидами». Среди всей этой завистливой толпы единственным человеком, который ничего не опасался, был Касти, из-за своего чувства превосходства, своей недобросовестности и, особенно, из-за высокой протекции, которой он пользовался. К счастью, на моей стороне был император, который выказывал при всех обстоятельствах мне тем более горячую поддержку, чем с большей силой атаковали меня мои враги.
«Этот молодой человек, – сказал он однажды Андреа Дольфи, министру Венеции, также моему покровителю, – слишком талантлив, чтобы не возбуждать зависть у Касти, но я его поддержу. Еще вчера Роземберг, после провала его пьесы, пытался внушить мне, что нам нужен другой поэт. Касти находился в моей ложе, надеясь, возможно, что я назначу его на этот пост. Я ответил, что прежде всего я желаю услышать вторую оперу Да Понте».
XXIX
Неуспеха моего дебюта было достаточно, чтобы лишить меня смелости и помешать являться к императору. Встретив меня однажды, на своей утренней прогулке, случайно проходящего мимо, он меня остановил и с большой добротой сказал: «Будьте уверены, ваша опера далеко не столь плоха, как хотели бы в том уверить. Наберитесь смелости и представьте нам шедевр, который заставит их замолчать».
Примерно около этого же времени в Вену приехали Сторас и Мартини, молодые сочинители, стремившиеся написать оперу для Итальянского театра. Первый пользовался покровительством своей сестры, талантливой виртуозки, с которой я имел случай беседовать, хотя она и не относилась к числу моих сторонников, второй – покровительством супруги посла Испании, близкой подруги императрицы. Мои завистники, не собираясь останавливаться на достигнутом, воспользовались этим обстоятельством, чтобы нанести мне удар, который должен был заставить меня потерять завоеванные позиции, вопреки воле суверена. Они постарались включить в игру вновь прибывших, которые заявляли о себе – Сторас как поэт, а Мартини как композитор. Касти, душа этого комплота, и Брунати, его верный инструмент, постарались внушить им идею объединить свои таланты и написать вместе либретто. Для этого их ежедневно окружали россказнями про мой провал, с тем, чтобы отговорить Мартини работать на меня и со мной, представляя меня как человека, неспособного сочинить что-либо, кроме текстов романсов. Мой высочайший покровитель, отметая все затруднения, велел сказать Мартини, чтобы тот обращался только ко мне, и тот явился ко мне с вопросом, почему бы мне не написать пьесу, посвященную жене посла Испании, что ей бы польстило.
XXX
К несчастью, я вынужден был оторваться от своих обычных занятий из-за несчастного случая, который можно было бы отнести к числу самых жестоких происшествий моей жизни. Бедный итальянец, не имеющий за собой ни обаяния, ни молодости, был без памяти влюблен в юную персону, обитавшую в том же доме, что и я, и не имевшую, да и не могшую иметь никакой к нему склонности. Однажды, когда он спросил ее о причинах такой суровости, она ответила: «Этих причин целых три: вы некрасивы, я вас ненавижу и я люблю да Понте»; затем, чтобы его еще более унизить, она обрисовала ему мой портрет, пригодный лишь для Адониса. Я и шести раз не обращался к этой женщине с разговорами, и еще менее того – с любезностями. Ее слова, целью которых было лишь избавиться от человека, который ее раздражал, имели для меня самые фатальные последствия. Этот человек, видящий во мне причину пренебрежения, объектом которого он явился, воспылал ко мне лютой ненавистью, поклялся мне страшно отомстить. Встретив меня однажды в кафе и видя, что я чем-то озабочен, он спросил о причине; я знал, что он хирург, и, будучи не в курсе того, что случилось между ними, не скрыл от него, что мучаюсь от опухоли на десне и опасаюсь, что придется пойти на операцию.
– И кто дал вам совет сделать операцию?
– Первый хирург императора, Брамбилла.
– Это ошибка с его стороны, большая ошибка, заплатите мне цехин, и я заставлю исчезнуть эту опухоль, не прибегая к разрезу.
Я дал ему денег, что он просил; он ушел и, вернувшись почти тотчас же, вручил мне пузырек с жидкостью, несколько капель которой я должен был капать на тряпочку и прикладывать ее к больному месту, стараясь не глотать. Эта жидкость оказалась такой едкой, что за неделю опухоль исчезла. Женщина, которая мне прислуживала, присутствовала при том, как я в седьмой раз делал эту примочку; видя, что я готов засунуть смоченную этим составом тряпочку в рот, она громко вскричала: «Великий боже! Это азотная кислота!». Она вдруг вырвала у меня пузырек и тряпочку, рассмотрела их внимательно и повторила мне: «Азотная кислота!». Представьте себе мой ужас. Она заставила меня немедленно прополоскать рот чистой водой и уксусом; восемь дней спустя у меня выпали восемь зубов, и, поскольку каждый раз, как я делал эту аппликацию, несколько капель попадали в горло, у меня настолько испортился желудок, что я испытывал невыносимые страдания от всякой еды и можно было счесть чудом, что я был еще жив. В ожесточении я обегал, как одержимый, все улицы Вены в поисках этого злодея, и во время этих бесполезных поисков я потерял еще восемь зубов. Долгое время я был между жизнью и смертью. Несколько лет я ничего о нем не слышал. Наконец однажды, во время небольшой поездки в Гориц, прогуливаясь по берегам Трона, я увидел толпу, окружившую человека, который распростерся на земле, с окровавленным лицом и разбитой челюстью. Это был он, и я узнал руку Господа в том наказании, которое он понес.
XXXI
Два года прошло, прежде чем я полностью вылечился и смог снова взяться за мои труды. Я выбрал сюжетом первой драмы, что предназначил для Мартини, «Благодетельного грубияна»[8]. Я принялся за работу. Едва об этом проекте узнал Касти, как, одержимый двойным желанием – стать придворным поэтом и избавиться от меня, которого он считал единственным тому препятствием, – он постарался повсюду известить, что сюжет этот мало пригоден для оперы-буфф. Он имел дерзость повторить эти слова перед сувереном, который счел необходимым мне сказать:
– Да Понте, ваш друг Касти полагает, что ваш «Благодетельный грубиян» не сможет нас насмешить.
– Сир, – ответил я, – я буду счастлив, если он заставит его плакать.
– Я надеюсь на это, – добавил Иосиф II, который понял двусмысленность фразы.
Опера была поставлена и принята с удовольствием с начала и до финала. Видели, что многие зрители, в том числе сам император, аплодировали даже речитативам. «Мы его побили», тихо сказал мне Иосиф II, направляясь к выходу после первого представления. Эти три слова стоили для меня сотни страниц восхвалений. Назавтра я посетил графа де Роземберг; он был наедине со своим дорогим аббатом. Прием, который они оба мне оказали, был ледяной.
– Чего желает синьор поэт?
– Я хотел бы услышать мнение монсеньора Генерального Интенданта театров.
– Синьор поэт уже знает мнение нашей снисходительной публики; мне не хочется разбираться, права ли она.
И покровитель и его протеже сопроводили эти слова сардонической улыбкой, оставив меня с моими размышлениями. Я иного от них и не ожидал; однако мое решение было подать немедленно в отставку. Это слишком много, – сказал я себе, – иметь двух таких могущественных врагов; милость императора будет бессильна преодолеть их ненависть; лучше будет мне удалиться до того, как они меня настигнут. Я направился во дворец. Государь принял меня с явной радостью, сказав:
– Браво, да Понте! Музыка и слова мне понравились.
– Сир! Господин интендант, кажется, придерживается другого мнения.
– Это не интендант, а Касти, и это – ваш триумф. Поверьте, и дайте нам следующую оперу с подобной же музыкой. Следует ковать железо, пока оно горячо.
Он повторил то же самое Розембергу, и тот был достаточно прост, чтобы сказать мне об этом.
Два интригана еще не были окончательно разбиты. Касти, однако, был несколько озадачен. Он не осмеливался более критиковать произведение, которое все признали хорошим; он пустился в арлекинаду. Он его хвалил, но сопровождая многозначительной оговоркой.
«В сущности, – говорил он, – это всего лишь перевод; надо послушать, как будет звучать его оригинальное творение. Однако, грех так издеваться над языком. Слово «taille – лезвие, рост, талия», например, никогда не употребляется в том смысле, что он ему дал». Я случайно находился позади него, когда он гнусавым и насмешливым тоном бормотал эту фразу перед одним из актеров театра. Встав перед ним и тем же гнусавым тоном я процитировал ему стих де Берни:
«Le jeant n'eut jamais une semblable taille – Ни один гигант не имеет подобного роста».Он посмотрел на меня, поджал губы и набрался достаточно самообладания, чтобы ответить мне: «Черт возьми, он прав!».
«Господин аббат, – сказал я ему, – не найти во всей пьесе для критики ничего, кроме нескольких слов, – это самая большая похвала, что можно себе представить. Я никогда не выискивал галлицизмов в «Короле Теодоре»». Не давая ему времени ответить, я отошел. Его собеседник зашелся смехом, и аббат, смущенный, молчал более десяти минут.
Касти, которому никак нельзя было отказать в звании поэта, совершенно лишен был эрудиции. У него был энциклопедический словарь, откуда он извлекал по мере надобности знания, которых ему не хватало. Ему все время не везло. В опере Трофониус, например, в том месте, где речь идет о Диалогах Платона, он написал:
Платон в своем Федоне и в своем Тимоне…
Я был одним из первых, кто прочел его пьесу, и поправил ее, заменив «Тимон» на «Тимей». Когда я возвращал ему последний исправленный экземпляр и дошел до этого стиха, он спросил, кто автор этого исправления. «Я, синьор аббат» – ответил я. Он обратился к своему словарю, понял ошибку, покраснел и поблагодарил меня, затем со всем упорством захотел вручить мне этот словарь, который я сохранял более двадцати пяти лет и который был у меня украден в моих странствиях.
XXXII
Мой успех, и еще более особая милость, которую демонстрировал мне Иосиф II, стимулировали мое поэтическое вдохновение; я чувствовал себя способным не только не бояться моих клеветников, но даже пренебрегать их усилиями, и я с удовлетворением тотчас увидел композиторов, ищущих моих либретто. В Вене было не более двух маэстро, действительно достойных, по моему мнению, этого имени: Мартини, на тот момент фаворит Иосифа II, и Вольфганг Моцарт, которого я имел случай повстречать в то время у барона де Ветцлар, его друга; Вольфганг Моцарт, хотя и обладавший от природы музыкальным гением, возможно, величайшим из всех композиторов прошлого, настоящего и будущего, не мог еще развернуть во всем блеске свой божественный гений в Вене из-за череды происков своих врагов; он пребывал там во мраке и неизвестности, подобно драгоценному камню, который, спрятанный в недрах земли, скрывает там секрет своего блеска. Я не могу без ликования и гордости подумать, что только моя настойчивость и моя энергия стали, по большей части, причиной того, что Европа и весь мир стали свидетелями полного раскрытия волшебных музыкальных композиций этого несравненного гения. Несправедливость, ненависть моих соперников, журналистов и немецких биографов Моцарта никогда не согласятся отдать эту славу такому итальянцу, как я; но весь город Вена, все те, кто знал Моцарта и меня в Германии, в Богемии, в Саксонии, вся его семья, и особенно сам барон де Ветцлар, его поклонник, в доме которого зародилась первая искра этого божественного пламени, – все они свидетели той правды, что я здесь говорю…
И вы, месье де Ветцлар, вы, господин барон, что дали мне недавние свидетельства вашей верной и благодарной памяти, вы, кто так любил и так ценил этого поистине небесного человека, и кто имеет столь справедливую часть в его славе, в славе, что становится еще более великой и более священной из-за зависти, которая ее сопровождает, и даже в нашем веке, который единодушно ее подтверждает после его смерти, будьте мне свидетелем для потомков.
После успеха «Благодетельного грубияна» я обратился к Моцарту, которому рассказал о том, что произошло между Касти, Розембергом и императором. Я спросил, не согласится ли он положить на музыку оперу, написанную специально для него.
– Я бы сделал это с бесконечным удовольствием, – ответил он, – но сомневаюсь, что смогу получить разрешение.
– Я берусь преодолеть все трудности.
– Ну что ж, действуйте.
Я пребывал в раздумьях по поводу выбора сюжетов, которые я мог бы представить двум столь несхожим талантам, как Моцарт и Мартини, когда получил приказ из Интендантства написать драму для Газзаньига, довольно хорошего маэстро, но композитора, вышедшего из моды. Чтобы поскорее избавиться от этой неприятной нагрузки, я выбрал французскую комедию «Слепой ясновидящий». В несколько дней я набросал пьесу, которая не имела успеха ни по музыке, ни по словам. Она была поставлена три раза, а затем убрана из театра.
Этот провал, хотя и неприятный, никак не повлиял на мою репутацию, и я вновь принялся размышлять над операми, которые я предназначал для моих двух друзей. Я вполне понял размеры гения Моцарта, заслуживающего сюжета драмы обширного, многообразного, возвышенного. Болтая со мной однажды, он спросил, не могу ли я поставить в опере комедию Бомарше под названием «Женитьба Фигаро». Предложение пришлось мне по вкусу, и успех был неожиданный и всеобщий.
Незадолго до того эта пьеса была запрещена приказом императора как написанная в аморальном стиле. Как же было взяться за нее снова? Барон предложил мне, со своей обычной щедростью, разумную цену за мою поэму; он заверил меня, что позаботится, если пьесе будет отказано в Вене, поставить ее в Лондоне или во Франции. Я на это не согласился и принялся за дело под большим секретом, выжидая подходящего момента, чтобы предложить ее либо в Интендантство, либо самому императору, если наберусь смелости. Один Мартини был посвящен в тайну и был достаточно щедр, из уважения к Моцарту, чтобы предоставить мне время закончить мою пьесу до того, чтобы заняться с ним. По мере того, как я писал слова, Моцарт сочинял музыку; в шесть недель все было закончено. Добрая звезда Моцарта хотела, чтобы удобные обстоятельства представились и позволили принести мою рукопись прямо императору.
– Как вы знаете, – ответил мне Иосиф, – Моцарт, замечательный в инструментальной музыке, ничего не писал для пения, за исключением одного случая, и это исключение не явилось таким уж прекрасным.
– Я сам, – ответил я скромно, – если бы не доброта императора, ничего бы не написал в Вене, кроме одной драмы.
– Это верно; но эта пьеса о Фигаро, я запретил ее в немецкой труппе.
– Я знаю это; но, преобразовав эту комедию в оперу, я убрал там целые сцены, сократил другие и постарался, чтобы исчезло все, что может шокировать в отношении приличий и хорошего вкуса; словом, я сделал из пьесы вещь, достойную театра, который Ваше Величество почтило своим покровительством. Что до музыки, насколько я могу судить, она кажется мне шедевром.
– Ну что ж, я доверяю вашему вкусу и вашему благоразумию; передавайте партитуру копиистам.
Через мгновение я был у Моцарта. Я не успел еще поведать ему об этой доброй новости, как прибыла депеша, предписывающая ему явиться во дворец со своей партитурой. Он повиновался и дал прослушать императору различные куски, которые того очаровали. У Иосифа II был отменный вкус в музыке и во всем, что касалось искусств. Выдающийся успех, который имело во всем мире это замечательное творение, служит тому доказательством. Эта музыка – вещь невероятная – отнюдь не вызвала единодушного одобрения. Венские композиторы, которых она уничтожила, особенно Роземберг и Касти, не замедлили начать ее поносить.
XXXIII
Как раз этот момент выбрал граф де Роземберг, чтобы попросить официально пост имперского поэта для своего протеже. Манера, которую он избрал, была достаточно курьезной, чтобы стоило о ней рассказать.
Император дал дамам своего двора превосходный праздник в своем дворце Шёнбрунн, при котором был небольшой театр; граф велел представить там комедию на немецком языке и итальянскую оперетту, для которой Касти по его совету сочинил слова. Оперетта называлась «Слова после музыки». Чтобы заверить, что эта оперетта была вполне пустяковая, без смысла и без характеров, достаточно сказать, что она никому не понравилась, кроме графа, который единственный набрался смелости ее похвалить. Для вящей уверенности в успехе своей интриги, эти двое не придумали ничего лучше, чем сделать пьесу сатирой на меня, и Касти взялся за это со всем старанием. Сделали аллюзию с моими амурами с женщинами театра; последствием этого, на их взгляд, должно было быть то, что человек подобных нравов был недостоин должности, которую занимает. На другой день после праздника граф, который, в качестве Великого Камергера, подавал императору рубашку, получил приказ составить список всех актеров, которые участвовали в представлении, и выделить каждому, сообразно его достоинствам, королевское вознаграждение, в знак его удовлетворения. Пока император занимался своим туалетом, граф выполнил это поручение; когда он его закончил, он передал список Его императорскому Величеству. Иосиф II, взяв перо, добавил нолик к каждой цифре, записанной графом, затем, вернув список, сказал: «Это не граф Роземберг, а император давал этот праздник».
Такие знаки щедрости были нередки в жизни этого владыки. Они прославили и будут прославлять память о нем, вопреки тем, которые, из зависти или по невежеству, осмеливались при его жизни и еще долгое время после его смерти говорить и писать нелестное о нем и ставить под сомнение доброту его сердца. Он был не только щедр, но умел добавлять к благодеяниям и любезность, которая удваивала их цену. Полагаю, что мне здесь позволительно, оставив на минуту в стороне Касти и его мецената, рассказать об этом обожаемом властителе два анекдота, которые, помимо всяких похвал, были несомненно опущены его биографами, потому что я не видел нигде, чтобы они упоминались в истории его правления.
XXXIV
У портного, у которого я жил, была жена, женщина любезная и приятная. У него часто собирались гости. Среди лиц, что часто посещали этот небольшой близкий круг, была одна вдова, очень богатая, которая приближалась к шестидесяти и думала более о том, чтобы снова выйти замуж, чем об «oremus»[9]. У нее было четыре сына, обремененных каждый многочисленным семейством, которые, хотя отец их и был богат, вынуждены были добывать свой хлеб в поте лица, поскольку их отец оставил почти все свое богатство жене. Однажды появился в доме ювелир, молодой, миловидный, который всем нравился. Вдова, несмотря на свои отзвонившие двенадцать пятилеток, сочла его лакомым кусочком и безумно в него влюбилась. Она легко догадалась, что ее экю смогут заставить забыть о разнице в возрасте; она начала с того, что открылась жене моего хозяина, которая сначала только посмеялась, но когда сообразила, что, в случае замужества, мужу достанется значительное приданое, и что для нее как для благодетельницы той не жалко будет, в качестве свадебного подарка, и золотых часов, она раскрыла большие глаза и стала рассматривать дело всерьез. Она начала с того, что попыталась ее отговорить, затем, видя, что ее усилия бесполезны, решила поговорить с молодым человеком, сначала в форме шутки. Тот, как только было упомянуто приданое, ответил без раздумий, что согласен. Он говорил с такой убедительностью, что посредница тут же направилась дать отчет вдове, которая восприняла сообщение с самой живой радостью; дело пошло со скоростью почтового экспресса. Обговорили место, были разработаны и подписаны в присутствии свидетелей условия контракта, и брак был заключен в церкви. Новобрачная выдала часы, добавив сотню флоринов на расходы по свадьбе, которая должна была происходить дома. Сразу по завершении, не думая более о будущем своих детей и своем собственном, она передала в присутствии всех своему новому мужу ларец, содержащий целое богатство – около шестидесяти или семидесяти тысяч пиастров. День прошел в празднествах; новобрачная, проводив в полночь толпу, спросила у мужа, не пора ли им заняться собой. «Мадам, – ответил тот, – я назначил встречу вашим детям на девять часов утра, в этот час мы и увидимся». Он тут же вышел, оставив ее раздумывающей над его словами. Назавтра в девять часов он принял у себя четырех сыновей дамы и, казалось, не замечая недовольства, запечатленного на их лицах, сказал:
– Господа, если вы полагаете, что, женившись на вашей матери, я был увлекаем жадностью, вы ошибаетесь. Я жил до сих пор плодами рук своих, и буду продолжать так же. Если я пожертвовал своей свободой, то это для того, чтобы вернуть вам наследство вашего отца, которое могло бы иначе попасть в руки менее бескорыстные.
Открыв затем ларец, который был передан ему по контракту, он сказал:
– Вот это богатство, которое я ценю только за то, что могу распределить его между вами; поделите его как добрые братья. Я удержу из него только шесть тысяч флоринов, доход от которых послужит для содержания вашей матери; по ее смерти эта сумма вернется к вам.
Не могу описать впечатление, произведенное этой сценой; скажу только, что все четверо, упав к ногам своего отчима, осыпали его благодарностями. Этот славный парень захотел призвать нас, портного, его жену и меня, как свидетелей этой акции, достойной Сократа и Аристида.
Уверяю вас, что никогда в жизни не встречал подобного бескорыстия. Император, которому я все рассказал, почувствовал подлинную радость и воскликнул: «Слава тебе, господи, есть еще благородные люди в моем добром городе Вена!». Немедленно он велел вызвать к себе ювелира, осыпал его похвалами и назначил пожизненный пенсион в четыре сотни флоринов.
XXXV
Второй случай был, по моему мнению, не менее благородным и не менее интересным.
Немецкий поэт, очень ценимый императором, который имел тысячу случаев получить от этого монарха неопровержимые доказательства его доброты, возымел злополучную идею написать пьесу в стихах, начинающуюся словами:
Король, может ли он быть добрым?Остальное соответствовало началу; он сам отнес ее Иосифу II. Император прочел ее внимательно, и недовольство автором было столь чудовищно, что он сослал его в Темишоар. Однажды он оказал мне честь посоветоваться о достоинстве этих стихов, которые он мне показал; я ответил, что, как поэзия, они кажутся мне весьма хорошими, и что он может, оказав милость их автору, дать ему самое убедительное доказательство того, что король может быть добрым. «Вы правы», – сказал он мне живо и, сев за стол, написал директору полиции, графу Саур, если не ошибаюсь, чтобы тот отдал приказ вызвать поэта, заверив его в своем прощении, и в то же время велел передать ему две сотни цехинов на расходы по путешествию, но не соглашался при этом никогда его снова видеть.
XXXVI
Вернемся, однако, в Шёнбрунн и к графу де Роземберг, который не успел еще оправиться от унижения, которое испытал. Окончив туалет, Иосиф II подошел к нему и спросил, почему имя Касти не фигурирует в списке кандидатов, имеющих право на вознаграждение. «Касти, – ответил граф, – надеется на доброту Вашего Величества, которое дарует ему титул Придворного поэта».
– Дорогой мой граф, мне не нужен поэт, и для театра достаточно да Понте.
Я узнал об этом маленьком эпизоде в тот же день от Сальери, которому сам император его пересказал.
Между тем, эти разочарования лишь разогрели ненависть, и Моцарт и я не без опасения наблюдали возникновение комплота между нашими двумя врагами и неким Бюссини, инспектором гардероба, человеком, способным на все, кроме того, что присуще человеку благородному. Услышав говор, что я включил в своего «Фигаро» балет, Бюссини прибежал поспешно к графу и заявил ему неодобрительным тоном: «Ваше превосходительство, поэт включил в оперу балет!». Граф дал мне знать об этом, и между нами возник следующий диалог:
– Вы пренебрегаете, месье, тем, что Его Величество не терпит балетов в своем театре!
– Отнюдь нет, монсеньор.
– Что ж, я приказываю вам убрать тот, что вы поместили в вашей пьесе, господин поэт, – заявил он, делая акцент на слове «поэт», как я – на сломе «монсеньор»; – где эта сцена?
– Вот она.
Он вырвал два листа из моего манускрипта, бросил их в огонь и, возвращая мне мое либретто, добавил:
– Видите, господин поэт, каковы размеры моей власти, – удостоив меня в то же время властным – «Идите!».
Я немедленно отправился к Моцарту, который при рассказе об этой сцене пришел в ярость до такой степени, что хотел пойти к графу, избить палкой Бюссини, обратиться к императору и забрать свою партитуру. Я изо всех сил постарался его успокоить; я попросил у него два дня отсрочки и позволения мне действовать самому.
Генеральная репетиция была в тот же день остановлена, я отправился предупредить об этом императора, который пообещал мне вмешаться. Действительно, он соблаговолил присутствовать на этой репетиции, и вся знать Вены последовала за ним. Первый акт потонул в море единодушных аплодисментов; он заканчивался пантомимой, во время которой оркестр должен был играть мелодии из балета; но поскольку танцы были исключены, оркестр оставался немым.
– Что означает это молчание? – спросил император у Касти, сидевшего за его креслом.
– Только автор может ответить Вашему Величеству, – ответил аббат со злорадной улыбкой.
Я был вызван, но вместо того, чтобы оправдываться, хранил молчание, представив перед глазами Его Величества копию моего манускрипта, в которой оставил вымаранную сцену такой, как я ее написал. Император ее читает и желает узнать, почему нет танцев. Я снова храню молчание. Он понимает, что здесь происходит что-то темное, и, повернувшись к графу, требует от него объяснения, от которого я уклонился.
– Танцы отсутствуют, – отвечает, запинаясь, Роземберг, – потому что в театре Вашего Величества нет балетной труппы.
– Но они существуют в других театрах, и я хочу, чтобы в распоряжении да Понте были все танцовщики, которые ему будут нужны.
Полчаса спустя в нашем распоряжении были двадцать четыре человека – танцовщики и фигуранты. Балет был исполнен. «Очень хорошо!» – воскликнул император, и этот новый знак одобрения удвоил жажду мщения в душе моего могущественного гонителя.
Я спросил, выплатят ли мне в кассе театра сумму, которая следовала мне по контракту; граф де Роземберг изобретал тысячу предлогов, чтобы помешать мне ее получить. Совершенно не желая беспокоить императора по поводу этих мелких неприятностей, я постарался взять хитростью то, на что имел право по справедливости. Касти был постоянно стержнем, вокруг которого вращались все эти дурные страсти. Я решился написать ему послание в стихах; моя жалоба не ограничивалась только констатацией того, что мне причиталось, она включала также и пышное восхваление его личных достоинств, к которым я испытывал полное доверие. Натурально, он нашел мои стихи очаровательными и цитировал их своим друзьям. С этого момента я не встречал более никаких препятствий и получил свои деньги.
Laudes, crede nuhi, placant hominesque deosque. (перевод –?)
Наконец, наступил день первого представления оперы Моцарта; оно произошло, к большому конфузу музыкальных светил и унижению графа и Касти. Эта опера имела необычайный успех, она особенно пришлась по вкусу императору и настоящим любителям хорошей музыки; ее объявляли замечательным творением, почти божественным. Либретто имело свою долю успеха, и мой скромный соперник Касти первым отметил его красоты. Но каковы были его похвалы! Его критические замечания, скрытые под вуалью комплиментов!
– Правда, это всего лишь перевод комедии Бомарше, но в нем имеются неплохие стихи и несколько примечательных кусков.
Все, что он говорил, было того же плана: несколько хороших стихов и один или два приятных куска, – таково было мнение Касти об этом шедевре!
Потеряв надежду обрести от монарха пост, которого он добивался, и стараясь потешить свое самолюбие, он запустил слух о том, что собирается сопровождать некоего богатого сеньора в его путешествиях; граф де Роземберг, хорошее отношение которого он очень боялся потерять, требовал от него драмы для Сальери, который умирал от желания затмить оперу Моцарта. Именно тогда тот сочинил «Пещеру Трофониуса», второй акт которой, в том, что касается искусства, оставлял желать многого и был повтором первого, полностью разрушая его эффект, но который, в общем, по моему мнению, отсылал к «Королю Теодору».
Хотя музыка там была весьма красива, а сторонники поэта превозносили его до небес, ничто не могло поколебать императора и заставить его изменить свое мнение. Оставалось попытаться нанести последний удар, но этот удар привел к падению Касти во мнении Иосифа II, который очень любил его стихи, но не выносил его лично. Касти только что нанес последние мазки в своей поэме в восточном духе «Жанжискан», – по-моему, значительно уступавшей его «Галантным новостям», и особенно, его «Говорящим животным»; эта последняя поэма ускорила его немилость. Он ее старательно переписал и преподнес сам государю. Ошибочно или обоснованно, Иосиф II воспринял ее как оскорбительную сатиру на Екатерину II, которую он любил, которой восхищался и испытывал столь глубокое уважение, что в день рождения этой великой императрицы велел зажечь свечи перед ее портретом и даровал бы ей все, чего бы она ни попросила. Он велел вызвать автора в свою ложу и, вручив ему сотню цехинов, заявил: «Вот вам на ваши путевые расходы», – вежливый способ предложить уехать; Касти его понял и покинул Вену через несколько дней. Его отъезд, немного неожиданный, заставил исчезнуть последние тучки на моем небосклоне.
XXXVII
Никто так и не узнал действительного мотива, который помешал императору дать Каста пост, который занимал Метастазио, поэт, столь чистый и столь сдержанный в своих нравах и своих писаниях: этим мотивом были «Галантные новости», что написал Касти, который не имел в себе никакой чистоты, кроме своего имени[10]. Его вкус, приверженный к игре, к женщинам, его нравы, более чем сомнительные, и, может быть, еще более его сатирический дух, мстительный и склонный забывать благодеяния, повредили ему в глазах Иосифа II. «Читали ли вы, – спросил меня однажды император, – сонет, который Парини написал на вашего друга Касти?».
– Нет, сир.
– Вот он.
Он достал из портфеля бумагу.
– Прочтите его, и, поскольку, я не сомневаюсь, он не доставит вам удовольствия, можете снять копию.
Когда я закончил чтение, он добавил:
– Мы отдадим автограф графу де Розенберг, который предлагал мне этот цветок добродетели вместо Метастазио.
Это выражение «цветок добродетели» напомнило мне сонет, который я сочинил на сюжет оперетты Касти, поставленной в Шёнбрунне, которому я дал то же название: «Слова после музыки». Я воспользовался там тем же выражением. Объяснив сюжет императору, я осмелился ему его прочитать. «Браво, браво, оставьте его мне, я дам его прочитать графу одновременно с сонетом Парини».
– Графу, сир?
– Графу, ему самому, но я воздержусь говорить ему, что это исходит от вас.
Я дал ему мой сонет, за который он заплатил мне, достав и не считая, пятнадцать соверенов.
После отъезда моего преследователя, инициатора всех интриг, мне пришло в голову сыграть, в свою очередь, шутку с моими Зоилами, которым мне очень хотелось преподать урок: сочинить две драмы зараз, одну – в открытую, а другую – тайком. Мартини жаловался на мою лень, что я не даю ему сюжета; с другой стороны, как только был поставлен мой «Фигаро», госпожа Сторас, отказавшись от своих предубеждений относительно меня, попросила у меня от имени императрицы либретто для своего брата. Представился благоприятный случай. Я заимствовал сюжет из комедии Шекспира, в то же время я обратился к Мартини, взяв у него обещание, что никто в мире не узнает, что это я написал для него либретто. Этот добряк мне отлично посодействовал. Чтобы получше замаскировать нашу игру, он разыграл сильный гнев против моих опозданий, громко повсюду крича, что, поскольку я не хочу ничего делать, он обратится к другому поэту, который когда-то поручил ему писать оперу в Венеции и сейчас прислал ему другую, которой он и занимается.
Чтобы доставить приятное ему, как и жене испанского посла, его покровительнице, я задумал использовать испанский сюжет; эта идея бесконечно понравилась Мартини и императору, который был посвящен в мой секрет и соизволил ободрить меня своим одобрением. Я стал читать разные испанские комедии, чтобы проникнуться драматическим характером этой нации. Я нашел одну, которая показалась мне вполне подходящей. Она была Кальдерона и называлась: «Луна Сиерры». Я набросал свой сюжет, фабула которого была проста:
– Распевая в горах, испанский инфант влюбляется в пастушку, которая, добродетельная и влюбленная в горца, сопротивляется всем обольщениям принца».
Я назвал ее «Редкость, или добродетель и красота» и взял эпиграфом следующий стих сатирического поэта:
Редко бывает согласие между молвой и целомудрием[11].То ли оттого, что я испытывал чувство товарищества к композитору, которому обязан был первыми лучами моей драматической славы, то ли от желания поразить одним ударом всех моих клеветников, а возможно и из-за природы столь поэтического, а потому и столь привлекательного сюжета, эта опера стоила мне всего тридцати дней работы. Маэстро затратил не более того на сочинение музыки. Однако эти итальянские Тигеллины[12], эта толпа, всегда беспокойная, которой трудно угодить, руководствовались своими мелкими дрязгами против музыканта даже еще прежде распределения ролей. Они не могли срывать зло на мне, будучи в неведении, что я автор слов, и в этом качестве отвечаю за все.
Sic me servavit Apollo.[13]
Когда роли были распределены, разразилась гроза. Для одного было слишком много речитативов, для другого – недостаточно.
Для этого диапазон был слишком высок, для другого – слишком низок. Для третьего в кусках не виделось ансамбля, четвертый пел слишком громко. Разгорелась анархия. Говорили однако, предлагая мне и Мартини написать пьесу, поскольку не предполагали нашего с ним сговора, что стихи там гармоничны, характеры хорошо очерчены, сюжет нов, что пьеса в целом само совершенство, но музыка там слаба и тривиальна. «Синьор да Понте, вы поэт, – сказал мне однажды по этому поводу один певец, – возьмите себе в назидание это произведение, которое может служить примером для подражания; вот как делается опера-буфф».
Я про себя смеялся; наконец, извержение разразилось. Почти все актеры вернули свои партии, отказываясь петь подобную музыку; центром заговора был премьер-буфф, который имел в особенности свои претензии к Мартини из-за галантного соперничества. Шум от этого бунта дошел до императора, который захотел узнать детали от Мартини и от меня; я позволил себе вольность заверить его, что никогда еще певцы не имели такого удобного случая проявить свои достоинства, как в этой опере, и никогда еще Вена не слыхивала музыки столь сладкой и завораживающей. Он попросил у меня мое либретто, которое я предусмотрительно принес с собой, и, открыв его наугад, попал на первый финал, кончавшийся словами:
– Что сделано, то сделано, и ничего нельзя изменить.
– Ничто не может быть более кстати, – сказал он с улыбкой. Он взял перо и написал на листке:
«Дорогой граф, скажите моим актерам, что я услышал их сетования по поводу Мартини, и мне весьма досадно, но:
– что сделано, то сделано, и ничего нельзя изменить».
Записка была тотчас отправлена Розембергу, который сообщил об этом актерам, у которых это вызвало большое смятение. Они были повергнуты в трепет, но от этого не стали менее озлоблены. Они приняли обратно свои партитуры, но не прекращали шептаться и проклинать «испанца». В вечер первого представления зал был полон, но большинство зрителей приготовилось спектакль освистывать. Однако с первых же арий обнаружилось в музыке столько изящества, очарования и мелодичности, столько неожиданностей и интереса в диалоге, что аудитория, казалось, настроилась благожелательно. Воцарилась тишина, подобной которой не бывало на другой итальянской опере, последовали аплодисменты, столь оглушительные, что можно было подумать, что это результат сговора. Кончился первый акт, вызвали автора. Какие-то сторонники Касти не упустили случая, стали называть его имя. Ничего иного и не требовалось, и, хотя стиль пьесы мог бы напомнить непредвзятой публике автора «Благодетельного грубияна» и «Фигаро», имя Касти звучало, тем не менее, у всех на устах, и каждый превозносил Касти в упрек мне. Из всего зала один только Келли, сидя рядом со мной, наклонившись к моему уху, сказал: «Держу пари, что эта поэма принадлежит вашему перу». Я попросил его молчать. Я предусмотрительно не велел печатать мое имя на программке, что обычно делалось в театре. Единственно, я доверился лишь г-ну де Лершенейм, секретарю имперского кабинета и моему близкому другу. Он присутствовал на представлении вместе с несколькими дамами из общества. Естественно, разговор зашел о пьесе, и они спросили, знает ли он автора. Он ответил, что да. Продлив любопытство далее, они захотели узнать имя. Он ответил, что это венецианец, находящийся сейчас в Вене, и что он его им представит по окончании спектакля. «Тем лучше, – отвечали они, – это единственный поэт, достойный этого театра, мы будем ходатайствовать за него перед императором, если нужно».
– Это отнюдь не необходимо, Его Величество его уже ангажировал.
Они были весьма этим довольны.
Начался второй акт; он имел такой же, если не больший, успех. Особенно дуэт наэлектризовал весь зал; император вслух и жестом попросил его повторения, вопреки обычаю, установленному им самим, не повторять отдельные куски из ансамбля.
Спектакль окончился, и г-н де Лершенейм сдержал слово, представив меня своим дамам. Не могу сказать, что было сильнее, – их удивление или мое удовлетворение. Захотели узнать, почему я столь старательно скрыл свое имя. «Чтобы не заставлять краснеть клаку» – ответил изящно Лершенейм.
Я отправился нанести визит моим коллегам из театра, которым преподнес экземпляр либретто, в котором мое имя было напечатано прописными буквами. Они не смели взглянуть мне в лицо. Не сомневаюсь, что они предпочли бы не раздавать столько похвал, если бы знали, что оказывают мне ими такую честь, тем более, что то, что они проделали с намерением меня унизить, послужило к вящему моему триумфу. Тем же вечером я был приглашен на ужин актером, к которому часто заявлялся автор известной сатиры:
– Ane tu naquis…[14]
Случайно тот оказался там.
– Какой же дьявол оказался автором этого либретто? – воскликнул он, входя.
– Синьор Порта, – весьма хладнокровно ответил ему я, представляя ему экземпляр, подписанный моим именем, – тот самый, про которого вы сказали, что он рожден ослом.
Можно представить себе его физиономию!
Немцы, обычно добрые, но тут подпавшие под влияние моих хулителей, осознали свою вину и искали случая оправдаться. Я стал объектом восхвалений, выходящих за все берега. Дамы повсюду желали говорить только о моей опере. Они все были подвержены моде на редкости, и мы, я и Мартини, воспринимались как два феникса. Нас превозносили так, что мы могли бы одержать более побед, чем все рыцари Круглого Стола, вместе взятые. Эта опера нас преобразила и выявила в нас те качества и достоинства, которые таились до того в тени. Нескончаемые комплименты, приглашения на прогулки, любовные записки сыпались дождем. Мартини, которому все эти заигрывания нравились, предавался им с веселым сердцем; что касается меня, я воспользовался ими, чтобы углубиться в серьезное изучение людского сердца, и особенно, чтобы постараться его улучшить, тем более, что император, щедро наделив меня недвусмысленными знаками своего удовлетворения, беспрестанно советовал заняться новым произведением для своего дорогого испанца. Дошло до того, что моя пьеса восстановила наши отношения с самим графом де Розенберг, когда, встретив меня однажды, он пожал мне руку и с добродушным видом, который показался мне искренним, сказал: «Браво, синьор да Понте, вы превзошли наши ожидания». Я поклонился и холодно ответил ему: «Ваше превосходительство, вы преувеличиваете».
Наэлектризованный этим успехом, я с рвением взялся за поиски другого сюжета, достойного Мартини. Но слишком многие маэстро просили сюжетов для себя, пользуясь при этом поддержкой самых знатных особ, чтобы у меня оставалась свобода выбора. Учтя все эти рекомендации, я взялся писать две оперы, одну для Регини, другую – для Петиччио. Они потерпели фиаско. Приверженцы этих композиторов приписали мне честь этих провалов, я отнес ее на счет их музыки, которая придушила мой гений. Этот вопрос никогда не будет разрешен. Два дня спустя я увидел императора. «Да Понте, – сказал он мне, – пишите для Моцарта, Мартини и Сальери и не заботьтесь больше о Петиччио и Регини, которые всего лишь площадные музыканты. Касти был более разборчив, он работал только для Паизиелло или для Сальери, мастеров, которые этого достойны и никогда себя не скомпрометируют». Эти две оперы отправились, таким образом, в архив, а «Женитьба Фигаро» и «Редкость» продолжали жить на сцене.
Я полагал, что следует пробудить мою задремавшую музу, которую эти две неудачи парализовали. Три упомянутых маэстро предоставили мне к этому случай, явившись одновременно просить у меня либретто. Я любил и высоко ценил их всех трех. Я надеялся, с их помощью, оправиться от моих последних провалов. Я не находил другого средства удовлетворить их всех, чем сочинить сразу три драмы. Я почти достиг цели, написав две, предприятие оказалось вполне мне по силам. Сальери не просил у меня оригинальной драмы. Он написал в Париже музыку к опере Тарраре («вещь славная» – Пушкин – прим. перев.); он хотел адаптировать эту музыку к итальянским словам. Ему нужен был всего лишь вольный перевод. Что до Моцарта и Мартини, они положились на меня в выборе сюжетов. Я предназначил первому «Дона Жуана» – он был от него в восторге, – и «Древо Дианы» – Мартини – сюжет мифологический, сочетающийся с его талантом, столь исполненным нежной мелодичности, свойственной ему изначально, которую лишь за редким исключением удается передать.
Со своими тремя сюжетами я предстал перед императором, поведав ему мое намерение продвигаться с ними вперед одновременно.
– Вы не справитесь, воскликнул он.
– Возможно! Но я попробую. Я напишу для Моцарта, прочтя перед тем несколько страниц из «Ада» Данте, чтобы задать диапазон моему вдохновению.
Я засиделся за моим рабочим столом за час пополуночи; бутылка превосходного токайского – справа от меня, письменный прибор – слева, и табакерка, полная табака из Севильи – передо мной. В то время некая юная прекрасная особа шестнадцати лет, которую мне отнюдь не хотелось бы любить лишь отцовски, обитала вместе со своей матерью в моем доме; она заходила ко мне в комнату для разных мелких услуг всякий раз, как я звонил, чтобы чего-то попросить; я слегка злоупотреблял звонком, особенно когда чувствовал, что мое вдохновение истощается или охладевает. Эта очаровательная особа приносила мне то бисквит, то чашку кофе, иногда лишь только свое милое лицо, всегда оживленное, всегда улыбающееся, созданное как раз, чтобы прояснить усталое воображение и оживить поэтическое вдохновение. Я заставлял себя таким образом работать по двенадцать часов подряд, едва прерываясь на короткие отвлечения, в течение двух долгих месяцев. Все это время моя прекрасная девица оставалась вместе с матерью в соседней комнате, занимаясь то чтением, то вышиванием или шитьем, чтобы быть всегда готовой прийти по первому звонку моей сонетки. Опасаясь помешать мне в моей работе, она сидела иногда неподвижная, не открывая рта, не моргнув глазом, уставившись на то, как я пишу, легонько вздыхая и, казалось, иногда готовая пустить слезу от избытка работы, в которую я был погружен. Я кончил тем, что стал звонить менее часто и обходиться без ее услуг, чтобы не отвлекаться и не тратить время на ее созерцание. Итак, между токайским, севильским табаком, сонеткой на моем столе и прекрасной немкой, похожей на самую юную из муз, я написал в первую же ночь для Моцарта две первые сцены «Дон Жуана», два первых акта «Древа Дианы» и более половины первого акта «Тарраре», название которого я изменил на «Ассура». Утром я отнес эту работу моим трем композиторам, которые не могли поверить глазам. В два месяца «Дон Жуан» и «Древо Дианы» были закончены и я сочинил более чем на треть оперу «Ассур». «Древо Дианы» было поставлено первым; оно имело такой же успех, как «Редкость».
XXXVIII
Г-н де Лершенхейм, друг Мартини и его почитатель, явился ко мне вместе с ним за два-три дня до того, как я выдал тому первый стих. Наполовину в шутку, наполовину тоном упрека они спросили, когда же я займусь ими.
– Послезавтра, – ответил я.
– Значит, ваш сюжет уже выбран?
– Вне всякого сомнения.
– Каково же название?
– «Древо Дианы».
– Вы набросали канву?
– Все готово. Я начал писать.
Мой ужин был готов, я велел подать на стол и пригласил двоих друзей присоединиться, заверив, что на десерт я им все покажу. Они согласились. Я, который не только не наметил никакого плана, но даже, говоря с ними о дереве Дианы, еще не придумал, какую роль сможет играть это дерево, под предлогом неотложной встречи по важному делу, оставив моих двух гостей с юной музой и одним из моих братьев, вышел в мой кабинет; в полчаса я набросал фабулу, которая, в силу своего новаторства, вполне согласовывалась с идеями моего августейшего покровителя и государя, который совсем недавно отменил в своих наследственных владениях монашеские порядки.
«У Дианы, богини чистоты, имеется в саду дерево, приносящее яблоки дивной красоты: когда нимфа проходит под его ветвями, если она чиста, яблоки становятся прозрачными и каждая ветка дерева издает небесную мелодию; если, наоборот, она, хотя бы в мыслях, преступает этот абсолютный закон, плод теряет прозрачность становится черным, обугливается и наносит на голову виновной неизгладимые следы, наподобие стигматов. Купидон, разгневанный на Диану за то, что она наносит оскорбление его культу, проникает в сад в женском одеянии, он вселяет страсть в сердце садовника и обучает его искусству внушать любовь всем нимфам; не довольствуясь этим триумфом, он открывает ворота прекрасному Эндимиону, в которого безумно влюбляется сама богиня. Великий Жрец, в глубине святилища, узнает о святотатстве и, облеченный верховной властью, приказывает, чтобы все нимфы и сама богиня подверглись испытанию; чтобы избежать разоблачения, Диана велит срубить дерево, и Купидон, примирившись, явившись в светящемся облаке, превращает сад в великолепный дворец, посвященный отныне Амуру».
Эта пьеса, на мой взгляд, – лучшее из моих произведений; в нем дышит нежное сладострастие, которое захватывает человека; что же до интереса, который оно вызвало, гарантией тому служат сотня и более представлений. Граф де Роземберг спросил у меня, где я взял столь прекрасные идеи; я ответил, что мне внушило их желание поразить своих врагов; император, который понял мое намерение поддержать его в его идеях реформ, передал мне сотню цехинов.
XXXIX
Едва состоялось первое представление «Древа Дианы», я был вызван в Прагу, где должна была быть премьера «Дон Жуана» Моцарта, по случаю прибытия в этот город Великой герцогини Тосканской. Я оставался там восемь дней, чтобы руководить актерами; но прежде чем эта опера смогла быть поставлена на сцене, я вынужден был вернуться в Вену, по срочному письму Сальери, который извещал меня, что «Ассур» назначен в честь женитьбы Эрцгерцога Франца, и что император непременно желает моего присутствия. Я выехал второпях, путешествуя день и ночь, и на полдороги, почувствовав усталость, остановился в гостинице, где, бросившись во всей одежде на кровать, проспал несколько часов; когда лошади были готовы, я снова сел в экипаж. На заставе, в небольшом расстоянии от гостиницы, у меня спросили подорожную; я сую руку в карман: каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что он пуст, хотя я был уверен, что там были пятьдесят цехинов, что заплатил мне пражский импресарио этим утром за моего «Дон Жуана». Подумав, что я забыл кошелек на кровати, где я отдыхал, я велю поворачивать вожжи к гостинице. Я поднимаюсь в комнату, что я занимал: ничего! Хозяин и его жена, вполне любезно, вызывают прислугу, ищут всюду, грозятся, но все клянутся, что не притрагивались к кровати. Маленькая девочка пяти лет вспоминает, что Катерина поправляла эту кровать для другого путешественника, который уехал. Хозяйка велит Катерине раздеться и находит на ней мой кошелек с пятьюдесятью цехинами. Я потерял два часа, но, удовлетворенный тем, что нашел мои деньги, порошу этих молодцов простить Катерину и, потратив время только на то, чтобы сменить лошадей, на следующий день приезжаю в Вену. Я немедленно извещаю Сальери и принимаюсь за работу. В два дня «Ассур» был закончен, сыгран, и успех был такой, что долгое время я оставался в неуверенности какое из трех моих произведений превосходило два других, как по словам, так и по музыке.
Я не присутствовал в Праге на представлении «Дон Жуана», но Моцарт не замедлил известить меня, что оно было великолепным. Импресарио Гуардассони также написал мне об этом:
«Да здравствует да Понте! Да здравствует Моцарт! Импресарио и артисты должны их благословлять. Пока они будут жить, бедность не посмеет приблизиться к театрам».
Император велел меня позвать и с самыми милостивыми похвами дал мне снова сотню цехинов, говоря, что сгорает от желания услышать «Дон Жуана». Я написал Моцарту, который прилетел и передал партитуру копиисту, которого поторопил поскорее распределить ее по исполнителям. Предстоящий отъезд Иосифа II ускорил постановку оперы на сцене и, могу ли я сказать? – «Дон Жуан» не понравился! Всем, за исключением Моцарта, показалось, что пьеса нуждается в исправлении. Мы сделали там добавления, мы исправили некоторые куски; во второй раз «Дон Жуан» не имел никакого успеха! Что не помешало, впрочем, императору сказать: «Это произведение божественно, оно еще прекрасней, чем «Свадьба Фигаро»; но эта штука не по зубам моим венцам». Я повторил эти слова Моцарту, который, не расстроившись, мне ответил: «Дадим им время его распробовать». Он не ошибся. По его совету, я старался устраивать постановку «Дон Жуана» как можно чаще, и при каждом представлении успех возрастал. Постепенно венцы привыкли переваривать эту штуку и ценить ее и кончили тем, что стали ценить ее и возвели в ранг шедевра драматического искусства. Большое искусство всегда слишком возвышенно для толпы; нужно, чтобы она подросла немного, за век или два, чтобы образовать этот суд присяжных для гения, который будет судить, наконец, со знанием дела, беспристрастно и с выводом на будущее.
XL
Это было тогда, если не ошибаюсь, когда Коттелини, хорошая актриса, но слабая певица, во второй раз появилась в Вене; она была на хорошем счету у императора и у графа де Роземберг, но, то ли по собственному недоверию, то ли, действительно не пользуясь симпатией у публики, она приписала это проискам Сальери, который в какой-то мере руководил театром, она написала государю в выражениях столь живых и столь неуместных, что он отдал приказ немедленно уволить итальянскую труппу. Торварт, суб-интендант театра, смертельный враг итальянцев, явился на репетицию и там зачитал письмо, которое из лагерей, где он находился, Иосиф II написал Генеральному интенданту. Это письмо содержало твердый приказ известить каждого из нас, что Его Величество распорядился о закрытии театра в конце сезона. Этот приказ вызвал траур в Вене: все актеры – более ста работников, фигурантов или статистов – потеряли средства к существованию и впали в отчаяние. Мне пришла в голову смелая идея – освободиться от зависимости от Двора. Я отправился ко всем дамам, что я знал, поклонницам нашей музыки, и, изложив им план, который сокращал по меньшей мере на треть расходы, не лишая нас ни одного актера из тех, что любимы публикой, предложил организовать подписку на сто тысяч флоринов, которые будут депонированы в банке, заверив их, путем точных расчетов, что дохода от этого вклада и дневной выручки будет достаточно для покрытия всех расходов по администрированию и даже даст излишек в двадцать пять тысяч флоринов в год. Эта подписка была проведена в восемь дней и сумма передана в мои руки.
Барон Гондар, богатый венский сеньор, должен был стать нашим банкиром и нашим директором, я – заместителем, под его началом. Тем временем император вернулся в Вену. Я побежал к нему. Увидев меня, он увлек меня в свой кабинет и там спросил, как продвигаются наши дела.
– Как нельзя хуже, сир.
– Как и почему?
– Потому что мы все огорчены тем, что теряем в этом сентябре нашего любимого покровителя.
Говоря так, я не мог сдержать слезу, которую он заметил, и с добротой, которую нельзя передать никакими словами, ответил:
– Вы его не потеряете.
– Но если нет больше театра, сколько людей, сколько семей останутся без средств к существованию!
– Я не могу, между тем, тратить значительные суммы на излишества, когда они необходимы на вещи гораздо более важные, ни опустошать кошельки одних, чтобы давать деньги другим! Знаете ли вы, что Итальянский театр стоит мне более восьмидесяти тысяч флоринов в год? И потом… и потом… Колтелини…
Пока он это говорил, я извлек из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и развернул его у себя в руках, так, чтобы привлечь его внимание. Мне это удалось; он спросил, что это за бумага; я ответил, что это памятная записка.
– Короткая?
– Самая короткая.
– На такой маленькой бумажке!
Взяв бумагу, он развернул ее с немного более серьезным видом и увидел в ней лишь два стиха Касти:
«Каждый может делать предложения, это не значит увидеть их принятыми или отвергнутыми»
Он не мог сдержать улыбку и захотел узнать предложение, которое я имею ему сделать.
– Сир, – ответил я, – я хочу только получать радость от вашего театра и прошу у вас и у города Вены позволения снять его на три спектакля в неделю.
– Вы, стало быть, весьма богаты?
– Отнюдь нет, сир; но вот то, чего я добился с тех пор, как нас постигло печальное извещение о нашем с вами расставании.
Я показал ему две другие бумаги, одна из которых содержала подписи различных лиц, из которых каждое обязалось заплатить по пятьсот флоринов за ложу первого, второго или третьего ранга, или определенную сумму, рассчитанную в зависимости от числа взятых входных билетов, согласно обычаю, принятому в Лондоне; на второй был расчет расходов за вечер согласно цифрам, взятым из регистра театра. Он бросил на них беглый взгляд и сказал мне: «Пойдите, найдите Роземберга и скажите ему, что я передаю вам право пользования театром».
Роземберг встретил меня благожелательно; но в присутствии появившегося Торварта ситуация переменилась. «Ваше превосходительство знает, – сказал ему этот последний, – что наши сценические возможности и наш гардероб небогаты, что есть риск, что у нас возникнут непрерывные споры между итальянскими певцами и нашими немецкими актерами и, если нам придется каждый день перетаскивать декорации из одного театра в другой, у нас возникнут огромные затруднения и возрастут расходы по транспортировке; это невозможно», и граф повторил вслед за ним: «Это невозможно! Это невозможно!». Я ускользаю от них и бегу во дворец. Император был один. Запыхавшись и не дожидаясь его позволения, я говорю: «Сир, Торварт твердит и граф повторяет за ним, как эхо, что это невозможно».
– Дайте мне ваш проект.
Я ему его представляю, и он пишет внизу: «Граф, соблаговолите сказать Торварту, что это возможно, и что я сохраняю театр на своем счету. Согласно проекту Да Понте, вы удвоите ставки актеров».
Я возвращаюсь к графу, который в этот раз принимает меня как нельзя лучше и не может сдержать возглас: «Браво, браво, дорогой да Понте!». В несколько часов новость облетела город, и я увидел одного за другим сотню персонажей, явившихся меня благодарить и клявшихся мне в вечной дружбе.
Насколько различно действие слов! Насколько быстро человек забывает об оказанных услугах, сделанных обещаниях и о благодарности по отношению к благодетелю, направляя против него шаги, исполненные недоброжелательства, лишь с тем, чтобы облегчить ношу, которая его тяготит! Кто бы мог подумать, что те самые, кто воспользовался преимуществами того, что я совершил, и которые, в принципе, должны были бы оценить это по достоинству, были первыми, что стали работать мне в ущерб и успокоились только с моим падением? Я кратко остановлюсь на этой интриге, не столько потому, что детали ее должны быть интересны, но потому, что она послужила причиной полной перемены моей судьбы.
Хотя и будучи весьма склонным к галантным похождениям, я взял себе за твердое правило не обращать моих устремлений к женщинам театра и в течение семи лет имел смелость сопротивляться всем соблазнам этого рода. К моему несчастью, в театр Вены была приглашена певица из Феррары. Не наделенная столь уж большим очарованием красоты, она околдовала меня сначала своим голосом, затем – непрестанными заигрываниями, и кончила тем, что влюбила меня в себя; она обладала талантом исключительным, ее голос был обольстителен, ее манеры неожиданны и чудесным образом трогательны. Красота ее не была чем-то исключительным, талант актрисы – выдающимся, но два прекрасных глаза, изящный рот весьма способствовали ей одерживать победы. Ее полезность в театре еще более увеличивала мою к ней тягу. Естественно, она вызывала всеобщую ненависть и ревность, в особенности, у двух актрис, одна из которых, Кавальери, пользовалась несколько излишним покровительством Сальери. Другая, итальянка, хотя и неприятная и небольшого таланта, пользовалась – благодаря своему жеманству, своим гримасам, своим театральным интригам – большим успехом у поваров, лакеев, прислуги, курьеров и т. д., и, соответственно, была весьма собой довольна. Впрочем, феррарка обладала характером немного горячим, способным более вызывать злословие, чем приобретать друзей. Она, тем не менее, обладала настоящим талантом, так что я защищал ее от происков, и, пока был жив Иосиф II, интриги ее врагов, как против нее, так и против меня, были тщетны. Я написал для нее «Пастор Фидо» и «Ла Цифра» на музыку Сальери, две драмы, которые не сделали эпохи в музыкальной карьере композитора, но которые имели, тем не менее, очень красивые партии, а также «Школу влюбленных»[15] на музыку Моцарта, драму, которая занимает третье место среди шедевров знаменитого музыканта.
Надвигалась буря; она разразилась на опере в новом жанре, сочиненной для поста и названной «Пастиччо»[16]. Я включил в нее лучшие куски из всех пьес, что в течение нескольких лет появлялись на сцене, и дал ее для постановки в бенефис труппы. Каждый вечер я варьировал арии и удвоил интерес за счет неожиданности. Эта опера явилась острой критикой для публики и едкой – для антрепренеров, актеров, поэтов, композиторов и, наконец, для меня самого. Она имела такой успех, что прошла десять раз под бешеные аплодисменты. Зрители день ото дня казались все более довольными. Антре удваивались, и сам император, который каждый вечер платил сотню цехинов за свою ложу, выдал две сотни в тот день, когда была объявлена премьера. Я работал один и без всякой помощи со стороны какого-нибудь маэстро. Я выбрал из актеров самых приятных для публики и государя. Те, кого я исключил, ополчились как против моей протеже, для которой я скомпоновал пьесу, так и против меня. Лицом, в наибольшей степени почувствовавшим себя обиженным, был Сальери. Этот человек, которого я уважал, которого я любил, и из благодарности и из чувства симпатии, с которым проводил столь нежные часы и которого из года в год, на протяжении шести последовательных лет, то есть начиная с первого представления – «Благодетельного грубияна» – и вплоть до этого последнего – считал скорее братом, чем другом, оказался уязвлен. Его слишком большая склонность к Кавальери, этой женщине, чьи достоинства были достаточно велики, чтобы дело не обошлось без интриг, стала печальной причиной того, чтобы наша дружба, которая должна была длиться всю жизнь, оказалась порвана; эта дружба, охлаждение которой причинило мне самые большие сожаления, которую я еще ощущаю в моем сердце столь же живой, как в первый день, после того, как протекли тридцать лет и более. Пусть бы эти строки попали к нему, если он еще жив! Я пишу их во искупление.
XLII
В 1790 году мой августейший государь и покровитель окончил свои дни. Единственным желанием этого превосходного монарха был приход на австрийский трон его племянника эрцгерцога Франца, молодого принца, которого он воспитал в своих принципах, надеясь, что тот сможет продолжить таким образом труд реформы, которую он начал. Леопольд воспротивился этому; он обладал правом наследования, он им воспользовался. Иосиф умер в смирении и спокойствии; он достойно отблагодарил врача, который имел смелость объявить ему о близкой кончине. Я был в прихожей, весь в слезах, так же как и небольшое число тех, кто был к нему нежно привязан. Лучшие доктора города были вызваны и, хотя каждый из них был уверен, что болезнь должна свести его в могилу, никто не имел печальной смелости, или лучше сказать, силы объявить ему о фатальном исходе. Император, который видел на их лицах беспокойство, которым они были охвачены, велел вызвать доктора Квирини, которому велел сказать ему правду без уверток. Это происходило в тот самый день, когда должны были быть похороны принцессы Вюртембергской, первой жены эрцгерцога Франца. Завершилась траурная церемония, Иосиф осведомился со спокойствием и сердечностью, как она прошла, и отдал распоряжение, чтобы не касались ни катафалка ни прочих принадлежностей, сказав: «Они послужат для меня». Он велел позвать одного из своих первых офицеров свиты, которому предписал приготовить свою самую красивую коляску и двух своих лучших лошадей и отправить их доктору Кверини. Затем, отдав все необходимые распоряжения, которые подсказало ему его благородное сердце,
…его прекрасная душа отлетела к небу.Немного дней спустя Леопольд въехал в Вену. Я сочинил кантату, в которой, позволив излиться из моего сердца хвалам, которые я воздал памяти Иосифа II, я восславил восшествие на престол его наследника. Моя скорбь была искренна, искренними были и хвалы, данные новому монарху, которого ряд фатальных обстоятельств, последовавших одно за другим, столь неблагоприятно настроили против меня. То, что я мог бы сказать, может показаться невразумительным, но многие свидетели, еще живые и которые смогут прочесть эти мемуары, будут вынуждены засвидетельствовать точность моего рассказа.
XLIII
В начале царствования Леопольда фортуна, казалось, должна была мне улыбаться, все шло в соответствии с моими желаниями. Занятый очень важными делами, новый император не имел времени обращать внимание на пустяки и заниматься театром. Король Неаполя прибыл в Вену, в сопровождении двух своих дочерей, принцесс, обрученных с двумя имперскими принцами. Разумеется, были устроены блестящие торжества. Принц д'Аусперг и маркиз дель Гало, неаполитанский сеньор, состоявшие в свите короля, выделялись в качестве приправы к этим празднествам. Принц д'Аусперг, у которого должна была состояться премьера, помещался в великолепном дворце, который, как говорили, был специально приспособлен для такого рода торжеств: театр и превосходный сад, в центре которого возвышалась огромная ротонда, должны были вполне соответствовать блеску празднества.
Принц оказал мне честь пригласить меня и попросить пьесу в стихах, соответственно обстоятельствам; он предоставил мне сорок восемь часов на сочинение текста, передачу его композитору, подбор певцов и выбор декораций и костюмов. Нельзя было терять времени; я написал первую часть моей кантаты, передав набросок для прочтения Вейгу, молодому композитору, которому хотел поручить музыку. Охваченный вдохновением, он тотчас принялся за работу со рвением и блеском; его энтузиазм меня зажег; мы сидели за столом лицом друг к другу, я передавал ему мои листы по мере их написания. Мы работали всю ночь; наутро работа была завершена; три дня спустя она была исполнена и осыпана аплодисментами.
XLIV
Не могу удержаться от описания этого празднества.
Ротонда могла вместить, помимо исполнителей, около трехсот-четырехсот зрителей. Я декорировал ее в стиле, напоминающем замок. В середине, на пьедестале помещалась статуя Флоры, которую я велел убрать и заменил певицей, одетой в такие же одеяния. Эта живая статуя должна была сохранять неподвижность, пока играл оркестр. Замок был едва освещен; позади статуи находился убирающийся занавес, скрывающий от взоров зрителей многочисленную группу музыкантов с их инструментами. По сигналу замок внезапно ярко освещался. Оркестр начинал прелюдию с пианиссимо, затем, постепенно, надвигалось крещендо, заполняя зал гармонией. Аудитория располагалась среди цветов. С исполнением инструментальной части, после первой ариетты и речитатива, продекламированного богиней, группы амуров, приблизившись к августейшим обрученным, передавали им букеты из миртов и роз, им следовала Минерва, держа в руке оливковую ветвь и лавры Аполлона; в тот же момент Флора сходила со своего пьедестала и, сняв со своей головы корону, которой была украшена, возлагала ее к ногам королевы, матери принцесс. Королева, приняв этот дар, возлагала корону на голову певицы, как бы в честь ее таланта. Эта сцена имела замечательный эффект.
Принц д'Аусперг, как нельзя более удовлетворенный, велел назавтра распределить вознаграждение между всеми артистами, занятыми в празднике, и направил мне табакерку вместе с кошельком, полным цехинов.
Маркиз дель Гало был менее удовлетворен партией дивертисмента, посвященной ему. Он обратился к Петтичио, как принц д'Аусперг обращался ко мне, и Петтичио, который был только музыкантом, обратился к аббату Серафини, у которого попросил слов. Этот аббат, который в жизни ничего не написал, но был убежден, что достаточно любим музами, чтобы они соблаговолили внушить ему, после больших усилий с его стороны, составление двух начальных стихов выступления, с которым город Неаполь должен был обратиться к королю:
В тот миг, когда я увидел его, он утонул, исчез в волнах… и не мог больше взойти на третий стих, он признал свое поражение, симулируя приступ лихорадки; не прошло и трех дней, как я увидел прибежавшего ко мне охваченного живейшей тревогой маркиза.
После преамбулы, произнесенной высокопарным тоном, он оказал мне честь обратиться за помощью в поисках выхода из затруднения. Я всегда старался не противоречить сильным мира сего; я вежливо ему ответил, что нахожусь в полном его распоряжении. Он отъехал, довольный, и отправил ко мне Петтичио, который прибыл со старой партитурой, извиняясь, что не имел времени сочинить новую. Я постарался приспособить к ней слова кантаты, которую сотворил в тридцать шесть часов. Я всегда сомневался, что эта музыка, которая казалась мне хорошей, была сотворена Петтичио, который никогда ничего не писал, кроме гадости. Все получилось лучше того, на что я мог рассчитывать. Маркиз был доволен.
Молодой, красивый, замечательных внешности и ума, маркиз дель Гало был хорошо принят при дворе; к несчастью, благородство не всегда сочетается с другими преимуществами. Он написал мне прекрасное письмо на двух страницах, со вложенными в него пятьюдесятью флоринами, которыми я отблагодарил слугу, что мне его принес. Урок его смертельно ранил; однако, затаившись, он снова пришел ко мне; его визит меня лишь смутил и, прежде, чем он взял слово, я высказал ему следующее:
– Господин маркиз, честь, которую вы мне оказали, и счастливый результат моих стараний сделать вам приятное являются для меня достаточным вознаграждением. Отправив мне деньги, вы задели мои чувства; одобрительного слова из ваших уст мне было бы достаточно. Я подарил высланную сумму одному из ваших слуг, неспособному оценить качество кантаты, но хорошо понимающему ценность золота.
– Синьор Да Понте, вы нанесли мне смертельное оскорбление, несмотря на это, соблаговолите обозначить мне то, что я могу сделать для вас, и я буду счастлив в своем отмщении, выполнив ваше пожелание.
У меня мелькнула было идея просить его поговорить обо мне с императором, потому что мне не понадобилось много времени, чтобы заметить, что Леопольд дурно настроен по отношению ко мне; но, прочитав в глазах любимчика, что его предложение более чем неискреннее, я счел благоразумным уклониться. После минутного молчания он, достав из жилетного кармана золотые часы, заметил: «По крайней мере, извольте принять эту безделушку как знак памяти о нашем знакомстве». Эти часы не стоили больше пятидесяти флоринов, но я не осмелился отказаться; пару часов спустя я подарил их моей музе-вдохновительнице. Это новое его унижение доставило мне смертельного врага: из уст самого императора я узнал об этом в дальнейшем.
XLV
Вернемся к феррарке, той женщине, которая стала для меня столь фатальной. Несмотря на свой дурной характер, она была, как я уже сказал, весьма полезна для моего театра. Ее недостатки множили число его врагов, то ли благодаря эффекту соперничества, естественного для большинства артистов, то ли из-за какого другого мотива; немного из-за любви, немного по справедливости, но, прежде всего движимый желанием видеть процветание этого театра, с которым я столь хорошо сжился, что ощущал его как свой собственный, я поддерживал его всеми силами. Она была ангажирована на два с половиной года; этот срок еще не прошел, но стали уже думать о ее замене. Был заключен контракт с певицей, бывшей на хорошем счету и у государя, и у императрицы. Я это учитывал, тем не менее я осмелился просить пролонгации на шесть месяцев для моей протеже. Для этого я обратился, под большим секретом, с просьбой к графу де Роземберг, который, казалось, прислушивался к моим словам, но только разгласил мой секрет, в особенности тем, кто не был заинтересован в феррарке. Они поспешили передать его фаворитке двора, а та – своим покровителям; она написала самой императрице, которая показала письмо своему августейшему супругу, уже предубежденному против меня, который, прочитав его, воскликнул: «К черту этого возмутителя спокойствия!» Прошло некоторое время, пока я смог оказаться в курсе всех этих махинаций, но что я заметил немедленно, это что число моих недоброжелателей возрастало пропорционально моим усилиям покровительствовать феррарке, к которой публика, со своей стороны, все больше привязывалась.
Тучи сгущались и гроза была близко: каждый день приносил новый донос. Охваченный беспокойством, я устремился в отчаянии во дворец, решившись добраться до самого императора и просить у него правосудия. Я встретил там, к несчастью, Торварта, который меня ненавидел, потому что, неосторожный, я не скрыл от него, что знаю о мошенничествах, в которых он был замешан в процессе своего управления. Заметив мое волнение, он спросил о причине, и, что для меня не свойственно, я, вместо того, чтобы быть сдержанным в своих ответах, позволил себе выложить все, что было на сердце. «Я явился просить императора, – сказал я ему, – оказать мне справедливость». Пустив в ход все средства, чтобы отвратить меня от этого демарша, он смог меня успокоить, заверив, что директор театра вот-вот должен быть сменен, и что тот, кто должен его заменить, питает ко мне большое уважение и не следует начинать с того, чтобы настраивать его против меня. Он расписал мне прочие реформы, которые, говорил он, вот-вот будут осуществляться; словом, он добился того, что я остался глупо убежденным и отказался от своего проекта. Два дня спустя я убедился в своей ошибке и раскаялся в ней. Был назначен новый директор, это был Буссани; я просил у него аудиенции, в которой он мне отказал. Беспорядки и интриги разрастались; бездельники, недоброжелатели, фальшивые друзья, в надежде меня напугать, предавались злому развлечению держать меня в курсе всего, что говорилось и делалось, и Бог знает, что они выделывали еще! Один из них объявил мне даже, что граф де Роземберг поговаривал о том, чтобы меня арестовать. Вуссани его убедил, что я препятствовал постановке некоторых опер. Моя ярость не знала берегов: не надеясь получить аудиенцию, я написал ему; но что сделать, чтобы мое прошение дошло до него? Латтанцио, редактор газеты «Vox Populi» взялся доставить его в собственные руки; положение, в котором я находился, заставило меня согласиться, хотя я узнал от некоего источника, что этот человек – фальшивомонетчик, бежавший из тюрем Рима. Он выдавал себя не менее чем одним из фаворитов государя. Я вручил ему мое ходатайство и одновременно золотую табакерку как аванс за его добрые услуги. Он выполнил поручение, но сопроводив его замечанием следующего содержания:
«Это прошение, которое приписывают Да Понте, не стоит принимать во внимание благоразумному монарху».
Двадцать четыре часа спустя он передал мне предполагаемый ответ Леопольда и предрек некоторый успех; убаюкиваемый в течение сорока восьми часов этой надеждой, я увиделся с ним в последний раз, чтобы услышать от него, что император запретил ему всякие отношения со мной. Я усмехнулся и попросил его отнести эту маленькую фальшивку к тем большим, что вынудили его свести знакомство с римскими галерами; позже он был наказан за все свои плутни самим императором.
XLVI
Так обстояли дела, когда я получил письмо от Мартини, который после смерти Иосифа II состоял при дворе Санкт-Петербурга и который извещал меня, что там нужен автор, добавив, что благодаря репутации, созданной мне «Редкой вещью»[17] и «Древом Дианы»[18], как среди городских театров, так и в театре «Эрмитаж» Екатерины II, более чем возможно, что я буду вызван. Я не колебался и попросил отпуска. Генеральный интендант в Вене отсутствовал, я должен был адресоваться к Торварту, он обратился с этим к императору, который распорядился отдать мне приказ оставаться на моем посту до окончания моего ангажемента, до которого оставалось еще шесть месяцев. Прошел месяц, и я снова увидел Торварта; он объявил мне, что император больше не нуждается в моих услугах, позволив мне удалиться. Я ответил, что если Его Величество желает заплатить мне за оперу, которую я писал по приказу Интендантства, и за все либретто, которые у меня еще остались, а также жалование за пять месяцев, что мне остались до окончания контракта, я сразу покину театр, хотя и убежден, что будет уже слишком поздно, чтобы ехать в Санкт-Петербург. «Я не думаю, – ответил он, – что Его Величество вам откажет. Передайте мне ваш счет». Что я и сделал без промедления и получил все, чего просил: сумма достигала восьми-девяти сотен флоринов.
Я написал Мартини, что в моем отпуске мне было отказано, и мне невозможно быть в его распоряжении ранее, чем через шесть месяцев. Я опасался, что он мог написать в Италию, чтобы связаться с другим поэтом, я переговорил с Моцартом, пытаясь увлечь его сопровождать меня в Лондон, но Моцарт, который получил пожизненный пенсион от Иосифа II за своего «Дон Жуана» и который в данный момент был занят написанием музыки к немецкой опере «Волшебная флейта», работой, за которую он надеялся обрести новые милости и новую славу, попросил у меня шесть месяцев, чтобы принять решение. Я должен был, таким образом, подчиниться обстоятельствам, которые толкали меня на путь, вполне противный тому, что я наметил. Все, что я могу сказать, это что по истечении одиннадцати лет службы и несмотря на значительные блага, которые доставила мне продажа моих опер, добавив сюда и многочисленные милости, что я получил от Иосифа II и от других вельмож двора, у меня оставалось едва шесть сотен пиастров. Я надеялся, что этой суммы, хотя и скромной, мне будет достаточно, чтобы жить прилично до того, как Провидение снова придет мне на помощь.
Я продолжил вести тот же образ жизни и ни в чем не менял своих привычек. После нескольких дней спокойствия я находился в столь счастливом расположении духа, что почувствовал желание присутствовать на представлении моего «Ассура», которого должна была петь новая труппа. Я был остановлен в дверях театра, и мне показалось, что продавец билетов смотрит на меня в смущении. Я пользовался вплоть до этого дня свободным проходом. В этот вечер я не счел для себя возможным воспользоваться этой привилегией и запасся оплаченным билетом; я предъявил его контролеру, который его вежливо отклонил и сделал мне знак проследовать за ним. Мы отошли в сторонку и он мне сказал смущенно:
– Мой дорогой синьор Да Понте, я уверяю вас, что это не по моей воле, но у меня есть приказ не пускать вас в театр.
– От кого получили вы этот приказ?
– От Торварта.
Принц д'Аусперг, который проходил в этот момент, услышал этот разговор; взяв меня за руку, он провел меня в свою ложу. Я рассказал ему о заговорах, плетущихся против меня. Он был этим явно огорчен и предложил мне испросить у императора ясно выраженного изъявления милости, но я, наслаждаясь миром, который уже в течение длительного времени был мне незнаком, умолил его ничего не делать.
Я покидал Вену, овеянный достаточной славой, чтобы утешиться; за одиннадцать лет я сочинил пятнадцать драм, из которых девять были единственными, что ставились без конца и всегда сопровождались аплодисментами; две из моих трех кантат являли собой развлечение для Вены, а третья – на смерть Иосифа II – имела честь быть включенной в «Поэтические анналы Венеции» и была опубликована в Тревизо, так же как и в некоторых других городах Италии, с аннотациями Гвидо Тренто. Я не мог опасаться, что мое имя канет в неизвестность.
При новости о моей немилости мои враги, более ничего не опасаясь, громко повторяли, что император был лишь справедлив, и что именно так следует поступать со всякими проходимцами. Но среди всей этой волны осуждений никто не мог назвать действительный мотив моей отставки.
Император покинул столицу и уехал в Италию.
Хотя мне хотелось покинуть как можно скорее места, что внушали мне лишь скуку и отвращение, необходимость закончить некоторые важные дела побуждала побыть там некоторое время, когда я получил от директора театра, в самый день возобновления спектаклей, письменный приказ удалиться из столицы. Недоброжелатели ему напели, что с помощью своих сторонников я плету интриги против авторов – моих соперников. Один из них дошел даже до того, что сказал, что пока я остаюсь в Вене, никто не осмеливается ничего публиковать. Эта ссылка нанесла удар по моему достоинству и чести; я выехал, тем не менее, и остановился в двух милях от Вены. Первый день, когда я оказался в этом одиночестве, был одним из самых грустных в моей жизни: я видел себя принесенным в жертву, изгнанным из страны, где прожил одиннадцать лет среди почестей и триумфов, покинутый друзьями, которым столь часто расточал доказательства преданности, выгнанный из театра, который существовал только благодаря моим усилиям. Многократно мне приходила в голову мысль покончить жизнь самоубийством; далеко не утешая меня, чувство моей невинности добавляло мне отчаяния, потому что эту невинность я не мог бросить в глаза судьи, который меня осудил, не выслушав, а сам уехал. Я провел три дня и три ночи в полном отчаянии, когда ко мне явились с визитом две персоны, которым я указал место моего пребывания. Они посоветовали мне ждать возвращения императора, заверив, что оправдают меня в его глазах, призвав моих обвинителей к ответу, поскольку я не нахожусь уже на службе. Я дал себя убедить и написал подробный рассказ обо всех обстоятельствах этого эпизод моей жизни, сопроводив его самыми очевидными доказательствами. Я был счастлив, что смогу передать эту записку в руки Леопольда.
То ли из-за нескромности этих друзей, то ли по какой другой, мне неизвестной, причине, вскоре в городе узнали о том, где я скрывался, и о шагах, что я предпринял. Мои враги заволновались и, чтобы предупредить действенность моего отмщения, решились не оставить мне времени для действий; два агента полиции получили приказ меня арестовать. Они явились вырвать меня из моей постели на рассвете и препроводить в Вену, где, по прошествии двух ужасных часов, проведенных в полнейшей неуверенности, не отведут ли меня в застенок, мне было указанно удалиться в двадцать четыре часа не только из столицы, но и из всех окрестных городов. Я настолько смирился с капризами судьбы, что в первый момент этот удар оставил меня равнодушным. Я спросил без эмоций, кто отдал этот приказ. Мне сухо ответили: «Тот, кто может командовать». Я выразил желание предстать перед президентом этого трибунала, что было нелегко осуществить. Этим президентом был граф Саур, один из самых благородных людей королевства, имя которого я не могу произнести без чувства глубокой благодарности и уважения. Я предстал перед ним; я представил ему точный рассказ обо всем, что со мной произошло; он ответил, что, к сожалению, он только исполнитель высшей воли; что он не знает, что вменяется мне в вину; что он никогда не состоял в полиции, директором которой он является, – легкий кивок в мою сторону, – но что в театре у меня есть могущественные враги, которые разрисовали меня мрачными красками при дворе, и, в частности, в глазах императрицы. Я заверил его в моей невиновности; он, казалось, был этим убежден, потому что на его лице запечатлелась искренность, которая не обманывает. Я просил о предоставлении мне отсрочки на неделю, чтобы иметь время оправдаться; он не осмелился взять на себя это решение, но пообещал обратиться к эрцгерцогу Францу, наследнику трона, отец которого был назначен регентом.
Я воспользовался предоставленным временем. Я пренебрег сутью обвинений, выдвинутых против меня; я попытался, однако, рассеять мрак, окутывавший мои действия, и сформулировал в этом смысле ноту, которую мне удалось переправить регенту. Я заключил ее, после самого подробного анализа, тем, что мне кажется невозможным, чтобы меня следовало лишать свободы. Этот принц, неуклонный исполнитель воли своего отца, прочел мой мемуар, пожалел меня и дал совет поехать в Триест, где со дня на день ожидают императора, и постараться по возможности его увидеть, – совет, который я принял без колебаний. Прибыв в Триест, я явился к графу Брижидо, губернатору города. Он был в курсе дела; неважно, из каких источников он мог получить эти сведения; как бы то ни было, он приветливо меня принял и заверил в своей протекции и благожелательности; ничто не давало мне в этом уверенности. Ему нужно было набраться храбрости, чтобы заявить себя в этот момент моим защитником: граф был в курсе того, что я в немилости. Он осмелился на это, и я был спасен. Эпоха, давно прошедшая, оказания мне этой услуги и мое теперешнее независимое положение не дадут заподозрить меня в лести; то, что я пишу, есть лишь дань благодарности, которую диктует мне сейчас моя совесть.
XLVII
Через несколько дней Леопольд прибыл в Триест; я прибежал к губернатору; но этот достойный мой защитник напрасно искал аудиенции, он не мог ее получить. Этот отказ меня сразил; я провел несколько дней в самой мучительной тревоге, обдумывая, не броситься ли к ногам императора вместе с моим семидесятилетним отцом и семью моими сестрами, которые столько лет пользовались плодами моих трудов, чтобы обезоружить его гнев! Но как исполнить этот проект? Моя семья обитала более чем в дне пути от Триеста, а время истекало! Пока я ломал голову, чтобы найти способ добиться своей цели, у моей двери раздался голос: «Да Понте, император согласился вас принять!» Я отказывался верить свидетельству моих чувств, когда князь де Лихтенштейн вошел ко мне; он искал меня от имени Леопольда. Я бросился как сумасшедший к королевской ставке, где многочисленная толпа ожидала аудиенции. Едва привратник увидел меня, как тут же отвел к государю; я нашел его глядящим в окно и повернувшимся ко мне спиной. Хотя я и был одержим желанием оправдаться и полон беспокойства по этому поводу, момент был от этого не менее торжественный; я испытывал сильное волнение и ожидал с беспокойством, когда император обратится ко мне, что он и сделал в следующих выражениях (я передаю наш разговор, не опуская ни слога):
– Могу я узнать, почему синьор Да Понте не ходатайствовал об аудиенции в Вене?
– Я имел честь просить ее многократно, Ваше Величество не соблаговолило мне ее дать.
– Я дал вам знать, что вы вольны появляться у меня, когда захотите.
– На каждую просьбу с моей стороны мне был ответ, что у Вашего Величества нет времени меня принять.
– Если бы вас не в чем было упрекнуть, вы бы нашли способ обратиться ко мне!
– Если бы Ваше Величество позволило, я бы мог заметить, что, следуя своим обычным правилам справедливости, оно соблаговолило бы меня выслушать, прежде чем осудить. Оно не упустило бы из виду, что, когда человек имеет несчастье попасть в немилость у государя, он не смеет предстать перед ним в публичной аудиенции, среди придворных, которые ставят себе в заслугу то, что удаляют его от трона всеми средствами: я тому доказательство.
– Каким образом?
– 24 января я шел в отчаянии по улицам Вены, решившись броситься к ногам Вашего Величества; я встретил одного из его секретарей и умолял его указать мне средство для этого; этот секретарь посоветовал мне обратиться к Стеффани; я пошел к нему, когда на самой лестнице дворца встретил Торварта, вице-директора театра, который по выражению моего лица понял о моих намерениях; он остановил меня и настоятельно воспротивился моему намерению.
– Торварт! Он мне сказал, что это вы отказываетесь представляться, чтобы иметь право жаловаться и выдать меня за тирана! Каким образом он воспротивился?
– Он не переставал мне повторять, что Ваше Величество, настроенное против меня, меня не примет, и что пытаться так поступить – это значит подвергнуться афронту; что новый директор воздаст мне справедливость, что он меня знает и ценит.
– Это как раз тот директор, который просил меня вас прогнать, доказывая, что он не может вас выносить ни у себя, ни в театре.
– Это доказывает искренность моих недоброжелателей.
– Но у вас весь мир – враги: интенданты, министры, дирижеры, актеры, – все говорили со мной против вас.
– Это должно быть доказательством моей невиновности.
– Возможно! Но почему накопилось столько ненависти?
– Граф де Роземберг, в своем желании видеть нового придворного поэта, оказался на поводу у инсинуаций Торварта.
– Роземберг – очень дурной интендант театра. Мне совершенно не нужны его поэты; я нашел одного в моем вкусе в Венеции.
– Угарта?..
– Угарт ничего не стоит, он делает все, что ему говорят, и я – последний, кто говорит в его пользу. Но почему Торварт – ваш враг?
– Потому что я знаю о его действиях и его расточительстве, и он это знает.
– Каким образом и с каких пор?
– С тех пор, как единственно увлекаемый своим рвением, я предложил ему административные реформы и упразднение некоторых злоупотреблений.
– Что он ответил?
– Что эти злоупотребления существуют слишком давно, чтобы пытаться их разрушить. Он пошел дальше и посоветовал мне не говорить ни с кем об этом, если я хочу оставаться в Вене.
– Мошенник! Я начинаю понимать, почему он наговорил мне столько плохого о вас! Продолжайте…
– Сальери…
– Не говорите мне более о Сальери, я знаю, как мне стоит к нему относиться, я знаю об интригах его и Кавальери; это эгоист, который желает заботиться на театре только о своих операх и своей любовнице. Он враг не только вам одному, он враг всем композиторам, певцам, итальянцам, и особенно мой, потому что он знает, что я в курсе всего. Я не хочу ни его, ни его немки в моем театре. Что до Бюссани, я воздерживаюсь сообщать ему мою волю. Я нашел в Венеции певицу, Гаспари, которая отомстит вам за оскорбления от Кавальери и от всей этой своры вокруг нее своими заслуженными аплодисментами. Я предупредил Гаспари, чтобы не оставляла ей ни одной первой роли. Если этого недостаточно, мы найдем другие средства. Сегодня я интендант и антрепренер моего театра. Я буду руководить, и мы посмотрим! Я понял, что вы не тот человек, что им нужен. Теперь объясните мне, что это за книга, написанная в стиле книги мадам де ла Мотт против королевы Франции, что вы сочиняете против меня…
– Против Вашего Величества! Это бесчестная клевета!
– Угарт, Торварт и Латтанцио мне о ней говорили.
– Вот оружие, которое используют мои враги, чтобы заставить поверить, что я человек опасный и что меня нужно удалить. Я как-то уехал в деревню, где меня посетили некоторые друзья, которым я дал имена Ваших Величеств. Они прочитали то, что я написал, и о чем Ваше Величество может их допросить.
– Ох! Если то, что мне сказали, неправда, я воздам каждому по его заслугам, особенно этому Латтанцио, который хочет сойти за моего личного секретаря, и более того – моего советника. Он выманил у вас табакерку и медальон под предлогом того, что передаст мне ваш мемуар. Если бы вы знали, как он вам услужил! Напомните мне о нем, я смогу его наказать.
– Я, тем не менее, остался жертвой.
– Возможно! Куда вы сейчас направляетесь?
– Сир… В Вену.
– В Вену! Вот так просто! Это невозможно, предубеждения против вас еще слишком живы, дайте мне время их смягчить…
– Сир, у меня, к сожалению, нет времени ждать: у меня есть семидесятилетний отец, семь сестер на выданье и три брата, все нуждаются во мне.
– Я понимаю все добро, что вы делаете для своей семьи; вы щедро заботитесь о воспитании двух из ваших братьев, это меня трогает; но почему вы не вызываете ваших сестер в Вену? Если у них есть талант, они смогут найти там ему применение.
– Мои сестры не смогут жить отдельно от своего старого отца, у них нет ничего, кроме их добродетели. Если Ваше Величество захочет осчастливить двенадцать человек зараз, оно позволит мне вернуться одному в Вену. Я буду работать для всех, как я это делал в течение одиннадцати лет; каждый раз, как мне удастся сделать что-нибудь для моей семьи, двенадцать голосов поднимутся в честь Вашего Величества с благодарностью к небесам. Если Ваше Величество не считает меня достойным быть поэтом двора, оно предоставит мне другой пост, но пусть это произойдет без промедления и именно в Вене.
– У моего театра не может быть двух поэтов; я ценю ваш талант… но трудно убедить в этом других.
– Ваше Величество должны это сделать для торжества справедливости и восстановления моей чести. Я бросаюсь к вашим ногам и не поднимусь, пока моя просьба не будет выполнена. Пусть Ваше Величество смягчат эти слезы, слезы невинности, смею это сказать и поклясться!
– Но мне говорили…
– И из-за одного «говорили» справедливый, мудрый Леопольд меня осуждает и изгоняет из города, который меня приютил и осыпал почестями в течение одиннадцати лет, который видел меня выполняющим все обязанности порядочного человека, преданным своей семье, друзьям и даже щедрым по отношению к своим врагам.
Говоря эти слова, я бросился к его ногам.
– Поднимитесь.
– Запятнав мою честь двумя изгнаниями, он отказывает мне в милосердии, которое оказывает даже преступнику.
– Поднимитесь, я вам приказываю. Государь свободен в своих поступках и не обязан давать отчет кому бы то ни было.
– Сир, я склоняюсь перед волей императора, но взывать к его справедливости – это не может не нравиться благородному Леопольду. Несправедливость не входит в число его правил.
Государь свободен окружать себя теми, кто ему нравится, и отставлять тех, кто перестает быть ему приятен.
– Отставка, простая и чистая, для меня достаточно сильное наказание, без того, чтобы клеймить меня ссылкой. Ваше Величество пусть не теряет из виду, что мой предполагаемый проступок повлек за собой простое предварительное заключение.
– Я никогда не распоряжался о заключении.
– Я подвергся проискам всех тех, кто прямо или косвенно был заинтересован в том, чтобы меня унизить, и суровость, с которой ко мне относится Ваше Величество, дает им возможность выиграть.
Сделав два или три круга по комнате, он остановился в раздумье, затем повернулся ко мне; я увидел спокойствие на его лице и понял, что я прощен. Он сказал:
– Я считаю, что вы обвинены несправедливо, и обещаю вам громкое возмещение. Чего вы хотите сверх того?
– Я умоляю Ваше Величество простить мне мою настойчивость, с которой я стараюсь защититься, и живость моих выражений, которые в любых других условиях были бы совершенно неуместны.
– Я все забыл. Где вы думаете остановиться?
– Сир, в Триесте.
– Ладно, ожидайте здесь, и время от времени напоминайте мне о нашей беседе. Я получил письма из Вены, которые меня убеждают, что дела в моем театре идут из рук вон плохо, что мои актеры терпят всякого рода притеснения и интриги; не могли ли бы вы подсказать мне средство покончить с этими дрязгами?
– Ваше величество может теперь судить, я ли разжигаю все эти неприятности и происки.
– Я это вижу, да, я это вижу.
– Прежде всего, Сир, следует устранить причины зла.
– Назовите мне главные.
Он сел и, взяв перо, записывал более часа под мою диктовку главные реформы, которые я предлагал провести Главному Интендантству, одобряя их.
Он снова меня заверил, что он меня не забудет, пообещав, что вскоре я получу от него вести, и выказал доброту, спрашивая, не нуждаюсь ли я в деньгах. Хотя и будучи почти без средств, я, из самолюбия, ответил, что нет. Он вышел, в твердой надежде увидеть в скором времени, что мои дела примут наилучший оборот. Предаваясь самым радужным иллюзиям, я увидел этого властителя в ином свете. В моих глазах, это был человек, недостойнейшим образом вводимый в заблуждение коварными советчиками, находящийся под влиянием подлых куртизанов, который, однако, будучи предоставлен самому себе и опираясь на свой благородный нрав, готов поспешить исправить то зло, которое невольно совершил. С этими мыслями я оставался неделями в полнейшем душевном спокойствии. Такого времяпрепровождения было достаточно, чтобы опустошить кошелек поэта, который никогда не был богачом, никогда не имел привычки к бережливости и кончил тем, что прибег к помощи своей семьи.
Истощив свой кошелек, я начал распродавать свой гардероб; исчерпав этот ресурс, я кончил тем, что вынужден был прибегнуть к помощи друзей, у которых встретил, однако, равнодушие и холодность. Все повернулись ко мне спиной; те, что меня выслушивали, ограничивались тем, что давали мне советы, либо грузили меня упреками в легкомысленности моего поведения. Соотечественник, к которому я относился как к брату и кормил несколько месяцев его и его семью, сделал блестящую карьеру, сделавшись банкиром в Неаполе. Полагая, что он не настолько жестокосерд, чтобы отказать мне в сотне пиастров, я осмелился написать ему и попросить эту сумму, с условием вернуть ее в течение трех месяцев.
Вот его ответ:
«Мой дорогой да Понте, тот, кто одалживает денег своему другу теряет деньги и друга, а я хочу сохранить то и другое».
Этот человек, столь благоразумный, умер молодым и вдали от семьи. Если бы все те, что похожи на него, кончили так же, не было бы столько в этом мире эгоистов! Его отказ лишил меня желания обращаться к другим. Я постарался по возможности скрывать мое печальное положение, чтобы не дать повода вновь торжествовать моим врагам.
Граф Брижидо мог бы в этом случае облегчить мое невезение, но, из ложной гордости, я не решался к нему обратиться. В дальнейшем, он был настолько добр, что упрекнул меня в этом. Благородный и щедрый соотечественник, который единственный не избегал общества человека, которого все его друзья покинули, догадался о моем положении и принял во мне достаточно непосредственное участие, придя на помощь. Он был не слишком богат, а я недостаточно нескромен. Все, что я получил от него, это лишь тяжесть на сердце. Если бы еще я страдал один! Каждый раз, когда я усаживался за стол, мое сердце разбивалось от мысли о несчастных созданиях, которым я не в состоянии помочь, и которые, вдали от меня, находятся, быть может, во власти мук голода! И эта ужасная нищета длилась три месяца!
Наконец, театральный сезон привел в Триест обыкновенную труппу певцов. Импресарио попросил меня помочь с постановкой «Музыкальной пчелы», оперы, которую я сочинил в Вене, и которая ему понравилась настолько, что он согласился ее купить; как ни была мала сумма, что он мне предложил, она оказала мне большую поддержку.
За этой труппой певцов последовала труппа комедиантов. Мои друзья, среди которых я с гордостью могу назвать графа Брижидо, барона Петони, графа Соарди и Люкшери, моего соотечественника, предложили мне воспользоваться обстоятельствами и поставить некоторые из моих драм. Незадолго до своей смерти мой брат набросал два первых акта трагедии, которые не успел отшлифовать; я их поправил, закончил его пьесу и предложил в качестве бесплатного дара этой труппе. Она была представлена под аплодисменты, и первый кто воздал мне за нее пылкие похвалы, была Колетти. Это бесстыдство с ее стороны пробудило во мне чувство, которое до той поры дремало. Тем не менее, я не счел своим долгом дать ему разразиться, тем более, что, поверив обещаниям императора и будучи осчастливленным теми похвалами, что я получил за мою оперу и мою трагедию, я немного успокоился. Это спокойствие не только заставило сдержать в глубине сердца неприязненное чувство, но способствовало в то же время пробуждению склонности к любовным интригам, с которыми я совершенно было порвал. Я прошу прощения за этот новый эпизод, но, поскольку он был последний, и к тому же оказал слишком заметное влияние на мою жизнь, я не пройду мимо и расскажу его.
XLVIII
Я полагал, что навсегда излечился, но я ошибался. Мое сердце не было еще закрыто для страстей, и, несмотря на измены, что я претерпел со стороны женщин, не помню и шести месяцев, чтобы я оставался вне любовных отношений.
Я был допущен до близких отношений с английской семьей, глава которой находился в Триесте. У него была очаровательная дочь, которой восхищался весь свет из-за ее красоты и хорошего воспитания. Поскольку она проводила летний сезон у одной из своих подруг, у которой был сельский дом в окрестностях, у меня еще не было случая ее увидеть. Однажды я был у ее отца, когда она приехала и я был ей представлен; она была закутана в вуаль, прикрывавшую ее лицо. Моя близость с семейством позволила мне обойти правила хорошего тона; я подошел к ней и сказал в качестве любезности: «Мадемуазель, манера, с которой вы носите вашу вуаль, не в моде; позвольте мне расположить ее немного более выгодным для вас образом». Шокированная этим фамильярным тоном, она промолчала, повернулась ко мне спиной и вышла. Я остался несколько сбит с толку. Ее свояченица была столь добра, что заверила меня, что эта тучка скоро развеется. Действительно, продолжая бывать у ее отца почти ежедневно, я оказался с ней вскоре почти на той же ноге, что и с остальными членами семьи. Мы договорились с ней, что она будет учить меня французскому, а я буду давать ей уроки итальянского. Мне вздумалось однажды спросить у отца, не согласился ли бы он выдать ее замуж за итальянского торговца, живущего в Вене, который не раз изъявлял мне желание взять в жены англичанку. Я дал ему все желаемые разъяснения относительно возраста, характера и состояния дел молодого человека. Он сообщил эти детали своей дочери и, после предварительного ее согласия, я написал этому другу и получил благоприятный ответ. Обменялись портретами, в последующие две недели все казались довольны. Но эти две недели не прошли бесследно; их оказалось достаточно, чтобы изменить наши взаимные чувства и заронить в нас тайную симпатию, которая, несомненно, заставила нас продлевать часы, посвященные нашим урокам. Эта симпатия, мало-помалу нарастая, перешла весьма быстро в настоящую любовь между молодой обрученной и старым посредником, потому что мне было на двадцать лет больше, чем ей. Ни один, ни другой не проронили ни слова о любви, но если уста молчали, то глаза вели себя иначе. Я известил моего друга о согласии родственников, написав, что его портрет понравился, и что его с нетерпением ждут в Триесте; его ответ задерживался. Однажды вечером, когда мы собрались по-семейному, мне передали письмо, почерк которого я узнал. Оно было от жениха; вскрыв дрожащей рукой, я прочел его вслух. Прозвучал следующий пассаж: «мол, если молодая девушка похожа на свой портрет, она должна быть очень хороша, что он получил наилучшие отзывы о ее характере и вообще о ней самые лучшие отзывы, но, поскольку, как говорят, ее отец очень богат и она живет в полном достатке, он хотел бы в интересах будущей семьи, убедиться в цифре приданого»; возмущенный отец поднялся, вырвал у меня из рук это письмо и бросил его в огонь, воскликнув: «Ах! Синьор Джулиано просто хочет жениться на приданом, а не на моей дочери!» Затем, покружив по комнате и остановившись передо мной, живо спросил:
– Друг да Понте, хотите ли вы ее?
– Кого?
– Мою дочь!
И, поскольку я засмеялся, продолжил:
– А ты, Нэнси, что ты об этом думаешь? Ты согласна?
Она опустила глаза, усмехнулась, затем, подняв голову, посмотрела на меня скромно. Отец, истолковав мое молчание как выражение моего сердца, взял наши две руки и, вложив их одну в другую, добавил мне: «Нэнси – ваша», и Нэнси: «Да Понте будет твоим мужем».
Мать, сын и свояченица зааплодировали этой импровизированной сцене; но моя радость и, смею сказать, радость Нэнси были таковы, что лишили нас слов. Я покинул дом в состоянии, которое трудно описать. Все мои богатства в этот момент составляли пять пиастров; у меня не было ни должности, ни даже надежды ее обрести, и гнев отца, взрыв которого был вызван этим письмом, совершенно неспособен был меня ободрить и породить хоть малейшую надежду на жертву с его стороны; но я любил, был любим, и это единственно позволяло мне осмелиться на все и прикрыть глаза на остальное.
XLIX
Шесть месяцем протекло с момента моей беседы с императором. Мне казалось, что прошло достаточно времени, чтобы выяснить все относительно меня и рассеять все предубеждения. Я решил про себя обратиться к его памяти при посредничестве г-на С…, рассчитывая на его благосклонность. Я получил от него ответ, что у него еще не было времени, и что Его Величество слишком занят. Я удвоил хлопоты. Я написал послу Венеции, который почтил меня своей благосклонностью. Все ответы, что я получал, были уклончивые и нерешительные, все письма содержали фразу: «Будьте уверены, что император соблаговолит вам ответить, но час еще не пришел», или другую подобную, которые должны были лишь поддержать во мне ложные надежды. Кто этому поверит? Лишь совет Касти вырвал меня из моей летаргии и раскрыл глаза.
За два месяца до того Касти проехал Триест, возвращаясь в Вену. Я имел удовольствие побеседовать с этим действительно замечательным человеком, несмотря на его эгоизм и его причуды. Мое восхищение его гением заставило меня забыть прошлое; полагая, что моя неблагоприятная судьба должна изгладить из его души всякую злобу, я открыл ему мое сердце с наилучшими намерениями.
– Попытайтесь создать себе положение, то ли в России, то ли во Франции или в Англии, – сказал мне этот знающий и глубоко политичный человек.
– Но император пообещал мне призвать меня к себе.
– Он ничего этого не сделает.
– Его секретарь написал мне ждать.
– Его секретарь вас обманывает.
– Но моя честь! Мои враги!
– Ваш успех во Франции или в другой стране ответит вашим врагам, и ваши новые почести, которых вы удостоитесь, быстро заставят вас забыть те, что вы потеряли.
Мне было легко догадаться о мотивах, что продиктовали ему его совет. Мне не нужно было его искать; он сам тут же дал мне объяснение.
– Вы знаете, – добавил он, – что я был поэтом Леопольда, когда он еще был эрцгерцогом Тосканским. Встретив его в Италии, я осмелился сказать ему, что его восшествие на имперский трон дало мне основательную надежду подняться, в свою очередь, на что он ответил, что мое предположение верно. Вы его видели, у меня были хорошие основания надеяться, а между тем, ничего еще не сделано.
В то же время он дал мне прочесть четыре оперы, что он посвятил императору.
Это доверие Касти, которое пришло мне на память в этот момент, положило конец всем моим колебаниям. Я убедился, что он не старается снова увидеть меня в Вене. Мое положение изменилось: я собирался жениться, я должен был как никогда озаботиться моим будущим. Я больше ни о чем не хотел слышать; императорские задержки были очень дурным предзнаменованием, мои последние иллюзии исчезали день ото дня. По зрелом размышлении, я решился последовать совету Касти. Первой стороной, куда устремились мои взоры, был Париж. Я сохранил письмо, которое Иосиф II дал мне для своей сестры королевы Франции. Я счел его достаточным для того, чтобы заиметь положение, соответствующее моим талантам. Я написал Касти, чтобы попросить его сказать Его Величеству, что обстоятельства изменились, и что не смея более полагаться на его протекцию, я ограничиваюсь тем, что рассчитываю на его щедрость в отношении денежного возмещения, чтобы мне покинуть Триест и переместиться в Париж, где намереваюсь обосноваться. Касти поговорил с графом Саура, тот – с императором, но – все то же молчание. Наконец, потеря всякой надежды заставила меня взяться за перо, и я написал прямо Леопольду:
«Выражение моего отчаяния давно уже должно было припасть к подножию трона. Я не смею льстить себя надеждой, что Ваше Величество это тронет, никто меня в этом не обнадежил. В невозможности более выносить неуверенность в моей судьбе, я беру на себя смелость обратиться к моему Государю и молить его о каком-то решении, которое определит мою судьбу».
Я ожидал три недели ответа, который не получил ни от императора, ни от его министров; после этого я, посоветовавшись с графом Брижидо, принял решение самому отправиться в Вену; но, в отсутствие средств, необходимых для того, чтобы предпринять это путешествие, я прибег к епископу, человеку, весьма уважаемому в Триесте. Я знал, что он с большим неудовольствием наблюдает за моим пребыванием в этом городе; враг Иосифа II, который меня любил и протежировал мне, если моя персона и была ему безразлична, он был заявленным противником моих доктрин и охотно отправил бы меня ко всем чертям; мне казалось даже, что я поступлю в соответствии с его желаниями, предоставив ему возможность избавиться от меня. Он благосклонно меня выслушал, он, казалось, был тронут моим поступком; но, едва я произнес слова о немилости ко мне императора, как вся его благожелательность исчезла, он ограничился лишь тем, что ответил мне, что не забывает меня в своих молитвах.
Выйдя от епископа, я обдумывал, не обратиться ли к губернатору и получить там решительный отказ; я не колебался. Я решился на это. Этот последний не пользовался, как епископ, репутацией святого, он выслушал меня, не выказывая большого волнения, затем, одобрив мое решение и не ожидая более подробных объяснений, он вручил мне двадцать пять цехинов, сопроводив этот дар следующими любезными словами:
– Этих двадцати пяти цехинов, надеюсь, будет достаточно для ваших дорожных расходов; будьте уверены, что я предлагаю их вам от чистого сердца. Когда вы рассчитываете поехать?
– Завтра.
– Хорошо, зайдите меня повидать, я передам вам письмо для Его Величества.
Перед тем, как сесть в коляску, я зашел за этим письмом. Он подумал и решил, что будет более осмотрительно и благоразумно написать письмо и подождать решения, прежде чем что-либо предпринять. Он написал и отправил свое письмо передо мной. Прошло еще десять дней, затем, по его совету, я отправился в путь. У ворот столицы я узнал о смерти Леопольда II, случившейся этим же утром; он правил два года. Эта новость меня поразила, но, справившись с собой, я повторил, вместе с Касти, в его «Короле Теодоре»:
– Какова бы ни была судьба, что мы предвидим для себя, она не может быть хуже.
Я подумал, что если я имел право на справедливое отношение со стороны отца, а сын был бы ко мне лучше расположен, у меня было бы больше шансов обрести милость. Впрочем, «другой король, другие и советники». Я въехал в Вену с благоприятным предчувствием. Моей первой мыслью было разыскать Касти, который, по-моему, казался удивлен, но, однако, пообещал мне поддержку. По правде говоря, не было вещи, на которую он не пошел бы в определенных обстоятельствах и при побудительных причинах, которые заставили бы его действовать, – я говорю это сейчас, после его смерти, – но я могу только воздать ему хвалы и сохраняю к нему чувство глубокой благодарности. Если он был моим антагонистом в силу авторской ревности, я нашел его в данных обстоятельствах обязательным и готовым услужить; он взялся представить меня графу Саур, своему близкому другу, от которого пообещал мне благосклонность и участие, и который, в своем качестве директора полиции, был человеком всемогущим. Видя меня в нерешительности, он взялся меня сопровождать, и я согласился. Он расхвалил меня графу и настолько в этом преуспел, что граф пообещал мне личную аудиенцию нового монарха, добавив, что если не удастся ее получить, он сам готов обеспечить мне все, чего бы я ни пожелал. Он выполнил обещанное. Император Франц, который не мог, из-за слишком недавней смерти своего отца, давать какие-либо аудиенции, направил мне, через посредничество самого графа, сотню соверенов, разрешение поселиться в Вене, если я захочу в ней остаться, а также распространить в публичных газетах королевства сообщение о моей полной реабилитации.
Я оставался три недели в Вене; более сотни итальянцев приходили осаждать мою дверь, которая для них была закрыта, тем более, что на их лживых лицах читалось разочарование от поворота ко мне моей фортуны, и я не желал удовлетворять их любопытство относительно причины этого. Новый директор театра Берталли очень интересовался, – я об этом знал, – точно ли я решил остаться в Вене или я здесь лишь проездом. Я знал его произведения – их у него было множество. Склонный к писательству, он был привержен к сценическим эффектам; но, к своему несчастью, он не рожден был поэтом и, в частности, не владел в достаточной мере глубинами итальянского языка; его пьесы более смотрелись на сцене, чем пригодны были для чтения.
Я задумал нанести ему визит; я дал объявить о себе как о незнакомце. Он был в своем кабинете, наедине с одним актером. Когда я приоткрыл дверь и заглянул внутрь, он спросил меня, кто я такой. Мое имя поразило его как удар молнии. Он осведомился с некоторой заминкой, чем может быть мне полезен. Я ответил, что имею что-то ему сообщить. Это собеседование происходило на пороге двери… Ему пришлось меня принять. Он предложил мне стул в глубине комнаты. Не обращая на это внимания, я сел около бюро, за которым он, по-видимому, работал; он также сел и с рассеянным видом стал приводить в порядок различные нотные листы и брошюры, раскиданные по столу. Я разглядел некоторые из них: я отметил французскую комедию, словарь и грамматику Кортичелли. Я понял его нежелание допустить меня к себе; он снова повторил свой вопрос, но, не имея никакого правдоподобного предлога продолжить этот визит, я сказал, что «явившись таким образом, я не имел иного желания, кроме как познакомиться с достойным человеком и попросить его вернуть мне экземпляр моих работ, который при своем отъезде из Вены я забыл забрать». С великим облегчением, приняв важный вид, он ответил мне, что «ничего не сделал с моими книгами и что они переданы консьержу театра в ведение Интендантства». Задержавшись еще на десять минут и поняв, что в любом случае этот человек никак ни с чем не связан, я оставил его и направился к консьержу, от которого узнал, что девять из моих либретто были проданы; что весь год мои оперы игрались с неизменным успехом, и, наконец, если пьеса не нравилась публике, что происходило часто, обращались к моим, и в частности тем, что положены на музыку Моцартом, Мартини и Сальери. О, мои венские враги, если вы еще не все мертвы, возразите мне!
Я вернулся к Касти и дал ему отчет об этой беседе, сообщив о книгах, которые отметил, о манере, с которой принял меня Берталли, и особенно об ответе, который он мне дал. Касти ответил мне только: «Берталли всего лишь дурак. Он занят тем, что сочиняет оперу для Чимарозы; но он совершенно недостоин такой чести. Я напишу вам о том, что с дальше будет». Я расстался с Касти, как расстаются с другом, и, попрощавшись с семьями, с которыми находился в Вене в дружеских отношениях, вернулся в Триест, решив направиться в Париж.
L
Проезжая через этот первый мой город, я не упустил случая преподать урок Колетти, чьи лицемерие и утрированная лесть удваивали мой гнев и мою неприязнь. В тот день он посетил на свой фасон град поэзии. Я сочинил пьесу в бурлескных стихах, которую передал одному другу, чтобы он отдал ее читать и напечатать. Я приведу из нее первый стих, чтобы Колетти знал, что она именно от меня:
– Мой дорогой Колетти, не пиши больше сонетов.
Все жители Триеста распевали их во всю глотку. Решив ехать в вечеру, я направился на Дрезден, где получил письмо от Касти, который, среди других вещей, сообщал мне:
«Вчера вечером представляли в первый раз «Тайный брак». Музыка Чимарозо восхитительна, но слова ниже критики. Все недовольны, и особенно певцы. Все повторяют, что да Понте не должен оставлять безнаказанным подобное высокомерие. Я направляю вам либретто, чтобы вы могли судить. Продолжайте писать прекрасные стихи.
Вот мой ответ:
«Благодарю вас за либретто; я не последую вашему совету, вы сами достаточно сильны и обладаете достаточно творческим духом, чтобы отомстить за нас. Стихи Берталли таковы, какими и должны быть; пусть венцы наслаждаются ими; что до певцов, соблаговолите им сказать:
– Victrix provincia plora[19].
Эта опера была первой и последней у поэта Берталли; немного спустя он уехал в Италию, передав свой пост Гамерра, а я полетел в Париж, и не в одиночку.
LI
И вот я в двуколке, влекомой одной лошадью, в сопровождении ребенка пятнадцати-шестнадцати лет и в компании моей прекрасной и любимой Нэнси, на которой я женился 12 августа 1792 года, в два часа пополудни. Именно в таком экипаже, потому что, богатый надеждами, но не деньгами, я, при всех своих надеждах, располагал лишь шестью сотнями флоринов. Сорока двух лет, но с доверием к будущему, достойным молодого человека двадцати лет, я осмелился пересечь расстояние, отделяющее Триест от Парижа. В момент нашего расставания мой тесть был информирован о состоянии моего кошелька, но я, услышав его слова: «Этот Джулиано рассчитывает только на ее приданое», ответил хвастливо: «Я ни в чем не нуждаюсь». Говоря откровенно, я рассчитывал слегка на доброе сердце и привязанность моей тещи, которая, обнимая свою дочь, подарила ей сотню флоринов, сумму, хотя и весьма скромную, которая, однако, в данный момент оказалась для меня весьма полезной и выручила меня из больших затруднений.
К вечеру мы были в Любиано, где провели нашу первую ночь, и где я осушал слезы жены, которая в первый раз и, возможно, навсегда оказалась отделена от своей семьи и своих друзей. В течение нескольких дней мы продолжили наше путешествие без происшествий, когда однажды вечером, с наступлением темноты, при пересечении горы Лихтмессберг, мы должны были, несмотря на не прекращающийся мелкий дождь, пойти пешком, чтобы облегчить груз нашей лошади; мы шли медленно, взбираясь по крутому склону, когда моя жена заметила невдалеке идущих впереди нас двух мужчин, вооруженных ружьями. Это зрелище ее напугало. Поздний час, плохая погода и особенно уединенность места способствовали такому впечатлению. Я подал ей руку; она остановилась и, сунув машинально руку в карман, достала из него кошелек своей матери, который засунула мне под жилет. Этот акт предусмотрительности заставил меня улыбнуться. Мы продолжили путь. Между тем эти два человека, продвигаясь вперед, прошли мимо нас и, вежливо нас поприветствовав, исчезли. Мы поняли, что вместо двух разбойников мы имеем дело лишь с порядочными рабочими, возвращавшимися к себе. И что то, что мы приняли за ружья, было двумя оббитыми железом палками, удобными при прохождении по этим каменистым дорогам. Мы посмеялись над нашим испугом и, подшучивая друг над другом, прибыли к цели нашего путешествия – аббатству Сент-Эдмонд, на склоне горы. Но там наша веселость сменилась настоящим унынием. Моя жена спросила у меня кошелек, что мне доверила, я поискал его, но напрасно; я убедился, что он исчез. Мы вернулись обратно, двигаясь по своим следам, освещая дорогу фонарями и факелами, заглядывая во все повороты и рытвины дороги; после часа бесплодных поисков нам пришлось вернуться в гостиницу, удрученных так, как это можно себе представить. На следующее утро моей первой заботой было пойти найти аббата и рассказать ему о причине моего визита. Он озаботился призвать к поискам всех своих прихожан, собравшихся в церкви. Этот почтенный прелат настолько доверял честности своих крестьян, что не переставал уверять меня, что если кто-то из них сможет найти этот кошелек, он принесет его нам, даже не раскрывая. Я ожидал два дня, но увы, без результата! Вынужденные выехать, мы покинули аббатство, оставив у настоятеля по его просьбе мой адрес в основных городах, что я должен был проехать. По пути была Прага, я провел там несколько дней, чтобы подождать новостей, которые не последовали. У меня было время присутствовать на представлении трех моих опер, написанных для Моцарта, и я не могу описать восторг жителей города по поводу этой музыки. Фрагменты, проскочившие незамеченными в других театрах, были высоко оценены ими и осыпаны аплодисментами, как божественные.
У каждого народа свой нрав. Народ Богемии, кажется, наделен музыкальным гением, развитым до последней степени. Они неаполитанцы среди германцев: они живут ушами и пьянеют от звуков. «Дон Жуан» был столь популярен в Праге, что постарались перевести поэму на немецкий язык, чтобы народ мог петь на своем наречии арии, которые его музыкальное ухо столь хорошо восприняло. Великие и сложные музыкальные красоты им воспринимаются и оцениваются с первого прослушивания, и его суждения всегда верны.
Мое намерение было вернуться в Дрезден, но, вспомнив, что один из моих должников на несколько сотен флоринов Казанова живет недалеко от Вены, я воспользовался этой оказией, чтобы обрести какую-то сумму, которая в сложившихся обстоятельствах стала мне необходима. Я так и поступил, но мне не понадобилось много времени, чтобы убедиться, что его кошелек заполнен ничуть не лучше моего; и, чтобы его не унижать, я не стал настаивать на возврате того, что он не мог мне отдать. После двух или трех дней, проведенных вместе с ним, я известил его о своем отъезде в Дрезден; к несчастью для меня, он взялся сопровождать меня до Тёплица, в десяти или двенадцати милях от владений графа Вальдштейна, у которого он был секретарем и интендантом. Эта идея, от которой я не смог его отговорить, заставила меня нанять вторую лошадь и почтальона. Этот перевернул нас посреди дороги, и мы потеряли полдня, починяя мою двуколку. Несмотря на этот ремонт, коляска и лошадь оказались неспособны двигаться дальше, я оказался вынужден избавиться от них и продать за шестьдесят пиастров то, что стоило мне более сотни. К тому же Казанова, который взялся провернуть эту невыгодную сделку, обошедшуюся мне в шестьдесят пиастров, предусмотрительно удержал у себя два цехина, которые должны были послужить ему гарантией возвращения к себе. Он добавил, что, не имея возможности вернуть мне эти два цехина, как и прочие суммы, что он мне должен, он желает выдать мне, в качестве компенсации, три совета, более полезные мне, чем все сокровища мира. «Если вы хотите иметь успех, – сказал он мне, – не езжайте в Париж, направляйтесь лучше в Лондон; но в этом городе берегитесь заходить в Итальянское кафе, и, в особенности, не подписывайте никаких бумаг». Благодаренье небесам, если бы я последовал этим двум последним советам, потому что большая часть потерь в деньгах, что случились у меня, и несчастий, что на меня обрушились в Лондоне, были как раз последствиями моих посещений этого кафе и подписей, данных неосмотрительно и без предвидения последствий!
Попрощавшись с ним, моя жена, пораженная манерами этого необычного старика, пожелала узнать некоторые обстоятельства его жизни; я рассказал ей то, что знал, и этот рассказ приятно скрасил несколько часов нашего пути. Я намечу здесь несколько эпизодов, тех, по крайней мере, которым я был личным свидетелем или которые в какой-то мере меня касались.
LII
Джакомо Казанова родился в Венеции. После изрядного числа приключений он, по приказу Трибунала Инквизиции, был заключен там в тюрьму, известную под названием Пьомби, по простой жалобе некоей дамы одному из членов этого грозного трибунала, ее cavaliere servente[20], на то, что он давал читать ее сыну Вольтера и Руссо. После восьми или девяти лет ему повезло выбраться из этой ужасной тюрьмы и бежать из венецианского государства. История этого бегства была напечатана под названием «Новый Тренк»[21].
Он посетил несколько различных городов Европы, в том числе Париж. Из бесчисленных авантюр, героем которых он был, есть одна, которую я я беру как пример, должный обрисовать наиболее наглядно этого персонажа, авантюру, тем более интересную, что он поостерегся упомянуть ее в своих «Мемуарах» (В полном тексте «Мемуаров» Казановы, переведенных на русский язык Л. М. Чачко, есть этот эпизод – прим. перев.).
В нем были живы страсти и имелись многочисленные пороки. Чтобы удовлетворять тем и другим, нужно было много денег. Поскольку он часто сидел на мели, все средства для него были хороши, чтобы их доставить. Однажды, еще более неожиданно, чем обычно, он был представлен одной пожилой богатейшей даме, о которой было известно, что она любит молоденьких мальчиков. Осведомленный об этой ее слабости, Казанова начал ворковать вокруг нее и окружать множеством забот, а затем перешел к объяснению. Однако дама, видя в слишком верном зеркале разрастание с каждым днем морщин у себя на лбу и опасаясь, что прекрасные очи ее шкатулки оказываются наиболее привлекательным для него объектом, сопротивлялась немилосердно. Тогда Казанове пришла идея доверить ей под большим секретом, что он владеет искусством омоложения и возвращения самой дряхлой женщине блеска ее пятнадцати лет. Он предложил женщине дать тому неопровержимое доказательство. Дама, восхищенная, восприняла сообщение с несказанной радостью и захотела провести эксперимент. Немедленно, не теряя ни минуты, Казанова обратился к куртизанке, пообещав ей достаточно крупную сумму, если комедия, которую она должна сыграть, удастся. Он загримировал и нарядил ее неузнаваемым образом, затем отвел к даме, которой, под благовидным предлогом, посоветовал удалить своих людей. Он представил ей свое изделие, которое выглядело лет на семьдесят, и, пробормотав несколько неразборчивых слов, достал из кармана флакон, содержимое которого заставил ее выпить; как он сказал, это был волшебный фильтр, который должен был совершить великое превращение; он уложил предполагаемую старуху на софу, покрыл ее черным покрывалом, обладающим свойством уничтожить ее маскарадный наряд. Несколько минут спустя она выпрыгнула на середину комнаты, явившись перед изумленными глазами дамы во всем блеске своей красоты. Изумление этой последней легче понять, чем объяснить. Она обняла, сжала молодую девицу в своих объятиях, засыпала ее вопросами, на которые та отвечала уклончиво. Казанова, опасаясь более детальных объяснений, оборвал эту беседу, постаравшись увести молодую женщину из дома. Возвратившись к даме, он нашел ее полной лихорадочного энтузиазма. Она бросилась ему на шею и, открыв перед ним шкаф, продемонстрировала кучу золота и бриллиантов, заверяя, что эти сокровища будут его, если он сможет омолодить ее саму. Казанова, вполне склонный заключить это соглашение, взялся сотворить чудо, на котором настаивала эта неосторожная. Он заставил ее выпить до последней капли жидкость, которая на этот раз содержала не безобидный напиток, но дозу лауданума. Он уложил ее на ту же софу и покрыл ее той же тканью. Под действием наркотика она немедленно глубоко заснула. Затем, оставив ее храпеть в свое удовольствие, он бросился к шкафу, вскрыл его, завладел шкатулкой с драгоценностями, загасил свет и, нагруженный золотом, бросился к своему слуге, – что-то вроде дона Базилио, долго состоявшему у него на службе, которому он велел до того ожидать его на улице. Поскольку он вполне доверял этому человеку, он передал ему эту шкатулку, назвав гостиницу, где тот должен был его ждать, в десяти-двенадцати милях от Парижа.
Говорят, что иногда мошенники держат свое слово свято и избегают его нарушить. Так, видимо, и бывает, потому что Казанова, который не отступился перед столь бесчестным поступком по отношению к доверчивой женщине, счел себя обязанным отнести куртизанке, своей сообщнице, пятьдесят луи, которые он ей обещал.
Пока эти оба поздравляли себя с легковерием своей жертвы, его слуга метр Жак сбежал заграницу вместе с сокровищем. Пятьдесят луи куртизанки были все, что получил Казанова из этих денег. Так что он остался снова без единого су. Обследовав напрасно все гостиницы города и его окрестностей и потеряв надежду найти слугу и сокровище, он проклял старую женщину, куртизанку и себя самого, столь умелого в обмане других и столь неловкого, что позволил обмануть себя человеку, которого всегда считал за дурачка.
Опасаясь оставаться в Париже, он задумал вернуться в Венецию. Он направил предварительно в этот город свою работу, полную ума, создавшую ему репутацию ученого, «Анти-Амелот», содержащую критику книги, написанной неким желчным писателем, напавшим на все институты венецианской «Светлейшей Республики»: этот труд дал ему право встретить благосклонный прием у себя на родине, и он был там победно реабилитирован. В 1777 году я познакомился с ним у Загури и у Мемо, которые оба искали возможностей беседовать с ним, что всегда было интересно, воспринимая от этого человека то, что было в нем доброго, и закрывая глаза, из-за его гениальности, на то, что было в его натуре извращенного. Я следовал в этом за ними, и даже сегодня, стараясь разобраться в этой натуре, не смогу сформулировать мое суждение об этом странном существе – своеобразной смеси добрых качеств и пороков.
Незадолго до событий, которые заставили меня покинуть Венецию, некая несерьезная дискуссия о латинской просодии лишила меня его дружбы. Казанова никогда не признавал своей ошибки. Я уехал и в течение трех лет даже не слышал его имени.
LIII
Однажды ночью, в Вене, мне приснилось, что я встретил его на Грабене, что он обратил на меня внимание и, узнав, бросился меня обнять; мне показалось также, что третьим среди нас был Сальери. Я рассказал об этом сне моему брату.
Сальери каждое утро заходил ко мне повидаться; в тот день, когда мне приснился этот сон, он появился в обычное время, и мы направились прогуляться в общественный сад. Проходя по Грабену, я заметил сидящего на скамейке старика, который вглядывался в меня особым образом… Пока, пытаясь его вспомнить, я также вгляделся в него, он поднялся и подбежал ко мне с выражениями самой живой радости. Это был он, Казанова, который громко меня назвал и воскликнул: «Дорогой да Понте, какая радость вас встретить!». Это были точно те слова, что, мне показалось, я слышал в своем сне. Тот, кто верит снам, как говорят, сумасшедший; но тот, кто никогда им не верит, – кто он?
Он прожил в Вене несколько лет, в течение которых ни я, ни кто-либо другой не смог бы сказать, что он там делает и как живет. Я видел его часто; мой дом и мой кошелек были для него открыты, и, вполне отвергая его принципы и его поведение, я, если бы следовал некоторым его советам, вполне избежал бы многих огорчений и неприятностей.
Немного времени спустя после этой неожиданной встречи, прогуливаясь с ним по Грабену, я увидел неожиданно, что он сдвинул брови, резко отошел от меня, затем устремился за неким человеком, схватил его за колет, обратившись к нему со следующими словами: «Я поймал тебя, негодяй!». Толпа, привлеченная этим странным нападением, стала разрастаться. В нерешительности, я на какой-то момент остановился, но, после двухминутных размышлений, подбежал к нему и, взяв его за руку, оттащил в сторону. Тут он поведал мне, что этот человек, которого зовут Коста, был тот самый слуга, который сбежал от него со шкатулкой и сокровищем. Этот Коста, которого расточительство и дурные связи привели к тому, что он все растерял, находился теперь в самой большой нищете. Будучи камердинером крупного венского сеньора и соединяя со своими служебными функциями занятие поэзией, он был одним из тех, что досаждали мне своими памфлетами в то время, когда я был в фаворе у Иосифа II. Мы продолжили нашу прогулку и увидели, как он заходит в кафе, откуда вскоре вышел слуга, который передал записку Казанове; эта записка содержала четыре стиха, смысл которых следующий:
«Казанова, ты украл, а я последовал твоему примеру. Ты – мой хозяин, а я всего лишь твой ученик. Никакого шума! – вот, что тебе лучше всего сделать».
Эти немногие слова произвели сильный эффект; Казанова углубился в размышления, затем, разразившись смехом, склонился к моему уху и сказал: «Мошенник, по-моему, прав». Подойдя к кафе, он сделал знак Коста, который приблизился к нему и оба вместе пошли рядом, беседуя так спокойно, как будто ничего не произошло. Несколько мгновений спустя они разошлись, многократно пожав друг другу руки, как близкие друзья. Когда Казанова вернулся ко мне, у него на пальце была камея, которой я раньше у него не замечал, и которая, по странному совпадению, представляла Меркурия (бог воров, по римской мифологии – прим. перев.). Я полагаю, что эта камея явилась единственной добычей, которую он смог извлечь из своего гнусного мошенничества. Эта сцена достаточно обрисовывает характер этого человека и не нуждается в комментариях.
LIV
В Дрездене я с удовлетворением обнял Маццолу, так же как и о. Юбера, но не нашел там никаких следов нашего потерянного кошелька. Я оставался там десять дней, которые нанесли такую брешь в моих финансах, что я вознамеривался отправить в Триест моего кучера, чьи услуги мне стали бесполезны с тех пор, как я продал мою лошадь; однако этот молодой человек, который страстно стремился к обладанию коротких замшевых штанов, которые я обещал ему подарить по приезде нашем в Париж, упорствовал в своем нежелании меня покидать, так что я вынужден был сохранить его и нанять три места вместо двух в дилижансе в Кастеле, что увеличило мои расходы и еще уменьшило мои финансы. К счастью, в Спире (Шпейер? – прим. перев.) я воспользовался небольшой находкой, без которой я бы и не знал, что придумать.
Знатный сеньор из Вены, имя которого я утаю, был без памяти влюблен в юную особу, которая не отвечала ему взаимностью; отец, настолько же расположенный к нему, насколько дочь – нет, предложил маленькое путешествие на троих, в надежде, что при ежедневном общении, при наличии ума и прочих добрых качеств его протеже, восторжествует над холодностью его дочери. Они сели в коляску и, по счастливой случайности, прибыли в Спир в тот же день, что и мы, и остановились в той же гостинице. Помимо множества ухищрений кокетства, юная особа, полагая поставить своему ухажеру невыполнимое условие, потребовала от него пьесу в стихах его сочинения, заявив, что в награду вручит ему свою руку. Совсем никакой поэт, молодой человек был в затруднении, несмотря на поддержку отца, который призывал его подтолкнуть свою музу. Наконец, доверившись своей доброй звезде и, без сомнения, понадеявшись на чудо, маловероятное, но возможное, он принял вызов. Чудо случилось. Он оказался на пороге гостиницы в тот момент, когда я туда входил; меня узнать, подбежать и выложить мне свое затруднение, даже не дав мне времени помочь спуститься моей жене из коляски, было для него делом одного мгновения. Не будучи с ним близко знаком, я знал его все же достаточно, чтобы с любезностью откликнуться на его желание. Я пообещал ему помочь; он пожал мне руку, назвав своим спасителем.
Эта композиция была для меня легким делом; тотчас ее составив, я дал ему прочесть. Каждый стих вызывал у него восклицание; он сделал копию, умолив меня не показываться, чтобы не вызвать подозрения. В вознаграждение за эту легкую услугу, он попросил меня принять превосходные часы с цепью и печаткой, с которыми, к моему большому удовлетворению, вынуждаемый необходимостью, я расстался в Роттердаме за две сотни флоринов; он пообещал мне написать в Брюссель и доложить о результатах, в которых он, впрочем, уже не сомневался. Кажется, результат был таков, как он и желал, потому что они оба впоследствии мне написали, что соединились и находятся на вершине счастья.
LV
Недалеко от Спира, во время остановки, сделанной для отдыха лошадей, я узнал о заключении в замок Тампль короля и королевы Франции и о вхождении в Майен французской армии; два события, которые перевернули все мои планы, заслуживали серьезных размышлений. Казанова и один из его советов всплыли в моем мозгу. Этот совет, впрочем, отвечал желанию моей жены. Поскольку ничто больше не звало меня в Париж, где я не мог найти применение письму Иосифа II, я решил податься в Англию, проездом через Голландию. От Спира до Лондона проезд не заключал в себе ничего замечательного, если не считать того, что случился риск, что могут похитить мою жену.
Пока мы обедали в одной гостинице, двое мужчин скверного вида, усевшись за стол и налившись пива, посматривали на нас исподтишка. Думая, что мы не понимаем по-немецки, они не стеснялись громко обсуждать свой план. Он состоял ни в чем ином как последовать за нами верхом и завладеть моей женой, которую они приняли за мою дочь. К счастью, немного понимая этот язык, мы поняли достаточно, чтобы насторожиться. Я вызвал хозяина и спросил у него пистолетных зарядов. Поскольку он показался мне человеком порядочным, я поведал ему о том, что мы только что услышали. Он использовал свой авторитет. Строго отчитав этих двоих, он предупредил их, что если они позволят себе малейшую вольность против нас, он заставит их раскаяться. Затем, объяснив мне, что он является мэром деревни, он предложил мне ехать спокойно, пообещав, что задержит их и не упустит из виду вплоть до вечера. С этой уверенностью мы тронулись в путь и проехали весь перегон без всяких дурных встреч.
Я прибыл в Лондон вполне счастливо: вся моя наличность состояла из шести луи, золотых часов с цепочкой и кольца, за которое я выручил шесть гиней, продав его ювелиру. Мы направились к сестре Нэнси, которая жила в этой столице, но которая, к несчастью, будучи небогатой, могла приютить нас лишь на несколько дней, после чего мы сняли за свои деньги скромную комнату.
Едва поселившись, я постарался с пользой употребить свое время. В Лондоне имелся Итальянский театр. Я думал, что, возможно, мне легко будет там устроиться, и предпринял шаги в этом направлении. В то время владельцем театра был В. Тейлор. У него под началом был Винченцо Федеричи, в качестве директора, и Бадини – как поэт. Этот Бадини, который, среди прочих талантов, обладал тем, в котором превосходил Аретино в злонравии и душевной мерзости, пользуясь необычайным влиянием на Тейлора за счет своего пера. Он знал английский и писал для журналистов, которые, как известно, руководят общественным мнением в Англии. Успех пьес, как и успех всего персонала театра, зависел единственно от него. Что же до Федеричи, это был настоящий сосуд греха из Писания. Достаточно было обладать каким-то достоинством, доброй репутацией или превосходством в чем-нибудь, чтобы стать ему неприятным и быть объектом его преследований. Тэйлор знал его досконально, но тот старался ему услужить. Федеричи, найдя способ быть ему необходимым, доставал ему денег, в которых тот постоянно нуждался, а также неоднократно служил ему Меркурием в самых тонких предприятиях. У меня еще будет случай поговорить о нем подробно.
С Бадини и Федеричи мои проекты были трудновыполнимы, и у меня было немного шансов получить единственное амплуа, на которое я рассчитывал и на котором основывал мои надежды на будущее. Мой дебют был далек от того, чтобы быть счастливым; однако я не отчаивался и стучался во все двери. Я живо свел знакомство со всем, что прямо или косвенно связано было с театром. Первый, кто проявил ко мне признаки симпатии и интереса, был Поцци, неплохой композитор, который, будучи человеком бедным, но одушествляемым чувствами благородными, открыл для меня свой кошелек и представил своим друзьям, среди прочих знаменитой Маара, которая попросила меня написать для нее драму, заплатив за нее тридцать гиней и осыпав меня похвалами и благодарностями; для человека моей натуры похвала была гораздо ценнее, чем деньги. Обладатель суммы, которая в этот критический момент обладала реальной значимостью, заранее предвидя, что еще долго благоприятные ветры не задуют в мои паруса на берегах Темзы, я принял трудное решение отправиться искать фортуну в других краях. Разделив мои тридцать гиней на две части, я оставил десять моей жене и взял себе двадцать, с которыми выехал в Голландию, где, как я слышал, только что закрылся Французский театр, и где я смогу, как мне думалось, заменить его театром Итальянским. Я не ошибся. Я пробыл там едва две недели, как будущее представилось мне благоприятным; я встретил двух ревностных покровителей, одного – г-на Опе, шефа солидного банкирского дома Амстердама, второго – генерала Бутцелера; этот последний был отцом двух юных дочерей, способных музыкантш, которые были знакомы с моей Нэнси, когда она со своей семьей находилась в этой стране. Я воспользовался этим случаем, чтобы расположить к себе генерала, и преуспел в этом.
Под патронажем г-на Опе и генерала мой план быстро продвинулся и мои комбинации, казалось, им понравились. Я спросил, не могут ли они предоставить мне четыре сотни тысяч флоринов, чтобы я смог открыть два театра, один – в Амстердаме, а второй – в Гааге. Штатгальтер подписался первый в заглавном листе на сорок тысяч флоринов, предназначенных для одного театра в Гааге, в котором я предполагал по два представления в неделю. Его подпись дала нужный толчок, и я увидел полную возможность получить более, чем ту сумму, в которой нуждался. Я написал моей жене, чтобы сообщить ей эти добрые новости и вызвать ее ко мне присоединиться; она ответила, что не может этого сделать из-за отсутствия денег. Двадцать гиней, что я оставил себе, также подходили к концу, и я не знал, что нам делать, если нам не поможет Провидение. В один из дней, когда я открылся о моем положении и о моих проектах итальянцу Сера, который проявил добрую волю и желание прийти мне на помощь, но у которого не было денег, мне принесли письмо. При виде подписи моей жены, которая написала мне через столь короткий промежуток времени, мною овладело необъяснимое беспокойство, я, дрожа, вскрыл его. Неожиданный сюрприз! Она сообщает, что отправляет мне восемьдесят флоринов, что она оставляет себе двадцать на свое путешествие и что менее чем через неделю она будет в моих объятиях. Эти деньги, – добавила она, – были ей присланы уважаемым приором аббатства де Сен-Эдмон, который, узнав о нашем кошельке, потерянном на горе Лихтембергер и найденном честным крестьянином, который на следующий день после нашего отъезда принес его и отдал, даже не открывая. Он был нам отослан этим достопочтенным прелатом, который получал от нас лишь очень мало писем и только в последний момент узнал о нашем прибытии в Лондон.
Моя жена заканчивала этой фразой:
«Ты видишь, что никогда не следует терять веру в Провидение».
Вскоре она и прибыла. Мои дела шли своим путем, мои письма к лучшим певцам и композиторам Италии отправились по назначению, мой договор был подписан, к общему удовлетворению любителей театра. Но… тщетны человеческие планы! Внезапно прибыло известие о катастрофическом поражении английского флота под Дюнкерком, и всякая мысль о дивертисментах и празднествах пропала, уступив место всеобщему огорчению и церковным службам, направленным на то, чтобы смирить гнев Небес…
Стоило поразмыслить в этот момент об ужасе моего положения! Без денег, без друзей, в чужой стране и без средств и надежды из нее выбраться!..
Эти восемьдесят флоринов не могли надолго задержаться в руках человека, плохо разбирающегося в экономии; и, ко всему, суровая зима этого года заморозила каналы и парализовала всякое сообщение. Это лишало меня всяких шансов получать письма, которые, из какой бы страны они ни шли, могли бы смягчить мою ситуацию. Казанова был единственный человек, к которому я мог бы адресоваться. Чтобы его лучше к себе расположить, я надумал написать ему в стихах, расцветив мои затруднения и умоляя переслать мне немного денек, учитывая, что он оставался мне должен. Далекий от того, чтобы мне посочувствовать, он ограничился тем, что ответил мне вульгарной прозой, запиской, которую я здесь привожу:
«Когда Цицерон писал своим друзьям, он воздерживался от того, чтобы говорить с ними о делах».
С потерей этой последней надежды мне ничего не оставалось, как снова начать заниматься тем, что я многократно уже проделывал в разные времена – продавать вещи. Мой чемодан быстро опустел. Я снял жилище у честного немецкого кожевенника, у которого на протяжении целых недель мы жили в самых тяжелых условиях, довольствуясь хлебом и водой и не каждый день имея эти продукты. Страдала более всего не моя жена. Что до нее, она принимала эту нищету с ангельским терпением, стараясь даже веселиться и смеяться, составляя со мной каждый вечер партию в шахматы, чтобы меня развлечь. Она предлагала ставить на кон большую ставку, проигрыш которой оплачивался ласками. Эти бесспорные доказательства ее преданности в иное время составили бы мое счастье, в данный же момент они только удваивали мое огорчение. Однажды вечером мы играли нашу партию; вошел наш хозяин, человек великодушный. Он заявил без предисловий:
– Дорогой месье, я знаю, что это не ваша вина, что вам не везет. Вы представляетесь мне человеком порядочным, но это не дает хлеба моим детям. Вы не смогли заплатить мне за первую неделю, еще менее вы можете заплатить мне за вторую, что начинается сегодня. Я не обращу внимания на то, что вы мне должны, но на будущее моя бедность не позволит мне держать вас дольше; я хочу просить вас искать другое жилье, и пусть Господь вам поможет, так же как и мне.
Он покинул нас после этого сообщения. В этот момент вошел Сера, который давно уже нам сочувствовал, но который – увы! – мог нам помочь только советами. На его вопрос, как идут дела, я передал ему сообщение нашего хозяина. «Вооружитесь храбростью, – ответил мне он, – мне приснился этой ночью прекрасный сон, и я полон надежды». Вспомнив сон, который был у меня в Вене по поводу Казановы, я попросил его рассказать свой.
– Мне казалось, – отвечал он, – что я заметил вас с этой любезной дамой в темном лесу; ужасный зверь, с зубами и когтями, крутился вокруг вас; вы старались от него убежать, он незаметно приближался, готовый вас пожрать. Внезапно лес, казалось, озарился светом и вдали возникла высокая гора, с которой прилетела огненная стрела, которая поразила монстра, уложив его у ваших ног. Мгновение спустя он исчез, поглощенный землей, и вокруг вас все рассвело.
– Трудно представить себе – ответил я ему, – более прекрасный сон; дай бог, чтобы он был пророческим! Но пока эта несчастная женщина, готовящаяся стать матерью, не нашла ничего, чем утолить свой голод, кроме кусочка хлеба, этим вечером!..
Он не дал мне времени продолжить и, убегая, крикнул нам, спускаясь с лестницы: «Я ухожу и вернусь».
Однако, он задержался, и я более на него не рассчитывал, когда дверь отворилась, и я увидел доброго Сера, входящего с пакетом в руке и кладущего его на стол.
– Вот доброе начало моего сна, – говорит он; затем, вскрыв пакет, достает оттуда хлеб, масло, сыр, сахар, яйца и копченую селедку и бежит на кухню взять кастрюлю и гриль; затем, поспешно возвратившись, весело принимается разжигать огонь и готовить эти продукты. Между делом он рассказывает, что, одолжив недавно небольшую сумму одному другу, он направился к нему, и тот заплатил, и с этой суммы он купил продуктов для ужина. Когда все было готово, он расстелил на столе, вместо скатерти, бумагу, в которую были завернуты масло, сыр, сахар и селедки, достал из кармана бутылку можжевеловой водки, пододвинул три стула и сел с нами. Удовлетворение, что блестело в его глазах, оживило наши израненные души. Мы поедали эти простые яства, и час, проведенный весело за этим столом, заставил нас забыть ужас нашего положения. Наш ужин закончился, он составил питье из можжевеловой, воды и сахара, мы заставили его выпить стаканчик, он выпил за наше здоровье, говоря: «Пусть мой сон поскорее сбудется!» Потом он ушел.
В остаток вечера для нас не было места грусти.
LVI
Мы легли в постель и заснули, убаюканные надеждой. Наш сон был сладок. Я проснулся на заре; я чувствовал в душе безмятежность и спокойствие, причину которых не мог объяснить. Мне следовало, тем не менее, подумать о том, чтобы покинуть наше обиталище; эта мысль слегка омрачала мои игры воображения, когда, слегка постучав в дверь, снова вошел наш хозяин и, не произнося ни слова, протянул мне бумагу, что держал в руке. Подумав, что это счет и что он явился вручить мне приказ о выселении, я сделал жест, чтобы его удержать. Отступив на шаг, он сказал мне: «Вот письмо на ваш адрес; но я не могу вам его отдать, если вы не дадите мне шиллинг; почтальон у дверей и ждет оплаты». Я достаю из кармана платок и прошу принять его вместо моего долга. Этот парень, растроганный, отказывается, вручает мне письмо и выходит, оттирая слезу. Бросив взгляд на письмо, я читаю, рядом со своим именем, три слова: «Вместе с двадцатью гинеями». Чувство, что я испытал, невозможно описать. Только тот, кто прошел через подобные испытания, может его себе представить.
Я показал эту записку Нэнси, которая в волнении воскликнула: «Это моя сестра нам написала». Затем она более пяти минут не могла произнести ни слова, так же подавленная, так же пораженная, как и я, этим новым свидетельством благости Провидения. Я вскрыл письмо, которое содержало следующие строки:
«Дорогой Лоренцо, злодеяния Бадини закончились тем, что заставили Тейлора его выгнать. Поскольку ему нужен поэт и он слышал разговоры о вас, он вызвал меня, чтобы попросить написать вам и предложить, от его имени, эту должность. Бадини у него выманил шестьдесят гиней; он хочет переложить их на вас, удержав их из двухсот, которые он предлагает вам в год. Вы согласитесь, я уверена, с этим предложением, учитывая даже не столько деньги, сколько возможность работать в Лондоне. С этой мыслью я осмелилась заявить о вашем возвращении. Он дал мне двадцать гиней на ваши расходы по путешествию. Приезжайте и будьте осмотрительны. Все ваши друзья, и между ними Феррари, Роведино и Сторас, ждут вас с нетерпением. Что до меня, я умираю от желания снова обнять мою сестру».
Прочитав письмо, я не мог сдержать слезы радости, которые многократно искупали слезы горя, что мы проливали до того. Бросившись к подножью кровати, я преклонил колена и, подняв глаза и руки к небесам, с глубокой благодарностью произнес эти четыре стиха, что произносит в моей опере «Ассур» Атар:
– Боже, защитник несчастных, Ты никогда не обманываешь Тех, кто надеется Только на тебя.Не прошло и часа после этой сцены, как вошел Сера, совершенно не понимая нашей радости. Я хотел объяснить ему причину, но не знал, с чего начать, Наконец, я решил, что лучше всего будет дать ему письмо, один вид которого все разъяснил и заставил его испустить крик радости на весь дом. Когда он прочел все письмо, его восклицания были таковы, что меня напугали. Он пел, танцевал, прыгал, раз за разом нас обнимал; затем стал плакать, как дитя, возвращая мне бумагу и говоря:
– Вот реализация моего сна; темный лес – это Голландия, театр в Лондоне – высокая гора, директор театра – стрелок, который пустил огненную стрелу, нищета – это монстр, который вам угрожал, и свет, озаривший лес, – это Провидение: все у вас наладится.
Почему друзья, подобные этому замечательному Сера, столь редки в мире?..
LVII
Не имея более дел в Голландии, я отправился в Англию, где, по прибытии, моим первым делом был визит к Тейлору. Я ничего там не добился. Я немедленно убедился, что имею дело с человеком, мало сведущим в литературе и литераторах. Федеричи был моим проводником. Когда я вошел в его кабинет, Тейлор сидел за столом и писал, повернувшись к нам спиной.
– Синьор да Понте – сказал Федеричи.
Не показывая, что слышит, Тейлор продолжал свое дело.
– Мистер Тейлор, – повторил Федеричи немного громче, – вот наш поэт.
На это повторное объявление Тейлор, повернувшись, слегка поклонился и вновь занялся своим делом. Я ждал; прошло пять минут; наконец Федеричи с уважительным молчанием сделал мне знак выйти. Такой прием был никак не лестен для человека, который в течение десяти лет был принят при дворе Иосифа II, властителя, настоящего образца доброты, любезности и вежливости. Я воздержался, однако, судить по этому первому визиту и отложил суждение до второго, чтобы быть более уверенным.
Я входил в курс дела, но в течение более чем трех месяцев со мной ни о чем не говорили. Только после представления «Дон Жуана» Кастаньиги, оперы, которую Федеричи предпочел опере Моцарта, которую я ему назвал и представил, и в которой Тейлор, после других подобных же выборов, начал видеть причину упадка своего театра, он надумал вызвать меня и консультироваться со мной по поводу различных сюжетов, входящих в мои обязанности. В продолжение этой беседы, когда я сказал ему о Мартини, который, как я знал, был в Санкт-Петербурге, он попросил меня написать ему и пригласить приехать в Лондон, что я сразу и проделал, при том, что этот поступок с моей стороны как бы не стоил мне потери моей должности.
LVIII
Протекла половина театрального сезона, когда в Лондон прибыли две известные актрисы, соперничающие между собой: Банти, которая в эту эпоху была одной из самых знаменитых певиц Европы в серьезном жанре, и Моричелли, которая не уступала ей ни в чем в таланте и блистала в другом жанре. Обе были не первой молодости и не славились своей красотой; они были весьма популярны и требовали запредельной оплаты, первая – за тембр своего голоса – единственный дар, полученный ею от природы, другая – за свою манеру держаться на сцене и блеск своей игры, полной благородства и грации. Обе были идолами публики и ужасом для композиторов, поэтов, певцов и директоров. И одной из этих двух женщин было достаточно, чтобы внести смуту в театр, каковы же возникали трудности перед директором, который объединял в театре их обеих. Какая из них была опасней, сказать трудно. Равные в пороках, страстях и плутнях, они обе надрывали сердце, но с противоположных сторон, они придерживались одной и той же системы для реализации своих планов.
Моричелли, наделенная большей тонкостью и умом, действовала с хитростью, тайком, и все ее ходы исполнялись под покровом тайны; она заранее планировала свои действия, ни с кем не советуясь, не позволяя себе поддаться страсти, и, хотя нрав ее был развращен, поведение было столь скромно и сдержанно, что ее можно было принять за простушку; чем более едкой была желчь, что выделяло ее сердце, тем более ангельской была улыбка на ее устах. Она была женщиной театра. Ее боги были те же, что и у других, ей подобных; она им поклонялась. Эти боги были корысть, гордость и зависть.
Банти, наоборот, легкая, наглая и полная невежества, исходящих с ее ранней юности, когда она пела в кафе и в других публичных местах, и перенесенных ею на сцену, куда ее привел ее голос и куда она перенесла манеры и поведение наглой хористки. Со своими свободными разговорами, еще более свободными повадками, вышедшая из глубин народа, вкусы которого восприняла, она была привержена выпивке; не соблюдая ни меры, ни приличия, она во всем являла собой то, чем была на самом деле, и, находясь под влиянием одной из своих страстей, особенно, если ей противоречили, превращалась в фурию, способную в одиночку взорвать государство.
Едва появившись в Лондоне, обе вступили в битву за сердце директора. Я не верю, чтобы кто-нибудь в мире смог описать точными красками портрет Тейлора; что до меня, я признаю, что неспособен на это. Вырванный им, а также волей случая из нищеты, в которой я тонул в Голландии, я испытывал и буду испытывать всегда по отношению к нему чувства глубокой благодарности. Будет видно, до какой степени я простер эти чувства и как поломал свою судьбу и судьбу моей семьи, чтобы прийти ему на помощь и его спасти, и каким образом он мне, как и многим другим, отплатил неблагодарностью. Его чувства были таковы, что мне никак не хотелось бы исследовать их слишком сурово и выявлять слишком подробно его слабости и недостатки, с тем, чтобы пытаться их защитить или извинить. Поскольку я пострадал от них, я буду хранить молчание или, для полной справедливости, удовлетворюсь тем, что буду о них сожалеть. Не претендуя на создание точного портрета этого человека, скажу о моих впечатлениях.
LIX
Вильям Тейлор прибыл в Лондон, будучи в самой большой нужде, в ту пору, когда там случился пожар Итальянского театра. Человек с воображением и инициативой, желающий стать собственником нового театрального зала, который собирались построить, он представил первым лицам Лондона проект, состоявший в том, чтобы предоставить им в собственность некоторое количество лож на определенное время. Когда проект был принят, он взялся за его осуществление и, получив деньги, сам занялся его конструированием. Позднее, создав другие ложи, передаваемые на тех же условиях, он оказался в состоянии оплатить прежнему директору неустойку, которую тот требовал. В то же время он выпустил сотню входных билетов, и еще не кончился первый театральный сезон, как он их распределил; обогатившись таким образом, он сделался единственным владельцем превосходного здания, которое, можно сказать, не стоило ему ничего, кроме трудов и забот, без всяких денежных затрат. Позднее он оказался достаточно ловок, чтобы сделаться членом Городского Совета. Как и вследствие каких оборотов судьбы этот человек смог закончить свои дни в тюрьме? Это загадка, о которой я смогу говорить только в дальнейшем, и мне пришлось прожить долгие годы и перенести самые тяжелые испытания, чтобы это понять.
Этот человек состоял из двух весьма противоречивых сущностей. Сам по себе, он был человечен, благороден и щедр; подпав под постороннее влияние, он принимал недостатки персоны, которая его подчиняла себе, в особенности, если эта персона была женщиной, которую он любил и чьи любимцы становились его фаворитами. Я предполагаю, что подобный характер должен был подпасть под влияние Банти, которая кончила тем, что забрала его у своей соперницы.
LX
Прошло несколько дней, Федеричи, который возвел эту женщину в первую категорию, передал мне приказ, от имени директора, написать две драмы: одну, буффо, музыку к которой должен был написать Мартини, который был в это время в Лондоне; другую, которую я должен был предложить маэстро Франческо Бианчи и в которой должен был написать роль примадонны, предназначенную для Банти. Положение было критическое. Мне следовало придерживаться самого полного нейтралитета, и даже это средство могло меня не спасти. «Горе тебе, – сказала мне Банти, – если Моричелли получит более прекрасную роль, чем я, в опере Мартини!». Что до этой последней, она не говорила ничего, но ее отдельные фразы и настойчивость, с которой она напоминала мне при всяком удобном случае о двух моих операх, в которых она имела настоящий триумф в Вене, раскрывали достаточно ясно глубину ее мысли. Я взялся, не без опасений, за эту работу.
Я выбрал два сюжета, которые были одобрены двумя маэстро, что меня немного ободрило. В три недели «Исправленная кокетка» оказалась в руках Мартини, который, поселившись вместе со мной, не только поощрял мой пыл своим неизменно хорошим настроением, но и воодушевлял воспоминаниями о прошлом. В то же время я вручил Бианчи первый акт «Семирамиды», который он нашел хорошим и безоговорочно одобрил. Все ожидали того, что опера-буффо находится в шаге от представления. Моричелли была вне себя от восторга. Банти, которой со всех сторон доносились всеобщие похвалы музыке и словам «Исправленной кокетки», была от этого в ярости. Она настолько успешно воздействовала на Тейлора, что тот, вызвав меня, приказал окончить в двадцать четыре часа мою оперу. На замечание, которое я осмелился сделать, он разгорячился, и, поскольку я отвечал лишь улыбкой, он добавил, что он не платит мне за ничегонеделанье. Если бы не слуга, вошедший в этот момент с бутылкой портвейна и прекративший перебранку, я не знаю, чем бы закончилась эта сцена. Схватив бутылку он начал пить. Банти, которая при сем присутствовала, стала пить с ним, и я, пока они обменивались замечаниями по-английски, которых я не понимал, ускользнул и затворился в своей комнате, проведя ночь в сочинении второго акта. Я отправил акт Бианчи, который его расхвалил, но ему потребовалось на сочинение к нему музыки больше времени, чем на первый. Чтобы успокоить Банти, он рассказывал ей об опере, которую сочинил в Италии, и та имела наглость представить ее Тейлору как новое творение, написанное специально для нее, и убеждать в этом даже тех, которые слышали ее в Венеции. У меня было ее напечатанное либретто. Я имел неосторожность сказать об этом Федеричи и, из уст в уста, это дошло до ушей Тейлора, который, в гневе, спросил у меня это либретто. Вместо ответа я предложил ему бутылку шампанского, и его гнев утих. После этого, взяв либретто, я бросил его в огонь и пообещал ему не только молчать, но и немедленно исправить мое легкомыслие. Тейлор, который, как я и говорил, имел порой добрые побуждения, проявил в этот момент здравомыслие и дал себя убедить, что Банти и Федеричи ввели его в заблуждение не намеренно. Позднее он признал это в присутствии Бианчи; но когда он вздумал говорить об этом с Банти, она заставила его замолчать. Поскольку в мои обязанности входило заниматься напечатанием и постановкой пьес театра, я сделал анонсы этой оперы, репетиции которой уже начались; поклонники вопили в восхищении, но на представлении, хотя зал был заполнен оплаченными людьми клаки, ни один ее кусок не понравился. Пьеса игралась только два раза; пришлось обратиться к произведению Мартини, которое имело успех, к нашему большому удовлетворению.
С этим полученным успехом, все постарались уговорить нас на создание новой пьесы, которую я и написал, назвав ее «Остров удовольствия». Первый ее акт был прослушан с интересом, со вторым настроения изменились, стали слышны перешептывания, они шли по нарастающей и окончились взрывом; фиаско получился полный. Самое плохое было то, что, предвидя его, я ничего не сделал, чтобы его предотвратить, или, скорее, я не проявил энергии, необходимой для того, чтобы его избежать.
Моричелли спела в Париже в опере «Нина, обезумевшая от любви»[22] поскольку она произвела там очень сильное впечатление, особенно у поклонников, она попросила у меня похожую сцену. Я имел неосторожность указать ей, что сюжет этому не соответствует, что такие вставки, терпимые более или менее в Италии, где либретто воспринимается лишь как аксессуар, назначение которого состоит в том, чтобы способствовать течению музыки, не годятся ни во Франции, ни в Англии, где требуется серьезное действие и интрига; она настаивала и, опасаясь, что она не замедлит отомстить, скомкав свою игру, я имел слабость уступить ее желанию; другая причина целиком зависела от Мартини. Мартини, который до сей поры создавал одни шедевры, выступил на этот раз ниже своих возможностей. Если у гения имеются моменты вдохновения, бывают также и времена упадка, и чем более знаменит автор, тем менее извинительны для него бывают неудачи. Мартини, столь сильный и столь уверенный в себе, в этот момент потерял голову, галантная интрига поглотила его до такой степени, что он был сам не свой. Весь в своей страсти, он писал без вдохновения; за исключением нескольких красивых дуэтов и нескольких приятных арий, тон его музыки был, в основном, холоден, банален и на редкость тривиален. Я это заметил и сделал ему замечание, но бывает трудно заставить автора слушать критические замечания; Мартини выслушивал меня с беспокойством, казалось, соглашался с моими доводами, но ничего не исправлял. Надеясь, что его самолюбие придет нам на помощь, я кончил тем, что замолчал, но это оказалось для нас пагубным. Последствия этой ошибки не замедлили проявиться; пристыженный, опасаясь упреков с моей стороны, тем более действенных, что внутри себя он осознавал их правоту, он стал меня избегать. Это было нелегко, так как он жил у меня. Он принял, наконец, решение покинуть мое жилище и переселиться к Моричелли; наша дружба, столь давняя и столь нежная, от этого пострадала: это был разрыв. Закончился театральный сезон, Моричелли покинула Лондон, и, вслед за ее отъездом уехал Мартини, о чем я глубоко сожалел.
Моричелли была заменена другой певицей, которая, не будучи способной бороться с Банти, уступила ей полностью поле боя. Я осмелился понадеяться на своего рода перемирие, как для меня, так и для всех, связанных с театром; я ошибался.
LXI
Был в это время в Лондоне один француз по имени Летексье, человек значимый в области театра, получивший известность благодаря своему умению представлять в маленьком театре, сконструированном специально для него, комедии с участием различных персонажей, которых представлял он один, изменяя голос, манеру, а часто и костюм. Не могу сказать, то ли, нуждаясь в деньгах, Тейлор обратился к Летексье, то ли Летексье сам пришел с этим к нему, продиктовав ему свои условия, но верно то, что вдруг прошел слух, что Летексье переходит в театр в качестве директора. Так появились две небольшие армии двух генералов, каждая, претендующая на исключительное командование и на уважение к своим приказам. Некоторое время война, которую они вели между собой, была тихая, Банти знала, что ее соперник черпает свою власть в золоте, а Летексье – что его противница обязана ею своему очарованию. В конце концов, Летексье задумал нанести решительный удар как по публике, так и по актерам и по самому Тейлору. Ему следовало завоевать Банти; он, не колеблясь, взялся за это, предоставив ей партию в «Земире и Азоре» Гретри, опере замечательной, учитывая эпоху, в которой она была написана, и, в частности, пригодность для французских глоток. «Вот, – сказал он ей, – опера, что соответствует такому таланту, как ваш; значительно выше «Семирамиды», «Галатеи» и «Меропы», она должна стать вашим триумфом; благодаря этому шедевру имя Банти прогремит в веках в мире гармонии, пока будут живы имена Гретри и Франции». Он убеждал ее и так и этак, пока она, не наделенная блестящим интеллектом, не попала в ловушку и трижды не возгласила: «Земира! Земира! Земира!». Но опера написана была по-французски; как ее перевести, и кто за это возьмется? Под рукой был Федеричи; долгое время он мыслил присвоить себе выгоду поставки либретто; поделившись с Банти, он шепнул ей пару слов на ушко, и она, в восхищении, вырвав партитуру из рук Летексье, вскричала: «Я! Я сама найду переводчика».
Едва Летексье ушел, она объединилась с Тейлором и Федеричи. Трио отрядило Джованни Галлерини к двум предполагаемым поэтам, Бонажюти и Бальдинотти; ему было поручено предложить им двадцать гиней, если они возьмутся за этот труд, при условии передачи прав на копирование Банти и ее покровителям. В две недели музыка была скопирована, декорации нарисованы и костюмы готовы, а поэты еще не принесли и первой сцены. Побуждаемые выполнить работу, они не торопились. Напрасно Летексье, Тейлор и Банти беспокоились, музы этих двух питомцев Парнаса оставались столь же немы, как и идолы Ваала; они лезли из кожи вон, но не могли перевести и странички из этой драмы.
Эти двое несчастных были далеко не на высоте перед поставленной задачей. Хотя Бонажюти и воображал, что умеет писать, публика далеко не разделяла это мнение. Его стихи, тяжеловесные и лишенные гармонии, не выходили за границы убогой посредственности. Что до Бальдинотти, профессионального импровизатора, хотя ему и удавалось там и сям кинуть несколько удачных словечек, его репутация отнюдь не стояла выше; он не написал ни единого стиха, не подвергшись при этом всеобщему осмеянию; и этим двум талантам была поручена столь трудная задача!
LXII
Не стоит заблуждаться, переложить театральную пьесу с одного языка на другой – отнюдь не легкое дело. Искусство складывать стихи – это еще самое малое, что нужно, но когда требуется согласовать стихи и музыку и сделать это таким образом, чтобы поэтические акценты гармонировали с музыкальными нотами, – вот это трудность; подобное искусство дано не всем. Тот, кто берется за решение этой задачи, должен не только обладать музыкальными способностями, но и добавить к ним глубокое знание языка, с которого он переводит, и всего этого они были лишены.
После трех недель ожидания директор потребовал от них партитуру, и они со смирением вернули ее в том виде, как и получили, признавшись в своей беспомощности.
Я благоразумно оставался в стороне от этого предприятия. Убежденные, что я не в курсе всех деталей, Тейлор и Федеричи явились ко мне, как будто ничего не произошло.
«Синьор да Понте, – сказали они мне, – настал момент вам блеснуть вашим талантом, мы принесли вам пьесу для перевода».
При этой наглости, которая задела меня сверх меры, я готов был сказать им, что человек порядочный не компрометирует себя связью с канальями, но я был женат и был отцом! Может быть, и небольшая доля самолюбия повлияла на мое решение. У меня хватило силы сдержаться и ответить:
– Условия моего контракта таковы, что я сочиняю или перевожу только тексты опер на новую музыку; однако если администрация хочет выплатить мне пятьдесят гиней, я переведу эту.
– И кому будут принадлежать права на ее исполнение? – заметил Федеричи.
– Кому вы хотите.
– И сколько времени вам на это требуется?
– Восемь дней.
Они не добавили ни слова и ушли, оставив мне партитуру.
Я тут же взялся за дело; в сорок восемь часов оно было завершено. Я отправился к одному из моих друзей, хорошему музыканту и человеку со вкусом. Я прочел ему мой перевод; за исключением нескольких легких изменений, слова как нельзя лучше ложились на музыку. На третий день я вернул партитуру Летексье, но заметил, что отдам перевод только после получения причитающихся пятидесяти гиней. Он явился ко мне, делая вид, что возмущен моим поведением; я держался стойко, и несколько часов спустя, понуждаемый необходимостью поставить эту пьесу, от которой он надеялся получить и славы и пользы, он отсчитал мне мои деньги, говоря: «Да Понте, вы заслуживаете этой суммы, но те… они заслуживают… – палок», закончил я за него фразу.
«Земира и Азор» была поставлена с большим блеском в оформлении, что отнюдь не помешало ей провалиться; на языке театра, она потерпела фиаско. Все на ней потеряли: Федеричи свои пятьдесят гиней, что я потребовал, плюс распечатку либретто, доход от продажи которых не покрыл расходов; Галлерини – пять или шесть гиней, которые он выдал авансом Бальдинотти; Банти – все свои надежды на успех. Она обратила свои взоры в сторону «Семирамиды», но Тейлор настаивал на «Исправленной кокетке», побуждаемый, должно быть, знатоками хорошей музыки, которые заверяли его, что он не найдет лучшей. Только я посмеивался, пересчитывая мои пятьдесят гиней и ожидая в сотню раз больше, как и происходило в моей жизни. Невинное возмещение мне от тех, кто согласился на меня лишь за неимением лучшего.
LXIII
То ли по причине успешного дебюта моей первой оперы, то ли по другой неизвестной мне причине, Тейлор стал относиться ко мне искательно. Он стал часто приходить ко мне с визитами, он сопровождал меня в моих долгих прогулках, выслушивая мое мнение относительно многих дел, относящихся к его театру или его частным интересам, словом, он проявлял глубокое уважение к моим советам и моим соображениям. Однажды вечером, когда я находился у него в компании втроем, вместе с Банти, он спросил у меня, тоном безразличным, не могу ли я достать для него денег. «Каким образом и откуда?» – спросил я. Он достал из портфеля пачку обменных векселей, индоссированных Федеричи. Я взял у него один, на три сотни фунтов стерлингов, и, не дав себе труда подумать, обещал попытаться его продать, на что он тотчас согласился. Уже находясь на пороге я спросил у себя, как я мог взяться за подобное дело и к кому я мог бы обратиться, чтобы достать эти деньги. Я, поэт, находящийся в самом ненадежном положении, получая жалование из самых скромных, едва зная, что из себя представляет обменный вексель, и столь полностью чуждый словарю коммерции и понятиям об индоссаменте, коммерции, ажио и тому подобном! Добрый или злой гений, пришедший мне на помощь, дал мне вспомнить, что, прибыв в Лондон, нуждаясь в деньгах и желая заложить кольцо с бриллиантом, я зашел в лавку, на дверях которой было написано: «Деньги», и что молодой человек, находившийся там, предложил мне, с большой приветливостью, за него шесть гиней, когда оно стоило не менее двенадцати. Я завернул туда, нашел там того же персонажа и представил ему мой вексель. Он его взял, оглядел со всех сторон и кончил тем, что ответил, что если я желаю взять какие-нибудь украшения, он выдаст их мне в пересчете на требуемую сумму. Получив мое согласие, он выложил передо мной несколько предметов, среди которых я выбрал часы с репетицией, которые он оценил в двадцать две гинеи и которые стоили едва пятнадцать, затем он подписал мне чек на банк Лондона на остальное. Я протянул руку, чтобы его взять, когда он подал мне перо, предлагая поставить свою подпись на этом обменном векселе пониже подписи Федеричи. Не понимая ни значения, ни обстоятельств такого действия и полагая, что выполняю лишь обычную формальность, я проделал это. Но едва было подписано мной имя, как мне вспомнился Казанова и его слова избегать любых подписей в Лондоне, я задрожал как лист и внутренний голос мне вскричал, что я пропал. Зло было неотвратимо. Я вернулся к Тейлору и выложил ему банковский чек и часы, которые Банти схватила и без лишних слов положила себе в карман. Тейлор, который уже неоднократно проделывал подобные дела при посредничестве Федеричи и Галлерини и который никогда не извлекал более семидесяти или восьмидесяти процентов от этих векселей, был приятно удивлен и этим результатом и выгодностью сделки. Он выразил мне свою благодарность. Что же до Банти, она прыгала от радости; «Браво, Да Понте, – вскричала она, – вас ждет успех!». Исполнение ее обещания не заставило себя ждать. Не далее как на следующий день директор представил мне новый контракт, в котором мой гонорар возрос на сотню фунтов стерлингов и было добавлено множество других начислений и преимуществ – условия, которые некоторое время представлялись мне весьма выгодными. Поэтому я с чувством живейшей радости поблагодарил Тейлора, и наши отношения становились раз от разу все более близкими. Однажды он сказал мне доверительно, что ему нужны три или четыре тысячи фунтов стерлингов, и что он не сомневается в моей способности их ему достать. Он попросил меня об этом столь ласково, что я предложил ему располагать мной, и имел несчастье в этом преуспеть.
Срок платежа по первому векселю истекал. Не осмеливаясь обращаться к тому же ростовщику, я решил пойти ко второму, затем – к третьему. Потратив эту сумму, Тейлор попросил меня о следующих. Короче говоря, векселя, которые я сбывал, чтобы удовлетворять его капризы и потребности в мотовстве, превысили менее чем за год сумму в шесть с половиной тысяч гиней; я стал его казначеем, агентом по снабжению, словом, его фактотумом и, соответственно, доверенным лицом. Отправлялся ли он за город, в соответствии с сезоном, когда театр был закрыт, – да Понте доставал необходимые деньги; кончались ли вина в его погребе – да Понте доставал их в кредит; персонал театра просил денег – пусть обращаются к да Понте. Словом, да Понте стал человеком, к которому должны были все обращаться.
Мои успехи в этой области деятельности возымели такой резонанс, что со всех сторон ко мне обращались с такими же просьбами. Я стал снабженцем для всех тех, кто имел нужду в деньгах. Речь тут не идет об актерах, которые мною не пользовались, и обо мне, счастливом быть полезным моим соотечественникам; я не считался с риском, которому подвергался. Такая жизнь продолжалась три года.
Со своей стороны, Банти продолжала оказывать мне знаки особого внимания. Она осыпала меня лестью, клялась мне в верности, хвалила мой характер, мое старание в работе и порой даже рисковала высказывать хвалы мне лично. Не смею сказать, что она со мной кокетничала, однако слова, которые она мне высказала позднее, и ее поведение со мной могли бы позволить мне без фатовства высказать такое предположение.
Наступил сезон отпусков; Тейлор выехал за город, Банти и ее семейство последовали за ним. Он пригласил меня приехать провести там некоторое время вместе с женой. Хотя и находя неподобающим вводить мою жену в контакт с его любовницей, я, учитывая свое положение, не смог отказаться. Когда он устроился на месте, мы выехали, чтобы к ним присоединиться. Банти встретила нас любезно, с улыбкой на устах. Но несколько минут спустя, встретившись со мной наедине и сменив выражение лица и манеру, она бросила мне: «С женой! Ты об этом пожалеешь». Эта угроза вполне реализовалась!
LXIV
Мы провели у Тейлора три дня, во время которых я имел возможность глубоко изучать его характер и все более убеждаться, что, имея возможность следовать своим собственным наклонностям, этот человек был лучшим из людей. Во время одной из наших частых бесед он спросил, не хотел ли бы я совершить путешествие по Италии, – меня, самым горячим желанием которого было снова увидеть моего отца и мою семью, после более чем двадцатилетней разлуки! Я не мог выразить всю мою радость и после моего ответа, данного при всех, о желании совершить это путешествие, он сказал, что, вполне доверяя моей порядочности и моему вкусу, он предоставляет в мое распоряжение сотню гиней, предназначенных на то, чтобы компенсировать частично мои расходы, если я готов выехать немедленно, поручая мне в то же время найти для его театра примадонну буффо и тенора, которые ему нужны. Можно представить, с какой готовностью я встретил это предложение; отправившись сразу в Йоркшир, я купил там легкую коляску и, объединив свои денежные ресурсы, заимел, как в деньгах, так и в драгоценностях, сумму в тысячу фунтов стерлингов. Окончив приготовления, я отплыл в Гамбург. Мое путешествие было коротким и счастливым: выехав из Лондона 2 октября, я был 10 уже в Гамбурге, без всяких приключений, и 2 ноября заночевал в Кастельфранко.
Прибыв в этот город, недалеко от Венеции и от Ченеды, и желая вполне самому насладиться радостью и удивлением, что сулило мне мое возвращение в семью, я оставил свою прекрасную и молодую компанию по путешествию в Кастельфранко и назначил ей рандеву в Тревизо. Тревизо расположен лишь в двенадцати милях от Кастельфранко. Мы должны были встретиться там утром 4 ноября. Я поехал и прибыл вечером в Конельяно, что расположен всего в восьми милях от Ченеды, моей дорогой родины.
Еще немного, и я оказался в дверях отчего дома; в момент, когда ноги мои коснулись земли, где стояла моя колыбель и где я вдыхал теплые дуновения родных небес, что вскармливала меня в течение стольких лет юности, я ощутил трепет во всех моих членах; такое чувство узнавания и благоговения протекло по моим венам, что я оставался в течение некоторого времени неподвижным и как бы неспособным двинуться с места. Я не знаю, сколько времени я был бы в этом состоянии, если бы не услышал неожиданно с высоты балкона голос, который, казалось, нежно потряс мое сердце и который я сразу узнал.
Я высадился из почтовой коляски на некотором расстоянии от отчего дома, чтобы не привлекать внимания и не дать понять стуком колес и топотом копыт о прибытии в город иностранца. Моя голова была укутана платком, который спадал мне на лицо, из страха, чтобы при свете фонарей меня не узнали из окон; и когда я, постучав робко в дверь, услышал с высоты балкона: «Кто это?», я постарался изменить звук своего голоса и сказал только: «Откройте!». Но этого единственного слова было достаточно, чтобы меня узнала, по звуку голоса, та из моих сестер, что меня услышала, и, издав громкий крик удивления и радости, бросилась к остальным моим сестрам: «Это он! Это Лоренцо!».
Они молниеносно все подбежали ко мне по лестнице, бросились взапуски мне на шею, почти задушив в объятиях и покрыв поцелуями, отвели меня к моему бедному отцу, который, заслышав мое имя на лестнице и затем увидев меня у своих ног, остался неподвижен и почти окаменел в течение нескольких мгновений.
Помимо радости и удивления от моего неожиданного появления, было еще одно предшествующее обстоятельство, которое делало это удивление и это счастье бесконечно более для него поразительным, потому что этот день был как раз вторым днем ноября или днем Поминовения усопших, траурным днем, особенно отмечаемым во всех католических странах.
LXV
В этот день все родичи и друзья дома встречались вечером, чтобы провести несколько часов вместе в кругу семьи, в невинных развлечениях. В этот момент мой отец, находясь за столом, окруженный дочерьми, зятьями, внуками и внучатыми племянниками, пригласил их выпить за мое здоровье и, произнеся тост, поднялся со стула и сказал: «За здоровье нашего Лоренцо, которого нет с нами уже столько лет, и помолимся Господу, чтобы он оказал нам милость увидеться прежде, чем я умру!». Стаканы еще не были опустошены, когда услышали стук в дверь и крики «Лоренцо! Лоренцо!» раздались во всех уголках дома.
Надо не иметь сердца в груди, чтобы при событии столь естественном не представить себе состояния старика, которому перевалил восьмой десяток. Что до меня, я могу это представить себе по тому, что почувствовал сам. Мы оставались сплетенными подобно лозе вокруг дерева в течение нескольких минут, и, после исчерпания поцелуев, ласк, объятий, которые длились, прекращались, возобновлялись вплоть до двенадцати часов ночи, я слышал в дверях дома крики радости, смущенные голоса, которые громко возглашали: «Лоренцо! Лоренцо!». Эти крики привлекли меня к окну, я увидел при свете луны толпу людей, просивших разрешения войти. Дверь была открыта, и вот – вся комната наполнилась моими добрыми дорогими друзьями из города, которые, при известии о моем возвращении, прибежали, чтобы меня увидеть. Я действительно понял в этот вечер, какой радостью может наполниться сердце человека и насколько прав стих поэта:
– Dulcis amor patriae, dulce videre suos[23].
Оставляю подумать тем, кто умеет любить, о впечатлении, которое произвело на меня присутствие всех этих друзей, более или менее дорогих, пришедших, после двадцати лет разлуки, отпраздновать мое возвращение, среди ночи, как если бы их нетерпение не позволяло дождаться дня. После бесед между ними и мной мы расстались. Тогда мой отец пожелал, чтобы я пошел, наконец, отдохнуть, и предложил мне половину своей кровати, чтобы нам лечь вместе. Я прилег рядом с добрым стариком и увидел, как он преклонил колена перед распятием, укрепленным на стене над второй кроватью, чтобы произнести обычные молитвы; они длились почти полчаса, и я слышал, как они окончились словами, произнесенными прочувствованным голосом, – словами из Псалма:
«Господь, отпусти теперь слугу твоего, которому нечего у тебя просить!».
После молитвы он лег на кровать и, протянув ко мне руки, сказал: «О, мое дитя, теперь, когда я тебя снова увидел, я умру довольный!». Он смахнул слезу, и мы некоторое время оставались в молчании, ожидая сна; но, слыша вздохи, более глубокие, чем обычно, этого нежного отца, я просил его сказать мне причину его бессонницы. «Спи, спи, дитя мое, – ответил он мне с новым вздохом, который не мог удержать, – мы поговорим завтра».
Мгновение спустя он, казалось, задремал, и я заснул, наконец, сам. Проснувшись утром с восходом солнца, я увидел, что нахожусь в кровати один; он тихо поднялся до света и отправился с раннего времени на рынок, чтобы купить самых хороших фруктов и самых изысканных яств сезона к завтраку и обеду. Мои младшие сестры, их мужья, дети тех, кто их имел, мои два младших брата Энрико и Паоло, все стояли у двери комнаты, готовые подойти при первых звуках, которые возвестили бы о моем пробуждении; я не знаю, то ли движение, мое дыхание или скрип кровати известили их, что я проснулся, единственно, что я знаю, это что внезапно я увидел всех их разом и толпу мужчин, женщин и детей, раскрывших двери и бросившихся беспорядочно к моей кровати, чтобы меня обнять, поцеловать и почти задушить в объятиях, поцелуях и ласках. Немного погодя после этого вторжения пришел мой отец; этот добрый старик был нагружен сверх сил фруктами и букетами, так что мгновенно моя кровать была заполнена всем этим добром; они буквально затопили меня с ног до головы, испуская крики радости. В этом потоке нежностей маленькая симпатичная служанка принесла мне кофе, вся компания расположилась около кровати, я сел на ней, все также уселись и принялись самозабвенно угощаться в семейном кругу.
LXVI
По правде говоря, я не припомню, за всю свою жизнь, ни до ни после этого, сцены веселья и поздравлений, сравнимой с этим утром в Ченеде. Я воображал себя скорее среди ангелов Рая, чем среди смертных обитателей этого нижнего мира. Эти молодые женщины, мои сестры, были все очаровательны, но Фаустина, самая младшая из семи сестер, была настоящий ангел красоты; я предложил ей, в шутку, отвезти ее со мной в Лондон; мой отец соглашался, но она не отвечала ни да, ни нет; я предположил, не без оснований, что, хотя ей только исполнилось пятнадцать лет, она уже не вполне являлась хозяйкой своего сердца. Незаметно перешли к другим темам.
Поскольку никто не говорил со мной о двух других моих братьях, Джироламо и Луиджи, унесенных смертью во цвете лет, я остерегался сам произносить их имена, чтобы не омрачать грустными воспоминаниями радость этого прекрасного дня. Но новый грустный вздох, вырвавшийся у моего отца, напомнил мне его тяжелые вздохи прошедшей ночи, и я снова спросил у него об их причине; он мне не ответил, но я, заметив, что его глаза снова наполняются слезами, слишком хорошо понял их причину и постарался сменить тему. До той поры я не заговаривал, ни много ни мало, о дорогой компании моего путешествия, я счел, что это будет благоприятный момент для того, чтобы упомянуть о моем семейном счастье, и, чтобы вернуть на губы веселье, которое едва сдерживаемые слезы отца изгнали с лиц, я заговорил о следующем:
– Не думайте однако, мои сестрички, что я прибыл из Лондона в одиночку, лишь чтобы снова повидать мою страну; я привез с собой прекрасную молодую женщину, которая станцевала, как и вы, на этом театре, и которую я, возможно, буду иметь удовольствие вам представить, завтра или послезавтра, как восьмую вашу сестру.
– Так ли она прекрасна, как вы ее представляете? – спросила Фаустина.
– Еще прекрасней, чем ты, – отвечал я.
– Посмотрим! – отвечала она.
Это небольшое соревнование в красоте вернуло всем хорошее настроение; мы оставались еще некоторое время вместе, в конце концов, все они вышли, чтобы дать мне возможность одеться. Один отец остался со мной.
Его сердце нуждалось в утешении, я подумал, что настало время поговорить о двух его сыновьях, ушедших во время моего отсутствия. «Ах, если бы эти два бедных ребенка были сейчас с нами, – воскликнул он, – как были бы счастливы они и мы!». Мы оба заплакали, он – о своих сыновьях, а я – о своих братьях; я попытался его утешить, пообещав, что, перед тем, как уехать из Ченеды, я покажу ему нечто, что немного смягчит его боль от потерь в семье, которые мы понесли.
Мы незаметно вновь вернулись к веселью; я отправился вернуть визиты всем тем, кто посетил нас накануне вечером; я вновь увидел кое-кого из моих старых друзей юности, которые встретили меня с радостью и нежной сердечностью, отвечающим моим собственным чувствам, и только ко времени обеда, после полудня, я предупредил друзей и семью, что должен уехать, не позднее чем завтра, в Тревизо, и, возможно, в Венецию.
Четвертого ноября я действительно собрался выехать в Тревизо. Моим намерением было вернуться поскорее в Ченеду, вместе с женой. Я предполагал взять с собой в это маленькое путешествие самую молодую из моих сестер, Фаустину, и моего младшего брата, Паоло, который уже знал мою жену тогда, когда она была еще моей невестой, в Триесте. Но едва слух о моем отъезде распространился по городу, как вся окрестная молодежь собралась у дверей, чтобы дождаться, как я выйду из дома. Я думал, что это сделано для того, чтобы пожелать мне счастливого пути и скорейшего возвращения – не тут то было: это было для того, чтобы умолять меня не увозить с собой прекрасную Фаустину, и, поскольку эти моления носили характер недоверия и почти угрозы, я вынужден был клятвенно пообещать, что верну ее в Ченеду не позднее чем через три дня…
Мы прибыли в тот же день в Тревизо; моя жена, против моего ожидания, прибыла туда только на следующее утро; я стоял у окна гостиницы, ожидая ее с нетерпением, когда увидел подъезжающую коляску; я бросился с лестницы, чтобы схватить ее в свои объятия. Мой брат, который забавлялся моим нетерпением ее увидеть и беспокойством по поводу ее опоздания на несколько часов, ожидал увидеть всего лишь танцовщицу театра, как я и говорил в Ченеде. «Сейчас мы увидим, наконец, эту несравненную жемчужину, более прекрасную, чем ты!» – говорил он Фаустине. Мы поднялись по ступенькам, моя молодая жена и я; поскольку на ней была вуаль, прикрывающая лицо, мой брат, который помнил о черной вуали в Триесте, которую я приподнял из шутки в первый раз, когда я ее увидел, сделал тот же жест, что и я; Он любил нежно того ребенка в Триесте, который теперь стал моей женой. Он расспрашивал меня тысячи и тысячи раз о ней; я отвечал ему всегда в общих чертах, не давая понять и предположить, что моя Нэнси – это и есть та, на которой я женился. Как же вообразить и обрисовать его удивление при ее узнавании? При том, что Фаустина была действительно красавицей и достаточно гордой, чтобы вполне сознавать, насколько ею любуются, она не могла удержаться, чтобы не воскликнуть: «Это правда, это правда, она еще красивей, чем я!». Это удивление стало первым и самым большим удовольствием, что я испытал в Тревизо.
Однако и другие эмоции и не менее сильная радость, хотя и несколько иной природы, были мне уготованы, едва распространился шум о моем прибытии, когда один из моих самых дорогих друзей, Джулио Тренто, посетил меня, и когда за ним последовала через двадцать минут толпа других. Большинство из них были люди, занимавшие почетные должности, исполнявшие важные функции в городе, которые в молодости учились под моим руководством в семинарии. Ни протекшее время, заставившее, в основном, забыть многих друзей, ни их успехи и занятое положение, повыше моего, не остановили порыв их сердца и не помешали прийти и приветствовать меня именем, которому я остался верен – «их дорогого учителя». Они поведали мне, что Бернардо Мемо стал их согражданином. Это заставило меня, в свою очередь, прибежать к нему, и вид этого просвещенного и достойного друга стал еще одной из радостей, что я получил в этом путешествии, которое не забуду в жизни. Тереза была все время с ним, вдова, подурневшая, отягощенная годами и располневшая, но всегда идол этого совершенного человека, помыслами которого она владела.
LXVII
Я пребывал в нерешительности относительно того, чтобы вернуться в Ченеду, поскольку помнил, что главной целью моей поездки в Италию было поручение, которое дал мне Тейлор. Прослышав, что в Венеции я найду двух весьма известных примадонн, принадлежащих тамошнему театру, я решился поехать за ними. Я поручил моей жене вернуться к моему отцу, вместе с моим братом и Фаустиной, и направился в одиночку в Венецию, занятую немцами, которые установили там тираническое правление. Там у меня явился случай излить свое сердце друзьям относительно двух тем: одной – в области моих личных обстоятельств жизни, а другой – о несчастьях моей невезучей родины. Я выслушал множество прискорбных рассказов об этом благородном городе, пришедшем в упадок; однако, насколько эти рассказы были далеки от того, чему я должен был быть свидетелем в те двадцать четыре часа, что там находился!
Я порадовался, посетив площадь Сан-Марк, которую я не видел двадцать лет; я вышел на нее со стороны колокольни, откуда открылся мне вид на весь ансамбль. Каково было мое потрясение, когда я обнаружил в ее обширном пространстве, обычно заполненном беспечной и смеющейся толпой, лишь изоляцию и тишину; напрасно я обращал взор во всех направлениях, я обнаружил лишь семерых прохожих. Мое разочарование стало еще больше, когда, прогуливаясь под аркадами так называемых Прокураций, я увидел все тамошние кафе пустыми. В одиннадцати или двенадцати, мимо которых я проходил, я насчитал едва двадцать две персоны. При пересечении последней аркады мои взоы поразила гротескная фигура. Я подошел и узнал Габриеля Дориа, сына повара того несчастного Барбариго, адвоката из Тревизо, которого нанимали реформисты и который столь подло вел себя в том злополучном процессе, на котором я защищал мои тезисы. Этот Габриель, ангел новой формации, был отнюдь не тот Гавриил, который:
– Переносил на землю повеления небес и относил Богу моления смертных.
Его поручения были совсем иной природы. Вот, в двух словах, его общественное положение и его история.
LXVIII
Задолго до моего отъезда из этого города была там одна замужняя женщина, у которой я квартировался и которой брат был женат на дочери флорентийца, молодой приятной особе, прелести которой однако отнюдь не помешали ему завести любовницу, которая покорила его до такой степени, что он желал смерти своей жены.
То ли из любопытства, то ли следуя своим подозрениям, эта женщина, роясь однажды в карманах своего мужа, нашла завалившуюся за подкладку пачку писем, одно из которых содержало следующие строки:
«Недалек день нашего счастья; моя жена, которую я ненавижу, вскоре станет матерью; я сам буду ее акушером, и страдания наши кончатся. Я сделаю так, что она уснет… ты меня понимаешь. Моя сестра в курсе».
Вечером того дня, когда она сделала это открытие, я вернулся домой в обычное время. Она была одна в своей комнате; она видит меня, зовет, передает эти письма и просит унести к себе и прочесть. Не могу описать ужас, который я ощутил. Эта женщина обожала своего мужа, она была образец нежности, чистого нрава и сдержанности. Я относился к ней с уважением и привязанностью; может быть, у другого мужчины эти чувства стали бы источником опасности, но я взял себе за правило никогда не склонять замужнюю женщину к нарушению своего долга. В таких обстоятельствах я был бы вовлечен в преступление, если бы не использовал все мои возможности, чтобы спасти эту несчастную. Я направляюсь к ее отцу, нахожу старика, отягощенного годами и лишенного энергии, который ограничивается тем, что пускается в слезы; он, впрочем, неспособен предоставить ей убежище в своем жилище, едва достаточном для него самого. У меня в городе был кузен, респектабельный отец семейства; я обратился к нему; он согласился предоставить комнату этой несчастной, которая, прибыв к нему в шесть часов вечера, в девять родила. Я обратился к Загури и, рассказав ему о случившемся, передал ему письма, содержащие доказательства. Я возвращаюсь к себе в десять часов и нахожу двери моей комнаты запертыми; я стучу, и голос изнутри мне отвечает: «Не пустим».
Вынужденный провести ночь в отеле, я возвращаюсь назавтра к Загури, который, завидев меня, заявляет:
– «Вы хорошо сделали, что принесли и отдали мне эти письма, потому что, когда я проводил вчерашний вечер у члена Совета Трех, к нему пришел Дориа и попросил у него секретной аудиенции и сделал заявление, в ходе которого Инквизитор, вернувшись в салон, набросился на меня со следующими словами:
– Ваш протеже да Понте принялся за свое; не удовлетворяясь тем, что соблазнил жену уважаемого гражданина Венеции, он подговорил ее покинуть семейное обиталище и, в завершение скандала, поселил ее у себя.
Вместо ответа я предъявил ему все доказательства; тогда он обратил все свое возмущение против вашего обвинителя. Сейчас вы можете спать спокойно, вы белы как снег».
Между тем «уважаемый гражданин» продолжал вполне свободно встречаться со своей любовницей. Его жена отправила ему ребенка, которого родила; он поместил его в сиротский приют, я же… вопреки всем законам, на которые я полагался, и правилам, которыми руководствовался, что я могу сказать?… Должен ли я признать здесь слабость, в которой я сотню раз себя упрекал, и в которой сотню раз раскаивался?… Может ли мой пример послужить для тех, кто, слишком понадеявшись на себя, не хочет признать справедливость этой аксиомы:
– От любви может спасти только бегство; я тут действовал по другому; уверенность, которую внушил мне Загури, сугубая близость мужа со своей любовницей и, прежде всего привязанность, которую я принял за сострадание, чувство вполне естественное, усиленное еще мыслью об опасности, от которой я избавляю эту несчастную, все это меня увлекло…
Я вырываю эту страницу из мемуаров.
LXIX
Я возвращаюсь к моей встрече с Дориа. Он встретил меня с приветствием, которое я ему возвратил; после нескольких вопросов о том, о сем, он заговорил со мной о флорентинке, он поведал мне, что она помирилась со своим мужем, и назвал мне ее место жительства. Не собираясь ничего от него скрывать, я сказал, что пойду с ней повидаться, что и сделал. Я был встречен с радостью, которую испытывает сестра по отношению к любимому брату. Остальные члены семьи и сам муж осыпали меня любезностями и изъявляли радость меня видеть. Мы расстались не то чтобы благожелательно, но по-дружески; оттуда я пошел навестить нескольких друзей, среди них Перручини и Люкчези, который, в Триесте, был ко мне столь добр. Загури не было; что до Джованни Пизани, который вновь обрел свободу, он передал мне, что в настоящее время находится в Ферраре. Название этого города пробудило во мне воспоминание о феррарке и желание ее повидать. Она встретила меня с изъявлениями радости и, когда она узнала, что я нахожусь в Венеции с целью заключить контракты на ангажементы в театр Лондона, она удвоила свои ласки; но при всем желании сделать ей приятное, я не счел благоразумным подавать ей какую-либо надежду, не убедившись, что она не потеряла своих возможностей. Я знал, что после своего отъезда из Вены она уже появлялась в лондонском театре и была встречена публикой весьма холодно; я высказал ей свое желание услышать ее пение; она не заставила себя упрашивать, но, воздав должное ее таланту, я не счел ее на высоте в том амплуа, которое ей предназначалось; сменив тему, я развлекся описанием ее амуров; она заверила меня, что в настоящий момент пребывает без кавалера, и попросила сопроводить ее в театр. Я нанял гондолу и, поскольку у нас было еще несколько часов до начала спектакля, приказал лодочнику остановиться у кафе и заказать мороженого. Когда он отошел, она взяла мою руку и, нацелившись своими глазами в мои, с бесцеремонностью театральных женщин, сказала:
– Ты знаешь, что ты стал красивей, чем раньше?
– К сожалению, я не могу сказать тебе того же, – ответил я ей.
Она замолчала, краска бросилась ей в лицо и, мне казалось, слеза скользнула по ее щеке; я почувствовал раскаяние, взял ее руку, пожал ее и свел разговор к шутке, добавив, что отныне, закончив мою галантную жизнь женитьбой, я решил не заговаривать более о любви, а особенно с ней. Это словцо «особенно», казалось, ее утешило; принесли мороженое и, когда вернулся гондольер, не о чем было больше говорить. Мы направились в театр, где играли «Короля Теодоро» Касти; примадонна была превосходная актриса; узнав, что она ангажирована на ближайший карнавал, я счел бесполезным говорить с ней о Лондоне. По выходе из театра мы направились ужинать в компании двух других певиц, очень красивых, но я был в поиске таланта, а не красоты. Отведя феррарку домой, я вернулся к себе в отель, довольный собой, моими визитами и моими друзьями. Следующий день, 8 ноября, был наполнен памятными для меня событиями. Я вышел довольно рано, намереваясь вновь увидеть Венецию во всех ее проявлениях. Я вернулся на площадь Сан-Марко, которая не была на этот раз заполнена народом, как ранее. Зайдя в кафе, где собрались несколько молодых людей, я прислушался к их беседе; они говорили о политике и обсуждали текущую ситуацию.
– Читали ли вы новые ордонансы, расклеенные на стенах?
– Их распространяют в таком изобилии, что трудно их не прочитать.
– Там затрагивается вопрос о новых налогах на мясо и вино.
– Которые пока еще не очень значительны, не правда ли? Что с нами будет?
– Народ мрет от голода.
– В таком положении они хотят их сократить.
– Когда же прекратится это притеснение?
– Когда петух пропоет[24].
На эти слова хозяин кафе, обеспокоенный, поспешил попросить их не компрометировать его:
– Во имя Бога! – воскликнул он умоляюще, – молчите! Я не думаю, что кто-то из вас желает обречь свою спину батогам!
Он рассказал им, что два дня назад по улице шла группа людей, оживленно разговаривая, и несколько солдат, решив, что это диспут, подошли к тем, кто говорил громко, и, обойдясь с ними грубо, отвели в кордегардию, где, поскольку ни офицер, ни солдаты не говорили по-итальянски, они не смогли объясниться, и им пришлось провести там ночь. Указав затем молодым людям другую залу, откуда их не могли услышать с улицы, он убедил их перейти туда, что они и проделали. Оставшись один, я ушел из этого кафе, с сердцем столь же сокрушенным, как если бы я находился у могилы моей матери, и вышел на Пьяцетту; я нашел ее столь же пустынной, как и остальной город, хотя это было место, где располагался рынок. Я подошел к продавцу рыбы, чтобы спросить, подверглась ли его торговля также увеличению налога. Старик, бледный, изможденный, одетый в рубище, выглядящий как нищий, приняв меня за покупателя, приготовился предложить мне то, что, как он предположил, я собираюсь купить. Повернув машинально голову, чтобы ответить ему, я увидел, что он отшатнулся и воскликнул: «Великий Боже! Лоренцо да Понте!». Это был благородный брат той женщины, которая в течение трех лет составляла несчастье моей жизни, которой я пожертвовал прекрасной Матильдой и дочерью Маски из Ридотто. Состояние убожества, в котором я встретил этого несчастного, пробудило мое сочувствие, я забыл все его мерзости и гнусности его сестры; я набросил мое пальто на его плечи и позвал за собой; я усадил его в гондолу, которая отвезла нас в мою гостиницу. Я приказал гондольеру остановиться около старьевщика, чтобы заказать для него комплект одежды. Оказавшись у себя, я дал этому несчастному время привести себя в порядок, и вышел, чтобы оплатить счет старьевщика за одежду для него. Я вернулся, застав его в моей комнате, и не могу сказать, кто из нас был более счастлив – благодетель или благодарный; побритый и приведенный в порядок, он был уже другой человек. Я нашел в нем даже некоторые из его прежних аристократических привычек. Я заказал завтрак. Во время еды он несколько раз пытался засвидетельствовать мне свою благодарность, но слова замирали у него на губах; наконец, поддавшись чувствам, он взял мою руку и поцеловал. «Моя сестра умерла, – сказал он, заливаясь горючими слезами, – как жаль, что она уже не в этом мире, чтобы самой убедиться в той потере, которую она совершила, расставшись с вами!». Я посочувствовал ему от всего сердца и просил, чтобы он мне поведал, в силу каких обстоятельств я нашел его в столь плачевном состоянии.
LXX
– Вы знаете мою семью, она, вне всякого сомнения, одна из самых знатных и самых древних в Венеции; она насчитывает в своих рядах Дожей, Прокураторов Св. Марка, генералов, прелатов и знаменитых администраторов; мой предок был послом в Константинополе и совсем недавно один из моих дядей был Инквизитором; но ни один из них не достиг богатства и все их благополучие основывалось на доходе от их должностей. С падением Республики они рухнули и более трех сотен фамилий обрушились вместе с ними в нужду и унизительное положение, в котором вы меня видите, я – еще ниже прочих, потому что моя юность протекала в разгуле и я не получил никакого образования. Я оказался без состояния, без талантов, без будущего, вынужден содержать жену, четверых детей и свою сестру, и, если не считать сострадания нескольких добросердечных людей, низкого занятия, к которому я вынужден прибегнуть, едва хватало мне на хлеб. Во имя Бога, Лоренцо, бегите из этого города, вы не сможете существовать здесь в безопасности, это уже не та Венеция, которую вы знали, та, с током и плащом Святого Марка, который ею управлял. Теперь мы не трепещем лишь перед тремя нашими властителями, сегодня наших угнетателей множество. Из страха или по политическим соображениям они разрушили нашу торговлю, уничтожили наши мануфактуры, приумножили наши потребности, уменьшив наши ресурсы, тем самым посеяв между нами разлад; все избегают, сторонятся друг друга, возникло недоверие, неприязнь, вплоть до взаимных доносов. В довершение всех бед, наша крепкая молодежь, которая, за счет своей работы содержит семью, вынуждена бежать и умирать на чужих берегах, где ее заставляют биться вдали от своей родины, а иногда и против нее; с нами остались только женщины, дети и старики. Такова сегодня Венеция.
При этих словах лицо его преобразилось; это не был уже тот игрок из Ридотто или нищий с рыбного рынка, что стоял передо мной: его жесты были живы, речь трепещущая, глаза озарялись вспышками гнева. Мне казалось, что я слышу голос Давида или Иеремии, плачущего на развалинах Вавилона или Иерусалима. При этом повествовании о деградации былого руководства и низости его инстинктов велико было мое удивление встретить у него столь высокое суждение, и столь справедливое, об унижении нашей общей родины:
Dat intellectum vexatio[25].
Мы оставались вместе более двух часов. Я заставил его, без особого сопротивления с его стороны, принять от меня дюжину цехинов, затем он меня покинул, осыпав кучей благодарностей. Больше я его не видел.
LXXI
Можете представить, какое впечатление должны были произвести на меня эти слова, которые так ясно объясняли то, что я слышал и наблюдал собственными глазами, охваченный горячей любовью к этой моей родине, которая, хотя и была несправедлива ко мне, была, тем не менее, в моих глазах самой великой и прославленной в мире; эта родина, которая и по своему происхождению, и в том, что касается своих первоначальных законов, своих побед, своих монументов, своего блестящего прошлого, и в том, что касается, наконец, характера ее детей, заслуживала иной участи! Не награждали ли во все времена властители и народы венецианцев именем славных! Существовала ли нация более благородная, более щедрая, более великодушная? Не сохранила ли она эти античные добродетели, несмотря на блеск, привнесенный в нее ее торговыми успехами и победами, несмотря, наконец, на превратности времен, чья миссия есть все уничтожать?
В то время, как я оставался погружен в эти грустные размышления, в мою дверь постучали; я открываю и вижу юного мальчика с довольно миловидным лицом, который очень вежливо спрашивает, не желаю ли я побриться и причесаться. Его манеры и поведение мне понравились и, несмотря на то, что я не нуждался в предложенных услугах, я пригласил его войти, и он приготовился заняться моим туалетом. Пока он занимался своими приготовлениями и направлял свои бритвы, я спросил его, как идут дела в Венеции.
– Как идут дела? – отвечал он, – а как вы хотите, чтобы они шли, с этими людьми, которые не знают даже нашего языка, а мы их тоже не понимаем, которые забирают у нас все, что у нас есть и не платят ни су, которые нас угнетают и, когда мы имеем несчастье жаловаться, утешают нас ударами батогов?
– А французы, – как вы к ним относитесь?
– Французы! Ох! Французы! Благослови их Господь повсюду, где они есть, и приведи их в наш город! Их всегда видишь веселыми, смеющимися и развлекающимися! Все, что у них есть в кошельке, они щедро тратят на бедных, на товары, на артистов. А дамы! Можете мне поверить, дамы их любят! Они предпочитают их даже молодым людям из Венеции!
Затем, разобрав свои бритвы, он стал меня намыливать. После минуты молчания он спросил меня, люблю ли я поэзию.
– Весьма.
– Ах! Кстати о французах! Если вспомню, я прочту вам сонет, который вас развлечет.
Он был прав; это были настоящие стихи цирюльника, которые не шли, однако, дальше простой банальности. Я удержал в памяти два из них, которые могут быть представлены перед взором читателя:
Napoléon nell' Adria entro co' suo' Galli, Ma prese, al suo partir quattro cavalli.[26]Эта двойная аллюзия на латинское прозвище французов и на четверку лошадей из бронзы, которую Наполеон выкрал из Венеции, показалась мне весьма остроумной и слегка исправила неприятное настроение, в котором я находился.
Когда он закончил, я предложил ему пиастр. Решив, что я предлагаю ему его разменять, он воскликнул, смеясь:
– Во имя Святого Марка! Откуда, по вашему, возьму я денег, чтобы дать вам сдачи с этих десяти фунтов? Я не заработаю их и за две недели.
– Как! Разве больше не бреют бороды?
– О да! Люди бреются раз в неделю и выдают вам пару су, а может и ограничиваются тем, что обещают отдать их вам завтра, и это завтра не наступает никогда.
При моем ответе, что этот пиастр дается ему, чтобы возместить его время, потерянное на меня, и за прекрасные стихи, которые он мне столь хорошо прочел, он был удивлен донельзя и мне стоило больших трудов его выпроводить. Оставшись один, я вновь предался моим грустным размышлениям.
Хотя удовлетворение, которое я испытал при этих актах человечности, было целебным бальзамом, который умерил горечь моего сердца при виде несчастий моей страны, я принял, тем не менее, решение покинуть ее в тот же день. Я был на лестнице, выйдя, чтобы завершить мои визиты, когда заметил флорентийку и ее мужа, поднимающихся об руку друг с другом с видом полнейшего благополучия. Мы остановились поболтать на площадке и, в продолжение общения, я пригласил их пообедать. За едой беседа свернула в сторону положения в стране, объекта моих нескончаемых забот; они рассказали мне вещи, которые перо не может описать.
Они оставались у меня долго и, несомненно, не покинули бы меня до ночи, если бы мой рассеянный вид не дал им понять, что пора откланяться. Я проводил их до входной двери; там жена, пожимая мне руку на прощанье, передала следующую записку:
«После двадцати лет отсутствия я снова увидела вас, мой благодетель и спаситель; это позволило мне снова поблагодарить вас за услуги, которые вы мне оказали. Вы кажетесь счастливым, это все, чего я бы просила у неба; благослови вас Господь, но уезжайте, синьор да Понте, уезжайте как можно скорей из города, который никогда не был и никогда не будет вас достоин. Помимо опасностей, которым вы подвергнетесь из-за происков мерзкого ревнивца, вы вынуждены будете присутствовать в моем доме на прискорбном спектакле, при том, что не сможете ничем помочь. Дориа, это чудовище – мой тиран; он является им с одобрения моей собственной семьи и моего мужа, который, наполовину из-за нищеты, а в особенности из мести, продал меня этому человеку, которого я боюсь и которого ненавижу более смерти; а между тем я должна притворяться, что люблю его, если не хочу, чтобы мои дети и я сама умерли от голода. Вы должны были видеть у меня старика… это мой отец… Ах! Уезжайте! И сохраните воспоминание о бедной Анжиолине».
Мне следовало иметь сердце из бронзы, чтобы не тронуло меня до слез это чтение; но к несчастью, стонать над несчастьями этой жертвы судьбы – было единственное, что я мог.
LXXII
Я оставался в гостинице до семи часов, потом отправился в театр. Я настолько поглощен был моей печалью и моими черными предчувствиями, что весь вечер оставался чужд тому, что проходило у меня перед глазами. К последней сцене голос, который не показался мне незнакомым, раздался из соседней ложи и назвал мое имя. Я поворачиваюсь и, к моему большому изумлению, узнаю одного из моих многолетних друзей, аббата Артузи, превосходного человека, одного из добрых поэтов и, помимо этого, одного из добрых граждан; он только пришел, заметил меня и поспешил сжать меня в объятиях. По выходе из театра он проводил меня ко мне. Подходя, мы увидели у дверей карауливших нас двух людей; один из них испарился, но недостаточно быстро, чтобы я не успел узнать Дориа. Второй подошел и спросил, не синьор ли я да Понте. По моем ответе он сказал, что у него есть о чем со мной поговорить. Не говоря ни слова, я поднимаюсь в свою комнату, куда он следует за мной, также как и аббат. Достав из кармана бумагу, он зачитывает мне ее содержание:
«По приказу Его императорского и королевского величества Лоренцо Да Понте должен покинуть Венецию в двадцать четыре часа».
В свою очередь, я спрашиваю у него, дозволено ли мне узнать, в качестве кого он вручает мне этот приказ.
«Я агент Его императорского и королевского величества, служащий министерства полиции, и, если нужно, я предъявлю вам свои полномочия».
Я собираюсь возразить, но взгляд аббата, который его знает, меня удерживает. Я отвечаю, что он может идти, и что я прошу его заверить Его имперское и королевское величество, также как и Его высочество монсеньора министра полиции, что рассвет уже не застанет меня в Венеции. Когда он нас покинул, я разразился таким взрывом смеха, что пришел хозяин сообщить нам тихим голосом, что синьор Габриеле находится в соседней комнате, вместе с агентом Его императорского и королевского величества, и что этот взрыв смеха может быть дурно истолкован. Я поблагодарил его, попросив принести нам ужин, затем мы стали спокойно болтать с аббатом.
Окончив ужин, мы спустились на улицу, где, когда мы остались одни, он рассказал мне множество фактов, лишь увеличивших мое желание уехать. Я не хотел, однако, уезжать, не доставив себе сладкого удовольствия небольшой мести.
Жена капитана Вильяма, бравого английского моряка, любимца императора, который назначил его командующим флотилией, была близкой подругой моей жены, и он сам свидетельствовал нам свою симпатию. Он отсутствовал в Венеции, но его ожидали там со дня на день. Я написал ему следующую записку, которую поручил аббату ему передать:
«Дорогой господин командующий!
Я нахожусь в Италии, в сопровождении моей Нэнси, с желанием обнять моего отца, и в Венеции, чтобы выполнить миссию, возложенную на меня директором Лондонского театра. Я могу остаться лишь на два дня в этом городе, где встретил нескольких друзей Я рассчитывал пробыть подольше, в надежде вас здесь встретить, но в данный момент, в полночь, агент принес приказ Его императорского и королевского величества, который предписывает мне покинуть Венецию в двадцать четыре часа. Если, по вашем возвращении, вы захотите узнать побольше об этом деле, мы, моя жена и я, будем вам как нельзя более благодарны за этот знак интереса и преданности.
Остаюсь, и т. д.»
Назавтра, до рассвета, я был уже далеко от Венеции. Я нанял гондолу, чтобы переправиться в Фузине; оттуда подался в Падую: говорили о начавшейся напряженности между французами и австрийцами. Два лагеря разделялись Вероной. Опасаясь трудностей в продолжении моей дороги, если я продолжу дорогу по эту сторону, я отказался возвращаться в Ченеду и ограничился тем, что написал жене, чтобы безотлагательно приехала встретить меня в Падуе, откуда мы направимся в Болонью, что она и проделала. Ничто нас там более не удерживало и мы сели в коляску. Едва мы проехали несколько шагов по дороге, как со всех сторон раздались крики «Стой!». Кучер остановился и в двери возник австрийский офицер в сопровождении двух солдат, вознамерившийся проверить наши паспорта. Я вручаю их ему; он их берет, скомандовав кучеру следовать за ним, затем, остановившись в дверях полицейского бюро, приглашает нас войти.
Я был достаточно известен в стране, чтобы не возникло подозрений относительно моей персоны; не так обстояло дело с моей женой, которая с первого взгляда распознавалась как иностранка и могла быть принята за французскую шпионку. Ее допросили на этом языке, а также по-итальянски. На каждый допрос она отвечала на том же языке, что вызвало со стороны допрашивающего ироническое замечание:
– Вы очень учены, мадам, – сказал он ей, – вы превосходно говорите на двух языках!
– Благодарю вас за комплимент, – возразила она, – но я говорю хорошо и на других, включая и мой собственный.
– Из какой же вы страны?
– Я англичанка; я говорю по-французски, потому что жила некоторое время во Франции, по-немецки, потому что мой отец и моя семья живут в Триесте, по-голландски, потому что жила несколько месяцев в Голландии, и по-итальянски, потому что меня обучил этому мой муж.
Допрос собирались продолжить, когда вошел генерал Клебек, с которым я был знаком по Вене; он крепко пожал мне руку и спросил, что я делаю в этом бюро. В немногих словах я я ввел его в курс дела; этот достойный генерал отдал приказ позволить нам ехать и добавил несколько благоприятных слов в мой паспорт.
Я направился в Болонью, город, где все директора театров Европы ангажируют нужных артистов. Проезжая Феррару, я не забыл старого друга и покровителя Джорджио Пизани, который избрал этот город своей резиденцией. Я остался на несколько дней у него, чтобы вновь насладиться его дружбой; он получил высшее удовольствие, снова меня увидев. Но увы! Насколько я нашел его изменившимся! Его несчастья, его долгое заключение, все беды, что его отягощали, его и его семью, сделали из этого мудрого и выдающегося гражданина Венеции яростного революционера. Он ввел меня в отношения с французскими властями и основными обывателями города и, то ли по его рекомендациям, то ли благодаря моим собственным трудам, которые, почти одни, заполняли их театр, все превозносили меня с особым почтением.
Пизани хотел удержать меня в Ферраре, он говорил, что ему будет легко добиться, чтобы мне присвоили звание Поэта новой Цизальпинской республики, но мое положение сложилось в Англии, и я к тому же испытывал слабое доверие к стабильности этого правительства и еще меньшее – к суждениям Пизани, которые казались мне ошибочными. Я наблюдал однажды его выступление перед толпой, в такой манере, что это лишило меня желания повторить опыт в том же жанре. Какое различие между ним и Хуго Фосколо, молодым человеком, подававшим большие надежды, которого я слышал позднее в Болонье, говорившим на публике с редкостным красноречием. Его огненное слово, полное правды и энергии, его образный стиль, изысканные выражения, выразительные образы электризовали аудиторию. Я имел счастье беседовать с ним, предсказывая ему положение, которое он должен занять в ряду литераторов своей страны и своего века. Надо было бы сохранить воспоминание о последнем визите, который он мне нанес в Ферраре. Что до меня, я никогда не забуду того удовольствия, которое мне довелось испытать от его несравненных «Писем Якопо Ортиса» и еще более – от его «Гробниц» и других его поэтических творений, с которыми я имел честь познакомить и восхитить ими лучшие умы этого просвещенного города.
LXXIII
Я провел восхитительные дни в обществе его и нескольких достойных ученых Болоньи и почти забыл мою основную миссию, когда письмо из Лондона, напомнив мне о ней и сообщив о примирении между Банти и Федеричи, извлекло меня из моей летаргии и заставило думать всерьез о Тейлоре. Поскольку в Болонье не было ни одной певицы, достойной упоминания, я задумал податься во Флоренцию. Мной двигало и другое соображение: я хотел посмотреть на этот знаменитый город, которого я совсем не знал. Стоял жестокий холод; я не решился подвергать ему мою жену; я отправился на почту и узнал, что могу немедленно отправиться в путь, если соглашусь взять себе в компанию по путешествию молодую даму, которую представил мне начальник почты. Она была одета просто и элегантно. Мне показалось странным, что молодая женщина соглашается ехать таким образом, тет-а-тет с незнакомцем; я согласился, снедаемый любопытством. Мы отправились в дорогу около четырех часов вечера, сохраняя полное молчание в течение двух часов. Она первая его прервала, сказав мне:
– Мне очень хочется спать.
– Мне тоже.
– Я не могу заснуть.
– И я.
– Поговорим?
– Я с удовольствием, мадам.
– Из какой вы страны, месье?
– Я венецианец, к вашим услугам.
– Я – из Флоренции.
– Прекрасная страна!
– Флоренция и Венеция! Самые прекрасные страны Италии… Я несколько раз была в Венеции… Венеция прекрасна… Но Флоренция!.. Многое нужно, чтобы сравниться с Флоренцией. Знаете ли вы этот город?
– Я его никогда не видел.
– Вы увидите… Вы увидите, какой это рай! Женщины все там ангелы. Нравятся ли вам красивые женщины?
– Настолько, насколько это позволительно мужчине моего возраста и женатому.
– Вы женаты!
= Да, и это та женщина, что вы могли видеть на почте, когда мы садились в коляску.
– Эта юная особа… – это ваша жена!
– Моя жена.
– Извините меня, я приняла ее за вашу дочь… Браво! У вас хороший вкус; но она действительно ваша жена?
– Разве бывают жены, которые действительно, и жены, которые не действительно?
– Ох! Она могла бы быть вашей дамой, а вы – ее сердечным кавалером!
– Моя жена не итальянка, мадам, она родилась в Англии.
– А у англичанок не бывает сердечных кавалеров?
– Нет, мадам, у них так не заведено.
– Я им сочувствую.
– Почему?
– Потому что сердечный кавалер – наилучшее животное в мире.
– Мне кажется, что муж, который это терпит – еще лучшее животное. Мадам замужем?
– Я была; но небо судило иначе! Я более не замужем; смерть уже шесть месяцев как вернула мне свободу.
– Женщина ваших достоинств должна весьма быстро найти себе другого мужа.
– Я! Другого мужа! Это ловушка, в которую попадают только один раз, но которой избегают во второй, если есть хоть капля здравого смысла.
– В таком случае, значит у вас есть сердечный кавалер?
– У меня был один и я очень надеюсь иметь и других; в данный момент у меня его нет, и я предлагаю вам занять это место вплоть до Флоренции.
– Не могу согласиться.
– Я буду вашей дамой, и могу вас заверить, что вы будете довольны.
– У меня нет ни малейшего желания, мадам, исполнять функции этого наилучшего животного, которые вы мне только что расписали.
Мы были на этом месте, когда, по дороге, до нас донесся крик: «Остановитесь! Остановитесь!». Два молодых человека спросили, не найдется ли у нас место для них, до Пиетра-Мала. Я, который испытывал вполне умеренное желание продолжать мой тет-а-тет с этой женщиной, не только ответил согласием, но и попросил кучера взять их, что он и сделал, тут же с ними договорившись. Сцена поменялась. Дама не думала более сделать своим сердечным кавалером мужчину, который разменял пятый десяток; она обратила огонь всех своих батарей в сторону двух молодых людей, которые, будучи в достаточной мере экспертами, не доехали еще до Пиетра-Мала, как их ухаживания достигли цели и настолько продвинулись, что их можно было принять за старых друзей. Мы поужинали вместе, и на следующее утро все трое оказали мне милость дать отъехать одному в моей четырехместной коляске, в которой мне было достаточно места, чтобы пофилософствовать.
LXXIV
Единственная мысль довлела у меня над прочими; если один из этих туристов, говорил я себе, который предоставляет столько кошачьей доброты и участия, необычных для Италии, встретит подобную женщину на своем пути, если он задумает поделиться своими впечатлениями от путешествия, какое впечатление он вынесет от общения с итальянскими дамами? Я обращаюсь к тем, кто читал Смоллетта, Сасса или другого какого писателя этого жанра. Что до меня, я не добавлю никакого иного комментария к этому факту, предоставив каждому свободу оценивать случившееся на свой лад. Ограничусь тем, что скажу относительно той развратницы, которая при встрече назвалась флорентийкой и в которой я тотчас признал за одну из авантюристок, у которых нет родины, что во Флоренции имеется множество женщин, которые, при всей своей грации, уме и всех своих природных достоинствах обладают большей чистотой нравов, не боятся никакого сравнения и могут поспорить с любыми благородными женщинами из какой бы то ни было страны. Я нашел флорентиек любезными без выставления напоказ, образованными без педантства, легкими в общении без фамильярности, кокетливыми без нарушения приличий. И к этим ценным качествам можно добавить голос, который проникает в душу и вполне может зародить желание жить и умереть во Флоренции. Я мог лишь небольшое время пробыть в этом городе, но то, что я там увидел в области промышленности и искусств, садов, живописи, статуй и монументов, в основном, античных, меня наполнило энтузиазмом и оставило лишь сожаление, что пришлось уезжать оттуда столь быстро.
Что меня особенно поразило, это беседы с большинством женщин. Представленный одной из первых дам города, вдове, богатой, молодой и прекрасной, я увидел салон, открытый для всех значительных иностранцев. Там собирался цвет общества из всех стран, знаменитости всякого рода, интеллигенция и люди искусства. Там раз в неделю играла музыка, иногда и чаще, когда складывались обстоятельства, такие как презентация выдающегося персонажа, и представлялся тому случай. Там раз в месяц танцевали. Там редко говорили о политике, и игра была исключена. Беседа вращалась, в основном, вокруг литературы. Каждый вечер читались стихи, научные диссертации и, зачастую, комедия или трагедия, и чтецы выбирались из присутствующих. Каждый должен был читать роль, которая выпадала ему по жребию. Мне оказывали честь поместить мое имя в урну.
Я не мог уклониться от предложенной роли. Первый раз жребием мне досталась роль Аристодема в прекрасной трагедии Монти. На второй вечер я был приглашен читать некоторые из моих композиций, я прочел мой дифирамб о запахах и был польщен аплодисментами. В третий раз декламировали «Саула» Альфиери, которым я был восхищен. Le moyen de ne pas l'être!
Все роли были представлены учениками этого великого мэтра. Я не переставал внутренне повторять себе: «Если бы какие-нибудь из тех английских дам, столь исключительно увлеченных танцем, которые посвящают ему ночи напролет, смогли бы, с помощью волшебной палочки, оказаться перенесенными в этот салон, какое бы впечатление у них сложилось о наших итальянских дамах и что бы они подумали о себе самих?» То, что я думал тогда об англичанках, я мог бы повторить на ушко нашим прекрасным американкам, с той же убежденностью.
LXXV
Убедившись, не без сожаления, что я не могу ангажировать во Флоренции личность, пригодную для театра в Лондоне, я решил вернуться обратно и снова поискать в Болонье. Эта поездка была отмечена только одним инцидентом, который угрожал стать серьезным и который, к счастью, обернулся в комический.
Ночь была холодная, дул ветер, резкий, колючий, обильный снег покрывал дорогу. Я выехал в ночь на двуколке, очень плохой, и с двумя лошадьми – еще более плохими. У меня не было выбора, хозяин этого жалкого экипажа был единственный, кто, под давлением золота, согласился меня везти при слухах об имевшемся столкновении между двумя армиями. Немного не доезжая до Пиетра-Мала, в то время, как я спал глубоким сном, моя двуколка совершила кульбит; я проснулся на матрасе из глубокого снега, у меня на спине лежала моя телега, парализуя мои движения. Была ночь, но небо было ясное и луна сверкала ярким блеском. Мой Автомедон пришел мне на помощь, и, с «affé di dua»[27] – ругательство, обычное среди флорентийского народа – он развязал постромки с замечательной скоростью и, призывая меня к спокойствию, побежал к хилой хижине поблизости искать помощи и присутствия. Несколько минут спустя, вернувшись с двумя крестьянами, он смог поставить меня на ноги, но контуженного, разбитого и весьма продрогшего. Я был доставлен, скорее мертв чем жив, в Пиетра-Мала, как раз в ту гостиницу, где уже останавливался. Любезная хозяйка меня узнала и поместила в удобную постель. Там, лежащего с пораненными руками и ногами, меня заставили выпить превосходного вина Кьянти, два или три стаканчика Альхермес, удивительного ликера, рецептом которого владеет одна Флоренция. Менее чем в три часа я был расположен и готов пуститься снова в дорогу, но мой возчик, в свою очередь, улегся в кровать, порекомендовав хозяину гостиницы сказать мне, что ни лошади ни коляска не в состоянии доехать до Болоньи и он просит меня уплатить ему то, что я сочту достаточным за проделанный путь и изыскать другого способа продолжить мое путешествие.
Хозяин посоветовал мне нанять двух лошадей, одну для себя, а другую для проводника. Что я и проделал при его посредничестве; я отправился при первых лучах дня; лошадь, на которую я уселся, была ростом не больше осла, но была сильна и очень послушна. Я прибыл на место к вечеру. На другой день я договорился с известным посредником, главным поставщиком всех театров Европы, и благодаря ему заключил контракт с Аллегранти и Дамиани, примадонной и тенором, двумя выдающимися талантами, единственными, кто оставался без ангажемента в Италии.
Грохот войны все нарастал, я мечтал о возвращении в Лондон. Аллегранти хотела сопровождать меня, вместе со своим мужем и сыном. Мы покинули Болонью к концу декабря и в первых числах января прибыли в Aoste.
В этом последнем городе я встретил капитана Вильямса, которому я написал накануне моего отъезда из Венеции; он осыпал меня знаками дружбы и, после обмена взаимными комплиментами, сказал: «Вы отомщены, тот, кто необоснованно вынудил вас покинуть Венецию, потерял, по моей просьбе, свою должность. Дориа больше не нужно опасаться». Я поблагодарил его; он заставил нас задержаться на пару дней, опоздание, которое имело самые неприятные последствия для меня.
Банти поручила мне своего сына, возрастом одиннадцать лет, сын Аллегранти был почти того же возраста; эти двое, пока мы были на обеде у Вильямса, вздумали, из возмутительной шалости, улизнуть из гостиницы, где мы их оставили, прихватив с собой несколько ценных предметов. Только после многих розысков, учиненных матросами сэра Вильямса, мы смогли их найти у одного крестьянина, который на основании басни, выданной ими, дал им убежище на ночь. Этот инцидент, к счастью, не имел никаких последствий. Мы проследовали вплоть до немецкой деревни, близ Брунсвика, которая за несколько дней до того была сожжена французами. Оставалось только несколько домов и лишь одна гостиница. Ввиду приближения ночи мы были вынуждены там остановиться. Эта гостиница представляла собой развалюху, у которой не было стекол ни в одном окне. Обитаемыми были единственная комната на первом этаже и кухня. Мы заняли комнату и спросили ужин. Явилась хозяйка принять наш заказ. Моя жена попросила бульону.
– Бульон… Из чего? – ответила та.
– Из мяса или птицы, из чего хотите.
– Из мяса в пятницу! Подите вон из дома, безбожники!
Ее муж, видя ярость и состояние, в какое повергла эта сцена жену, попытался ее успокоить, но тщетно. Прихватив ключ от комнаты, так, что мы не заметили, она испарилась. К счастью, она забыла прихватить в то же время и ключ от провизии. Муж, более склонный, чем она, к капитуляциям согласия, вручив этот ключ моей жене, взялся устроить ее, как полагается. Мы поужинали, оголодавшие, ни хорошо ни плохо. Когда настало время ложиться в постель, оказалось, что мы не можем войти в комнату, дверь от которой была заперта. Решили, что дамы и дети лягут в экипаже, а г-н Харисон, муж Аллегранти, и я удовольствуемся соломенными матрасами в конюшне. Но холод, от которого наши пальто, которые мы взяли, нас не спасали, и большое количество крыс огромного размера, которые развлекались, грызя наши сапоги, заставили нас вернуться в кухню, где испарения от дыхания более чем тридцати грудей, в соединении с ужасным жаром от железной печи, грозили нас удушить. Эти тридцать дыханий сопровождались звуками, бросавшими вызов охотничьему рогу. Неустрашимые спящие лежали вперемешку на столах, скамьях и даже на досках, подвешенных веревками к потолку, подобно гамакам, которые при каждом движении спящего грозились обрушить свой груз на наши головы и нас раздавить. На рассвете мы покинули эту проклятую гостиницу и достигли Арбурга.
LXXVI
Гармония, в которой мы пребывали вплоть до этого дня, начала портиться; я мог заметить, что при нашем прибытии в гостиницы г-н Харисон, движимый более гордыней, чем приличиями, стал выискивать поводов для дискуссий. Из соображений примирения, которые легко понять, я притворялся, что не замечаю проявлений его враждебности; но он пошел в этом так далеко, что стало невозможно терпеть его дурное поведение.
После двух дней отдыха нам пришлось пересечь Эльбу, которая замерзла. Нам сказали, что мы можем довериться прочности льда и переправиться этой дорогой в Гамбург. Поскольку такой способ путешествия использовался преимущественно, мы решились на него, хотя и несколько дней назад лед, расколовшись, поглотил коляску с шестеркой лошадей, вместе со всеми путешественниками, находящимися внутри. Прибыв на место этого несчастного случая, мы действительно увидели верхнюю часть экипажа, которая выступала еще из воды. Мы прибыли, в здравии и благополучии, в Гамбург.
Лучшие гостиницы были переполнены путешественниками, лишь две комнаты оставались свободными в одной из них, и мы там остановились. Моя коляска первая въехала во двор отеля, я сошел с нее и спросил посмотреть наше жилище. Я постарался выбрать лучшую из двух комнат, руководствуясь отныне манерой, в которой действовал Харисон во всех местах, где мы останавливались. Когда он увидел комнату, которая предназначалась ему, он обратился ко мне взбешенный и спросил надменно, по какому праву поэт смеет себя так вести. «По такому праву, – ответил я, – что с этого дня он присваивает себе звание полу-виртуоза».
Харисон происходил из знатной ирландской фамилии и служил офицером в имперских войсках. Вследствие превратностей фортуны он вышел в отставку и кончил тем, что женился на певице. Слово за слово, он бросил мне вызов на пистолетах; это был уже четвертый раз за восемь дней. Из опасения напугать мою жену и непреодолимого ужаса перед дуэлью мне приходилось до сих пор сносить его дерзости, но наконец, доведенный до крайности, я взял один из пистолетов, что он выложил на стол.
«Идем, – сказал я, – покончим с вашим фанфаронством и сразимся».
Наши жены в растерянности бросились между нами, чтобы нас разъединить, но он, с гротескным апломбом, удовлетворился тем, что ответил мне:
– Я не дерусь с человеком не моего ранга.
Обе дамы засмеялись, и я сделал то же, пожав плечами. Два или три дня спустя он первый протянул мне руку, сказав, что осознает свою ошибку.
LXXVII
Нам пришлось провести целый месяц в Гамбурге. Это пребывание завершилось тем, что кончились мои финансы. От тысячи гиней, что я взял из Лондона, осталось едва пятьдесят. Эти огромные затраты не вызвали у меня однако никакого сожаления, и я никогда в этом не раскаивался; радости, которые я испытал в моем путешествии, были столь велики, что все золото мира не могло бы их оплатить. В действительности, они смешивались с некоторыми разочарованиями, но эти разочарования можно было рассматривать как тучки на картине.
Вскрытие ото льда произошло в последних числах февраля и позволило нам сесть на корабль, направляясь в Дувр, куда я попросил Тейлора направить нам наши паспорта. По нашем прибытии я направился в Иностранное бюро за ними. Я нашел их там все, за исключением моего. Зная, что я нахожусь в состоянии примирения с Банти и Федеричи, я, тем не менее, ни минуты не сомневался в том, что это упущение явилось результатом согласования между ними и будет прелюдией к новым неприятностям. Я находился в затруднении; счастливый случай явился мне на помощь. Со мной был, как известно, сын Банти, в возрасте одиннадцати лет. Предусмотрительно был выдан отдельный паспорт на его имя и, поскольку это имя было плохо написано, директор, с которым я был лично знаком, счел возможным его прочесть как Понти; подумав, что для ребенка такого возраста паспорт не нужен, он счел возможным дать его мне и позволил ехать. По правде говоря, я склонен отнести эту легкость любезности с его стороны; я благодарен ему за это. В Лондоне я был встречен Тейлором с холодным лицом и приветствием, еще более холодным, и прошло три дня без того, чтобы он поговорил со мной. Было легко понять, что он недоволен, но откуда шло это дурное расположение? Я не мог себе объяснить, отчего оно возникло. Во время моего путешествия моя корреспонденция держала его в курсе всех моих операций. Я терялся в догадках. Лишь много позже я узнал причину. Федеричи и Банти имели низость внушить ему, что, принеся в жертву его интересы, я ангажировал Аллегранти, которая была слишком в возрасте, и Дамиани, тенора более чем посредственного, заключив с ними отдельные частные соглашения, к своей собственной выгоде. Наконец, в один из дней, он вызвал меня, чтобы расспросить и увидеть, нет ли в моих ответах противоречий; он не нашел ничего, к чему можно придраться.
После «олл райт», «тре бьен» последовало «бат»[28]: «Но подведем общий итог вашего предприятия». Доверие, которое он мне оказывал в течение трех лет, как в своих частных делах, так и в делах театра, заставило меня пренебречь тысячей обычных предосторожностей, которые принимают в подобных обстоятельствах. Я был, тем не менее, достаточно удачлив, чтобы сохранить все мои заметки и оправдательные документы, как по доходам, так и по расходам, и убедить его, что я сберег, действуя по его указаниям, более семи-восьми тысяч фунтов стерлингов ассигнациями, которые были ему полностью возвращены, за вычетом расходов, которые не превысили двадцати процентов, в то время как те, кто занимался его делами до меня, эти Федеричи, Каллерини и прочие, заставили его понести расходы в тридцать процентов и более, и что в конечном итоге он остался моим должником на две с половиной сотни фунтов.
Не чувствуя себя достаточно сильным в области цифр, чтобы проверить самому мои расчеты, он поручил сделать им ревизию своему адвокату, и тот, несмотря на все предубеждение, которое ему внушили, нашел их столь ясными и справедливыми, что не смог удержаться сказать ему в моем присутствии, что если бы все его агенты были таковы, как я, его дела шли бы гораздо лучше. Тогда Тейлор, взяв перо, подписал мне чек на упомянутую сумму своему банкиру, у которого, на счастье, еще были для этого средства.
Начиная с этого момента Тейлор не говорил более со мной о театральных делах, я не знал, как объяснить это молчание, когда 10 марта, между шестью и семью часами утра, дверь моей комнаты отворилась; я был в постели принимая поздравления моей жены по случаю моего дня рождения; вошел мужчина и приказал мне следовать за ним; я достал пистолет, который был у меня под рукой, и повелительным жестом сделал знак ему выйти. Видя мою решимость, он направился к двери, говоря, что он судебный исполнитель и у него есть расписка на три сотни фунтов, которые я принял от Тейлора и должен ему их выплатить. У меня далеко не было этой суммы и, не имя, что ответить, я последовал за ним и, в первый раз в жизни оказался заключен в тюрьму.
Я написал Тейлору, который оставил мое письмо без ответа; мне пришлось провести ночь у этого судебного исполнителя, в комнате, заделанной железными решетками, и в компании других личностей, возможно, оказавшихся в том же положении, что и я. На следующее утро я нашел двух поручителей и вернул себе свободу. Я не сделал и четырех шагов по улице, как второй исполнитель предъявил мне другую расписку, под которую я дал также поручительство. Придя к себе, я нашел там третьего, который меня ожидал, с векселем в руке. Менее чем в двадцать четыре часа я имел унижение оказаться трижды арестованным по причине и вместо этого почтенного джентльмена, который, в качестве члена парламента пользовался привилегией не платить своих долгов и заставлять своих друзей их оплачивать. Более чем всегда мне вспомнились советы Казановы и я проклял свою неосторожность. Но это была еще только прелюдия. Достаточно сказать, что за три месяца я был арестован более тридцати раз, каждый раз по опротестованным распискам. Я кончил тем, что выходил только по воскресеньям и праздничным дням, чтобы избежать скандалов. Такой образ жизни был невыносим, я мог обращаться только к Тейлору, для которого мольбы и просьбы были бесполезны. Потратив мой последний обол, чтобы оплатить расходы по этим процессам, бесконечно возобновляемым, и передав все, вплоть до мебели, кредиторам этого человека, я вынужден был объявить банкротство.
Я являю собой, полагаю, первый пример человека, который оказался в таком положении, не сделав лично на свой счет никаких долгов. Я оказался, таким образом, под прикрытием от арестов, но что мне оставалось для жизни и что со мной будет? В действительности, у меня в собственности была еще моя типография, которая, теоретически говоря, находилась под прикрытием имени Тейлора и не могла быть захвачена его кредиторами, но ключи от нее находились в руках ростовщика, который авансировал ему деньги, и только после длительных переговоров и обязав меня выплачивать ему гинею в неделю, я смог получить в обладание эти ключи. Мои единственные ресурсы заключались в моих гонорарах и продаже моих творений. Первые были заложены другому кредитору Тейлора, а в театре представляли только старые оперы, бенефисы от которых были отданы Федеричи, который назначен был директором.
Эти самые Федеричи и Галлерини терпели те же неприятности, что и я, и по тем же причинам. Они имели наглость явиться вымаливать моего участия, и я – глупость – им его предоставить. Именно поэтому, впадая в свою обычную ошибку, я отвечал всегда добром на зло. Я понял, но слишком поздно, что добро, оказанное злым людям, является для них не более чем поощрением делать еще большее зло. При моем посредничестве они вернули себе снова свободу, и какова была моя компенсация? Федеричи, обведя Тейлора, получил от него новый контракт с привилегией продажи либретто как компенсацию ущерба, который он претерпел. Что до Галлерини, который уже неоднократно меня обворовывал, и которого я все время прощал, он представил позднее фальшивое свидетельство против меня, в пользу мошенника, своего родственника, который выманил у меня множество гиней.
Что до Тейлора, он оставался три недели, не подавая мне признаков жизни. Я написал ему два письма, которые он бросил в огонь, не вскрывая. Я исчерпал все средства, чтобы вернуть его в добрые чувства, я отослал ему напечатанное донесение о произошедших фактах и, хотя я постарался писать ему со всей возможной умеренностью, это послание привело, тем не менее, его в такую ярость, что он решил отомстить. Затаившись, однако, чтобы лучше достичь своих целей, он направил мне посредника, который, наполовину угрозами, наполовину обещаниями, должен был извлечь из моих рук все экземпляры моего мемуара, честью поклявшись сжечь оригинал, завладел моими книгами и отсчитал мне, в качестве аванса, пятьдесят гиней, сумму, составлявшую едва десятую часть того, что я потратил только на расходы.
Урегулировав этот вопрос, Тейлор незамедлительно снял маску; он направил ко мне своего адвоката, сообщив, что не нуждается более в моих услугах, и даже лучше – постаравшись заставить меня через Иностранное бюро покинуть Лондон. Не имея за собой никаких проступков, и, более того, понимая, что моя персона не может быть подозрительна правительству, я имел смелость обратиться в бюро полиции, где, без больших трудностей, постарались аннулировать приказ, слишком легко выданный мелким служащим по наущению моего преследователя.
LXXVIII
Дамиани и Аллегранти провели свои дебюты, которые не были удачными. Федеричи возобновил свои интриги, заодно с ними. Банти повторяла без конца, что я богат, и убеждала Тейлора прийти ко мне, чтобы убедиться в этом. Он действительно пришел и попросил меня показать типографию. Я ему отвечал, что ключ находится в руках У. Фокса, который имел любезность авансировать мне двести пятьдесят фунтов, чтобы оплатить один из его непогашенных векселей, который я ему представил. Конечным результатом этого визита было мое оправдание, которое я и получил в хорошей и полной форме.
У моей жены образовались некоторые средства, полученные в предприятии, которое я ей организовал, как и ее сестре; но эти деньги не были на руках у нее или у какого-то хранителя.
…Я оказался вынужден вырвать вторую страницу этих мемуаров, чтобы не заставлять обливаться кровью и мое сердце и сердце моей жены.
Итак, я снова оказался в самом затруднительном положении. Тем не менее, я верил все время в Провидение и вызывал в моей памяти многочисленные знаки его защиты, данные мне, и мне казалось, что внутренний голос кричал мне не впадать в отчаяние.
Я пытался занять пятьдесят гиней; мне было в этом отказано. Чего бы я ни дал, чтобы забыть имя этого отказчика! Мне трудно поверить, что смертные муки могут быть более ужасны, чем боль, которую я от этого ощутил! В один из дней, когда я, более чем обычно обескураженный, шел машинально, не очень сознавая, куда я иду, и на каждом шагу повторяя себе, что должен предоставить действовать Провидению, я наткнулся на Стрэнде, около Тэмпль-Бар, на быка, убежавшего с бойни и преследуемого собаками, что заставило меня, во избежание столкновения, зайти поспешно в литературную лавку. Толпа рассеялась, я собрался выйти, когда одна книга привлекла мое внимание своим переплетом, я открыл ее с любопытством: это был Вергилий. Я вспомнил его предсказания, и первый стих, который я прочел, был такой:
О passi graviora: dabit Deus his quoque finent.[29]Это совершенно совпадало с моим умонастроением.
LXXIX
Не раз я приходил к мысли создать итальянскую библиотеку в Лондоне. Эта идея вновь возродилась однажды, и ее реализация оказалась легко осуществимой. Я спросил в книжном магазине, имеются ли у них книги на этом языке.
– С избытком! – последовал ответ.
– Я приду их просмотреть.
– Вы окажете мне настоящую услугу, избавив от них.
Я вышел из этой лавки, снова ощутив всю свою уверенность, скажу больше – проблеск надежды, скорее интуитивный, чем мотивированный. «Надо учредить итальянскую библиотеку, – сказал я себе; надо возродить в Лондоне вкус к нашей прекрасной литературе…». Позже, возвращаясь к моей позиции, я смеялся над своим проектом. В тот момент я столкнулся с одним человеком: это был Бенелли, актер театра, который, пожимая мне руку, сказал:
– Я вас встретил кстати: назавтра или позднее я уезжаю в Неаполь, где получил ангажемент. Я пытаюсь разменять банковский билет, что выдал мне Тейлор в оплату. Я иду отнести его моему адвокату. Если вы можете дать мне сотню фунтов за те сто шестьдесят, чего он стоит, мне будет достаточно: это все, чего мне нужно для путешествия.
Я беру билет и, пообещав ему дать ответ за час, бегу к знакомому ростовщику, который, за пятнадцать гиней и мою гарантию, отсчитывает мне все остальное. И вот, я с шестьюдесятью гинеями, которые с чистой совестью считаю в праве присвоить, учитывая риск, которому подвергаюсь, оказавшись вдруг в необходимости однажды выплатить все остальное. Я считаю, однако, нужным и проявить деликатность по отношению к Бенелли, который, когда я отсчитал ему его сотню фунтов, сказал мне весьма любезно: «Я очень рад этой вашей доброй услуге, и если Тейлор не оплатит свой билет, я оплачу вам сумму, которую от вас получил».
Не теряя времени, я направляюсь к книготорговцу, который встречает меня с улыбкой на губах и, проведя в зады магазина, говорит: «Здесь у меня только итальянские книги, если вы хотите оформить приобретение их всем блоком и освободить это помещение, я уступлю их вам за весьма разумную сумму, тридцать гиней».
Пока он говорил, я бросил взгляд на коллекцию и, хотя книги были покрыты пылью и паутиной, я смог прочесть несколько названий. Я заставил его повторить сумму, о которой идет речь, и отсчитал ее ему в течение часа, он подписал мне квитанцию и, все время с улыбкой на губах, обязался отгрузить их мне как можно скорее. Эта улыбка, которая показалась мне сардонической, заставила меня призадуматься, но я эту мысль со страхом прогнал. Рассматривая при ближайшем рассмотрении полки, которые содержали не менее шести-семи сотен томов всех форматов и всех толщин, я не мог помешать себе улыбнуться, в свою очередь, оплакивая столь малое количество случаев, когда пользовались литературой моей дорогой родины.
Я не буду здесь перечислять сокровища, которые там нашел, перейду просто к факту. Я получил за них четыре сотни гиней, перепродав в моем магазине. Эта новая милость небес вернула мне все мои надежды и явилась для меня благоприятным признаком для реализации моего главного проекта вернуть итальянской литературе весь блеск, которым она сияла в этом городе во времена Грея, Драйдена и Мильтона.
Я обошел все книжные лавки Лондона, посвятив мои последние тридцать гиней важным покупкам. В марте 1801 года у меня было девять сотен томов шедевров, число которых я довел до шестнадцати сотен с помощью других приобретений на публичных распродажах. Я сделал распечатку каталога и получил удовлетворение, наблюдая приток в мой магазин самых эрудированных и самых влиятельных людей столицы, которые лишили мои полки более чем четырех сотен ее томов и обогатили тем самым мой кошелек. Я завозил из всех городов Италии все, что публиковалось там самого нового и самого примечательного. Именно благодаря этому менее чем в год я был в состоянии снять арест, который лежал на моей типографии, и использовать ее, чтобы опубликовать некоторые из моих поэтических творений. Именно этой публикации я обязан знакомством с человеком самым респектабельным, которого я встретил в своей жизни, достопочтенным сэром Томасом Матиасом.
LXXX
Дружба этого человека оказала слишком большое влияние на мою судьбу, чтобы я не поговорил об этом с признательностью. Сведущий во всех языках, мертвых и живых, просвещенный, эрудит, исполненный гения и вкуса к прекрасной поэзии, сэр Матиас имел большое предубеждение против авторов опер-буффо и, в частности, тех, что писались для лондонского театра. Он заявлял это мнение, которое доходило до презрения, во многих своих брошюрах, и особенно в своем «Демогоргоне», композиции, полной ума и аттической соли. Учитель языка Зотти говорил с ним обо мне в выражениях, которые внушили ему желание познакомиться со мной. Проходя однажды мимо моего магазина, он туда зашел и спросил у меня несколько книг. Пока я занимался их поиском, он завладел маленьким томиком поэзии и стал читать первую страницу. Это была ода, которую я сочинил на смерть Иосифа II; мне показалось, что он ее отметил, по выражению его физиономии, которое казалось удовлетворенным. Когда он дошел до четвертой строфы, он остановился и спросил у меня с живостью имя автора; в то же время он громко прочел на фронтисписе: «Поэтические опыты Лоренцо Да Понте».
– С которым я имею честь, без сомнения, говорить?
Я поклонился.
– И вы не являетесь поэтом нашего театра!
– Я являюсь.
– Вы поэт нашего театра и автор этих стихов! Не изволите ли оказать мне честь прийти завтра утром ко мне и позволить мне, между тем, забрать с собой этот том?
Я снова поклонился. Он оставил мне свое имя и свой адрес и удалился. В назначенный час я был у него. Он встретил меня с вежливостью, принятой среди людей высшего ранга, пригласил завтракать и спросил, как я мог унизить свой талант до того, чтобы писать для театра, на котором представляют только несчастные рапсодии. Я спросил у него, видел ли он какие-либо из моих пьес. Не помню, ответил ли он утвердительно, или, опасаясь меня шокировать, сказал, что избегает слушать музыку.
Я ему кратко описал историю моей театральной карьеры; я перечислил ему оперы, которые я сочинил для театров Вены и Лондона; я пригласил его просмотреть некоторые из них, которые я не выдавал за творения совершенные, но в которых, быть может, он встретит некоторые сцены, что смогут примирить его с неким лондонским драматическим автором, хотя тот и не Зени и не Метастазио. Он обещал мне это. Но после часа беседы он снова вернулся к моей оде, пожелав услышать чтение самого автора, и повторил мне на этот сюжет вещи самые любезные. С этого дня началась его симпатия ко мне и в течение трех последующих лет он не прекращал оказывать мне все знаки неугасающей дружбы.
LXXXI
С началом нового театрального сезона Банти, эта женщина – причина всех несчастий, что меня осаждали, приняла неожиданное решение вернуться в Италию. Тейлор сопровождал ее вплоть до Парижа, где провел некоторое время. Во время его отсутствия Биллингтон и Грассини заменили Банти; кредиторам театра, плохо удовлетворенным правлением Тейлора, удалось, воспользовавшись его отсутствием, отстранить его от руководства и заменить другим. Иностранцы для команды всех этих Федеричи и Банти, они отблагодарили этого поэта интриги и восстановили меня на мой пост. Предложение этой должности было сделано мне в выражениях столь любезных, что склонило меня его принять, менее из связанных с ним денежных соображений, чем для удовлетворения тем, что был унижен фигляр, который меня вытеснял. Именно в эту эпоху я написал «Похищение Прозерпины» и «Триумф братской любви», пьесы, которые, добавляясь к моей репутации, должны были изменить предубеждения сэра Матиаса относительно итальянских драматических произведений: я полагался, прежде всего, на его суждение.
В то время, как я вкушал этот успех в театре, моя коммерция приобрела необычайный размах. Не хочу упустить случай поблагодарить тех, кто помогал мне своими мудрыми советами и усилиями: Нарди, Пананти и множество других ученых, филологов, грамматиков и поэтов, список которых будет слишком длинен. Мне приятно также отметить превосходные указания сэра Матиаса, который, всегда ровный ко мне, публиковал новую коллекцию наших классиков, снабженных учеными примечаниями, и смог представить наших авторов выступившими единым фронтом вместе с греческими и латинскими авторами.
LXXXII
Все двигалось согласно моим желаниям, когда я совершил ошибку, вступив в коммерческие отношения в неким Доменико Корри, человеком талантливым, но легкомысленным и отдающимся слишком легко мечтам своего воображения. Необходимость обеспечить мне залу, достаточно обширную, чтобы вместить десять-двенадцать тысяч томов, и благоприятное расположение дома, в котором он жил, побудили меня снять сразу часть его магазина, а затем заняться вопросом полной его аренды. Дюссек, зять Кори, уступил очень легко и по цене, более привлекательной, чем его прекрасные сонаты; но я упустил из виду то, что оба они были по уши в долгах и им не хватало денег, чтобы запустить в ход свое дело музыкальной печати. Сбитый с толку видимостью и их прекрасными словами, я образовал с ними нечто вроде общества. Я принял на себя их долги, которые пунктуально оплатил. Но по истечении шести месяцев я увидел пропасть, разверзшуюся у меня под ногами, и смог избегнуть ее лишь швырнув туда тучу денег. Дюссек улизнул в Париж, а Кори был заключен в тюрьму Ньюгейт. Один я остался с кучей векселей, годных лишь для того, чтобы разжечь огонь.
Другой инцидент мог стать гибельным по иному. Галлерини, занимавшийся в течение многих лет для Тейлора распространением его билетов, сохранил в своих руках всех тех, кто возобновил свои контракты, не вычеркивая их из списка. Не предъявляя никаких доказательств оплаты, ему было легко включить в передачу прав большое их количество, считая индоссантов платежеспособными. Таково было мнение, оглашенное лордом Кенионом в одном из многочисленных процессов, в которых имела место эта передача. Этот мошенник собирался возобновить свое жульничество, когда я о нем узнал. Я побежал к Перри, издателю «Морнинг Кроникл», другу и агенту Тейлора. Ознакомившись с положением дела, тот поручил мне найти выход, чтобы предупредить злоупотребление. Я справился с этим, использовав пятьдесят гиней, которые Перри, проявив деликатность, мне вручил: я вырвал из рук Галлерини на двадцать пять тысяч фунтов стерлингов его билетов. Одна эта услуга должна была бы обеспечить мне на всю жизнь благодарность Тейлора.
Пробыв несколько месяцев в Париже и убедившись, что Перри и Гульд, став его компаньонами, будут готовы привести в порядок его дела, Тейлор секретно вернулся в Лондон – предосторожность тем более необходимая, что, не будучи более членом парламента, его персона не была теперь неподсудна. Галлерини, не упустив, тем не менее, факта его возвращения, известил о нем коммерческих исполнителей и сделал так, что его арестовали. Один актер пришел меня предупредить о случившемся, сказав: «Вот случай вам реабилитировать себя в глазах Тейлора, поспособствовав вернуть ему свободу». Эти слова, как электрическая искра, дошли до моего сердца. Они напомнили мне мое положение в Голландии, наши дни отчаяния, ужин, принесенный Сера, который стал для нас манной небесной, наконец, моменты страха, к которым пришел Тейлор в конце, и, вопреки представлениям моей жены и моих друзей, забыв обиды, несправедливости и даже потери, которые имели место, я направился вместе с одним из моих братьев в тюрьму, где запросил с ним свидания. Ему отнесли мою записку. Услышав мое имя, он едва мог поверить своим чувствам. Он распорядился меня впустить. Он был арестован в десять часов утра. Было семь часов вечера, когда я пришел к нему. Весь его день был посвящен мольбам к тем, кого он называл своими друзьями. Его письма остались без ответа. Бесчувственность остальных должна была сделать для него еще более ценным мой визит, который явился неожиданным. Я протянул ему руку, он ее пожал, и я не знаю, кто из нас двоих был более взволнован, я – от надежды, что верну ему свободу, он – от удивления и восхищения. После недолгого молчания он взял слово, и мы обменялись следующими фразами:
– Да Понте, вы здесь!
– Да, чтобы прийти вам на помощь.
– Полагаете, что это возможное дело?
– Если вы меня здесь видите, это значит, что я убежден.
– И что я должен делать?
– Предоставить мне действовать.
Он снова взял меня за руки и пылко их сжал, сел и, после паузы, стал размышлять; он мне поведал, что был арестован по двум векселям, одному на шесть сотен фунтов, другому – на три сотни; один, написанный на простой бумаге, был возобновляемым посредством поручительства, но второй, переписанный по формуле: «Warrant of attorney»[30], должен быть непременно оплачен до выхода его из тюрьмы. Он добавил, что если, к несчастью, его многочисленные кредиторы узнают об этом аресте, он погрязнет под тяжестью претензий и его заключение станет вечным. Я не колебался.
Я направил моего брата к Гульду и переговорил с судебным исполнителем – обладателем мандата на арест, я уговорил его акцептировать новый вексель на Тейлора, который я взялся индоссировать на шесть сотен фунтов; что до того, который на три сотни, я предложил ему половину, рассчитывая выдать вторую половину в течение месяца с настоящей даты, под гарантию Гульда, который, прибыв к десяти часам, решился, не без некоторых затруднений, поставить свою подпись. Дело было завершено за взятку в двадцать гиней исполнителю. Еще до одиннадцати часов Тейлор вернулся, успокоенный, к себе, сказав мне: «То, что вы сделали, не может быть оплачено словами; факты вам покажут, благодарен ли я».
LXXXIII
Банти была далеко от Лондона, Федеричи должен был бежать в Италию, и я имел слабость поверить в искренность этих слов и вообразить себе, что эту услугу нельзя забыть; я продолжал делать для него все, что отец может делать для сына. В течение шести месяцев я предугадывал все его нужды, брал на себя все, и я перекупил все его долги, избавляясь, по правде, с помощью Гульда, от сумм, которые нужны были, чтобы умаслить исполнителей, оплатить адвокатов и получать отсрочки. Это я оплатил шесть сотен фунтов обновленного векселя, чтобы его освободить, по его собственному признанию, от постоянной тюрьмы. Относительно этого векселя, не могу обойти молчанием и одно из тысячи свидетельств дружбы сэра Матиаса ко мне.
Поскольку по истечении срока Тейлор был не в состоянии отвечать на это обязательство, я должен был это сделать вместо него. Не располагая этой суммой, я решил продать часть моих книг на публичных торгах. Я ожидал к полудню книготорговца, чтобы обсудить с ним эту тему. Вспомнив, что я обещал сэру Матиасу пойти позавтракать с ним в восемь часов, я отправился туда. Мое затруднение от него отнюдь не ускользнуло. Он спросил у меня причину, которую я ему и изъяснил. Он упрекнул меня в слабости. Я объяснил ему выход, с помощью которого я рассчитывал получить ресурс, чтобы сделать дело. «Вернитесь к себе» – ответил мне он, – и, с часами в руке, заметил: «Соблаговолите подождать меня с полчаса». Мой книготорговец еще не появился, и когда он пришел, мне уже не было в нем нужды: мой ангел-хранитель написал мне следующую записку:
«Дорогой друг, вот сумма вашего обменного векселя. Дай бог, чтобы это было последнее, что вы должны платить этому человеку! Приходите повидать меня завтра».
Такая щедрость довела меня до слез; зная затруднения, которые меня одолевают, и предвидя невозможность для меня когда-либо вернуть эту сумму, я балансировал между чувствами деликатности и настоятельной необходимости – положение, в котором я находился. К сожалению, луч надежды, основанный на последних словах Тейлора, заставил меня сдержать деликатность, и я принял эти деньги. Какими угрызениями совести расплатился я за эту слабость!
LXXXIV
В это время моя жена получила от своей матери приглашение приехать навестить ее в Америке, где она обосновалась. Я не испытывал никакого отвращения к тому, чтобы дать на это мое согласие, и, чтобы ее не огорчать, я позволил ей взять с собой наших детей, из которых последний был едва отнят от груди. То хорошее, что я слышал об этой стране, и туманная мысль отправиться, быть может, однажды туда переселиться, не дали мне и мгновения поколебаться. Правда, мое занятие в Лондоне и тысяча дел, в которые я был погружен, казались мне такими путами. Я закинул, между тем, словечко сэру Матиасу о моем проекте эмиграции, но он отбросил его далеко, сочтя безумным.
В назначенный день моя жена покинула Лондон с моими четырьмя детьми; я сопровождал их вплоть до Гравезанда. Эта поездка сопровождалась потоком слез, но ничто не может описать терзаний моего сердца, когда я переправил эти дорогие моему сердцу существа на корабль, который должен был их увезти, и когда я в последний раз сжал их в своих объятиях; мне казалось, что железная рука поместилась у меня на сердце и задушила его последнее биение. Боль была столь острой, что я подумывал, то ли мне отвезти их обратно в Лондон, то ли погрузиться вместе с ними на корабль и предаться Провидению. Мой брат был рядом со мной, разделяя мои тревоги и стараясь мне сочувствовать. Его здоровье, уже ненадежное, потому что год спустя я его потерял, требовало моих забот. Какой момент! Он был ужасен! Наконец, я разорвал все свои объятия, корабль развернул паруса, и я остался!..
Отсутствие моей жены должно было длиться не более чем год, это был еще один мотив для утешения. Я вернулся в Лондон, и когда я оказался один в этом городе и в доме, где мы жили с семьей, все мне стало настолько невыносимым, что я не один раз оказывался в настроении все бросить и полететь присоединиться к ним в Америке. Мой брат и сэр Матиас были единственные существа, что привязывали меня к жизни, но какие моральные муки я испытывал! Только тот, кто испытал радости семейной жизни, поймет меня.
День, когда я расстался со своими, был воскресенье. Я вернулся в Лондон к двум часам пополудни; я мог, таким образом, полностью, без отвлечения, отдаться моему страданию. Но не так было на следующий день, когда мои денежные злоключения возобновились и умножились до такой степени, что, не зная, к какому святому мне обратиться, я решил объединить моих кредиторов. Прежде, чем обратиться к такой крайности, я захотел иметь мнение Тейлора, и он, который всегда тешил себя иллюзиями, удовольствовался тем, что посмеялся надо мной: «Уезжайте поскорее в Америку, – сказал он мне, – вас влечет к этому тайное желание; отправляйтесь туда ожидать, что мои дела поправятся. Я всегда остаюсь собственником театра, хотя у меня и отобрали управление им; я продолжу вплоть до настоящего момента ваше жалование и вы будете переправлять мне ваши композиции». Это соглашение соблазняло меня более всего того, что Тейлор мне предлагал, но он, со своей стороны, не мог изменить мое решение. Собрание моих кредиторов состоялось; мой адвокат представил мои счета, произвел выкладки, чтобы определить должные мне поступления и остатки моих долгов. Его спокойно выслушали, но разошлись, ничего не решив.
Вернувшись к себе, я лег в кровать и уснул. В самом глубоком сне я был внезапно разбужен дружеским голосом; это был судебный пристав Двора, от которого я видел изъявления самых добрых и гуманных чувств: он пришел меня известить, что уже утром должны вручить ему одиннадцать мандатов на арест против меня от части моих кредиторов, которые ему пообещали хорошие чаевые, если я окажусь в тюрьме до полудня; напуганный, он прибежал, чтобы посоветовать мне покинуть Лондон незамедлительно. Я хотел сопроводить несколькими гинеями те благодарности, что я выразил этому достойному человеку, но вместо того, чтобы их принять, он настоял на том, чтобы заставить меня принять из его кошелька сумму, которая может мне быть необходима, чтобы бежать безотлагательно, от чего я воздержался. Он пожелал мне счастливого пути, и мы расстались. Была полночь; я направился к Гульду, вице-директору театра; я поставил его в известность обо всем, что произошло, также как и об обещаниях Тейлора, и попросил у него сотню гиней в счет моих гонораров. Я вернулся к себе. На рассвете я был в Сити, осведомившись об отплывающих судах; я остановил свой выбор на корабле под командой капитана Хайдена, который направлялся в Филадельфию, и, после того, как я забрал свой паспорт в Иностранном бюро, почтовая коляска отвезла меня в Гравезанд. Мой несчастный брат сопровождал меня; он был безутешен от моего внезапного отъезда; здравый смысл взял над ним, наконец, верх, но не ранее того, что я дал ему форменное обещание вернуться в течение шести месяцев в Лондон или вызвать его к нам в Америку. Напрасные планы, я не увиделся с ним больше, и он умер год спустя!
LXXXV
Прежде чем покинуть Лондон навеки и больше об этом не говорить, я считаю своим долгом поместить здесь последнее воспоминание, которое имеет отношение к Касти. Оно дополняет исторически мои отношения с этим человеком, подстрекателем всех дрязг, которым я подвергался при моем дебюте в Вене, но который позднее исправил все свои прегрешения, покровительствуя мне при графе Саур и тем самым облегчая мне средства торжествовать над моими врагами и обрести от императора Франца мою полнейшую реабилитацию.
Начиная со своего приезда в Триест, Касти, это всем известно, сделал меня посвященным в свое намерение быть назначенным поэтом императора Леопольда. Он следовал этому плану с упорством, которое проявлял во всех делах, и достиг своих целей. Он вытеснил с этого поста Бертали, который его занимал и которого он заставил играть свою оперу «Тайный брак», в соавторстве с Чимароза. Какие рычаги он задействовал, я не знаю; но он преуспел. Однажды поставив ее и то ли отдав свое внимание другим иностранным работам в театре, то ли из лени, или потому, что его драматическая муза уснула, он назначил себе коадъютора, который играл при нем ту же роль, что он при Бертали, и его заменил; но тот, пойдя дальше и не останавливаясь ни перед какими подлостями, чтобы не опасаться более его интриг, постарался заставить изгнать его из Вены. Он выдавал его за человека, полного революционных принципов и приверженца якобинства – слова, которое в тот момент было пугалом для суверенов Европы. Касти, надо сказать, в какой-то степени давал основания для такого обвинения. Он делал наброски своей поэмы «Говорящие животные», общей критики правящего режима; он читал ее фрагменты своим друзьям; с этим произошло то же, что происходит всегда. Циркулируя из уст в уста, его стихи искажали и комментировали. В них нашли персональные аллюзии, сатиру против знати и против самого императора. Взбудораженная полиция изъяла его рукопись, и Касти получил приказ покинуть столицу. Он уехал в Париж. Литературный мир от этого выиграл.
В Париже он набросал последние штрихи на эту поэму, в которую вложил всю желчь своего озлобления и своей мести. Эта книга наделала много шуму. Под вуалью выдумки там оказались представлены портреты основных персонажей эпохи, также как критическая история событий Французской революции и причин, которые к ней привели. Уместность этой критики могла ослабиться с течением времени, но поэтическое значение осталось то же, и встречаются черты, своей живостью и красноречием достойные Монти и Фосколо, которые заставляют и сейчас читать эту поэму не только с интересом, но и с удовольствием.
В то время, когда я объединялся с Корри и находился в деловых отношениях со всеми библиотеками Лондона, мне пришла в голову идея сделать издание этой поэмы, которая имела много почитателей в Англии. Я рассчитывал также на увлечение новизной, чтобы пропагандировать вкус к итальянской литературе в Лондоне. Пока ее печатали, приехал Коломбо, мой соученик по семинарии Ченеды, которому я был обязан одобрением моих первых литературных успехов и который определил мое призвание. К тому времени мы потеряли из виду друг друга. Он прибыл в качестве воспитателя двух молодых итальянских сеньоров. Можно представить, с какой радостью мы снова увиделись. Мы проводили дни вместе. Он был у меня, когда мне принесли гранки на правку. Он спросил у меня моего мнения на этот труд. Я воздал ему хвалы, но добавил, что для того, чтобы быть совершенным, необходимо сделать много поправок; что следует сделать аллюзии более выразительными, устранить длинноты, пополнить усеченные рифмы и, помимо всего, морально пригладить слишком свободный стиль.
Продолжая свое путешествие вместе с учениками, Коломбо покинул Лондон и направился в Париж. Он видел Касти и говорил с ним обо мне; он читал ему, без сомнения, часть корректировок, на которые я ему указал, и которые Касти счел недопустимыми, что навлекло на меня с его стороны в письме длинную филиппику, из самых суровых, на этот акт нелояльности. Я поторопился ему ответить, и, чтобы полностью оправдаться, предложил ему экземпляр моего издания, который уверил его в моей правдивости. Я заверил его, что мне вполне было позволительно заменить некоторые выражения, слишком непристойные для глаз английских демуазелей, которым я предназначал мое издание.
Расстройство желудка, которое немного позднее привело к смерти Касти, в возрасте восьмидесяти лет, лишило меня его ответа. Я опубликовал мое издание.
LXXXVI
Мой переезд из Лондона в Филадельфию был долгим и утомительным; он длился восемьдесят шесть дней, во время которых я был лишен всякого комфорта, столь необходимого в моем возрасте. Я слышал, что говорят, что для того, чтобы оказаться в Америке, достаточно заплатить соответствующую сумму капитану, и что он позаботится обо всех ваших нуждах. Это действительно так, когда имеешь дело с благородным человеком, ревностно пекущимся о своих обязанностях. Я же попал, наоборот, в когти флибустьера из Нантакета, китобоя, относящегося к пассажирам как к своим матросам, а к тем – как никогда не относятся к людям. Его провизия, едва достаточная, состояла лишь из грубых продуктов. Моя первая ошибка состояла в том, что я уплатил ему сорок четыре гинеи до того, как ступил ногой на его корабль, без расписки и не получив ни малейшей информации, не заявив, чем меня кормить и куда меня доставить. С первого моего обеда я понял свою ошибку; блюда этого обеда были приготовлены на палубе корабля. Деревянный стол, источенный червями, скатерть чернее чем рубашка угольщика, три зазубренные миски из красной глины, три прибора из ржавого железа – эти объекты предстали перед моими глазами. Капитан уселся, предложил мне сделать то же; поваренок, истинное дитя Африки, держа в одной руке деревянную миску, а в другой – оловянное блюдо, поместил эти два объекта на стол и удалился. «Одоард, – вскричал затем капитан зычным голосом (голосом Стентора), – Одоард, к столу!». При повторном окрике Одоард появился, возникнув из каюты, где он провел ночь. Этот Одоард, чьи одежды были еще более грязны, чем наша скатерть, произвел на меня впечатление пьяницы, которого внезапно разбудили. Он уселся справа от капитана, не говоря ни слова и даже на меня не глядя. Пока я производил эти наблюдения, передо мной поставили миску, содержащую несколько ложек жидкости, которую я принял сначала за воду из-под каштанов. Видя, что я смотрю на свою миску, не решаясь ее тронуть, капитан сказал: «Синьор итальянец, почему вы не пробуете этот добрый куриный бульон?». Мне надо было поесть, и я люблю птицу, я бросил взгляд на то, что нам принесли. Что со мной стало, когда, вместо доброй жирной курицы, на которую я рассчитывал, я увидел на этом блюде только несчастное тощее животное, имеющее скорее вид вороны, чем что-то другое, и столь черное, что можно было подумать, что его волокли через весь корабль кошками, а отнюдь не приготовленное поваром. Я оставил моим двум сотрапезникам заниматься этим деликатным продуктом и удовлетворился куском сыра, который, к счастью, оказался у меня под рукой. Капитан удивился, но не сделал мне ни малейшего замечания, только, заметив, что бутылка вина тоже находится в моей доступности, и опасаясь, что я также ею завладею, поднялся, откупорил ее, налил мне небольшой стакан, другой – своему компаньону, затем снова закупорил и убрал под ключ. Таким манером, или близко к тому, этот покоритель морей обращался со мной во все время удвоенного поста, что я провел на его борту; если не эти его бульоны и курицы, вид которых я не мог более выносить, наше питание варьировалось между копченой говядиной и куском свиной солонины, один вид которой был способен успокоить самый неутолимый аппетит.
Меня не обеспечили матрасом, я вынужден был воспользоваться моими вещами, чтобы его заменить и не ранить мои члены, укладываясь на моей узкой скамье. Тем не менее, несмотря на все эти страдания, я пришвартовался 4 июня утром в Филадельфии.
Я немедленно направился к капитану Колле, который привез мою семью. Он сказал мне, что семья живет в Нью-Йорке. Я выехал в два часа и был счастлив прибыть туда назавтра на рассвете.
Я не знал даже названия улицы, на которой они жили. Я отправился, положившись на случай; я стучу по вдохновению в первую попавшуюся дверь. О счастье! Это дверь дома, который я ищу! Радости прибытия были пропорциональны тревогам, которые породила длительность моего путешествия, и опасностям, которые предлагает море Атлантики в зимний сезон, и страхам от недавней пропажи судна в этих широтах, которые были еще свежи. После нескольких дней, посвященных целиком сладости встречи, я занялся делами, не теряя ни мгновения. Барахло, что я привез из Лондона, не занимало много места; оно состояло из маленькой коробки скрипичных струн, нескольких итальянских классиков малой стоимости, небольшого числа экземпляров превосходного Виргилия, примерно такого же числа – «Истории» Давила и сорока или пятидесяти пиастров. Это было все, что я смог сберечь от алчности ростовщиков, сбиров и адвокатов Лондона.
Я прибыл в Америку в надежде вести там жизнь спокойную; я был жестоко разочарован. Мой дебют там был несчастлив. Моя неопытность в делах и в обычаях страны не замедлила погрузить меня в дрязги, от которых я хотел бежать, покидая Лондон. Не буду рассказывать их в деталях, ограничусь указанием наиболее ярких черт.
Я застал мою жену обладательницей шести или семи тысяч пиастров, которые она унаследовала от своей матери и которые, соответственно, были ее личной собственностью. Опасение приуменьшить этот капитал заставило меня слепо следовать советам моего свекра, которого я считал безупречным коммерсантом. Мое уважение к его мнениям стало первой причиной новых провалов, что ожидали меня на этой земле, которую в своих играх воображения я видел гостеприимной ко мне. Я кинулся в коммерцию с лекарствами и снял лавку, чтобы торговать ими в розницу. Расположившись позади прилавка, я не мог воспринимать себя всерьез, меня, Поэта, ведшего до того жизнь интеллектуальную, приговоренного к тому, чтобы отвешивать унцию чаю или табака, либо наливать первому же вошедшему матросу или возчику стакан джина за три денье. Но так происходят дела в этом мире; единственное, что меня утешало в этой прозаической области, это то, что если это занятие и было менее почетным, чем торговля книгами, оно было по крайней мере более выгодным. Все шло в материальном отношении хорошо вплоть до 1-го сентября.
В то время желтая лихорадка производила опустошение в городе, и, чтобы предохранить мою семью, я счел себя вынужденным переселиться в Елизавет-Таун, где купил маленькое предприятие. Я продолжал ту же коммерцию; не имея, к несчастью, возможности все делать самому, я вынужден был искать компаньона. Я нашел его в человеке, которого мне описали как интеллигента и порядочного человека, но который, не будучи ни тем, ни другим, только добавил свое имя к списку мошенников, которые меня обчистили. Я не замедлил расторгнуть наше сообщество; он остался моим должником на значительную сумму пиастров, на которые написал мне расписку сроком на три года, по которой не заплатил мне за все время ни су. Я испытал отвращение к коммерции и почти решился ее покинуть, но то, что произошло со мной вследствие одного приглашения на обед, пресекло в корне мои колебания.
Мое повествование будет поучительным. Расскажу кратко, воздержавшись от комментария.
LXXXVII
Я оставался с дебитовым остатком на счете у аптекаря в Нью-Йорке. Приезжая в этот город, я приходил к нему и запрашивал расчета. Мы изучали его книги, я находил там многочисленные ошибки, которые просил его исправить, и все проходило без малейших пререканий. Существовала только разница между нашими взаимными расчетами; он запрашивал с меня сто пятьдесят пиастров, я был уверен, что должен ему только сто двадцать. Прежде чем мы пришли полностью к согласию в этом вопросе, настало время обеда. Он привел самые живые доводы, чтобы я поел вместе с ним; я согласился. За столом о делах говорили мало. Я отметил, не придавая этому слишком большого значения, что мой хозяин старается заставить меня пить без меры, но, верный своим привычкам умеренности, я был сдержан. Обед закончился, мы вновь взялись за изучение наших книг, которое тянулось долго.
Время шло; не желая оказаться ночью в дороге, я заметил ему, что, поскольку мое присутствие в Элизабет-Тауне необходимо, я хотел бы ехать. Я пообещал ему вернуться через два или три дня, желая оставить ему время для того, чтобы выверить этот счет, который я предлагал оплатить через представительство одного негоцианта города, хранителя принадлежащих мне товаров. Он не отвечал мне ни да ни нет, но, под предлогом дать поручение своему служащему, шепнул ему несколько слов на ухо, и молодой человек поспешно вышел. Стараясь выиграть время, он вышел в соседнюю комнату взять бутылку и вернулся, приглашая меня выпить на посошок. Без всякого недоверия, прежде чем согласиться, я сделал ему то же предложение относительно представителя. В этот момент снова вошел служащий, задыхающийся и вспотевший; не имея более предлога меня удерживать, хозяин сердечно со мной попрощался, и мы расстались.
Едва сделал я три шага по улице, как почувствовал мощную руку у себя на плече и услышал над ухом: «Я вас арестую». Я поворачиваюсь и вижу, что этот сбир не кто иной как служащий моего Амфитриона. Я спрашиваю у него, по какому праву он так поступает и чего он от меня хочет. Он отвечает мне: «От имени шерифа; и я хочу те сто пятьдесят пиастров, что вы должны моему патрону, или гарантии двух платежеспособных персон, либо вы последуете за мной в тюрьму».
Я пообещал не делать никакого комментария к этому беспримерному факту, и я держу слово. Я поместил деньги в депозит у Брадуста и Фульда, Нью-Йорк, и оплатил таким образом сто двадцать пиастров, что я был должен, а не сто пятьдесят, которые были мне заявлены. Четыре года спустя я прочел в публичном листке: «Джон Маккинси, негоциант из Нью-Йорка, умер в Саванне, пораженный молнией». Это был человек, который устроил мне это унижение.
По возвращении в Элизабет-Таун, я не желал больше слушать о делах. Я ликвидировал все, и, поскольку распродажи моих товаров оказалось недостаточно, я должен был добавить к ней мою небольшую собственность, в которой я надеялся найти убежище для моих преклонных лет.
LXXXVIII
Я вернулся в Нью-Йорк и снова стал изыскивать ресурсов, которых у меня не хватало, в коммерции муз. Немного дней мне было достаточно, чтобы убедиться, что итальянская литература полностью неизвестна в этом городе, а что до латинской литературы, то господа американцы претендуют быть в ней достаточно учеными, чтобы сойти самим за переводчиков. Так что я потерял всякую надежду, когда мой добрый гений привел меня в лавку Рисли, библиотеку на Бродвее. Я спросил, есть ли у него какие-нибудь итальянские работы. «К сожалению, есть, – ответил он, – потому что никто их у меня не спрашивает». Во время этого разговора зашел еще американец и вмешался в нашу беседу. Я достаточно быстро уловил, что имею дело с эрудитом. Сюжет нас увлек, мы начали говорить о языке и о поэзии моей страны. Я спросил у него, как случилось, что то и другое оказались в таком небрежении в Америке. «Ах, – ответил мне он, – современная Италия, к несчастью, более не та Италия древних времен. Это более не та страна, что веками поставляла равных, скажу более – соперников Греции. Сегодня трудно найти более пяти или шести авторов, которыми она могла бы прославиться».
Я просил его, улыбаясь, их перечислить. Назвав мне Данте, Петрарку, Боккаччо, Ариосто и Тассо, он остановился, затем, возобновив перечисление, заметил:
– В действительности, я затрудняюсь сказать вам, кто будет шестой.
– Позвольте мне, в свой черед, назвать вам всех сынов Италии, которые ее прославили в течение веков, о которых вы говорили; боюсь, перечисление будет долгим.
– Это бесполезно, мы их не знаем.
– Я это вижу.
И, меняя тему: «Полагаете ли вы, что учитель итальянского языка может надеяться здесь на некоторый успех?
– Вы можете не сомневаться.
– Если это так, я буду тем счастливым смертным, который даст познать американцам достоинства нашего языка и даст им возможность оценить наши шедевры.
Через три дня двенадцать учеников пользовались моими уроками, и 1 декабря 1807 года я дебютировал в этой карьере под ауспициями преподобного епископа Мура. Это под его уважаемым патронажем я заложил фундамент моего нового здания. Ученики, что оказали мне более всего чести в моем дебюте, были его сын, его племянник и два других юных джентльмена, все четверо известные в городе Нью-Йорк своей эрудицией. До истечения месяца я насчитывал их двадцать шесть, и в момент, когда я это пишу, их уже более пяти сотен.
Старание, которое они демонстрировали, уважение, которым пользовались язык и учитель, который его преподавал, доходили до энтузиазма. По истечении трех месяцев меня уже не могло бы хватать, если бы Провидение, которое всегда соразмерно прилагаемым усилиям, не пришло мне на помощь.
Вам, преподобный Клемент Мур, причитается вся честь успеха. Позвольте от всего благодарного сердца воздать эту честь вашей памяти.
Я не пренебрегал никакой оказией поддержать это священное пламя; я запрашивал у всех библиотек Италии и Франции все то, что содержали их магазины доброго и прекрасного. Я не смогу обойти молчанием добрые услуги, которые оказали мне в этих условиях гг. Боссанж, «Библиотеки Парижа», которые старались предоставить в мое распоряжение все книги своего магазина и, по простому моему заказу, направляли мне то, что я заказывал, предоставляя мне наипростейшие условия оплаты. Мой брат Паоло всячески помогал мне всеми возможностями своей дружбы, отправляя мне наших лучших классиков, которых я распределял среди своих учеников, и, менее чем в три года, я имел удовлетворение видеть фигурирующими эти книги в библиотеках всех людей со вкусом вне моих классов. Я провоцировал таким образом малые объединения, чтобы упражнять моих учеников; в них говорили только по-итальянски. Я организовал у себя театр, где слушали и изучали шедевры Альфиери и множества других. Я достиг, наконец, цели, что себе поставил, я мог признать полностью состоявшимся предприятие моей семьи. Я был бы счастлив, если бы мог ограничить этим мои амбиции и уберечься от себя самого!
LXXXIX
Первый, кто вовлек меня снова в карьеру коммерции, столь пагубную и столь мало пригодную для меня, был англичанин, которого я знал по Лондону, где он меня уже обманул. Когда я снова встретил его в Нью-Ньорке, он предстал передо мной столь раскаивающимся, он был, по его словам, настолько другим, он вымаливал прощение с такой настойчивостью, что, уступая порывам своего сердца, я счел его оправданным. Он занимался винокуренным делом, надо сказать, очень умело, и сулил мне большие выгоды, если я смогу обеспечить ему какие-то вложения – единственное, что ему не хватало для процветания. Я доверил ему сумму, достаточно большую, и все шло отлично в течение нескольких месяцев. Но вскоре его лень и его беспорядочность заставили меня раскаяться в том, что я оказался замешан в его дела. Я принял решение порвать с ним и, чтобы покончить со всякими проявлениями слабости, уехать из Нью-Йорка, чтобы более не пытаться возобновить школы, которые я создал. Я вообразил, что энтузиазм моих учеников охладел. Я был в таком расположении духа, когда получил письмо от родственницы, поселившейся недавно в Санбюри. Она дала мне столь прекрасное описание этих мест, что зародила во мне желание поселиться там с моей семьей. 10 июня 1811 года я туда прибыл, и трех дней мне хватило, чтобы решиться, хотя прием, который я там встретил, был намного менее любезен, чем следовало из письма, которое меня соблазнило; потребность в отдыхе, очарование города и моя вера в Провидение не оставили во мне места для нерешительности. Я скопил в Нью-Йорке три-четыре тысячи пиастров, я думал, что с этой суммой, проявив немного разумности, я могу выйти из дел. Я поделился моим проектом с доктором Г., которого я мог считать моим другом; он его одобрил и сказал, что если мой небольшой капитал ликвиден, я хорошо сделаю, использовав его для приобретения различных товаров, и особенно – фармацевтических средств, для которых он обещал мне сбыт тем более уверенный, что он сам был врачом. Я слепо последовал его совету. Я вернулся в Нью-Йорк привести в порядок мои дела и выполнить часть моих закупок; оттуда, проехав в Филадельфию, чтобы их пополнить, я зашел там в лавку, где услышал разговор по-итальянски. Хозяин, по имени Астольфи, продавал там ликеры и сласти. Я как раз располагал ассортиментом этих товаров; я предложил их ему и повел его к себе, чтобы передать образцы. Он пригласил, в свою очередь, меня к себе, чтобы повидаться. Я пришел в тот момент, когда он садился за стол; этот час был назначен, чтобы стать для меня фатальным! Он пригласил меня, я отказывался; но он, закрывая свою дверь на ключ, заставил меня согласиться. Он обращался со мной очень хорошо, в этот день, так же как и в последующие. Добрая репутация, которой он пользовался, меня очаровывала. Он был человек организованный, экономный; он посещал церкви, все его считали совершенно порядочным человеком. Товары, что я ему предлагал, ему подходили, но он опасался вложить в них слишком большой капитал. Я приветствовал его скрупулезность и предложил ему приобрести их за мой счет; после вычета расходов, мы должны были поделить прибыль. Видя меня столь доверчивым, он решил, что может себе позволить все, и, выбрав благоприятный момент, предложил мне почтовую коляску и лошадь, что меня устроило, за четыреста пятьдесят пиастров, которые я ему отсчитал. Дела мои закончились, я уехал. Его прощание было нежным, он сжал меня в своих объятиях, помог мне подняться в мою коляску, и я возблагодарил небеса, что они дали мне такого друга. Проезжая Рединг, где я остановился, чтобы дать овса моей лошади и самому перекусить, я стал объектом неприязни, которая стоит того, чтобы о ней упомянуть.
XC
Я вошел в залу, заполненную путешественниками. В этой толпе находился француз, который, увидев меня, воскликнул:
«О, месье Дюпон, я счастлив вас снова увидеть»; и все остальные принялись повторять, как эхо: «Дюпон! Дюпон!». Я оказался тотчас окружен людьми, столь возбужденными, как будто они были моими самыми старыми друзьями. Все взапуски стали предлагать мне различные продукты своего производства, представляя мне на выбор способ оплаты. Я не мог объяснить себе такое доверие части торговцев, для которых я был незнакомцем, и чья осторожность в делах была общеизвестна. Я сделал несколько мелких покупок, за которые рассчитался сразу, и все выразили желание завязать со мной отношения намного более серьезные. Что я и проделал последовательно. Но в этот день я мог унести с собой весь Рединг, если бы моя коляска могла его вместить. Только за несколько минут до отъезда некий француз, причина всей этой путаницы, дал мне разгадку тайны; эти молодцы приняли меня за богатого Дюпона, фабриканта бренди, жителя Санбери и брата знаменитого Дюпона, который осуществлял, за счет правительства, монополию на производство боевого пороха.
Так я выбрался из Санбюри, в целости и сохранности, без каких-либо других неприятностей, кроме поломанной рессоры моей коляски, что не повлекло за собой никаких неприятных последствий. Доктор Г., мой врач, которому я полностью доверял, сделал мне предложение поместить мой склад лекарств у него, внушив ловко, что они будут там более в ходу. Я не счел в этом никакого неудобства и согласился; мои прочие товары размещались у меня, я продавал их достаточно просто за наличные, с выгодой. Удовлетворенный сверх меры столь прекрасным началом, я возвратился в Филадельфию, чтобы повторить операцию. Я посетил своего нового друга, у которого встретил ту же приветливость и те же заверения; я остановился у него только на несколько дней, другое дело требовало моего присутствия в Нью-Йорке.
XCI
Во время моего проживания в Элизабет-Тауне я имел деловые отношения с торговцами города Нью-Джерси; среди других дебиторов, что я там оставил, был некий У. Теллер, который был мне должен сотню пиастров, которые я потерял всякую надежду когда-либо получить. Несмотря на свою репутацию плохого плательщика, он обманывал с такой ловкостью, что самые недоверчивые попадались. Он столько задолжал на площадках Нью-Йорка, что не осмеливался там появляться из опасения поиметь неприятности с констеблем. Однажды, когда я был у себя в комнате, занятый приведением в порядок моих бумаг, я увидел его неожиданно входящим ко мне. «Я зашел узнать, – сказал он, – как поживает мой драг да Понте». В тот же момент послышались многие удары в мою дверь; я спустился и увидел сына одного негоцианта, который, в сопровождении констебля, пришел его арестовывать. Мне показалось неблагородным позволить вести его таким образом в тюрьму; речь шла о купюре в восемьдесят экю. На столь малую сумму я дал свое поручительство, и его кредитор удалился. Вернувшись в свою комнату, я не нашел свои бумаги в том порядке, в котором их оставил. Никто другой, кроме него, не заходил; я не ощутил, однако, никакого подозрения и, все сложив, объяснил, какую услугу только что ему оказал. Он меня поблагодарил и обещал не забывать этого и быть отныне пунктуальным. Прошли месяцы, в течение которых он должен был мне уплатить эти восемьдесят экю. Я ему написал. Не получив никакого ответа, я отправился навестить его в Нью-Джерси; он выдал мне кучу выдумок и кончил тем, что предложил мне в возмещение заморенную лошадь и пару постромков для моей почтовой коляски, на что я согласился, вспомнив поговорку: «нет ничего меньше, чем ничто», и дал ему квитанцию. Едва переступил я порог его двери, как один из его сыновей предстал передо мной вместе с констеблем, говоря мне, что купил обменный вексель, выданный на меня Тейлором, и что я должен платить по нему или идти в тюрьму.
Вот разгадка этой тайны. В тот самый момент, когда я спасал Теллера от тюрьмы, ручаясь за него, этот мошенник рылся в моих бумагах и завладел этим векселем, который я оплатил во время пребывания Тейлора в Париже. Хозяин отеля, где я поселился, и У. Скотт, адвокат Брюнсвика послужили мне поручителями, и я остался на свободе. Теллер, тем не менее имел наглость перенести дело в Верховный суд. Я явился туда; но он не осмелился дойти в своей наглости до таких пределов, и я был оправдан. Семь лет спустя Теллер расплатился тюрьмой штата, где кончил свои дни, оставив след в публичных архивах.
Увы! Вся страна претерпела моральную трансформацию, которая происходила, все время нарастая, с того дня, как я ступил ногой на землю Америки. Это разложение распространялось по городам и весям, и Санбери 1818 года был уже не тот, что Санбери 1811 года. Даже мой зять не избег этого влияния; он уже не был тем, кого я знал в Триесте. Его сердце иссушилось. Копить золото стало его единственной целью. Его коммерция и барыши, которые он от этого имел, не удовлетворяли более его страстям и тому беспорядку, который от этого проистекал.
XCII
Я пользовался до сего дня продажей за наличные; мой барыш был умеренным, но он уберегал меня от неблагоприятных факторов. Мой зять указывал мне, что противная система предоставляет мне гораздо большие преимущества. Я позволил себя соблазнить и поддался его гибельным советам. Я был настолько зачарован этим человеком, что «very Good» из его уст было достаточно, чтобы меня убедить. Я поддался его убеждениям и стал продавать в кредит. Прознав про этот образ действий, сбежались авантюристы; в несколько недель мои магазины оказались опустошены, без того, чтобы мой кошелек от этого стал туже набит; вместо этого мой портфель переполнился простыми векселями, шансы на оплату которых оказывались, увы, как у осенних листьев, приносимых ветром. Мой зять не переставал меня нахваливать, сопровождая каждое новое имя моих должников восклицаниями: «Good, very Good, all very Good». Со сроками оплаты получилось совсем другое дело. Восклицания поменялись и сменились другими: «Bad, very Bad, all very Bad». Между тем следовало подумать над тем, чтобы наполнить мои магазины. Я думал податься в Филадельфию, где надеялся раздобыть несколько сот пиастров у моего друга Астольфи, как за товары, что я ему поставил, так и вернув ему лошадь и почтовую коляску, что он мне продал, и, может быть, также избавиться от лошади Теллера, и использовать эти деньги на закупку товаров. При нехватке начального капитала, я обратился к своему зятю, который сходил у меня за Креза, и попросил у него сотню пиастров, предложив ему в залог один из тех векселей «very Good», срок оплаты которых был близок. Он предложил мне обратиться к свекру, который мог бы, возможно, заняться моими лекарствами, которыми не занимался доктор Г. Я согласился и в обмен шести сотен пиастров, что стоили мне эти лекарства, получил часы с репетицией, которые перепродал за сто шестьдесят пиастров, вексель со сроком оплаты в пять лет, и сорок экю наличными; с этим богатством в руках я сел в мою коляску, запряженную моими двумя лошадьми, и в три дня приехал в Филадельфию. Лошадь Астольфи была неплоха, та, что Теллера, хотя и хромая, казалось, имела крылья; на въезде в город, видя, что она хромает больше, чем обычно, я показал ее кузнецу, который указал мне, что у нее на ноге неизлечимый дефект, и предложил за нее шесть пиастров. Я поблагодарил его и продолжил свою дорогу. Я направился к Астольфи. Его прием предвестил мне неприятное приключение.
«Как себя чувствует синьор да Понте?» – спросил он, предлагая мне стул, и, сев рядком, мы заговорили о погоде, но не о делах. Это начало меня заинтересовало, но, тем не менее, сдержавшись, я спросил у него с наибольшим хладнокровием, как продвигается его коммерция.
– Плохо, очень плохо, дела умерли.
– А мои ликеры?
– Мараскин не имеет силы, корица – без запаха; я боюсь, что не смогу возвратить сумму, которую вам авансировал.
– Раз дело обстоит так, верните все мне.
– Это невозможно, – воскликнул он, перебивая меня, – я запродал партию и надеюсь развязаться с остатком.
– А прибыль?
– Какая прибыль? Я сочту себя счастливым, если потеряю только сотню пиастров.
Я молча посмотрел на него и резко покинул этого якобы порядочного человека, проклиная его лицемерие и мою глупую доверчивость.
Не сумев ни продать моих лошадей, ни превратить в деньги вещи, что я привез, я сделал очень мало приобретений и пустился в обратную дорогу в Санбери. На горе, откуда наблюдалась деревня Орвисбург, обе оглобли моей почтовой коляски поломались одновременно. Испуганные, мои лошади закусили удила, коляска стукнулась днищем о землю и от этого удара я вылетел на расстояние десяти шагов, на каменный обломок, который сломал мне ребро и вывихнул левое плечо. Прохожий, свидетель происшествия, перевез меня в местную гостиницу, где я оставался двадцать дней, во время которых мне делали кровопускания, после чего я велел отнести себя на носилках в Санбери, заплатив пятьдесят шесть пиастров хозяину, который меня приютил.
Несмотря на заботы, которыми окружила меня моя семья, в течение более чем трех месяцев последствия этого несчастного случая не давали мне возможности действовать. Особенно досаждала мне внутренняя боль, которая никак не утихала. Мне советовали податься в Филадельфию, чтобы проконсультироваться у врача; я согласился. Наступал период моих денежных поступлений; никто не появлялся. Я не мог, однако, уехать и оставить мои дела нерешенными. Я объединил своих должников и, при невозможности получить все сразу, мне пришлось дать им отсрочку до времени уборки урожая – единственного времени, когда я мог надеяться что-то получить за счет продуктов их земледелия. Этот момент настал, почти все сдержали слово, и я увидел мой дом наполненным продуктами всех сортов. Сохранив только то, что было мне необходимо для собственного употребления, я разделался со всем остальным, за исключением зерна, которое я сохранил для перегонки – вида деятельности, о котором я имел некоторое понятие, надеясь извлечь из этого больше выгоды, благодаря обучению, которое я прошел в Нью-Йорке.
Я сначала взялся за дистилляцию, затем – мне понадобился человек во главе моего предприятия. Вместо одного я встретил троих, которые мне подходили, тем более, что они представлялись с наилучшими рекомендациями. Я поставил одного начальником, двух других – как старших мастеров, и, доверив им мое зерно, отправился в Филадельфию. Я велел позвать доктора, который назначил мне наружное лечение и велел оставаться в постели. На мой вопрос, что я могу принимать, он ответил – «ничего, приходите ко мне завтра».
Поспав два часа, я пошел прогуляться и, не обращая внимания на его предписания, проходя мимо рыбного рынка, я купил очень хорошую рыбину, которую велел отнести к себе и которую съел всю целиком с наилучшим аппетитом. Назавтра я был у моего доктора; он был рад меня видеть, и еще более рад тому, что я религиозным образом соблюдал диету, которую он мне предписал, и велел ее продолжить; в течение пяти дней я действовал таким же образом и был совершенно во здравии.
XCIII
Силы мои вернулись, я снова занялся моими делами. Благодаря моим часам, моим лошадям, моей коляске и достаточно большому количеству моей проданной водки я оказался обладателем семи-восьми сотен пиастров, с которыми возобновил свои спекуляции. Распространился слух, что я выгоняю из зерна водку, мало отличимую от той, что французские дистилляторы выгоняют из своих вин. Два негоцианта прибыли предложить мне продать им все, что я произведу. Мы заключили контракт, очень выгодный для меня, по которому они должны были мне платить наличными или снабжать меня в обмен всем, что мне необходимо.
Фортуна мне улыбалась, я счел своим долгом вернуться в Санбюри, чтобы закупить там все зерно, которое найдется. Я сел в местный дилижанс, который останавливался в Рединге. Мы выехали вечером. Мы должны были проезжать деревню, называемую Трапп, отстоящую на расстоянии двух миль; небо было очень темным. Переезжая через мост, кучер, смертельно пьяный, вывалил нас в канаву, и из нас – десяти пассажиров ни один не вышел оттуда, не будучи более или менее пораненным. Что касается меня, я получил сильную контузию левой руки, вывих лопатки и настолько ушибленный позвоночник, что малейшее движение было для меня невыносимо. Меня перенесли более мертвого чем живого в гостиницу, и только через три недели я смог вернуться в Филадельфию, восстановив свои двигательные возможности. Я готов был вызвать доктора, который пользовал меня в первый раз, когда один из моих друзей пришел в сопровождении доктора Бартона.
Слова слишком слабы, чтобы передать манеру, с которой этот превосходный человек за мной ухаживал. Не удовлетворяясь тем, что он оделял меня приемами своего искусства, он приносил мне книги, чтобы меня развлечь, нанося мне по два-три визита в день и каждый раз оставаясь часами возле моей постели; в три недели я поправился. Увы! К несчастью для человечества, человек, которому я обязан столь быстрым восстановлением, мертв; но память о нем мне будет всегда дорога.
XCIV
В моей судьбе было записано, чтобы я был всегда обманут. Казалось бы, естественно, что в семьдесят лет я должен был бы набраться достаточно жизненного опыта, и что многочисленные невзгоды, с которыми я сталкивался, должны были бы сделать меня мудрым и осмотрительным; ничего этого не было. Было, наоборот, записано, что я всегда буду становиться добычей интриганов. Было сказано, что выйти из одной пропасти для меня – лишь стимул, чтобы попасть в другую.
Возвратившись в Санбюри, я нашел мою винокурню в состоянии самом бедственном, или, лучше сказать, я нашел от нее только стены. Три личности, которым я доверил управление, оказались тремя бездельниками из Нортумберленда, еще большими мошенниками, чем все те остальные, что пользовались моей добропорядочностью с тех пор, как я ступил ногой на землю Америки. Я был полностью ограблен. Они распродали все произведенные товары и с последней проданной бочкой они испарились. Нужно было заменить этих людей другими, и те, с кем я имел дело, не проявляли себя ни более порядочными, ни более благодарными.
К счастью, у меня еще оставалось достаточно большое количество зерна, которое я поспешил превратить в водку и смог, таким образом, осуществить мою первую поставку, в результате оплаты которой закупить груз товаров, за которые получил превосходную прибыль.
Я полностью поменял мой способ торговли; фермеры приносили мне собранный урожай, который я оплачивал либо наличными, либо в обмен по их стоимости. Все шансы были, таким образом, на моей стороне, и я имел все основания полагать, что, наконец, добился успеха. Некто по имени Робинс, который удалился от дел, после того, как словил удачу, организовав свои магазины, сдавал их в аренду. Случай представился мне тем более благоприятным, что, став из продавца покупателем, я отказывался от помещения, где надо было помещать урожай, который мне приносили. Я связывался с фермером; он оказывался сговорчив, и я соглашался. Когда дело было закончено, он рекомендовал мне молодого человека, за которого отвечал; эта рекомендация оказалась тем более кстати, что мне нужен был кто-то, на кого я мог рассчитывать. Я решил, что не может быть ничего лучше, как обзавестись человеком, о котором мне даются столь совершенные сведения. Я поселил его у себя и сделал его сразу моим приказчиком, моим секретарем и моим агентом. В течение первого года все шло так, что у меня не было повода в чем-либо его упрекнуть: он был активен, интеллигентен, погружен в дела, короче, я аплодировал себе за свой выбор.
В эту эпоху процветания я уступил желанию, что у меня было, построить себе дом; в восемь месяцев это желание осуществилось, и я получил удовлетворение, владея одним из самых прекрасных зданий Санбюри, этого края, где города столь восхитительны. Если я, со своей стороны, был доволен своим агентом, он, мне казалось, весьма счастлив был со мной… В тот момент, когда Робинс мне его представлял, тот был в такой нужде, что в течение двух первых месяцев не мог платить хозяину, у которого столовался. Но прошли эти первые месяцы, я увидел его хорошо одетым, снявшим более комфортабельное жилье; словом, это была полная трансформация в привычках и внешнем виде. Все эти вещи, которые отнюдь не ускользнули от моего взора, должны были открыть глаза – но ничего этого не произошло. Он был принят в пансион в одну малообеспеченную семью, состоящую из матери и дочери. Мало помалу, и под разными предлогами, он привлек этих женщин в дом. Мать подметала мои магазины; дочь оказалась полезна тысячей малых услуг. В конечном счете, если отвлечемся от одной и от другой, это на них двоих все держалось; я жил в полнейшей беспечности, без малейших опасений; и, однако, я находился на краю пропасти.
Этот молодой человек имел в своем свободном распоряжении мою лошадь и коляску, которые использовал для перевозки проданных товаров и доставки тех, что я покупал. Однажды утром он выехал с этой нагруженной коляской до того, как я спустился; имея дело со множеством товаров, то ли отправляемых, то ли получаемых, я обратил на это внимания не более, чем обычно. Прошел весь день, но я не видел, чтобы он вернулся, однако я этим не заинтересовался. Я ждал весь следующий день – его нет. Это отсутствие продолжилось, и до меня дошли некие слухи, я забеспокоился и обратился в полицию, где сделали вид, что напали на его след, но, определенно, не смогли ничего раскрыть. В то же время я сделал инвентаризацию моих магазинов и пришел к печальному убеждению, что вещи, которые он унес, были как раз самыми ценными. У меня был, среди прочего, превосходный ассортимент пушнины, который я теперь не находил. Я направился в его жилище, чтобы расспросить женщину, у которой он жил; она уехала вчера вечером. Два дня спустя, вернувшись в поселок, я потребовал вызвать ее к мировому судье, которого она заверила, что более шести месяцев она получала в торговом доме, который отказалась назвать, все, что ей необходимо в ее домашнем хозяйстве, как из продуктов питания, так и из предметов одежды. Ее признания были подтверждены показаниями ее дочери, когда ту допросили. Судья не смог добиться других объяснений. Эти две женщины не обладали никакой платежеспособностью и у них не было найдено никаких материальных доказательств соучастия, и я вынужден был отступиться от уголовного преследования, которое имело единственным результатом только то, что я добавил к потерям, что претерпел, расходы, что я должен был понести на полицию и мирового судью.
Позже мой вор подал знак жизни. Он имел дерзость написать мне, называя меня клеветником, и я должен был счесть себя счастливцем, что мне не пришлось ему платить неустойку.
XCV
В течение доброй дюжины лет у меня служила молодая американка, которая давала мне всегда доказательства неподкупности и порядочности, которых только можно желать. Я не нашел ничего лучше, как доверить ей управление моими делами. Однажды вечером мне пришли сказать, что подан ужин. Я был занят тем, что вел записи в счетную книгу; я положил в нее поспешно несколько банкнот и взял ее с собой. Придя в обеденную залу, я положил ее на стол. Место этой молодой девицы было рядом со мной; она села, взяла книгу, положила ее на свой стул, себе за спину, повернув так, что книга приоткрылась и банкноты попадали. Ужин кончился, я вернулся в свою комнату, снова взял свою книгу, с которой никогда не расстаюсь, и, по привычке, сунул ее под подушку. Утром, проснувшись, я обратил внимание на мои банкноты – не хватало трех, по пятьдесят пиастров. Я поспешил в обеденную залу, смотрел всюду и ничего не нашел. Я позвал эту девушку; я допрашиваю ее – просьбы, угрозы – все бесполезно. Три дня спустя соседка приносит мне банкноту, которую она нашла под камнем, в том же месте, где она заметила в вечер кражи эту юную персону, которая наклонялась, как бы для того, чтобы что-то спрятать. Но в тот момент она не придала этому значения. Я пошел в описанное место, обшарил все вокруг камней, но безуспешно. Поскольку все мне говорили, что взывать к правосудию – это терять время, и я сам, обращаясь к тому, что случилось у мирового судьи по случаю кражи, о которой я говорил выше, убедился в этом, я ограничился тем, что уволил ее. Так что я потерял сотню пиастров.
Я прошу прощения за эти подробности, которые могут показаться несерьезными; но в моем положении они были для меня важными событиями.
XCVI
В это время случилась смерть сестры моей жены. Эта смерть, казалось бы, должна была внести изменения в нашей ситуации. Моя свояченица была вдова, без детей, абсолютная хозяйка достаточно солидного состояния, полученного с помощью моих советов и содействия моей Нэнси. Я не игнорировал ее малую симпатию ко мне, но далек был от мысли, что на своем смертном ложе она проявит несправедливость лишить свою семью не только своего наследства, но и того, что ее сестра ей передала. Потеря этого наследства лишила нас четырнадцати-пятнадцати тысяч пиастров. Пусть небо простит ей забвение всех ее долгов!
Мои денежные средства значительно приуменьшились, и я оказался вынужден прибегнуть к займу, чтобы справиться со своими обязательствами. Для этого мне пришлось заложить в ипотеку мой дом, – формальность, которую можно было выполнить лишь не быстро, вследствие неумелости, или скорее недобросовестности, моего адвоката. Мой кредит ощутил эти задержки. Мои денежные поступления выполнялись с трудностями. Мои кредиторы проявляли себя чрезмерно требовательными и, с возникновением денежных угроз, начали меня преследовать. К этим частным неприятностям добавилась неприятность всеобщая. Мир с Англией привел к снижению более чем наполовину цен на все товары и стал причиной многочисленных банкротств, среди прочих и у негоциантов Филадельфии, с которыми я сотрудничал в области винокурения. Я оказался в затруднении со всех сторон. Единственное, что мне оставалось, это снова начать заниматься тем, что я делал в Лондоне, положиться на прощение тех, кому я был должен, передать им содержимое моих магазинов, продать мой дом и покинуть Санбери и вернуться в Нью-Йорк, город моих предпочтений в Америке.
Я мог бы еще побороться с противной судьбой и если не воспрепятствовать, то хотя бы отодвинуть мое падение, если бы адвокат, который вел дела по моему займу, не поставил своей целью поправить свои собственные дела, нанеся мне последний удар, преувеличив мои потери и распространив самые клеветнические слухи на мой счет. Он настолько напугал моего претора (судью), что тот трижды пытался, но безуспешно, поставить на продажу мой дом и приобрести его по ничтожной цене. Результатом этих махинаций было то, что беспокойство стало всеобщим и каждый счел для себя возможным воспользоваться этим в своих интересах. Те, кому я передал мои товары, и кто являлся моими дебиторами, находили тысячи предлогов, чтобы не рассчитываться со мной вовремя. Торговцы Рединга, которые наоборот были моими кредиторами, давили на меня с тем, чтобы я отдавал им то, что должен. Фермеры, которые до того без проблем продавали мне свои продукты в кредит, требовали, чтобы я платил наличными; в довершение неприятностей, негоциант из Филадельфии, который в течение долгого времени давал мне кредит у себя, объявил себя банкротом; так, одним ударом, я был лишен и денег и кредита.
Так я пришел к тому, что не смог обслуживать более проценты по сумме, за которую сдал в ипотеку мой дом. На этот раз мой претор смог выставить его на продажу. Это был смертельный удар. Вынужденный совершать частые путешествия, я проводил время на большой дороге из Санбюри в Филадельфию. Робинс воспользовался одной из моих отлучек, чтобы совершить поступок, который, без объяснений, говорит сам за себя. Он появился в моем жилище и, под предлогом сохранить мою коляску и двух лошадей, велел моему слуге передать их ему. Возвратившись домой, я хотел его поблагодарить и попросить их вернуть, но он мне ответил, что сохранит их, чтобы возместить себе арендную плату, что я ему должен.
XCVII
Меня ожидало последнее разочарование. Я должен был шестьсот восемьдесят пиастров человеку из Филадельфии, которого всегда считал самым надежным из своих друзей. Я зашел его повидать и просить его прийти мне на помощь, обнадежив некоторых из моих кредиторов, на которых он имел влияние. Он показал себя тронутым доверием, каким я его почтил, и пообещал его оправдать. Он меня пожалел, похвалил мою энергию в этих грустных обстоятельствах и пообещал прийти завтра и отчитаться в своих действиях, порекомендовав однако подождать его у себя дома. На следующий день я ждал его напрасно, но вместо него передо мной предстал констебль, принесший ордер на мой арест. Пока я полагал его занятым действиями в мою пользу с моими кредиторами, мой друг направился к одному из них, которому я был должен сотню пиастров, и, выдав ему мое обиталище, посоветовал поместить меня предварительно в тюрьму; затем, подав такой совет, отбыл в Санбюри, где, с помощью третейского соглашения, которое он у меня выманил, он надеялся завладеть моими последними остатками и вернуть себе дебиторскую задолженность.
При виде моих седин, констебль, в сто раз более гуманный, чем тот, захотел отложить выполнение своего мандата и дать мне время найти поручительство. Это было во второй раз, когда я нашел у человека этой профессии чувства, которые редко встречал у людей, занимающих значительно более высокое положение на социальной лестнице. Обежав безуспешно весь город, в шесть часов я был перед дверями тюрьмы. Мой великодушный констебль предоставил мне еще одну отсрочку, которая позволила мне найти двух человек, которые согласились ответить за меня, и я был свободен. Я отправился немедленно в Санбери, где нашел свой дом проданным и Робинса выполняющим вывоз моих магазинов, содержимое которых становилось добычей правосудия и фиска. Что делать? Прятаться и прятать мою семью – единственное, что мне оставалось.
Я вернулся в Филадельфию, где у меня оставалась еще некоторая надежда – увы! – очень слабая. Мой тесть и его сын, умерли оба в этом городе, обанкротившись. Их кредиторы вступили во владение недвижимостью, которая у тех была, и которая намного превышала их долги; мне давно советовали ревизовать судебные решения, предпринятые в этом деле. Я все время уклонялся от этого; но, в моем критическом положении, я счел своим долгом ничем не пренебрегать, и еще раз пал жертвой следования манере, которой подчиняется юстиция в этой стране.
Le leggi sono; ma chi pone mani ad esse![31]
«Существуют законы, но кому доверено их исполнение!»
Этот последний удар судьбы заставил меня решить вернуться в мой добрый Нью-Йорк; я туда вернулся, но как человек утопающий, которого выдернули за волосы из потока, и который оставил половину своих волос в руках того, кто его спас!
XCVIII
Я привез с собой в Нью-Йорк несколько прекрасных изданий разных авторов. Один из моих сыновей, молодой человек, наделенный самыми счастливыми способностями и солидным образованием, сопровождал меня; моей первой заботой было поместить его в условия, где он мог бы пополнить свое образование. Затем, я постарался восстановить мои прежние знакомства и сделать новые, чтобы довести до счастливого конца мой проект снова заняться моей первой профессией – учителя языка. Этот проект был встречен с готовностью всеми, с кем я говорил; ко мне стали стекаться ученики в таком обилии, что вскоре я был в состоянии снять дом, где поселился со всей семьей и открыл там курсы. Все этому обрадовались. Я пользовался слишком доброй известностью, чтобы было иначе. Мои старые ученики помогали мне всеми своими возможностями, одни – снова сев ко мне за парту, другие – поощряя своих близких и друзей прийти воспользоваться моими уроками. В недолгий срок я оказался во главе учреждения, лучше которого мне не оставалось и желать.
Ничто не тревожило более мою жизнь с материальной стороны, когда однажды, зайдя в комнату моего сына, я увидел его погруженным в тяжкое уныние и занятым письмом. Я читаю его письмо; оно содержит просьбу позволить ему продолжить свою учебу в Филадельфии, будучи в твердой уверенности, что он не добьется в Нью-Йорке никакого успеха.
Я не счел для себя возможным чинить препятствий его желанию, и разрешил ему вернуться туда.
XCIX
В это время внимание всей Европы было приковано к процессу, который был затеян в Англии между принцессой Каролиной Брауншвейгской и ее августейшим супругом; основным персонажем этого процесса был итальянец Бергами. Ирландский адвокат, натурализованный в Америке, составил на этот сюжет памфлет против всей итальянской нации, на который откликнулись американские и английские журналы. Будучи дуайеном итальянцев в Нью-Йорке, я счел своим долгом составить опровержение этого памфлета и отомстить за своих соотечественников. Я опубликовал это опровержение и получил многочисленные благодарности.
Прошло шесть месяцев со дня отъезда моего сына, от которого я не переставал получать превосходные новости. Увы! Как можно было предположить, что мне грозит самое большое для отца несчастье, и что все сговорились меня обманывать! Каково было мое горестное изумление, когда в тот момент, когда я менее всего ожидал этого, я увидел его входящим ко мне, едва узнаваемого, бледного, исхудавшего от страдания и в состоянии полного упадка сил. Заботы, лечение – все было бесполезно; в последующие шесть месяцев он угас у меня на руках до истечения своих двадцати лет. Огромные траты во время его болезни, значительные траты, что он произвел помимо меня в Филадельфии, которые однако я ни минуты не усомнился оплатить, исчерпали мои ресурсы. Существование стало для меня тяжким бременем; мои ученики в этих несчастных обстоятельствах проявили себя со всей сердечностью; они уговаривали меня провести некоторое время в провинции; я согласился. Один из них предложил мне жилище, которое мне подошло. Многие приезжали меня проведать, и внимательные заботы смягчили постепенно мои моральные страдания.
Вот каким образом распределял я свое время: я вставал с солнцем; после часа, отданного чтению, мы устраивали скромный завтрак, затем я уходил посидеть под деревьями и подышать воздухом; там я занимался переводом итальянскими стихами пророчества Данте, написанного лордом Байроном, которое я находил столь согласным с моими грустными заботами. Когда, устав от этого труда, я возвращался в дом, общество моих доброжелательных хозяев давало мне еще несколько сладостных часов. Так протекли два месяца и я почувствовал возрождение моих сил и присутствия духа, которые меня было покинули.
Вернувшись в город, я мог заняться судьбой моих двух других сыновей; один из них посвятил себя адвокатуре, другой – медицине, и я получил удовлетворение, видя зарождение их карьеры под наилучшими ауспициями. Я получил в то же время письма из Флоренции, которые повторяли восхваления, выданные опубликованным фрагментам моего перевода Данте; но что мне польстило более всего, это то, что написал мне из Венеции Джулио Тренто на сюжет моего опровержения памфлета ирландского адвоката против итальянской нации; мой ответ наэлектризовал всех моих соотечественников, и особенно моих многочисленных друзей и его самого, и удвоил интерес, который испытывали все ко мне. Он приглашал меня вернуться на родину и насладиться моим триумфом. При чтении этого письма слезы увлажнили мои веки.
Враждебность фортуны, казалось, исчерпалась, и она предоставила мне передышку; мое здоровье и здоровье моих близких было превосходным; если бы не потеря моего сына, ничто бы не нарушало моего счастья.
C
Памятное событие неожиданно произвело самую большую сенсацию в Нью-Йорке; это был приезд знаменитого певца Гарсиа и его несравненной дочери Малибран. Трудно описать энтузиазм американцев при прослушивании этих двух артистов. «Севильский цирюльник» бессмертного Россини был их дебютом. Я вспоминаю, как однажды, перед их прибытием, один молодой человек из Нью-Йорка, хотя и большой музыкант, говорил немного легкомысленно об этом творении. Захваченный его живостью, я не мог помешать себе ответить, что он ничего этого не слышал. Эти слова, показалось, его шокировали; я его успокоил и пообещал, что докажу, что я был прав. Позднее я отвел его на постановку «Цирюльника». По его восторгу, его восклицаниям мне было нетрудно судить о его впечатлениях. «Вы были правы» – сказал он мне. За «Цирюльником» последовал «Дон Жуан» Моцарта; был изменен сюжет, чтобы дополнить роль Оттавио. Я взялся ее дописать. Импресарио отступил перед необходимыми расходами; мои ученики, несколько моих друзей и я, мы сбросились и оплатили это. Опера была поставлена. Слова, музыка, актеры, особенно Малибран в роли Церлины, – все было замечательно. Любители разделились на два лагеря, один за Россини, другой – за Моцарта. Следует заметить, что Моцарт, немец по национальности, имел в ряду своих сторонников всех своих соотечественников, в то время как Россини, итальянец, имел среди своих противников значительное число своих компатриотов, поскольку Италия более, чем любая другая страна, населена завистниками, настроенными против других, более славных, людей. Один из этих завистников даже осмелился написать против Россини такое, что едва ли можно извинить, разве что безумцу или глупому невежде. Я счел своим долгом защитить прославленного маэстро в письме, которое опубликовал. Сегодня мне хочется сказать, что если Моцарт превосходит соперника своей глубиной, Россини не знает себе равных по части мелодичности и легкости, с которой певец обращается к интерпретации. Если в его музыке проявляются порой повторы, то это не от отсутствия идей и не от нехватки чувства; вина за это целиком лежит на импресарио, который, из скупости, прочерчивает поэту канву его пьесы и заставляет заполнять ее словами незначительными, которые, в действительности, почти всегда одни и те же во всех сценах, приводят поневоле к той же музыке. Если бы, вместо того, чтобы быть вынужденным писать на слова, Россини прилагал свою музыку к ситуациям, он достиг бы вершин жанра, свидетель чему – его «Цирюльник».
Полагаю, что могу позволить себе привести еще короткий анекдот на сюжет о посредственности этих пьес. Я присутствовал на представлении оперы, сидя рядом с одним американцем. В середине первого акта он говорит мне: «Синьор да Понте, когда кончится этот фрагмент, где поют, я собираюсь поспать; будьте добры разбудить меня при первой арии, которую стоит послушать; эта драма – наилучшее снотворное, что я знаю; в конце концов, это относится ко всем пьесам, которые прибывают к нам из Италии».
Не успел я ему ответить, как он захрапел. Подошел интересный отрывок; я его разбудил; он прослушал, затем снова стал спать. Три дня спустя представляли «Дон Жуана». Я прибыл в театр с утра и, найдя свое имя в книге регистрации присутствующих, записался для дальнейшего. Этот американец был уже в ложе, когда я прибыл. Я сел рядом с ним. В конце первого акта я попытался обратиться к нему с разговором, он промолчал. Спектакль закончился, он попросил у меня прощения за свое нетерпеливое движение при первом разговоре и захотел узнать, что я хотел ему сказать.
– Я хотел у вас узнать, понадобилось ли вам спать, и сказать вам, что я готов оказать вам услугу разбудить вас, когда надо.
– Давеча возможно, но на такой пьесе не только не спишь, но испытываешь такие сильные чувства, что не спишь потом всю ночь.
Этот комплимент тем более пощекотал мое самолюбие, что я был поражен, заметив столь же большое внимание на речитативах, как и на самых прекрасных кусках музыки. Он пригласил меня поужинать, и наша беседа, которая продолжалась добрых два часа, вращалась целиком вокруг театра. Он был энтузиаст Гольдони и Альфиери, которых называл двумя столпами нашей драматической литературы.
– Во Франции, – сказал он мне в заключение, – можно признать, владеют искусством пения столь же, как в Италии, но какое превосходство в построении пьес! Какой ум, какое подражание природе в делении на сцены и, в особенности, в игре актеров!
CI
По завершении моей карьеры, в девяносто семь лет, и чтобы заполнить часы досуга, я отдал напечатать мои Мемуары. Я знаю, что критика упрекает меня за стиль, который не отличается ни блеском, ни выдержанностью. Я отвечу, что, отнюдь не собираясь писать историю значительного персонажа, но человека скромного, жизнь которого, заключенная в тесный круг, не несла в себе никакого блеска, я должен был попытаться выполнить ее языком простым; что, очерчивая события по мере их совершения, я должен был прибегать к умолчаниям, вызванным встречающимися иногда лакунами, которые я отнюдь не заполнял с помощью выдумок, как это делают иные, менее щепетильные. Одним словом, я писал без претензий и измышлений; я счастлив, если смог заинтересовать или просто развлечь кого-то на минуту.
Так профессор ботаники, прогуливаясь со своими учениками в поисках растений, которыми хочет обогатить свою коллекцию, называет их с высоты своей кафедры и объясняет их свойства; Как и он, я резюмирую все и описываю испытания, которым капризной фортуне нравилось усеивать мою жизнь. Я перечисляю города, в которых я жил, роли, которые я там играл, достойных персонажей общества, с которыми я сталкивался.
В этих рассказах можно встретить наставления, такие, что находят в баснях Эзопа, где, под вуалью слов, по видимости легкомысленных, присутствует наставление. Множество авторов утверждает, что с чтением описания частной жизни получаешь больше, чем от истории народа. Если бы в моей юности я был чтением приобщен к жизни человека, с которым и случились мои приключения, скольких ошибок, сколько горя мог бы я избежать, такого, что до сих пор печалит мою старость! Я скажу вместе с Петраркой: я знаю свои ошибки, и я их оплакиваю.
Но увы! – зло не излечимо. Мне остается только раскаиваться, с тем, чтобы учились на мне тому, чему я не научился на других:
– Хранить себя от слишком большого самомнения и избегать льстецов;
– Опасаться слащавых слов;
– Избегать доверять тем, чьи характер и привычки не успел изучить;
– Не мерить прямодушие других своим;
– Не думать, что тот, кто, казалось, не имеет никакого интереса вас обманывать, не может это однажды проделать;
– И, наконец, не убаюкивать себя иллюзией, что злой может когда-то вернуться к благородным чувствам. Тогда публикация этих Мемуаров сможет стать хоть в чем-то полезной.
Конец
Сноски
1
Ваше здоровье – нем.
(обратно)2
Я люблю вас – нем.
(обратно)3
И я тоже вас люблю.
(обратно)4
По-видимому, имеется в виду – Одиссеем – прим. перев.
(обратно)5
И наследует им великий Аполлон.
(обратно)6
Утешение философией.
(обратно)7
Худшие враги гения похвалы (лат.)
(обратно)8
Bourru bienfaisant.
(обратно)9
О молитве.
(обратно)10
Касто – чистый по итальянски, прим. перев.
(обратно)11
Rara est concordia famae atque pudicita.
(обратно)12
Тигеллин – римлянин, отличавшийся пороками и красивым пением – прим перев.
(обратно)13
Так мне послужил Аполлон.
(обратно)14
Ослом ты родился.
(обратно)15
«Так поступают все, или Школа влюбленных»
(обратно)16
Ревю – прим. перев.
(обратно)17
Cosa rara.
(обратно)18
l'Arbre de Diane.
(обратно)19
Победителя провинция оплакивает.
(обратно)20
Ухажеру – ит.
(обратно)21
De Nouveau Trenck.
(обратно)22
Nina pazza per amore – опера Паизиелло – прим. перев.
(обратно)23
Сладко любить родину, сладко вновь увидеть своих.
(обратно)24
il gallo – «петух» и одновременно «француз»
(обратно)25
Я был потрясен…
(обратно)26
Наполеон вошел в Адриатику со своими петухами, Он вышел оттуда с четверкой лошадей. (обратно)27
Во имя Дуо?
(обратно)28
но
(обратно)29
О, трудности минуют: Боги положат им предел.
(обратно)30
Специальной адвокатской доверенности.
(обратно)31
Существует закон; но деньги в руках важнее – ит.
(обратно)
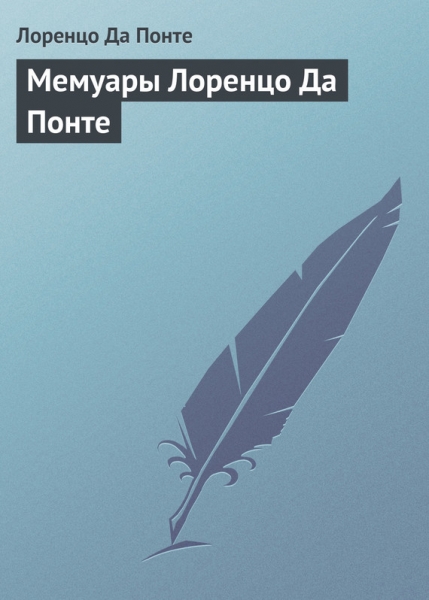


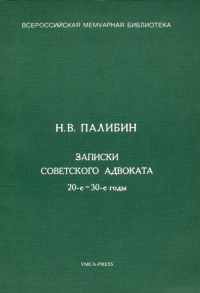

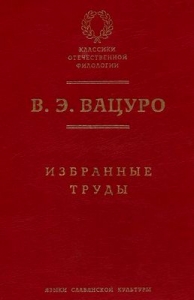



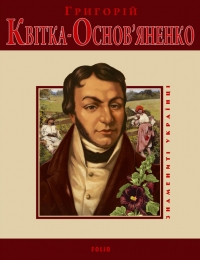
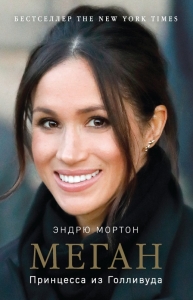
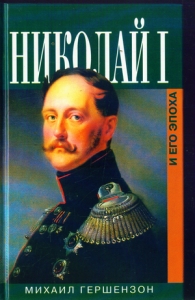
Комментарии к книге «Мемуары Лоренцо Да Понте», Лоренцо да Понте
Всего 0 комментариев