Константин Фишер Записки сенатора
Глава I
Мое детство — Отец и мать — Наши предки — Смерть отца — Стесненное положение матери — Графиня Мусина-Пушкина — Графиня Каменская — Уварова — Кончина матери — Мое отрочество — В гимназии — Тогдашние преподаватели — Гонение философии — Плисов — Экзамен и его последствия — Моя родня — Шуберт
Екатерина Великая начала свои записки положением, что жизнь человека зависит от него самого, и то, что называют счастьем, есть последствие собственных наших действий. Я прибавил бы к этому, что наши собственные действия зависят от обстановки нашего младенчества и отрочества; какова была эта обстановка — это уже дело счастья.
С тех пор, что я себя помню, отец мой, образованный, умный, благородный, но в высшей степени бесхарактерный человек, никуда не выезжал, виделся с весьма малым числом своих прежних приятелей, много хлопотал о разных незначительных бедных людях, его клиентах, но говорил о людях знатных и о дворе — как о предметах, близко ему известных, — без того обаяния, которое в тогдашнее время внушали толпе особы высокого рода или высокого звания.
Моя мать — женщина необыкновенно твердого характера, незнакомая лично с великосветскою жизнью, но с большим духовным образованием, сосредоточивалась на обязанностях матери семейства.
В то время (1805–1818) не было еще в моде разглагольствование идей либеральных. «Эмиль» Ж. Ж. Руссо читался с восторгом легкомысленными великосветскими дамами, а в кружках практического среднего сословия считался бреднями старого холостяка. Естественно было, что мы, дети, воспитывались не так, как нынешние, не были с родителями на «ты», не учились азбуке и географии по картинкам и не гуляли с голыми икрами. Мать одевала нас тепло, кормила просто, что, впрочем, и не могло быть иначе, и поила бузинным чаем, когда мы простужались.
Духовное воспитание наше заключалось в подчинении порядку, долгу и в особенности смирении перед старшими.
Находясь в стесненном положении, видя, что детям ее суждено жить без покровителей, мать старалась вкоренить в нас такие свойства, которые, по ее убеждению, могли помочь нам в честной борьбе с житейскими нуждами. Я не понимал тогда смысла нашего воспитания; видел только уважение к знатным, питаемое гордою нашею матерью, и приучался признавать всех знатных за людей такого ума, перед которым наш скромный ум должен был безмолвствовать. Отец говорил иначе о великих мира сего, но мы верили в слова матери, как в Евангелие, а рассуждения отца пропускали мимо ушей и, следовательно, невесело смотрели на положение, в котором суждено было жить нам.
Часто я был свидетелем рыданий матери перед взбешенным отцом, рыданий, которые мгновенно были задушаемы при появлении постороннего, и хотя объяснял это себе в то время виновностью матери моей (иначе она жаловалась бы, думал я), но все-таки мне было жаль ее и досадно на отца; впоследствии, уже в отрочестве, узнал я, что сцены происходили от ревности; отец мой ревнив был до сумасбродства, и добродетельнейшая мать моя была страдалицей; узнав это, я с нетерпением ждал счастья быть опорою матери и ее утешением в старости. Грустно вспомнить, как неудовлетворительно выполнил я эту благородную цель отрока.
Родители моей матери, постоянно боровшиеся с бедностью, но жившие как Филемон и Бавкида, смотрели также с благоговением на знать и богатство и в своем простодушии считали богатым всякого, кто не так беден, как они сами. Я неверно выражаюсь, говоря, что они боролись с бедностью; они вовсе не боролись: жили очень, очень скромно, однако ж аккуратно приберегали копеечку, то есть из 1000–1500 рублей дохода бабушка откладывала рублей 100–300.
Но и у этих стариков было свое горе. Обе их дочери, моя мать и тетка, овдовели, без средств содержать малолетних детей; из троих сыновей — двое были в армии еще до кампании 1811-го и 1812 года; младшего определил отец мой в свою канцелярию, и когда он через полгода получил чин 14-го класса, перешел тотчас в военную службу, в кирасирский полк корнетом, 16 лет от роду.
Старший сын, уже в капитанском чине, изволил самовольно отлучиться от полка и остаться за границею. Разумеется, русскому армейскому офицеру не велико было поприще в образованной и трудолюбивой Германии; скоро голод погнал его опять в Россию, но там ожидал его расстрел. Отец мой, прервавший уже все прежние свои связи, бросился, однако, к военному министру, его прежнему приятелю (кажется, Вязмитинову), и тот сумел в добрую минуту рассказать государю случай так комически, что государь рассмеялся и разрешил принять дезертира унтер-офицером в Грузию.
Через год такую же шутку учинил и второй сын. Каким образом отец мой уладил и это дело — не знаю, но знаю, что явился к нам дядя Август, которого нам приказано было называть дядей Карлом, что этот дядя определен был в армию как недоросль Карл. Сколько было слез и отчаяния в семействе, пока оба эти случая не уладились, и все это западало безотчетно во впечатлительное младенческое сердце мое!
Младший сын пошел лучше: через год за отличную верховую езду он был переведен тем же чином в гвардию; через полгода перешел опять в армию поручиком, потому что не мог содержать себя в гвардии, но при первом смотре великого князя Константина Павловича (кажется, менее чем через год) опять переведен в гвардию тем же чином. Родители его сжались еще более, чтобы доставить удавшемуся сыну способы остаться в гвардии и быть масоном, что в то время составляло почти необходимую принадлежность гвардейского офицера.
Тогда быть офицером гвардии стоило и дороже и дешевле; дороже потому, что были предрассудки: нельзя было ни ездить на извозчике, ни идти пешком по делу, бывало, шутили много над дядей, что он, отправляясь на службу пешком, шел самым небрежным шагом и останавливался перед окнами магазинов, чтобы иметь вид прогуливающегося; дешевле потому, что не было подписок на разные фантазии, как это делается теперь, и что полковые командиры не барышничали лошадьми, а, напротив, помогали офицерам; так, Чичерин, командовавший лейб-уланами, где служил дядя, узнав, что ему не на что купить хорошую лошадь, просил его «сделать ему одолжение» купить у него верховую лошадь за 200 рублей ассигнациями, потому будто, что она не чисто рыжей масти, и продал ему превосходную лошадь за эту баснословно малую цену.
Когда я начал понимать, что вокруг меня происходило, родители мои приходили уже в стесненное положение. Когда детей было двое, два мальчика, и даже при рождении первой девочки, ездили мы в карете; отец держал трех лошадей, к нему приходил парикмахер завивать и пудрить его; лакей наш ходил в гербовой ливрее; живописец писал с нас, мальчиков, портреты. Помню живо картину, висевшую над диваном, изображавшую брата и меня в натуральную величину, в красных куртках, гоняющимися в саду за голубем. Куда девалась эта картина? Потом продали карету и одну лошадь, однако же отец продолжал щеголять пристяжною лошадью и, по тогдашней моде, сам держал вожжу; лакея стали одевать в серое ливрейное платье, наконец не стало вовсе экипажа, и слугу одевали уже в обноски отца моего; между тем брата, а потом и меня, семилетнего мальчика, отдали в пансион, из которого только по праздникам приходили мы домой; бедность проникла во все поры.
Мы, дети, не понимали причины лишений, но плакали то о карете, то о лошади. Дома становилось мрачнее; прежде бывали посетители почетнее, между ними самые короткие — Ланской и графиня Мусина-Пушкина, крестившие старшего брата моего; потом — состоявший некогда при фельдмаршале Суворове Фукс, мой крестный отец, Капцевич, глупый генерал, Тургенев, Горголи, потом и их не стало; одна графиня Пушкина осталась верным другом нашего дома, да приходил поздравлять с праздником толстейший квартальный надзиратель Галямин с молоденьким, хорошеньким сыном.
Странные совершаются в России сословные метаморфозы: был банковый сторож, отставной солдат, покровительствуемый моим отцом; отец мой вывел как-то сына этого сторожа в квартальные надзиратели, а когда у этого квартального надзирателя подрос сынок, очень бойкий мальчик, определил юношу в институт путей сообщения. Лет 16-ти этот мальчик, при содействии моего отца, переведен в колонновожатые, а в 1822 году он был блестящим полковником генерального штаба, любимцем князя Волконского и великосветским человеком: это был Галямин. Его замешали в историю 14 декабря, и с тех пор звезда его закатилась.
В 1816 году отдали меня в гимназию 10 лет от роду, где мне очень не понравилось.
Мало-помалу доходили до меня сведения, что и наш род был некогда в хорошем положении. Род мой по отцу принадлежит к вюртембергскому дворянству (происхождения которого я не знаю), но, думаю, не к коренному, судя по родовому имени, означающему «ремесло»; однако во время французского регентства Фишеры имели уже герб: щит, в верхней половине которого — дуб в серебряном поле, а в нижней — золотая рыба в синем поле. Во время регентства Фишер был генералом корпуса его имени, им сформированного, с которым он вторгся в пределы Франции, был взят в плен и расстрелян. Брат его, мой прапрадед, был Staatsrath и Ober-Baudirector (статский советник и обер-директор над строениями); старший сын его — шталмейстер при вюртембергском дворе, а младший мой прадед — Regierungsrath (советник правления).
У него было два сына: Конрад, мой дед, и другой, которого имени не знаю. Дед мой должен был наследовать после богатого бездетного дяди, но для этого принуждали его быть военным, а он ходил слушать химические лекции; старик-дядя требовал, чтобы племянник оставил эти, по тогдашним понятиям, неприличные дворянину занятия и, не успев в этом, отнял у племянника средства существования. Тогда дед мой занял место профессора химии, что рассорило его окончательно с дядей. Имя химика Фишера получило известность; граф Мусин-Пушкин, президент Берг-коллегии, большой любитель химии, познакомился и подружился с ним в Штутгарте или в Тюбингене, не знаю, и, воротясь в Россию, пригласил его именем императрицы на русскую службу. Так род мой попал в Россию.
В Петербурге дед мой и жена его, урожденная баронесса Муфль, сделались жертвою науки: бабка моя выпила какой-то химический препарат, стоявший в стакане на столе у мужа, приняв за воду, а дед задохся в лаборатории при взрыве газа. Дед мой, по словам отца, учил Мелиссино и был изобретателем зеленого огня, который назывался в России мелиссическим огнем, потому что Мелиссино присвоил себе изобретение моего деда.
Отец мой остался сиротой четырех лет от роду. Граф Пушкин взял его к себе и воспитывал вместе со своим сыном. В 1783 году отец мой определен в службу «трех коллегий переводчиком», 17-ти лет; в 1790 году поступил секретарем к генерал-губернатору Архарову, а в 1793 году взял его к себе генерал-фельдцейхмейстер, князь Зубов, «секретарем от артиллерии, с чином капитана».
Надобно полагать, что отец мой был тогда не без состояния, потому что свита князя Зубова жила очень широко, а отец мой был и по природе порядочный мот. Щегольство и страсть тратить деньги на пустяки сохранились за ним, когда он был уже постоянно болен и когда каждая гривна нужна была для пропитания семейства. Но, впрочем, какая же была тогда и дешевизна: я видел еще дом трехэтажный, в три окна по фасаду, по Кадетской линии, вошедший в состав главного здания первого кадетского корпуса при его перестройке; в этом доме при Екатерине занимал отец мой бельэтаж в три комнаты и платил четыре рубля в месяц с отоплением.
Другие порядки были и в службе. Зубов нашел, что так как отец мой при нем, то имеет право быть капитаном от артиллерии и носить артиллерийский военный мундир. Так отец мой попал в военные и чуть ли не командовал батареей, которая, впрочем, состояла, кажется, из пушки без лошадей, а может быть, и без канониров.
Император Павел, вступив на престол, вывел на смотр все списочные батареи. Набрали под орудия батареи, наскоро импровизированной, городских лошадей; отец мой сел на лошадь, так же мало знавшую службу, как и он сам, и все потянулись на смотр. По первому выстрелу капитан и передки бросились полным карьером с поля, и к счастью — последствием была не Сибирь, а крепость. Многие сидели в крепости с отцом моим, высидели и опять стали служить, а отец вышел в отставку, опять с чином титулярного советника; с тех пор не было ни одной светлой минуты в его жизни. Нужда заставила его принять место исправника в каком-то уезде Западного края; там он обольстил какую-то хорошенькую польку, на которой должен был жениться. Овдовев, он женился на моей матери в 1802 году, имея не более 36 лет от роду, но уже изношенный, удрученный и убитый переворотом в карьере.
Приехав в 1803 году в Петербург, он с трудом добился места секретаря в комитете правления Академии наук. В этом скромном звании он оставался до самой смерти в 1818 году, но был трактуем академиками как товарищ и друг.
Впрочем, эти друзья были незавидны для семейного быта. Кроме Фуса, Шуберта и других немцев, все были пьяницы и отъявленные кутилы. Они съезжались иногда у отца, но компания была, вероятно, не очень назидательна, потому что матушка отправляла детей к бабушке всякий раз, что у отца был вечер. По окончании пира отец рассылал «великих мужей» в своей карете по домам, как театральная дирекция отсылает домой артистов.
Я помню один случай: отправили вместе Севастьянова, Озерецковского (математика) и Севергина (минералога); на другое утро присылает жена Севергина узнать, куда девали ее мужа, не явившегося домой; кучер уверял, что он всех развез; другие сопутешественники тоже ничего о нем не знали; дело приняло оборот серьезный. Около полудня кучер стал выдвигать карету из сарая, чтобы мыть ее, и заметил, что она тяжелее обыкновенного; заглянул внутрь и узрел великого мужа, спящего под сиденьем безмятежным сном пьяного!
Дворянский род матери моей обеднел еще прежде рода отца моего. Из рассказов деда (отца матери) знаю я, что отец его, мой прадед, Паппенгут, был представителем одной отрасли дворянского ганноверского рода Pappenguth-Pappenheim, и уже в бедности; дед мой был лейб-медиком курляндского герцога, имел огромную практику, жил весело, вел большую игру, выигрывал или проигрывал груды червонцев, к отчаянию своей добродетельной и благоразумной супруги-красавицы.
Когда герцогство Курляндское было упразднено и Паппенгут дошел до отчаянного положения, в котором он покушался даже на жизнь свою, верная жена успокоила его и показала ему сотни три или четыре червонцев в то время, когда в течение нескольких месяцев был в доме едва кусок хлеба. По уговору, каждый раз, когда муж выигрывал, он отдавал жене сколько-то процентов на ее карманные расходы, а она вшивала эти червонцы в ватный капот с намерением не трогать их до той минуты, когда придется выбирать одно из двух: распороть себе горло или распороть капот; когда муж ее решился было на первое, она приступила к последнему.
Дед мой расплатился с кредиторами, отправился в Петербург, определился в морской госпиталь медиком и поселился в одном из тех деревянных домиков, в которых на Выборгской стороне тогда патриархально жили врачи — благодаря хозяйственному устройству этих скромных жилищ. Бабушка устроила понемногу из огорода кое-какой сад; двор был просторный, принадлежал одному жильцу и давал ему средство держать свою корову, своих кур и гусей и прокармливать семейство здоровее и честнее, чем в нынешних казарменных каменных палатах, где казенные деньги и казенные нравы перепутываются с благоприобретенным достоянием и с живою теплотою семейного быта, — не в пользу последнего, разумеется.
До кончины отца моего были уже пристроены: старший брат мой — во втором кадетском корпусе, я — в гимназии, пенсионером Академии наук. По смерти отца матушка осталась еще, кроме нас двоих, с пятерыми непристроенными детьми — двумя мальчиками и тремя девочками, в возрасте от 9 до 3 лет. Похоронив мужа и расплатившись с долгами, она осталась при 30 рублях. Пенсионного устава еще не было. Президент Академии наук, Уваров, назначил вдове шестинедельный срок для очищения казенной квартиры, прибавив свою любимую фразу: «Ни 24 часа долее» — и приказав немедленно прекратить отпуск казенного топлива, а это было в январе. Уваров, grand seigneur, большой вельможа, особенное имел внимание к дровам.
Много лет позже Пушкин написал стихи по случаю тяжкой болезни графа Шереметева, которого ближайшею наследницею считалась тогда жена Уварова; в этом послании к Лукуллу (Шереметеву) знаменитый поэт описывал радость наследника при известии, что граф безнадежен, и обеты, даваемые им при этом случае, между которыми:
Жену обкрадывать забуду, И воровать уже не буду Казенные дрова.Рассказывали, будто Уваров жаловался на Пушкина графу Бенкендорфу, шефу жандармов, будто граф позвал Пушкина и выговаривал ему за пасквиль на Уварова и будто Пушкин отвечал: «Этот пасквиль написан не на Уварова, а на вас». — «На меня?! Не может быть; там нет ничего похожего на меня!» — «Чем же я виноват, что граф Уваров нашел сам сходство с собою в герое моего пасквиля». Se non è vero, è ben trovato! — Если неправда, все равно хорошо сказано!
Срок, данный Уваровым на выезд из квартиры, истекал в феврале, среди зимнего холода, а у моей трехлетней сестры была корь. Матушке предлагали исходатайствовать отсрочку, но она, непреклонно гордого характера и полная веры в Божий промысел, решилась очистить квартиру в срок — и вышла из нее, как Эней из стен разрушенной Трои. Купила лубочные салазочки, в каких развозили тогда охтянки молоко, укутала в них пятилетнюю девочку, сама взяла на руки больную трехлетнюю малютку, девушка повезла салазочки и повела за руку девятилетнюю старшую девочку, крепостной лакей повел за руки восьми- и семилетних мальчиков, и так семейство отправилось пешком с Васильевского острова на Выборгскую сторону к родителям несчастной вдовы.
В таких обстоятельствах прошло мое младенчество; чем слабее рассуждения этого возраста, тем глубже его впечатления; они не исследуются рассудком, не приводятся в систему; они только чувствуются, и когда чувство кажется уже прошлым и забытым, его печать остается на сердце навсегда, хотя и выражается наружу как видоизменение из того же корня. Вся моя натура покрылась меланхолическим оттенком и какой-то ленивой мечтательностью, но вместе с тем жизненные катастрофы вложили в меня веру в Провидение и укрепили мои внутренние силы на борьбу с превратностями.
Такие катастрофы еще до кончины отца поражали свежее мое воображение. Графиня Мусина-Пушкина, родная тетка князя А. С. Меншикова и жена того Пушкина, с которым был отец мой воспитан, любила моего отца как спутника ее молодости, как красивого кавалера и как ветреника — и сохранила чувство привязанности к нему до самой смерти; она любила и моего старшего брата за то, что он похож был на отца. Она говорила мне уже по смерти отца моего: «Раз только он обидел меня; я сделала ему сюрприз, сшила ему наволочки, — но вообрази, мой милый, мое удивление, когда на горничной, одевавшей меня, я увидела кружева от наволочек; фу, какой ужас!»
Делать сюрпризы было страстью графини и ее мужа. Пушкин был довольно богат, жена его еще богаче, но они делали один другому сюрпризы, стараясь превзойти друг друга, и наконец сделали друг другу величайший сюрприз, узнав, что оба разорились.
По смерти графа осталось у графини душ шестьсот, да и к тем привязался какой-то нелепый процесс. Управляющий уверил ее, что удобнее всего было бы совершить купчую крепость на отчуждение ему спорного имения, а когда процесс окончится, он отдаст ей имение назад, «если вы не считаете меня бесчестным», прибавил он. Графиня, невинная и беспечная, как дитя, обиделась предположением и совершила купчую; процесс кончился, но имение не воротилось.
Потом понравился ей один такой же продувной господин, отставной частный пристав, бывший ее комиссионером: он отобрал у нее и движимость. Затем остался у нее только пенсион, 3600 рублей в год (ассигнациями), но для графини это была капля в море. Постепенно она дошла до крайней нищеты; жила в Солдатской Слободке, в домишке из трех комнат, однако ж держала нарумяненную компаньонку и вдову какого-то героя-канонира (сбросившего с зарядного ящика упавшую на него бомбу), воспитанницу, рекомендованную этою же солдаткою, и двух мосек; выезжала в извозчичьей коляске, но часто не евши. Один раз сделалось ей дурно во время ее визита к матери моей: оказалось, что это от голода! Матушка просила ее приезжать к ней завтракать, и с тех пор она частенько бывала во втором часу выпить чашку кофе.
Родные племянники ее, князья Николай и Сергей Гагарины и князь Меншиков, никогда о ней не поминали (но первые давали ей какую-то пенсию, — не те ли 3600 рублей, которые она получала?). Когда полиция известила их о смерти графини, князь Меншиков (я был уже на службе) просил меня быть за него на похоронах и постараться выручить фамильные портреты, если у нее были, — и в самом деле, в бедной хижине, над старым рыночным столом красовался ряд прекрасных миниатюр, изображавших прекрасные лица в богатых уборах. За гробом старушки шли двое: княгиня Изабелла Гагарина и я. Жизнь эта — тоже русская сословная метаморфоза, но с галяминскою составляет обратный полюс.
Говоря о метаморфозах, вспоминаю о другой, еще более разительной, подробности которой слышал уже не в детстве, — о графине Каменской — (если память не изменила мне) матери фельдмаршала. Графиня Каменская была знакома с моим вюртембергским прадедом. Еще при Екатерине она хлопотала о примирении отца моего с его дедом, и успела настолько, что дед позволил написать к нему письмо. Отец написал его таким ломаным немецким языком, что старик взбесился: «Он забыл свой природный язык!» — и не хотел ничего более о нем слышать. Имение свое, не знаю каким путем, передал он какой-то г-же Гофер.
После того Каменская хлопотала о восстановлении родовых документов отца моего, сгоревших со всем домом графа Пушкина; но отец, как современник Екатерины, так гордился быть русским, что не хотел хлопотать об иностранном дворянстве, предпочитая стяжать службою дворянство русское, бедняга. Оттого я нашел только отрывочные документы, или, вернее, сведения, и то благодаря матери, их припрятавшей.
Затем графиня Каменская пропала из виду, и уже около 1812 года графиня Пушкина повезла матушку мою к Каменской, уже слепой и никого не принимавшей. Старушка очень полюбила матушку. «Подойди ко мне, голубушка, дай на себя посмотреть, — говорила она, обводя ее лицо руками, и иногда прибавляла: — Ты похудела, моя милая».
В тридцатых годах Я. А. Дружинин (тайный советник) рассказал мне ужасную историю. Вот она. При императоре Александре I дошел до княгини Лопухиной слух, будто мать фельдмаршала Каменского находится в крайней нищете. Этот слух не мог считаться заведомо недостоверным, потому что графиня передала все свое имение детям; а из сыновей ее — фельдмаршал помер, другой же продал все и уехал навсегда за границу; с двором она была не в ладах. Разоренная и не в милости — два условия вместе достаточные, чтобы быть всеми забытой. Лопухина просила Дружинина узнать, жива ли Каменская и где она. После долгих расспросов удалось Дружинину узнать, что Каменская живет на Песках. Переходя из дома в дом, Дружинин напал наконец на тот, в котором жила графиня, но и тут не вдруг отыскал ее. На вопрос, здесь ли живет графиня Каменская, дворник отвечал: «Такой графини нет, а есть старуха Каменчиха, посмотрите в пристройке». Дружинин вошел в избушку (зимой): одна комната, с прихожей; пусто, холодно, на стенах сырость, на подоконнике снег; в углу у русской печки — кровать, на которую брошена комом старая шубенка. Он хотел уже выйти, как заметил, что шубенка дрожит; подошел к кровати, приподнял тулуп и увидел под ним скорченную дрожащую старушку: это была графиня Каменская! Тут поднялся шум, графине дали пенсию, но в свете она не показывалась, — и свет, в полном смысле слова, ей не показывался.
«Не хочу быть дочерью Сципиона — хочу быть матерью Гракхов!» — сказала Корнелия. Хорошо, что Корнелия жила в Риме. Каменская была матерью Сципиона — и чуть не умерла с голоду.
Неизвестность, в какой оставалась Каменская, может теперь показаться невероятною, но тогда она была возможна. Адресного стола не было, а может быть и был, да делал лишь то, что в состоянии сделать стол без людей. Паспорта не предъявлялись, особенно в захолустьях; дворники были только дворниками, а не полицейскою инстанцией, как теперь. Теперь полиция знает место жительства не только людей порядочных, но и мошенников, с которыми находится даже в официальных сношениях, для открытия других воров, как видно из «Ведомостей СПб. полиции», стало быть, и воры составляют полицейскую инстанцию. Зло общественное лечится гомеопатически: similia similibus. При виде вдовы, странствующей с детьми по улицам Петербурга, — так, как бедная мать моя шла зимою 1818 года на Выборгскую сторону, — какой ум человеческий мог бы указать ей способы выйти из этого положения? Какое воображение сумело бы нарисовать не слишком мрачными красками будущность этой матери семейства?
Но Провидение уладило все такими простыми средствами, которыми оно одно обладает. В том же году старшая из сестер моих выбрана к приему в Смольный монастырь и оба мальчика попали в комплект первого кадетского корпуса; из пятерых непристроенных детей осталось двое, и те слишком малые, чтобы думать о пристройстве.
Года через три вот что случилось. В каникулы отправились мы, брат старший, лет 15, и я, 13 лет, гулять на Каменный остров, отступив от правил матушки, никогда не позволявшей нам ходить далеко без нее. Не доходя несколько сотен сажень до Строгановой дачи, встретили мы молодую благовидную даму с хорошеньким мальчиком лет восьми, который залюбовался кадетским мундиром брата, на румяные щеки которого и дама смотрела с благосклонным любопытством. Когда мы поравнялись с ней, она спросила у нас, куда мы идем, где живем, и, услышав, что на Выборгской стороне, спросила, не знаем ли мы, где живет полковник Баговут. На отрицательный ответ, она было удалилась, но, заметя, что сынку нравится кадет, пошла с нами и узнала, что мы Фишеры.
— Как зовут вашу maman?
— Ольга Ивановна.
— Боже мой! — вскричала дама, — это перст Божий! Я ищу Ольгу Ивановну Фишер давно; мне сказали, что она живет у отца своего, полковника Баговута, близ сухопутного госпиталя (читай: у коллежского советника Паппенгута в зданиях морского госпиталя).
Мы повели даму к матушке; оказалось, что это была Екатерина Сергеевна Уварова, жена камергера, добрейшая, просвещенная женщина, но просвещенная односторонне французскою литературою XVIII века, поклонница Руссо и г-жи Сталь — и в высшей степени энтузиастка. Она рассудила, что гувернеры не годятся для маленьких детей, что гувернантки — еще менее годны, как старые девки, не знающие света и жизни, что правильное воспитание может дать мать, сама испытавшая и добро и зло жизни, прежде наступления старости успевшая наскучить светскою жизнью и не скучающая в отсутствии шумных удовольствий. Такую даму искала Уварова — и вот сказали ей, что точно такая есть, указав на матушку.
Напрасно матушка уверяла ее, что она не подходит под приметы, что она не знает светской жизни, что она считает Ж. Ж. Руссо за сумасброда, что, во всяком случае, главное — в обстановке детей, и что советы наставника, даваемые по утрам, не помогут, если вечерние товарищи другого мнения. Чем более спорили, тем сильнее настаивала Уварова — и матушка принесла нам себя в жертву; скрепя сердце, благословя малюток, она поручила их старушке-бабушке и переехала, для пробы, к Уваровым.
Она была у них около года: проба не удалась, но Уварова сохранила к ней навсегда дружбу и уважение и, со свойственною ей энергией, принялась хлопотать о пристройстве моих младших сестер: обе были приняты в Смольный монастырь пенсионерками царской фамилии; вскоре за тем дочери астронома Шуберта, сохранившие дружбу к матушке, добились через комиссию прошений пенсии ей в 800 рублей. Матушка, содержавшая прежде большое семейство на 2000 рублей, сочла себя богатою, имея всех детей пристроенными и получая 800 рублей, — и на 76-м году жизни скончалась, уважаемая всеми, кто знал ее.
Такие перевороты не остались без влияния на жизнь мою. Я признаю мнение Екатерины II, что счастье есть последствие наших действий, но остаюсь и при своем, что действия наши зависят от обстановки нашей колыбели. Притом попадаются в жизни моменты благоприятные, одному чаще, другому реже; одному, пренебрегающему ими, — беспрестанно, другому, раз упустившему счастливый случай, — никогда более; один был бы счастливее, если бы родился ранее; другой — если бы родился позже: здесь решает счастье. Моя жизнь, например, сложилась бы совершенно иначе, если бы я родился десятью годами прежде; она была бы совершенно иная и тогда, когда бы я явился на свет при Екатерине, когда все расцветало, а не теперь жил, когда все распадается. Сама Екатерина, при том же уме, при тех же политических обстоятельствах, действовала бы, может быть, с меньшею сосредоточенностью воли, если бы выросла в русском боярском дворце, а не в казенной квартире штеттинского коменданта, и если б выходила замуж не с полдюжиной сорочек, как она рассказывает, а с 30 пудами столового и мебельного серебра, как графиня Мусина-Пушкина.
Уже 10 лет от роду я не считал себя ребенком, потому что был в третьем классе гимназии, но страдал, как ребенок. Перед гимназией пансион показался мне раем; в пансионе начальница была женщина; будили нас в 7 часов звонком маленького колокольчика и, в случае надобности, легким прикосновением к плечу, да и кроватка моя стояла рядом с кроватью брата. В гимназии с 5 1/2 часов бегал по спальням инвалид и хриплым басом кричал: «Вставать!» Кто не проснулся от крика, с того срывал одеяло, а в комнате было холодно. В пансионе давали каждому полотенце на несколько дней; в гимназии клали у рукомойников каждый день кучу полотенец, одно на несколько человек, но большие воспитанники отряжали одного, чтобы забрать все, и клали их себе под подушку; мы же, маленькие, встававшие раньше, чтобы не быть оттесненными от воды, утирались рукавом рубашки; своего полотенца нельзя было иметь, оттого что его в тот же день украли бы.
При моем малом росте и слабосилии, я не мог принимать участие в играх; ничто не помогало мне развлечься, забыть тоску о доме и то грустное, что дома происходило. Много тетрадей я не успевал переписывать, а в низших классах гимназии требовали чистых тетрадей, не заботясь о том, знали ли то, что в тетрадях заключалось. Благодаря инспектору классов, Федору Ивановичу Миддендорфу, такому инспектору, какого не бывало в России до него и, вероятно, не скоро будет, — меня освободили от тетрадей; я учился по чужим, заблаговременно, когда владельцы их учились накануне спроса, и платил за эти услуги позволением списывать мои латинские переводы; приятелям я делал даже небольшие изменения редакции, чтобы нельзя было изобличить, что это — копии.
В какой степени шли успехи в языках в первых четырех классах, видно по следующему случаю. Кукольник постоянно списывал все у других, и товарищи приготовили особый экземпляр, чтобы дать ему списать сочинение. Надобно было отвечать по-немецки на вопрос: «Что сделал Моисей великого?» Написали: «Моисей заколол свинью, в чулок посрал… и потом из того сделал колбасу, которую евреи съели». Кукольник это и скопировал и с торжеством прочитал в классе.
Но с 5 класса преподавание было несравненно лучше, а в старших, 7-м и 8-м, когда гимназия преобразовалась в высшее училище, даже превосходно, пока был инспектором Миддендорф.
Нынешние гимназии стоят несравненно выше тогдашней единственной — в материальном отношении, но нельзя сказать того же о преподавании. Наши средние и высшие преподаватели были зрелых лет, с большою педагогическою опытностью, не скороспелки, не заносчивые, не алчные; сама система преподавания была серьезнее; мы не хлебали ложками человеческой мудрости, не были в 18 лет юристами, не метили в 20 лет в преобразователи. Наши наставники были подчас оригиналы, но оригиналы — почтенные, и это лучше, чем нынешние неудачные копии.
Миддендорф считал, что мальчик, который не любит молоко, должен быть негодяй; когда он считал кого-либо виновным, то подходил к нему и, вращая указательным пальцем против его лба, спрашивал ломаным русским выговором: «Скажи мне, что у тебя в голове?» — и повторял вопрос громче и громче до тех пор, пока вопрошаемый не открывал рот, чтобы отвечать. Тогда он торопливо объявлял: «Твое дело молчать!» При всем том он заботился, как добрый и честный отец, о детях, ему вверенных.
По мере того как пишу эти строки, выходят передо мной, как тени, лики моих почтенных профессоров. Тилло, проэкзаменовав нас при вступлении в 5 класс, говорил нам: «Господа! Даю вам два месяца, чтобы забыть все то, чему вы до сих пор научились, потому что только тогда я могу начать преподавать вам французский язык». Гедике знал все школьные проделки, знал, что воспитанники держат тетради на коленях, чтобы с ними советоваться, или пишут на ладони то, чего не заучили, что вместо переводов перефразируют готовые напечатанные переводы латинских писателей, и, чтобы не быть жертвою обмана, принял странные обряды: садился на стол кафедры, свесив ноги, приказывал всем опустить руки под стол и прислониться грудью к столу; все это по смешной команде дурным русским выговором: «Книги в стол! Руки под стол! Тело к столу!» — с промежутками между каждою командою. Когда обряды были исполнены, он приказывал переводить — слово в слово! — подлинник: «Certatum fuit secunda re»; смысл: «Сражение было счастливо», а мы должны были перевести: «Сражено было второю вещью», то есть удерживая слова и формы подлинника. Он не допускал перевода Manlius Torquatus словами Манлий Торкват, или Манлий, украшенный золотою цепью, но требовал, чтобы переводчик непременно приискал русское прилагательное. Я из шалости сказал: Манлий Золотоцепной. «Так есть!» — с восторгом повторил Гедике. Когда все засмеялись, объяснив ему, что цепными называют только собак, то он прехладнокровно отвечал: «Пусть лучше Манлий будет собака, чем учитель — осел». Он имел в виду, что учит нас не русскому красноречию, а формам латинского языка, и потому прежде всего хотел знать, так ли мы понимаем эти формы. Зато от него выходили очень дельные лингвисты; я сам был большой латинист и делал сочинения на латинском языке.
Бутырский, профессор пиитики и эстетики, очень начитанный, знавший наизусть лучшие стихотворения русские, немецкие, французские, английские, итальянские и испанские, с выработанным критическим взглядом, смешил нас рассеянностью и приемами. Объясняя нам, что значит изящное, он вдруг остановился, запустил палец в нос, вытащил кусочек засохшей мокроты и, катая его перед собою между двумя пальцами, заключил: «Вот что называется изящное!» Все в одно мгновение разразились хохотом; профессор обомлел и сам рассмеялся, когда объявили ему причину хохота. Он многому научил нас — не искусству создавать хорошее, но знанию, что хорошо.
Плисов, профессор правоведения, или, лучше, права, ученик Лейбница и Гейнзиуса, сбивался от всякой мелочи. Когда окна на двор были открыты и петух предвещал дождь, Плисов останавливался всякий раз перед кикирику и снова начинал свою фразу, которая на том же месте прерывалась новым кикирику. В оправдание свое он говорил нам, что Лейбниц привык, читая лекции, устанавливать взор на граненые стальные пуговицы, бывшие на одежде одного из слушателей. Когда это заметили, тот слушатель спорол одну или две пуговицы. Профессор несколько раз смущался, однако оправился. Тогда тот же студент спорол все пуговицы и явился с суконными. Лейбниц стал запинаться и вдруг, вскочив с кафедры, закричал студенту: «Сударь! Пришейте пуговицы, или — я не читаю!»
Грефе, профессор греческого языка, европейский авторитет, академик, друг министра, был вспыльчив до исступления. В его высшем классе было только три слушателя, потому что он говорил только по-немецки, а из нас только трое понимали этот язык. Раз случилось, что в класс явился я один. Стали мы переводить «Одиссею»; я сказал артикль не того рода. «Что?!» — завопил он и и бросился ко мне с кафедры, как сорвавшаяся с цепи собака. Грефе замахнулся на меня, я вскочил на стол — он туда же; столов было пять рядов, я бегал по столам, 15-летний мальчишка; он, 60-летний, беззубый, с Владимиром на шее — за мной. Наконец перед дверьми я соскочил со стола, нырнул в двери и остановился в коридоре, готовый бежать далее. Старик, не в состоянии произнести трех слов от одышки и чувствуя комическое положение профессора без слушателей, стал на пороге и, задыхаясь, звал меня: «Ну, идите же!» Я вступил с ним в переговоры; мы заключили изустный трактат, и я воротился. Старик — славный, почтенный, умный — переконфузился и был тише воды. На следующую лекцию, где нас было уже трое, он, войдя в класс, тотчас подошел ко мне, вынул из кармана два апельсина (или бергамота — не помню), положил передо мною на стол: «Ну вот, кушайте! Вы архиглупый человек!»
Я распространился об этих личностях, потому что пишу для одного себя, чтобы припоминать минувшее, когда память станет изменять мне, а в моем прошедшем это — любезные мне лица: я люблю их до сих пор и до сих пор им благодарен. Они объяснили мне главное: что я — невежда! Будучи хвалим за географию, когда семи лет от роду я, как попугай, лепетал города и реки, я вообразил себя географом и потому до 30 лет не знал географии; отличаемый в 5 классе за математику и историю, я почел себя преученым мужем (в 13 лет), в 7 классе я стал сомневаться в своей мудрости, а в 8-м убедился, что ничего не знаю, и это убеждение есть лучшее ручательство, что мои учителя были дельные и почтенные люди.
При экзамене в 7 класс, в 15 лет, меня в первый раз заставили прибегнуть к лицемерию. Я во всем порядочно приготовился, кроме одного вопроса: о французской революции; такие исключения никогда не проходили для меня безнаказанно; билет был вынут воспитанником, стоявшим в списке тремя нумерами выше меня; казалось, беда прошла мимо. Но ни один из моих предшественников не отвечал удовлетворительно, и, таким образом, тот же билет перешел ко мне. Сначала я сказал откровенно, что эту эпоху не успел повторить и прошу дать мне какой угодно другой вопрос, но когда ректор (Зябловский) заревел, как я смел сознаваться в лености, то я из чувства самосохранения объявил лицемерно, что с намерением не учился, по непреодолимому отвращению к революциям. Это было в 1820 году, когда у нас боялись карбонарства и безбожия. Мой ответ произвел фурор, и два года спустя министр князь Голицын, давая мне вместе с выпускным дипломом Библию, рекомендовал сохранить мои добрые правила.
На следующем экзамене, в 1821 году, плохо отплатил я бедному моему профессору Плисову: это было в разгаре пиетизма в высшем кругу. Князь А. Н. Голицын был министром народного просвещения; Рунич — попечителем учебного округа; Кавелин — директором училищ; а Магницкий, этот известный иезуит, — ректором университета. Из университета были изгнаны лучшие таланты; профессору эстетики Галичу грозили отставкою за его либерализм. Галич, человек ограниченный, бедный, обремененный семейством, струсил и решился объявить Руничу, что он постиг свое заблуждение и сознает, что все учение эстетики — вздор. Рунич объявил это на конференции и вздумал тут же вознести благодарение Господу, что сподобил возвратить заблудшую овцу на путь истины. При этом случае выдумали, будто Галич подошел к Руничу и поправил его речь вполголоса: «Ваше превосходительство! Я — баран!» В это-то странное время я держал экзамен по естественному праву. Добирались до Плисова. Мне только что минуло 16 лет, но я был мал ростом, с детским лицом и звонким детским голосом, меня и выбрали за оселок учения Плисова. Экзамен происходил в большом зале; нас было только 16 человек; экзаменаторы: попечитель, директор училищ, ректор университета, потом разные sub (замы): всего человек семь, сидевших за столом.
Позвали меня к столу и спросили, как я объясню, что государь может награждать, наказывать, рубить головы своим судом, а он, Рунич, такой же человек, этого права не имеет.
Товарищи шипели мне издали: «Помазанник», — но я не дослыхивал и потерялся. Между тем Плисов заметил попечителю, что он не имеет права делать такие вопросы и что они могут только навести юношей на мысли, какие им не пришли бы в голову. Рунич смешался.
— Ну, пожалуй, — сказал он, — я вас спрашиваю не об Александре I, а о Франце II.
Я между тем подзадумался и в убеждении, что сделаю отлично, объяснил конференции, что Франц имеет власть по праву наследства.
— А как же приобрел первый монарх такое право?
Я стал объяснять, что сначала люди избирали себе сами главу только на время войны с соседями, но избранные укрепили за собою власть с помощью войска.
Рунич слушал меня с удовольствием; тем более удивился я, когда Плисов дрожащим голосом уверял, что он никогда подобного не говорил своим слушателям. Рунич же доказывал, что ребенок не может сам выдумать подобные вещи.
Завязался спор о том, ребенок ли я или нет. Инспектор докладывал, что мне 16 лет; Рунич и Магницкий утверждали, что мне не может быть более 13 лет; инспектор побежал за метрическим моим свидетельством. Профессор просил разрешения выйти, а я, изумленный, раздосадованный на самого себя, стоял перед этими фарисеями!
Когда я увидел, что профессор мой собирается выйти, я возмутился и тоном негодования объявил, что профессор никогда не говорил того, что я сказал; что я читал это в сочинениях исторических, и между прочим — истории Галетти, которая была нашим официальным учебником. Потребовали историю Галетти, велели мне отыскать то место, в котором выражена мысль, мною высказанная. Я нашел фразу, выражавшую почти то же; однако же Плисов вышел в отставку и потом определился в комиссию составления законов. История Галетти отобрана у всех и запрещена.
По выходе Плисова из залы Рунич подошел к нам и сказал, что мы учились прекрасно, но что нам внушались понятия превратные; что естественное право мы знаем без профессора, если знаем десять заповедей и Символ веры, потому что в этом заключается все естественное право, и другого права нет.
Затем стал спрашивать нас заповеди. На беду — никто не знал твердо второй заповеди; мы перетрусили, но попечитель уверил нас, что все будем переведены в 8 класс, и что он даст нам профессора умнее Плисова.
И в самом деле, перешли мы все в 8 класс, и явился к нам на кафедру молодой человек, какой-то Сергеев. Мы приняли его очень дурно, и когда он стал читать нам что-то из Священного Писания, мы закашляли, зачихали, захаркали, так что бедный Сергеев совершенно потерялся. На следующей лекции Сергеев объяснился с нами откровенно; он понимал, что нам неприятно видеть его после Плисова; он сознавал, что его лекции не могут быть нами одобрены, но что же делать, говорил он, если не он, то другой будет нам читать такой же вздор по приказанию невежд-начальников; что посему он просит нас провести как-нибудь час его лекций, и если мы желаем докончить настоящий курс естественного права, то он приглашает нас к себе на квартиру, раз в неделю, и там, в дружеской беседе, он будет развивать учение Канта и Лейбница.
Мы и собирались у него раза три, но вскоре кафедра естественного права была уничтожена, и мы перешли к римскому. Как все это умно!
Наука успокоила меня нравственно; на Выборгской стороне, у стариков, нашел я приют безмятежный; мать моя с детьми и тетка-вдова со своими жили у родителей; по праздникам и в каникулы нас собиралось много: Фишеров — четверо и Жлобицких — трое, брат мой старше других всех, я почти одних лет с моим кузеном Казимиром и года на три-четыре старше кузины Эльвиры, а до отдачи сестер в Смольный всех детей было там девять человек, и они жили как родные, без всякого отличия от двоюродных; ссор не было никогда; я давал уроки моей кузине — учитель 14–17 лет, ученица 10–13 лет — и был в этом отношении взыскателен; строгая, серьезная матушка моя направляла нас на пути нравственном, и никто не помышлял даже о пренебрежении ее наставлений, а тем менее о сопротивлении; кроткая, как ангел, и услужливая, как сестра милосердия, красавица-тетушка заботилась о наших развлечениях; ее мы любили, но за советами к ней не ходили; обе сестры-вдовы были воплощением полезного и приятного.
Дед наш, 70 лет от роду в год смерти отца моего, выходил каждое утро в семь часов в палаты, а оттуда — на свою вольную практику, пешком, до трех или четырех часов, заходя к пациентам и у Каменного моста, и в Ямской — все пешком и всегда в мундире. Он помер на 79 году, и до самой смерти, то есть в течение почти 30 лет, практиковал.
Бабка моя пережила мужа своего лет на десять, она умерла в 1833 году, 78 лет, и до 70 лет сама хозяйничала, сама готовила и разливала чай и кофе семье, в которой бывало до 14 человек. У нее была оригинальная философия: в приготовлении, иногда одновременно, и чая и кофе, случалось, что она брала тою же ложкою то и другое, отчего попадали крупинки молотого кофе в чашку с чаем, плававшие на сливках в виде черных зернышек. Когда кто-либо из детей старался вылавливать этих позванных пришельцев, она находила это прихотью: «Что за беда? Ведь ты любишь кофе!»
Уморительно было, что у нее перед постелью висел литографированный портрет генерал-штаб-доктора Гассинга, который был сделан по подписке подчиненных ему врачей, к величайшей досаде бабки, что недостаточных отцов семейств заставляют тратить деньги на пустяки. «Бабушка, — спросил я один раз ее, — за что вы так нежны к Гассингу, что повесили его портрет перед вашею постелью?» — «Бездельник стоил мне десять рублей», — отвечала она с досадой. Старушка видела, стало быть, под этой ненавистной ей фигурою свою любезную десятирублевую ассигнацию; портрет представлялся ей как мавзолей над могилою ассигнации.
Кроме нас, был еще в семействе некто Шуберт. В 1808 году отец мой, известный уже своей благотворительностью, получил письмо от совершенно незнакомого ему 18-летнего юноши, воспитанника гимназии, который писал ему, что, захворав ревматизмом в ногах и пролежав в гимназическом лазарете три или четыре года, он объявлен неизлечимым, навсегда лишенным употребления ног, что начальство положило отправить его в солдатский госпиталь и что он, не имея ни родственников, ни знакомых, обращается к человеколюбию отца с просьбою о спасении его от ужасной будущности. Отец выхлопотал для Шуберта из Академии наук 300 рублей ассигнациями в год, рассчитывая, что за эти деньги можно найти семейство, готовое содержать его, но такого семейства не отыскалось. Тогда он уговорил своего тестя, или, вернее, свою тещу, взять Шуберта к себе; в то время старики были одни в своей просторной квартире.
Глава II
Начало моей службы в канцелярии министра финансов — Типы тогдашних чиновников — Неожиданная встреча с бывшим моим учителем Куршиным — Министр финансов Канкрин — Его образ жизни и обращение с подчиненными — Сравнение его с преемниками — Маленькая драма со мной — Я делаюсь известным министру — Переход на службу в департамент мануфактур — 14 декабря 1825 года — История Галямина — Несколько слов о себе — Секретарство при члене театральной дирекции князе Гагарине — Уроки его дочерям
Выросший среди лишений, напитанный понятиями о превосходстве людей, выше меня стоящих, я вышел из училища робкий перед другими и перед собою, не дерзающий предполагать в себе умственную силу, могущую заменить преимущества наследственные. Напрасно ссылался я на примеры лиц исторических; рассудок говорил одно, а привычка делала другое. Во мне было два человека: один, духовный, — независимый, а другой, практический, — робкий, и оба были в постоянной ссоре.
Начало службы моей не было назидательно. В 17 лет определили меня в канцелярию министра финансов. Там я увидел два совершенно различных разряда чиновников. Одни, знакомые с директором или с его начальником, развязные, расфранченные, расхаживали перед директорским кабинетом и декламировали тирады из вчерашней трагедии угрюмым басом в подражание Каратыгину или напевали куплеты из водевилей; другой разряд трудился над засыпанными песком столами, поглядывая украдкою на более счастливых сверстников. Работа была преглупая, — а не давалась мне. Естественное право, эстетика, дифференциальные исчисления, Тацит или Гораций не являлись ко мне на помощь для написания простых бумаг, которые писались моими полуграмотными сослуживцами, так сказать, спустя рукава. «Что за черт?» — думал я.
Самые личности выступали передо мной в уродливых видах, как призраки разгоряченного воображения. «За местом», по чиновническому выражению, ходил я более месяца, каждый день являясь в приемную. В этой приемной было много чиновников в звездах, с Владимиром на шее, которые, казалось мне, так умны, что дай Бог услышать их разговоры, — и услышал. Маленький сухенький господин с Владимиром на шее (Взметнев) произнес: «Легче Вронченко пройти через ушко иглиное, чем богатому попасть в царство небесное». На это возразил верзила, тоже с Владимиром на шее: «Верблюду!» — а маленький прибавил: «А ты разве не верблюд?»
Впоследствии я привык к этому, потому что Вронченко был ежедневным предметом грубых насмешек, и не только не обижался ими, но сам кривлялся и гримасничал.
Другое явление поразило меня более глубоко. Перевели меня в регистраторский стол; когда я подошел к столу, то увидел перед собою моего бывшего учителя в пансионе, Куршина, но в каком превратном виде. Куршин был очень серьезен и внушал нам, детям, какое-то чувство полустраха и полууважения; восемь лет я не видал его, но в моем воображении остался образ величавый и грозный. Каково же было мое удивление, когда я увидел его, бедного, убогого, робкого, сидящим за одним со мною столом, — даже ниже, потому что мне отдавали бумаги французские и немецкие, а он записывал в журнал общие бумаги. Вид этого старика, который показался мне и ниже ростом, и хуже одетым, навел на меня грустные мысли; он указал на возможную будущность юноши, вступающего в государственную службу без покровителей. Этот добрый старик встретился мне лет через 20, когда я был директором департамента. Он пришел ко мне просить «местечка»; пришел он, бедный, в рубище, к своему прежнему ученику, смиренным, молящий! Я был совершенно счастлив, что мог дать ему место, которое вполне удовлетворило его желание.
Если бы дни моей службы текли так однообразно, как у моих сослуживцев, я, вероятно, зачерствел бы, как они, но судьба насылала мне маленькие катастрофы, которые поджигали вновь угасающую энергию. Первая случилась на дежурстве у министра финансов.
Попав в число восьми лиц, сменявшихся на дежурстве, я имел случай видеть униженность сановников, гордо выступавших перед подчиненными, в том числе и Уварова, столь грозного и величественного в гимназии и так скромно игравшего здесь с министерскими детками, но всего более поразила меня личность министра. Канкрин вступил в управление министерством в то время, когда я вступил в службу; действия его были еще впереди; наружность его — непривлекательна, но простота и скромность жизни были поразительны в русском министре.
Он и канцелярия помещались в небольшом доме графини Шуваловой, на набережной, у Гагаринской пристани, через дом от углового с банями. Комнаты меблированы были очень скромно; в семействе его жила мадемуазель Поль, дочь полковника умершего или убитого, с которым Канкрин был дружен. Мадемуазель Поль ходила четыре раза в день через двор, с большим ключом в одной руке и со сливочником в другой, на ледник, два раза за сливками и два раза, чтобы отнести оставшиеся сливки. Не надо забывать, что Канкрин был женат на Муравьевой, а известно, что русскую дворянку трудно заставить экономничать ввиду света. Вставал он рано и тотчас принимался за работу, обыкновенно за редакцию своих соображений или плана распоряжений; писал он своей рукой, в халате, держа в левой руке курительную деревянную трубку и только мизинцем придерживая край бумаги. Писал он по-русски бегло, грамматически и синтаксически верно, но вместо з ставил почти всегда с, т. е. перо его подражало его произношению (савтра, сабыл).
В 9 часов ставили перед ним большую чашку кофе, который он прихлебывал; иногда в пылу работы забывал про него и потом выпивал холодный в один прием; в это же время тянулась к нему вереница детей здороваться: это была забавная сцена. Он протягивал руку, закусив трубку; не глядя на здоровающегося, продолжал писать; почувствовав поцелуй, клал руку на плечо приветствующего, поворачивал его и давал легкий толчок в спину, не говоря ни слова. Работа его продолжалась до 10 или 11 часов; затем он надевал форменный сюртук, и если не выезжал в Государственный совет или Комитет министров, то принимал директоров для экстренных объяснений или просителей. Доклады департаментов происходили вечером. Каждый вечер докладывал один департамент с 8 часов до 11, 12, 1, а иногда и до 2 часов ночи. Только директор канцелярии и департамент казначейства и банков докладывали по утрам.
При императоре Александре I министр, за два дня перед докладным днем, ездил в Грузино к Аракчееву, однако не каждую неделю.
В 5 часу он обедал, отпуская дежурного до 7 часов вечера; после обеда читал газеты и иногда засыпал в больших креслах и с 7 часов принимался опять за работу.
Все приемы его были особенные. Он никогда не употреблял обычного способа отказывать в приеме отзывом, что его дома нет, а говорил просто, что занят; если это относилось к важному лицу, то он просил дежурного сойти к карете и доложить, что министр никак не может отложить свою работу и что он сам приедет. Звонок его гремел или один раз, или два, или три раза сряду; один раз значило: Ивана Максимовича Ореуса, сидевшего с утра до вечера в передней за перегородкой; два раза — дежурного; три раза — курьера. «Это, батюшка, тля тово, что Ифан Максимичь мне нушен чаще, а курьер — реше тругих».
Здоровья своего он не берег вовсе, к вечному беспокойству семейства; кушая раз в сутки, он часто обременял через меру желудок; чувствуя жар, обыкновенно в поздний вечер, он расстегивался, отворял форточку и становился перед нею, даже зимою. Так длилось многие годы; потом, когда зрение его ослабело, читал ему газеты П. П. Гец; потом Гец отмечал карандашом заслуживающее внимание, а Кюзель это прочитывал. По утрам он уже не писал своеручно, но прогуливался (летом) в Летнем саду или, если не жил в Лесном институте, им созданном, переправлялся на гласис Петропавловской крепости, который, можно сказать, собственными руками засадил деревьями и обратил в нынешний Александровский парк.
Как груб и придирчив был с дежурными Ореус, так ласков и невзыскателен был министр. Одна история, кажется, всеми забытая, вполне обрисовывает сердце Е. Ф. Канкрина: в канцелярии служил писцом очень молодой мальчик, отличный каллиграф, который на дежурстве утаил пакет с деньгами, 100 рублей. Когда это открылось, подняли шум, кто кого строже считал нужным быть с похитителем, но скрыть этот случай от министра не смели. Канкрин прехладнокровно спросил, кто этот чиновник, какого чина и давно ли в службе, и когда услышал, что он очень молод, пожелал его видеть. Мальчику было лет двенадцать, и оказалось, что отец его служил в министерстве финансов. Канкрин позвал отца, разругал его в пух и пригрозил выгнать из службы за то, что он эксплуатирует сына прежде, чем дать ему воспитание. Чиновник оправдывался тем, что не имел средств учить сына дома, а в казенные заведения отдать не мог за неимением вакансий. Канкрин пополнил кассу из своих денег, преступника велел высечь розгами и потом определил его в какое-то учебное заведение. Много ли других начальников — не говорю уже о министрах — поступили бы так человеколюбиво?
Какая разница между этою личностью и его преемниками во всем, даже в простоте жизни! Не говорю о Вронченко — это был мужик, но Брок! — Брок, который перебивался жалованьем — в чем, впрочем, нет ничего дурного, — употребил казенных денег 90 тысяч рублей на отделку и переустройство дома, в котором некогда жил граф Литта, вельможа патриций, в гербе которого красовались великие буквы Римской республики: S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus). Канкрину, у которого бывали в команде целые отряды, курьер подавал пакеты из рук в руки, а Броку, у которого долго не было и камердинера, подносил пакеты лакей в ливрее на серебряном подносе. Канкрин нажил себе состояние, прослужив 25 лет министром, имея аннексу, приносившую 25 тысяч рублей годового дохода, и получив несколько огромных подарков от государя. Брок разбогател в 4 года, наделав проказ на 40 лет.
Прекрасная вещь — портретная галерея, если всматриваться в нее глубже. Перед рядом портретов министров финансов, помещенных в официальном кабинете министра, взор невольно останавливается на серьезной и грустной физиономии Канкрина: она выдвигается как массивный рельеф над плоскими изображениями. Ряд этих портретов представляет два отдела, среди которых Канкрин один, «как грозный часовой»; перед ним Гурьев, граф Васильев, Голубцов — вельможи. На лицах не видно большого ума, видно самодовольство барское. За Канкриным: Вронченко, Брок, Княжевич — чиновники. В них тоже нет ума, но видно самодовольство чиновничье за исключением разве Княжевича, на лице которого заметно не самодовольство, а простое удовольствие. Эти два типа, первый бледнеет, второй краснеет перед ликом умного, задумчивого Канкрина. Так сенатская портретная галерея императоров рассказывает мне политическую историю сената. Портрет Петра Великого прекрасный, и другой его же, мозаика, сделанная собственноручно Ломоносовым; Анны Иоанновны — плохой; Елизаветы Петровны — лучше; Екатерины II — великолепный; Павла I — дурен; Александра I — приличен; Николая I — дурен; Александра II еще хуже. Стало быть, при Петре и Екатерине считали сенат достойным отличных художественных произведений; при Анне и Елизавете не заботились о том, что в сенате; при Александре I хотели соблюсти приличия; при остальных — жаль было тратить деньги для украшения такого ничтожного учреждения, как сенат. Вот вся его история.
Я аккуратно являлся на дежурство вечером, хотя министр никогда не спрашивал в это время дежурного; но раз опоздал, провожая брата, отправлявшегося в полк, и, как нарочно, случилось, что министр меня требовал. Не найдя дежурного, он положил на его стол записку своей руки следующего содержания: «Савтра в 12 1/2 часов И. И. Розенберг, в 11 1/2 часов С. С. Уваров». Найдя на столе эту записку, я написал к обоим директорам повестки, что министр ожидает их завтра в таком-то часу. На другой день, в 9 часов утра, сдал я дежурство другому, как вдруг около 2 часов поднялась в канцелярии суета; произносилось мое имя, и наконец директор Я. А. Дружинин позвал меня к себе.
— Что вы наделали, — говорил он, — вас приказано сменить, да и мне досталось.
Узнав, в чем дело, я представил ему собственноручную записку. Драма была порядочная. Около И часов выбежал министр к дежурному, со всем стуком своих толстых сапог, и закричал: «Когда приедет Уваров, скажите ему, что я сам буду ездить к нему с таклатом (докладом)». Уваров приехал и дежурный пересказал ему, что велено. Уваров приказал доложить министру, что он желает сказать два слова, но Егор Францевич отвечал: «Пускай он идет фон!» Затем приехал и Розенберг, которого Канкрин стал бранить, что он опоздал целым часом. Розенберг показал повестку, а Уваров между тем прислал и свою, и весь ураган обратился на меня, 18-летнего юношу. Дружинин показал Егору Францевичу собственноручную его записку. «Попросите извинения у дежурного, я сам напутал».
В следующую очередь, Канкрин вышел ко мне и спросил мое имя.
— Вы читаете немецкие газеты?
— Не представляется к тому случая, ваше превосходительство.
Пошел опять в кабинет и вынес мне «Allgemeine Zeitung». С тех пор я стал знаком с министром.
Через несколько месяцев раздавали канцелярии денежные награды; я ничего не получил, да и не ожидал. Мой начальник отделения вздумал ставить мне в упрек, что я не просил начальника I отделения, мне постороннего, и когда я отозвался, что это его дело было просить обо мне, он отвечал: «Да-с, я рад, что мне самому дали!» — «Если у вас такие правила, то я не хочу служить у вас», — заметил я ему — и подал в отставку. Разумеется, никто об этом не тужил, и меня уволили.
К счастью, эта выходка прошла безнаказанно: я вскоре получил место в департаменте мануфактур, и еще лучшее. Служа в этом департаменте, я, со всеми другими, присягал на верность Константину Павловичу и, благодаря райскому спокойствию Сергиевской улицы, где был департамент, и Выборгской стороны, где я жил, 15 декабря 1825 года я не знал, что накануне была революция, ни того, что государя моего зовут не Константином, а Николаем.
15 декабря утром матушка предложила мне идти с нею к М. И. Галяминой, жившей у сына, в здании Главного штаба. Первый предмет, нас поразивший, встретили на том месте, где Большая Миллионная входит в Дворцовую площадь: тут стояли орудия и около догорающих костров грелись канониры; подвигаясь по площади, видели мы изрытый снег, изредка места, покрытые свежим снегом, далее отряды войск; спрашиваем у прохожих, что это значит — нам никто не отвечает. Перед зданием Главного штаба стоял строй, кажется, Измайловского полка; перед ним верхом Николай Павлович, бледный как полотно. На вопрос сторожу, стоявшему у дверей подъезда, что это все значит, он отвечал лаконически: «Присягают!» — и более ничего.
Так вошли мы к Галямину; в передней стоял солдат и офицер; пока мы снимали шубы, вышел Галямин и отдал офицеру шпагу, а нам сказал второпях: «Не говорите маменьке». Только от старушки Галяминой узнали мы, что было. Она рассказывала с трепетом за обожаемого сына, что он получил ночью повестку явиться во дворец для принесения присяги государю Николаю, что сын не поехал, отзываясь, что в толпе ничего не значит один полковник, — но когда начался бунт, то заперли ворота, и, вероятно, станут считать, кого во дворце нет. Так это и было. Галямина недосчитывались, и потому он был арестован.
Между тем через Ростовцева знали уже накануне имена некоторых заговорщиков, в числе которых был и полковник Генерального штаба Искрицкий. Его арестовали, лакеев взяли к допросу, и один из них показал, что в минуту ареста или несколько ранее барин посылал его с запиской к Галямину. Галямин показал, что записку сжег; о содержании записки его показания не сошлись с показанием Искрицкого, и дело приняло оборот серьезный. Следственная комиссия не изобличила Галямина, но на нем осталось подозрение, и он был переведен в Нейшлотский полк, стоявший на Аланде.
Когда прошли первые впечатления, о Галямине стали намекать государю его доброжелатели, но он и слышать не хотел о нем. Через многие годы граф Нессельроде поручил Галямину разграничение Финляндии с Норвегией, — и по окончании им (очень дурном) этого поручения снова просили о прощении его; однако все эти просьбы окончились бриллиантовым перстнем; между тем Галямин, отличный офицер, замечательный пейзажист, стал пить от скуки.
Прошли еще годы. Раз государь жаловался на недостаток в русских патриотизма; повсюду видел он выставки заграничных пейзажей, а русского — ни одного! Князь Волконский заметил, что это происходило не от недостатка патриотизма, а от недостатка поощрения. Тотчас отправили к Галямину курьера за его знаменитым акварельным альбомом. Князь Волконский представил альбом государю, который был от него в восхищении. «Кто это рисовал?» — «Галямин». Но все-таки государь не согласился перевести его в Генеральный штаб. Из альбома государь выбрал некоторые пейзажи и заказал для императрицы фарфор с их изображениями, а Галямина назначили директором фарфорового завода. Странная судьба: сторож, квартальный, математик, геодез, придворный кавалер и — начальник фарфорового завода. Точно видоизменения насекомого: жук, червяк, стрекоза, бабочка, куколка!
Вступив в службу, я налег на чтение, чтобы восполнить те пробелы, на которые указало мне преподавание моих почтенных профессоров. Читал Плутарха, Гиббона, Герена, Боссюэта, Монтескье, Адама Смита, Сисмонди и пр., потом Вольтера, Кондильяка, т. е. философов, потом Скотта, Коцебу и, наконец, съехал на Редклиф и Августа Лафонтена. Романы Лафонтена, оказавшиеся впоследствии глупыми, действовали сильно на мою нервическую натуру. Плаксивые герои ненадолго пленили мое воображение, но зато рыцари оставили во мне какую-то драпировку, от которой я во всю жизнь мою не мог отделаться; беспрестанно я совался защищать угнетаемого без его просьб, или унижать, или изобличать интригу; с людьми неуважительными вел себя с намерением обнаружить им свои чувства неуважения, — и всегда портил этим себе карьеру. Впрочем, об этом я не сожалею. Духовная работа моей натуры довершилась встречей моей на 21 году с женщиной, очаровательная наружность которой изображала небесную чистоту ее сердца; хотя холодная по чувствам, она обладала воспламенительным воображением, проникавшим во всю ее женственность. Эта особа, принадлежавшая уже другому, слушала меня охотно, любила мой разговор — о любви не было ни слова — и возбудила во мне восторги выше прочих моих ощущений, вместе взятых. Неудовлетворенное чувство отняло у меня всю прелесть жизни; впоследствии оно изгладилось, но вместе с ним я потерял способность быть счастливым; все новые впечатления были вялы и бесцветны в сравнении с тем, которое впервые пробежало, как электрическая искра, по всей моей нервной системе.
В 1826 году совершился новый переворот в моей жизни. Князь Гагарин, шталмейстер и член театральной дирекции, искал секретаря. Дирекция состояла из трех членов: князя В. В. Долгорукова, графа Кутайсова и князя А. П. Гагарина. Общие дела решались этой коллегией, которая имела свою канцелярию, но, сверх того, каждому члену поручено было ближайшее наблюдение за каждою специальною сценою. Долгоруков заведовал драмою; Кутайсов — оперою; Гагарин — балетом, и для этой-то переписки нужен был Гагарину секретарь партикулярный. Я принял это место, чтобы выйти из семейной скорлупы в другую среду; для занятий моих определены были часы, от 8–10 утра, и за это мне предложили 600 рублей и жизнь в семействе князя.
Прошло месяца три; занятий не было никаких. Иногда приходилось писать по-французски: «Князь Гагарин просит г-на Дидло пожаловать к нему в таком-то часу», и чаще: «Князь Гагарин имеет честь вручить при сем господину N.N. столько-то рублей, которые он ему остался должен» — то есть вчерашний проигрыш.
Гагарина, родная сестра князя Меншикова, просила меня, когда я не занят у мужа, потрудиться давать уроки русского языка и арифметики княжнам. Этому я очень обрадовался, потому что со мной обращались необыкновенно приветливо, и мне хотелось чем-нибудь вознаградить за ласки. Притом княжны были миленькие, старшая — 16 лет, вторая — 13, младшая — 11, а мне — неполных 21 год. Я чувствовал себя здесь на месте, гораздо более, чем при матушке, которая трактовала меня, как маленького Костю, не замечая, что во мне было уже 2 аршина 7 1/2 вершков и что меня везде звали Константином Ивановичем.
Жизнь в доме князя изгладила то огромное различие, которое я предполагал между нашим семейством и семействами высоких лиц, окруженных роскошью; те же мелочные заботы, те же мелочные досады, только масштаб другой да приемы иные. Что бы ни говорили демократы, а любовь к изящному присуща человеку. Господин Заблоцкий хвастал тем, что он сохранил мужицкие манеры; зачем же он садится у себя на золоченый стул, а не на сосновый чурбан. Лжет он, г-н Заблоцкий, — он не сохранял мужицких манер, а только не умел от них освободиться. Он мог на казенные деньги заказать себе золоченую мебель, но не нашел лавки, где продаются мягкость движений, приличие тона и небрежное щегольство — предметы, которыми владел, например, князь Меншиков, с которым я познакомился в доме Гагарина.
Глава III
Князь А. С. Меншиков — Его личность — Первоначальная служба князя Меншикова — Его рассказы о шведском кронпринце Бернадоте и генерале Озерове — Подвиг полковника Монахтина — Дальнейшая карьера князя Меншикова — Его отставка — Мнение о нем императора Александра — Жизнь в ставке — Поступление вновь на службу при императоре Николае — Посольство в Персию — Князь Гагарин — Его трагическая смерть — Отъезд князя Меншикова в действующую армию — Порядки и злоупотребления в Адмиралтейств-коллегии — Мои сношения с князем Меншиковым — Полученная им под Варной рана — Доктор Калинский — Недовольство Меншикова мною — Назначение мое в должность секретаря канцелярии Главного морского штаба
Князь Александр Сергеевич Меншиков, только что воротившийся из Персии, был прекрасный, стройный, с умными и добрыми темно-синими глазами и саркастической улыбкой, кавалер Александровского двора, который отличался тонкостью и изяществом приемов. Вся его личность представляла любопытное явление; он был очень внимателен к сестре своей, любезен со своими племянницами, необыкновенно вежлив со мной, но видно было, что он не жаловал своего шурина и что князь Гагарин боялся его. Говоря иронически с вельможами, которых встречал у Гагарина, он кидал на меня украдкою взгляды, как будто желая мне сказать: посмотрите, что за болваны!
Помню, как он трунил над толстым князем Д.: «Недавно был спор о вопросе, можно сказать, народном; N.N. утверждал, что кучер кареты, в которой ехал император Александр на коронацию, был в белых чулках, а я уверял, что он был в красных, так как все были против меня, то я объявил, что уступлю только решению Д. Как вы решите?..» — «Дорогой князь, вы хорошо сделали, что обратились ко мне; я подробно изучал эту эпоху, и могу вам сказать, что кучер был в белых чулках!»
Меншиков обращался обыкновенно с насмешкой к тем, которые на мой поклон отвечали с высокомерием, — и, разумеется, обворожил меня. Сестра его смотрела на него как на божество.
Удивительно, как в Меншикове тесно соединялся повеса с глубокомысленным мужем, и это было всегда так. Он родился и воспитывался в Дрездене, был такой шалун, такой лентяй и невежда, что отец его, потеряв всякую надежду на сына, отправил его семнадцати лет в Петербург с письмом к фельдмаршалу Прозоровскому, сказав сыну, что дает ему на расходы только три тысячи рублей. В Петербурге сделали князя камер-юнкером 5-го класса и определили в Коллегию иностранных дел в 1805 году. 17-летний статский советник нанял в Малой Морской, в доме Манычарова, в три этажа, две маленькие комнаты, накупил себе книг, взял нескольких учителей и принялся учиться неутомимо, — тот самый мальчик, которого в Дрездене не могли ничем заставить взять книгу в руки.
Вскоре послали его с депешами в Лондон; узнав в Гамбурге, что Голландия вооружает канонерскую флотилию против Англии, этот юный дипломат отдал депеши на почту, а сам определился волонтером на голландскую флотилию! Не знаю, как наше посольство выловило этого волонтера и отправило его в распоряжение миссии нашей в Стокгольм. Там князь Меншиков скоро прославился своими шалостями, и миссия сочла за лучшее выслать его в Петербург. Здесь приняли его, разумеется, неласково, и Меншиков решился перейти в военную службу: его приняли подпоручиком в артиллерию и отправили в Молдавию, — если не ошибаюсь, к Прозоровскому, от которого он после достался графу Каменскому, который взял его к себе в адъютанты. При сдаче своей артиллерийской команды Меншикову пришлось дать 1000 рублей взятки Безаку, заведовавшему хозяйственною частью, отцу нынешнего генерал-адъютанта Безака: это было первым шагом молодого князя на практическом пути нашей государственной службы. По смерти Каменского князь не захотел остаться у Кутузова, преемника Каменского, служил здесь в гвардии и в 1813 году был капитаном Преображенского полка.
Любопытны рассказы его об эпизодах этого времени. Надобно было дать знать шведскому кронпринцу Бернадоту, что баварцы соединились и что можно начать действовать (под Дрезденом). Послали фельдъегеря, Влодека и Меншикова: фельдъегерь был застрелен французским пикетом; Влодека взяли в плен; князь Меншиков с двумя казаками избег плена только тем, что лошади их перескочили через забор, через который отряд французских драгун не мог переброситься. Меншиков приехал ночью и лег у палатки Бернадота; здесь он услышал, как Бернадот говорил кому-то: «Не знаю, что я могу сделать с таким говеным войском». До наступления утра Меншиков успел уже составить себе кружок друзей своими остроумными выходками; друзья предупредили его, что Бернадот будет потчевать его яичницей, но чтобы он никак не принимал приглашения, потому что это расстроило бы Бернадота, привыкшего съедать целую сковороду яичницы, до которой он был страстный охотник. Поутру Бернадот принял князя, лежа в постели, в колпаке и в синей бархатной, отороченной соболями куртке; в то же время внесли дымящуюся сковороду с яичницей и поставили перед постелью. Принц приказал подать другой прибор и сказал князю: «Вот, дорогой князь, покушаем вместе эту яичницу». — «Благодарю вас, ваше высочество, я ее никогда не ем». — «Как, не едите яичницы? Вы не правы, мой друг, это очень хорошая вещь», — заметил с видимым удовольствием Бернадот, придвинув к себе сковороду. Принц полюбил молодого князя; уверяли, что отказ от яичницы играл тут не ничтожную роль.
Меншиков деятельно участвовал во всех военных действиях наполеоновских войн с Россией после Аустерлица. В 1812 году, при нашествии на Москву, он был в кавалергардах; генерал Депрерадович оставался версты за четыре и, по словам князя, не знал, что происходила Бородинская битва. Князь, будучи послан к нему, удивился, что генерал не слыхал грома двух тысяч орудий. «Да, брраттец, у меня голловва болела!»
Вообще забавны его рассказы о некоторых героях того времени. Некто Озеров, отставной генерал, поступивший в ополчение, будучи необыкновенно храбр в деле, боялся домовых и леших так, что ему было гораздо труднее решиться провести отряд ночью через лес, чем стоять спокойно перед неприятельской батареей. Этого Озерова взяли в плен и привели к Наполеону. «Видели вы недавно русскую армию, генерал?» — «Да, ваше величество». — «Что она, тверда?» — «Как скала, ваше величество». — «Сколько штыков насчитывает она?» — «Три миллиона, ваше величество!» — «Идите спать, дурак». Вот весь их разговор.
Когда вышла в свет история Отечественной войны Михайловского-Данилевского, князь Меншиков сердился, что походы Чернышева расписаны были как походы Юлия Цезаря, а о многих героях времени, скромного имени, ничего не говорится — например, о полковнике Монахтине. В Бородинском деле Евгений Богарне загнал всю нашу тяжелую кавалерию в болото; князь Меншиков стоял с полком в болоте по пояс. «Евгений бил нас, — говорил князь, — как уток, и нам оставалось только креститься и падать в воду; вдруг слышим русский барабан и видим батальон пехоты, идущий бегом к нам на выручку. Евгений был сам так утомлен, что свежий батальон стоил корпуса. Евгений отступил, и мы спасены. Спасителем нашим был армейский полковник Монахтин».
После войны князь Меншиков был директором канцелярии начальника Главного штаба (князя Волконского), но положение его было гораздо выше его звания. Он сопровождал государя во всех его поездках на конгрессы и внутри России и пользовался полным его доверием и уважением. Государь сказал один раз княгине Гагариной: «Если ваш брат будет продолжать действовать так, как он действовал до сих пор, то будет скоро в империи первым после меня». Это погубило его карьеру. Княгиня, в радости, пересказывала эти интимные слова государя всем и каждому, и все соединили свои усилия, чтобы воспрепятствовать осуществлению видов государя. В 1821 году или 1822 году граф Воронцов, граф Потоцкий и князь Меншиков подали государю проект об освобождении крестьян; государь принял это за происки карбонарства, приписал инициативу князю Меншикову и не хотел более его видеть. Ему предложили место посланника в Дрездене. 33-летний князь был, однако, так избалован счастьем, что счел такое предложение оскорбительным и подал в отставку, которую ему и дали.
Впоследствии открылось, что подозрение в карбонарстве было только предлогом. Чего не умели сделать происки партии Аракчеева и Дибича, соединившихся для уничтожения Меншикова, то сделала одна ловкая барыня. Она притворилась взволнованною и на настоятельные просьбы государя сказать ему, какое у нее горе, отвечала, что взволнована известием о самой черной неблагодарности князя Меншикова, разглашающего, будто государь носит накладные икры. Такая версия совпадает с отзывом, слышанным княгиней Гагариной от государя. Он ей сказал, дав отставку ее брату: «Я питал братскую дружбу к вашему брату, но он клеветник».
Получив отставку, князь поселился в подмосковном своем имении, но обжорливая Москва не могла накормить душу князя, алчущую деятельности. При свидании с Ермоловым он спросил его, какие средства употребил он, будучи в опале, чтобы не сойти с ума от праздности и скуки? «Любезный князь! — отвечал Ермолов, — я нанял пьяного попа, купил себе Тацита, стал учиться по-латыни и переводил Тацита». Князь нанял тоже пьяного попа и тоже стал учиться по-латыни, но один визит соседа дал его занятиям другое направление.
Одним из его соседей был Глотов, отставной моряк, известный своим сочинением «Морская практика», которое, кажется, и до сих пор служит учебником в морском кадетском корпусе. Когда маркиз Траверсе просился в отставку и на его место государь полагал назначить Грейга морским министром, то место главного командира Черноморского флота предложено было Меншикову (в 1819-м или 1820 г.), но Меншиков сказал тогда государю шутя, что лучше желал бы быть митрополитом. Вспомня, что есть в России место, которого он занять не в силах, Меншиков прогнал пьяного попа, пригласил к себе трезвого моряка и стал учиться морскому делу.
По неожиданной кончине Александра I князь написал к новому государю письмо, прося о принятии его в службу. Он был принят генерал-адъютантом по-прежнему и вслед за тем отправлен в Тегеран с чрезвычайным посольством. Персидский кабинет замышлял уже вероломство: сначала князь принят был хорошо, но потом его арестовали, и он, едва ли не более года, лишен был свободы. Наконец разрешено ему выехать, и тут прислан был к нему какой-то сановник с предостережением: советовали князю ехать каким-то необычным путем, потому что на главной дороге ему грозит опасность от раздраженного народа. Между тем князь узнал под рукой, что на тот необычный путь, на который ему указывали, подосланы были убийцы. Князь совершенно неожиданно направился на главную дорогу и проехал благополучно. Весной 1827 года воротился он в Петербург и тут увидел я его в первый раз.
Кровавая катастрофа вывела меня из дома Гагарина. Князь Андрей Павлович был добрый, обязательный и мягкий человек, в отличие от всех Гагариных, но ветрен и сибарит. Знаменитый своею смуглою красотою, присвоившею ему название Малек-Аделя (героя романа г-жи Cottin), избалованный женщинами, он достиг того переходного возраста, когда страсти еще не замолкли, но свежесть юности миновала. Красавицы, ему благосклонные, устарели вместе с ним, новое женское поколение предпочитало новых, далеко не столь изящных кавалеров, как современники Александра 1, и Гагарин, не находя уже ласкового приема у дам воплощенных, обратился к благосклонности дам четырех мастей, но и они к нему не благоволили: князь постоянно проигрывал. Часто жаловался он мне на судьбу свою: «Я не знаю, что сделать с моей жизнью! Я не могу более ухаживать, у меня нет привычки ни к семейной жизни, ни к чтению, моя служба ничтожна; чтобы заполнить пустоту, я играю и только проигрываю».
У него было довольно хорошее имение, в Нижегородской губернии 1700 душ, да у жены 600 душ; оброк положен был в 25 рублей ассигнациями, но крестьяне, зная кротость князя, платили очень дурно. Когда я с ним познакомился, князь не получал целые полгода ни копейки оброка, да недоимок за прежние годы было до 35 тысяч рублей.
В это время напал он на оскорбление. На выходе 25 декабря церемониймейстер Потоцкий стал выше его, шталмейстера. Князь хотел занять свое место, но Потоцкий воспротивился этому, и спор дошел до министра императорского двора. Волконский не любил князя Гагарина; не знаю, как он доложил дело государю, но высочайшее разрешение изъяснило, что хотя звание шталмейстера и имело бы шаг перед церемониймейстером, но как Потоцкий старше в чине тайного советника, то и идти ему выше Гагарина.
В то же время предупредили князя из ломбарда, что если к половине января не будет внесен платеж по займу, то имение будет назначено в продажу. «Боже мой! Какой скандал! Мое имя в газетах», — говорил мне князь с отчаянием. Между тем с каждою почтою посылались бургомистрам подтверждения, чтобы немедленно выслали оброки. 2 января 1828 года явилась депутация крестьян; принесла десяток яблоков и 200 рублей ассигнациями оброка. Князь потерялся; с ним сделалась бессонница; чтобы заснуть, стал он принимать опиум, но еще более волновал тем нервы, и 7 января зарезался.
Князь Меншиков поручил мне найти дом, где он мог бы поместиться с сестрой, но тут приехал из Москвы князь П. П. Гагарин, брат покойного; князю А. С. Меншикову поручена экспедиция против крепости Анапы, и он уехал на войну, оставя меня на своей квартире, а княгиня Гагарина с детьми переехала в Москву.
Еще до смерти князя Гагарина государь поручил князю Меншикову преобразовать Адмиралтейств-коллегию в управление, подобное тому, каким было военно-сухопутное. Князю дан был из министерства один старый чиновник, Андреев, чистый тип чиновников того времени, да из военного министерства взял он полковника Генерального штаба Вилламова, который состоял при нем, когда он служил в Главном штабе; я работал у него мимоходом. После того Абакумов, бывший генерал-провиантмейстер, рекомендовал ему Бахтина. С этими сотрудниками князь преобразовывал морское управление, в котором оказались колоссальные злоупотребления.
По доносу, что в Кронштадте разворовано все — и экипажеские магазины, и госпитали, и пожарная команда, — послали генерала Перовского на следствие; в это время госпиталь заключил договор о покупке белья, между тем как там хранился целый комплект. Его выводили на свет как новый, по уплате подрядчику денег вновь запирали в цейхгауз, и на следующий год опять представляли в качестве новой поставки. Когда узнали, что едет Перовский, стали жечь это белье, жгли, жгли несколько дней с утра до вечера, и все-таки Перовский застал еще corpus delicti, объект преступления.
Внимание, обращенное государем на это дело и на некоторые порубки казенных лесов, внушило флигель-адъютанту А. П. Лазареву спекуляцию. Он нашел или купил казенный лес, нанял извозчиков везти его в Петербург, и когда они выехали на лед, подъехал к ним с людьми, остановил, осмотрел лес, нашел клейма и арестовал караван. Так он открыл похищение; но эту проделку раскрыли, и Лазарев, пошедший было в гору, скомпрометирован и заброшен.
В коллегии представление к Владимирскому ордену стоило 25 рублей. При этом было изобретено обоюдное обеспечение очень остроумно. Проситель отдавал за представление половину 25-рублевой бумажки, а когда получал орден, тогда отдавал и другую половинку.
И при всем том эти господа были необыкновенно дерзки. Когда князь Меншиков проходил через зал присутствия Адмиралтейств-коллегии, председатель ее обратился к князю:
— Мы слышали, что вашей светлости поручено преобразование морского управления. Мы уверены, что рука ваша не подымется на любимую дщерь Петра Великого, благодетеля вашего прадеда и всего его рода.
Князь на это отвечал, смеясь:
— Это правда, что Адмиралтейств-коллегия была любимица Петра Великого, но если бы он увидел, как его дочка на старости лет стала пошаливать, то ей было бы, вероятно, еще хуже.
Без моего ведома Гагарин, которого князь терпеть не мог, вздумал просить его поместить меня к себе на службу, на что князь отвечал очень неблагосклонно. К счастью, княгиня пересказала это мне. По отъезде уже княгини князь Меншиков заметил мне, зачем я служу по счетной части с моим образованием, и на мой ответ, что я служу там, где мне удалось поместиться, он выразился, что если я не буду сам просить другого места, то никто и знать не может, что я желаю другого. Этим случаем я воспользовался. Я заметил ему, что люди, раздающие места, так бесцеремонно отзываются о людях, их ищущих и даже не ищущих, а о которых другие просят без их ведома, что я, конечно, не стану пред ними кланяться. Князь немного покраснел и спросил меня шутя:
— А вы хотите, чтобы вас просили?
— Я не хочу этого, ваша светлость, но, пожалуй, буду этого ждать, прежде чем решусь сам просить.
Князь протянул мне руку и сказал:
— Так я вас прошу, будем служить вместе, когда мне дадут управление.
Так обрисовались мы оба друг пред другом.
По отъезде князя я забрался в его книги, читал, работал и, вместо посещения своего департамента, взял английского учителя, почтенного мистера Хеарда, прочитал с ним Гольдсмита, Робертсона, Мура и Байрона.
Князь переписывался со мною. Страшно раненный под Варной, он лежал в Николаеве в изнурительной лихорадке, однако же собирался в Москву, «пока силы дозволяют». Здесь ходили слухи, что он безнадежен, и сам государь был очень им озабочен. Он приказал военному министру, графу Чернышеву, узнать, кто был медиком князя, и послать его к нему, стараясь, чтобы доктор не разъехался с больным. Интриган Калинский, бывший врачом при персидской нашей миссии, успел уверить Чернышева, что он пользуется полным доверием князя; решено было послать его. Калинский проведал как-то, что князь со мной одним в переписке, приехал ко мне и просил моих указаний. Я прочитал ему письмо князя. На другой день приехал ко мне адъютант Чернышева с просьбою дать ему письмо князя для доклада государю, в чем я, конечно, не мог отказать ему, но дело кончилось нехорошо. Князь был очень недоволен присылкою Калинского и прогнал его, а ко мне перестал писать. Испытывая на себе издавна ложь и сплетни, сброшенный с высоты своей карьеры ложью и интригами, князь, по природе уже недоверчивый, сделался до чрезмерности подозрителен; ничего не рассказывал, «чтобы не переврали», избегал людей, «чтобы не могли сказать, что он им говорил то или другое». Но это уединение было ему в тягость. Во мне думал он найти надежного поверенного; молод, следовательно не лицемер; самолюбив без расчету, следовательно честен, да и не принадлежит к большому свету, следовательно, хотя бы проговорился, слово его не будет слышно. Так объяснял я себе сближение мое с князем. Вдруг письмо, адресованное к этому скромному непридворному молодому человеку, доходит до государя! Какой урок! Какая опасность!
Между тем Перовский, тоже раненый, приехал в Петербург уже генерал-адъютантом и назначен был директором канцелярии начальника Главного морского штаба (князя Меншикова). По поручению князя он предложил мне место в канцелярии, и я перешел туда секретарем, других покуда не было. Потом приехал Бахтин, которому дали место начальника отделения; другого отделения начальником сделали статского советника Жандра, рекомендованного Бахтиным, — но канцелярия не собиралась.
В турецкую кампанию Меншиков нажил себе двух опасных врагов, — по моему убеждению, совершенно невинно. Перед отъездом к Анапе он был назначен начальником Главного морского штаба и, кажется, произведен в вице-адмиралы, а, может быть, только еще переименован в контр-адмиралы, — не помню; знаю только, что Грейг был чином выше. В Николаеве вышел спор: Грейг хотел действовать флотом самостоятельно или быть в распоряжении главнокомандующего войсками, Меншиков же требовал, чтобы флот состоял в его распоряжении для действий против восточных черноморских турецких крепостей. Последний опирался на то, что он начальник Главного штаба, а Грейг утверждал, что флагман, старший чином, не может подчиняться начальнику штаба, администратору, младшему. Тогда князь объявил ему официальное высочайшее повеление, и гордый Грейг не мог не уступить, но не мог и простить ему своего унижения, тем более что его разжигали окружающие его интриганы, в особенности Мелихов, выведенный из штурманов, человек низкий, служивший и нашим и вашим.
Взяв со славою Анапу, между тем как действия наши в европейской Турции были очень неблестящи, Меншиков переплыл море и получил в командование корпус, назначенный для взятия крепости Варны. Меншиков действовал с необыкновенной энергией и быстротой, но когда все было готово к штурму, — последнее ядро, пущенное с крепостной стены вечером, пролетело между ног князя Меншикова в ту минуту, когда он, сходя с лошади, упер одну ногу в землю, а другую вынимал из стремени. Ядро вырвало ему все мясо с обеих ляжек, но не повредило ни кости, ни главных мускулов. Покуда это дошло до сведения главной квартиры, где был и государь, командование принял Перовский, на другой день раненный пулею в грудь навылет. На место Меншикова назначен был граф Воронцов, который и довершил взятие Варны. Государь же написал Меншикову рескрипт, в котором говорил, что хотя тяжкая рана и остановила его на доблестном пути, но покорение Варны есть плод его приготовлений и его мысли, и потому жалуется ему пушка со стен Варны, для украшения родового имения его, как памятник, возвещающий потомству о подвигах его, Меншикова. Это была кровная обида для Воронцова. Разумеется, не князь сочинял рескрипт, но человек так создан, что на орудие боли сердится больше, чем на действие, ее причинившее, и чем выше поставлены люди, тем нелогичнее они в этом отношении.
Не знаю, в каком отношении был Меншиков к Воронцову до этой эпохи, но мне известно положительно, что князь горячо защищал Грейга у государя, когда он хотел даже удалить его, получив сведения, что он связался с простою, алчною женщиной. Я сам читал записку князя, писанную еще до отъезда к Анапе, в которой он ручался государю, что благородный Грейг не изменит своих действий вследствие несчастной связи с жидовкою. Государь просил князя постараться разлучить его с этой женщиной, и князь, изъявляя сомнение, что успеет в этом, повторял, что это несчастное для частной жизни Грейга обстоятельство не может ни в каком случае иметь влияние на дела службы, для которых считал Грейга незаменимым.
Глава IV
Еще о графе Канкрине — Его замечательная личность — Рассказы о нем — Сперанский — Маркиз Паулуччи — Анекдоты о Голубцове, Тимирязеве и мичмане Уггла — Новосильцов — Гурьев — И. Г. Бибиков — Дружинин и его карьера — Император Павел — Рассказы о нем Дружинина — Дубенский — Таможенные дела — Деятельность Гурьева и Бибикова — Уваров — Князь Урусов
Личность Канкрина тем более занимала меня, чем ближе узнавал я тогдашних тузов и валетов, казавшихся мне покуда тузами. Во всей его личности изображался человек, выходящий из ряда обыкновенных, — по уму, по сердцу и по образу жизни. Боровшись почти всю жизнь с бедностью, он не только не выходил из прежней простоты своей жизни, сделавшись министром, но не забывал и того, что на свете есть люди темные и бедные, заслуживающие уважения. Гуманность и простота проглядывали через каждое его движение.
«Повесьте часы на стену в приемной, — говорил он директору канцелярии, — тут многим придется ждать, а ждать так тяжело, что четверть часа кажется целым часом. Когда будут часы, то люди, которых я должен буду заставить ждать полчаса, не скажут по крайней мере, что они ждали меня два часа».
Выслушивая просителей, он иногда делался нетерпеливым и начинал кричать, но как только замечал в просителе смущение или робость — тотчас стихал и старался всеми силами помочь. Помню один случай. Вдова действительного статского советника Миллера просила о продолжении срока аренды, пожалованной покойному ее мужу, и министра финансов, и вице-канцлера; первый отзывался, что она должна обратиться туда, где служил ее муж, а второй советовал ей просить министра финансов. Н. И. Греч, бывший несколько знакомым с Канкриным, вызвался просить его снова. Канкрин, увидя его в приемной, думал, что дело шло о журнальной статье, и подошел к Гречу очень ласково, но как только он заикнулся об аренде, Егор Францевич вспылил и начал кричать. Греч, выслушав первые порывы, прервал Канкрина. «Браните меня, даже бейте, — я не уйду, пока вы не выслушаете меня, потому что я ходатайствую за почтенное семейство, которому есть нечего». Тотчас Егор Францевич стих, выслушал Греча с участием и выпросил аренду.
Жена его, урожденная Муравьева, говорят, была очень хороша собой смолоду; я знал ее уже тогда, когда она была уродливой толщины и, на беду, сентиментальна, с умом ограниченным. Канкрин был, однако, с нею необыкновенно добр, уважая в ней заботливую хозяйку и мать. За обедом ел он два блюда; прислуги было немного, и с нею он был снисходителен. За сутки до доклада езжал он, при жизни императора Александра I, в Грузино к Аракчееву; один раз, на моем дежурстве, отправляясь в Грузино, с трубкою во рту, поскользнулся он на лестнице, которую дураки-люди вымыли и не обтерли; вода подмерзла, и на этой гололедице скользнули гвозди, которыми сапоги министра были подбиты. Он покатился с лестницы, зашиб себе ногу и локоть и изломал трубку, простую, из карельской березы, выложенную внутри железом. Воротясь назад и хромая, он сказал мне: «Жаль трубки; все походы со мной делала». Людям же не сделал ни малейшего замечания.
Канкрин был едва ли не первый министр из лиц, не принадлежащих к высшим кругам русского общества. Зависть чиновническая, оскорбление барской спеси и злоба большой родни Гурьева, которого он заменил, — все это соединило свой яд, чтобы вредить Канкрину или по крайней мере раздражать его, а он шел между ними спокойно и твердо, как ньюфаундленд между шавками. Строганов, Александр Григорьевич, вздумал сконфузить его, сказав ему в Государственном совете, что он должен знать такие-то дела, потому что был, кажется, бухгалтером у Перетца. «Да, я был и бухгалтером, и секретарем бывал, и много перебывал, но дураком никогда не бывал».
Служа у Канкрина, я видел в первый раз Воронцова, Сперанского, Новосильцова, маркиза Паулуччи. Воронцов — вельможа всеми приемами — производил очень выгодное впечатление; впоследствии сарказмы Пушкина туманили его репутацию, но я продолжал верить в его аристократическую натуру и не верить Пушкину, тем более что князь Меншиков отзывался о нравственных качествах Пушкина очень недоброжелательно и, как кажется, считал его зачинщиком и шпионом-провокатором. Но когда Воронцов поехал к Позену на дачу поздравить его с днем рождения, я поневоле должен был разделить мнение о Воронцове, господствовавшее в общественной молве. Под конец воронцовские мелкие интриги, нахальное лицеприятие и даже ложь уронили его совершенно в моем мнении, и я остаюсь при том, что он был дрянной человек.
Сперанский, довольно высокого роста, с маленькой головой, худощавый, нагнутый вперед, лысый, с сединами, бледный, или, вернее, тускло-белый, с розовыми кружками на щеках, как у чахоточных, редко-рябоватый, с тонкими чертами лица и хитрыми глазами — чистый тип поповича в совершеннейшем виде или начальника иезуитов. Я на него смотрел с любопытством, потому что о нем говорила вся Россия. Демократ по рождению, однако не такой неистовый, как Милютины. Князь Меншиков показывал мне копию с письма Сперанского к императору Александру Павловичу, спрашивавшему его мнение об освобождении крестьян. В этом письме он высказывал, что как ни желательно освобождение, надобно подумать о замене помещичьей власти другою полицейскою властью, и что в настоящее время наша земская полиция не на том уровне, чтобы можно было поручить ей руководство двадцатью миллионами людей. Впрочем, когда его возвели в графское достоинство, он написал на карете своей семь раз свой новый герб, по одному на каждой стенке сбоку и один сзади. Чуть ли не было их и на суконных полах козел, по тогдашней моде; но помню ясно изображения мантий, в большом и малом виде, вроде предметов, отражающихся в граненом стекле.
О нем писать нечего; есть даже печатные его биографии. И современники, и печать признали в нем очень тонкого человека, но, как говорится, «на всякую старуху бывает проруха», — и Сперанский опростоволосился, если верить рассказам Лубяновского. Я им верю, — Лубяновский очень умный и серьезный человек, и рассказывал через 25 лет по смерти Сперанского, его друга, следовательно, не имел надобности говорить по расчету. Сперанский с ним часто советовался.
Перед возвращением его из Сибири государь Александр Павлович написал ему длинное письмо, в котором говорил ему много любезностей, и между строк извинялся, что удалил его. Сперанский видел в этом письме раскаяние, которому недоставало только некоторых пояснений, чтобы быть полным. Проезжая, кажется, через Пензу, где Лубяновский был губернатором, Сперанский показал ему государево письмо и сообщил, что государь, очевидно, вызывает его на объяснения. «Нет, — отвечал Лубяновский, — если б государь желал объяснений, он бы не писал того, что написано, а ограничился бы словом «приезжай!». Если же он решился ввериться бумаге, — он принес это в жертву, повинился для того, чтобы уже не возвращаться к этому предмету». Может быть, Сперанский и послушался в ту минуту друга, но когда приехал во дворец и государь обнял его с чувством, Сперанский стал объясняться о прошедшем. Государь прервал его на третьем слове, заговорил о другом, скоро отпустил его и более никогда не принимал.
Странно, что люди, пробывшие всю жизнь при дворе, так грубо ошибаются. Когда государь, после вторичного принятия в службу И. Г. Бибикова, хлопотавшего уже о новом назначении, осыпал его любезностями на бале, Бибиков и жена его стали с часу на час ожидать указа. Бибиков полагал, что его сделают начальником штаба наместника Царства Польского. Варвара Петровна утверждала, что муж будет новороссийским генерал-губернатором. Я сказал ей на это: «Если бы государь хотел дать большое место Илье Гавриловичу, незачем было бы награждать его ласками; эти ласки, очевидно, имели целью компенсацию; они — эквивалент, и я готов держать пари, что Илья Григорьевич не получит места». Время показало, что я был прав. Да не только Бибиков — и князь Меншиков делал осечки.
Маркиз Паулуччи. Действия его по званию генерал-губернатора прибалтийских губерний известны; там сохранилась до сих пор память о его полезном управлении. Заботливый отец, но грубый. Это его характеристика. Среднего роста, в глазах какой-то недостаток, которого я не мог разглядеть; косой ли, подслеповатый или кривой, — не знаю. Эполеты всегда грязные. Приезжал он, вероятно, за деньгами для своих губерний. Кажется, тут попадала коса на камень; беседы его с Канкриным оканчивались нередко громким обоюдным криком.
Мне рассказывали случай столкновения его с великим князем Константином Павловичем… Великий князь проезжал через Ригу. Маркиз Паулуччи, желая оказать ему уважение, выехал к нему навстречу в мундире, но не в полной форме, то есть не в ботфортах и без шарфа, и подал ему рапорт. Великий князь, протягивая руку для принятия рапорта, спросил, отчего он не в шарфе. Маркиз тотчас отодвинул рапорт от руки великого князя, сказав: «Виноват, ваше высочество», и, всунув рапорт в шляпу, протянул ему руку с французским приветствием: «А как вы поживаете?»
Воображаю сцену, какую он должен был сделать по случаю приема лорда Росселя, как Греч мне пересказывал. Лорд Россель прибыл на корабле в Ригу; он был тогда в министерстве Secretary of Government, что-то вроде нашего государственного секретаря. Когда он вошел в таможню для досмотра и предъявления паспорта, таможенные чиновники, приняв путешественника за губернского секретаря по буквальному переводу, не поторопились выйти, доигрывая, может быть, партию в преферанс. Россель начал шуметь, а чиновники, считая незаконным, что губернский секретарь осмелился порицать их, может быть, титулярных советников, велели его арестовать. Между тем маркиз Паулуччи узнал, что прибыло судно, привезшее лорда Росселя, поехал навстречу и нашел высокого путешественника чуть не в арестантской. Сенковский заимствовал из этого приключения эпизод для своего фантастического путешествия барона Брамбеуса, где недоразумение подобного рода привело к противоположным последствиям. Русский губернский секретарь приехал в Константинополь; там перевели чин его на турецкий язык по этимологическому смыслу слов, и вышло, что это был соучастник тайн всеобщего благополучия и, как столь великий муж, удостоен был торжественного приема.
Случай, рассказанный о лорде Росселе, не представляет ничего невероятного. Наши чиновники и до сих пор трактуют публику с необыкновенною грубостью, — с тою только разницею, что теперь диагнозы лучше: тогда было больше наивности и потому недоразумения случались чаще.
У всех еще было в памяти приключение, случившееся с министром финансов Голубцовым. Он шел по Фонтанке; государь, встретив его, остановился, чтобы сказать ему несколько приветливых слов. Едва государь отошел от него шагов на сто, выскакивает из-за угла квартальный надзиратель и грубо спрашивает Голубцова, как он смел остановить государя. Голубцов отвечал, что он не останавливал государя, однако блюститель порядка велел идти ему в полицию для допроса. «Кто ты такой?» — был первый вопрос. Ответ: «Министр финансов!» Затем трагикомическая сцена, которую можно себе представить.
И в мое время было два случая с моими знакомыми. Один раз начальник таможенного округа Тимирязев ехал на плохом деревенском извозчике в клуб; на Синем мосту подвернулся какой-то зевака под оглоблю бедного ваньки и был сшиблен. Городовой повел ваньку в полицию, а как Тимирязев стал за него заступаться, то потащили и его. На квартире квартального объявили ему, что их благородие опочивает; через несколько минут выходит их благородие в довольно неблагородном халате и начинает ругать извозчика; когда Тимирязев вздумал и защищать его, квартальный закричал: «Молчать! Я до тебя доберусь!» Тимирязев сделал почтительный поклон и замолчал. Отправя извозчика в арестантскую, квартальный обратился к Тимирязеву. «Ты что за птица в красном жилете?» — «Ваше благородие! Жилет точно красный, только я не птица». — «Кто ты такой?» — «Действительный статский советник Тимирязев, начальник таможенного округа». Опять легко вообразимая развязка.
Другой случай был с мичманом Уггла, которого государь видел на люгере князя Меншикова и любил за его оригинальность. Уггла встретился с государем на Английской набережной и удостоился нескольких высочайших слов. Только что государь отошел, выскочил из-за угла дома Риттера полицейский офицер и спросил Уггла, что он говорил государю. «А вам на что?» — спросил его Уггла гнусливым голосом. — «Нам приказано допрашивать об этом и доносить начальству». — «Государь сказал мне: смотри, Уггла, какая скверная рожа выглядывает из-за угла этого дома». — Не знаю, донес ли квартальный об этом своему начальству.
Новосильцова я уже видел усталым, пресыщенным, волокитою, ничем не занимавшимся более, как обедами и волокитством: красное лицо, стеклянные глаза, вообще наружность, не обличающая государственного мужа, стоявшего, во время оно, во главе антинаполеоновской, конституционной партии. Он был министром внутренних дел еще до моего вступления в службу, и тогда уже был, кажется, совершенно равнодушным к делу, даже более, — не скрывал своего равнодушия.
Сенатор Корнилов пересказывал мне слышанное им от одного из бывших при Новосильцове директоров департамента. Директор поднес ему бумагу, в которой изложил губернатору систему действий по какому-то предмету. Новосильцов, выслушав бумагу, нашел, что директор предположил систему ошибочную, объяснял ему вред, могущий произойти из этого образа действий, указал, что именно следовало бы предписать губернатору, и привел доводы, по которым такое предписание было бы гораздо полезнее. «Я переделаю по указаниям вашего высокопревосходительства», — доложил директор. — «Да теперь уже поздно, — отозвался министр, — бумага уже написана; опять снова начинать дело, — нет! все равно, дайте!» — и подписал. Впрочем, это, кажется, общая характеристика наших государственных людей.
Граф Гурьев, будучи киевским, черниговским, полтавским и подольским генерал-губернатором, просиживал целое утро в оранжерее, рассматривал болезненные растения, надрезывал, определял у которого febris, у которого gangrena, и когда ему докладывал адъютант (Бларамберг), что директор канцелярии ожидает с бумагами, Гурьев бросал с досадой ножик и горестно восклицал: «Никогда не дадут мне заняться!»
А оригинальнее всех был И. Г. Бибиков, виленский, минский и ковенский генерал-губернатор. Он считал нужным приезжать раз в год в Варшаву для совещаний с наместником (фельдмаршалом князем Паскевичем). Один раз, когда при нем доложили фельдмаршалу о приезде директора канцелярии с докладом, Бибиков заметил, что и с ним это бывает, что и к нему приходит директор канцелярии с кипою бумаг и читает ему их, прибавя: «И этот дурак воображает, что я его слушаю».
Другая группа лиц, проходивших через приемную Е. Ф. Канкрина, состояла из его подчиненных: Дружинина (директора канцелярии), Кайсарова (начальника отделения канцелярии), Вронченко (управляющего кредитным отделением), Дубенского (директора департамента государственных имуществ, управлявшего и департаментом податей и сборов), Мечникова (директора горного департамента), Обрескова (внешней торговли), Карнеева (внутренней торговли), Розенберга (департамент казначейства), графа Ламберта (директора комиссии погашения долгов), Уварова (директора заемного банка). Княжевичи служили все в департаменте государственного казначейства, из них двое старшие были начальниками отделений. Через несколько месяцев по моем вступлении в службу Бибиков заместил Обрескова, а Уваров — Карнеева, а по смерти Розенберга Княжевич управлял департаментом казначейства.
Из всех поименованных Дружинин был самый замечательный, ума светлого и быстрого, физических сил неутомимых, но перед страстями не имевший никакой воли. Вся его жизнь замечательна, почти с колыбели. Он был сын небогатых родителей и питомец пьяной кормилицы. Раз родители его, уехав в гости на весь вечер и возвратясь после полуночи, заметили с ужасом, что кормилица дома, а ребенка нет. С трудом добудившись кормилицу и удостоверясь, что она мертвецки пьяна, родители всю ночь искали ребенка по околотку и наконец дознались до того, что кормилицу видели в указанной улице пьяною, но без ребенка. Нашли и кабак, котором она пьянствовала, но содержатель объявил, что ребенка при ней не видали и что он быть не мог в кабаке, кабак был полон народу, шла неистовая пляска, и ребенка задавили бы, если бы он тут был; стали, однако, делать поиски со свечою и открыли в углу под лавкою запеленатого младенца, преспокойно спящего. Из этого-то ребенка вырос человек, умерший 78 лет от роду.
Бывают такие субъекты, которых ни вода ни огонь не берет. Я знал генерала Фридберга, коменданта крепости в Финляндии, кажется, Свеаборгской. Этот Фридберг найден был младенцем на поле сражения и подарен Нарышкину. Нарышкин воспитал его, определил в службу; почему его назвали Фридбергом — не знаю. В турецкую войну 1807 года он был во флоте и вместе с кораблем, на котором сидел, взлетел на воздух, упал с кульминационной высоты в море и отсюда спасен. Когда я с ним познакомился, он был уже стариком, вообще приличной наружности, но лицо темное, усеянное черными пятнами, в виде черной сыпи — следами ожога.
Дружинин кончил курс учения в «Петершуле», определился очень молодым человеком в должность комнатного писаря императрицы Екатерины, о которой воспоминания восхищали его до самой кончины. Он говорил об Екатерине не только с восторгом, но со слезами. Служба его состояла в том, что поутру он должен был находиться в указанной аванзале в ожидании приказаний. С обеда был свободен, но получал иногда работу от императрицы лично или через г-жу Перекусихину (он жил во дворце).
В числе фактов, выражавших гуманность императрицы, рассказывал он, что она дала ему вечером какую-то рукопись с приказанием переписать ее через день. Он принялся уже за работу, но императрица, ложась почивать, вспомнила, что на другой день был праздник; она надела халат, пришла к Перекусихиной, чтобы выразить ей, что она забыла о завтрашнем празднике и дала Дружинину работу, что она не желает заставить его работать в праздник и отсрочивает работу на день. Перекусихина дала в тот же вечер знать об этом Дружинину.
Молодой писарь влюбился в хорошенькую и скромную камер-юнгферу (впоследствии жена его) и строил уже воздушные замки, как скоропостижная кончина императрицы опрокинула эти сооружения фантазии и покрыла будущность его неприязненным мраком; однако Дружинин не уступил поля сражения (не так, как мой отец, удалившийся из капитана артиллерии и адъютанта генерал-фельдцейхмейстера в провинцию титулярным советником). Как только император переехал во дворец, Дружинин, 22 лет (как и отец мой), явился в аванзалу и стал на свое место, среди бледных, растерявшихся вельмож. Кутайсов, преобразовавшийся из камердинера в камергера, приказал ему выйти, объяснив, что за смертию императрицы он уже не на службе. Дружинин отозвался, что он поставлен сюда высочайшим повелением и выйдет отсюда только по высочайшему повелению, и не вышел. Вслед за тем вошел угрюмый император, обвел глазами присутствующих и, останова взор на Дружинине, спросил гортанным, сиплым тоном: «Это кто?»
Кутайсов поспешил доложить, чем был Дружинин и какое он ему дал приказание, которого он не послушал. Павел осмотрел его грозно, но прежде чем он успел выговорить роковое слово, Дружинин простодушно и смело представил государю, что высочайшая власть не умирает, что этою властью он поставлен; ей одной он и вверяет свою участь.
«Мой секретарь!» — произнес император. Дружинин поклонился. «Правитель моей канцелярии», — прибавил Павел, и Дружинин остался при нем. Служба была нелегкая. С восьми часов утра до девяти часов вечера Дружинин и Кутайсов должны были оставаться близ кабинета его величества, но Дружинин мог двигаться по царской половине, а Кутайсов сидел весь день на стуле у дверей и держался за дверную ручку, так, чтобы по зову «Кто там!» в ту же секунду войти в кабинет и стать у дверей. Несмотря на такую службу, Дружинин не забывал своего сердца. Каждый вечер из Гатчины он скакал в Царское Село, где жила его невеста, просиживал с нею до утра и в четыре часа возвращался верхом в Гатчину, чтобы в восемь часов быть пред императором.
Умея принять вид отроческого простодушия, Дружинин приобрел право говорить с государем так смело, как никто не дерзнул бы. Государь, недоверчивый, озлобленный, был, кажется, доволен, что около него был человек первобытного чистосердечия, доходившего до младенческой наивности.
Один случай сблизил его с императором еще более. Прусский король велел составить для себя ряд маршрутов, чтобы в каждую отдельную поездку, длящуюся не более двух недель, осмотреть какой-нибудь корпус войск. Император приказал Дружинину, через Кутайсова, составить и для него такие же маршруты. «В России это невозможно», — заметил Дружинин. «Я вам объявляю высочайшее повеление!» — отвечал Кутайсов. Дружинин набросал несколько маршрутов к ближайшим городам для посещения училищ или осмотра селений. С этою работою он явился к императору и со смехом сказал ему, что Кутайсов приказал ему составить план поездок по прусскому образцу, но забыл, что Пруссия — пигмей, а Россия — колосс, что Пруссию можно и скорее двух недель объехать, а Россию и в год не объедешь. «Кутайсов дурак!» — проворчал Павел. Ободренный этим аттестатом, Дружинин продолжал: «Однако, государь, надо исполнить волю вашу, делать небольшие поездки для осмотра вашей империи. Я думал при этом, зачем смотреть войска беспрестанно; государь будет только гневаться, а в случае войны все-таки многое будет не так, как теперь. Иные войска, теперь плохие, могут к времени исправиться, другие, теперь отличные, могут испортиться. Пусть государь предоставит эту школу генералам, а сам покажет себя юношеству, своим подданным, будущим слугам; пусть его образ запечатлеется и в их памяти как образ царя и покровителя! В этом смысле я написал программу». В этот же день Павел приказал Кутайсову поднести о пожаловании Дружинину Владимира 4-й степени. Когда проект указа был подан, государь возвратил его, сказав: «Анну на шею», — а когда второй проект поднесли ему, он подписал его, приписав своеручно: «с бриллиантами».
Император Павел, живя в Гатчине, много читал, причем имел привычку все оставлять на столе, так что стол был иногда завален раскрытыми книгами и бумагами, друг с другом перемешанными. Потом, когда ему нужно было отыскать книгу или бумагу, сердился. Дружинин имел смелость, с тем же простодушным смехом, предложить свои услуги убирать книги на свое место, а недочитанные класть на особый стол всякий раз, когда император уезжает из дворца. Государь и на это согласился, так велико было его доверие к Дружинину.
Все это слышал я от самого Дружинина, не в виде сплошного рассказа, а в течение десяти лет, когда я был с ним очень короток и почти каждый день в его доме. Дружинин очень художественно описывал приемы и весь тип императора Павла. Он любил его и говорил о нем с каким-то состраданием. Не припомню всех штрихов его кисти, в сочетании которых обрисовывалась личность императора; помню только, как он описывал его одинокую жизнь в Гатчине; он (большей частью или часто — не помню) обедал один; после обеда становился перед окном и, глядя бессознательно на парк, проводил деревянной зубочисткой по зубам, очищая зуб за зубом, очень ускоренным движением зубочистки. Это продолжалось иногда с час, видимо, что он и зубы чистил бессознательно, углубленный в мысли. Обыкновенно он приходил в эти минуты или в уныние, или в раздражение; выходил из комнаты угрюмый, и голос его делался мрачнее обыкновенного; он становился даже придирчив, и плохо было тому, кто навлекал на себя его неудовольствие при таком настроении духа.
Но и при таком настроении благоволение к Дружинину не изменялось. У императора был любимый камердинер, которого имени не припомню, хотя сто раз его слышал, кажется, Овсов. У него была хорошенькая жена, а Дружинин, хотя и влюбленный, не мог не ухаживать за хорошенькими. Обыкновенно он проводил у нее время, когда государь отпускал его, — обыкновенно с того времени, когда выезжал на предобеденную прогулку, до вечера. Один раз осенью Овсова (положим) жаловалась ему, что не может достать рябины для наливки. Дружинину показалось забавным, что среди парка, тянущегося на несколько верст во все стороны, нашелся человек, затрудняющийся в сборе нескольких горстей рябины. Он вызвался услужить молодой хозяйке, позвал первого попавшегося ему истопника и велел ему нарвать для г-жи Овсовой рябины. Этот болван вздумал рвать прямо перед окнами государя и рвать по-русски: «ломает — не тужит». Император, подойдя к окну с зубочисткой, видит, как злодей гнет и обламывает целые ветви. «Давайте сюда этого мошенника!» — закричал он гневно. Притащили несчастного и бросили перед императором. «Как ты смел ломать мои деревья?» — «Виноват, ваше величество! Господин Дружинин приказал!» — «Врешь, мошенник!» — закричал император взбешенный. — «Господин Овсов приказал!» — «В крепость Овсова», — было решение, высказанное особенным, сосредоточенным в гортани голосом, который Дружинин, говорили, метко подделывал. «Можно себе представить мое отчаяние, — говорил Дружинин уже на старости, складывая молебно руки, — я бросился к Лопухиной, но она не взялась просить за Овсова в тот же день; на другой день его освободили»[1].
Немудрено, что Дружинин, состоя в таких отношениях с императором, сдружился с великим князем Александром Павловичем: молодым человеком того же возраста и стоявшим менее твердо пред государем, чем разночинец Дружинин.
С великим князем он был так близок, что в компании с ним устроил даже две фабрики: одну — для изготовления пружин к карманным часам, другую — шляпную, с мастером Гаттенбергером, но ни та ни другая не пошла. Первая, изготовлявшая пружины за один рубль вместо рыночной цены в десять рублей, уничтожилась потому, что сбывала не более пятидесяти пружин в год; вторая не знаю почему не устояла.
По восшествии на престол Александра Павловича Дружинин занимался делами важными и весьма разнообразными. Он пересматривал уставы о постепенном освобождении прибалтийских крестьян, он написал положение об аудиториате и обсуждал финансовые вопросы. Государь считал его способнейшим министром финансов, но, по господствовавшему тогда мнению, находил необходимым, чтобы на этом кресле сидел вельможа, и выбор пал на Гурьева, с условием, чтобы он взял Дружинина в директоры канцелярии. Гурьев, не из дальних вельмож сам по себе, но женатый на Салтыковой, был человек необыкновенно надменный; позвал к себе Дружинина, принял его свысока и объявил ему, что он назначается министром финансов и берет к себе Дружинина в директоры канцелярии. Дружинин отвечал, что он не желает быть директором канцелярии, о чем Гурьев с неудовольствием доложил государю; но государь приказал ему упросить непременно Дружинина принять эту должность, дав почувствовать Гурьеву, что без этого он не будет и сам назначен. Гурьев переменил тон, и как своим, так и царским именем упросил Дружинина. На этом месте он и оставался лет двадцать пять.
На беду свою, Дружинин не был в состоянии никому в чем-либо отказать, а еще менее красивой женщине. Он завел связь с Тимковскою, женщиною расточительною и алчною; она сосала из него деньги, а он должал и должал. Государь несколько раз платил за него долги, несколько раз дарил ему земли под самым городом и топи в устьях Невы, но все это разлеталось в прах. У Тимковской расплодилось большое семейство, один сын был в кавалергардах, другой — в конной гвардии, все расточительны, и Дружинин дошел до того, что стал принимать подарки, а потом и оказывать услуги в ожидании подарков. Репутация его помрачилась, и в старости он, добрейший человек, слыл за плута и боролся с бедностью, снося это не только с терпением, но писал своему идолу, жене старшего сына Тимковской, что страдания его гордости услаждают его сердце, доказывая, что он не щадит ничего и не жалеет ни о чем, если жертвы могут возбудить на лице его ангела улыбку удовольствия. В моем мнении он был прекрасный, но несчастный человек.
Дубенский умен, как бес, дурен, как бес, и по правилам бес. Он нажил себе огромное состояние. Канкрин не любил его, но не находил человека с его умом и потому держал его.
Мечников, грубый мужик, — дядя Ковалевского, министра народного просвещения. Дела таможенные шли очень дурно, контрабанда действовала открыто; закупив все таможенное ведомство, она доказала, что либеральный тариф не может остановить ее. Тариф 1819 года похож был на последствия мирного трактата побежденного государства, — и полагали, кажется, не без основания, что Обресков и Гурьев были подкуплены. Гурьев около того же времени заключил разорительный внешний заем, доставивший ему большие капиталы, которые впоследствии наследовал сын его из амстердамского банка. Составился другой тариф, Гурьева удалили, и к управлению таможенным ведомством был призван однорукий Бибиков, человек с железною волею и бессострадательным сердцем (впоследствии министр внутренних дел). Управление Бибикова было драконовское: за малейшую оплошность, за ошибку в письме чиновники исключались из службы; за малейшее потворство купцам — отдавались под суд. Испуганная сволочь переполошилась и разбежалась; их заместили люди из гвардейских офицеров, приглашенных Бибиковым. Таможенный доход удвоился; отечественная промышленность ожила: повсюду воздвигались фабрики, и наш курс достиг небывалого уровня — 414 сантимов за рубль серебра или за четыре рубля ассигнаций. Департамент внутренней торговли был при Гурьеве в не менее жалком положении. Комитет снабжения войск сукнами воровал сотни тысяч и делился с департаментом и канцелярией. Директором департамента был назначен Уваров, но без видимой пользы. Уваров, лицо большого света, известное в ученом мире, прекрасный собою, богатый по жене (Разумовской), был характера подлого, ездил к министерше, носил на руках ее детей, словом, подленькими путями прокладывал себе дорогу к почестям. Розенберг долее и чаще всех работал с министром: знал, что Канкрин придавал особенную важность департаменту государственного казначейства. Преемники его видели в этом департаменте простого счетчика и забросили его. Так же деятельно работал министр с графом Ламбертом по комиссии погашения долгов, — последним бывшим у нас практическим дельцом по кредитной части.
С тех пор и доселе мы видим только «людей науки» или «изучивших» финансы; самое скорое средство сделаться государственным человеком: взял в руки 100 рублей, накупил себе книг, затвердил историю французских и австрийских финансов да кое-какие термины, пробежал несколько статей из «Economist» или «Revue des deux mondes» — вот и министр финансов. Знание государства кажется нашим деятелям совершенною роскошью. Науки, афоризмы — вот коньки, на которых выезжают князь Константин Николаевич, Чевкин, Рейтерн, Ламанский и компания, но что же такое наука без приложений. Наука — мелочная лавка, где продается всякая всячина: нужна вам протекционная система — берите Листа; нравится свобода торговли — Смита; все правы и все не правы. Все зависит от знания, нравов, потребностей и финансового положения государства; оно может указать, когда и насколько применим Смит, кому, когда и насколько полезнее Лист, — но знание государства достигается наблюдениями и размышлениями долговременными, а нам надобна подготовка скорая: тут и является на выручку наука, одна, сама по себе.
В приемной Канкрина видел я и чиновное чванство. Помню князя Урусова, кажется, вице-губернатора: красивый, чопорный — с дурацким выражением лица. Министр приказал никого не принимать. Когда я увидел входящего князя, то подбежал к Дружинину спросить, следует ли отказать Урусову. Дружинин отвечал: «Разумеется: министр ведь не делает исключений». Ободренный этими словами, я очень вежливо доложил князю Урусову, что министр очень занят и никого не принимает. «Сожалею, что вы мне это говорите», — отозвался князь с необыкновенною надменностью, а Дружинин прибавил, улыбаясь: «Ведь князь — свой». Это совершенно переконфузило меня. Затем входит министр. На низкий поклон Урусова он обратился ко мне с досадой: «Разве вы забыли, господин дежурный, что я не велел никого принимать». — «Я говорил это князю, ваше превосходительство, но князь полагал, что это до него не относится». «Извольте идти вон, батюшка (или как он произносил: фон, батшка)!» — крикнул Канкрин на Урусова, и этот удалился: сцена вроде басни Мятлева:
Медведь сказал козе: Comment vous osez![2]Глава V
Перовский — Его характеристика — Мои отношения с ним — Князь П. П. Гагарин — История с дачей в Павловске — Васильчиков — Моя жизнь у князя Меншикова — Чиновник особых поручений Бухало — Капитан Куприянов — Адъютанты князя — Побочный сын князя Кутузова Крупеников — Рассказ его о фонарщике — Наш флот и командование им князя Меншикова — История образа Богоматери
По отъезде князя Меншикова в Анапу я посещал небрежно свой департамент, зная, что останусь в нем недолго, а мои благородные начальники, в той же уверенности, не только не взыскивали с моей неаккуратности, но ценили меня гораздо выше, чем в то время, когда я работал с полным усердием.
В 1829 году Перовский определил меня, по приказанию князя Меншикова, секретарем в его канцелярию, а в конце того же года воротился и сам князь. Вскоре после того возвратилась из Москвы и сестра его, вдова княгиня Гагарина, для которой я нанял квартиру в Большой Морской, в доме Алексея Васильевича Васильчикова. Опять три новые личности, с которыми я столкнулся.
Перовский, генерал-адъютант, бывший адъютантом у великого князя Николая Павловича, — лицо замечательное. По складу ума человек либеральный, но, будучи побочным сыном Разумовского, он опасался унижения и насмешек, и в этом опасении был необыкновенно горд и обидчив. Рыцарь без страха и упрека, с аристократическим лицом, ума приятного и оригинального, он необыкновенно нравился женщинам и был у них очень счастлив. Эпизоды прошедшей его жизни тогда уже придавали ему романический колорит, который в то время, когда еще не было железных дорог, акций и облигаций, следовательно, когда не было еще нигилизма, пленял юношей и женщин.
Будучи еще юнкером, забавлялся он в комнате своей стрельбою из пистолета восковыми пулями и никогда не расставался с пистолетом; часто он втыкал в дуло палец и расхаживал с повисшим на пальце заряженным пистолетом. Раз, ходя в такой компании, он задел за курок; последовал выстрел и оторвал ему ту часть пальца, которая находилась в дуле; с тех пор он носил золотой наперсток, к которому прицеплена была цепочка с лорнетом.
С великим князем он обращался свободно, даже слишком свободно, что в тогдашнее время, когда члены царской фамилии еще не дружились с простыми и даже пошлыми смертными, было тоже явлением интересным. В походе на Париж, в юнкерском же чине, он в какой-то жидовской деревушке тоже забавлялся стрельбою из пистолета; вдруг вспыхнул пожар, несколько избушек сгорело; евреи заревели и приписывали пожар пистолетному пыжу. Перовский, сострадая к погоревшим, отдал им все, что имел с собой для похода, до последней копейки.
Внутреннее убранство его покоев представляло тип сурового воина и восточного сибарита. Рабочий стол его окружен был рыцарями в стальных латах, и все стены обвешаны мечами, ружьями и пистолетами. Среди комнаты лежал огромный ньюфаундленд, грозный и смышленый; рядом комната, обвешанная и устланная богатыми коврами; вокруг стен — широкие турецкие диваны; на полу — богатый кальян, а в стене огромное зеркало, составлявшее скрытую дверь. «Здесь, — говорил он мне, — покоюсь я в объятиях Морфея, когда мне отказывают в других».
Таким оставался Перовский до самой смерти, храбрым и в поле, и на придворном паркете. В турецкую кампанию стоял он у скалы в кружке офицеров, как упала перед ними бомба, шипя и вращаясь. Все обомлели; Перовский же сказал спокойным голосом: «Прислонись!» — и, прислонясь к горе, выждал хладнокровно, пока бомба лопнула и разослала во все стороны свои осколки.
Но я еще гораздо более удивляюсь его мужеству при дворе. Кажется, в 1833 году государь имел неосторожность приказать генерал-губернатору отдавать под военный суд мастеров, которые будут делать неформенные эполеты. Вскоре после этого странного повеления Перовский приезжает на вечер к великой княгине Елене Павловне в рассыпчатых матовых эполетах. Приехал государь. Увидя Перовского, он сказал ему шутя:
— А как ты смел надеть неформенные эполеты?
— Виноват, государь, это ошибка камердинера.
Государь вспыхнул, стал выговаривать ему, что он, едучи во дворец, не смотрит даже, что надевает на него камердинер, и, разгорячась от собственных речей, как это часто бывает, кончил тем, что приказал уже отдавать эполетчиков под суд и потребовал, чтобы Перовский назвал ему его эполетчика.
— Государь, — отвечает он, — я не могу позволить себе складывать свою вину на мастера; виноват не тот, кто делает, а тот, кто надевает неформенную одежду.
— Я повелеваю тебе сказать мне имя его. Осмелишься ли ты ослушаться высочайшей воли.
Перовский доложил на это, что он исполнит эту волю, но не прежде, как по снятии с него эполет и аксельбантов, потому что роль доносчика на мастерового считает несовместною с генеральским чином и, еще более, с генерал-адъютантским званием. Государь отошел от него, не возразил ни слова. Перовский уехал, но этим и кончилось, и повеление об эполетчиках совершенно забыто.
Но и у него была ахиллесова пята: он был ревнив. Княгиня Гагарина, прекрасная собою, была предметом обожания всей молодой свиты князя Меншикова, в том числе и моего; она живала летом в Ораниенбаумском дворце и пригласила меня туда же на несколько дней. Испросив на это позволение князя, я поехал в Ораниенбаум, но через три дня получил от В. А. Перовского записку с замечанием, что я не имею права отлучаться и заставлять других работать за себя. Этот упрек был несправедлив, потому что я один работал более, чем все другие секретари канцелярии вместе. Князю очень не понравилась эта выходка; он, вероятно, обнаружил это Перовскому, и преследования его усилились, так что наконец я вошел с ним в объяснение, причем высказал ему удивление, что генерал-адъютант решился начать неравный и, следовательно, бесславный бой с 24-летним титулярным советником. Перовский, по благородству души своей, увидел мелочность своих поступков и стал оказывать мне самое дружеское расположение, даже проводил у меня вечера, когда я был болен. Раз я спросил его, за что он меня преследовал. «Кто старое помянет, тому глаз вон», — отвечал он мне в смущении.
Между тем он усилил атаку на сердце княгини и победил его; кажется, он в самом деле влюбился в нее, а она полюбила его со всею страстью 35-летней женщины, но добродетельная, «варварских правил» (по выражению ее брата), не обещала ему ничего, кроме своего сердца. Перовский готов был предложить ей свою руку; он опасался только, что князь ему отказал бы в согласии, что он сказал бы: «Я не хочу иметь незаконнорожденного своим зятем». Княгиня не опасалась этого; она уверена была, что брат не остановился бы на подобных затруднениях, но объявила Перовскому, что не пойдет за него, потому что слишком его любит, что брак его «с старою вдовою» будет смешон, что он не обладает достаточною философией, чтобы быть равнодушным к насмешкам, что она не хочет быть причиною его огорчений и что она умрет от страстной любви, но не отдаст ему ни руки, ни чести. И она, бедная, умерла от любви, даже скептик князь Меншиков был этого мнения. По кончине сестры он нашел в ее бумагах дневник, которого каждая страница пылала страстью и обливалась слезами отчаяния; между тем 15-летняя дочь ее Наталья (теперь Соловова) стала уже кокетничать с Перовским и тем сводила с ума свою увядающую мать; у них бывали сцены, достойные сожаления, в которых мать лишалась своего достоинства, а дочь предвещала свою будущность.
Князь П. П. Гагарин, родной брат мужа сестры князя Меншикова, бывший тогда обер-прокурором в московском сенате, давно уже вздыхал по своей невестке. После трагической смерти своего брата он как опекун его детей перевез княгиню в Москву, «чтобы удобнее заниматься опекой» и с надеждою понравиться вдове. Это ему не удалось, но впоследствии он, говорили, обольстил младшую племянницу, княжну Катерину, которая и до сих пор не замужем.
Здесь, в Петербурге, оставался дом княгини, и в Павловске — дача ее мужа, на Константиновском пруду. Княгиня просила меня принять эти дома в мое покровительство; я отдал петербургский дом внаймы, а дача была так ветха, что Гагарин назначил ее в продажу. С императрицею Марией Феодоровною Павловск лишился своего населения; о железной дороге не было еще и помыслов; войск тоже не было в Павловске, который таким образом представлял захолустье, с группою карточных домиков, с поблекшими украшениями и прогнившими кровлями. Дача князя Гагарина стала совершенною развалиною; после многих напрасных поисков нашелся охотник купить дачу за десять тысяч рублей (ассигнациями), полковник Мочульский, и то с тем, чтобы ему был дан немедленный ответ, дабы он мог до осени покрыть строения новыми крышами. Гагарин писал мне, чтобы я дал Мочульскому честное слово, что дача останется за ним, и Мочульский тотчас принялся за исправление дачи. Когда все крыши были возобновлены и печи переложены, что стоило Мочульскому более двух тысяч рублей, явился Киреевский, предлагавший за дачу двенадцать тысяч рублей, и Гагарин приказал продать дачу ему.
Я напомнил князю честное его слово, на что он отвечал мне, что в официальных действиях честное слово ничего не значит. Я написал это княгине, описал ей затруднительное свое положение и объявил ей, что, при всем желании служить ей, не могу продолжать сношения с опекуном, которого понятия о чести так противоположны с моими. Княгиня прислала мне две тысячи рублей для возвращения Мочульскому и извиняла своего зятя, однако я не согласился иметь с ним какое-либо дело и прекратил с ним сношения.
Все это происходило в отсутствие князя Меншикова. Он был в Турции. По приезде он поручил мне искать квартиру для сестры; я и нашел ее в доме Васильчикова. Князь, посылая меня к Васильчикову, сказал мне: «Это глупец, который гордится, что женат на племяннице Кочубея, он способен быть грубым; чтобы это предупредить, говорите с ним по-французски». Когда доложили обо мне Васильчикову, он вышел ко мне с надменностью человека, который «в родню был толст, но не в родню был прост», и сел на кресла, стоявшие спиною к окну. Я, без дурного умысла, сел тоже на кресла, рядом стоявшие, и с Васильчиковым чуть не сделался паралич. Он покраснел, смешался, встал и объявил мне, что ему некогда и чтобы я пришел к нему на другой день утром. На другое утро заставил он меня ждать; я стоял в зале, подле его кабинета, которого двери были открыты; в зеркале, украшавшем простенок залы, отражалось происходившее в кабинете. Этот вероломный домочадец показывал мне, как вельможа садился за письменный стол, как он вынимал из ящика бумаги и обкладывал ими поверхность стола, дотоле чистого, и как камердинер уносил стулья, стоявшие близ этого стола. Когда все эти приготовления кончились и вельможа окончательно поставил себя в положение «великого мужа, сидящего в углу уединения» — согласно комплименту, адресуемому великому визирю, — я был позван и поневоле должен был стоять перед сидящим боярином. Как бы то ни было, княгиня приехала в Петербург, а это было главное. В доме Васильчикова жила она только одну зиму. Какая разница в тогдашних нравах и нынешних!
Князь Гагарин, богатый и блестящий придворный, принадлежавший к высшему обществу, жил в своем доме, где с лестницы входили прямо в столовую, через которую надобно было непременно входить и в гостиные, и в кабинет. Тут обедали, тут завтракали дети. Такого же устройства была квартира княгини и в доме Васильчикова. Теперь вице-директор департамента, с калмыцким рылом, вымаливающий в передних прибавки, пособия, награды, гнушается квартирами, которых столовая не в стороне, и господин Брок обедает в столовой, где граф Литта угощал царскую фамилию; ему сервируют на серебре, которое украдено в казне или выможено у Штиглица. В 1830 году князь нанял дом Опочинина на Дворцовой набережной, куда переехала и сестра его и где я получил тоже помещение очень скромное.
Жизнь в доме Опочинина была едва ли не самым счастливым периодом моей жизни. Мне было 24 года, князю — 43 года, княгине Гагариной — лет 35, дочерям ее: 16, 14, 12 и 10; все было или молодо, или еще свежо. Царь был милостив к нашему хозяину; вся атмосфера светлая. Маленькая, но уютная домашняя церковь соединяла всех обитателей, без различия вероисповеданий, в одну группу, в большие праздники. Особенно приятна была встреча Светлого Воскресенья. По третьему выстрелу князь Меншиков отправлялся во дворец, провожаемый толпою веселых молодых лиц, а мы собирались в церкви, христосовались с красавицей-княгиней и ожидали в гостиных возвращения князя из дворца, любуясь Невою, смотрящею на нас сквозь флер полупрозрачного рассвета.
В галерее накрыт был большой стол с разговеньем; прислуга обоего пола, предводительствуемая кривоногим дворецким Адрианом, стояла на заднем конце с торжественною почтительностью. Князь приезжал веселый, жал руки сестре, племянницам и нам, целовался с прислугой и подавал своим примером сигнал к разговенью, причем министр, дамы-боярыни, свита князя и его прислуга сливались в одну христианскую семью. Как все переменилось, и не к лучшему! И тут наука! Философы выработали принципы о человеке и втискивают в свои рамки все человечество! Благоденствует оно или страдает — все равно, лишь бы принцип торжествовал.
Кружок наш состоял далеко не из однородных элементов. Князь, занятый по преимуществу честолюбием и светскостью, был весь приличие; сестра его княгиня, озабоченная плохими денежными обстоятельствами, сохраняла, однако, веселое расположение духа, начинавшее уже переходить в мечтательное, под влиянием куртуазности мощного рыцаря Перовского.
Старейший из свиты его — действительный статский советник Бухало, малоросс старинного века и чиновник старых времен, честный, но бездарный правитель дел военного совета при председателе Лампе, уволенный потом за штат и взятый князем Меншиковым в чиновники особых поручений, спасенный тем самым от голодной смерти. Бухало писал еще букву Д на ножках, принципом педагогии считал периодические розги «хорошим — чтоб не испортились, дурным — чтобы исправились», и думал, что говорит по-французски, если ломает русскую речь прибавкою слова мадам. «А что, мадам, хорош Нева?» — спрашивал он у гувернантки княжон, и потом со смехом говорил княгине: «А я с мадамой по-французски разговаривал».
Молодежь трунила над стариком так ловко, что он этого не замечал; мы уверили его, что он поэт, и он стал писать стихи, которыми хвастался, читая их всем и каждому с своим малороссийским выговором. Он был скандализован стихами Деларю, в которых поэт уверял свою возлюбленную, что если бы был царь, то отдал бы ей царство, если бы был Бог, отдал бы вселенную, — и читал княгине ответ Деларю:
Когда ты пороком дышишь, И скверные стихи пишешь, То ты не Бог, не царь, А просто земная тварь, И не красавицам тебя лобзать устами, А просто бить тебя батогами.Всеобщему громкому хохоту вторил он таким же хохотом, уверенный, что все смеются над Деларю.
Князь, разумеется, не давал ему никаких поручений; на вопрос его, когда являться на службу, князь отвечал: «Я обедаю в 4 часа, так милости прошу в 50 минут четвертого», — а за обедом отпускал ему шуточки и смешил его, а иногда делал вопросы вроде следующего: «Правда ли, что в Военной коллегии никогда не было так темно, как при лампе?»
За ним следовал капитан 1-го ранга Серебряков, употреблявшийся парламентером для переговоров по-турецки с Цифир-беем, комендантом крепости Анапы, во время ее осады, армянин телом и душою, выговаривавший ми вместо мы, били вместо были, и были вместо били. В праздники несло от него розовым маслом.
Потом капитан 2-го ранга Куприянов, мастер сыпать целый час без умолку слова, между которыми не было никакой связи; любезничая с дамами, он выступал всегда тою же ногою вперед, волоча за ней другую. На вопрос княжон, отчего г-н Куприянов так ходит, князь уверил их, что у К. деревянная нога и что они могут в этом удостовериться, воткнув ему в ногу булавку. Ветреная княжна Софья вздумала сделать опыт: кольнула его за обедом булавкой так, что Куприянов вскочил с криком.
Он был опытный офицер в деле морских съемок, и князь держал его ввиду экспедиции для съемки Балтийского моря.
Васильев, адъютант из черноморских офицеров, был маленький, коротенький, чрезвычайно деятельный и чрезвычайно способный, притом прекрасный человек.
Дегалет, адъютант, из греков, очень красивый собою и не без греческой ловкости, но ленивый. Князь любил его как неиспорченного юношу, возил с собою на балы, но поручений не давал и никогда не награждал. Во мне князь видел тоже неиспорченного юношу, но я много работал и тем приобретал значение выше Дегалета, к горькой его досаде.
Затем были еще Бахтин, управлявший отделением в канцелярии, но пожелавший сохранить звание чиновника особых поручений, и разные флотские офицеры, не входившие в круг ближайший.
Князь занимал весь дом Опочинина, кроме двух комнат, в которых жил некто Крупеников, побочный сын князя Кутузова-Смоленского; он жил бедно, однако остался другом Кокошкина, бывшего некогда адъютантом князя Кутузова, а в то время — флигель-адъютантом и петербургским обер-полицеймейстером. Крупеников рассказывал одну историю, ярко обрисовывавшую тогдашнее время. Является к нему старик-фонарщик, один из тех ветеранов, которые по вечерам и утрам ходили по улицам, с рогожею на плечах, с лестницею на спине и с кувшином в руке. Они наливали в фонари масло, зажигали их и пред рассветом гасили. Фонарщик рассказал ему, что на инспекторском смотре на вопрос инспектора, не имеет ли кто претензий, вышло несколько человек, в том числе и он, и объявили, что они уже давно выслужили 25-летний срок и не получают отставки. На другой день стали сечь поочередно всех, которые изъявили претензии, и завтра — очередь его наказания. «Пощадите старые мои кости», — говорил слезно старик и просил защиты. Крупеников в тот же вечер объяснился с Кокошкиным, и тело фонарщика пощажено. Через несколько дней приходит к нему фонарщик с благодарностью, в канцелярском смысле слова. Крупеников полюбопытствовал узнать, какого размера благодарность мог дать этот брошенный судьбою человек, и спросил его, сколько он намерен подарить ему. «Извините, ваше благородие, большого дать не могу, а принес 100 рублей, не прогневайтесь!» — «Да откуда же у тебя 100 рублей, когда ты получаешь 34 рубля в год жалованья?» — «Ничего-с! Мы люди достаточные, не то бы еще имели, если бы не начальство!»
В 1830 году князь Меншиков вывел балтийский флот в практическое плавание под своим начальством; в первый раз развевался на грот-мачте флаг начальника Главного морского штаба его императорского величества. Он сидел на 74-пушечном корабле «Кульм», которым командовал капитан Лазарев, Андрей.
Штаб князя был многочисленный, начиная от контр-адмирала Мелихова до молодых флаг-офицеров; из статских был один я. В штабе его соединялись балтийские офицеры с черноморскими; между обоими флотами был всегда антагонизм; балтийцы называли черноморцев греками; последние первых — лужеплавателями. Главный защитник черноморцев в свите князя был Мелихов — умный, но плут, балтийцев — Куприянов, честный, но дурак, или если не дурак, то чудак, не умевший выразить ни одной мысли; вместо посредственно он говорил: «не так, чтобы так чтобы очень, а так!», вместо: как хочешь — «коли хочешь, как хочешь, а не хочешь, как хочешь». При таком защитнике плохо приходилось балтийцам, вступался за них же Лазарев (Андрей), да и этот брал голосом и грозно произносимыми «хм! черт возьми!». Князь забавлялся и отчасти назидался спорами обоих лагерей и нарочно травил их друг на друга. Говорил он с ними о море, о парусах, о лоции, не вдаваясь ни в какие суждения о политике, об администрации, о дворе. Я был беспрестанно отзываем им в сторону для обмена несколькими словами. Только я бывал в его каюте с ним наедине, иногда по целым часам; все прочие приходили к нему только in corpore. Штаб называл меня Бурьеном, в честь наполеоновского Bourrienne, а экипаж — дохтуром, потому что я был в форменном сюртуке без эполет.
Князь вводил тогда черноморские сигналы, им дополненные и усовершенствованные, и потому на палубе почти целый день давали сигналы, ежели не были заняты эволюциями. Эволюции производились деятельно, трудные и смелые, к каким балтийские эскадры не привыкли. Один раз, когда князь приказал флоту, идущему в порядке кораблей, следующих друг другу в кильватер на расстоянии только одного кабельтова, поворотить оверштаг при довольно слабом ветре, «Кульм» не сумел поворотить, попятился и столкнулся с кораблем, за ним шедшим. Они оба, казалось, едва двигались, но, коснувшись, произвели суматоху ужасную; полкормы «Кульма» полетело в море; бугшприт другого рассыпался вдребезги, а реи обоих сцепились и крушили друг друга. Серебряков только что воротился с берегов Абхазии; он, сняв мундир, спал крепко в своей каюте. Проснувшись от треска, увидел борт с орудием, глядящим в порт каюты; полуочнувшись, схватил он саблю и в рубашке с саблею в руках выскочил на палубу; он думал, что это абордаж турецкого корабля. Общий хохот!
Флотские офицеры играли вообще жалкую роль в обществе; ко двору их не приглашали, да и в частных гостиных Петербурга их не встречалось. Они веселились по-своему у себя в кронштадтском кружке. Кампания 1830 года дала им другое значение, князь приглашал их к себе, и когда бывали приглашения гвардии ко двору, князь испрашивал соизволения государя приглашать и флотских офицеров. Флот был не на уровне с гвардией, но поскольку государь жил летом в Петергофе, против морского порта, то князь Меншиков под этим предлогом и ввел флот в струю гвардии. В то время были уже и флигель-адъютанты из моряков, двое: граф Гейден — в награду за наваринские подвиги отца, и Казарский — командир прославившегося брига «Меркурий».
В ту же осень обер-священник армии и флота представил начальнику морского штаба, что после Наваринского сражения увидели на водах плавающий образ Богоматери; что этот образ, чудотворно явившийся, очевидно, служил покровом нашего флота, и что потому синод разрешил открыть по флоту подписку на сооружение, в честь этого образа, храма Божьей Матери Одигитрии. Князь просил предъявить и самый образ. Оказалось, что он принадлежал титулярному советнику Бельковскому, интендантскому чиновнику, плававшему на корвете «Иезекииль»; что неприятельское ядро снесло кормовую галерею, в которой помешался Бельковский, и что при этом как все его вещи, так и этот образ упали в море. Князь Меншиков сообщил это синоду и разрушил мнимое чудо.
Рельефное положение мое во время практической кампании балтийского флота устремило на меня взоры флотского генералитета; многие старались со мной сблизиться и приглашали меня к себе, но я уже из первых бесед с адмиралами, говорившими только о службе своей и своих сверстников, догадался, что они ищут во мне проводника их голоса, и избегал знакомств. Познакомился только с простым, полуграмотным дежурным генералом Ратмановым, у которого было почтенное семейство, с полковником Верхом, писателем, побочным сыном какой-то тетки князя Меншикова, и адмиралом Огильви, шотландцем, плохо говорящим по-русски, очень хорошим, не искательным стариком.
В том, что я не знакомился с заискивавшими передо мной морскими тюленями, я никогда не раскаивался, но упрекал себя впоследствии в том, что не искал знакомства с лучшею частью флота, с теми именно лицами, которые, оказывая мне приветливость, не унижали себя до искательства: с графом Гейденом, Головниным, Крузенштерном, особенно с последним, человеком почтенным и в семействе которого собиралось честное и просвещенное общество. Причиною этого были преимущественно моя личная застенчивость и какое-то нерасположение князя Меншикова к этим лицам. Князь понимал с самого начала, что назначение его начальником морских сил не могло нравиться старым морякам, которые дотоле составляли как бы отдельное государство, в которое никто не вмешивался. Это назначение, поставившее Моллера на второй план, должно было, по его мнению, вооружить против него немецкую партию, которая имела другого кандидата, графа Гейдена, если не считать Моллера. Ссора его с Грейгом могла возбудить неприязнь к нему людей, близких Грейгу, и эти люди принадлежали к просвещенному кружку флота. Так объясняю я себе это странное нерасположение, хотя все те предположения, что исходили из настроений человека столь честолюбивого и подозрительного, как князь Меншиков, гораздо более соответствовали его личным ощущениям, чем действительности. Изъяснение это сделал я уже позже, а в то время, считая князя непогрешимым и безупречным, смотрев его глазами и мыслив его мыслями, — я шел бессознательно в его кильватер телом и душою… Если бы молодость знала!
Глава VI
Квартира князя Меншикова — Посещение князя государем — Мое невольное присутствие при их разговоре — Визиты сановников — Вилье — Танеев и Бехтеев — Адмирал Пустошкин — Норов — Начальствующие лица во флоте — Знакомство с графом Бенкендорфом — Поручение написать для него деловую бумагу — Скучная жизнь в Петергофе — Строгие меры вследствие холеры — Бунин — Майор Иванов — Расположение к нему государя — Дядька великого князя Константина Николаевича Римский-Корсаков — Его неудавшийся десант — Сцена с государем — Замена Римского-Корсакова Ивановым
По программе князя Меншикова я приготовил к приезду его в Петербург квартиру очень скромную: двухэтажный маленький дом Миллера (позже Персона) на канаве, у Красного моста. По фасаду было четыре небольших комнаты в ряд, из которых три — по одну сторону лестницы и одна — по другую: в этой поселился я. Первая из комнат князя была сквозная, имеющая два окна на набережную и супротивные два окна на двор; комната разгорожена была поперек поставленными сосновыми полками с книгами; за этой перегородкой, доходившей только до двух третей ширины комнаты, стоял письменный стол, за которым я работал или писарь переписывал бумаги не канцелярского изделия. Передней не было; моя комната отделялась от других небольшой площадкой, на которой могли бы поместиться просторно трое или четверо, стоя. Из первой комнаты князя вели в другие две двери: одна, близ фасадного окна, вела в кабинет князя, в котором самую видную мебель составлял большой высокий сосновый стол под черной краской, с доской, укрепленной на половине высоты ножек; князь работал стоя или прислонялся к высокому табурету, как в банкирских конторах; другая дверь, близ надворного окна, вела в столовую. За кабинетом была комнатка, с турецким диваном, с развешенными по стенам портретами генералов, в числе которых помню Чернышева и Левашова. Где именно была спальная князя, не помню, в темном ли покое домового угла или в надворной пристройке, в которой жили еще адъютант князя, молодой, очень красивый грек мичман Дегалет и необтесанный, подслеповатый малоросс, армейский лекарь Баршацкий; внизу жили люди князя и была кухня.
Через несколько часов по приезде князя прибыл к нему государь; я занимался в первой комнате, за книжными шкафами, и оставался там по докладе о государе, рассчитывая, что он тотчас пройдет в кабинет и что тогда я успею пройти в свою комнату, не встретясь с ним, — но я ошибся в расчете. В то время как государь входил в первую комнату, князь на двух костылях входил в нее же из кабинета, так что они встретились на половине первой комнаты.
— Вот он, вот он, мой любезный, мой дорогой князь! — закричал государь своим мягкозвучным, громадным голосом, обнимая и целуя князя. — Садись, садись поскорее, любезный герой мой, я тебе помогу. — И повел его на старый рыночный диван, стоявший в промежности двух фасадных окон.
Князь просил государя пройти далее.
— Нет, нет, — ты устанешь!
— Государь, я хожу без затруднения, это — передняя; тут неловко.
— Благо ты сидишь, — и довольно.
Таков был привет того же государя тому же генералу, которой сменился им же в 1864 году по неспособности.
Я очутился заарестованным и, что еще хуже, невольным подслушивателем царского разговора. Мне было уже около 24 лет, но я был так неопытен в политике жизни, что не догадался тотчас выйти. Государь спросил князя о состоянии раны, она, через 14 месяцев, была еще 5 вершков длины и в широком месте до 2 1/2 вершков ширины, не затягиваясь; по ложному направлению, принятому растительною силою жизни, — воспроизведение пошло вверх; вместо заживления природа утолщала только здоровые края раны. Потом государь заметил, что князь слишком тесно помещен. «Для меня довольно», — отвечал князь. Потом опять государь возвратился к этому предмету, находя, что князь живет слишком просто.
— Я всегда так жил, государь, — было ответом.
Наконец государь сказал с тяжелым вздохом:
— Слава Богу, что ты приехал; не можешь вообразить, в каком я положении; не с кем посоветоваться. — И стал перечислять людей с прибавлением весьма некрасивых эпитетов.
Каждое слово государя отзывалось во мне, как удар ножа. Как будто завеса спадала с глаз моих, а вместе с тем я понимал, что мое положение становилось с каждою секундою фальшивее и опаснее, — но когда государь, дойдя, если не изменяет мне память, до Чернышева, назвал его скотиной, — тогда я решился сделать salto mortale, пошел свободным шагом в дверь, ведущую в столовую, выставляя себя под выстрел императорского взора на той трети ширины комнаты, которая не заслонялась перегородкою. Слышал вопрос «кто это», но не слыхал ответа и, очутясь в столовой, долго ощупывал себя, жив ли я. Прежде отъезда государь пошел или, вернее, проводил князя в его кабинет; видя за кабинетом отворенную маленькую комнату, в которой были развешены портреты, он спросил:
— Что у тебя там?
— Государь, эта комната составляет у меня портретную галерею кровных жеребцов.
Прошли туда, и из столовой слышался громкий, откровенный смех государя, раздававшийся, как мелодичный звон серебряного щита.
Через десять минут по приезде государя мостовая набережной оглушилась неумолкаемым стуком подъезжавших и отъезжавших карет. Великие сановники, слыша с площадки, что государь в передней комнате, поступили умнее меня; они тотчас спускались вниз, и где ожидали, не знаю; сеней внизу нет; вероятно, в швейцарской, чтобы не сказать в людской. Как только государь уехал, нахлынула блестящая толпа, а я прошел к своему письменному столу и сквозь промежуток двух книжных полок смотрел на эту группу, проходившую в кабинет. Какое неизъяснимое чувство проникало меня при лицезрении особ, не подозревавших, какими эпитетами они были за минуту пред тем облечены из высочайших уст. Какие лобзания, какие изъявления радости и сочувствия тут происходили! Назидательные сцены!
Уморительные фигуры попадались подчас в этих убогих покоях. Старик Вилье, то есть Уайли (Wylie), хвастун и лгун до идиотизма и рассеян до кретинизма. — «А! Г-н Бахтин!» — говорил он мне всякий день, встречая меня, несмотря на то, что он знал Бахтина уже два года и что я всякий день повторял ему: «Фишер». Тут же я видел в первый раз Танеева и Бехтеева, только что сочинивших положение о гражданских мундирах. А. А. Перовский (хромой) подошел к ним с выражением удивления перед многосторонностью их ума: два элемента даны им только, цвет воротника и узор шитья, и из этих двух простых элементов надо было произвести создание с многочисленными ветвями и дать каждой ветви особый признак. Танеев, казалось, сконфузился, а Бехтеев нашел, что для этого нужен не столько ум, сколько «особый дар».
Потом приезжал старый 80-летний адмирал Семен Афанасьевич Пустошкин. Он приехал благодарить князя за милость, оказанную прадедом князя его отцу. «Не поздно ли?» — спросил князь. Пустошкин оправдывался тем, что сам недавно узнал об этом случае, рассказанном в бумагах, которые он нашел у старшего брата, недавно умершего. В чем же состояла эта милость? При спуске корабля одна из подпорок упала на корабельного мастера, Афанасия Пустошкина, и переломила ему ногу; князь Меншиков, увидя это, закричал: «Возьмите Афоньку ко мне во двор».
Князь Меншиков был большой мастер отгадывать, кто и о чем именно собирался просить его. Раз доложили ему о приезде А. С. Норова (впоследствии министра народного просвещения). «Зачем бы он приехал? — пробормотал князь. — А, знаю, верно проситься в директора департамента корабельных лесов. Просить!» После долгого, ловкого предисловия, Норов вдруг заметил: «Какие странные бывают в жизни сближения! Я, например, лишился ноги под Бородином, а потом заготовлял корабельный лес для корабля «Бородино»!» Тут князь вспомнил, что у него какое-то очень нужное дело, и Норов уехал, не успев вывести мораль из рассказанного.
Какие элементы нашел князь Меншиков, вступив в управление морскою частью? Из военных флотских чинов представляли интеллигенцию флота адмиралы И. Ф. Крузенштерн, Ф. П. Врангель и В. М. Головнин, все трое — люди умные, просвещенные, и еще более — имевшие европейскую известность; но употребляло их правительство вовсе не как интеллигенцию.
Крузенштерн был директором морского кадетского корпуса, в звании, которое могло требовать его качеств, но, по нашим обрядам, он был так завален экономическою частью, отчетностью, отпискою, что едва имел время сделать то, что мог бы, тем более что ему трудно было видеться даже с князем Меншиковым, гораздо труднее, чем помощнику его, глупому Качалову, которому поручена была фронтовая часть, тогдашняя формула для интеллигенции флота. Мне неизвестна близко деятельность Крузенштерна по этой части, но, во всяком случае, он поставлен был не так, как надлежало бы поставить знаменитого путешественника и — как говорили — необыкновенно доброго и благородного человека.
Предместник князя, Моллер, не делал ему вреда, но не делал и добра, потому что — ничего не делал. Моллер был добрый хозяин у себя и добрый муж, и только. Жена Моллера любила говорить о флоте, но всегда путала термины. «Как же это называется? Пирограф? Или телескаф?»
Меншиков находил, что ему некогда заниматься профессорством, и потому избегал частых свиданий с Крузенштерном, а штаб князя не умел иначе ценить ничего, кроме маршировки перед фронтом. Между тем Меншиков любил просвещение и презирал невежд; но он сам был поглощаем требованиями, не имеющими ничего общего с интеллигенцией, что было естественно более для придворного человека, чем министра. Если бы Крузенштерна сделали генерал-гидрографом с подчинением ему морского корпуса по научной части, как некогда корпус колонновожатых руководился генерал-квартирмейстером, то он был бы и полезнее, и почетнее; но не он один был в подобном положении.
Врангель поехал начальником американских колоний — звание, требующее просвещения, но на это поставила его частная компания, а в адмиралтействе он ничего не значил. Головнин был генерал-интендантом, где тоже интеллигенция была совершенною роскошью. Боевых флагманов представляли: Крон, Рожнов, граф Гейден; первый, 80-летний старик, не говоривший и не понимавший по-русски; Рожнов заменил Моллера в Кронштадте как главный командир порта, никогда не командовавший флотом. Графа Гейдена, героя наваринского, человека умного, образованного и храброго, не было тогда здесь. Затем был еще М. П. Лазарев, но это была в то время восходящая звезда. Словом, главнокомандующего флотом не было.
Весь остальной генералитет представлял не только жалкий, но и карикатурный состав. Адмиралы Галл и Сущов — такой грубости и невежества, каких никогда не случалось мне более встретить. «Степка! — кричал Сущов денщику своему, когда князь Меншиков обещал пить у него на корабле чай, — вычисти самовар. Князь будет! Он не любит грязных самоваров!» Гамильтон — совершенный идиот, не знавший, что делается в его команде и всегда невпопад вмешивавшийся в разговор. Командуя дивизией, он сел на корабль, на котором был и государь со свитою. Командира корабля звали Папаегоров. Гамильтон спрашивает у Чернышева: «А как зовут капитана?» — «Я слышал, Папаегоров». — «О нет, это шутка князя Меншикова!» Ратманов, дежурный генерал, называл ришельевский лицей решетиловским. Колзаков, его преемник, не ставил нигде знаков препинания, но после того как Меншиков заметил ему это шутя, он стал ставить точку после каждого слова. С такими сослуживцами надо было поднять флот.
В то время я сожалел о Меншикове. Впоследствии увидел, однако, что он мог бы распорядиться иначе; от него зависело дать Крузенштерну и Врангелю положение, более свойственное заслугам, сделать графа Гейдена командующим флагманом, присвоить Головнину вес в Адмиралтейств-совете и не назначать Галла председателем этого совета; но в нем соединялись странные противоречия: строгий судья ума, ищущий беспристрастных действий по службе, он часто отъявленных дураков считал за способных или выбирал себе в поверенные людей совершенно неуважительных, которые сообщали ему втайне сведения лживые и таким образом вводили его в поступки, противные его правилам.
По приезде своем в Петербург князь видел во мне того же юношу, какого встретил у князя Гагарина; что я писал верно под диктовку или правильно редижировал пустое письмо, — это ставилось мне в подвиг, о серьезном же поручении не было и речи. Первое данное мне поручение состояло в том, чтобы я узнал, за какую сумму продал бы свой дом барон Ралль, обанкротившийся банкир. Ралль был известная личность. Во время оно давал он великолепные балы, на которые съезжалось полгорода; тогда у него было много друзей; потом, когда дела его стали запутываться, общество охладело; наконец, когда стали продавать его имения, все его забыли; это и дало ему в прозвище три чина: адмирал, генерал и капрал. Гордый, вспыльчивый барон пришел от неудач и от вероломства света в такое раздражительное состояние, что жизнь присутствовавших бывала в опасности; сыновья его бежали из дому, и в городе ходили анекдоты о подвигах его исступления.
К этому господину послал меня князь. Я высказал барону свое поручение. По первому слову его раздалась в соседней комнате великолепная прелюдия на фортепиано, за которою последовала очаровательная музыка; я заслушался. Взоры мои устремлены были на большие, черные, пылающие глаза огромного барона с львиною головою, а слух был занят в другой комнате. Громкое «ну, сударь, это все!» разбудило меня, и тут только сознал я, что не слышал ни одного слова. Сказать это бешеному барону я никак не решился бы, поклонился и ушел; проклиная сирену (дочь Ралля — теперь мадам Брюлло), меня увлекшую. Пришлось сказать князю правду, — а она не поощряла его к поручению мне дел серьезных. Я стал ходить в канцелярию, пока князь не объявил мне, что я хожу туда совершенно напрасно.
Между тем, как я уже говорил, князь переехал в дом более просторный, — Опочинина, у Гагаринской пристани, и вызвал из Москвы сестру свою, Гагарину. Дочки ее подросли, похорошели: княжна Татьяна — простенькая; Софья (потом Анненкова, потом Суза-Ботелло) — златовласая резвушка; Наталья (Сололова) — красавица тяжелая, холодная, с большими ногами. Мать их была лучше их всех, и мы все в нее влюбились: Перовский, Дегалет и я.
Это время было самое счастливое в моей жизни: с утра до вечера между барышнями, балагурили с княжнами, вздыхали по княгине, отличены по службе, не беспокоимы жизнью. Летом отправлялись мы, Дегалет и я, гостить у княгини в Ораниенбауме (она жила во дворце) недели на две, — и не чувствовали земли под ногами. Перовский, ревнивый, как тигр, и, может быть, завидуя, что ему самому нельзя жить в Ораниенбауме, написал мне записку, в которой укорял меня за то, что я не бываю в канцелярии и заставляю других работать за себя. Я обиделся, понес эту записку к князю и просил его дать мне какой-нибудь документ, удостоверяющий, что я не бываю в должности по его воле. Князь тотчас назначил меня к себе чиновником для особых поручений, и так я внезапно повысился. С тех пор я бывал у него постоянно.
Как быстра его сила соображения, так неловко было перо его; случалось, что, диктуя мне, он расхаживал десять минут, пока находил нужное ему выражение. Один раз случилось, что князь решительно не находил слов для выражения того тонкого оттенка, какой он любил давать своим мыслям. Он сказал мне: «Не знаю, как бы выразить такую-то мысль». Случилось, что выражение подвернулось мне немедленно. После того он уже чаше делал мне подобные вопросы, и мне часто удавалось разрешать их удовлетворительно. Тогда я сделался ему нужен, а потом необходим как секретарь, и мало-помалу я заменил Бахтина, который управлял отделением канцелярии и потом уже, после ссоры с Перовским, возвратился к службе чиновника для особых поручений.
В 1831 году открылась холера в первый раз. Коварство ее нападения, энергия ее действия и страшная форма смерти, ею причиняемой, наводили неизъяснимый ужас. Прилипчивость ее не была еще оспариваема медиками: одними — по убеждению, другими — по внушению крупной торговли, — и государь решился переехать с семейством в Петергоф, оцепив его двойным военным кордоном с заряженными ружьями. В Петергофе назначены были два или три генерал-адъютанта и столько же флигель-адъютантов, две фрейлины (Урусова и Россет), начальники обоих главных штабов с одним секретарем, одним писарем и одним адъютантом да шеф жандармов. При Чернышеве был Позен, при Бенкендорфе — Дубельт и еще какой-то толстый статский с широкою Анною на шее, — а князь Меншиков взял Дегалета и меня. Здесь я поневоле сделался factotum, мастером на все руки.
В особенности занят я был редактированием бумаг, на которое князь был очень прихотлив. Шесть лет сряду продолжалась эта работа; вечером откладывал князь бумаги, присланные из разных департаментов к его подписанию, — и отдавал их мне для переделки, — или объясняя непонятую мысль, или приказывая «сказать то же, но иначе». На вопрос, однажды сделанный, скоро ли нужны бумаги (их была целая кипа), князь отвечал: «У вас целая ночь впереди, как говорил Наполеон Бертье», — и я принял это к исполнению; работал до четырех и пяти часов, отдавал бумаги писарям, а сам ложился до девяти часов утра, чтобы в десять часов нести работу к князю.
Но не только такая работа оставалась за мной после одного случая. Князь отдал мне записку по тарифу и сказал, что, когда будет ему время, он займется этим вопросом и продиктует мне свое мнение. Я попробовал написать свое, но не смел показать его, чтобы не осрамиться. Наконец, однако, решился сказать князю, что я кое-что написал, — и сказал это очень несмело. Радость моя была неизъяснима, когда Меншиков отозвался, что он ничего не может ни прибавить ни убавить, и, подписав мое мнение, послал его в Государственный совет. Случай этот имел важные для меня последствия: с одной стороны, он показал Меншикову, что я умею не только писать, но и рассуждать, с другой — я сам удостоверился, что то, что мне кажется в моем труде хорошо, может быть действительно хорошо. Это дало мне апломб.
Скоро я познакомился с графом Бенкендорфом. Пока мы оцеплялись в Петергофе от холеры, умирал от той же болезни в Царстве Польском изгнанный из Варшавы великий князь Константин Павлович. Получив известие о смерти брата, государь послал Бенкендорфа сопровождать его тело, а этот отправил туда предварительно начальника своего штаба полковника Дубельта, оставшись в Петергофе с толстым аннинским кавалером. Этот кавалер пришел ко мне от имени Бенкендорфа просить пожаловать к графу в особенное одолжение его сиятельству. Граф попросил меня написать Дубельту, чтобы он ждал его с коляской не там, где прежде было условлено, а в другом месте: в этом заключалось то важное поручение, которого не мог исполнить толстый чиновник с Анною на шее. Когда я прочитал написанную мною бумагу, Бенкендорф рассыпался в благодарностях, а потом поздравлял князя Меншикова «с деловым человеком, которого он имел в лице своего секретаря». Это оттого, что у нас в то время считалось еще великою мудростью написать деловую бумагу; студент, магистр, оспаривающий самонадеянно догматы науки, трепетал перед первым поручением написать отношение.; Бенкендорф, Чернышев, писавшие мастерски французские письма и депеши, признавали себя несостоятельными написать официальный приказ, — и книга Магницкого о деловом слоге считалась произведением, достойным почетного места между классическими творениями.
Когда и у меня завелись подчиненные образованием выше кантонистов, и они приходили в смущение, когда я давал им поручение написать отношение. Посидев с пером в руках, они приходили ко мне с сознанием, что не знают, как начать, или какой дать оборот. «Поняли ли вы меня? — спрашивал я этих новичков. — Если поняли, — повторите, что я вам приказал». Когда они верно повторяли сказанное, я говорил им: «Так и напишите», — и видел на лице их сомнение. «Это будет не по форме», — заявляли они, и большого стоило труда убедить, что нужен смысл, а не форма. За это вольнодумство на меня даже были жалобы. Вместо того чтобы писать на разукрашенном листе: «На отношение за №… честь имею уведомить, что оно мною получено и принято к сведению», я велел напечатать in 4°: «Отношение за № таким-то в департаменте ж. дор. получено». На этих печатных бланках проставлялся пером номер и надписывался адрес. Однако какой-то департамент нашел, что я отступаю от законной формы и не соблюдаю установленного приличия.
Не знаю, веселился ли двор, живя в Петергофе, — но много шевелился. Мне было до крайности скучно. Князь Меншиков был почти целый день в движении, — то у государя в петергофском дворце, то у него в Александрии, то на разводе или на катере, то в коляске или линейке едущим куда-то; то же самое делали все придворные. Не принадлежа ко двору, я не участвовал в этих коловратных движениях, но не мог и отлучиться далеко, потому что государь давал неожиданно приказания; бумаги отправлялись в Петербург два раза в день, — а я при князе был один и составлял с писарем всю его канцелярию. Гораздо менее занятый делом, чем в ожидании дел, я бродил по одиноким, грустным аллеям Нижнего сада или сидел в Монплезире на берегу моря, предаваясь мыслям о своем ничтожестве и своем одиночестве.
В семи верстах от Петергофа жила княгиня Гагарина, прекрасная, милая, добрая, в ораниенбаумском дворце, принадлежавшем некогда ее прадеду и на котором сохранилась еще его княжеская корона; в двух верстах по другую сторону жила двоюродная сестра моя, но кордон отделял меня от них строже, чем расстояние нескольких сотен верст, особенно со стороны Петербурга; тут Петергоф охранялся военным кордоном на военном положении; со стороны же Петергофа линия шла подле собственной дачи, на половине дороги между Ораниенбаумом и Петергофом, и охранялась только пикетами; на шоссе был шлагбаум со сторожем или часовым, а инспектором этого пункта был Бунин, владелец ближайшей дачи. Отставной давным-давно моряк, дряхлый, с трясущеюся головою, Бунин так гордился поручением, на него возложенным, «охранять царскую фамилию», что сидел с утра до вечера у шлагбаума. К этому шлагбауму подходила из Ораниенбаума княгиня с княжнами, беспокоящаяся о брате и скучающая в захолустье, — и подходили мы, Дегалет и я, — сначала останавливаясь друг от друга в отдалении, а потом придвигаясь со дня на день ближе к линии, которую мы и обратили наконец в геометрическую.
Во время сильнейшего действия холеры государь усугубил меры осторожности в оцепленном Петергофе; во время обеда в Монплезире он взял блюдо с фруктами, стоявшее на столе, и бросил его в море, объявив, что это сигнал, по которому впредь никто из приближающихся к нему не смеет вкушать фрукты. Все богатство царских оранжерей осталось вдруг без употребления и сбыта, и потому мы, Дегалет и я, располагали этим сокровищем в больших размерах. Мы набивали себе карманы вишнями, персиками, абрикосами и с этим придатком были трижды, четырежды блаженны перед глазами княжон, но Бунин решительно воспротивился такому соприкосновению.
Сначала мы его надували, действуя на слабые его струны. Дача его и жена его были очень красивы.
— Чья это дача? — спрашивали мы.
— Это моя дача!
— Какая красавица! — восклицали мы при виде дамы, гулявшей в его саду.
— Это моя жена! — говорил старик, тряся головой. Растроганный нашими восторгами, он устремлял с любовью взоры на свою дачу или на свою жену, а в это время мы деятельно перегружали фрукты из наших карманов в карманы княжон; наконец Бунин догадался и, не достигнув у нас повиновения, говорил о том несколько раз князю Меншикову, — тоже бесполезно. Бунин решил наконец серьезно спросить у князя, что он посоветует ему сделать, чтобы княгиня послушалась его? Князь отвечал ему: «Расстреляйте ее!» Тут Бунин пришел в совершенный тупик и больше в дела наши не вмешивался, а заранее уходил куда-нибудь подальше, когда издали видел княгиню по дороге к шлагбауму.
Блюстителем со стороны моря был другой оригинал, майор Иванов, из матросов, бывший более 50 лет на службе, плут с тонкостью русского мужика. Как русский мужик, прикрывающий свое лукавство поддельным простодушием, Иванов, по мере повышения в чинах, очень хорошо понял жалкую роль, какая выпала бы на его долю, если бы вздумал подделываться под приемы офицерские; он усилил грубость своих манер и под маскою неотесанного чистосердечия проводил самые тонкие расчеты.
При восшествии на престол государя Николая Павловича он командовал ластовою ротою на Охте. Когда государь приехал на охтенскую верфь, Иванов, человек замечательной наружности по топорной оболванке своего огромного лица, вышел к государю с словесным рапортом вместо поднесения письменного.
— Отчего не подаешь рапорта? — спросил государь.
— Оттого, что писать не умею, ваше величество, — отвечал смело Иванов.
— Отчего же не умеешь писать?
— Оттого, что не учили; матросом — сколько хочешь, а грамоты не знаю.
Понравился государю этот сфинксовый тип, выражавший силу и прямоту; поставил он его как-то на руль своего катера, а Иванов стал бесцеремонно раскланиваться с камер-фурьером, ехавшим в другом катере с прислугою. Государю забавна была эта «наивность»; он спросил, смеясь:
— Разве ты его знаешь?
— Как не знать! Я был гребцом, а он рехткнетом, оба равные были; я выслужил 25 лет матросом, да вот скоро 25 лет офицером, — да все еще капитан, а он блюда лизал, да — ишь ты — ваше высокоблагородие!
Государь расхохотался, и Иванов произведен в майоры. В 1830-м или 1831 году наименовали его командиром петергофского порта, что дало ему право на придворную столовую порцию во все время пребывания государя в Петергофе. Иванов нашел, что он не привык есть царское кушанье, что ему нужны солдатские щи, и на этом основании выпросил себе производство деньгами по 7 рублей ассигнациями в день вместо стола в натуре, но скоро он так разлакомился, что и этого было ему мало, и он ждал только случая выпросить еще что-нибудь.
Один раз при осмотре кронштадтской гавани князь Меншиков показал государю аляповатую носовую фигуру на старом корабле «Юпитер», с которою находил сходство в лице Иванова. Государю это понравилось; проезжая в коляске с императрицей мимо вытянувшегося во фронте Иванова, государь закричал ему:
— Здравствуй, Юпитер.
Причем императрица громко засмеялась. Иванов имел дерзость сказать:
— Ваше величество, грех смеяться над старым служивым.
Он постиг благородство характера государя и рассчитал верно действие слов его на государя.
— Не сердись, старик, — сказал он, — это шутка, а в душе мы тебя ценим.
Вскоре затем Иванов, встретясь с государем, скорчил печальную рожу и на вопрос, о чем он так нахмурился, отвечал:
— Да что, ваше величество, князь Петр Михайлович (Волконский, министр императорского двора) обижает.
— Чем же он обижает тебя?
— Да не отпускает мне кушанье, — дескать, столовые получаю. Что же ему жаль, что ли, стало тарелки супу? Мне уже недолго супу-то есть осталось.
Государь приказал отпускать ему и стол, и столовые деньги. Юпитером более не называли его; но Огарев написал его в виде Нептуна, и с тех пор имя Нептун окончательно заменило имя Иванова, который этим очень гордился, узнав, что Нептун был повелитель моря.
Кто бы мог подумать, что этот Нептун мог быть хоть на минуту дядькой великого князя Константина Николаевича! В дядьки назначен был флигель-адъютант Римский-Корсаков. Выбор мерзейший: Корсаков, отличный фронтовик, был человек развратного поведения, интриган и сгнил от сифилиса и меркурия. Во время маневров, в которые князь Меншиков должен был брать Петербург, а великий князь Михаил защищать его, Римский-Корсаков командовал канонерской флотилией, назначение которой было атаковать во фланг петербургские войска в то время, когда Меншиков атакует их с фронта. Корсаков повел флотилию к Стрельне; граф Гейден поплыл зрителем на гвардейском катере, в который пригласил и меня. Корсаков, подойдя к Стрельне, стал высаживаться, но не успел еще выставить на берег свой десант, как прискакал Ланской с несколькими легкими орудиями и лейб-гусарским полком, который стал теснить наш десант в воду, между тем как Ланской доказывал Корсакову, что он разбит. Командиры заспорили, гусары обнажили сабли, моряки наклонили штыки, — и чуть не вышла свалка. Несколько лошадей уколото было штыками.
Вдруг пронесся в полный карьер государь, бывший начальником штаба у великого князя Михаила, закричал: «Смирно!» — и все окаменело. Государь, выслушав Ланского и сосчитав обоюдные войска, сказал спокойно Корсакову:
— Корсаков, ты поторопился! Тебе следовало выждать, пока покажутся головы передовых колонн Меншикова, и тогда начать десант; теперь ты с Ланским один на один: ретируйся.
— Позвольте объясниться, ваше величество.
— Что-о! — загремел государь громовым голосом. — Государя не слушаться? Лямку надену! Солдаты, в воду! — И весь легион бросился по пояс в воду, как всполошенные утки.
Приехав в Петергоф, государь тотчас отлучил Корсакова от великого князя и чуть не снял аксельбантов. Наследник стал было просить о нем. Ему досталось. Князь Меншиков предложил государю оставить Корсакова, пока прибудет Литке, ожидавшийся из кругосветного плавания.
— Ни одной минуты! — сказал государь и назначил Иванова дядькой до приезда Литке.
Глава VII
Мой плохой почерк является препятствием к поездке с князем Меншиковым за границу — Усердное занятие чистописанием устраняет это препятствие — Неосторожное слово и его последствия — Путешествие и рассказы князя Меншикова — Подробности смерти Моро — Пребывание в Карлсбаде — Князь Меттерних — Графиня Разумовская — Оригинальный разговор ее с Меншиковым — Объяснение ее с князем Рейс — Киселева — Ее выходка
В 1833 году государь, собираясь в Мюнхенгрец и желая видеть там князя Меншикова, позволил ему взять с собой чиновника, который мог бы быть и писарем. Князь, предупредив меня о том еще в марте, изъявил сожаление, что не может взять меня оттого, что у меня дурной почерк (он был едва разборчив). Каково было мое положение? Путешествие за границу, идеал недосягаемый, лежит передо мной, и я не могу завладеть им; я испытывал участь Тантала, но как боги на меня не гневались, то и окончилась она скорее, чем для Тантала. Я принялся писать, чистописать, часа по четыре в день. Когда мне казалось, что почерк мой чист, я воспользовался поручением написать указ капитулу, переписал его сам и подал с прочими докладами князю. Он никогда не любил почерка кантонистов; увидя указ, он с любопытством спросил:
— Кто это переписывал?
— Находите, ваше сиятельство, что нехорошо переписано?
— Напротив, прекрасно.
— Это я писал.
— Давно ли за вами такая добродетель? — спросил меня князь.
— Началась с тех пор, — отвечал я, — как вы сказали, что почерк мой препятствует мне быть с вами за границею.
— Поедемте, поедемте! — кончил князь.
И поехали. О, восторг!
Но в Мюнхенгрец я все-таки не попал! По особому глупому случаю. Князь поехал прежде в Карлсбад, через Дрезден (где мы останавливались). Там, гуляя с графом Фелпедичем, с которым я сблизился, я употребил в разговоре имя государя, который путешествовал инкогнито. Едва я выговорил слово l'empereur, обратился ко мне с испугом один из гулявших перед нами — это был князь Меншиков. Дома он не мог скрыть некоторой принужденности и, когда пришлось ему ехать в Мюнхенгрец, он оставил меня в Дрездене и потом велел мне ехать в Штеттин ожидать его, и в Мюнхенгрец поехал один. Я убежден, что князь Меншиков опять струсил, чтоб я не проговорился, «не наделал коммеражей» (любимое его выражение).
К моему великому счастью, во время первой поездки за границу железных дорог еще не было. Князь ехал в дормезе, один или со мною, шестериком, а за ним коляска парою, с его сыном 16 лет, со мной, или, когда я садился с князем, с камердинером; мы ехали по шоссе и по пескам; едали на станциях порядочно или довольствовались дурным супом, наслаждались видом местностей и скучали от медленной езды по однообразным равнинам Пруссии или подымаясь на горы в Богемии; словом, мы ощущали, мы были путешественниками, а не поклажею.
Проезжая через Саксонию, театр последних битв с Наполеоном, князь рассказывал мне подробности на местах, и как рассказывал! Это чистейший классицизм: ни одного отборного слова, ни одной гиперболы, ни восклицания. Речь лилась спокойно, просто, даже лениво, а между тем она отпечатывала во мне образы так глубоко, так отчетливо, что я в состоянии был подумать, что знаю не рассказанное, а виденное.
Тут в первый раз узнал я, что рассказ, будто Моро сказал государю: «Отодвиньтесь, в вас метят», а когда государь отодвинулся, то Моро был ранен ядром, — есть вымысел. Меншиков был в свите государя, как и Моро.
Государь, осмотрев позиции, повернулся и поскакал галопом со всею свитою; отъехав сажен сто, он заметил, что Моро нет, и послал Меншикова узнать, отчего он отстал. Меншиков нашел его лежащим без ног (или без ноги — не помню), поскакал доложить государю, который воротился и от Моро услышал, что ядро его ранило в то время, когда он поехал за государем, посмотрев еще с минуту на неприятеля.
В Дрездене и Карлсбаде мы были на самой короткой ноге; строго запрещено мне было титуловать князя; переезжая через Эльбу, мы садились в гондолу, как «обыкновенные смертные», сидели и ждали, пока подойдут другие пассажиры, и платили, как и все, по два или три гроша; в загородном кафе я острил с прислужницами, нисколько не церемонясь, что со мною мой министр, и князь хохотал беспрестанно. В Карлсбаде общество резко разделялось на два класса. Аристократия собиралась в Саксонском зале, а мещанство — в Богемском зале. На вечера или на балы первого дамы приезжали в низких платьях, кавалеры в башмаках и черных чулках (под длинными панталонами), с орденскими ленточками или цепочками в петлице. Князь Меншиков продевал цепочку, тянувшуюся от одной петли в другую и состоявшую из двенадцати звезд.
Здесь я видел князя Меттерниха, чистенького старичка небольшого роста, с серебристыми седыми волосами, между которыми было еще, может быть, пятая часть не поседевших. Может быть, при близком исследовании лица я открыл бы в нем черты гениальности и изящную дипломатическую отделку, но, сколько я мог разглядеть его мимоходом или когда он сидел за карточным столом, в его физиономии не видно было ни того ни другого: тщательная прическа, острая бритва и хитрые глаза; и в поступи не было ничего замечательного. Если бы я не знал никого из присутствовавших и мне предоставили бы отгадать, который из них Меттерних, я, не задумавшись, указал бы на князя Меншикова.
Видел тучного короля вюртембергского, который, подходя к дамам, выделывал ногами па, как в менуэте. Из русских дам были тогда в Карлсбаде Разумовская и Киселева.
Разумовская озадачивала меня несколько раз. В первый раз я увидел ее окруженною кавалерами, верхом на пылком вороном жеребце. Амазонка обращена была ко мне спиною, рослая, стройная, в черном платье, грациозно и смело сдерживающая коня, который не хотел стоять спокойно и грыз удила с лихорадочным нетерпением; другие всадники держались подле, ожидая чего-то, чтобы тронуться. Мне пришло неодолимое желание видеть лицо амазонки; я зашел почти бегом вперед, и далеко вперед, чтобы иметь более времени насладиться зрением лица, прекрасного, как я себя уверил; но каково было мое удивление, когда я увидел старуху за 60 лет, с огромным носом и с лицом грязно-желтого цвета, как старая незолоченая бронза. В другой раз князь Меншиков, гуляя со мной и с сыном, встретился с нею. Разумовская остановила князя и пригласила его представить ей сына.
— Скажите ему, что я его бабушка.
Князь сказал сыну:
— Графиня была супругою вашего двоюродного деда, который продал ее за 25 тысяч рублей…
— Неправда, негодяй уступил меня за 60 тысяч рублей.
И князь выговорил эту скандализировавшую меня фразу, как самое обыкновенное приветствие; графиня, выслушав ее как нечто тривиальное, отвечала спокойно и серьезно, глядя на мальчика так, как если бы она говорила ему, что в Дрездене не 25, а 60 тысяч жителей.
На бале Разумовская была дуэньей дам и вела себя прекрасно. В то время была там молоденькая красавица-княжна Абамелик (теперь Барятинская), с которою очень любезничал князь Рейс, сорок который — не помню. По прошествии трех или четырех недель Разумовская подозвала его к себе на бале и стала поздравлять с прекрасным выбором. Долговязый Рейс смутился и пробормотал, что он никакого выбора не делал.
— В таком случае, — сказала ему графиня, — ваше поведение невеликодушно; прелестная, милая девушка, прекрасной фамилии, могла бы сделать здесь хорошую партию, но молодые люди, видя перед собою такого соперника, как вы, князь, конечно, не решатся вступить в состязание.
Если же вы любезны с княжною со скуки, то я обязана предупредить вас, что эта девушка — выше орудия препровождения времени.
Князь Рейс на другой день уехал.
Не так вела себя Киселева. Она влюбилась в графа А. Г. Строганова (о вкусах спорить нельзя) и, когда он собирался ехать, она просила его остаться для нее. Получив отказ на бале, она отправилась топиться в речку Тепле, в которую фиакры въезжали для того, чтобы обмыть колеса. Страстная Киселева могла, стало быть, замочить только фалбалы на своем платье, что она и сделала. Я видел ее на обратном пути ночью в платье, которое билось с всплеском около ног и оставляло за собою мокрый след. На другое утро весь город видел окна ее завешанными турецкими шалями — красною, белою, черною и т. д. — по числу окошек. В знойные дни она раздевалась донага и прохаживалась по комнатам, — и тогда окна не завешивались. Впрочем, она жила во втором этаже на Alte Wiese, следовательно, без vis-a-vis, но с другой набережной, Neue Wiese, можно было видеть ее в зрительную трубу.
Глава VIII
Поездка с князем Меншиковым в Стокгольм — Король шведский Карл XIV, его семья и двор — Состав нашего посольства — Граф Сухтелен — Бодиско — Свита князя Меншикова — Глазенап и его курьезное объяснение с королем — Представление наше королевской фамилии — Мой разговор с королевой и объяснение с князем Меншиковым — Вечер при дворе — Веселого — Влияние на меня князя Меншикова — Холера — Государь на Сенной площади — Болезнь князя — Заботы о нем государя — Письмо государя к князю — Мое новое служебное назначение
В 1835 году князь послан был в Стокгольм благодарить короля Карла XIV за присылку чрезвычайного посла графа Левенгиельна к открытию Александровской колонны.
Карл XIV (Бернадот) был еще бодрый старик, сухощавый, довольно высокого роста, тонкой, хитрой физиономии с саркастическою улыбкою — принадлежностью всех очень узких губ — и очень просто одетый: в темно-синем мундире без шитья, с маленькими золотыми пуговицами и в высоких узких сапогах. Орлиный нос, курчавые, с проседью, стального цвета волосы и романский выговор представляли в нем чистый тип гасконца. Королева — толстая, полнокровная марселька, простых приемов и тип добродушия. Наследный принц Оскар — хорош собою, тоже чистый гасконец, с большим, чем у отца, выражением шарлатанства; вообще, по наружности он довольно близко подходил под тип Ивана Матвеевича Толстого или французского парикмахера. Супруга его, принцесса Лейхтенбергская, — прекрасная ростом и лицом, привлекательная всеми своими движениями, тон речи скромный, почти застенчивый.
Двор великолепный; разумеется, великолепие не в золоченых карнизах, а в осанке, приемах и наружности придворных. Первое место между ними занимал граф Браге, начальник штаба, смуглый, но чистый лицом, как по-блекнувший каррарский мрамор, рослый и стройный, лет за 50, рыцарской наружности, в голубом мундире с золотым шитьем по белому воротнику, в белых, с широким золотым лампасом, панталонах; на сапогах огромные золотые шпоры; на треугольной шляпе широкая золотая кокардная петля и трехцветный, сине-желто-белый, султан из страусовых перьев. Дам не было, — кроме двух-трех из свиты королевы и принцессы. Кроме нескольких голубых мундиров (генерал-адъютантских), державшихся у самого подножия тронного возвышения, на первой ступени которого стал король, стояла чуть далее группа кавалеров в синих фраках с форменными пуговицами и золотым кантом по бархатному отложному воротнику; это были полковники, вместе с тем камергеры. Браге отличался от всех не только важностью и рельефностью своей фигуры, но и золотою тростью, эмблемою штаба.
Нашу миссию представляли: граф Сухтелен, очень маленький и дряхлый старичок, бесцеремонный, безэтикетный, как будто выживший из ума. Он опоздал; король и королева были уже в тронной, когда прибыл Сухтелен; он подошел к королеве почти сзади, так, что она не заметила его приближения, взял ее руку и стал целовать ее скоро-скоро; поцеловал раз пять или шесть. Королева, обернувшись к нему, приветствовала его: «А, дорогой граф!» — таким тоном, каким приветствуют маленьких детей. Бодиско, советник посольства, — говорили, умный человек, — весьма невзрачного лица, но довольно видный ростом, воткнувший свою шею в огромный, тугой галстук до самых ушей. Был там еще другой Бодиско, полковник артиллерии, состоявший при нашей миссии, — какой-то шут краснощекий и молодящийся. Он сочинил себе мундир по своему вкусу; носил панталоны и шляпу, как шведские генерал-адъютанты, только с другими цветами перьев, и, застигнутый врасплох чрезвычайным посольством, явился в этом фантастическом костюме, к величайшему негодованию советника, его двоюродного брата или дяди. Он хотел, кажется, похвастать дипломатичностью своего тона, начав какую-то речь с графом Сухтеленом, в которой слово excellence составляло четыре пятых. Сухтелен, однако, прервал его словами: «Убирайтесь к черту с вашими сиятельствами, повеса!..» — и тот отступил, сконфуженный.
Мы выстроились в ряд, но не в иерархическом порядке. При князе были в свите капитан 1-го ранга Веселаго, толстый, необразованный, русский купчина по манерам, адъютанты Глазенап (теперь главный командир Черноморского флота) и Веригин; чиновник министерства иностранных дел, молоденький, хорошенький Кудрявский и я. Пароходом командовал Тверинов, хороший моряк, но необразованный, как мужик, и с тоном речи хуже, — у мужика что-то скромное, мягкое, у Тверинова — угрюмо-дерзкое и ничего не уважающее. Бодиско, взятый на пароход за его фамилию; Окулов, лейтенант, сын русского плац-майора, женившегося на финляндке, которая воспроизвела свой тип на сыне: широкое мещански-румяное лицо, огромные, широкие зубы, большие, очень светло-голубые глаза с белыми ресницами и бровями; в тоне что-то наивно-нахальное, — и Краббе (нынешний управляющий морским министерством), исправлявший должность шута.
Князь Меншиков называл королю каждого. Король остановился перед Глазенапом, у которого вся грудь завешана была крестами русскими: Станислава, Анны, Владимира и Георгия.
— Поздравляю вас, — сказал ему король, — вы так молоды и уже пожалованы многими орденами.
Глазенап был очень наивен, он стал объяснять королю, за что он получил каждую декорацию.
— Георгиевский крест, ваше величество, дан мне за 25 кампаний, но я их не сделал; я сделал два раза кругосветное плавание, и это считается за 24 кампании, потому что их было 12; этот мне дан, потому что я сопровождал принца N.N. в Мемель, а тот, потому что я провожал принца N.N. в Штеттин, — и так далее в этом роде.
Князь стоял как на угольях, судороги корчили его лицо, а король выставлял более и более сарказма на уста свои, по мере своего назидания речью Глазенапа, который так углубился в номенклатуру своих подвигов, что не замечал ни высочайшей улыбки, ни светлейших гримас. Когда он кончил, король, проходя к следующему, сказал, сохраняя ту же улыбку: «Заслуга и доблесть не ждут числа лет», — чем Глазенап был очень доволен и с сладкою улыбкою отвесил низкий поклон.
После того представляли нас королеве, наследному принцу и принцессе; пока одни представлялись одной особе, другие — другой. Принцесса пошла с «хазового конца», но тут-то и напала на Веселаго и Тверинова; в недоумении она пошла далее, пропустив нескольких, и остановилась перед Окуловым, заключив, вероятно, из смело устремленных на нее огромных бело-голубых глаз, что он по-французски собаку съел. Она с ним заговорила, а этот во все горло прокомандовал ей: «Jag talar icke franska, jad talar pa svenska». Так как Стокгольм открыто изъявлял свои претензии за то, что кронпринцесса не говорит по-шведски, то она от такого ответа совсем переконфузилась. Между тем в свите был Веригин, образованный и очень остроумный; случилось, что с ним никто не заговорил.
Не знаю, отчего выбор королевы пал на меня, безъэполетного, в невзрачном адмиралтейском мундире. Она спросила меня, был ли я в Марселе? Я отвечал, что не был, но что воображение мое так занято прелестями южной Франции… и т. п. Королева вошла в экстаз, и разговор наш заставил короля ждать, потому что прием кончился. Взор мой встретился с князем; я видел на лице его беспокойство. Когда я воротился домой, князь прибежал ко мне.
— Любезный, как вы могли задерживать вашею болтливостью весь двор и о чем могли вы так долго говорить королеве?
Мне стало досадно, я отвечал ему: «Мне было бы довольно трудно назначить королеве предел ее разговора; что касается предмета разговора, то, не имея столько орденов, как Глазенап, я не имел случая говорить о политике и говорил только о саксонской Швейцарии».
Князь обрадовался, что не было говорено «о политике», — и после полуночи вошел в нашу комнату, где мы, четверо свиты его, ужинали. Князь пресерьезно сказал мне:
— Константин Иванович! Одевайтесь скорее! Королева прислала за вами ездового.
За приемом нам подавали чай; чашки китайского фарфора были расставлены на золоченой пирамиде, вроде старинных плато для конфет. Веригин советовал мне не брать чашки, предостерегая меня от локтей моих ловких товарищей; я последовал этому совету, и мы двое не пили чаю. На другой день был бал. Князь Меншиков уговаривал храброго Тверинова держаться подальше, — но моряку этому море было по колено. Он пригласил фрейлину на мазурку и танцевал с нею, как медведь в зимних сапогах. После бала собрались все в нашей «свитской» комнате. Князь пенял Тверинову.
— Ничего, ваша светлость, ведь я недурно «откалывал» мазурку и по-французски говорил, да, говорил! Je marie, и дети есть, да, quatre! — при этом он поднял руку, прижал большой палец к ладони, а остальные четыре пальца растопырил.
— Ну, полно, братец, — сказал князь, совершенно растерявшийся.
— Ничего, ваша светлость, фрейлина прехорошенькая; я ее смешил.
Через два дня был приглашен к обеду Веселаго. Король извинялся, что не может приглашать всю свиту, потому что этикет не допускал к королевской трапезе лиц чином ниже полковника. Вечером Веселаго рассказывал:
— А я сидел между камергерами, да по-французски так и катал, так и катал! — хвастал он, сопровождая свои слова движением руки, как бы играя на контрабасе.
Князь страдал мученическими муками, а я думал себе: ништо, поделом. Затем прислали нам ложу в оперу, и мы обедали у Сухтелена и у Браге. Вежливость шведских придворных того времени была замечательной тонкости и изящества; женщины — все красавицы, даже и служанки: темно-синие глаза, черные брови и темные волосы, при белизне лица ослепительной. Притом очень впечатлительны и, как бы сказать, без предрассудков. Дегалет, которого я было забыл, сделал эффект своею греческою красотою, и красавица, в полном смысле слова, графиня Гюльденстольпе (кажется) удостоила его своей благосклонности до самых крайних пределов, подарив ему при прощании перстень с бирюзою, рублей в десять.
Так, мало-помалу, приобретал я политическую опытность и самостоятельный круг деятельности. Будучи простым орудием чужой воли, я старался трудом приобрести способность годного орудия. Рассуждения и прения с князем, в которых я был настолько тверд, чтобы не уступать своих убеждений воле начальства, а начальник — столь благороден, чтобы не требовать от подчиненного дисциплины убеждений, укрепили мои силы. Пользуясь светом ума и опорой благородства этого начальника, я твердел в убеждениях, и мои душевные влечения приобретали больший простор. Во мне рождалась полная самостоятельность; к 30 годам я был еще только темным спутником большой планеты, но мои духовные движения избавились уже от господствующего влияния планетной силы.
1831-й год посвятил меня в некоторые таинства царского сердца. Когда государь получил известие о бунте на Сенной площади, он забыл холеру, опасность и кордоны, сел в коляску с Меншиковым и Казарским и поскакал в Петербург, где по громкому слову государя: «На колени!» — бунтующая пятитысячная толпа опустилась на колени, как одна сплошная масса. По возвращении в Петергоф, уже около одиннадцати часов вечера, государь прямо из коляски вошел в Монплезир в хлоровую ванну, чтобы не занести заразы в семейство, и его спутники сделали то же.
У Меншикова в этот день начинал развиваться припадок подагры, это сопровождалось сильным жаром, и Арендт объявил государю, что Меншиков находится на крайней степени опасности. Государь обнаружил величайшую тревожность, приезжал иногда два раза в день справляться, спрашивал Дегалета и меня, при встречах на улице, о здоровье князя, и когда князю стало получше, он приезжал к нему, садился у его постели, вынимал из кармана донесения о ходе усмирения польского мятежа и читал их вслух.
Кто бы думал, что государь был так сильно озабочен — после той уверенности, какую он чувствовал еще за год до того. В 1830 году молния ударила в павильон Адмиралтейства. Князь Меншиков писал ему: «Флагшток разгромлен вдребезги, но флаг Вашего Императорского Величества остался невредим». Это обстоятельство было весьма естественно. Флаг бывает или шелковый, или шерстяной; в том и другом случае — не из проводников электричества, но государь принял это в другом смысле. Он написал на записке князя: «Слава Богу, слава нам, это знак Божий!»
Теперь, год спустя, тот же государь изливал перед Меншиковым, со всею живостью своей души, заботы и огорчения.
— Дай Бог, дай Бог, — говорил он с жаром, — чтобы это бедствие скорее прекратилось; только об этом молю Его.
Эти слова я слышал из соседней комнаты. В эту же эпоху его силы, когда генерал-фельдмаршал повергал к стопам его Варшаву, когда кабинеты великих держав несмело заявляли свои требования относительно прав усмиренной Польши, родился у него младший сын. Вот что написал государь на поздравительной записке князя Меншикова:
«Благодарю тебя, любезный князь. Еще одного слугу поставляю на службу России. Дай Бог, чтобы он был счастливее своего измученного отца!»
Показывая мне записку, князь Меншиков сказал:
— Посмотрите, это исторические слова.
Узнает ли история об этом выражении скорби государя, окруженного наружным величием?
С 1835 года поручена мне канцелярия комитета образования флота, преобразованная потом в канцелярию свода морских постановлений, и особенная канцелярия финляндского генерал-губернатора. Кроме того, за мной остались по морскому ведомству редакции всеподданнейших отчетов и мнений в Государственный совет и переписка, в которой неуместна была канцелярская стилистика.
Глава IX
Объезд князем Меншиковым финляндского прибрежья — Золотая рыбка — Финляндские сенаторы — Рассуждения о внутреннем положении России — Авария близ Свеаборга — Або и Бомарзунд — Новые штаты крепостных укреплений — Помощник финляндского генерал-губернатора — Граф Штевен — Теслев — Мое пребывание в Гельсингфорсе — Положение Финляндии
Посланный в Стокгольм, князь Меншиков воспользовался этим случаем объехать прибрежье Финляндии и пройти по тем шхерным фарватерам, по которым флот наш мало плавал.
Движимый необыкновенною любознательностью и легко подозревающий шарлатанство или неотчетливость в других, князь любил испытывать все сам; так, прочитав что-либо о действии нового лекарственного средства, он тотчас принимал сам это лекарство для опыта; если газеты рекомендовали новый лак, новый клей, новые чернила, он лакировал тем лаком, клеил тем клеем, писал теми чернилами, чтобы испытать новость. Так в настоящем случае он хотел проверить лично карты Финского залива.
Экспедиция его состояла из парохода и люгера — судна без шпангоутов. Он плыл на люгере, а пароход сопровождал его. Отправясь из Кронштадта в начале октября, мы сильно качались, войдя за Выборгом в шхеры, мы пошли по фарватерам, не видавшим военного судна. Под Выборгом видели мы издали маленькую финскую ладью, — как моряки говорят, скорлупу, борющуюся с беспокойным морем; завидя нас, несчастный мореплаватель бросился опять к морю, несмотря на видимую опасность. Князь догадался, что это был контрабандист, везший, может быть, бочонок водки. «Утонет, бедный, — сказал князь, — надо ему показать, что мы за ним не гонимся», — приказал поворотить, и вслед за тем ладья направилась опять к берегу.
В Гельсингфорсе сделан был князю торжественный прием; у помощника генерал-губернатора, Теслева, необыкновенно скупого, был обед, за которым сидели представители всех властей, с женами, именитые купцы — и золотая рыбка. В Свеаборге был булочник-немец, Стерке, у которого была очень хорошенькая дочка. Мичмана хаживали любоваться ею украдкою, а чтобы иметь к этому благовидный предлог, они глядели в колодезь, бывший перед окнами булочника, и искали в нем золотую рыбку. Тамошний купец Синебрюхов дал этой барышне тщательное образование; она проводила по целым дням время у доброй г-жи М. Вальронт, жены свеаборгского главного командира порта, и с этою дамою она приехала и на церемониальный обед, за которым затмила многих командирш красотою лица и приличием приемов.
Финляндский сенат был в то время очень приличного состава. Барон Клинковстрем, румяный, рослый старик, с отпечатком высшего стокгольмского общества, был знаком с князем Меншиковым со времени пребывания последнего в Стокгольме: князь Меншиков участвовал в похищении женщины, которая стала потом баронессой Клинковстрем, он был переодет лакеем и сажал прекрасную в карету, которая из театра привезла ее к Клинковстрему. Гартман, худощавый, болезненный, лет 45-ти, государственный человек, каких нет теперь ни в Финляндии, ни в России, дипломат по тону речи и телодвижениям, был тоже сенатором, но в то же время и абоским губернатором, ожидал князя в Або. Карл Кронштедт, сын коменданта, который сдал нам Свеаборг в 1807 году, гордый, независимый, гнетомый мыслью, что он сын отца, считаемого изменником, — и под этим влиянием враждебный всему, что представляло власть русскую. Валлен, генерал-прокурор, либерал и сепаратист, и проч. Весь этот состав достался нам готовый от Швеции, воспитанный в конституционной атмосфере просвещенного народа и выражавший свою духовную независимость или вольным светским обхождением с генерал-губернатором, как Клинковстрем, или достоинством осанки, как Кронштедт. В то время как я это пишу, они вымерли; их заместили другие, с теми же правами, с теми же чинами, но эти другие — чиновники не только по их приемам перед начальствующими, но по узости взглядов и по всему складу ума, — оттого, что родились на иной почве и надышались воздухом бюрократической России.
Не в регламентах и положениях кроются зародыши мужей государственных: их производит историческое, культурное развитие народа; этого мы, русские, не хотим понять и думаем, что перо, бумага и царская подпись могут вдруг дать нам то, что другие выработали себе веками умной и трудолюбивой народной жизни. Французы хотели преобразоваться на основании философических принципов Руссо, Дидро и Вольтера, — не умея читать, перерезали друг друга, — а в культуре не подвинулись. И теперь то же варварство осталось во Франции, какое было до революции, та же подлость перед властью из-за шитого мундира, та же дерзость перед безнаказанностью, и то же смирение перед палкою: только нравы испортились. Мы идем тем же путем; не посоветовавшись с уровнем народного просвещения и отдавшись на веру доморощенным философам, правительство освободило крестьян от крепостной зависимости, а они остались в душе теми же холопами, только холопами своевольными; сочинили народных депутатов под именем гласных, а эти гласные, эти управы — те же чиновники, только чиновники более дерзкие, оттого что нет над ними единоличного начальства; вывели на свет независимых судей, а эти судьи — такие же пристрастные, такие же кутилы, только в большем размере, оттого что меньше страху и больше жалованья. Отменили телесное наказание, а за двугривенный каждый позволит себя высечь и еще в ноги поклонится; заводам народные школы — в этих школах будут читать памфлеты и прокламации.
Из гнилого материала нельзя строить твердое здание, каков бы ни был архитектор. Не так совершаются реформы. Лютер не по высочайшему повелению проповедовал против папизма; паства его убеждалась не циркулярами. Пасторы проповедовали в том же смысле против высочайших повелений: реформация осуществилась в общественной совести, вопреки правительству и несмотря даже на гонения, она осуществилась, требуя правительственной санкции и, когда достигла санкции, установилась без недоразумений, потому что ее уразумел народ прежде признания ее правительствами. Правительства не предписывали ее, а только признали, — и то поневоле.
А у нас: по какому побуждению бояре сбрили бороды, по какому надели фраки? По воле царя; зато и до сих пор цивилизация заключается только в бритом подбородке и во фраке, а под ним — варварство. По какому побуждению даны наделы, дана одноличная власть мировым судьям, отданы уезды на расхищение управ? Оттого, что Милютин сказал, что это будет хорошо! Чем руководствуются власти в проведении реформ: буквою циркуляров; а поскольку они понимаются каждым различно, то и вышло — «кто в лес, кто по дрова». Оттого общая неурядица: хотели улучшить быт крестьян — он ухудшился; полагали ввести суд правый — вышел Шемякин; желали облагодетельствовать земство — оно разоряется. Сказано: «да будет свет!» — и бысть… тьма! Но еще не кончено! Чем более карабкаемся в болоте, тем глубже вязнем. «Облагодетельствованные» крестьяне ропщут и на наделы, и на оброки, и на судей, и на земские учреждения, — и до сих пор ропот их не уменьшился, но усиливается.
Из Гельсингфорса поплыли мы такими же неведомыми путями через шхеры в Або. Немного отойдя от Свеаборга, люгер наскочил на камень, который, дав люгеру лихорадочную дрожь, оборвал килевую медную обшивку, — к великому ужасу старика Веселаго. Князь был очень доволен этим событием; он видел в нем полезное открытие. Камень был тотчас нанесен на карту, и тут же князь принял решение снарядить экспедицию для нового промера шхерных фарватеров. Пароход, за нами шедший, сидел не так глубоко в воде, как люгер, и прошел через гребень без соприкосновения. После долгой борьбы с самим собою Веселаго (доставшийся князю в наследство от адмирала Сенявина) решился наконец сказать:
— Ваша светлость, мал люгер для осеннего плавания.
— Кому угодно, может пересесть на пароход! — отвечал князь с насмешливою улыбкою.
День был сквернейший, мрачность, дождь и ветер. Часов в 10 вечера командир объявил, что ничего не видно. Князь приказал следовать вперед до первого возвышенного острова с норд-веста, чтобы укрыться от ветра и зыби. Проплыв еще с час, мы остановились за лесистым островом. Темнота такая, что хоть глаз выколи. Ветер дул нещадно; дождя не было, но какая-то мокрая пыль льнула и примерзала к одежде. Князь сошел вниз, а офицеры и мы остались наверху; я — потому, что на палубе переносил качку, а в каюте делалась тошнота. Когда зрачки наши достаточно расширились, предметы, нас окружавшие, начали слегка очерчиваться в виде силуэтов, и мы увидели в нескольких саженях от себя что-то черное вроде судна. Спустили шлюпку, послали мичмана для осмотра, оказалось, что рядом с нами стоял транспорт с порохом, — а у нас на палубе мичман Краббе (теперь управляющий морским министерством) курил сигару. Веселаго опять всполошился:
— Краббе, брось сигару! Брось, купидон, вспомни, что мы везем его светлость, начальника Главного морского штаба!
— А что дадите?
— Ну, брось, дам две сигары.
— Мало, давайте десять.
И дал десяток сигар старик, чтобы заставить повесу бросить сигару в море, с противной транспорту стороны.
На другое утро прибыли мы в Або; на берегу стояли местные власти, во главе их благородная фигура Гартмана, и несколько экипажей для князя и для свиты его. Мы отправились в гофгерихт и нашли его в полном заседании, в древнем здании с высокою, крутою кровлею. Проходя через залу присутствия, князь сказал шутку, довольно неуместную, по-французски:
— Потолок сейчас обрушится и раздавит этих господ.
— Милостивейший государь, — отвечал Гартман с улыбкой, в которой было и серьезное выражение, — мы надеемся, что Провидение, заботящееся о Финляндии, не даст погибнуть этим достойным людям.
Нас поместили в прекрасном просторном доме аптекаря Юлина, который угостил нас завтраком отличным, хотя не по нашему вкусу, как, например, холодная телятина со сладким соусом, — а потом был обед человек на 60, с музыкой. После тостов финляндцы, из внимания к князю Меншикову, заиграли, как финал, русскую арию, не подозревая, что играют «Ты поди, моя коровушка, домой».
Через несколько часов от Або проходили мы мимо строившихся тогда укреплений в Бомарзунде, — прескверных, не дающих никакой защиты, как они и доказали в 1854 году, сдавшись французам без выстрела. Бомарзундские укрепления начали строиться при Закревском на счет финляндских сумм и, как обыкновенно, с содержанием планов в величайшей тайне. Когда выводимые фундаменты указали расположение крепости, люди сведущие увидели несообразность плана. Граф Армфельт сообщил их замечания великому князю Михаилу, который, рассмотрев их, объявил: «Слишком поздно». Хорош повод достраивать!
Вообще Финляндия страдала больше от обороны, чем от неприятеля. В 1864 году возложена была оборона ее берегов на великого князя Константина, который и пошел по-своему: сформировал какой-то вольный флот из наемных судов и наемных матросов. Набрали разных бродяг, не видавших моря и не нюхавших пороху; этот знаменитый флот спрятался в шхеры при виде английского пароходишка, которого в Экнесе отбили кольями и плохими ружьями мужики под предводительством купца, а между тем истрачена была вся экономия, собранная князем Меншиковым в двадцать два года управления. Я представлял вследствие этого доклад государю, в котором доказывал, что Выборг, Фридрихсгам и Свеаборг защищают столько же Россию, Ревель, Петербург, сколько Финляндию, и что потому было бы правильнее возлагать на финляндскую казну расходы только по обороне Ботнического берега, отнеся защиту Финского залива на государственное казначейство империи. Государь передал это сыну Косте: этим все сказано.
Ничто не может быть живописнее Аландского архипелага; он объясняет возможность перехода Каменского по морю к Стокгольму. Островов здесь более, чем моря. Князь велел сделать несколько пушечных выстрелов; каждый оставлял за собою долгие перекаты грома, а три-четыре выстрела, следующие друг за другом каждую секунду, произвели грохот и эхо изумительные. Стокгольм величаво выходит из моря перед приближающимся мореплавателем.
Года через три, если не ошибаюсь, после нашего первого посещения Финляндии военное министерство переделало штаты крепостных управлений. Из шести плац-майоров Свеаборга оставлены были два, а четверо переведены в другие места, и как милостиво. В Свеаборге оставлен полковник Штрикер, бывший ординарцем у Петра III. Екатерина воцарилась в 1762 году, следовательно, Штрикер был офицером не позже 1759 года, а значит, в 1835 году — 76 лет, и Чаплинский — 65 лет от роду. Полковник Ениш — 80 лет — назначен комендантом в Геленджик. Другой, лет за 50, которого фамилии никак не припомню, куда-то еще дальше.
Ениш был смолоду адъютантом генерала Клейнмихеля, сына эстляндского мужика и отца нынешнего графа; этот был в то время ребенком и нередко прибегал к адъютанту за бумажкой или карандашиком. Ениш строил на этом свои надежды; явился к дежурному генералу, генерал-адъютанту Клейнмихелю, который встретил с удивлением, что он уже полковник, поздравлял его с успешною службою и с прекрасным местом, восхваляя геленджикский климат. Разобиженный Ениш пришел ко мне со слезами; жаловался на несправедливость, что его отсылают в Геленджик, а Чаплинского, мальчишку, оставили в Свеаборге. Князь определил Ениша в Николаев, Херсонской губернии, дав ему средства к переезду и обзаведению.
Через несколько дней входит ко мне беременная женщина с тремя малютками и четвертым на руках. Это была жена другого переводимого полковника. Я упросил князя дать ему место в Петербурге; его сделали командиром двух ластовых рот, расположенных в Петербурге, чем он был очень доволен и расписывался — «командир всех рот». Глупости был неимоверной. Надоедал мне жестоко своими праздничными визитами. Каждый раз, входя, говорил он мне одну и ту же поговорку: «Утренний час — золотой час», а уходя — другую: «Горы не сходятся, но люди расходятся». Странно, что я совсем забыл его фамилию.
Помощником генерал-губернатора был, по выбору князя Меншикова, генерал Теслев, человек ограниченный и скупой до мерзости. Он объезжал Финляндию из спекуляции, брал прогоны на двенадцать лошадей, а ехал на двух. После него был Рокасовский, благородных кровей, но тоже прост. Удивительно, как наши министры и главноуправляющие считают зыбким свое положение. Если им приводится выбирать товарища (заместителя) или помощника, они ищут его не между умными, а между дураками: они боятся умного, чтобы не столкнул; страх этот так велик, что в это время все дураки кажутся им слишком умными.
Опыт показал, однако, князю, что и дураки не всегда полезны. Теслев, не поняв, что он сидит в Сенате на креслах генерал-губернатора, что он только рупор его, alter ego, вздумал присоединиться к оппозиции. Князь был недоволен им, а Теслев, со своей стороны, вообразил, что он человек необходимый, и стал просить прибавки жалованья. Тогда князь решился сменить его, если найдется другой кандидат.
При Закревском командовал дивизией в Финляндии генерал Штевен, женившийся на дочери прежнего генерал-губернатора графа Штейнгеля и получивший при этом фамилию граф Штевен-Штейнгель, — очень хороший человек. По смерти графини Штейнгель он вышел в отставку и жил в прекрасном имении жены за Выборгом. Родной брат его Штевен был выборгским губернатором. Князь приказал мне проситься в Финляндию для осмотра водопада на Иматре и под этим предлогом проехать мимо графа Штевена, заехать к нему и предложить ему место помощника генерал-губернатора. Ежели он примет предложение, то я должен был воротиться тотчас в Петербург; если нет, то мне поручено было уговорить Теслева остаться, но не именем князя, а, напротив, внушением, что князь охотно уволит его.
В гостиную графа Штевена проходил я через прекрасную залу, всю в стеклах, как галерея, уставленную камелиями, рододендронами, кактусами. Предложение мое выслушал Штевен с видимым волнением, был им менее польщен, чем поражен, считая, что свет давно забыл о его существовании, но за обедом он оправился и, видимо, наслаждался как памятью о нем князя, так и представлявшейся новою карьерою; я ночевал у губернатора. На другое утро губернатор получает письмо от брата, которым он отказывается от предложения, извиняется передо мною в непоследовательности, — извиняется, что пишет не ко мне, и приводит в оправдание, что ему было совестно объявить мне причину отказа, причину в глазах света ребяческую, но им непреодолимую; ему стало жаль расстаться с взлелеянными им растениями.
Я понимал его, но князь Меншиков не понял бы, и потому я ограничился сообщением князю, что Штевен не принял предложения, и поехал в Гельсингфорс к Теслеву под видом свидания с моим приятелем бароном Котеном, который, по моему ходатайству, недавно был назначен директором канцелярии финляндского генерал-губернатора. Я советовал Теслеву подумать, что он делает, говорил, что князь очень охотно его уволит, с пенсией по закону, и он получать будет три тысячи рублей вместо нынешних двенадцати тысяч рублей ассигнациями. Теслев струсил; стал обнимать меня (при Котене), потом выбежал из гостиной в кабинет и вынес оттуда два апельсина, один, побольше, дал мне, а маленький — Котену. Апельсины эти оказались худосочными.
В это время я имел уже в Финляндии значение весьма рельефное. Весть о моем приезде разошлась скоро по Гельсингфорсу. Ко мне приехали барон Клинковстрем, Кронштедт, дивизионный начальник, кажется, Петерсен и губернатор, генерал-адъютант граф Армфельт; все приглашали меня к себе; так я пробыл еще дня три в Гельсингфорсе и на вечерах этих лиц познакомился и с другими, дотоле мне незнакомыми.
Барон Котен был тогда женат на красавице Гартман. Легко увлекаемый честолюбивыми мечтаниями, он купил себе дом и поместился в нем очень комфортабельно, но молодая красавица недовольна была судьбою; она жаловалась мне, что муж ее поглощен честолюбием и для семейства негоден. Недолго искала она земного счастья; прах ее покоится на дрезденском кладбище.
Город Або был некогда сердцем Финляндии; прекрасная почва губернии, удобный порт, близость Стокгольма, из которого Финляндия всасывала в себя через Або европейскую цивилизацию, университет, гофгерихт и резиденция архиепископа делали из Або средоточие духовной, умственной и политической жизни Финляндии; поэтому именно он не мог нравиться нашему правительству. Государь Александр I не был вовсе заражен славянофильством; он, напротив, старался привлекать иностранцев, чтобы русские позаимствовали у них сведения, понятия и нравы, но Александр видел независимость чинов на сейме; он боялся нападения со стороны Швеции и поэтому перенес центр тяжести в Гельсингфорс, прикрываемый Свеаборгом, следовательно, русским гарнизоном и русским флотом. Сначала посажен был в Гельсингфорс сенат, генерал-губернатор и штаб российских войск (финские войска упразднены); потом перевели туда же университет.
В 1837 году, по особому случаю, о котором я говорю в другом месте, сформирован в Выборге гофгерихт, вследствие чего доктрины абоского гофгерихта перестали быть единым юридическим руководством. Оставался там еще губернатор Гартман, своей личностью составлявший центр тяжести. Когда Гартмана назначили начальником финансовой экспедиции сената, он, желая оставаться нравственно хозяином и покровителем Абоской губернии, выхлопотал, чтобы преемником его был Антон Кронштедт, старший брат сенатора, из русских военных, дурак дураком. Он покорился Гартману, но губерния потеряла последний свой блеск и вскоре сделалась настоящею провинцией. Однако Гельсингфорс не заменил Або; он развился под другими условиями, создан не историей, а высочайшими указами, и потому уподобился нашим губернским городам: много признаков власти и очень мало симптомов цивилизации.
Вслед за городом Або стал упадать и финляндский сенат. Император Александр I так высоко ценил достоинства графа Армфельта (северного Алкивиада), графа Аминова и графа Толя, что не только следовал их внушениям по вопросам, исключительно касавшимся Финляндии, но по их направлению разрешал и вопросы международные, не стесняясь принципами юридической равноправности, но оценивая политические влияния. Таким образом, финляндские дворяне признаны дворянами российскими, но не наоборот; жителям Олонецкой губернии запрещено ходить в Финляндию для разносного торга, а финляндцам дозволено ходить и промышлять во всех городах и уездах империи. Русские, или, вернее, только русские считали это несправедливостью, но тогда русских было мало; теперь — не так бы возопили, но основания таких неравноправностей были правильны. Дворяне русские и финляндские сходны только по созвучию, а не по смыслу: это омонимы, а не синонимы.
Дворяне финляндские представляли собою настоящих потомков древних рыцарских родов, а как и сам державный государь не может никому повелеть быть потомком того, кто ему не предок, то дворянство финляндское означало роды, которых размножение или прекращение зависело от воли Божией. Оттого в Финляндии Саклен, бывший двадцать четыре года министром финансов и шестнадцать лет тайным советником, был не дворянин.
В России дворяне, односвойственные с финляндскими, совершенно смешаны с дворянами по праву ордена или чина, полученного ими или отцами их, а так как количество орденов и чинов зависит совершенно от произвола человеческого, то в такие дворяне можно обратить весь род человеческий. Ясно, что нельзя было уподобить их, как нельзя уподобить Траянову колонну каждому каменному столбу.
Крестьяне-разносчики бродили по захолустьям Финляндии, сбывали фальшивые деньги и заражали сифилисом; потом собирались группами и грабили обывателей. Финляндцы же никуда не выходили; даже в Петербурге бывали только выборгцы.
Затем распоряжение, о котором я упомянул, имело двоякую цель: защитить Финляндию от лиц, которых теперь назвали бы русским элементом, и сблизить вновь присоединенный к российскому скипетру народ с империей. Независимый сенат был предан государю; преданность независимого и лестнее, и прочнее, чем покорность раба; оттого государю нравилась эта независимость. В последние годы царствования взгляды государя Александра изменились; при Николае Павловиче, при Закревском, еще более. Закревский не любил вольнодумцев, но в его вооружении были только два оружия: палка и шпионство, и как палка была тут слишком неуместна, то он только шпионил.
Князь Меншиков отверг решительно шпионскую систему, однако, видимо, не жаловал людей, способных противостоять произволу; сам он положительно противостоял ему, охранял конституцию всеми своими силами, но не хотел, чтобы оппозиция являлась в сенате, опасаясь последствий слишком крутых. Когда Гартман поступил в сенат, он, по тем же побуждениям, которые руководили им при выборе преемника в Або, старался ослабить нравственный вес сената; пошли награды, кресты людям ничтожным; другие, не видевшие большого достоинства в орденах, но тем не менее оскорблявшиеся, когда были обходимы, притихли; время делало тоже свое дело; мало-помалу старики сходили со сцены и заменялись людьми, выросшими под бюрократическим направлением Закревского. Так сенат обращался постепенно в скопище чиновников бездарных, низкопоклонных, и дух независимости переместился из сената в среду профессоров, журналистов и студентов: событие, неблагоприятное государству, ибо в таких обстоятельствах на месте практических политических взглядов являются отвлеченные доктрины, своекорыстные расчеты партий и заблуждение юношества.
Мое влияние, весьма значительное в отдельных случаях, не распространялось на личные симпатии и антипатии князя Меншикова, ни на общую его политику; притом в то время я не имел и достаточной зрелости понятий; мои общие взгляды на дела явились уже после; что я теперь вижу, я вижу ретроспективно, а в то время я занят был почти исключительно вопросами административными, и если останавливал князя в реакционных его побуждениях, то это относилось все-таки к отдельным случаям, не охватывавшим всего политического горизонта.
Рокасовский, сам по себе ничтожный, был под влиянием жены своей, женщины малообразованной, но желавшей играть роль; к ней прельстились либералы новейшей школы, люди, ищущие во что бы то ни стало свободы ругательной или развратительной прессы, а она поддерживала их втихомолку. Когда князь Меншиков уехал в Константинополь, Рокасовский открыто выступил покровителем либерализма, из которого возник неофиннизм. Эти новые финны, как все доктринеры, стали сбрасывать не только иго русского влияния, но и давление шведской цивилизации; презрев историческое развитие края, они вводили чухонство, и из чухонского народного языка стали созидать язык политический, со всеми глупыми последствиями насилования истории для проведения нового принципа национальности.
Берг, заменивший Рокасовского, обратился к своей системе, системе двойной игры; он казался либералом, а между тем завел шпионство; искал в чиновниках своего иерархического возвышения, делая из секретарей сенаторов; искал популярности в уезде, осыпая наградами землевладельцев, которые сообщали ему тайные сведения, — словом, ища славы путем подлым, развратил в несколько лет край настолько, что и веками не исправить утраченную нравственность.
Если теперь сравнить Финляндию новейшую с тем, чем она была в день присоединения ее к российскому скипетру, окажется, что она принарядилась внешними покровами, дворцами, храмами, железными дорогами, но утратила все свои внутренние добродетели, народную нравственность, духовную независимость, утратила способность воспроизводить людей политических и те рыцарские личности, которые давали ей блеск в истории Швеции.
Sic transit gloria mundi!
Глава X
Моя деятельность по заведованию финляндскими делами — Отношения к князю Меншикову — Я делаюсь властью — Возрастающее влияние Чернышева — Его антагонизм с Меншиковым — Назначение Перовского оренбургским генерал-губернатором — Увольнение министра внутренних дел и финляндского генерал-губернатора Закревского — Назначение князя Меншикова финляндским генерал-губернатором — Характеристика его — Перемена в государе — Интриги приближенных к нему лиц — Новые министры — Воронцов — Посылка меня в Николаев — Неудачные смотры — Отставка Муравьева — Мое знакомство с Клейнмихелем — Моя служба у графа Орлова — Князь Друцкой-Любецкий — Падение ассигнаций — Комитеты — Анекдоты о Паскевиче
Вступив в заведование финляндскими делами, производившимися в Петербурге, я ограничивался сначала принятием приказаний князя Меншикова и их исполнением, но при этом я, как и прежде бывало, позволял себе с ним спорить; в морских делах предметы моего сопротивления были ничтожны; в финляндских же, где дела были посерьезнее, я не только оспаривал, но и не соглашался, до тех пор отлагая исполнение, доколе не истощал всех способов убеждения. Очень часто, даже по большей части, я одерживал верх. Князь был так умен и так благороден, что вовсе не сердился за то, что я доказывал ему неправильность его взгляда; напротив, после каждой моей победы он усугублял свое ко мне доверие и расширял круг моего полномочия.
Не прошло года, как я переменил весь порядок течения дел: я не докладывал ему вступающих бумаг; распечатывал их, собирал сведения, приготовлял исполнение и, когда все было готово, докладывал, какая поступила бумага, какие я требовал сведения, к какому пришел заключению и в каком содержании приготовил бумаги для его подписания. Князь выслушивал проекты, делал в редакции изменения или подписывал их тотчас. Таким образом я вошел в непосредственное сношение с местными властями.
Сперва сношения мои ограничивались запросами или требованиями от имени его светлости; потом я вошел в партикулярную переписку с губернаторами, сенаторами, епископами и архиепископами. Вообще круг действия петербургской канцелярии изменился. До меня управлял ею Бахтин; предметы канцелярии были: секретная переписка и переделка редакции. При мне, когда собираемые мною сведения наводили меня на мысли об улучшении или поддержании какой-либо части, канцелярия принимала инициативу. Несколько распоряжений по мыслям, родившимся в Петербурге, хотя князь тщательно скрывал их место рождения, побудили многих лиц приехать для объяснения со мной, и даже если они являлись для объяснений с князем, — прежде стараться уговорить меня. Скромное мое жилище в доме начальника морского штаба наполнялось посетителями, статскими — большею частью по делам общественным, военными русских войск — почти исключительно по делам наградным. Почтовая переписка на французском и немецком языках расплодилась ужасно. Статс-секретарь финляндский присылал ко мне беспрестанно своих первых секретарей; все, что нужно было выпросить у князя, выпрашивалось прежде у меня: я сделался властью.
К такому положению моему содействовало и то, что кредит князя начал с 1835 года понижаться, что его весьма беспокоило. С 1835 года начало возрастать влияние графа Чернышева. Приготовляя пером Позена новые проекты военного управления или войсковых заготовлений, — вернее, подписывая проекты Позена, — Чернышев — вернее, Позен — умел очень ловко выманивать у государя солидарность его в этих вымыслах, и как государь любил единство и даже только однообразие, имевшее вид единства, то все, что он утверждал по военному ведомству, приказывал распространять и на морское. Таким образом Меншиков из самостоятельного начальника морских сил становился копиистом Чернышева. Этого одного было достаточно, чтобы взволновать его самолюбие, но, кроме того, под этою копировкою скрывались величайшие затруднения. Если на морское ведомство распространялось что-нибудь хорошее, заслуга оставалась за Чернышевым; если дурное — флот роптал на Меншикова; а Меншиков, отстаивая флот, терял расположение царя; так кредит его обрушивался с двух концов. Но что еще хуже — Чернышев лгал государю с изумительною наглостью, а князь этого не умел.
Не могу забыть доселе один случай. Чернышев представил государю, что существующий порядок казенных заготовлений через русских подрядчиков вреден; что они обходятся дорого казне, а барыши не делятся с крестьянами и другими первыми производителями, что гораздо лучше покупать из первых рук, хоть по мелочам; что военное министерство сделало опыт, и он удался необыкновенно, — и все мужички благословляют государя. Государь в восхищении. Посылает доклад к князю Меншикову с приказанием немедленно ввести такой порядок и по морскому ведомству. Князь просит Чернышева прислать ему правила или инструкции для такого способа заготовлений. Ответа нет; пишет вторично, — Чернышев отвечает, что таких правил нет; справляется, как и где заготовлен последний провиант для войск, — оказывается, что вся поставка отдана одному Кузину, миллиона два четвертей муки! Это значило купить из первых рук!
Князь ненавидел доносы, но в этом случае дело шло не о доносе, а о невозможности исполнить монаршую волю. Князь при первом докладе сказал государю, в каком положении дело, то есть, что правил нет и что заготовления делаются еще по-старому, умолчав из деликатности о том, что новость заготовления состояла в отдаче почти всего продовольствия армии в одни руки. И это сошло с Чернышева как с гуся вода: вероятно, отолгался!
Между тем борьба между ними сделалась ожесточеннее; Меншиков усилил насмешки над париком Чернышева, а тот, гораздо практичнее, подрывал грунт под ногами Меншикова. На стороне князя была правда, на стороне Чернышева — сила. Князь имел один доклад в неделю; Чернышев ходил с докладом ежедневно. Меншиков беспрестанно отказывал дамам, высоко стоящим, в их покровительных просьбах; Чернышев шел этим просьбам навстречу. Первый сидел с утра до вечера за бумагами, последний посещал все вечера и везде закидывал удочки себе, рогатины — князю.
В 1835 году Перовский сделан оренбургским генерал-губернатором, и это сыграло важную роль в политической жизни Меншикова. Перовский был пылкий рыцарь без страха и упрека, обожавший князя Меншикова. Его свобода слова была всем известна. Узнав о каком-нибудь наговоре на князя Меншикова, Перовский был в состоянии вбежать к государю без доклада, чтобы сказать ему, что это ложь. Он был так же деятелен в посещениях света, как и Чернышев, но умнее его и неизмеримо уважительнее. Оттого Перовский был щитом Меншикова. С отъездом Перовского оплот князя Меншикова сокрушился.
К Чернышеву присоединился князь Воронцов, тоже лгун, — этот ловчее, тот наглее. К ним пристала старая месть Грейга; под его председательством сочинили нормальную смету морского министерства, по которой ассигновано было: на Балтийский флот, с 27 экипажами, с 27 линейными кораблями, со всем главным управлением и с флотилиями Каспийскою, Байкальскою, Охотскою и Архангельскою, — 11 миллионов рублей ассигнациями, а на Черноморский флот, с 15 экипажами и 15 линейными кораблями, — 9 миллионов рублей ассигнациями, всего 20 миллионов ассигнациями, или меньше 7 миллионов рублей серебром (теперь без Черноморского флота — 23 миллиона рублей серебром), отчего, естественно, суда балтийские были плохи и офицеры балтийские менее довольны князем Меншиковым, чем черноморские — Лазаревым.
Закревский был тоже врагом Меншикова, которому приписывал свое увольнение со службы, но совершенно неосновательно. Я, как сегодня, помню рассказ князя Меншикова, воротившегося от государя. Меншиков говорил мне озабоченно: Закревский написал государю письмо, которым просит увольнения от звания министра внутренних дел и финляндского генерал-губернатора (в 1831 году после холеры) в предположении, что государь им недоволен. Между строчками это значило: я надеялся получить ленту, но не получил; дайте мне ее, пожалуйста. Письмо это подано было государю в то время, когда ему докладывал Меншиков. Государь, подумав, сказал:
— Закревский просится в отставку; я никого не удерживаю; министр внутренних дел у меня есть. Меншиков, возьми Финляндию! Я всегда думал, что это управление ближе всего входит в те руки, в которых мои морские силы.
Меншиков отозвался государю, что он не может взяться за это, что он все еще учится морскому делу, которого не знал вовсе, когда его величество дал ему это управление; что он не знает и Финляндии и опять должен учиться, а между тем не имеет довольно времени и для дел морского управления. Государь поручил ему назвать кандидатов.
Князь говорил мне: «Я уверен, что это комедия, что государь не примет моих кандидатов и навяжет мне Финляндию».
На следующее воскресенье князь позван к государю; он назвал троих, из которых помню Дена и Берга, но государь никого не принял, и Финляндия возложена на князя Меншикова. Закревский, выйдя в чистую отставку, рассердил государя. Однако же, давая великолепные балы, он понемногу привлек к себе царскую фамилию и получил вес.
Так Чернышев, Воронцов, Закревский, Грейг и куча недовольных особ женского пола составляли батарею против Меншикова; за ним, или с ним, — ни души! Ибо если нельзя без вопиющей несправедливости сказать, что Меншиков не был вполне благороден по правилам, то нельзя также, без слепоты, не сознаться, что он обладал особенным искусством отталкивать от себя людей теплого чувства; довольно было сделать ему слабую демонстрацию дружбы, чтобы он скривил рот или пустил шуточку. Это последствие философии Ларошфуко, которой он начитался в молодости, и тех обманов, которых неоднократно был жертвою. Добрые волнения души возбуждали в нем ложный стыд.
Мне случилось войти к нему вслед за Перовским, приходившим прощаться; увидя меня, князь нагнулся, как будто отыскивая что-то на нижней полке этажерки, и утер слезу. Я спросил его, зачем он так старается скрыть то, что изобличает доброе человеческое чувство, и притворяется худшим.
— Ах, друг мой, — отвечал князь, — когда вы доживете до моих лет, то увидите, что человеколюбие не заслуживает, чтобы заботились о его одобрении.
С 1875 года, по моему мнению, начал совершаться переворот и в самом государе. Из министров первого десятилетия его царствования Меншиков был один, восстановленный государем; прочие достались ему в наследство.
Нессельроде, лицо историческое, которого достоинство оспаривать никому и на мысль не приходило; Канкрин, пред высокой личностью которого государь смирялся и пред которым охотно сознавался в своей финансовой несостоятельности; Лобанов, министр юстиции, Закревский, внутренних дел, — люди пустые, но они выбыли мимо воли государя.
Дашков и Блудов заместили уже впоследствии их и были рекомендованы Карамзиным. Бенкендорф, шеф жандармов. Все были люди безупречные, не доктринеры, не реформаторы, не временщики. Государь не имел надобности направлять их. Когда Чернышев своею пронырливостью и бесстыдно-ловким пером Позена проложил себе дорогу к государю, начались проекты и преобразования, которых заднею мыслью была систематическая нажива на казенных заготовлениях. Аппетит приходит во время еды.
Провиантские и комиссариатские операции стали тесны для деятельности прожектеров; надо было дать что-нибудь и полевым инженерам, и выдумали постройки; нужны были деньги больше сметных — сочинили займы министерств и назвали такие постройки в долг — «даром потомству», а чтобы оградить себя от протестов Канкрина, стали шептать государю, что теперь он сам может судить о финансовых мерах и не всегда слушать советов человека, бесспорно, умного, но, очевидно, упрямого. Проекты Позена с изумительною наглостью были названы в докладах и положениях «мыслями, преподанными вашим императорским величеством», и под этою фирмою они не могли уже подвергаться той резкой критике, какой заслуживали.
Так Чернышев, сам орудие Позена, вливал ежедневно тонкий яд в патриотическое сердце государя и раздувал жар его врожденных слабостей. Государь любил все колоссальное. Он, по страсти, строил бы все здания монументальные, какою была собственная его особа, но его честное сердце не дозволяло ему удовлетворять эту страсть. Коварство приближенных успело извратить в нем понятия о государственном хозяйстве, а лесть уверила его, что эти понятия непогрешимы, — и он, безукоризненный по намерениям, стал «дарить потомству» монументальные здания и монументальные долги.
В это же время приехал в Петербург и Киселев (игравший весьма подозрительную роль в смутах 2-й армии в 1826 году). Добиваясь министерства, он стал рисовать государю мрачными красками быт государственных крестьян, поднял ужасный шум, что департамент государственных имуществ в тридцать лет существования накопил пятнадцать тысяч дел нерешенных, — и ради их решения из одного департамента вырастили министерство из четырех департаментов и шестидесяти палат. Князь Друцкой-Любецкий тоже интриговал против министра финансов. Спокойный Канкрин шел, как лев между лающими на него бульдогами и шавками, но отзывы государя, что он и сам понимает уже финансы, и в особенности изъятие из его ведомства государственных имуществ, сломили волю утомленного трудами и борьбою министра. Здесь он изменил своей личности; ему следовало бы сделать из вопроса о государственных имуществах условие своей службы и не слушать никаких утешений. Он поддался на лестные слова, остался, — и, кажется, тотчас же увидел сам, что сделал промах. С этих пор заметно в нем равнодушие к будущности России; может быть, и не равнодушие, а безнадежность; он один раз отвечал Меншикову на замечание, зачем он допустил расход: «Ах, дорогой князь! Не стоит! Что ни делай, Россия всегда будет банкротом…»
О себе говорит в путевых записках 1840 года: «Моя жизнь была деятельная, но безотрадная».
Он старался только замазывать финансовые изъяны, чтобы поддержать растрескивающееся финансовое здание и не попасться под жестокий удар гневного царского слова. Иногда, конечно, срывались у него сарказмы; например, он сказал государю, что «денег нет, а между тем два полка разъезжают по всем городам России два раза в год на почтовых тройках».
— Какие два полка?
— Образцовые, государь.
Всматриваясь во все мною виденное и слышанное, я назвал бы 1835 год новою эрою царствования Николая Павловича, началом второго его периода. С 1825-го по 1835 год государь приводил в порядок государство, вспомогаемый людьми более или менее даровитыми, но вообще материально и нравственно бескорыстными или стыдящимися обнаружить свою корысть, преданными ему и сосредоточивавшими свои силы на том, чтобы дела шли стройно. Успевали ли они все в этом или нет — это другой вопрос, но никого нельзя было обвинять в проведении своих тайных замыслов, ни даже в подлой лести. С 1835 года сцена переменяется; почтенные деятели сходят постепенно со сцены или парализуются интригами дельцов новой школы. Первым из таких дельцов является Чернышев, то есть Позен в шкуре Чернышева, проводивший усовершенствованную систему организованного хищничества чиновников. Вторым дельцом выступает Киселев, подрывающий самодержавие и его опору, поземельное дворянство. К ним присоединяется Любецкий, чтобы, по внушению польского патриотизма, споить Россию.
Первою жертвою этой компании был Канкрин; за ним утратили свое влияние Меншиков и Бенкендорф: первый — устранением его от участия в вопросах внутренней политики, второй — ничтожный, рассеянный в деле администрации, но опасный — как рыцарь верности и чести.
Между тем выплывали на ветер Орлов и Клейнмихель. Орлов — себялюбивый и ко всему прочему равнодушный; угодить государю, рассмешить его и обмануть, где и сколько можно, — в этом заключалась вся его политика.
Клейнмихель стоит, по моему убеждению, несравненно выше Орлова в нравственном смысле. Он эгоист, как Орлов, но не заходил так далеко в средствах к удовлетворению эгоизма; притом сама натура его эгоизма была чище: Клейнмихель жаждал власти из тщеславия, а Орлов искал власти как средства к утолению страстей грязных. Клейнмихель тоже обманывал государя, но делал это не из предательства, а из страха, как дитя обманывает своего вспыльчивого отца, если по неосторожности изломало вещь, им любимую. Он гнал людей, неприятных государю, не из расчетов, а как раб, удаляющий от барина своего все, что может нарушить доброе расположение его духа.
По приказанию государя Клейнмихель, дежурный генерал, являлся ежедневно к государю с личным докладом, несмотря на то что Чернышев, его прямой начальник, имел сам ежедневные личные доклады. Даже более — государь поручал иногда Чернышеву передать свое приказание Клейнмихелю по делам военного ведомства. И при всем том Чернышев, завистливый и тщеславный Чернышев, не ссорился с Клейнмихелем! Объясняю себе этот случай тем, что Чернышев был совершенно поглощен хозяйственными делами, что он сам желал ограничиваться ими; доклады по этим делам были и интереснее, и безопаснее, потому что государь не интересовался живо хозяйственными вопросами, да и не был в них компетентным судьей. Со своей стороны, Клейнмихель вовсе не желал влияния на дела хозяйственные, потому что не участвовал, как Чернышев, в разных спекуляциях, и вообще был бескорыстен; он исполнял приказания по строевой части, и исполнял очень быстро. Чтобы личные доклады свои из экстренных обратить в ежедневные, Клейнмихель возил к государю всякие дрязги, образчики сукна для выпушек или краски для кроватей, водил солдатиков, на которых примерялись новые фуражки, новые мундиры. Оба были вредные государю люди. Чернышев был проводником воровских систем и первый осмелился возвести в высокие звания человека, крещеного еврея, известного всей России наглого вора.
Когда Позену пожаловали титул статс-секретаря, в городе сочинили загадку: «Кто мудрее Бога?» Ответ: «Чернышев: Бог создал человека из земли, а Чернышев делает людей из говна». Даже брат государя говорил сатиры на награды Позена. Когда ему дали табакерку с портретом, великий князь Михаил объяснил, что это сделал государь, «чтобы лучше видеть в его карманах». Клейнмихель приучил государя заниматься мелочами и видеть в своих приближенных не министров, не мужей государственных, не сотрудников по управлению колоссальною империей, а портных, маляров, курьеров и, по большей мере, секретарей. При такой обстановке люди серьезные чувствовали себя в ложном положении: они парализовались на службе, а когда выбывали из службы, то заменялись людьми, далеко не похожими на них ни умом, ни доблестью.
Это составляет отличительную черту второго десятилетия царствования Николая, а благодаря этому государь, самый честный человек во всей империи, самый ревностный слуга России из всех ее служителей, стал впадать в ошибки и неловкости.
С 1840 года началось сильнейшее движение личностей государственных сверху вниз по внутреннему достоинству. Благородный Дашков, министр юстиции, заменен графом Паниным, который ввел по министерству капральское управление; просвещенный граф Толь, авторитет по военной и технической части, независимого, прямого характера, оставил управление путей сообщения в наследство Клейнмихелю, невежде и бесхарактерному. Беспечный, но честный Бенкендорф заменился столь же беспечным, но и бесчестным Орловым. В кресла всеобъемлющего умом Канкрина сел Вронченко, великан по росту, пигмей в сердце, принесший к подножию престола малороссийскую хитрость вместо ума и холопскую сметливость в замену просвещения. Сообразно со свойствами этих государственных деятелей пошли и дела государственные.
Самим министрам приходилось плохо. Угадал умный Дружинин, когда предостерегал знакомых ему лиц, видя, что они стали забавлять государя мелочами, игрушками. «Не играйте, — говорил он, — с русским царем: русский царь добр, но он богатырь, не под стать вам; станет играть с вами, плохо вам будет; возьмет вас за руку шутя — руки нет; возьмет за голову — голова долой». Так, министра императорского двора обругал государь при всех за то, что повар приготовил слишком мало для завтрака на пароходе; Клейнмихелю щипал он руки до крови, если на какой-нибудь станции худо двигалась оконная задвижка. Министры перестали быть мужами государственными; они сделались чиновниками, или, еще хуже, угождали государю по-лакейски и обманывали его, как лакеи.
Государь, видя, что повеления его не исполняются, что он повсюду окружен обманом, лицемерием, декорациями, лишился того спокойствия духа и той важности действия, которые нужны и присущи монарху; он стал брать на себя роль полицейскую, которая часто оканчивалась публичным фиаско, потому что от него ускользали подробности и последствия.
Так, один раз государь видел издали, что два солдата вошли в кабак вопреки строжайшему запрещению впускать их в кабаки. Государь вышел из саней, вошел в кабак и стал отыскивать солдат, которые спрятались в другой комнате. Поведено было отдать откупщика под следствие, но Бенардаки и К0 приехали к Вронченко, доказывали ему, что они не могут отвечать за поведение солдат, что повод к следствию незаконный и что если не прекратят его немедленно, то они отказываются от всех своих откупов, а их было миллионов на двадцать. Вронченко подал в отставку, — и государь, самодержец всероссийский, должен был взять свое повеление назад пред угрозою Бенардаки и К0. Никому не пришло в голову, что вторая комната при кабаке составляла уже законный повод к преследованию откупщика.
В другой раз государь, открыв случайно товары в ящике, присланном из-за границы под адресом Expedition officielle, сам стал их досматривать со всеми обрядами таможенной службы, делая из себя досмотрщика. Желая вывести воров из службы, он стал рассматривать формуляры и, заметив благоприобретенные имения, приказывал спрашивать, как они приобретены. Ответы попадались насмешливые или нагло-плутовские, например: «Имение приобретено женою на подарки, полученные ею в молодости от графа Бенкендорфа».
Чем безуспешнее были его усилия, тем более он раздражался. Бедный государь! Один немец, путешествовавший по России, кажется, Коль (Kohl), правду сказал: «Император русский, вмешиваясь в мелочи, часто компрометируется, но надобно войти в его положение: он приведен к убеждению, что во всей империи он — единственный честный человек, а между тем любит правду выше всего: поневоле он сделался полицеймейстером».
Раздражение государя обрушивалось тяжко только на людей честных; плутам оно было нипочем, и интрига торжествовала. Так это было уже в 1838 году. Когда государь собирался ехать осматривать южные военные поселения и черноморские порты, дошло до него донесение Муравьева, корпусного командира, что в войсках, подчиненных новороссийскому генерал-губернатору Воронцову, господствуют величайшие злоупотребления, особенно в греческом батальоне, которого командир, Ломброзо-Каччионе, пользовался расположением графа; чины этого батальона не получали законного содержания и поочередно работали на хуторе Ломброзо. Государь разгневался и объявил, что не хочет быть ни в Одессе, ни на южном берегу Крыма, чтобы не видеть Воронцова.
В то время я ничего еще не знал о Воронцове, кроме того что он отлично жил и отлично принимал в Одессе и что Пушкин написал его портрет:
Полумилорд, Полукупец, Полумудрец, Полуневежда; Полуподлец, И есть надежда, Что будет целый наконец.Приготовительная переписка по вояжу государя поручена была мне графом Орловым, с которым познакомил меня Меншиков. Маршрут был уже совершенно готов, как прискакал в Петербург вельможа Воронцов и, сделав некоторые визиты в Петербурге, поехал на 9 версту петергофской дороги, на дачу, поздравить с рождением — Позена!
Дня через три Орлов посылает за мною:
— Дорогой друг, все переменно! Император останется три дня в Одессе; императрица проведет два дня в Алупке у Воронцова.
Все переделано. Меня послали на курьерских в Николаев; через сутки прибыл туда князь Меншиков, а вслед за ним и государь. В Николаеве вывел Муравьев на смотр пехотный полк; государь — не в духе. На беду, в ту самую минуту, когда государь произнес первое слово команды, выбежала на площадь какая-то женщина, бросилась ему в ноги и подала просьбу! Государь вышел из себя:
— Что это за женщина? Уведите ее! — закричал он по-французски громовым голосом.
Женщину схватили и увлекли, как бешеную собаку. Полк двинулся. Государь стал бранить полк, и еще более Муравьева. Вся свита понурила голову, и смотр кончился, как похороны. Все приписывали несчастный исход смотра неуместному появлению женщины: это утешало гордого Муравьева.
Поехали в Севастополь. Там смотр обошелся еще хуже. Перед всем полком, перед многочисленною свитою государь, обратясь к флигель-адъютанту Астафьеву, сказал:
— Астафьев! Я оставляю тебя здесь и поручаю тебе восстановить, если можно, войска, которые истребил этот генерал, — указав на Муравьева.
Все это я видел и слышал из окна. Муравьев хотел тут же сказаться больным, но адмирал Лазарев, возмущенный такими сценами, убеждал генерала подождать; он уверял его, что подобную сцену должно рассматривать как апогей царского гнева, что затем должна наступить реакция; что в этих случаях государь, сознаваясь, что погорячился, старается обыкновенно загладить свою несправедливость усиленным выражением благоволения. Уговорили Муравьева; но в Керчи повторились те же сцены, и лучший русский генерал вышел из службы!
Винить ли государя? Конечно, нельзя оставить такое поведение без упрека, но нельзя судить царей, как людей частных; они в другом положении. У каждого из нас есть враги, но есть и друзья; когда враги готовят нам козни, друзья разрушают их; когда мы выходим из такта, они берут друга под руки и удерживают в равновесии. Государь — один или окруженный толпою предателей — опутывается сетью невидимою, но ощущаемою, не видя рук, ее плетущих. Он не прогрызает этой сети втихомолку, как мышь, но мечется и рвется, потому что он — лев. Предатели предлагают ему лекарство, но вместо него подают ему яд. Он, отуманенный, поражает тех, которых считает за злодеев, и вместе с тем ранит самого себя. Так я понимал государя Николая Павловича.
Кажется, в 1839 году я познакомился с Клейнмихелем и увидел в первый раз его приемы и его порядки. Они поразительны тем, что Клейнмихель был тип тогдашнего времени. Меншиков послал меня к нему для какого-то объяснения: Клейнмихель был тогда дежурным генералом. Я приехал в инспекторский департамент часов в 12 и между толпою офицеров разного оружия увидел впереди трех флигель-адъютантов, полковников: князя Долгорукова (теперь шеф жандармов), Крузенштерна (теперь сенатор); кто был третий — не помню, кажется, Урусов. Узнав, что Клейнмихель будет не скоро, я уехал и воротился во втором часу: Долгоруков и Крузенштерн все еще были там, в полной форме, ботфортах и шарфах. Через полчаса объявлено мне, что дежурного генерала не будет и что можно его видеть вечером в 7 часов, на даче по Каменноостровскому проспекту.
Я приехал туда; флигель-адъютанты были уже там; у дверей стояло четыре фельдъегеря с сумками на груди. Через полчаса вышел генерал, протирая, как со сна, глаза, кивнул головой флигель-адъютантам, кивнул мне — несколько любезнее — и подошел к фельдъегерям, спросил каждого, кто куда едет, когда полагает доехать на место, и отпустил их словами: «с Богом». Потом подошел ко мне очень любезно (потому что я не у него служил) и в заключение просил меня мимоездом зайти в его канцелярию и у правителя оной, Заики, потребовать те сведения, которые мне нужны.
Это было в июне; вечер великолепный, как бывает у нас в этом месяце, 8 часов вечера.
Я очень наивно сказал:
— Я заеду завтра, — теперь, конечно, не застану господина Заики ни в канцелярии, ни дома в такой прекрасный вечер.
— Как не застанете? — отвечал с удивлением генерал. — Заика должен быть в канцелярии всегда!
Я вытаращил глаза. Клейнмихель, протянув мне руку, прибавил:
— Заезжайте-ка, застанете непременно!
С странными впечатлениями поехал я в канцелярию дежурного генерала: там торчал кантонист, стоя у окна, расстегнутый. Так как я вошел очень скромно, то он, не поворачивая ко мне переднего фасада своей персоны, спросил грубо:
— Что вам надо?
— Господин Заика здесь?
— Какой теперь господин Заика; приходите завтра утром, известно!
— Мне Петр Андреевич сказал, что я найду его сегодня.
Писарь встрепенулся, как подстреленный коршун, и, застегиваясь, проговорил впопыхах:
— Он здесь, он сейчас будет, он пошел до ветру.
Чрез пять минут прибежал, запыхавшись, Заика. Смуглое, исхудалое, доброе и смышленое лицо малороссийского типа, с огромным улыбающимся ртом, выказывающим два ряда крупных, здоровых зубов, зеленых у корня и оканчивающихся очень белыми, как будто наточенными, резцами; обе руки держал он поднятыми и прижатыми к груди, с опущенными книзу кистями, напоминая собачек, стоящих на задних лапках.
— Извини, я только что вышел проглотить чашку чаю! — сказал он мягким голосом.
Бедняжка! Впоследствии я узнал ближе этого Заику: препочтенный человек, но загнанный и потерявший уже те струны души, на которых волнуется и звучит чувство оскорбления. Я благодарил Бога, что Он не поставил меня под такую железную руку, и говорил себе: лучше с голоду умереть, чем прикоснуться к подобному начальнику, человек предполагает, а Бог располагает.
В 1838 году князь Меншиков отрекомендовал меня графу Орлову для переписки по вояжу государя. С 1839 года начались мои беспрестанные сношения с графом Орловым и длились до самого отправления его в Париж для заключения мирного трактата в 1855 году. С 1839 года он избирал меня постоянно в правители дел всех комитетов, которых он был председателем.
Первый комитет был пустой по своему достоинству, но весьма важный по цели: разорившийся богатый архангельский купец Попов представил проект о способах возведения русского торгового судоходства и русской биржи на уровень независимости. Вздор!
Второй комитет был возбужден критикою князя Любецкого на систему питейного сбора Канкрина. Князь Друцкой-Любецкий был человек замечательный и по уму, и по наружности. Маленького роста, на толстых коротких ногах, он поворачивался всем телом, как бы вырубленный из одного куска. На короткой шее сидела огромная голова, лысая по всей передней части черепа, осеняясь только на висках и затылке седо-русыми волосами. Его лицо, чистое, белое, бледное, загоралось румянцем нежного тона, когда он воодушевлялся; когда в нем закипали чувства, румянец собирался в виде яркого пятна на каждой щеке. Нос орлиный; большие голубые глаза. Общий тип выражения: проницательность, скрытность и железная воля. Говорил он медленно, плавно, изысканно по-французски, с отличным французским произношением; отчетливо по-русски, с капризною акцентуацией слов русских. По мере течения речи голос становился сильнее, слова текли быстрее, — он был бы истинный оратор, если бы его правильные французские фразы не прерывались вставками: бо и терась. Когда поток речи его доходил до кульминации, Любецкий переходил на жесты, и с той минуты он делался смешным. Впрочем, я лично не находил в нем ничего смешного; я слушал его с напряженным вниманием, несмотря на его ежели, как слушал я и Канкрина, несмотря на его сакон; наши государственные люди были под другими впечатлениями; они ловили только ошибки просодии в речах Любецкого и награждали их улыбочками. Орлов забывал, что его хоша вместо «хотя» было гораздо тривиальнее, чем Любецкого ежели, да и Киселева кой час вместо коль скоро не отличался изяществом.
Со времени Тильзитского мира ассигнации банка стоили ровно четверть своей нарицательной цены. За десятирублевую бумажку давали два целковых и полтинник. Этот курс установился так твердо, что публика забыла уже падение ассигнаций и считала 25 копеек серебром за рубль, а рубль серебряный — за 4 рубля, то есть в народе стал монетной единицей рубль бумажный, а не серебряный. При Канкрине, когда оживленная промышленность потребовала большого числа оборотных знаков, ассигнации стали предпочитать серебряной монете; десятирублевая бумажка менялась на 2 целковых с полтинником не даром, а получала гривенник премии, — она стала дороже.
Чем бы радоваться восстановляющемуся доверию к долговым обязательствам правительства, министерство внутренних дел нашло в этом действии обман и силой хотело заставить народ верить правительству менее, чем он верил. Это уродливое воззрение облеклось в другую мантию: «берут произвольный лаж». Государь хотел издать указ, строго запрещающий лаж, а Канкрин представлял, что по подписании такого указа лаж непосредственно удвоится.
Государь обиделся. «Посмотрим, — сказал он, — я покажу, что в России есть еще самодержавие». Однако же указа не было. Ограничились административным запрещением лажа выше 1 %; меняльные лавки тотчас исчезли, как мухи на холоду, и лаж в три дня достиг до 6, 7, 9 и 10 %. Что делать, беда! Беда, что векселя стали выше, и об этом плакал векселедатель, которому еще нужны были деньги!
Как мне кажется, Канкрин надул тут своих мудрых товарищей. Он видел средство наполнить сундуки казначейства серебром и предложил изменение монетной системы; остановились на вопросе, в каком курсе принимать ассигнации. Канкрин давал 1 рубль серебром за 3 рубля 50 копеек ассигнациями, оттого что в то время ассигнации столько стоили на бирже. Любецкий предлагал курс 3,60 — оттого, что это число имеет наибольшее число делителей. Канкрин одержал верх, и на эту тему Любецкий критиковал и питейный сбор.
Тут, действительно, Канкрин был неправ, ибо при монетной системе, приноровленной к десяткам и половинам, плата тою монетою на серебро становилась невозможною. Даже на сцене театра появились на это пасквили: мещанин, приехавший на извозчике за 10 копеек, рылся долго в кошельке, прибирал и перебирал монеты, и, наконец, отдав с досадою монету извозчику, прибавил: «2/7 на водку!» Весь партер захлопал, равно как и сам государь, Григорьеву, этому русскому Бомарше. Любецкий порицал также меру и пробу вина.
— Ведро, — говорил он, — что такое ведро? Ежели ведро вина, то 80 чарок; ежели водка, то 100 чарок! Вы меня спросите, что такое рубль, а я вам скажу: назовите мне прежде, что вы покупаете; ежели книгу, то 80 копеек, а ежели бумагу, то 100 копеек. Что бы вы сказали про такой рубль?
— Проба-отжигательница Траллеса, — говорил Любецкий. — Надобно сжечь спирит, чтобы узнать, хорош ли он: хороша проба! Я купил спирит и пробую: он весь выгорел! Жаль, говорю я, что сжег спирит! Хорош был!
В этом тоне он критиковал Канкрина. Случалось, что Любецкий смешил и в другом смысле. Канкрин, разумеется, не смущался такими и даже более серьезными обвинениями. В одном совете, при государе, после длинной обвинительной речи Любецкого на вопрос государя, что он на это скажет, Канкрин преспокойно возразил: «Это все пустяки!» — и тем кончился диспут.
Комитет положил: 1) установить постоянную чарку в 1/300 ведра; 2) вместо отжигательницы ввести аэрометрический спиртомер; 3) медную монету переименовать: грош — в полкопейки серебра, пятак — в полторы копейки, гривну — в 3 копейки; 4) узаконить те злоупотребления в продаже питей, за которыми невозможно усмотреть. Меня произвели при этом случае в статские советники, 34 лет, что было в то время довольно редким случаем.
Затем был комитет о финансах неизвестного. Нетрудно было отгадать имя этого неизвестного. Записка начиналась следующими словами: «Страсть к золоту есть сильнейшая из всех страстей человеческих; для удовлетворения этой страсти человек не щадит ничего, даже своей жизни, etc.» Такой афоризм указывал прямо на автора-еврея, следовательно, на Позена. Позен предлагал отдать Россию большим компаниям, считая каждого компаньона чиновником вроде генерального сборщика: он хотел соединить полезное с приятным. Любецкий сильно поддерживал проект, имея в виду, что при таком устройстве можно невозбранно или разорять Россию, или взволновать ее. Князь Меншиков так прозрачно выразил возможность задней мысли этого рода, что Любецкий онемел, — и проект похоронили.
Было много других комитетов, но самый замечательный из них — о способах поощрения торговли и промышленности; это было уже при Вронченко. Как только биржа узнала об этом комитете — все бросилось к Орлову, а Орлов отсылал всех ко мне, отзываясь, что «Фишеру известны все его мысли и что он дал Фишеру подробную программу».
Между нами будь сказано, программа графа Орлова была следующая. Я приезжал к нему накануне собрания комитета с подготовленным журналом и рассказывал, какие заключения я вывел из сведений и какое мнение полагаю правильным. Орлов говорил мне: «Итак, завтра, когда комитет примется за работу, я скажу этим господам…» — и старался повторить все, что я говорил. Когда он зарапортовывался, я останавливал его: «Извините, граф! Здесь есть маленький оттенок, так как это надо понимать совершенно противоположно…» — и снова объяснял ему. Тогда он снова говорил, а на другой день, перед заседанием, он еще раз делал себе репетицию. Комитету он объяснял в предисловии: «Я с правителем дел занимался рассмотрением… и мы нашли…»
Пожалуй, пусть так, но случилось, что среди пересказа Орловым урока, который я в него задалбливал, доложили о князе А. М. Голицыне. Когда Голицын вошел, Орлов протянул мне руку и, отпуская, сказал: «Ну, мой дорогой друг, дайте всем этим мыслям надлежащую форму; надеюсь, что вы меня поняли».
Какой цинизм! В комитете обращались с Вронченко, как с шутом или лакеем. Мы, то есть Орлов, Меншиков и Киселев, по моему соображению, настаивали на том, чтобы отпускная пошлина с сала и пеньки была уменьшена на половину, а Вронченко, опровергая, приводил в опору Листа! Князь Меншиков заметил наивно: «Знаю! Известный пианист!» — «Нет, ваша светлость, не тот!» — заревел Вронченко, подняв руки и приложив их к обеим сторонам головы. «Это его двоюродный брат!» — прибавил Меншиков тем же наивным тоном.
Потом, разбитый со всех сторон, Вронченко рассудил, что тарифные вопросы нельзя решать в многочисленных комитетах (у нас были только министры), что это вопрос то бе или не бе! («То be or not to be»), что в Англии министры не знали даже, что будет говорить Пиль, когда он провозгласил торговую реформу. Орлов сказал ему на это грубо: «Так ты думаешь, что ты Пиль? Давай нам Пиля; мы сейчас разойдемся!» Вронченко струсил. «Извините, ваше сиятельство, ради Бога, если я сказал что-нибудь неловко; право, без намерения».
Что было мне с ним возни! Я его упрашивал согласиться на 1 рубль пошлины с берковца пеньки вместо 2 рублей. «А откуда я возьму 200 тысяч рублей? — отвечал он. — Теперь пенька дает мне 400 тысяч, а тогда будет давать 200 тысяч рублей». Я возражал: вывезут, по крайней мере, на 40 % больше; вы получите не 200, а 280 тысяч рублей, на цену избытка вывоза привезут иностранного товара, с которого вы берете 20 %; вы будете в барышах. «Извините, ваше превосходительство, меня учили, что дважды два четыре и половина четырех — два!..» — «Так потрудитесь подписать журнал». — «Не могу». — «Отчего же?» — «Вы меня очень критикуете». — «Но ведь я написал и ваше возражение». — «Да вы так положительно меня обвиняете!» — «Я ничего не делаю, я записал то, что происходило, разве вы находите, что я что-нибудь пропустил или прибавил?» — «Я этого не говорю». — «А если журнал написан точно, то потрудитесь подписать». — «Не могу!» Наконец уломал я его.
Между тем Орлов, восхищенный «своими идеями», сказал государю, что он получит журнал прелюбопытный и что «мы» разбили в пух министра финансов. «Ну, однако, вы мне не обижайте моего доброго старика», — сказал государь. Орлов пишет мне: «Надо изменить протокол; приходите ко мне». Я как громом пораженный бегу к нему. Он пересказывает мне разговор с государем и заключает решительным тоном: «Надо будет смягчить». Смягчать подписанный уже журнал?! Мы смягчали, смягчали и составили наконец нечто вроде сахарной воды.
Комитет кончился ничем, а сколько он стоил мне работы. Самый результат ее казался мне, и доселе кажется, заслуживающим внимания. Это значит: толочь воду. Спрашиваю себя: кто виноват? Орлов или государь?
Не так действовал Паскевич. В 1848 году, в венгерскую кампанию, на настойчивые приказания государя спешить вперед во что бы ни стало фельдмаршал отвечал: «Не пойду, пока не обеспечу армию продовольствием и госпиталями», — и не пошел, а все-таки остался фельдмаршалом.
Пока перо мое писало имя фельдмаршала, память выдвинула анекдот того времени.
Известно, что Берг интриговал против него и восстановил на него даже австрийского императора. После кампании в Варшаве был выход у наместника; в многочисленной толпе генералов был и Берг. Фельдмаршал, подойдя к нему, произнес знак удивления: «А!..», потом повертел пальцем перед лбом своим и тоном сожаления прибавил: «Слышал, слышал!» — и пошел далее.
Это рассказал мне Одинцов. Старик Корсаков рассказывал мне другой случай в этом роде. Какой-то ничтожный генерал, весь покрытый крестами и медалями, был на выходе наместника. Он перед ним остановился, сосчитал вполголоса кресты, указывая на каждый пальцем, и, не сказав генералу ни слова, пошел далее.
Глава XI
Моя служба в комитетах — Отношение ко мне Киселева и Клейнмихеля — Сметы по постройке Николаевской железной дороги — Возобновление Клейнмихелем Зимнего дворца — Выходка актера Григорьева — Назначение мое директором канцелярии комитета и комиссии по постройке Николаевской дороги — Интриги Чевкина — Мое объяснение с ним — Раскол во мне — Состав комитета под председательством цесаревича — Положение цесаревича — Речь графа Бенкендорфа подрядчикам — Клейнмихель и Бенкендорф — Объяснение с Бенкендорфом — Заседание комитета — Граф Канкрин — Моя просьба об увольнении — Объяснение с Клейнмихелем — Оригинальный способ скорой переписки бумаг — Фрейлина Нелидова — Рассказ об Аракчееве — Семейные отношения Клейнмихеля — Князь Белосельский-Белозерский — Характеристика графа Клейнмихеля — Еще рассказ об Аракчееве
Комитеты, в которых я работал, познакомили меня и с министрами, и с крупными торговыми лицами. Многие на моем месте не упустили бы такого случая утвердить свои отношения; но я, вследствие мизантропизма, отголоска влияний, действовавших на меня в первую молодость, вышел из этих комитетов столько же неизвестным, каким был и до их открытия; я никому не делал визитов, ни с кем не объяснялся по делам: садился за стол, читал и рассылал к подписанию журналы. Только Киселев иногда говорил со мной вполголоса в комитетах, потому что я сидел подле него.
Вспоминаю одно наивное его откровение. Спор шел об уменьшении отпускных пошлин с наших сырых произведений ввиду возникающих новых соперников; я представил комитету поразительные сведения. В Австралии сделан опыт скотоводства: в 1839 году привезено оттуда сала в Англию 200 бочек; в 1840-м — 600 бочек, в 1841-м — 1600 бочек, в 1842-м — 4000 бочек. Если мы продолжать будем дорожиться нашим салом, его бросят. Министр финансов соглашался на спуск пошлин, но с тем, чтобы и Англия спустила пошлины с предметов, которые нам нужны. Все нашли это совершенно рациональным законом взаимности. Тогда я шепнул Киселеву, что здесь нет вопроса о взаимности: не Англии нужно наше сало, а мы просим ее, чтобы она брала его у нас. Киселев с живостью обратился к сочленам: «Это правда. Господа! Какой вздор мы говорим!»
Подобные эпизоды не были редкостью в наших высших коллегиях. Перовский, генерал, один раз не согласился в Государственном совете (шутя) на выпуск новой серии билетов государственного казначейства, на что все прочие были согласны. Его спросили, на каком основании он протестует? «Для того, чтобы Россия не сказала про нас, что мы все за — серии».
Итак, один Киселев узнал меня ближе. Я пользовался его благоволением. Кроме него, Клейнмихель считал меня за человека способного, потому что сознавал ум князя Меншикова и знал, что у него я имел кредит. При всем том про меня говорили в высших кругах то, чего я, однако, вовсе не знал. Только два случая открыли мне это: один раз при открытии какой-то важной вакансии, — если не ошибаюсь, управляющего делами комитета министров, — князь Меншиков мне сказал:
— Вакансия замещена и — не вами!
Я удивился этому выражению и объявил князю, что и не думал об этом месте, и не ожидал его.
— Знаю, — ответил он, — но о вас была речь.
Около этого же времени на вечере у Княжевича (впоследствии министра финансов) сенатор Челищев просил его, чтобы его со мною познакомили. Княжевич повторил мне при этом слова его: «Познакомьте меня с этою восходящею звездою!» — 1841 год был эпохою моего служебного апогея.
В 1841 году Абаза и граф А. А. Бобринский составили проект железной дороги от Рыбинска до Тверды, где она пересекает московское шоссе, — дороги самой простой и дешевой — из деревянных рельсов, обитых листовым железом, по которым предполагалось возить хлеб на тройках. Они просили разрешения составить компанию и рассчитывали, что дорога будет стоить 6 или 7 миллионов рублей. Государь предложил им строить железную дорогу до Москвы с паровыми двигателями. Тут втерся Чевкин и с Мельниковым (теперь министр путей сообщения) составил смету в 37 миллионов рублей. Государь обрадовался, составил комитет под своим председательством, и Чевкин, начальник штаба горных инженеров, сделан членом комитета. Смета была составлена самым наглым образом фальшиво; вагон, например, ценился в 350 рублей, но государю было это приятно, потому что ограниченность расхода служила к его оправданию; к займам тогда еще не привыкли, и потому важным считалось начать с займа незначительного.
Князь Меншиков стал доказывать неверность сметы, подкрепляя свои доводы отчетами иностранных железных дорог, привезенными с собой. На 4 или 5 статье сметы государь прервал его, сказав, что он сам проверит смету, и тем кончились прения. Канкрин и, если не ошибаюсь, Толь говорили, что Россия нуждается прежде всего в шоссе, что железная дорога не может иметь должного влияния на народное богатство, когда к ней нельзя подъехать; Чернышев путался, Левашов говорил общие места из политической экономии.
Проект утвержден в начале 1841 года; затем учреждены: комитет С.-Петербургско-Московской железной дороги под председательством цесаревича и комиссия построений С.-Петербургско-Московской железной дороги под председательством Бенкендорфа. Первый должен был решать главные вопросы, вторая — исполнять. Исполнение было изъято из ведомства путей сообщения на том основании, что если начальник не сочувствует мысли, то нельзя ожидать, чтобы подчиненные исполнили ее с усердием. Это служило внешним поводом к изъятию. Истинный повод заключался в том, что Чевкин надеялся проложить себе дорогу этим путем, а Клейнмихель, только что окончивший возобновление Зимнего дворца, считал себя специалистом по части великих сооружений и надеялся захватить дело в свои руки. Таким образом, оба действовали здесь заодно, чтобы не оставить дела при Толе.
Специализм Клейнмихеля был очень подозрительного свойства. Кажется, в 1839 году сгорел Зимний дворец. Государь собрал лучших архитекторов и просил их «починить ему дом скорее». Они единогласно объявили, что скорее двух лет никак нельзя кончить эту работу, — и не уступали никаким настояниям государя. Тогда Клейнмихель, заведовавший казарменною строительною частью, вызвался возобновить дворец в один год, — и ему дан карт-бланш.
Клейнмихель не тужил о деньгах, дал строительным средствам насильственное развитие; наставил сотни железных и чугунных печей, чтобы сушить кирпичную кладку и штукатурку; 10 тысяч человек работали во дворце зимою при 10–20 градусах мороза снаружи и 20–25 градусах тепла внутри, штукатурили, полировали, золотили! Дворец был готов через год, но готов только для смотра, а не для обитания.
Усиленная нелепо, невежественно топка высушила наружные оболочки, заперев ими исход внутренней сырости. Как только эта топка заменилась нормальною, сырость стала выступать, позолота и штукатурка стали отваливаться, и, наконец, обрушился весь потолок Георгиевской залы, через два часа после окончания бывшего в ней какого-то собрания.
Тогда возобновилась работа с новою яростью; несколько тысяч рабочих перемерло от горячки вследствие перехода из жары в стужу. Сметные суммы были далеко передержаны, а чтобы в этом не сознаться, Клейнмихель не платил подрядчикам; весь город кричал о злоупотреблениях, а между тем еще до обвала потолка Клейнмихель возведен в графское достоинство: в гербе, ему данном при этом случае, изображен дворец, а надпись гласит: «Усердие все превозмогает!»
Такой девиз и медали, данные рабочим, обнаружили, что государь смотрел на починку дворца как на государственный подвиг.
Актер Григорьев едва ли не первый открыл смешную сторону этого дела; пуская остроты каждый раз, когда играл роль щукинодворца в пьесе «Ложа 1-го яруса», и получая за них даже подарки от государя, он позволил себе явиться на сцену с медалью; сцена представляла кассу Большого театра. Сторож этой кассы, увидя медаль, спросил: «Под Турком ли он получил медаль или под Варшавой?» Григорьев отвечал: «Никак нет-с, в Зимний (дворец) песок возили!» Весь партер захлопал, но Григорьева посадили на гауптвахту.
В это же время началась связь государя с В. А. Нелидовой, родственницей графини Клейнмихель, и Клейнмихель играл здесь значительную роль посредника: это усиливало его кредит. Зато все его возненавидели: одни — из зависти, другие — из страха пред будущим его влиянием, но почти все скрывали свои чувства или умеряли их, кроме Бенкендорфа, который выходил из себя, принимал жалобы от обиженных подрядчиков, доводил до высочайшего сведения все несправедливости Клейнмихеля, — и чем бесплоднее оказывались его усилия опрокинуть Клейнмихеля, тем более ожесточался Бенкендорф, — и вдруг узнали, что Клейнмихель назначен членом и комитета, и комиссии железной дороги!
Чевкин стал эксплуатировать страсти. Он вызвался быть управляющим канцелярией комитета и комиссии, на что согласились и оба председателя. Расчет его был верен. Ни цесаревич, ни Бенкендорф не были специалисты; ни цесаревич, ни Бенкендорф не решились бы докладывать государю технические вопросы. Очевидно, что они брали бы с собою к государю Чевкина для докладов или посылали бы его одного, — а ему только того и хотелось.
Но и Клейнмихель не дремал: он уже нашептал государю, что при рассеянном Бенкендорфе нельзя ожидать скорого исполнения, если канцелярия не будет поручена деятельному лицу. Было условлено, что главным начальником канцелярии будет Клейнмихель. Первый пример отстранения председателя от начальства над канцелярией. Клейнмихель обратился к князю Меншикову, чтобы он «уступил» ему Фишера; я отозвался, что не хочу этого места, но князь уговорил меня.
Он говорил: «Вы проработаете недолго; через год не хватит денег — и вы освободитесь, но между тем успеете сблизиться с цесаревичем». Поднесли государю указ о моем назначении, и я стал директором канцелярии комитета и строительной комиссии С.-Петербургско-Московской железной дороги.
Этот указ изменил вид всей комедии. До этого акта велась против графа Толя одинокая интрига; под него рыл Чевкин, в надежде, что будет докладывать государю дела железной дороги и понемногу столкнет Толя, на которого государь дулся за то, что он не аплодировал проекту; ту же участь разделяли князь Меншиков и Канкрин, но последний уступил молча, принявшись за совершение займа, а первые двое сохранили за собою славу людей несочувствующих. Чевкин сладил, что в комитет и комиссию посажены были Дестрем и Готман, генералы путей сообщения. Назначение в главный комитет директоров департаментов при главноуправляющем было такою же ненормальностью, как потом подчинение канцелярии не председателю. После того представили государю, что полковники Крафт и Мельников, проектировавшие дорогу, будут в фальшивом положении под начальством Толя, — и вследствие этого высочайше повелено состоять им при особе его величества; всю эту интригу вел Чевкин через Бенкендорфа, между тем как Клейнмихель вел свою мину против них: мое назначение было для Чевкина камуфлетом, покуда ему одному, потому что Бенкендорф не понял важности этого факта.
Клейнмихель послал меня тотчас к Чевкину «за бумагами», потому что Чевкин управлял уже недели три канцелярией. Когда я к нему явился, очень скромно, он спросил меня, где я воспитывался, и я имел глупость отвечать ему на это; но едва глупость эта была совершена, я понял ее размеры, и мне стало досадно. На следующий его вопрос: знаю ли я по-английски? — я умышленно отвечал отрицательно. Чевкин заметил: «Любезный! Без английского языка тут быть нельзя! Мы выписываем совещательного инженера, который говорит только по-английски!» Меня взорвало, и я объявил его превосходительству, что приехал к нему не для экзамена, а за бумагами. Чевкин отозвался, что не получил еще указа, и потому бумаги мне отдать не может.
Я поехал к Клейнмихелю, рассказал ему, что было, и объявил, что если каждый член комитета будет считать себя моим начальником и трактовать меня, как Чевкин, то я не останусь ни одной минуты, хотя бы мне предложили весь капитал, ассигнованный на сооружение дороги. Клейнмихель потирал себе руки, приговаривая: «Я его, каналью, заставлю просить у вас прощенья».
На другое утро поехал он к Чевкину, объяснил ему с участием, что я считаю себя им обиженным и прошусь прочь; что он не знает, как доложить государю, и проч. Решили, что Клейнмихель даст Чевкину случай со мной объясниться. Вечером я был приглашен к Клейнмихелю для совещания о штатах. Там нашел я и Чевкина. Через четверть часа вызвали Клейнмихеля, и когда я остался один с Чевкиным, он протянул мне руку и сказал:
— Константин Иванович, не сердитесь на меня! Я поступил неблагоразумно, но я был под влиянием гнусной интриги, веденной против меня; когда вы ближе узнаете лиц, с которыми будете иметь дело, — вы увидите сами, что я не худший…
Мы поцеловались.
Так я попал в новую колею, но, вступив в нее, не согласился оставить князя Меншикова: это было непременным условием. Так навалил я на себя дела финляндские все, морские образовательные, морскую кодификацию и дела по сооружению железной дороги, — не считая комитетов, где я был правителем дел. Финляндия меня наиболее интересовала, но экстренность дел по железной дороге меня более поглощала материально; во мне произошел раскол.
Укрепившись в своем новом положении, Клейнмихель начал и сам интриговать против Толя. Он уверял государя, что офицеры, нужные на постройку железной дороги, не могли оставаться в ведении главноуправляющего, у которого особенная часть, шоссе и каналы: человек 30 офицеров были отчислены от ведомства корпуса путей сообщения и введены в ведение Клейнмихеля, оставаясь в списочном отношении по тому корпусу, — третья аномалия. Но едва Толь помер, что последовало в то же лето 1842 года, а за ним и Бенкендорф, едва Клейнмихель заступил на место Толя, как он же доказал государю несообразность отделения железных дорог от заведования главноуправляющего путями сообщения; строительная комиссия упразднена, а ее канцелярия обращена в департамент железных дорог, которого я назначен директором — без моего ведома. Так попал я в ряд чиновников, в первый раз по оставлении министерства финансов, однако же и тут я настоял на том, чтобы вместе с тем оставался по особым поручениям при начальнике Главного морского штаба и финляндском генерал-губернаторе.
С этих пор в памяти моей роятся воспоминания о событиях моей тройственной службы. Начну с железной дороги.
Главный комитет железной дороги, под председательством цесаревича, состоял из Канкрина, Левашова, Бенкендорфа, Орлова, князя Меншикова, Киселева, графа Толя, Клейнмихеля, Дестрема, Гетмана, Чевкина и графа Бобринского. Толь вскоре помер, как и Бенкендорф, а через год Вронченко заменил Канкрина, то есть не заменил, а только заместил. Перед кабинетом цесаревича, в первой комнате за приемною, ставили ряд столов, если не ошибаюсь, ломберных, покрытых сукном. Цесаревич садился посредине длинной стороны, подле него справа — Канкрин, слева — Левашов, первый — насупленный, неподвижный, с зеленою ширмою на глазах, второй — чопорный, накрахмаленный, или, как выражался князь Меншиков, заимствуясь из «Энеиды» Котляревского: «як на аркане жеребец». Прямо против цесаревича было мое место как правителя дел, подле меня, справа, садился, ниже своего чина, Киселев, мой тогдашний приятель, слева — Клейнмихель.
Из всего этого состава только четверо исполнены были любви к делу: сам председатель, видимо, польщенный своим званием (это было едва ли не первое важное дело, ему вверенное), но молодой, неопытный, он, видимо, затруднялся останавливаться на решении ввиду заявлений разногласящих; потом Канкрин, Киселев и Бобринский — полны желания помочь делу. Орлов был величайший невежда, искавший преимущественно случая позабавить цесаревича. Левашов подбирал звучные фразы из политической экономии и их плотностью старался возместить жидкость идей, вроде того, как китайцы вывешивают перед своими батареями изображения огнедышащих чудовищ, чтобы сделать страшнее свою артиллерию.
Бенкендорф являлся в комитет, как кавалер на раут — со всеми вежливый и обязательный, всегда рассеянный, но с четверти второго часа приходивший в тревожное состояние; тревожность доходила до лихорадочного состояния после половины второго, а в три четверти второго он просил позволения ехать по важным делам службы; едва он затворял за собою дверь, следовал общий смех, потому что все знали, что в два часа каждый день он являлся к мадам Крюденер.
Меншиков казался мало заинтересованным, или, вернее, имел вид, как будто пригласили его принять участие в комнатных играх, и если говорил, то шутя или иронически. Вронченко разыгрывал роль шута. Когда он приехал в первый раз, то обратился к Дестрему, такому же волоките, как и он сам: «Мусью Дестрем, кесь ке се? Что это? Вы толстеете, а я худею». — «Это показывает, господин министр, что, отчего вы худеете, я оттого полнею». (Общий смех.) Вронченко сделал на это очень мастерски такую мину, что показался еще глупее, чем был. (Гомерический смех.)
Когда я прочитывал статьи новой сметы, то после каждой произнесенной цифры Вронченко делал на стуле комические прыжки, и чем более смеялись, тем более он кривлялся. Клейнмихель и Чевкин имели вид сосредоточенный, оба равно под влиянием преобладающей мысли, как бы друг друга укусить; в свободные от этой мысли минуты Чевкин вторил Левашову в теориях политической экономии, но с некоторою приправою металлургии.
А. А. Бобринский вообще говорил редко; он вставал почти исключительно ради своевременных вопросов, — и тогда говорил с жаром. Кто знал его ближе, тому он известен был за человека кроткого и в высокой степени приличного, но в голосе его была какая-то жесткость, которая незнакомым могла выказывать его за человека, что называется, резкого. Клейнмихель выходил из себя каждый раз, когда Чевкин и Бобринский начинали говорить. Злобу его на Чевкина я понимаю, но что вооружало его против Бобринского — это осталось для меня загадкою.
Дестрем, гасконец в полном смысле слова, издавал звуки, как Мемнонова статуя пред солнечным лучом. Добрый и честный, но апатичный Готман был невинным эхом Дестрема. Председатель цесаревич смотрел на дело с любовью, но и с неопытностью юноши. Вся его личность производила на меня глубокое впечатление; я проникался чувством живейшего участия пред его взором, исполненным кротости и доброты, и одушевлялся глубокою признательностью к его необыкновенно приветливому обращению со мною (к живейшей досаде графа Клейнмихеля, которого он трактовал, видимо, не так дружески, как меня).
Как все переменилось! Государем он принял на себя вид суровый, неподходящий к его натуре. В отношении ко мне он не только перестал быть приветливым, но, казалось, был ко мне недоброжелателен, — а за что? — не знаю и не постигаю. Трудна была его задача! Понимать дело в существе он не мог, потому что никто не показывал ему России, — а научиться делу в этой пестрой сходке надутых ораторов, остряков, шутов, интриганов и невежд было еще менее возможно. Лучше бы оставили его наедине с Канкриным, Киселевым и Бобринским, между критикою глубокого ума, хотением ума впечатлительного и практическим знанием промышленных сил России. Живость Киселева и Бобринского возбуждала бы его духовные силы, а холодность Канкрина служила бы конденсатором мечтаний, иногда парообразных, первых двух. Это было бы сочетание классицизма с романтизмом; скептицизма, сангвинизма и гуманности, а прочих бы — кроме Толя и Меншикова — в балаган. Этих двух скоро спустили.
Собрался Главный комитет; прочитали указ о моем назначении. Я, по свойственной мне нелюдимости, не сделал ни одного визита; представился только цесаревичу, который принял меня очень благосклонно и объявил, что если мне нужно будет его видеть, то я могу являться в 10 часов утра; если же желаю говорить с ним без свидетелей, то в 6 часов, после обеда. Я не поехал даже к Бенкендорфу до того времени, пока нужно было собрать комиссию.
Бенкендорф понял уже, что против него сделано. Когда Главный комитет положил заготовить от казны землекопные инструменты, Бенкендорф назначил присутствие у себя, а не в комнате, которую Клейнмихель приготовил для этой цели в здании экзерциргауза, у Зимнего дворца, где помещалась тогда канцелярия, а теперь гвардейский штаб. В комиссии заседали граф Клейнмихель, Чевкин, граф Бобринский, Дестрем, Готман, Крафт и Мельников. Когда собрались подрядчики, Бенкендорф сказал им речь:
— Господа! Прежде всего я обязан предупредить вас, что вас здесь не будут обсчитывать; вы будете иметь дело с людьми честными, и мы надеемся, что будем иметь дело с такими же. Я для того именно и посажен сюда государем, чтобы наблюдать за справедливостью расчетов с вами.
Это было не в бровь, а в глаз. Клейнмихель побледнел, однако же не сказал ни слова Бенкендорфу после заседания. Я было забыл, что в то время, когда я поехал к Бенкендорфу с просьбою собрать комиссию, он не знал еще, что канцелярия официально поручена ведению графа Клейнмихеля. На доклад мой, что граф Клейнмихель поручил мне просить и т. д., он взволнованным голосом отозвался, что не граф, а он — председатель, что это его дело, что я обязан был спрашивать его приказания, а не графа, — говорил это с большою живостью жеста, то устремляя указательный палец на меня, то ударяя им себя в грудь. Когда он кончил, я доложил ему, что канцелярии объявлено высочайшее повеление на днях быть в ведении графа Клейнмихеля, что я считал обстоятельство это уже известным его сиятельству и являюсь сегодня к нему как посланный от своего прямого начальника. Бенкендорф смягчился и отпустил меня довольно милостиво.
Между тем Клейнмихель подрывался под кредит Бенкендорфа средствами чисто экзекуторскими. Чтобы заставить председателя ездить к нему в канцелярию, а не собирать комиссии у себя, он составил план расположения комнат канцелярии, а одну залу отделил для присутствия комиссии; на плане было это написано, и государь утвердил его. Очень нужно было занимать самодержавного расстановкою мебели и развешиванием ярлыков над дверьми! Копию с высочайше утвержденного плана препроводил он к Бенкендорфу и затем поручил мне доложить ему, что в канцелярии собралось довольно много дел к докладу и потому не угодно ли будет назначить день для собрания комиссии. Бенкендорф назначил число и прибавил: «У меня».
В это время Клейнмихель пошел еще более в гору. Чернышев послан в Грузию с Позеном устраивать тамошнюю администрацию, равно как и в землю донских казаков — устраивать (читай: разорять) этот край, и на время его отсутствия Клейнмихель сделан управляющим военным министерством. Когда я приехал к нему от Бенкендорфа, он сидел в доме военного министерства, в кабинете министра, и слушал доклад директора канцелярии М. М. Брискорна.
Сцена, возбужденная моим донесением, была одною из самых оригинальных. Граф Клейнмихель взбесился:
— Да какое же он имеет право собирать у себя комиссию, скотина! Какое право он имеет, каналья! По какому праву, такой-сякой. Какое право? — повторял граф, смотря пристально на Брискорна, возвышая постепенно голос и пересыпая эти вопросы крупными русскими междометиями.
Директор спокойно заметил: «Не имеет никакого права!» Только что Брискорн выговорил эти слова, граф с яростью стал повторять: «Не имеет никакого права!» — дополняя эту фразу крупными словами и глядя на директора так гневно, как будто он-то и был всему виною. Брискорн опять с прежним спокойствием заметил: «Решительно никакого права!»
— Решительно никакого права! — загремел опять управляющий военным министерством, повторив это раз десять. Затем он начал было успокаиваться и заметно упавшим голосом сказал: — И надпись есть на дверях: «Присутствие строительной комиссии С.-Петербургско-Московской железной дороги».
— Так и надпись есть? — спросил хитрый директор, сделав вид удивления. — После этого какое же он имеет право?
Это заключение произвело действие огня, в который впрыснута вода. Клейнмихель опять стал кричать:
— И надпись есть: присутствие etc. Какое же право? Каналья!
Сцена была преуморительная. С одной стороны — очевидные сарказмы, не замечаемые только тем, кого они поражали; с другой — яростное повторение сарказмов на самого себя. Клейнмихель послал за Дубельтом, начальником штаба корпуса жандармов, и просил его растолковать Бенкендорфу, что комиссия должна собираться в зале, высочайше для того назначенной, но Дубельт отозвался, что это не его дело и он не смеет в него вмешиваться. Наконец Клейнмихель обратился ко мне с просьбою уговорить графа Бенкендорфа.
Я отправился к нему, доложил содержание дел, назначенных к докладу, и, собирая бумаги, прибавил:
— Ваше сиятельство желали бы, чтобы комиссия собралась у вас. Для меня это удар! Только что вступив в должность, я не успел еще ознакомиться с предшествовавшими делами; если у меня спросят какую-нибудь справку, я рискую не знать, что отвечать; между тем, имея возле мою канцелярию, я мог бы справиться в архиве.
— Ну! Я приеду к вам, но это только для вас!
Так я оказал услугу Клейнмихелю, сознаюсь себе, не совсем рыцарскую: первый факт, внушивший мне отвращение к моему новому званию после примирения с Чевкиным. Потом было бурное заседание Главного комитета: решался вопрос, вести ли дорогу прямо или с коленом на Новгород. Левашов, Киселев и, сколько помню, граф Толь, которого я только раз видел в комитете, находили, что железная дорога должна связывать города, не гоняясь за прямизною линии; Чевкин, Клейнмихель и другие настаивали на краткости пути. Канкрин и Меншиков молчали. Когда цесаревич спросил Меншикова, какого он мнения, князь отвечал:
— Так как 34 миллиона достаточны будут только верст на 150, то я полагаю лучше вести дорогу на Новгород и тем кончить, чем остановиться на конце, упирающемся в непроходимое болото.
Все расхохотались, но цесаревич принял этот отзыв неблагосклонно и сказал с досадой:
— Я знаю, что вы противник железной дороги.
Решено: миновать Новгород. С этих пор Меншиков не ездил более в комитет.
Затем рассматривали в комитете проекты столичных станций: Мельников нарисовал великолепные картины, изображавшие с. — петербургскую товарную станцию. Предполагалось под Невским монастырем вырыть большой бассейн, окружить его тремя рядами каменных магазинов, могущих вместить до 20 миллионов пудов товара, и соединить эти склады рельсовою ветвью с главным путем. Бенкендорф встал, разглядывал сквозь лорнет рисунки, восклицал «прелестно» и «делал ручки» Мельникову, приставляя лорнет к губам и потом наклоняя его перед автором; Орлов провозглашал свои русские комплименты «молодец, хват» и т. п. Клейнмихель улыбался, как будто он сам был сокровенный автор этого проекта; Меншикова и Толя не было. Канкрин — с зеленою ширмою над глазами и насупленный — молчал.
Наследник придвинул к нему план и сказал ласково: «Егор Францевич! Что вы об этом думаете?» Канкрин, взглянув на план исподлобья, спросил Мельникова, не копия ли это с лондонского или другого английского? Мельников сказал, что нет, покраснев. Тогда Канкрин сказал цесаревичу, что такие проекты разоряют государства и для России вовсе не годятся; что наши громоздкие товары отпускаются морем, что барки идут с ними до устьев Невы и там складываются в буяны, стоившие городу больших капиталов, и прямо идут в Кронштадт; что если заставить барки сгружаться под Невским, то доставка их до устьев посредством железной дороги вдоль Обводного канала до Гутуева острова (как предположено) обойдется в десять раз дороже, чем проплытие тех же барок по Неве до буянов; что эти буяны останутся без употребления и город лишится дохода, без которого он не может существовать. Кто-то заметил, что эти пакгаузы понадобятся для склада иностранных товаров впредь до отправления их в Россию по железной дороге, но Канкрин прибавил, что иностранные товары можно перевозить с биржи на извозчике прямо в вагон. Все это он говорил протяжно, спокойно, однозвучно, как ответы оракула.
В заключение Канкрин сказал:
— Ваше высочество! Я вижу, что мы идем в подражание Англии и Америке, но сравнивать нас с этими странами все равно, что сравнивать английское сукно с солдатским. Мы видим, что английская королева начала уже просить милостыню по воскресеньям (ссылка на то, что, по случаю неурожая, пасторы после обедни вызывали прихожан к благотворительности именем королевы), а если мы станем подражать Англии, то скоро придется нам просить милостыню и по будням.
Все молчало, не было ни смеху, ни возражений, ни даже резолюции по этому вопросу. Наследник перешел к другому вопросу. С тех пор не было помину о товарной станции с бассейном и пакгаузами; ее нет и доселе (в 1864 году), через 22 года после описанного здесь заседания.
Прошло месяца три со времени моего назначения. Клейнмихель прислал ко мне высочайшее повеление и подписанную уже им исполнительную бумагу, не мною заготовленную, с тем, чтобы я скрепил ее и отправил. Мне казалось, что в бумаге повеление выражено неточно. Я поехал к графу; он был у государя. Приехав домой, он спросил меня коротко: «Что такое?» Когда я сказал, зачем приехал, он отвечал с дурно сдержанным нетерпением: «Так вы, стало быть, не читали высочайшее повеление!» При слове «не читали» сделал быструю присядку, согнув оба колена, и, расстегивая мундир, сказал камердинеру: «Сними мундир!»
Я вышел в смущении, приехал домой и написал графу, что вслед за моим определением я объявлял ему, что ни за какие блага не останусь в настоящем звании, если моя служба сопровождаться будет обстоятельствами, несовместимыми с моими правилами и свойствами, что теперь такие обстоятельства наступили и что потому я прошу уволить от звания директора канцелярии, если мне не будет дана уверенность в том, что я не буду впредь встречаться с ними.
Записка моя не застала его в Петербурге. Ее отправили в Петергоф, и оттуда он прислал ко мне фельдъегеря; на моей записке изъявлялось, что он не понимает записки и просит приехать к нему в Петербург вечером. Я выразил ему без церемонии, что не привык к такому тону, в каком он говорил со мною, что начальники при мне не раздевались, что если его другие подчиненные терпят подобное, то они, вероятно, люди недобросовестные, но что ни я, ни другой честный человек не согласится быть на службе в оскорбительном положении.
Клейнмихель приводил в оправдание, что он завален делами, измучен, с 5 часов утра до обеда не имел времени напиться чаю и пр. На это я объяснил, что вполне понимаю его утомление, удивляюсь даже, как он может переносить подобные труды, но никак не могу вследствие этого подчиняться оскорблениям.
Пошли разные нежности; граф повел меня к графине, представил ей меня как своего верного помощника и друга, которого он любит и уважает и т. д. Я пил у него чай. Потом пошли мы в кабинет. Прощаясь, я ему сказал, что все-таки лучше было бы нам теперь же расстаться; что, как я заметил, он приучен уже своими подчиненными к непринужденности, которой я переносить не в состоянии, но он дал мне слово, что никогда подобного столкновения не повторится, и, надо отдать ему справедливость, он сдержал слово.
В самом деле я имел случай выяснить себе привычки и взгляды графа Клейнмихеля в отношении к своим подчиненным. Когда я прочитал ему проект штата канцелярии (это было в четверг на Масленице), он просил меня велеть переписать его, чтобы он мог поднести его к государю в понедельник. На доклад мой, что невозможно переписать листов 30 чисто в такое короткое время, он возразил мне шутя:
— А разве вы не знаете, что в службе хоть тресни, да полезай!
— Знаю, граф, что это говорил какой-то солдат своему земляку, но ведь и рассказывают этот факт как забавный случай.
Он рассмеялся, однако же приказал отдать брульон [черновик] Заике с приказанием, чтобы был переписан к 10 часам утра в понедельник.
— Граф, — сказал я, — если для меня невозможно, то и для него будет тоже!
— Это уж его дело! — сказал граф.
Отдал я бумагу Заике, который чуть не заплакал. В понедельник я спросил этого Заику (правильнее было бы звать его Зайка), исполнил ли он приказание? «Слава Богу! Еще на два часа раньше было готово!» При этом он рассказал мне и способ исполнения: у него есть списки писарей, пишущих схожим почерком; он послал трех фельдъегерей под качели ловить писарей данного списка и приводить к нему; наловили пять или шесть человек; расшили тетрадь, разделили отрывки по рукам с приказанием «пригонять» страницы, — и рукопись готова! Искусство, достойное лучшего применения.
В другой раз я поражен был деспотизмом тем более, что он был совершенно бесплоден. Клейнмихель, садясь со мной в коляску, чтобы ехать в Петергоф, отдает пакет фельдъегерю, стоявшему у подъезда: «Отвези это ко мне в Петергоф: я сейчас туда буду». Около Стрельны обгоняет нас, ехавших в карьер, фельдъегерь дьявольским аллюром! Зачем этот расход государству? За что это тиранство лошадей?
В третий раз я приехал к графу по его зову, но узнал, что его дома нет и что он будет через час. Я уехал и через час опять приехал. Узнав об этом, он обиделся. В это время сила его была огромная, и, как кажется, я нашел к ней ключ: раз, будучи вечером у графини, когда назначен был маскарад в зале Дворянского собрания или Большого театра, застал я у графини фрейлину Нелидову. Граф подходил к ней беспрестанно и о чем-то просил ее, — как видно было, безуспешно. Слышал я раза два слово «поезжай», на что она ответила, смеясь: «Отвяжитесь от меня!»
Из кабинета графа проведен был подземный электромагнитный телеграф, тогда еще единственный, в Зимний дворец. В кабинете сидел безвыходно офицер инженерный, который по временам выходил в гостиную с докладом: «Государь стучит!» В этот вечер офицер вбегал каждые десять минут, и каждый раз Клейнмихель удваивал усилия упросить Нелидову. Наконец, уже около одиннадцати часов, она сказала вслух: «Ну хорошо, хорошо! Надоели вы мне!» Граф побежал стремглав в кабинет, сказав Нелидовой: «Ах, спасибо, душенька!» — Ясно!
Клейнмихель начал службу у графа Аракчеева и был долгое время начальником его штаба; немудрено, что за ним осталась и система Аракчеева. Хорош был! Один только раз видел я его вблизи — в 1824-м или 1825 году на паперти Петергофского дворца против «Самсона», во время иллюминации 22 июля, в именины императрицы Марии Феодоровны. Вся паперть покрыта была сплошною массою народа, и только около одного старика, высокого роста, в снятой форменной фуражке и изношенной военной шинели, оставалось как бы незанятое место у перил. Я вел сестру, не видавшую никогда этого праздника; мне самому было лет 18, я не обратил внимания на ненормальность этого простора и продвинул сестру к перилам. Сестра моя, m-me Villiers, была красавица. Генерал-адъютант в полной форме, который стоял за грязным стариком и которого я прежде не заметил, взял меня за руку и, останавливая, сказал «нельзя», но старик, взглянув на 17-летнюю красавицу, сказал: «оставь», и нас оставили в покое.
Тут я заметил, что за стариком в фуражке и шинели, единственных в этот вечер во всем парке, стоял не один, а три генерала. В недоумении стал я рассматривать старика; подлая, грубая, солдатская рожа с кривым ртом и кривою спиною; старик начал произносить какие-то шуточки гнусливым тоном, не помню какие, но я сказал сестре «уйдем» и вывел ее из привилегированного соседства. Старик обернулся ко мне с цинически-насмешливою улыбкою, а генералы взглянули на меня как будто не то с удивлением, не то с любопытством. Это был Аракчеев, вице-император, если не больше, ибо император был в парке в мундире и эполетах; вся свита одета налегке, а Аракчеев — как денщик, идущий из бани. Хорош был и телом и душою!
Один раз, дожидаясь приема у графа Клейнмихеля с полчаса, я сказал: «Какая скука ждать, не думая о том, долго ли это будет». Бывший тут же старик Ольденборгер, директор типографии военных поселений, вздрогнул и взглянул на меня с каким-то трепетом.
— Что с вами? — спросил я.
— Ах, — отвечал он мне с участием, — надобно быть в приемных очень осторожным; я расскажу, что со мной случилось. Ждал я в приемной у графа Алексея Андреевича, ждал часа два, — ну, молод был; дел была пропасть; вот и сказал: «Ах, скоро ли примет меня граф?» Адъютант входил к графу и выходил; звали к нему того, другого, — а я жду. Перед обедом графа адъютант объявляет мне, что его сиятельство приказал мне прийти завтра в восемь часов. Пришел. Жду, жду. В два часа граф проходит мимо, со шляпой, не глядя на меня; едет со двора, в четыре возвращается, проходит мимо, не глядит на меня, — а я дошел почти до обморока. Слышу: сел обедать. В шесть часов приказывает мне явиться завтра в семь часов; я смекнул, в чем дело. Иду на другой день, взял в карман корочку хлеба и несколько мятных лепешек, — опять жду, но уже спокойнее. Наконец в двенадцать часов зовут меня к графу. Когда я вошел в кабинет, граф говорит мне: «Ну что, любезный, привык?»
Как ученик такого воспитателя, Клейнмихель был мягкосердечен. Таков он был и у себя дома при второй жене. Первая жена его была Кокошкина, вышедшая за него против воли родителей. Он оказался несостоятельным обратить эту девицу в супругу и вдобавок требовал от нее благосклонного приема волокитства Аракчеева; он насильно сажал ее к окну, когда Аракчеев проезжал мимо, и щипками заставлял ее улыбаться. Так по крайней мере рассказывала она сама. Начались домашние распри, в которых утешил ее двоюродный брат Булдаков. Клейнмихель жаловался Аракчееву, и Булдакову было высочайше запрещено жить в том городе, в котором живет г-жа Клейнмихель, но она сама стала ездить туда, где жил Булдаков: отсюда — юридическая компликация. Наконец Клейнмихель, вероятно, не имевший уже прежних интересов держать у себя непокорную жену, вошел с нею в сделку. Она уступала ему свое приданое, а он обязывался быть виновным в нарушении брачной верности, и они развелись. Г-жа Клейнмихель вышла за Булдакова, с которым она была очень несчастна, а Клейнмихель женился на вдове Хорвата, рожденной Ильинской, богатой, милой женщине, по вдовьему положению своему облегчившей новому мужу способы исполнять супружеские обязанности.
С этих пор Клейнмихель изменяет совершенно свой характер семьянина; сначала он должен был сдерживать порывы в опасении, чтобы не ссориться с богатою женою и с родственницею Нелидовых, которых сестра Варенька уже начинала нравиться государю; потом, под влиянием кротости жены и сам будучи не злым человеком, отвык от домашних ругательств, и когда я с ним познакомился, он был добрый муж, нежный отец и довольно кроток со своей личною прислугою; злым оставался он только к прислуге, состоящей на казенном жалованье, да еще вопрос, не столько ли же виноваты в том и эти слуги отечества, которые добровольно унижали себя до уровня лакеев. Со мной Клейнмихель был всегда вежлив и осторожен.
Клейнмихель хвастался быстротою своей работы и вследствие этого не оставлял на своем письменном столе ни одной бумаги: все, дескать, исполнены! Но дело в том, что все бумаги были отдаваемы Заике, который был всегда в канцелярии, помещенной в том же доме, следовательно, бумаги были на столе, но только не в кабинете. При начале сооружения железной дороги государь был так занят этою мыслью, что по десяти раз в день посылал к графу Клейнмихелю вопросы или требовал планы, а он посылал ко мне за сведениями. Чтобы выйти из положения, которое угрожало мне, положения, подобного тому, в каком находились Заика и телеграфный офицер, я приготовил нарядный план железной дороги, реестр распоряжений, предписанных Главным комитетом, и свод различных сведений и представил их Клейнмихелю с просьбою оставить это у себя на случай вопросов от государя, но он не хотел принимать бумаг:
— На что мне? Я не люблю столов с бумагами; понадобятся, так я пришлю к вам за ними.
На это я заметил графу, что государь спрашивает очень часто по вечерам; что я никак не могу обещать ему быть по вечерам дома; что у меня есть обязанности светские и семейственные, — да притом есть и обязанности по другой службе, что я и от своих начальников отделения могу требовать утро, а не вечер. Граф, казалось, был скандализован таким «фармазонством», однако ж принял бумаги.
Я все-таки думаю, что граф Клейнмихель выше своей репутации и лучше большинства своих сверстников. Он льстил страстям государя и позволял себе интриги, но много ли людей у нас, которые в его положении этого бы не сделали. Чернышев и Воронцов далеко перещеголяли его и в том и в другом, только делали это не так грубо, но чем независимее и воспитаннее они были, тем постыднее их действия.
Клейнмихель был совершенно чужд тех познаний, какие нужны в должностях, им занимаемых, — но зачем назначали его в эти должности; много ли, опять спрошу, у нас людей, которые отказались бы от высокого звания по сознанию своей неспособности? Он был груб со своими подчиненными, но какие же подлецы и эти подчиненные: не говорю о Заике, бедном, имеющем огромное семейство, — но о Кроле, Арцыбушеве, Кривошеине. Даже князь Белосельский-Белозерский вел себя неприлично своему имени.
Он взял на себя звание полицейского инспектора по линии работ железной дороги. Узнав, что будет граф, князь Белосельский велел усыпать песком все те проходы, по которым, по его расчету, пройдет Клейнмихель, и обсадить их с обеих сторон елками: жандармам и лекарям лазаретов — не казенным, а содержаемым подрядчиками, — дал писаные инструкции, в которых были изложены программы, где стоять, как поклониться и как отвечать на каждый вопрос. После каждого продиктованного ответа Белосельский прибавлял в инструкции слова «и более ни слова!» или «и более ни полслова!». Священникам походных церквей приказал выходить навстречу с крестом. Священники спросили, однако, по этому предмету архимандрита, который запретил исполнять это приказание. Мне жаль, что я не сохранил экземпляра этой инструкции; но она была переведена и напечатана в каком-то парижском «Revue». Лаваль, приехав обедать к Белосельскому, сказал ему: «Я был зол вчера, читая газету, в которой мошенник-журналист приписывает вам глупости, недостойные дворянина».
Слава Клейнмихеля заключалась единственно в точном и скором исполнении; за всякую неточность государь «распекал» его, и он боялся его до безумия. Поставленный на должность техническую, сознавая свою техническую неспособность, он опасался ошибок тем более, что сам не умел их видеть. В таком положении он полагал свирепостью внушить подчиненным столько страху, чтобы они сами опасались ошибки. «Делайте как знаете, я дела не понимаю; но беда вам, если сделано будет дурно» — так можно определить систему его поведения с подчиненными, и это тем более верно, что подтверждается его домашним бытом, в котором он не был обязан давать отчет другим; со слугами, за исключением минут вспыльчивости, он был даже слишком мягок. Я помню, что на мое замечание, что в кабинете угарно, он сказал камердинеру открыть трубу; камердинер находил это ненужным и, несмотря на повторенное приказание, не открыл ее и вышел. Граф сказал только вслед ему: «Экая каналья!»
Но в графе Клейнмихеле есть и хорошие качества, какими не могут похвалиться многие и многие из высоких особ. Он сердился на противоречия, не допускал никакого сопротивления по принципу, однако же ценил независимость мнения.
При рассмотрении в технической комиссии проекта моста через Волхов произошло разногласие: Мельников составил проект моста без разводной части, достаточной высоты арок для прохода судов с сеном и дровами в обыкновенные весенние воды; я полагал, что разводная часть необходима, чтобы сенной и дровяной промысел, с одной стороны, и снабжение столицы, с другой, не могли подвергаться опасности; Мельников доказывал, что высокие вешние воды, при которых барки не прошли бы под мост, случаются в 20–25 лет один раз, а разводная часть требует 40 тысяч рублей лишнего расхода, а я говорил, что когда правительство решается строить в долг 600 верст железной дороги для облегчения сообщений, то странно было бы этим самым делом запирать другой путь сообщения. Бобринского и Чевкина не было в комиссии, а инженеры все, по духу корпорации, пристали к Мельникову: я остался один. Граф Клейнмихель ужасно боялся разногласий; они могли подать государю повод заговорить с Клейнмихелем о подробностях, где он легко мог выразить слишком ясно меру своего невежества. Он стал меня упрашивать присоединиться к другим, и как упрашивать! Разумеется, труд был напрасен. Между прочим я сказал графу, что не признаю даже, что за Мельникова большинство, что за него Дестрем — да и то лишь для того, чтобы не быть за меня, против своего ученика, а что все другие подписались с Дестремом бессознательно. Мы расстались довольно дурно, а граф принялся, вероятно, за другой конец.
Через неделю Дестрем, войдя в комиссию, начал речью, в которой доказывал или излагал, что умный человек никогда не постыдится сознания в своей ошибке, а честный, сознавшись в оной, не может оставаться при ней из самолюбия, что он обдумал дома вопрос о волховском мосте, убедился в правильности мнения господина директора и охотно отказывается от своего; за ним отказались другие, и журнал состоялся единогласный, по моему мнению.
Привожу я на другой день журнал к Клейнмихелю, докладывая, что он без разногласия.
— Как?
— Дестрем перешел к моему мнению.
— А другие?
— Все пошли за Дестремом.
Граф, сложа руки, уставя на меня глаза и потряхивая голову в одну сторону, повторял:
— Каково! Каково! — усиливая постепенно голос, и наконец с чувством отчаяния воскликнул: — И вот люди, которыми я окружен! Вот с кем я должен работать! За кого я должен отвечать государю! — и стал целовать меня.
Я сказал ему шутя:
— Граф, вы оскорбляете меня! Будучи такого мнения о людях с аккомодациями, вы меня уговаривали отступиться от своего мнения.
Конечно, Аракчеев, Воронцов, Чернышев, Орлов поступили бы со мною иначе.
Граф Клейнмихель стоил много денег государству азиатскими аллюрами в службе и лишними уродами государю, но он не воровал; он стоил государству меньше, чем Чернышев и Орлов, которые служили ширмою для организации воров, расплодившихся под их кровом изумительно и развивших свою наглость до уродливости. Я спорил с Клейнмихелем восемь лет; он бранил меня за глаза; я бранил его, а чаще хвалил — точно как во французском стишке: «Ты говоришь обо мне дурно, я говорил о тебе хорошо, но, на наше несчастье, нам не верят — ни тому ни другому».
Но прошли годы; я по одному случаю заехал к нему лет через пять; он этим хвастал. В нынешнем году (1864) давал он вечер государю, но в его небольшой квартире он не мог поместить более 120 человек; графиня работала и не могла разрешить задачи: или 70 человек, или 300; вот дилемма.
Граф говорил ей: «Зови кого хочешь, но чтобы К. И. Фишер был тут!» — И этого не сделал бы не только Врангель, но и Меншиков.
Трепет перед государем был в Клейнмихеле ужасен. Мы условились, что он не будет посылать курьеров отыскивать меня, когда меня нет дома. Раз, когда я обедал у Дружинина, приезжает в дождь-ливень курьер от графа с просьбой, ради Бога, сейчас к нему пожаловать. Нахожу я его в истерическом состоянии. Он рассказывает мне, что приехал с дороги полицейский дистанционный начальник, полковник Игнатьев, с донесением, что у барона Корфа, подрядчика земляных работ по северной половине железной дороги, хлеба для рабочих остается на три дня и мяса на день и что он опасается голода. Клейнмихель рассказывал это, ходя по комнате и прерывая себя вздохами: «Боже, Боже, что со мною будет!» — ходил, ходил и вдруг, остановись предо мной, сказал с горечью:
— Какой счастливый у вас характер, вам можно позавидовать! 15 тысяч человек умирают с голоду, а вы — улыбаетесь! Вы, стало быть, не знаете, как мне досталось от государя, когда 200 человек рабочих пришли в Царское Село жаловаться, что подрядчик им не платит, — а теперь, когда 16 тысяч человек придут, и столица может быть в опасности… Что будет?!
Я отвечал ему, что не улыбаюсь, да и не унываю: если бы нужда была так велика, то Корф, вероятно, пришел бы ко мне просить денег, но он ничего не просил. «А впрочем, — прибавил я, — напрасно ваше сиятельство не объяснили государю на жалобу 200 человек, что департамент железных дорог имеет дело с подрядчиками; рабочие же должны приносить жалобу на их нанимателей — губернатору, который от вас не зависит. Вообще, мне кажется, что Игнатьев сделал фальшивую тревогу; прискакал сюда, как брандмейстер, но пожара я еще не вижу!»
— Ах, дай Бог! Да что он, каналья, не едет, я послал его к Корфу, чтобы он притащил ко мне этого мошенника за шиворот.
После четверти часа лихорадочного ожидания возвратился Игнатьев с жалобой:
— Не едет, ваше сиятельство! Я сказал ему, что вы приказали притащить его за шиворот, а он опустил голову на обе руки и сидит перед столом; я бы его потащил, да он — в халате.
Я не мог вынести такой возмутительной речи и, не смущаясь графом, сказал Игнатьеву, что непростительно ему передавать приказания в выражениях, сказанных в минуту гнева, с глазу на глаз; что барон Корф — статский советник, и что вообще вы, господин полковник, встревожили графа опасностями, которые, может быть, — только в вашем воображении (граф стоял, как ягненок). Игнатьев смешался и просил графа не беспокоиться, что он сам распорядится раздачею порций и надеется, что хлеба хватит дней на шесть. Я опять заметил, что, во-первых, он не имеет права раздавать порции из чужой провизии; во-вторых, если он может разверстать хлеб на 6 дней, то, конечно, сам подрядчик, отвечающий состоянием и личностью, распорядится еще лучше, — и что, словом, весь шум вы сделали из пустяков. — «А мясо?» — спросил граф. В этот момент пришло мне на память, что через день наступает пост. Когда я это сказал, Игнатьев ударил себя по лбу со словами: «Ах! Виноват! Забыл!» Только что он выговорил эти слова, Клейнмихель закипел:
— Ах ты, брандмейстер! Ах ты, брранд-мей-сте-ер! Вон!!!
Игнатьев бросился, растерянный, из комнаты. Граф вдруг вздохнул и стал мягок, так мягок, что глазам своим я не верил. Обнимал меня, целовал, говоря: «Спасибо, спасибо, любезный Константин Иванович».
Таков был Клейнмихель, росший во времена Павла I, прошедший службу под начальством Аракчеева! Это обстоятельство должно служить великим ему оправданием, если верна пословица: «Скажи, кто твой друг, а я скажу, кто ты таков». Об Аракчееве знает вся Россия как о деспоте, бесчеловечном, свирепом; я случайно узнал и виновника его возвышения, и меру его бескорыстия.
Апрелев, отец сенатора И. Ф. Апрелева, был при Екатерине начальником арсенала. Наследнику престола, Павлу, понадобились в Гатчину две маленькие пушки. Он обратился о том к Апрелеву, и этот исполнил его просьбу. Случай редкий. Так как великий князь был в дурных отношениях с матерью-императрицею, то отказывать ему в просьбах, даже действовать ему назло — было в моде. Великий князь, по открытии вакансии начальника артиллерии в Гатчине, просил Апрелева принять это место, но Апрелев отозвался, что императрица благоволит к нему и он не имеет ни повода, ни мужества проситься из Петербурга; вместо себя он рекомендовал Павлу Аракчеева. Аракчеев взят, а через год или два Павел воцарился. Аракчеев был пожалован в бароны, с девизом на гербе: «Без лести предан», который публика потом переделала в другой: «Бес, лести предан!»
В 1850 году слышал я о нем от маленького человека, чиновника 8-го класса Свячова, у которого я купил землю. Этот чиновник характеризовал мне Аракчеева, сам того не зная. Он продал землю оттого, что 20 лет не имел хорошего урожая; года через два по продаже видит он мои великолепные поля и, приписывая это исключительно благословению Божию («никто, как Бог!»), рассказывает мне случай, в котором он видел явно Божие покровительство, который и касался Аракчеева только объективно. Рассказ его так оригинален, что я заметил его себе слово в слово.
«В 1824 году дали мне богатую заготовку сена, пудов тысяч до пятисот. Перед моим отъездом генерал-провиантмейстер Абакумов зовет меня к себе и говорит: «Купи сено у графа Алексея Андреича, да смотри, не наделай глупостей — под суд отдам!» — «Слушаю, ваше превосходительство!» Поехал в Грузино, к управляющему; ведут к самому. Вхожу, кланяюсь. «Здравствуй, любезный! Тебе сено надо! Бери, сено у меня хорошее, 40 копеек пуд. Ну, ступай! Показать ему сено!»
Посадил меня управляющий в тележку и повез по лугам; кажет на траву да похваливает! «А каково сено?» Я так и обомлел! И говорю: «Ведь это трава!» — «Выкоси да высуши, сено будет; зато и цена какая!» «Господи помилуй, — думал я. — Ну да, признаться, думаю: ведь губернатор не промах; даст справочную цену гривен шесть». Нанял людей, стали косить, убирать, а я к губернатору! Этот заломался! 35 копеек да 35 копеек, — за эту цену, говорит, миллион пудов поставлю! Плакал, плакал, и то и се… нет! Что делать! Принял сено, все денежки свои (разумея те, которые думал украсть) ухлопал, а 70 тысяч пудов не хватает! Пришел к графу.
«Ну, что, — говорит, — принял?» — «Принял, ваше сиятельство!» — «А ведь славное сено, а?» — «Прекрасное, ваше сиятельство!» Подошел к конторке, вынул 1000 рублей и дает мне. «На, — говорит, — бери!» — «Помилуйте, ваше сиятельство, за что?» — «Когда я даю, — говорит, — так бери!» Взял, поклонился, ушел, да и взрыдал, как ребенок. «Господи! — думаю, — чем я Тебя прогневал?!» (Это спрашивал человек, 30 лет обкрадывавший казну.)
Явился к генералу Абакумову. «Ну что?» — говорит. — «Да что! Беда, ваше превосходительство…» — «Молчать, — говорит, — под суд отдам!»
Господи, Господи, Боже мой! Поехал в Новгородский монастырь; отслужил молебен и молился Господу: Господи, спаси! В отставку выйду! Четыре девки (дёуки, как выговаривал этот 70-летний малоросс) в монастырь дам! Спаси и помилуй!
И что ж вы думаете, генерал? Тут он приостановился, обвел глазами все четыре угла комнаты; не найдя ни в одном образа, уставил глаза в потолок, медленно изобразил крестное знамение, относя руку во всю ее длину, так что она описала широкие дуги, от лба к брюху и от правого плеча к левому, и продолжал: «Послал Господь Бог наводнение; барки мои разбило, я показал погибшим полное количество; приняли на счет казны, и я — как добрый христианин — тотчас подал в отставку».
«Как? — сказал я, — наводнение 7 ноября 1824 года?» — «То самое, генерал».
Вот черта из жизни наместника Российской империи в ту эпоху, когда царь чертил на медалях: «Не нам, не нам, а имени Твоему»!
Глава XII
Обсуждение сметы на постройку железной дороги — Последствие этого для меня — Реформы в Главном управлении путями сообщения — Состав моей канцелярии — Столкновение с графом Клейнмихелем — Мельников — Деятельность графа Канкрина — Вронненко — Вражда князя Меншикова с Киселевым — Неудовольствие государя на князя Меншикова — Дело Тарасова — Бутурлинский комитет — Враждебные отношения Клейнмихеля к Меншикову — Разговор государя с Меншиковым о Николаевском мосте — Отношение государя к Меншикову — Посольство Меншикова в Константинополь — Увольнение Меншикова — Взгляд на царствование императора Николая — Деятельность графа Клейнмихеля — Моя просьба об увольнении
Цесаревич позволил мне являться к нему, когда сочту нужным. Это право перешло ко мне от Чевкина; но Чевкин им воспользовался и ходил к цесаревичу до самого вступления его на престол; я не воспользовался им; подносил журнал к подписанию утром, ожидая приема в бильярдной, где познакомился с князем Барятинским, тогдашним его адъютантом (теперь фельдмаршал), прекрасным телом и душою.
Едва принялись мы за работу, как стало ясно шарлатанство предварительной сметы в 37 миллионов рублей. По моему расчету, нужно было от 70 до 76 миллионов. Клейнмихель, стараясь нравиться только устранением всякого неприятного ощущения, не заботясь о завтрашнем дне, силился сократить цифры и, не успев в соглашении со мною, сочинил смету сам, сколько помнится, в 55 миллионов рублей и прислал мне ее для подписания часа за два до заседания. Я поехал к нему объявить, что не могу скрепить сметы; он ужасно рассердился, взял смету назад и привез ее с собою в комитет с переписанным последним листом, на котором прежде была приготовлена подпись: Директор…
Смета докладывалась, не подписанная никем. При чтении и обсуждении сметы Киселев был поражен ничтожеством суммы по одной статье и спросил меня тихо: «Неужели этого довольно?» Комитет заседал, как я уже упоминал, в следующем порядке: стол, составленный из пяти или шести столов, кажется, ломберных, а может быть, и иных, но узких. Посреди длинной стороны садился цесаревич; я как правитель дел — против него; по обеим сторонам подле цесаревича сидели Канкрин и Левашов; мои соседи были Киселев и Клейнмихель. В такой обстановке я не мог ничего отвечать Киселеву, чтобы ответ мой не был слышим ни председателем, ни моим начальником. Я не отвечал ни слова, но поворотил последний лист к нему, никем не подписанный. Сметливый Киселев понял жест и сказал тихо: «А!»
Кажется, цесаревич заметил это. Когда кончилось заседание, он спросил меня ласково (цесаревич показывал мне необыкновенную благосклонность):
— Вы надеетесь, что этой суммы будет довольно? Мы на вас полагаемся.
Этот адрес ко мне, а не к Клейнмихелю, не понравился последнему. Он отвечал наследнику живо:
— Я могу вполне надеяться, что будет достаточно.
— А вы как думаете, господин директор?
Я отвечал, что в работах столь огромных и продолжительных трудно предвидеть с точностью результаты, потому что они зависят от посторонних влияний: если правительство уменьшит другие работы, то смета, может быть, не потребует дополнений; если же другие работы, особенно каменотесные, будут усилены, то рабочие значительно вздорожают.
— Нет, ваше высочество! Я ручаюсь за смету! — сказал с сердцем Клейнмихель.
Цесаревич же прибавил, что он совершенно согласен с директором. Этого довольно было, чтобы Клейнмихель меня остерегался. Я завел сам разговор с ним об этом заседании и объяснил ему, что мой ответ служил ему, скорее, гарантией, чем противоречием; что, по моему мнению, теперь было бы осторожнее написать даже лишнее, потому что первая смета не его, и что он, сократив цифру, защитил только Чевкина, но себе готовит затруднения. Граф понял это, а через два года надо было составлять опять новую смету; она вышла в 78 миллионов рублей, и государь ужасно разбранил Клейнмихеля за то, что он так грубо ошибся в расчете.
При всем том он не пускал уже меня ни к цесаревичу, ни к другим членам, к которым я и без того никогда не ездил. Он отвозил журналы цесаревичу сам, и сам посылал их к подписанию другим членам.
Сделавшись главноуправляющим путями сообщения, он стал все ломать. Из канцелярии, которой я был директором, образовал департамент железных дорог, в котором он непременно хотел учредить общее присутствие, но я не согласился быть директором при общем присутствии, — и это осталось без исполнения. Комиссию проектов и смет, весьма рациональное учреждение, где инженеры-ветераны рассматривали техническую сторону дела, преобразовал в департамент с начальниками отделения, столоначальниками и помощниками, офицерами полудетского возраста, не умевшими отличить елового бревна от соснового. Вместо того чтобы разделить дела по местностям, учредил департаменты: искусственный, хозяйственный, счетный, — а как всякая будка требовала проекта, написания контракта, заключения подряда и расчетов, то дело о постройке каждой будки заводилось во всех трех или четырех департаментах. Он хотел было, чтобы я написал штаты, но когда я сказал ему свою программу, — он обиделся, что я хотел сократить его министерство.
Вскоре за тем последовало высочайшее повеление, чтобы лица, занимающие более одной должности, оставлены были при одной из них. Клейнмихель и распорядился мною, не спрося меня; однако я подал рапорт князю Меншикову, что желаю остаться при нем. Князь вошел с докладом к государю, Клейнмихель протестовал, спорили, спорили, и, наконец, высочайше повелено, не в пример другим, оставить меня при всех должностях.
Канцелярия моя, долго некомплектная, требовала укомплектования, но людей не было. Сметная сумма расходов от 10 до 15 миллионов в год вызвала всех плутов, как крыс — приманка. Что за рожи ко мне являлись! А молодых людей образованных я не мог иметь, потому что, по особому высочайшему повелению, дворяне и все кончающие университетский курс не могли поступать в центральные управления, не прослужив трех лет в губернии. Я просил для своего ведомства исключения и выпросил его; пригласил к себе юношей неопытных, но чистых, просвещенных и благовоспитанных.
Вдруг является ко мне какой-то статский советник Штюмер и докладывает, что он определен доктором департамента железных дорог. — «Зачем?» — «Пользовать больных чиновников!» — «Разве больные выбирают врачей для своего пользования по начальству?» — «Свидетельствовать больных чиновников». — «Зачем?» — «Сказывающихся больными». — «Таких у меня нет!» После этого разговора я объявил ему, что он мне не нужен, поехал к графу, сказал ему, что такими мерами он разгонит у меня лучших людей, и настоял, чтобы Штюмера взяли назад.
Через год пришлось делить остаточную сумму, до трех тысяч рублей. Я назначил суммы наградные только младшим, т. е. не начальникам отделений, потому что они были в комплекте, а остаток образовался от некомплекта, и в размере от 300 до 600 рублей каждому, обещая другим дать то же в следующем году. Граф написал: разделить между всеми! Я опять протестовал: я не хотел, чтобы чиновники получали на водку поголовно, но желал дать средство бедным поправиться. И это состоялось.
Такие дрязги повторялись беспрестанно. Хотя я одерживал верх, но они сердили и меня, и Клейнмихеля. Он, не смея меня оскорблять в глаза, стал отзываться обо мне недоброжелательно за глаза, а это подало повод Мельникову, начальнику работ северной дирекции, интриговать.
Лет за пять до начала сооружения дороги или позже, граф Толь выбрал полковника Крафта для посылки за границу — изучить железные дороги, предоставив ему избрать себе товарища. Он указал на Мельникова. Говорят, что Мельников письмами из-за границы распускал слух, будто Крафт помешался, и что, таким образом, центр тяжести перешел на Мельникова. Когда они воротились, то Крафта как-то дичились, а Мельникова расспрашивали. Протяжение железной дороги разделили между обоими, и Мельников всячески старался блеснуть перед Крафтом бережливостью работ; для этого он стал обсчитывать всех подрядчиков, и когда, по их жалобам, департамент стал требовать объяснений, Мельников уверил графа, что департамент платит лишнее. Ловко он обделывал свои делишки.
Всякий раз, как искусственное отделение департамента исправляло расчетные нормы и департамент предписывал их к исполнению, Мельников входил с рапортом к главноуправляющему, а этот утверждал всегда то представление, по которому приходилось платить меньше. Департамент представлял официально, что дела принимают незаконный ход, что контракты не исполняются казною и даже что департамент не берет на себя ответственности за последствия. Все это бесило Клейнмихеля и утраивало мне работу — портило мне глаза, кровь и характер.
К этим личным дрязгам присовокупилось влияние и общей административной деморализации. Как испортили систему государя окружающие его, это видно было уже из тех несвойственных ему действий в отношении к Бенкендорфу, Толю и Меншикову, которыми он удивил многих при открытии действий по устройству железной дороги; двое из них сошли в могилу, унеся с собою огорчения. Меншиков более и более слабел; и даже Канкрин должен был удалиться.
Со времени оставления министерства финансов я потерял из виду графа Канкрина, в отношении к его личности. В первый раз после того я увидел его, а он меня, в комитете железных дорог. После того я ездил к нему несколько раз по поручениям князя Меншикова; когда поручение было исполнено, он меня спрашивал, имею ли я время, — и на утвердительный ответ говорил: «Так покафарим немножко», — и мы говорили о том или другом.
Раз он выразил мне некоторую досаду на Чевкина. Когда я заметил, что он, кажется, умный человек, то Егор Францевич нашел, что он умен, «только жаль, что у него ум, как спина» (горбатая). Он обманывает своим «умом сперва самого себя, а потом и других». Признаться, я бы хотел прибавить, что он нагл: это я испытал; он меня экзаменовал и находил, что без английского языка нельзя быть директором канцелярии железных дорог, а вскоре оказалось, что он сам не знал по-английски. Когда инженер Вистлер в технической комиссии сказал свое мнение, я отомстил Чевкину тем, что передал ему это мнение и потом его отзыв передал Вистлеру.
Канкрин принял в 1823 году министерство при величайшем расстройстве финансов; он поднял промышленность и сохранял баланс в бюджете. При нем не было ни одного дефицита, несмотря на то что он выдержал персидскую, турецкую и польскую войны. В благодарность отняли у него государственные имущества, и государь стал уговаривать его взять товарища. Как Канкрин ни отговаривался, волю эту надо было исполнить. Канкрин выбрал Вронченко, дурака, потому что считал лишним товарища министра, да притом думал, что этот, по крайней мере, не будет интриговать. В этом-то он и ошибся! При первом отъезде министра в отпуск товарищ его успел уверить государя, что он сам отличный министр финансов и что ему нужен только секретарь — не такой упрямый, как Канкрин. Вронченко роняет Канкрина! О, времена!
Вронченко был бедняк, малоросс, просивший Дружинина определить его в службу. Дружинин взял его на козла своей коляски, привез в Петербург и определил в канцелярию свою писарем на 300 рублей. В 1823 году Вронченко был начальником 3-го отделения канцелярии с Владимиром на шее. Когда узнали, что Гурьева сменяют, Вронченко отправился к камердинеру Гурьева, спросил его, правда ли, что говорят, расплакался, бросился к Гурьеву на шею. За такую нежность Гурьев, уходя из министерства, дал ему звезду. Когда канцелярия помещалась в доме Шуваловой, Вронченко ставил свою лошадь против окон столовой Канкрина и оставался в канцелярии до шести часов: Канкрин видел это. Произведя его за усердие в действительные статские советники, Канкрин образовал из 3-го отделения особенную канцелярию по кредитной части, и Вронченко сделан ее директором, — а затем товарищем, потом министром.
Грубый, как мужик, он понял, что министр должен быть вежлив, — и стал вежливым. Подчиненному говорил: «Имею честь покорнейше просить, садитесь на диван!» — и потом вдруг срывался на свою обычную колею. Его выразил очень точно Гревениц: «Учтив, как лакей, и груб, как лакей».
Канкрин оставил министерство в 1844 году, и в 1845 году был уже дефицит в 14 1/2 миллиона рублей; в 1846-м — 21 миллион рублей; в 1847-м — 45 миллионов рублей; в 1848-м — 46 миллионов рублей; в 1849-м — 57 миллионов рублей; в 1850-м — 83 миллиона рублей. Как частный человек делается расточительнее и безрасчетливее, когда запутается, так и правительство. С 1845-го по 1857 год издержано сверх бюджета, «в дар потомству»:
На сооружение крепостей 42 1/2 миллиона
На постройку дворцов 8 миллионов
На казармы и госпитали 7 1/2 миллионов
На сооружение церквей 15 миллионов
На пути сообщения 208 миллионов
В какой степени усиливались расходы по управлениям, можно заключить по одной статье: штаб военно-учебных заведений стоил в 1840 году — 24 000 рублей, а в 1854 году — 316 000 рублей.
Меншиков тоже, видимо, упадал. К его врагам присоединился Киселев, самый опасный, потому что был умнее Чернышева, злее Грейга и смелее Воронцова и Орлова, который невзлюбил Меншикова с тех пор, что надел голубой мундир. Ему казалось, что Меншиков над ним смеется. Киселев и Меншиков были друзьями; между ними началась борьба с 1839 года — борьба политическая, не имевшая влияния на их дружбу. Предметом борьбы был вопрос об освобождении крестьян. Киселев хотел, чтобы они были освобождены с землей, остающейся в общинном владении, а Меншиков находил, что освобождение должно совершаться, как в балтийских губерниях. Разрешение этого вопроса, кажется, в 1844 году, было таково, что не удовлетворило ни того ни другого. В некотором распространении прав крестьян Меншиков видел торжество Киселева и стал над ним подтрунивать; Киселев же, не успевший провести свои демократические виды, приписывал свое поражение Меншикову. Другие, видя, что Киселев уже ранен, стали изобретать на его счет остроты от имени Меншикова; две особенно его оскорбили.
Киселев жил на Мойке, а против дома, им занимаемого, выстроили деревянный балаган, кажется, для зверинца. Рассказывали во время его постройки, будто князь Меншиков, спрошенный, для чего строят этот балаган, отвечал: «Здесь граф Киселев будет показывать благосостояние государственных крестьян в малом виде».
Другая острота состояла в том, будто князь Меншиков приехал в клуб на баллотировку статс-секретаря Карнеева и сказал, что Карнеев — автор того антидворянского учения, которое Киселев выдает за собственное произведение.
Первой остроты я не слышал от князя Меншикова, но она очень похожа на него; о второй я знаю наверняка, что она изобретена Неклюдовым. Киселев перестал кланяться Меншикову. Князь был очень огорчен разрывом с Киселевым, искал случая объясниться с ним; наконец мне удалось навести Киселева на этот предмет; я убеждал его в том, что князя оболгали, но он остался непоколебим, сказав мне: «Между ним и мною — кончено!»
С государем стали происходить столкновения тоже чаще; иногда по вине князя, а чаще — по благородным побуждениям; явились случаи, которые вооружили против Меншикова дамскую половину дворца, и как эта половина всегда ловче действует и чаще нападает, то она сильнее всего расширяла тот овраг, который стал отделять государя от его министра, которого он еще в 1830 году считал почти за единственного честного и способного советника.
Государь пожелал переименовать морские чины в сухопутные. Князь, не успев переубедить его, сделал из этого предмета министерский вопрос; мысль оставлена, — но впечатление осталось неблагоприятное.
Потом возникла мысль о введении в Финляндии рекрутского набора. Меншиков восставал против этого энергически, одержал верх, но понизился у двора. Государь звал его посмотреть Новогеоргиевскую крепость. Меншиков на вопрос, как он ее находит, представил, что низенькие стенки перед бастионами, не принося особой пользы, служат неприятелю способом засыпать ими ров при штурме и что цитадельские орудия полощат крепостные стены, так что если неприятель завладеет цитаделью, то он сгонит нашими же орудиями гарнизон со всех крепостных бастионов: государь прогневался и почти прогнал его.
Так приобрел он мало-помалу у государя название спорщика. Снисходительность князя тоже не всегда одобрялась. Когда сгорел корвет «Фершампенуаз», сгорел не от небрежного исполнения устава командиром, а, напротив, вследствие педантического соблюдения его, — и когда, несмотря на это, аудиториат присудил командира, прослужившего 30 лет, к разжалованию в матросы, князь поручил мне выбрать из архива все судные дела о крушениях во время Екатерины. Из них князь выбрал два.
Екатерина, имевшая врожденную боязнь воды, с великим усилием решалась на плавание; один раз решилась на это, и, как нарочно, фрегат ударился об мель. Императрица — в обморок. Очнувшись, она сказала с гневом: «Арестовать лейтенанта!» Когда поднесли ей сентенцию морского суда на конфирмацию, она положила следующую резолюцию: «Для благородного офицера самое тяжкое наказание быть арестовану в глазах императрицы, — а потому более не наказывать».
По другому делу, где корабль потерпел крушение, Екатерина, в день Пасхи, написала: «Для праздника Христова прощаются!»
Князь понес эти дела вместе с докладом о «Фершампенуазе» на Страстной неделе, но это было принято очень дурно, потому что «то, что было простительно за 80 лет, — теперь непростительно».
Охтянин Тарасов поставкою паркетов и мебели разбогател и вздумал освободиться от звания охтинского поселянина, вопреки закону Петра I, основавшего это поселение для вечной прочности флота, со строжайшим запрещением увольнять кого бы ни из этого звания. Он поднял на ноги весь город и весь двор. Князя просили о нем великие княгини и великие княжны; государь говорил князю Меншикову, что ему не дают покоя; Перовский, умирая, просил князя не упрямиться, полагая, что от этого дела зависит его собственный кредит. Дело дошло до Государственного совета. Барон Корф, государственный секретарь, сказался больным в день доклада его; весь Государственный совет полагал освободить Тарасова; один Меншиков утверждал, что одно исключение поведет к уничтожению всего учреждения Петра Великого. Государь согласился с Меншиковым, но дворец разгневался. Стоило труда! Не успел князь уехать из Петербурга, как Тарасова освободили!
Следующий случай еще важнее: императрица давала вечер в Монплезире и желала, чтобы кадеты морского корпуса выехали на катерах с песнями; она приказала статс-секретарю Гофману сказать князю Меншикову, чтобы он сделал о том распоряжение. Князь обиделся; он отвечал Гофману, что кадеты дворяне, что родители их вверили правительству для того, чтобы образовать из них защитников отечества, и что потому он не считает себя вправе употреблять их официально как песенников, но советовал Гофману попросить командира эскадры, чтобы он пригласил кадетов гулять на катерах: «Когда катера подойдут, вышлите им фунтов 10 конфет и попросите, чтобы спели: так дело устроится». Гофман донес императрице, что Меншиков не считает себя вправе высылать кадетов для публичного пения.
Она прогневалась и послала его к государю. Государь отозвался, что об этом надо сговориться с Меншиковым. «Я был у него, государь!» — «Ну, что ж он говорит?» Гофман передал первую половину отзыва князя. «И он совершенно прав!» — сказал государь. Песен на воде не было, но зато во дворце стали напевать на Меншикова без умолку.
Травимый, как дикий зверь, Меншиков пришел в ожесточение. Государь написал собственноручно программу батальонного учения канонерской флотилии и прислал к нему при очень любезной записке, где писал, что желает общими силами уладить это в свободное для него и для князя время. Князь написал ответ, что как он часто бывает болен, то не изволит ли государь предпочесть графа Гейдена, эскадр-майора. Я изъявил князю свое удивление. Он отозвался с горькой успешной:
— Граф Гейден интригует против меня, но не находит довольно случая: я хочу доставить ему удобный случай.
Сильнейший же удар нанесен князю Меншикову назначением великого князя, генерал-адмирала, в его товарищи. Великий князь считал себя если не старшим, то равным князю Меншикову и обижался, что он не советуется с ним предварительно о делах, подносимых государю. Помню, как один раз приезжал Лутковский к князю по поручению генерал-адмирала — выразить ему неудовольствие его высочества. Князь сказал Лутковскому:
— Пусть его высочество сам мне скажет это; я возьму его за руку и отведу к папаше.
Я неоднократно советовал князю отказаться от морского управления. Князь утверждал, будто он это и делал, но без успеха; будто он говорил государю, что «два флага вдруг на грот-мачте развеваться не могут», будто он при генерал-адмирале просил государя оставить его при Финляндии и на отзыв государя, что не имеет, кем заменить его, указал на его высочество как на особу, вполне могущую управлять министерством, но государь отозвался: «Как? Этому мальчику?!» Все это так, но тем более следовало настаивать, и если бы князь желал уйти серьезно, то, конечно, сумел бы достигнуть цели. Дело в том, что искусство уходить — трудно!
Никто, однако, не может отрицать в князе Меншикове гражданского мужества, хотя он по наружности, являясь на разводы, на рекрутские смотры, имеет вид мелочного куртизана. Припоминаю случай, в каком не все поступили бы, как Меншиков.
Государь передал ему записку неизвестного, доказывавшую, что министр народного просвещения Уваров поощряет в журналистике статьи республиканского направления или раздражающие, — передал с тем, чтобы в особом комитете под председательством Меншикова рассмотреть действия Уварова. «Я ему покажу! — заключил государь. — А вашу светлость прошу со мной не шутить; я знаю, что у вас всегда правы те, которые передо мною провинились!» Это уж было слишком.
Неизвестный автор был барон Модест Корф, страдавший издавна не удовлетворенною страстью быть министром. В комитет посажены: Бутурлин (историк военный), граф А. Г. Строганов, барон Корф, Дубельт (начальник штаба корпуса жандармов), Дегай, статс-секретарь, приятель Корфа, а я, правитель дел, запасся журналами за три года и стал перелистывать их. Дубельт указал на статьи Белинского, действительно скверные; Корф молчал и удивлялся, с чего взяли всю эту историю; Дегай прочитал из «Отечественных записок»: «Молодой человек, оставя школьную скамью, находит свет не таким, каким он представлял его себе; он озирается, иногда озлобляется, иногда делается врагом общества…» Зашумели!
По странному случаю, я читал эту статью, разбор детских повестей Чистяковой. Рецензент, хваля эти повести, говорил, что у нас не довольно обращают внимание на то, чтоб юношеству дать правильное понятие о свете; оно, оставаясь без руководства, создает себе свет идеальный, непохожий на свет действительный; оттого молодой человек, оставляя… — далее по тексту. Я заявил это комитету: Дегай прочитал только конец и таким образом бросил на всю статью ложный свет.
Дегай обиделся, оспаривал мое право вмешиваться в диспуты членов, на что я доложил, что не изъявлял мнения, а только представил справку. Сеть раскрыта; председатель предложил членам разделить между собою журналы и просмотреть их. Он хотел выиграть время.
Между тем он поручил мне съездить к Уварову, предупредить его об интриге и просить у него каких-нибудь положительных средств к его оправданию. Уваров дал мне с десяток делопроизводств, в которых я нашел собственноручные брульоны, где он «очень сильно подтверждает цензурному комитету не допускать ни в журналах, ни на сцене опозорения высших сословий или осмеивания чиновников высшей иерархии». Меншиков повез эти дела к государю. Государь отозвался: «Я вижу, что его оболгали», — и члены комитета получили повестки, что по высочайшему повелению комитет считается закрытым.
Наконец, к врагам князя Меншикова присоединился и Клейнмихель, слабый для защиты его, но опасный в толпе нападающих. Вражда произошла совершенно независимо от Меншикова. Он стоял на набережной, опершись на парапет, и смотрел на достраивающийся Николаевский мост. В то время ударяет кто-то его по плечу: это государь, вышедший из экипажа.
— Что ты делаешь?
— Гляжу на мост.
— Что ты думаешь?
— Ничего, государь, смотрю как любопытный.
— Нет, я видел твою гримасу: значит, думаешь!
— Я размышлял, государь, о возможностях. Мост построен на сваях в 30 футов вышины; сваи эти связаны железными обручами и залиты пуццоланом, так что теперь представляют сплошную массу, но дерево никогда не теряет упругости; каждое движение экипажей производит дрожание, как это заметно и в каменных домах. Мне приходило на мысль, что если от этого дрожания отделятся небольшие зерна гидравлической извести, вода тотчас вымоет их и оставит пустоту, а от этого дрожание усилится и усилит отделение извести. Я спрашивал себя, сколько лет пройти может, пока обнажение свай сделает их способными к вибрации, опасной для целости моста.
— Ты совершенно прав! Это ясно как день.
— Государь, — сказал князь, — во всяком случае, вопрос о прочности может родиться не прежде 50 лет.
Государь, приехав во дворец, телеграфирует Клейнмихелю: «Меншиков доказал мне, что твой мост провалится».
Можно себе представить его трепет и гнев. Он скачет во дворец; государь рассказывает ему суждение Меншикова; тот не понимает ни слова! Клейнмихель собирает комиссию из 10 генералов и 20 штаб-офицеров для освидетельствования прочности работ. Комиссия написала толстейшую тетрадь, в которой доказывала, что материалы самого лучшего качества, что работы превосходны и т. д. и т. п., и с драматизмом заключила, что одна злоба или интрига осмелится выставить свое жало против этой добросовестной работы. Клейнмихель с торжеством посылает доклад государю и получает обратно с резолюцией: «Ты меня вовсе не понял, — и делу конец».
Как бы ни было, Меншиков, видимо, лишился благоволения царского, но государь был такой патриот, что, дозволяя себе иногда против лиц, его рассердивших, некоторые несправедливости, никогда не устранялся от советов, если считал их умными. Он был так честен, что никогда не бросал старого слуги отечества, хотя и не благоволил к нему. Досаду свою на Меншикова государь не скрывал, но, когда возбуждался серьезный вопрос, он не решал его, не спрося Меншикова, что он думает. Браня его, он между тем склонялся почти всегда на сторону Меншикова в советах. Доклады Меншикова были ему приятны; на балах, когда государь бывал озабочен какой-либо вновь полученной депешей, он подзывал Меншикова и с ним совещался. Можно сказать: с его врагами он жил, — с ним он царствовал, с ним и с Паскевичем, когда он бывал здесь. Ясно, что надобно было удалить Меншикова; этим достигались две цели: отлучение его слова от слуха царского и фактическое введение его товарища в управление министерством.
Случай представился: государь возбудил восточный вопрос и хотел послать Орлова в Константинополь, сказав, как обыкновенно, свои мысли князю Меншикову. Вот что я писал в докладе государю, по поручению князя: «Время для возбуждения этого вопроса кажется вообще неудобным, но если ваше величество остановились на исполнении своего намерения постановить ультиматум, то не изволите ли отложить это до июля месяца. В июле черноморский флот крейсирует ежегодно море для практики. Послу вашего величества останется только приказать следовать флоту за ним к Босфору; тогда законные требования вашего величества, подкрепляемые присутствием 1000 орудий, получат надлежащий вес пред Диваном, колеблющимся под влиянием Франции и Англии». Это не слово в слово, но совершенно точно по содержанию, и, кажется, писано было 11 января.
Нессельроде, боявшийся взрыва и не доверявший умеренности Орлова, старался об избрании Меншикова для этого чрезвычайного посольства. Киселев, который тоже был ввиду, отклонил от себя это поручение, и Меншиков назначен. В это время постиг его сильнейший припадок подагры; он пролежал три недели и отправился в Севастополь уже в распутицу.
Едва он выехал и едва прошел месяц, в который государь ожидал подписанного фирмана, все бросилось чернить его, кроме Нессельроде, но последний и сам утратил уже свой политический вес; со времени 1848 года, когда, не знаю почему, мы думали, что Австрия добровольно будет нам целовать ноги, — военная партия прозвала Нессельроде австрийцем; Орлов острил на его счет, называя его prince Circuliaski, — и государь мало его слушал. Управляющий морским министерством «приготовился» к обороне и говорил самодовольно про англичан и французов: «Милости просим!» Вице-адмирал Корнилов, выведенный Меншиковым в люди, писал сюда на него жалобы; сухопутные начальники тоже.
Государь, посылая флигель-адъютантов своих, отзывался с такою досадою о князе Меншикове, что эта молодежь не церемонилась с главнокомандующим. Государь требовал от князя партикулярного сообщения своих мыслей; князь Меншиков не отвечал на это с должною откровенностью, и государь гневался еще более; дисциплина ослабела; отдельные войсковые начальники портили дело; пороху было недостаточно; ругательства сыпались на князя при дворе, в салонах, в клубах и в газетах. Меншиков писал из Севастополя: «Коцебу описал год своей жизни! У меня имеется такой же, но я помолчу».
Наконец дошло до того, что приказано было сказать Меншикову, что если он видит свою неспособность, то долг его — проситься в отставку, — а Меншиков отвечал на это, что военный, стоящий под бомбами, не имеет права проситься в отставку, но что если его величество убежден в его неспособности, то напрасно медлит отставление его без просьбы.
В Севастополе комендант не дал главнокомандующему камень для оборонительных работ, говоря, что без разрешения военного министра не может выдать камень, заготовленный для оборонительной казармы. Из Петербурга не давали ему даже канцелярии. Князь Меншиков писал мне 17 октября 1853 года: «Восемь месяцев, как печать занимается мною, и с этих пор я стал совершенно равнодушен ко всему, что про меня говорят, пишут и печатают, так же как и к постановке меня на сцене г-жой Блудовой и к злословию Д. Нессельроде (сына канцлера, отъявленного дурака) и барона Мейендорфа. Я устал физически и нравственно среди странствований, которые я обязан делать; я обременен громадной корреспонденцией, как французской, так и русской; мои письменные документы, со времени моего возвращения из Константинополя, составляют груду более 700 листов. Не имея ни секретаря, ни чиновника, я вынужден составлять и переписывать все сам; писарь Лялин — мой единственный помощник. Много раз я проводил в день за моим письменным столом по десяти часов и даже более». И в этом жалком положении он был еще в состоянии шутить. Он оканчивает это письмо словами: «Пора кончить это длинное письмо; это почти по-воронцовски, который пишет мне послания от 12 до 22 страниц!» Но ни заботы, ни огорчения не заглушали в нем доброго участия и приветливости. Передо мной письмо его от 9 декабря 1854 года, когда половина Севастополя уже пылала. Меншиков пишет мне: «Я с удовольствием узнал, что вы получили Владимира 2-й степени и что ценят ваши таланты и вашу службу. Напомнив о себе вашей дружбе, доказательства которой вы мне давали столько раз, я возвращаюсь на бастионы, бомбардируемые неприятелем».
Великий князь Константин Николаевич послал к нему Комовского без просьбы князя. Князь писал мне: «Флюгарка может быть мне полезна; она покажет, с какой стороны дует ветер».
В 1855 году, в минуты, когда кончался император, Меншиков был уволен от звания главнокомандующего, — и странно, в тот же день, почти в тот же час, как государь отдавал Богу душу в Петербурге, — Меншиков сдавал команду по болезни и лежал без признаков жизни перед А. Д. Крыловым, сидевшим у постели в недоумении, перед трупом или перед живым сидит он! Так Меншиков предупредил фактически свое увольнение.
Два года перед сим я выражал в своих воспоминаниях, что первое десятилетие царствования Николая было эпохой приведения в порядок дел империи и что с 1835 года началась другая эра. Перечитывая теперь свои записки и приводя на память события, я не только не беру назад своего заключения, но дополняю его, — я скажу, что это царствование разделяется на три периода равной длины во времени: период возвышения, период кульминации и склонения и период падения.
С 1835-го по 1845 год — торжество внешней силы государя, отсюда преувеличенная самонадеянность и вследствие того упадок внутренней политики. В Петербурге сходили со сцены верные и умные помощники государевы и заменялись эгоистами, или алчными, или бездарными, — но еще настолько сохранившими чувство собственного достоинства, что вели интриги только в своем кругу.
С 1845-го или 1846 года эти вельможи или временщики привлекают в свое сообщничество канцелярскую грязь: Киселев входит в сообщничество с подлыми чиновниками, как Заблоцкий и пр., чтобы водворить демократические начала; Орлов вступает в заговоры с Суковкиными и Гвоздевыми; Чернышев учреждает золотопромышленную компанию из себя, Позена, Брискорна и Якобсона, своих подчиненных, — словом, обманывает государя сообща с канцеляриями.
С этого же времени начинают навевать с Запада и проникать в Россию болезненные доктрины новейшей либеральной школы, учение своеобразного деспотизма, отрицающего историю и боготворящего деньги, кидающего грязь на памятники и преклоняющегося перед миллионерами. Предание, патриотизм, чувство чести, любовь славы, все силы, возбуждающие духовную природу человека, под влиянием которых государственные люди жертвуют достоянием и жизнью отечеству, уступили место любостяжанию. В вопросах об улучшении администрации или финансов никому не приходило в голову искать улучшения нравственности чиновников в возвышении их политического значения; все толковали о самостоятельности, в смысле материального довольства. Никто не вспомнил, что человеку присуще чувство привязанности к своему творению, что он любит собаку, им излеченную, деревцо, спасенное им от засухи, что человек любит то, что ему отдано на веру и над чем он трудился. Проповедовали только возвышение окладов как единственный рычаг, одушевляющий силы человеческие.
На таком основании вместо того чтобы вывести чиновников из рабства, вывести честных людей из мелочного контроля и оскорбительного начета за копейку, чтобы дать каждому известную сферу деятельности по закону, — вместо того чтобы верить незапятнанному дворянину более, чем нечесаному становому приставу, — начали увеличивать штаты, — и как увеличивать! Не повсеместно, а только «для привлечения лучших людей» в какое-нибудь привилегированное управление, — как будто государство может благоденствовать, когда в одну часть управления собраны все лучшие люди, а во всех других — оставлены негодяи, не говоря уже о том, что добытое места с высшим окладом весьма мало доказывает доблесть добившегося.
Такую канцелярскую политику провозгласил прежде всех Киселев при учреждении министерства государственных имуществ. Этот полицейский способ улучшения нравственности администрации увенчался таким успехом, какого следовало ожидать от подобных мер. В министерство попали Гамалея, Карнеев, Заблоцкий — грабители-циники. Во всех палатах воцарилось взяточничество; даже крестьяне в волостных правлениях до того развращены, что брали взятки не для кабака, не для наживы, а чтобы распивать шампанское; недоимки оброков возрастали с году на год, несмотря на то что продавали крыши за недоимки. В 1857 году сложено недоимок с 9 миллионов душ государственных крестьян 11 миллионов рублей, тогда как на 11 миллионов душ помещичьих было в недоимке 3 1/2 миллиона. При первом заподряде рабочих-землекопов подрядчиками департамента железных дорог управляющие палатами потребовали с них взятки по 1 рублю с человека (60 тысяч человек), а когда подрядчики не согласились дать это, то палаты вошли с докладом к министру, что подрядчики департамента приезжают в селения в Масленицу, спаивают крестьян и заключают с пьяными контракты, для них убыточные. В попечении о благе крестьян палаты находили полезным постановить, чтобы только те контракты считались действительными, которые будут утверждены палатою или окружным начальником.
Умный Киселев, которого чиновники водили за нос, как глупца, понес представление к государю и испросил высочайшее его утверждение. На следующий год чиновники прямо объявили нашим подрядчикам Шарвину и К°, что за наем каждого рабочего им следует 3 рубля, и объяснили, что они так уладят, что это им самим будет прибыльно. И сдержали слово: в первые большие заподряды Шарвин платил белорусскому рабочему в лето 52 и 53 рубля, а в этот год чиновники выставили им рабочих за недоимки по 48 рублей; следовательно, подрядчики, приплачивая 3 рубля взятки, сберегали еще 1 или 2 рубля, но зато рабочие лишались от 4 до 5 рублей. Честный Шарвин возмущен был этим грабительством; пошел жаловаться Киселеву; этот поднял шум, который кончился ничем, но чиновники возвысили таксу.
Я узнал об этом по следующему случаю. Подрядчики наши имели по контракту право получать на задатки каждую весну 300 тысяч рублей без залога. Кажется, в 1849 году Клейнмихелю вдруг вздумалось не давать им этих денег, потому, говорил он, что в случае неисправности не из чего было бы взыскать. Видя, что образумить его невозможно, я предложил ему послать чиновника с деньгами, с тем чтобы он расходовал их по указанию подрядчика, но только для задатков рабочим. Сначала подрядчики были очень благодарны за эту согласительную меру, но на другой день явились ко мне и изложили свое недоумение, как будет чиновник записывать в шнуровую книгу взятки, которых надобно раздать 120 тысяч рублей.
Я пересказал это Клейнмихелю, и он стал в тупик; сердился, ругался, ходил по кабинету и кончил откровением, что «тут делать нечего! надо дать 120 тысяч рублей!». Я послал с подрядчиками графа Гейдена, дав ему 180 тысяч рублей с книгой и самим подрядчикам 120 тысяч рублей. Вслед за тем я оставил должность директора, но граф Гейден, не зная еще об этой перемене, уведомлял меня письмом о ходе найма и доносил, что взятки кому следует розданы.
Таковы были подвиги «лучших людей» в министерстве государственных имуществ; но первый шаг сделан, — второй не заставил долго ждать себя. Все министерства возопили, что у них берут лучших людей и все сравнены в штатах с министерством имуществ; приманка уничтожилась обобщением права, а на государственное казначейство легло новое бремя.
Затем министерство военное нашло, что ему особенно нужны лучшие люди: Позена было недостаточно. Возвысили оклады военного министерства, а вслед за сим оказалось, что лучшие люди все налицо, и прежние чиновники продолжали наживаться от подрядов — при высших окладах. За этим министерством потянулись другие, — новая нивелировка, новый расход по бюджету. Возвышение окладов сделалось мерилом политической силы министров, и они пошли обгонять друг друга. Когда начальником морского управления стал великий князь, он возвысил оклады настолько, насколько его особа была выше всех других.
Не так действовал Канкрин, насадивший своими руками парки Лесного института и Александровский, а между тем Канкрин чаще терпел поражения, чем Вронченко.
Так опутывали новые дурные элементы нашего честного государя, который 30 лет трудился и мучился, для того чтобы на смертном одре убедиться, что он ошибся! И это тяжкое возмездие понес он за одну главную ошибку: за то, что вверился льстецам более, чем откровению правды.
Департамент железных дорог открыл мне все язвы нашей администрации, но открыл и то, что многие язвы исцелимы.
При торгах на перевозку рельсов из Кронштадта к петербургской станции состязание остановилось с повышением на 2 копейки с пуда. Заметив одну честную физиономию, я спросил у этого господина, отчего цена так дорога для нас, когда мне известно, что купцы платят по 4 копейки ассигнациями. Он отвечал, что в условиях сказано: в случае погибели перевозного судна подрядчик ставит вместо утонувших рельсов другие. «Откуда же нам их взять? — говорил он. — Нам даже не позволят выписать их из-за границы». Я приказал исключить это условие. Начальник хозяйственного отделения стал протестовать, доказывая, что это противно пользам казенного интереса. Я велел записать его протест в журнал и то, что я оставил его без уважения; стали торговаться, и цену сбили до 4/7 копейки с пуда. Это составляло (на 5 миллионов пудов рельсов) больше 62 тысяч рублей экономии против прежней цены.
Случилось, что 1200 штук потонули; я нанял водолазов, которые вытащили рельсы, и заплатил им 200 рублей, и эти 200 рублей хотели начесть на меня, не сказав спасибо за сбережение 62 тысяч рублей! Разумеется, мое усердие несколько охладилось чувством самосохранения.
В контракте было сказано: перевозка не более 1 500 000 пудов в год. Реформа Пиля была причиной, что кердифский поставщик рельсов Guest не мог зафрахтовать судов более как на 300 тысяч пудов. Я позвал перевозчика рельсов от Кронштадта и объявил ему это, чтобы он не заподрядил лишних судов. Он благодарил меня за предупреждение, но когда я предложил ему дать мне подписку, что он претендовать не будет на столь малую пропорцию, он объявил мне, что эта подписка будет стоить 10 тысяч рублей. Подрядчик, требующий взятку с директора департамента! Я его разругал и объявил, что притеснять его не буду, а прикажу только, чтоб ему выдавали деньги на 10-й день, как контрактом условлено, а не на 3-й, как ему выдавали доселе. Он кинулся мне в ноги, говоря: «Берите с меня что хотите, — только не погубите!» Я прогнал его и, разумеется, угрозы не исполнил.
После того этот Полосухин верил в меня, как в Евангелие; он подрядился развозить рельсы и поперечины для железной дороги, а когда пришлось класть их и вообще делать верхнее полотно, департамент встретил затруднение. Никто не явился к торгам на это неизвестное в России дело, кроме американцев, которые просили 3600 рублей с версты, тогда как, по расчету департамента, эта работа должна была стоить около 2000 рублей. Я позвал Полосухина и просил его взять работу за 2 тысячи рублей. Он стал отказываться, говоря, что вовсе не знает, чего такая работа будет стоить, но когда я ему дал честное слово, что он в убытке не будет, он отвечал мне: «Слово ваше для меня дороже, чем мои расчеты; вы говорите, убытку не будет, — беру! Только прибавьте 100 рублей» (без этого русский человек не может обойтись). Я был рад, что нашел охотника; заключили контракт; Полосухин разбогател, а казна выиграла по этой статье 800 тысяч рублей.
Узнав, что я оставляю департамент, подрядчики-мужики пришли ко мне благодарить за справедливость, и бородач Полосухин сказал: «Самое верное доказательство, как мы вас уважаем, что пришли к вам «с пустыми руками», и очень желали б благодарить, да не посмели». Я видел из этого, что подрядчики в России плуты оттого, что плуты чиновники.
Неприятности с графом Клейнмихелем усиливались. Гамбс, мебельный мастер, рассказал мне, что Клейнмихель при нем и при Погребове ударил карандашом по носу полковника Кроля, моего вице-директора, и что Кроль сказал: «Помилуйте, ваше сиятельство! Я 30 лет в службе, я полковник, у меня Владимир на шее», — а Клейнмихель отвечал: «Врешь! Ты дурак в полковничьем мундире!» Я отправился к графу просить, чтобы он взял от меня полковника Кроля и дал мне другого вице-директора.
«Отчего?» — спросил граф. Я отвечал, что Кроль, вероятно, и ему известен как человек замаранной нравственности, коли он обращается с ним так, как было при Гамбсе и Погребове, и что я не могу иметь своим помощником человека, публично обесчещенного. Граф перевел Кроля в департамент проектов и смет, мне дал, по моему желанию, милого Латраверса, — но в душе готов бы был истребить меня, по крайней мере в эту минуту.
Между тем дела более и более путались; главноуправляющий более и более произвольничал. В первые годы я удерживал его от несправедливости, делая вид, будто считаю за ним рыцарский характер; он дорожил таким мнением и остерегался, — но, «прорвавшись» один раз, он перестал уже церемониться и обсчитывал подрядчиков напропалую. Дирекция работ, северная, стала насчет всех подрядчиков действовать сама, прежде чем департамент объявлял их несостоятельными; вместо выдачи квитанций, по которым департамент должен был расплачиваться, Мельников требовал денег туда, о чем Клейнмихель давал предписания департаменту, несмотря на его резкие протесты. Шарвин, 40 лет считавшийся патриархом честности, молил о выдаче ему 300 тысяч рублей в счет квитанции, чтобы расплатиться с рабочими; департамент настаивал на скорейшем доставлении квитанций, просил графа, жаловался ему, — все напрасно! Старик Шарвин умер с горя, а через год оказалось, что было ему недоплачено 1 200 000 рублей. Инженеры тратили на местах сотни тысяч; обтесанный гранит называли необтесанным; материалы, забракованные у одного подрядчика, принимали на счет другого, смежного. Сметных денег опять не хватало.
В Главном комитете при чтении сметы сумм, нужных на достройку дороги, Вронченко играл роль шута. Услышав большую сумму, мною названную, он комически подпрыгнул на стуле, — общий хохот!
Успех поощрил его добрую волю, и он после каждой цифры прыгал на стуле, сидя делая полуобороты то вправо, то влево. Комитет наслаждался!
«Бедная Россия!» — думал я, глядя на этого министра финансов, видя, что фиглярство его ведет скорее к утверждению его на министерских креслах, чем к удалению. Наши министры так мало любят Россию, так мало любят государя и долг свой, что каждый старается только, как бы захватить больше денег, чтобы блеснуть перед государем или заслужить — честолюбие нового произведения — от подчиненных репутацию щедрого начальника. Оттого серьезный Канкрин сидел пред ними как бельмо на глазу, а холоп вроде Вронченко был настоящим кладом. Клейнмихель компрометировался иным способом: взяв силу, он перестал стыдиться своего невежества: и в приказах, и в резолюциях.
Весной он приказал во время разлива Волги навести мост для проезда государя. Инженеры объявили, что это физически невозможно. Тогда он приказал исполнить это своему адъютанту Серебрякову. Между тем вода спала: мост наведен. Объявляя о том в приказе, Клейнмихель прибавил, что «усердие и знание дел все превозмогают!». Так он дополнил девиз своего герба.
Государь, со своей стороны, видел более и более, что Клейнмихель его обманывает. Один раз, приглашенный к нему обедать, я ждал обеда до 5 часов. Графиня, полагая, что государь оставил его обедать у себя, велела подавать кушанье, — но только что мы отобедали, приезжает граф, полумертвый, и требует с азартом обеда! Государь спрашивал его в это утро, что делается на дамбе у Смольного монастыря? — «Готова, ваше величество». — «Готова? Поезжай же еще раз, посмотри и доложи мне». Граф поехал к Смольному на работы, далеко еще не готовые, и, к ужасу своему, узнал, что государь был сам на работах. Разругав всех и каждого, Клейнмихель поехал во дворец. Государь уехал в Царское. Граф отправился туда. Государь нащипал ему руку в кровь (так он наказывал его за ложь), приговаривая: «Не лги! Не лги!» — и не оставил его у себя обедать. В присутствии многих приглашенных Клейнмихель должен был ехать назад с первым поездом; пока другие кушали у царя — он, любимец, ждал поезда!
Все это мне опротивело, и я попросил уволить меня из Главного управления путей сообщения. Граф сопротивлялся, говорил, что не пустит меня, потому что меня любит; что я семь лет трудился, что он имел в виду удивить меня наградою, а я пред самым окончанием работ ухожу. Я возражал на это, что именно потому и не могу оставаться, что подрядчики до одного обсчитаны и все бросятся с жалобами в сенат; что я буду поставлен в необходимость или давать сенату объяснения непосредственно, в которых не могу не сказать, что департамент действовал по его резолюциям вопреки своим убеждениям, или отказывать в скрепе тех объяснений, которые граф захочет писать сам, — и я уволен.
Наш разговор заключал пресмешные эпизоды. Граф, желая мне польстить, сказал:
— Разве вы не видите, как я вас отличаю! Я ни с кем не обращаюсь так, как с вами; других директоров я не пускаю к себе в переднюю, а вы друг моего дома!
Поблагодарив его за личное расположение, я отвечал, что теперь еще менее могу оставаться; что я считал звание директора департамента почетным, но если оно недостойно даже места в передней, то оно унижает меня.
Граф рассердился:
— Константин Иванович, какой ты желчный человек!.. Да ты, пожалуй, и этим обидишься? Я сам желчный; следовательно, не хочу тебя обидеть, называя желчным.
Глава XIII
Увольнение мое от должности директора департамента железных дорог — Мои занятия финляндскими делами — Отношение императора Александра I к Финляндии — Крестьянский бунт — Беспорядки в управлении Финляндией — Барон Гартман — Граф Ребиндер и граф Армфельт — Начальник финляндских таможен Авелан — Противоречия в князе Меншикове — Случай со священником Зотиковым — Секретарь митрополита Суслов — Дело Форстадиуса — Смерть Гартмана — Лопари — Лангеншельд — Финляндский фарфор — Борьба князя Меншикова — Свод финляндских законов — Вопрос о городе Вазе — Винокурение
Граф Клейнмихель, вынужденный принять мою просьбу об увольнении меня от должности директора департамента железных дорог, не хотел выпустить меня из своего ведомства. Он предложил мне место члена совета, с тем чтобы я оставил место чиновника особых поручений при начальнике Главного морского штаба и финляндского генерал-губернатора, доказывая, что это звание унижает меня (с 1842-го по 1848 год я получил уже чин действительного статского советника и ордена: Владимира 3-й степени, Станислава и Анны 1-й степени), но как я на это не согласился, то, сделавшись членом совета, остался в прежних отношениях к князю Меншикову.
Свалив с себя обузу департамента, я нашел столько свободного времени, что мог опять заняться делами Финляндии с сосредоточенностью, совместною с моим к ним влечением.
Здесь представлялось мне поприще приятное: образованный, благородный, просвещенный начальник, рациональные уставы и миниатюрные размеры, так что в Финляндии можно было изучать вопросы экономические и политические, как на модели изучать механизм, — можно было действовать со спокойным умом и сердцем.
Дела финляндские занимали меня с 1835 года; с 1837 года я вошел уже в прямые сношения со всеми, возбуждал вопросы сам, принимал инициативы и, таким образом, заимствуя мысли из своего усердия и исполнительные средства от моего признательного начальника, я был так счастлив, что исправил или уладил многое, что в порядке канцелярской работы нельзя было бы исправить и уладить. Это возбуждало во мне новое усердие; я полюбил Финляндию душевно.
Приняв дела, я нашел в них целый архив шпионской системы Закревского. Князь Меншиков разрешил мне запечатать эти тюки, никогда не справляться с ними и забыть, что такая система существовала. Князь соблюдал конституцию с величайшим тщанием, устраняя даже наружные формы, которые могли бы показаться нарушением принятых обрядов, и непроницаемостью своих видов и убеждений умел держать все партии в равновесии, не убивая ни одной, но и не дозволяя ни одной брать над другими верх. Этого не умел достичь ни Закревский своим шпионством, ни Берг — сладостью своего слова.
С Финляндией довольно трудно управиться, если не считать в числе дозволенных средств — насилие. Император Александр I избаловал ее: независимо от собственных тенденций, он был под сильным влиянием двух шведов, бывших министров и заговорщиков, казненных в Стокгольме en effigie, т. е. заочно над их изображением: Армфельта (известного под именем северного Алкивиада) и Аминова. Они не только проводили в Финляндии все, что согласовалось с их конституционными взглядами, но имели влияние и на дела империи.
Армфельт был даже в самых коротких отношениях с императором, к которому поступил в службу. У сына его, министра статс-секретаря графа Армфельта, хранится целая корреспонденция между Александром и Армфельтом. Государь посылает ему какой-то проект по империи: «Прочтите записку, при сем прилагаемую, дорогой граф, и скажите ваше мнение». Ниже приписка рукою Армфельта: «Возвращаю записку, ваше величество, не дочитав до конца; она слишком скучна». Ниже приписка государя: «Неважно, все-таки прочтите». Эти два умных и тонких шведа-финляндца, закрепив права вновь присоединенной Финляндии, уговорили государя обратить под права финляндские и Выборгскую губернию — область, которую завоевал Петр Великий, где он роздал в потомственное владение земли генералам, побеждавшим шведов на этом театре: Салтыкову, Голицыну, Фридрихсу, Фоку и некоторым другим, и где он воздвиг русские крепости или занял русским гарнизоном бывшие шведские.
Финляндцы чтили память императора-благодетеля, но профессора, адвокаты, судьи и все «несменяемые» стали, как везде они действуют, мутить воду. В образованной части Финляндии их пропаганда оставалась бесплодною; но Выборгская губерния, по своему варварству, была восприимчивее. После столетнего повиновения палке, всем знакомой и всеми уважаемой, вступив в 24 часа в права конституционные, под сень и власть закона никому не известного, — крестьяне поняли только то, что сечь их нельзя, что они вольные и имеют право жаловаться суду даже на губернатора; перестали работать, перестали платить оброки, стали пьянствовать и винить полицеймейстеров в нарушении прав личности — habeas corpus, если те прикажут лежащего на улице мертвецки пьяного убрать в будку. Земледелие пришло в упадок; население обеднело; начались столкновения между землевладельцами и населением, — и правительство нашло нужным определить точнее обоюдные отношения. Губернатором был Валлен, решительный демократ.
В 1817 году подсунули государю доклад, в котором объяснялось, что по шведским законам правитель края не имеет права дарить казенные земли; что он может давать только во владение, т. е. в пользование на неопределенный срок; что по праву пользования помещики не имели права облагать обывателей большим оброком, чем казенный, и что потому все фрельзовые владельцы (дворянские) не фрельзовые, а казенные, бравшие с крестьян лишние поборы. Таким образом они подчиняли Петра-завоевателя законам побежденной страны, потому что Александр рассудил дать Выборгской губернии новые права. Салтыков, Голицын, люди богатые, не удостоили это распоряжение никакого внимания, беднейшие покорились, и манифестом 1817 года поведено обложить выборгские фрельзовые имения оброком — не выше казенного — в пользу владельцев.
Но адвокаты этим не удовлетворились; они стали отыскивать в пользу крестьян возврата всех переборов: в моих еще руках было дело о взыскании с г-жи Фок 42 000 рублей, а она получала с имения около 800 рублей дохода. Закревский хотел исправить ошибку, но не сумел это сделать. По его докладу состоялся в 1826 году высочайший рескрипт, объявлявший, что имения, подаренные Петром I, — фрельзовые, и что посему обыватели могут оставаться в них не иначе, как по контрактам, добровольно заключенным с помещиками, — но, прибавлял некстати рескрипт, так как крестьяне привыкли уже к мысли, что это земли казенные, то исполнение сего повеления отлагается на 10 лет, с тем чтобы финляндский сенат принял меры, в продолжение этого срока, к усвоению крестьянам нового толкования и к приготовлению их на исполнение обязанностей. Сенат ничего не сделал; юристы и сам губернатор внушали противное, а Закревский, занимаясь выкрадыванием из библиотеки Валлена запрещенных книг и масонских знаков, не смотрел, что делает Валлен в губернии. В 1836 году наступил срок исполнения рескрипта 1826 года; Меншикову пришлось вкусить плод, приготовленный Закревским. Владельцы предъявили проекты контрактов крестьянам и назначили им годовой срок на подписание контракта или выезда из имения. Крестьяне отказались от повиновения и свое упорство выразили так, как в первые времена Рима — римские плебеи: оставили свои хозяйства и ушли, только не на гору, как римляне, а в леса, как чухны, с куском хлеба в котомке, с дубиною в руках и с топором за спиною. Дело становилось грозное: следствием побега в леса представлялся голод, от которого надлежало спасти во что бы ни стало несчастных обывателей, жертв юридического зверства и юридической подлости.
Генерал-губернатор велел двинуть войско, отдавая, однако, его в распоряжение местной гражданской власти. Ленсман (становой пристав) с уложением и рескриптом в руках подошел к опушке леса и именем закона стал вызывать уполномоченных от скрывшейся толпы. Вышло человека четыре, между которыми седоволосый, огромного роста, старик с сыном. На слова ленсмана старик отвечал, что не слышит, но как только ленсман подошел к нему ближе, увеличив расстояние между собой и казацким конвоем, старик схватил его за голову, пригнул ее к себе, другою рукою вынул топор из-за пояса и взмахнул им; ленсман закричал: «Казак»! Казак наскочил и проколол старика пикою в тот момент, когда топор опускался уже на голову несчастного ленсмана. Толпа упала духом, опомнилась, воротилась на другой день домой и принялась за работу.
Но какое дело юристу до судьбы населения. Публичный обвинитель поднял тревогу; ленсман отдан под суд и приговорен в тюрьму, на хлеб и воду, на год и одну ночь. Князь Меншиков приказал губернатору (Стевену) не выдавать ленсмана, объяснив суду, что ленсман был исполнителем приказания начальства. Тогда абоский гофгерихт потребовал к суду губернатора, но генерал-губернатор уведомил его, что губернатор исполнял его приказание. Гофгерихт представил жалобу свою на генерал-губернатора в судебный департамент сената, а этот вошел со всеподданнейшим докладом о нарушении генерал-губернатором конституции.
Князь Меншиков вызвал нескольких членов сената в Петербург; спросил их, полагают ли они полезнейшим, чтобы в целой губернии появился голод или грабеж, думают ли они, что государь допустит гибель населения и расстройство администрации из педантического уважения мертвой буквы; знают ли они, что если край будет усмиряем оружием, то и законы будут писаны не юристом, а победителем; забыли ли они, что Польша еще недавно была лишена прав, данных тоже Александром, и т. д. Сенат струсил и взял свой адрес назад.
Так и следовало ожидать, но была опасность с другой стороны: как доложить государю? как кончить дело в гофгерихте? Меншиков представил, что для Выборгской губернии нужен особый гофгерихт. Он был учрежден, председателем назначен просвещенный граф Маннергейм; он вытребовал из абоского гофгерихта все выборгские дела — и похоронил дело о ленсмане.
Эта драма произошла только в одном имении и тянулась в последствиях, когда все дело было устроено, благодаря логичности управления. Граф Маннергейм был губернатором. Князь вызвал его в Петербург и поручил ему словесно собрать помещиков и просить их именем государя на первый раз не возвышать оброков, для того чтобы не ставить материальных затруднений к введению заключения контрактов; вместе с тем приказано пригласить их заключить первые контракты так, чтобы сроки их истекали в разное время. Благодаря этому контракты заключены и потом возобновлены без малейшего сотрясения.
В сороковых годах контракты вошли в нормальное состояние; повинности, ими определяемые, вдвое и втрое ниже повинностей в Новой Финляндии, однако в Выборгской губернии население бедно; за Кюменью же богато. На одном берегу реки бедные, полуразвалившиеся лачужки, крестьяне в рубище, лица исхудалые, болезненные; на другом берегу, в 150 саженях — дома, обшитые тесом, окрашенные чисто мумией, обыватели сытые, румяные, в чистом белье и опрятном платье, без всякого вмешательства администрации в их быт или в их отношения к землевладельцам. Вся разница в том, что по эту сторону Кюмени — леность, а по ту сторону — труд.
Ознакомясь с местными обстоятельствами, я имел случай убедиться, что и в этом благоустроенном крае бюрократия успела протянуть свой хобот: по судебному ведомству места давались по связям племянникам, зятьям и пр., иногда людям, ничем не доказавшим своих достоинств, кроме университетского аттестата; получив место, они не вступали вовсе в должность, а тотчас нанимали викария. Отсюда происходило, что судебные лица были двух родов: одни, зажиточные — праздные, другие, бедные — трудящиеся. Такой же беспорядок укоренился и в губернских управлениях: губернаторы обратили низшие полицейские места в способ награждать свою домашнюю прислугу за усердную службу.
Несмотря на охранительные обряды при замещении вакансий: вызов желающих по газетам, размещение кандидатов по старшинству службы, избрание из них трех достойнейших сенатом и утверждение одного из них государем или генерал-губернатором, — назначения делались пристрастно. 17-летний герадлевдит (приходский судья), никогда не занимавшийся службою и получавший только доход от своего места, — через 20 лет такой приятной жизни считался старшим лагманским кандидатом, и опять не исполнял должности, а только пользовался доходом от 3000 до 5000 рублей в год.
Генерал-губернатор испросил высочайшее повеление считать в старшинство и ту службу, которая проходилась в звании викария, — и, при равенстве других условий, ставить впереди то лицо, которое действительно исполняло должность, а не то, которое носило только титул и получало доходы. Это распоряжение изменило вдруг весь порядок; старые викарии получили штатные места, и все стали исполнять обязанности своей службы лично; по губернским местам князь требовал подробных формуляров от кандидатов. Разумеется, это не понравилось дядюшкам, тестям и тещам; они знали, откуда шел удар, и не могли меня жаловать, но зато большинство было довольно новым порядком.
Впоследствии я стал мешать высоким чиновникам спекулировать незаконною продажею вина, и они искали способа подорвать мое влияние. Это взял на себя барон Гартман, вице-президент сената, человек ума необыкновенного, ловкий, хитрый и изменявший себе иногда единственно от чрезмерной любви к политическим интригам. Прибыв в Петербург для объяснений по службе, он с тоном огорчения сказал князю, что весь край наполнен рассказами, будто все делает Фишер, — и что он понять не может, кто распускает такие слухи, обидные для всех, кто любит князя. Князь отвечал ему на это: «А знаете, барон, что это совершенно верно!» — и как он не мог обойтись без шуток, то и тут прибавил: «Иногда я спрашиваю Фишера: «Что это?!», прежде чем подписать, но он мне говорит: «Пока подпишите, я вам расскажу в другой раз», — и я подписываю!» Гартман переконфузился, — и потом никто уже не пробовал подобных уловок.
С бароном Гартманом я был лично в самых лучших отношениях, но по службе вел с ним постоянно подземную войну. Ему хотелось быть министром статс-секретарем; для этого надобно было отделаться от старика графа Ребиндера, почтенного, благородного и скромного до робости. Гартман уверил его, что князь Меншиков находит его устаревшим; Ребиндер всполошился и со слезами объявил Гартману, что он охотно попросился бы в отставку, если бы не имел долгов и не опасался, что жена его останется без куска хлеба, когда он умрет в отставке. Гартман обнадежил его, что князь Меншиков не откажется ходатайствовать о назначении ему бостели (аренды), если только это препятствует ему удалиться на покой. Затем Гартман обратился ко мне, изобразил стесненное положение Ребиндера и просил доставить ему бостель: «Но не надо, чтобы он знал об этом заранее; потому что он так горд в денежных делах, что отклонит всякую попытку в этом деле; надо, чтобы это над ним разразилось, как громовой удар».
Вся интрига раскрылась передо мною случайно; догадки графа Армфельта (товарища министра статс-секретаря), словцо, сказанное мне Ребиндером после хорошего обеда, — просветили мне тайные ходы; я просил князя Меншикова о бостели для генерала Ребиндера, рассказал ему все, что знаю, и приготовил проект рескрипта, в котором Ребиндер приглашался «не оставлять полезного своего служения». Граф Ребиндер, к которому я сам повез рескрипт, не верил своим глазам, растрогался до слез и сказал мне: «Умирая, я прикажу снести меня к императору и генерал-губернатору, скорее чем оставить службу». На другое утро я получил от доброго старика трогательную записку, которую сохраняю. Через год он скончался, поручив графине послать ко мне его портрет: он у меня в деревне.
По смерти графа Ребиндера Гартман напряг все свои силы, чтобы сесть на его место. Графиня Армфельт (первая, достойнейшая жена графа) просила меня приехать к ней по секрету, чтобы муж не узнал о том. Когда я явился к ней, она взяла с меня честное слово дать ей знать, если Гартмана пожелают назначить на место Ребиндера, дабы муж ее успел подать в отставку прежде, чем совершится оскорбление. Я обещал это графине, но вместе с тем стал думать и о предупреждении оскорбления. На князя Меншикова я не мог рассчитывать положительно; я знал, что одно доброжелательное слово государя о Гартмане могло побудить его рекомендовать Гартмана. Зная, что в России часто великие последствия рождаются от мелких причин, я советовал Армфельту просить позволения въехать в дом министра статс-секретаря на время исправления его квартиры. Это исполнено; затем осенью, когда зашла речь о замещении министерской вакансии, принято было во внимание, что Армфельт живет уже в министерской квартире, что неловко выгонять его оттуда, — и на этом основании он оказался единственным возможным кандидатом; Армфельт совершенно на своем месте. При всем том, обстоятельства, споспешествовавшие его назначению, дают мне повод утверждать, что у нас басня о горе, родившей мышь, дополнена: у нас не только горы рождают мышей, но и мыши рождают горы.
Барон Гартман был, однако, столь замечательный человек, что, воюя с ним в вопросах, где он являлся деспотом или интриганом, я поддерживал его, когда он проводил полезные мысли. Одна борьба стоила мне большого труда. Начальником финляндских таможен был старик Авелан; радея о пользах государственных, как добрый хозяин радеет о своих личных выгодах, он взял на себя слагать часть таможенных пошлин с таких товаров, которые легко провозятся контрабандою. Эти лицензии содействовали значительно уменьшению контрабанды. О них узнал граф Ребиндер, а потом и князь Меншиков, который предупредил, однако, Авелана, что если его распоряжение дойдет до сведения министра финансов, то он не в состоянии будет защитить его произвол.
Авелан не потерял мужества делать то, что ему казалось полезным государству. Этого человека хотел Гартман столкнуть, чтобы дать его место своему родственнику. Как начальник финансовой экспедиции он был начальником Авелану; дал ему какое-то словесное приказание, которого тот не принял, отзываясь, что он подчинен финансовой экспедиции, а не ему лично. Гартман написал ему, грозя именем князя Меншикова, на что Авелан отвечал, что князь ему — начальник как доверенное лицо, блюдущее закон, а не как барин рабу своему. Письмо это во французском переводе прислано к князю в партикулярном письме. Меншиков приказал мне заготовить немедленно доклад об увольнении Авелана от службы; в то время я еще был слишком молод, чтобы прямо протестовать; я просил князя, как милости, возложить эту работу на другого: я не мог ее исполнить. Князь пришел ко мне (я был болен) спросить, что это значило, и я откровенно сказал ему, что подобное действие столь вопиющей несправедливости так мало похоже на все действия князя, что перо мое отказывается от исполнения, что «я не хочу быть соучастником в деле, которое бросит тень на нравственные правила вашей светлости». — «Стало быть, вы хотите, чтобы я проглотил грубости, которые он мне сказал?» — «Я их не знаю, князь, я их читал по-французски, а Авелан пишет по-шведски». — «Но ведь вы читали перевод». — «Я не знаю, перевод это или сочинение».
Князь переменил оружие; он утверждал, что Авелан ссорится с начальством, что от этого служба может только терять и что если Гартман не хочет служить с Авеланом, то последний должен быть уволен. На это я повторил просьбу поручить редакцию другому, в чем он, конечно, не встретит затруднения. Князь, уходя, сказал: «Я хочу прежде доказать вам, что вы не правы». Две недели приходил он ко мне каждый день дебатировать этот вопрос. Я видел, что благородное сердце его тотчас распознало, на чьей стороне правда, но барская спесь не хотела преклониться. В одном из прений он имел неосторожность упомянуть о лицензиях. Мое дело с этих пор было выиграно! Я заметил князю, что если Авелан поступал неправильно, то князь давно мог остановить его, и что если это — причина его увольнения, то пусть он выставит ее и в рескрипте об отставке.
— Что же, по-вашему, надобно сделать?
— Уволить его от службы по преклонности лет, с полным содержанием и с награждением чином за полезную и честную 40-летнюю службу.
Так и было. Авелан, на верху блаженства, написал князю письмо с трогательными излияниями благодарности. Князь, прочитав письмо, пожал мне руку, сказав:
— Этим добрым исходом я вам обязан!
Странные противоречия гнездились в этом сановнике. Смертельный враг организованного шпионства, он сам, не ведая того, был под влиянием шпионов, действуя по сведениям, собранным под рукою. Я понимал источник такого противоречия. Князь знал, что непотизм господствовал в Финляндии, как и в России, и хотел знать правду, но в государстве, где все официальное — ложь, ищущий правды должен поневоле обращаться к иным источникам. Князь и выбрал этот опасный источник, так часто отравляемый ядом клеветы.
Я не упускал ни одного случая упрекать его в этом способе действия. Когда племянника моего, мичмана Паппенгута, обошли при производстве, я спросил князя, какая этому была причина.
— Он шалун!
— Почему вы это знаете?
— Мне сказали!
— Аттестовали ли вам всех мичманов или только Паппенгута? Ежели только его, то потому, что он мой племянник! Ваша светлость, согласитесь, что это одно из последствий службы моей при вас, которое трудно назвать преимуществом.
Князь поправил ошибку, но совершенно исцелил его от такой опасной системы следующий случай. Некто Виноградов, председатель духовной православной консистории, настоящий русский поп по лукавству, изъяснил свое соболезнование, что в Карелию назначает синод священников, не говорящих по-карельски. Что в Гельсингфорсе есть иерей Зотиков, из Карелии, и он желал бы быть на родине, что там есть и вакансия, но синод не назначает его туда. Князь Меншиков и бухнул отношение к митрополиту. Недели через три является ко мне Зотиков.
— Помилуйте! — говорит в слезах. — За что погубили меня? Я как член духовной консистории получаю 500 рублей; как учитель Закона Божия в школе — 300 рублей; я воспитываю детей в Гельсингфорсе, — и вдруг кидают меня в глушь, на 200 рублей содержания, и где мои дети не могут даже учиться чистописанию!
Когда я объяснил ему, что, по словам Виноградова, он сам желал служить в Карелии и что он, говоря по-карельски, может быть полезен православию, — Зотиков объявил, что по-карельски не знает ни слова, что никогда не изъявлял желания другого места, что Виноградову нужно было его место для своего родственника и он оболгал его. Меншиков поражен был как громом моим рассказом.
— Вот, ваша светлость, — сказал я, — последствия распоряжений на основании изустных, сообщаемых глаз на глаз сведений.
Князь умолял меня исправить ошибку: «Я вам в ноги поклонюсь». Я поехал к секретарю митрополита, чтобы узнать, когда можно видеть преосвященного и какие обряды существуют по этому предмету. Алексей Иванович Суслов жил в одном из тех деревянных домов, которые тянулись вдоль Невского проспекта, от Зимней Конной до Невского монастыря, с наружными деревянными лестницами в оба этажа, и составляли Александро-Невскую слободку. Теперь эти дома, кажется, не существуют. Вышел ко мне человек высокого роста, с курчавыми серебристо-сивыми волосами, нахального выражения лица. Узнав о поводе моего желания, он мне сказал:
— Это надобно со мною сладить.
Я отвечал ему, что приехал по официальному поручению и лично не могу действовать никакими партикулярными средствами.
— Ну как хотите! — дерзко отвечал Суслов.
Отправился я к митрополиту. Преосвященный спросил меня, был ли я у Суслова.
— Был, ваше высокопреосвященство.
— А что он вам сказал?
— Ничего положительного; он, кажется, принял мою просьбу за партикулярную; он сказал мне, что это дело надо через него устроить.
— Ну так условьтесь с Сусловым.
Я — опять к Суслову; в первой комнате сильно пахнуло жареным постным маслом и вареным луком. Суслов, жуя и глотая, как акула, вышел ко мне с салфеткою в руке, и прежде чем я стал говорить, он с громким смехом спросил:
— Ну, што?
Я изъявил свое недоумение, а он на это заметил:
— А я что вам говорил?
На отзыв мой, что я в этом деле человек посторонний, он повторил мне прежнюю фразу:
— Ну как хотите!
Я пересказал князю Меншикову слышанное и виденное; он после долгой нерешимости, что делать, написал митрополиту самую убедительную просьбу перевести Зотикова обратно в Гельсингфорс. На это получили ответ, что исполнить ходатайство его светлости оказывается совершенно невозможным, но что святейший синод, по уважению участия его светлости к службе Зотикова, определил наградить сего последнего бархатною фиолетовою скуфьею! Зотиков вскоре помер, вероятно, от радости, что получил фиолетовую скуфью.
Православное духовное начальство, поскольку оно проявлялось в Финляндии, не внушало мне чувств, могущих сделать из меня прозелита, тем более что уже в отрочестве моя совесть не могла усвоить себе убеждений в правоте действий во имя православия. Мой крестный отец, действительный статский советник Егор Борисович Фукс, был женат на трех живых женах, из которых первая вела процесс против двух позднейших, а вторая — против третьей, с которою Фукс прижил двух сыновей, быв до того бездетен. Когда синод решил, что второй и третий брак были незаконны, — Фукса не было уже на свете, а дети его, офицеры гвардии, и были признаны синодом незаконнорожденными. Допускаю, что в силу закона нельзя было решить это иначе, но зачем он медлил решением столь долгое время, что исполнение решения становилось возмутительным? Государь был, вероятно, сам возмущен этим решением, ибо в то же время пожаловал молодым Фуксам потомственное дворянство и фамилию Егорьевых.
В Финляндии был некто Форстадиус, протестант, которого тетка вышла замуж за Прокофьева, православного. Форстадиус влюбился в свою благоверную кузину Прокофьеву, которая лишилась уже родителей. Он и она просили чрез финляндский сенат высочайшее разрешение переселиться в Швецию и принять шведское подданство, на что соглашался и король шведский. Это было разрешено. Как шведская подданная Прокофьева имела право принять лютеранскую веру; как лютеранка, она имела право выйти замуж за своего двоюродного брата. Они обвенчались, прижили детей и обретались в Швеции. В преклонных летах тоска ли по отчизне или наследство — не знаю — повлекли их опять в Финляндию; супруги поступили тем же порядком: испросили соизволения государя на принятие их в финляндское подданство и соизволение короля на увольнение их из подданства шведского, переселились опять в Финляндию и годы жили спокойно. Вдруг какой-то православный священник пронюхал их историю, донес консистории; эта отнеслась в синод, а синод положил: Форстадиуса отдать под суд за совращение из православия своей двоюродной сестры; брак его признать недействительным; разлучить Форстадиуса с Прокофьевой от незаконного сожительства, «бо скверны аки козлии»; Прокофьеву предать церковному покаянию, а детей признать незаконнорожденными и воспитывать в правилах православной церкви.
Князь Меншиков, получив о том отношение митрополита, вступил с ним в полемику, но, не успев добиться изменения резолюции, приказал мне оставить бумагу у себя и не делать по ней никакого исполнения. Митрополит и синодальный обер-прокурор спрашивали князя Меншикова каждый месяц, какое распоряжение он сделал по тому отношению. Я спрашивал у князя, что прикажет отвечать? — «Ничего!» — был постоянный его ответ. Через несколько месяцев синод вошел с всеподданнейшею жалобою на финляндского генерал-губернатора. Когда государь написал «подтвердить», дело стало серьезнее: не исполняемо было уже не отношение синода, а высочайшее повеление.
— Что мне с ним делать? — спрашивал я.
— Ничего! — отвечал князь.
Прошло еще несколько месяцев, а между тем князь объяснил дело государю. Государь был в затруднительном положении: отказать синоду — нельзя; приказать исполнить приговор его государь не мог решиться. Князь сказал наконец:
— Государь! Не вмешивайтесь в это дело; пусть оно тяготеет только надо мною; подтверждайте мне, — а я прошу только снисхождения, если не быстро исполню подтверждение.
— Да, более нечего делать, — решил государь, и все осталось по-старому.
В Пасху, перед самой заутреней, получает государь послание от митрополита весьма резкое; не помню слов его, но помню, что в нем указывалось на посмеяние православной церкви, продолжающееся и в ту минуту, когда Иисус Христос воскресает. Государь отправил к Меншикову это письмо, встревоженный. Меншиков уведомил обер-прокурора о получении высочайшего повеления исполнить определение синода — и не исполнил его. Еще прошло около года, как в «Финляндской газете» прочитал я, что Форстадиус помер. Я побежал к князю в спальную сказать ему это известие, как я объявил бы ему известие об изгнании неприятеля из пределов отечества. «Форстадиус помер!» Князь вскочил с дивана с восклицанием: «Слава Богу!» Написали мы на другой день митрополиту, что Форстадиус помер, и просили его именем христианского милосердия, предать дело его воле Божией; в то же время отправлен о том доклад государю. Дело кончилось! «О! Князь!» — говорил мне Гартман голосом, сдерживаемым чувствами удивления и почтения.
Как произнесу имя Гартмана, так выступает предо мною эта замечательная личность, Кольбер в финансах, Макиавелли в политике, Секст V твердостью воли и маленький ребенок — в тщеславии. Дела его пошли плохо: кандидаты его несли часто поражение; проекты буферировались, — и царское благоволение поколеблено было каким-то неловким объяснением. Он, больной, чахоточный с 20-летнего возраста, дожив до 60 с лишним лет, едва таскал ноги, беспрестанно шатался от головокружения и кашлял так, что ежеминутно был в опасности задохнуться. Так пришел он ко мне один раз, убитый духом, опальный, опираясь на трость, с поникшею головою; проходя через комнату перед моим кабинетом, он зашатался; я подоспел к нему, и он упал ко мне на руки. Довел я его до дивана, куда он опустился с потухшим взором и безжизненным лицом, которого правильные тонкие черты уподоблялись камее афинского резчика.
— Поздравляю вас, барон, — сказал я ему. — Император пожаловал вам орден святого Александра.
Гартман вскочил, стиснул свои белые невредимые зубы, бросил палку, так что на проскользила через весь пол, и стал ходить по комнате бодро-бодро, приговаривая:
— Значит, мне еще не конец!
И это не было скинутое притворство, — это была сила воли.
Он умер в конце пятидесятых годов у себя в деревне, в отставке. «Есть вещи, милый друг Горацио, которые не снились мудрецам».
Я потерял из виду Гартмана и только изредка вспоминал о нем. В одну ночь я проснулся от неизвестной причины, и первое понятие, проснувшееся во мне, было — образ Гартмана. Я не мог оторвать мыслей от этого образа; все мои сношения с ним, все его качества, хорошие и дурные, воскресли в моей памяти; во мне возродилось желание с ним еще раз увидеться; я упрекал себя за то, что, будучи в Финляндии, поленился проехать еще 200 верст, чтобы посетить оставленного старика. На другую ночь то же самое, — и я положил: съездить летом к Гартману; но с первою почтою получаю из Финляндии извещение, что барон Гартман скончался!
Финляндцы поняли заслуги Гартмана, когда его не стало. В одной газете было очень метко изображено прежнее время, период Гартмана, и новое — правление графа Берга. Автор идет задумчиво по большой дороге; слух его поражается отдаленным звоном, гулом, треском, — и из-за горы показывается огромный экипаж в запряжке с бубенчиками; лошади суетятся, кучер размахивает кнутом; на империале сидит разукрашенный старик в парике (Берг носит парик). Поравнявшись с ним, старик кричит: «Сторонись, остановись! Я Новый год». — «Честь имею кланяться, ваше превосходительство!» — говорит странник. — «Высокопревосходительство! — поправляет старик. — Я високосный!..» С этим словом он откидывает стенку кареты, и странник усматривает в ней полки с проектами, рисунками, планами и прочее. «Вот что я везу вам, — говорит високосный год, раскидывая один план за другим, — вот телеграф, вот железные дороги, вот искусственное разведение рыб; здесь вы видите, как я раскидываю лососью икру в море; там, посмотрите, толпится народ: это приморские жители тащут сети, полные лососей». Расхваливая все это по-французски, год прибавлял слово scharmant, прелестно, когда самовосхищение доходило до апогея. «Я, — говорит автор, — оглушенный, озадаченный, отступил; экипаж покатился, бубенчики зазвенели. Я пошел далее и встречаю маленькие саночки, в которых сидел худенький, истомленный старичок. «Прости, — говорит он мне, — я Старый год! Отправляюсь отсюда безвозвратно!» За санями шла скромная женщина в глубоком трауре, ее звали Финляндия! Она, всхлипывая, говорила: «Прощай, старик! Спасибо за все блага, тобою нам доставленные; за труды, для меня тобою подъятые!»
И в самом деле, Гартман подвинул финляндскую промышленность, но нельзя того же сказать о народной нравственности. Прежде Финляндия отличалась строгим исполнением обязательств; умереть в долгах считалось бесчестием; там не отказывали в погребении тела несостоятельного должника, как в Древнем Египте, но общественное мнение бросало такой позор на покойного, что его родственники, скупцы, бедняки, жертвовали частью своего достояния, чтобы удовлетворить его кредиторов. При Гартмане явились банкротства.
Финляндия представляла феноменальное явление: чем ниже чиновник, тем выше нравственность. Сенаторы спекулировали иногда нарушением закона; ленсманы — никогда! При Гартмане это ослабло; при Берге — изменилось, и, вероятно, Финляндия никогда уже не воротится к прежним своим нравам.
Два дела, мною подвинутые, оставляют во мне приятное воспоминание. Одно — о финляндских лопарях, другое — о городе Вазе.
Галямин оказал плохую услугу разграничением Финляндии с Норвегией; проведя границу вдоль реки Таны, он совершенно отрезал Варангерский залив от Финляндии, а в этом заливе лопари наши промышляли и запасались рыбою. Правда, в трактате постановлено было, что финские лопари имеют право заниматься рыбною ловлею в заливе, а взамен того норвежские лопари могут гонять зимой своих оленей на финляндские моховые пастбища, но как исполнялся этот трактат — о том никто не заботился.
Барон Котен говорил мне об одном чиновнике губернского правления, Лангеншельде, как об очень способном человеке; я с ним сблизился и узнал от него, что он был в Лапландии, что нашим лапландцам плохо, что норвежские олени выедают у них церковные ограды и домашние огороды, а наши лапландцы могут ловить рыбу в Варангере только как батраки; норвежская полиция, принимая букву трактата, говорит лопарям нашим: «Вы можете ловить рыбу, но не имеете права строить шалаши и оставлять на берегу на зиму свои лодки и свои сети». Такое толкование равносильно запрещению. Лопари наши вследствие того умирают с голоду или толпами переселяются в Норвегию, находя, что выгоднее быть норвежским, чем финляндским подданным.
Я вытребовал все дело о пограничных отношениях и, к удивлению моему, увидел из него, что переписка с графом Нессельроде о равноправности лопарей тянется 20 лет! Я составил доклад в два столбца; с одной стороны выражался весь комизм нашей бесплодной переписки, с другой — все коварство норвежского министерства и бедственное положение лопарей наших. Князь Меншиков стал критиковать мои выражения, называя их то неловкими, то резкими; мне стало досадно. Я составил другой доклад и, поднося князю, объявил ему, что первая записка моя составляла меморандум, который я предназначал для графа Нессельроде, но как он находит его недостаточно официальным в тоне, то я представляю доклад всеподданнейший и думаю, что его светлость не остановится чувствами вежливости на пути, которым можно спасти целое население от голодной смерти. В заключение я предполагал объявить норвежскому правительству, как ультиматум, что если через шесть месяцев, к осени, не последует согласия на наши предложения, то трактат считаться будет требующим пояснения, а до тех пор границы обоюдно закрываются: финские лопари перестают ходить к Варангерскому заливу, а норвежские — пасти стада свои в Финляндии, а так как доселе последние самовольно переходили дозволенную черту, то местное начальство распорядится об усилении гарнизона, который будет ловить и конфисковывать зашедших оленей.
Дело в том, что наши лопари могли обойтись без варангерских тюленей, но оленям норвежским нечего есть вне наших пастбищ. Шведское министерство было так избаловано нами, что не обратило внимания и на ультиматум; утверждало, что в шесть месяцев нельзя решить дело, потому что должно быть представлено норвежскому Thing, а наше отвечало, что дело тянется не шесть месяцев, а 20 лет. Наступило 1 октября; граница закрыта; до 1 ноября пало уже 15 000 оленей от голода. Шведское министерство поспешило объявить, что оно согласно на все, только просит как можно скорее снять пограничный кордон. Так кончилось это долгое дело. (Теперь, через 20 лет, узнаю из записок Видемана, что лапландцы наши перешли почти все в Норвегию! Хорошо исполняли трактат!)
Я познакомился с Лангеншельдом, когда он был в 7-м классе и получал 300 рублей жалованья, — уже лет за 30 от роду; я определил его вторым секретарем в финляндский статс-секретариат, место 8-го класса, с 1800 рублей жалованья. Года через полтора занял он вакансию первого секретаря 6-го класса, с 3000 рублей жалованья. В 1853 году, т. е. года через два, я рекомендовал его князю Меншикову как лучшего кандидата в абоские губернаторы. При назначении Берга финляндским генерал-губернатором я обратил внимание его на Лангеншельда. Он узнал его и назначил губернатором в Гельсингфорс, затем членом финляндского сената, затем в 1860 году начальником финансовой экспедиции, а в 1864 году Лангеншельд умер — в звездах и бароном.
И это не один пример.
Явился раз ко мне переводчик губернского правления, человек бедный, получающий жалованья 120 рублей и состоящий по должности в 14-м классе. Он рассказал мне, что получил от отца в наследство десятин десять земли; по наружным признакам он заключил, что земля эта должна содержать фаянсовую глину (в Выборгской губернии), начал разведывать и открыл такую глину фарфоровую и фаянсовую, какую трудно найти лучше для домашнего обихода; что он сформовал несколько тарелок, показал их купцу Гостиного двора, и этот объявил ему, что будет брать у него весь товар, сколько бы ни оказалось. Но денег нет у него ни гроша; он построил в долг один маленький горн, — а для серьезной фабрикации ему нужен завод, который стоить будет до 10 000 рублей. Этой суммы в ссуду он не смеет испрашивать, но заявляет факт. Я посоветовал ему сделать чашку для простокваши с гербом наследника. Эту чашку из финляндского фарфора князь представил цесаревичу, а цесаревич показал, как редкость, государю. Затем испрошено ему 10 000 рублей в ссуду, и завод пошел в гору.
Вот плоды классического образования, которого ищут молодые финляндцы прежде, чем думают об успехах на службе. У нас в России никто не ищет просвещения; родители отдают детей в училища не для науки, а для получения аттестата; платят тысячи за приготовление детей в лицей или в военное училище в два месяца; знают, что сын ничему не научится, да и не тужат: лишь бы приняли и поскорее выпустили 9-м классом или прапорщиком. Это равнодушие к успехам находит себе то оправдание, что и преподавание в училищах — одна декорация; предметов бездна, программа блестящая, а экзамен с фальшем; все делается для программы и для экзамена. Само правительство смотрит на желание учиться как на самоотвержение, дает чины в награду за то, что юноша учится на казенный счет. Я представил раз записку о прекращении преимуществ в службе по аттестатам. Как все возопили! Родители — за детей, а начальники — за то, что хотят унизить училище, состоящее под их покровительством. Горчаков (наместник) сказал про подобный проект мой: «Я бы желал, чтобы не знали, что этот проект когда-либо существовал».
Чем невежественнее край, тем богаче мнимыми талантами. Россия изобилует мудрецами, критикующими людей общественных, мужей государственных; помещики, не читавшие ничего, кроме «Современника», студенты, плохо знающие свои уроки, женщины, ученые только по инспирации, судят министров, дипломатов, администраторов. Все это так злобно и вместе с тем так невежественно, что слушать их, или, вернее, слышать их, даже не слушая, — истинное мучение. Как труден суд правильный, — это может знать только тот, кто посвящен во все тайны общественной деятельности. Сколько винили Меншикова за пренебрежение частями, ему вверенными, потому что он не писал громких проектов, — но я знаю борьбу его, стоившую ему многих огорчений и многого благоволения царского. Кроме идей, проявлявшихся внезапно у государя, как, например, рекрутская повинность в Финляндии, военно-сухопутная иерархия во флоте и т. п., князь Меншиков получил незавидное наследство и от Закревского.
При Закревском последовало высочайшее повеление обязать всех финляндцев учиться по-русски и через пять лет не принимать никого в службу, кто не знает русского языка. По объявлении этого повеления финляндцы, учившиеся по-русски добровольно, перестали ходить на русские лекции. Прошло пять лет, никто не знал по-русски, а вакансии замещать нужно. На доклад о том государь повелел ввести в Финляндии русский училищный устав. Еще лучше! Недоставало бы затем преобразовать Дерптский университет по образцу юнкерской школы!
В Финляндии курс низших училищ — чисто народный; там не учили крестьянских детей российской истории, но внушали им религиозные чувства, объясняли четыре действия арифметики и читали наставления сельскохозяйственные. В средних училищах курс был чисто классический, потому что эти училища были вместе с тем семинарии; преобразовать эти училища на русский лад значило бы не только испортить училища в отношении к гуманистическому образованию, но и уничтожить приготовительное богословское назидание. Государь понял важность представленных ему доводов, но, кажется, не верил их искренности; велел составить сравнение уставов, статья против статьи, и объяснить причины неприменимости каждой. Эту работу я должен был исполнить лично; труд мой обнимал 100 листов! Государь не находил времени прочитать их. Тогда я приготовил доклад о главных основаниях преобразования. Князь Меншиков просил государя поверить финляндскому сенату, предоставить ему написать и издать устав, по основаниям высочайше утвержденным. На это государь согласился, — и гроза миновала: в средних училищах были устроены параллельные кафедры по истории и географии, русские и шведские, с правом учащихся выбирать, какую хотят. Через год в фридрихсгамском училище явилось по русскому отделению 72 слушателя вместо бывших дотоле четырех. Наши гении, вводящие русский элемент в западных губерниях, этого не понимают: они умеют владеть только топором.
При Закревском заложены были Аландские укрепления (в Бомарзунде); на счет бедной Финляндии сделан заем тысяч в триста. Князь Меншиков, видя несообразность плана, но зная и то, как государь был чувствителен к критике инженерных планов (неудобство раздачи должностей великим князьям: государь во всю свою жизнь сохранил в себе остатки генерал-инспектора по инженерной части), объяснил великому князю Михаилу Павловичу бесполезность этих укреплений. Великий князь, объяснясь с государем, говорил потом Меншикову важным тоном: «Ваши замечания правильны, — но… теперь слишком поздно». В то время возведен был только фундамент.
Но это еще не все. Инженеры издержали всю занятую сумму, не построив и двух третей, и военное министерство потребовало новой ассигновки. Это было уже невыносимо. Князь Меншиков восстал решительно; он говорил государю, что Финляндия не может разоряться для насыщения расточительности полевых инженеров, что если бы достройка укреплений была поручена распоряжению финляндского сената, то прежняя смета была бы достаточна и даже избыточна. Государь уступил, — но сердился на Меншикова.
Кредит князя Меншикова уже колебался, когда возник Блудов (сделавшийся великим со времени смерти. В нравственном отношении наши покойники часто вырастают до колоссов; живой пигмей становится исполином в эпитафии). Блудов предложил государю издать свод законов и для Финляндии. Не спрося генерал-губернатора, учредили финляндский комитет под председательством Валлена, тогда прокурора сената (генерал-прокурора), и подчинили его II отделению собственной его императорского величества канцелярии. Блудов назначал оклады и награды, — а Финляндия платила. Через несколько лет свод составлен, и государь утвердил было этот труд, но как манифест следовало написать по финляндским обычаям, то и нельзя было обойти князя Меншикова. Меншиков доложил государю, что все уложение финляндское — меньше половины одного тома свода; в докладе писал я, что финн, недоверчивый по природе, любит свои законы, как самого себя, что если он новую форму изложения примет за новый закон, то государь утратит ту верноподданную любовь, которой исполнена теперь вся Финляндия, — и закон исполняем не будет. Посему испрашивалось высочайшее разрешение разослать новый свод во все суды не для руководства, а чтобы с ним ознакомиться, и в течение трех лет ссылаться в постановлениях по-прежнему на уложение, прибавляя в выносках указание на соответствующий параграф свода; тогда общество убедится, что законы те же, но только иначе размещены. На этот раз князь Меншиков не спорил против моих выражений, «слишком резких»; дело было слишком серьезно. Доклад утвержден.
Мы слишком коротко знали ветреность Валлена и пустословие Блудова, чтобы не видеть, что предложенная нами мера поведет прямо к изобличению бредней кодификации. Так и вышло. Не прошло года — финляндский сенат представил на высочайшее усмотрение две толстые тетради: одну — об изменениях в смысле законов, сделанных кодификационным комитетом; другую — о вновь изобретенных им законах. Спросили Блудова. Блудов не раз уже писал объяснения презамечательные; например: Я писал это вашей светлости оттого, что не имел всего дела под рукою» — и т. п. Так наивно поступил он и в настоящем случае; написал, что он прибавил некоторые законоположения «для округления глав», что устарелая форма уложения не укладывалась в рамки новейшей кодификации, что в ней оставались бы пробелы. Князь понес эту исповедь к государю, и свод… съели крысы. Единственным памятником этого труда осталось баронское достоинство Валлена и разрешение ему, при двух живых сыновьях, усыновить Шернваля, с фамилией барон Шернваль-Валлен, независимо от настоящих баронов Валлен! Напишут ли это в биографии графа Блудова?
Вопрос о городе Ваза был тоже довольно важен. Ваза выстроена была на берегу моря; с тех пор уровень ли моря стал понижаться, или море только перемещалось, но город очутился уже не у моря, а в двух или трех верстах от него, имея перед собою острова, бухты и проливы мелководные; от этого и большие купеческие суда не могли уже подходить к самому городу; явилась надобность посреднической перевозки. Город этот сгорел, за исключением каких-нибудь 20 или 30 домов на форштадте. Среднее купечество и некоторые обыватели просили о постройке нового города опять у моря; план составлен был отлично; все островки употреблены в дело: где таможня, где склады, где верфь, — и все под рукою. Но те большие негоцианты, которые содержали перевозные пароходы, и те обыватели, которые владели лучшими дворовыми местами в старом городе, домогались, чтобы город строили вновь на прежнем месте. В сенате большинство было за прежнее место; магистрат города — за новое. Я поддерживал магистрат: так и было решено. Восторг магистрата, большинства купечества и окрестных землевладельцев — невыразимый. Они просили государя позволения назвать город «Nicolaistad», но государь не принял этого. За мною осталось недоброжелательство сенаторов, которые в этом вопросе были разбиты.
Другой вопрос еще серьезнее. Гартман, Рамзай, сенаторы и некоторые богатые помещики стали спекулировать на винокурении; сочинили новый устав, по которому домашнее винокурение ограничено, а против злоупотреблений заводского установлены штрафы, но какие: за каждый раз открытого перекура — столько-то; за каждый раз незаконной продажи — столько-то; открывать зло должны были ленсманы, а когда ленсман донес губернатору, что Гартман курит вино дольше срока, он ему погрозил. Я представил князю Меншикову о необходимости сделать следующие перемены в уставе: вместо каждый раз сказать каждая канна и открывателю злоупотреблений присвоить 1/3 штрафных денег, — это задело за живое! Дело тянулось до самого отъезда князя в Константинополь, а на меня встала сильная партия.
Еще прежде того, в 1849 году, социализм проник в Финляндию; в газетах появились дерзкие статьи; составилось общество распространения полезного чтения на финском языке. Князю Меншикову донесли, что в Гельсингфорсе издаются французские романы и уже напечатан перевод Евгения Сю по-фински, продаваемый выпусками по 5 копеек. Князь Меншиков попросил высочайшее повеление воспретить брошюры и выпуски на финском языке, исключая сочинения первоначальных наук, религиозные и хозяйственные. Тогда поднялась и литературная партия против князя и против меня, которого считали виновником и этой меры, хотя князь Меншиков в этом случае сам принял инициативу.
Глава XIV
Моя неудачная женитьба — Назначение мое товарищем финляндского министра статс-секретаря — Взгляд на мою службу при графе Клейнмихеле — К его характеристике
Годы 1848 и 1849 были эпохой перелома в моей жизни: отношения мои к графу Клейнмихелю сделались невыносимы; кредит князя Меншикова упал, а с ним и мои надежды на лучшую будущность; женился я очень несчастливо и почти против воли и поселил таким образом в своем доме семена постоянного раздора. Не стану записывать эпизоды этого несчастного времени: я их не забуду, но теперь уже сам перестаю верить возможности такого случая, какой был со мною.
Мне минуло 40 лет; двоюродная сестра моя Эльвира стала уговаривать меня жениться; она говорила, что теперь я могу еще надеяться поступить благоразумно и полюбить жену; лет через пять это уже очень трудно, а в старости рискую жениться на прачке. В пример приводила Грейга, женившегося на жидовке, и Жандра, женившегося на солдатской дочери. Эти примеры, особенно первый, поколебали меня.
У тайного советника Маркова была дочь, о которой муж кузины моей говорил, что это — ангел кротости; что он знает Маркова 25 лет, а дочь его — от рождения. Я стал приговариваться к Маркову узнать, угоден ли ему такой зять, как я, и что он намерен дать дочери, причем просил его не говорить ничего своей дочери, ибо я еще не сватаюсь. Он просил меня заехать к нему когда-нибудь переговорить о том, что принадлежит дочери; я поехал 23 апреля, в день св. Александры. Стали толковать; он на какую-то мою фразу сказал мне что-то грубое; на это я отвечал ему колкостью; он взбесился, — и я заключил, что при таком предисловии я не могу надеяться на домашнее счастье, отступаюсь от своего намерения и прошу все бывшее между нами считать недействительным. Марков заметил: «Все к лучшему; но, знаете ли, сегодня именины Саши; разве вы не зайдете в гостиную ее поздравить?»
Я пошел в гостиную; через пять минут входит госпожа Маркова, ведя за руку свою Сашеньку; сзади — гувернантка и нянька старая в слезах; эти ревут: «Какую вы у нас берете!» Мать провозглашает, что дочь согласна, и она нас благословляет; дочка, потупив взор, отлично сыграла роль подстреленной голубки. Первая моя мысль была утешить семейство объявлением, что я не думал брать их сокровище, — но, совестясь поступка, который поставил бы девушку в унижающее положение, — я не решился сказать ни слова и через несколько минут уехал, а Марков поспешил повестить, что дочь его сговорена. Так я женился! Рассказывая это приятелю своему Норову, я сконфузился, увидев в соседней комнате сенатора Корнилова, умного и забавного человека.
— Не женируйтесь, Константин Иванович, — сказал он. — Что смущаться: меня женили точно так же! — И, едва договорив, спохватился: — А где жена?
— Наверху, — отвечал Норов.
— Ну, слава Богу! А я уж испугался!
К моему великому счастью, бешеный Мефистофель-отец сам увез своего дьяволенка через 8 месяцев. Дом мой перестал быть адом, но Марков выставлял свою «добродетельную» дочь мученицею моей злости и моего разврата и затрагивал мою репутацию. Ее исправила моя бывшая жена: она выманила у отца 60 тысяч рублей и бежала с помощью фальшивого паспорта с конторщиком, который обокрал своего принципала; гордый отец ее не пережил скандала: он захворал и через несколько месяцев помер, целовав руки мне, когда я навещал больного богача, и обнимал своего крепостного слугу за то, что он его не бросил. Он умер как нищий, увеличив правдою и неправдою свое богатство. У меня сохранилось письмо одного из его сыновей, выражающее семейную картину проклятого Богом семейства.
Пробыв год членом совета Главного управления путей сообщения, я получил приглашение занять место товарища министра статс-секретаря финляндского (графа Армфельта). Так как место это по конституции должен занимать финляндец, то, за несколько дней до моего назначения, поведено было внести меня в число родов финляндского рыцарского дома; а чтобы это могло служить как прецедент, в рескрипте сказано было, что это достоинство дается мне в возмездие пользы, принесенной 17-летними трудами по заведованию финляндскими делами. Граф Армфельт хлопотал, чтобы при этом случае я был возведен в баронское достоинство, но я отклонил это, не желая быть позванным пришельцем в среду лиц, гордящихся своим замкнутым положением. Такое вступление в среду их имело бы для меня скорее обидные, чем почетные последствия, и за них пришлось бы мне еще заплатить 2000 рублей. Впрочем, кузина моя до сих пор не может мне простить этого отказа. Так я отделился от морского ведомства (кроме кодификации), от русской службы и, к сожалению, от цесаревича.
Должность правителя дел комитета железных дорог была совместна с должностью директора департамента, почему, подав прошение об увольнении меня от сей последней, я счел обязанностью доложить об этом его высочеству. Явясь в шесть часов после обеда, я доложил, что восемь лет пред сим его высочество дозволил мне представляться, когда я сочту это нужным, что я не смел пользоваться тем без крайней надобности и что эта надобность теперь настала: я пришел изъяснить мою скорбь, что, вынужденный оставить департамент железных дорог, я с тем вместе лишаюсь счастья работать под его глазами. Наследник спросил меня, отчего я оставляю департамент, — говоря откровенно. Я объяснил фальшивость моего положения между законом и произволом. Наследник очень милостиво сказал, что он очень жалел бы «расстаться со мной» и будет просить государя оставить меня правителем дел. Получив на это высочайшее соизволение, он сам поехал передать его Клейнмихелю, однако же прошло несколько недель, а я не получал никакого о том уведомления. Я написал к обер-гофмаршалу Олсуфьеву, который доложил мое письмо цесаревичу, и именем его объявлено мне, что я остаюсь правителем дел, что я и внес в свой формуляр, — но Клейнмихель с тех пор ничего не вносил в комитет. Только тогда, когда меня сделали товарищем министра статс-секретаря, он внес кучу дел в комитет и привез с собою директора департамента, доложив комитету, что прежний правитель дел выбыл из русской службы.
Обозревая пройденное мною земное поприще, мои воспоминания останавливаются перед эпохою моего вступления в финляндскую службу в звании товарища министра статс-секретаря как перед эпохою, в которую началось хотя кратковременное отдохновение моей усталой, разочарованной жизни.
После младенчества грустного и отрочества безотрадного я провел около семи лет в моей духовной работе — период тяжкий. Озабоченность и нерешимость в делах служебных; неопределенность и неуверенность в отношениях общественных; сердечные муки, порожденные неудовлетворенною страстью.
С 27-летнего возраста жизнь моя светлеет: самостоятельность труда, твердость надежд на будущее; приятная семейная жизнь в кругу княгини Гагариной; благосклонный прием в домах, с которыми свела меня общественная деятельность; денежные средства выше потребности; запас сил, не истощаемый никакою работою, и молодость, — словом, все, что могло бы сделать меня счастливым, если бы меланхолическое настроение духа, проникнувшее во всю мою натуру, не прерывало светлого течения моей жизни.
Попав в директоры департамента 36-ти лет, я удовлетворил самолюбие матери; она писала мне из Николаева: «Благодарю тебя за радости, которыми я чрез тебя наслаждаюсь; они вознаграждают меня за заботы и беспокойство, которые меня мучили во время твоего детства из-за твоего слабого здоровья», — но я сам чувствовал, что попал в чиновники; даже на светских моих отношениях отражался этот новый фазис моего бытия; до этого назначения никто не знал, что из меня будет; ожидали чего-то особенного и при каждой высокой вакансии произносили мое имя; по назначении открылось для всех, что я иду по колее избитой и заплеванной, что эта колея имеет два исхода: безвестная дорога в безвестную отставку или чиновническая поступь в инвалидный сенат.
Я никогда не был честолюбив; для меня скромное место было приятнее, чем высокое, при обязанности делать беспрестанные визиты. Поэтому я не жалею собственно о том, что меня не считают уже восходящею звездою, но служебные дрязги, убеждение, что при первом невольном столкновении я должен буду преклонить голову перед невеликодушным министром, — опасение, что он может оболгать меня перед государем так, что я о том и знать не буду, — все это давило мой дух, а несчастный брак довершил поражение.
С выездом из дома князя Меншикова, где я жил 15 лет безмятежно и пять лет благополучно, — звезда моя закатилась! Замечательно, что и его звезда тоже. С 1848 года и он, и я стали предчувствовать неотрадную будущность. За мной оставалось только утешение, что по моей инициативе многие достойные люди Финляндии всплыли наверх, многие злоупотребления прекращены, много принято мер, полезных для края; что департамент железных дорог, мною сформированный, слыл первым явлением в истории российской хозяйственной администрации и что я спас многих от губительного произвола моим упорным сопротивлением, несмотря ни на грозу свыше, ни на укусы пресмыкающихся, которым не нравилась моя официальная откровенность. Но утешение не есть счастье; утешение не нужно счастливому; оно только умеряет душевные боли. Так, вступая в новый фазис службы для края, который я знал и любил, с лицом, которое я чтил и любил не менее, я чувствовал радость, но из-за этой радости выглядывало чувство скорби и разочарования.
Вырвавшись из грязной каши министерства путей сообщения, в которую увлечен был течением обстоятельств, я обратил свои взоры на прошедшие восемь лет и изумился пред картиною, рисуемою моими воспоминаниями. Клейнмихель и государь, две личности противоположных свойств, жили и работали вместе, как должны бы жить и работать люди, единодушно мыслящие и действующие.
Клейнмихель не был ни корыстолюбцем, ни злобным по натуре, но подлость его вела всегда к подлым и нахальным действиям. Наслышась о его проделках, но заметив лично, что он, вероятно, родился лучшим, что испортил его Аракчеев, что он еще не сделался равнодушным к чести и желал слыть за человека честного, что он даже чтил людей честных, — я притворился, что считаю его за благороднейшего человека. Посредством этой политики я несколько лет держал его в круге действий честного человека, но не менее того проглядывали его привычки. Он считал себя в обязанности ставить себя настолько же выше своих подчиненных, насколько он сам стоял ниже своего государя, и для вернейшего расчета дистанций подражал государю в мелочах и в проявлениях дурных его побуждений.
Так, случилось раз, что Адлерберг, товарищ военного министра, отнесся к нему как-то начальственно. Он этим обиделся и написал Адлербергу, что сам испросит поэтому высочайшее повеление. Адлерберг понес этот ответ к государю; государь написал на нем: «Как смел господин Клейнмихель ослушиваться моего повеления, объявленного ему товарищем министра», и послал к нему ответ его назад.
Через несколько дней кто-то объявил полковнику Кролю приказание графа Клейнмихеля. Кроль отвечал, что он сам доложит о том деле графу. Получив о том донесение, граф написал: «Как смел господин Кроль ослушиваться» и т. д., повторяя слово в слово тот выговор, который сам получил от государя.
Когда Клейнмихеля назначили главноуправляющим путями сообщения, он поехал на другой день с Р. Л. Девятиным, товарищем главноуправляющего, осматривать учреждения своего ведомства. Девятин, человек честолюбивый и вкрадчивый, на этот раз опростоволосился; он старался блеснуть своим умом и своими познаниями и в этих видах, сидя в коляске с графом, рассказывал ему многословно, как, что и для чего учреждено, с намеками, что много хорошего сделано по его мыслям. Хуже он не мог отрекомендовать себя. Он не рассчитал, что для невежды-министра всеведущий товарищ хуже чумы, что такой министр будет советоваться не с товарищем, а с людьми, не имеющими никакого значения, что, пользуясь их советами, он выдавать их будет за собственные мысли, уверенный, что те мелкие советники будут в полном смысле тайные советники, не как я, у которого никто ни тайных, ни иных советов не спрашивает. Не прошло недели, как Девятин переведен в совет, а на его место назначен робкий, безгласный Рокасовский, перед которым Клейнмихель вовсе не церемонился.
Когда время пришло подумать о подвижном составе, департамент представил ему расчет, по которому полагалось нужным иметь 180 локомотивов, 180 тендеров, 1800 пассажирских вагонов и 6400 товарных. Клейнмихель позвал моего вице-директора Кроля и спросил у него, что такое тендер; Кроль сам этого не знал, но, струсив, отвечал наугад: это маленький локомотив. «Врешь! — заметил ему Клейнмихель. — Тендер — морское судно; это выдумка этого канальи американца, на случай, что поезд свалится в воду; у меня таких беспорядков не будет; не нужно тендеров», — и вычеркнул.
Ему очень хотелось заказать вагоны в Бельгии, потому что они дешевле; приехал из Брюсселя какой-то аферист с товарищем, Castillon и d’Haneton; они увивались около Дестрема, который хлопотал за них у графа, но я настаивал на том, чтобы подвижной состав приготовлялся на нашем заводе во что бы то ни стало, для того чтобы образовать собственные мастерские — хотя бы только для ремонта. Этого же мнения были Чевкин и Бобринский. Когда Александровский завод был отдан Harrisson et С° по контракту, требовавшему, чтобы подвижной состав был заготовлен там из привозного сырого материала, но посредством наших казенных рабочих, человек пятисот, Рокасовский объявил графу, что этим контрактом граф стяжал себе бессмертие. Клейнмихель, стоя спиною у камина, с раздвинутыми полами, отвечал нагло: «Я этого и хотел!»
Подчиненных трактовал он хуже, чем своих лакеев. Приехав от государя, он спросил о своем директоре канцелярии Заике у своего камердинера: «А где вонючий пес?» Лакей отвечал: «Он в канцелярии!» Стало быть, это выражение слышал не в первый раз. Но тот же самый граф Клейнмихель умел быть совершенно другим человеком; со мной он был не только вежлив, но и уступчив, разумеется, в вопросах, где уступчивость исправляла только последствия его бестолкового деспотизма.
У меня под начальством служил почтенный старик-бухгалтер Мерц; ему предложили место в опекунском совете, выгоднее того, которое он занимал в департаменте железных дорог. Он пришел просить меня убедительно не противиться его увольнению. В то же время секретарь Авдеев просил отпуска на четыре месяца для раздела имения. Я представил графу их просьбы при докладе, в котором просил удовлетворить просьбам, так как Мерц мне не нужен, а Авдеева я не желал бы лишиться. Клейнмихель приказал в просьбе Мерца отказать, а Авдеева — вовсе уволить от службы. Прочитав эту резолюцию, я приказал написать другой экземпляр доклада того же содержания и поехал к графу. Я объявил ему, что не могу показать его резолюций моим подчиненным, потому что в них выражается явно неудовольствие против меня, что, не зная лично ни того ни другого, граф решает просьбы их противоположно моему ходатайству, а потому если ему не угодно уничтожить доклад с резолюцией и написать на другом: «Согласен», то я прошу уволить меня от звания директора. «Какой избалованный!» — сказал граф, разорвал первый доклад и написал на втором: «Согласен».
Но едва ли не в высшей степени нахальства дошел он в отношении к Брискорну. Когда Клейнмихель был дежурным генералом, Брискорн, тайный советник и статс-секретарь, был директором канцелярии военного министерства, — не только равный Клейнмихелю по иерархии, но ему часто нужный. Тогда он в Брискорне заискивал. Управляя министерством несколько недель в отсутствие Чернышева, он стал на время начальником Брискорна, но был с ним по-прежнему вежлив, называя его превосходительством и Максимом Максимычем. Возвысясь до главноуправляющего путями сообщения, Клейнмихель, встретясь где-то с ним, просил его к себе по субботам, но когда Брискорн приехал и, идя по зале, полной народа, поклонился и произнес: «Здравствуйте, ваше сиятельство», граф закричал ему: «Здравствуй, Брискорн!» Этот переконфузился, — да и что тут делать: не браниться же с хозяином дома за то, что он груб. Зачем ехал к грубияну!
Государь же наводил на него такой трепет, что граф терял голову, и я уверен, что он часто лгал не с намерением, а оттого, что со страху не помнил себя и не знал, что говорить. Государь знал его. Один раз, встретив Лярского у Нелидовой, он сказал ему:
— Клейнмихель тебя бранит.
Лярский отозвался, что ему это известно, но он никакой вины за собой не знает, и удивляется, что граф бранит его вслед за наградою, которую сам ему исходатайствовал.
— Однако, — заметил государь, — советую тебе остерегаться; лучше уйди от него, а то он тебя упечет.
Это говорил государь.
В департаменте железных дорог служил Марциновский, дворянин западных губерний, скромный, тихий молодой человек. На нем выразилось самым уродливым образом свойство тогдашней системы политического надзора. Когда арестовали Петрашевского, оказалось, что в числе его знакомых был и Марциновский. Вдруг он пропал; перестал являться в департамент, не возвращался домой, и полиция не могла дознаться, куда он девался. Месяца через четыре он является в департамент и отказывается сказать, куда пропадал; спрашивает его о том хозяин дома, квартальный надзиратель, — напрасно! Я потребовал его к себе; он признался мне, что был взят тайною полицией, посажен в крепость, допрашиваем и наконец выпущен с подпискою, что никому не скажет, где он был, под страхом тяжкого наказания. Следствием того было, что домохозяин не соглашался держать его на квартире, а департамент не мог оставить его на службе; он подпал под остракизм, выгонявший его не из отечества, но с земного шара.
Я написал Дубельту конфиденциальное письмо, в котором спрашивал его, не может ли он посредством тайной полиции узнать, где был Марциновский, пропадавший четыре месяца и упорно отказывающийся от признания. Дубельт понял нелепость подписки и уведомил меня обо всем, что было с Марциновским, прибавя, что это ни в какой степени не должно быть предосудительно Марциновскому, оказавшемуся человеком скромным и не причастным ни к каким польским интригам. Не сказать об этом происшествии Клейнмихелю было невозможно; я сообщил ему при записке копию с моего письма к Дубельту и его ответ. Клейнмихель возвратил их мне с резолюцией: «Увольте эту каналью от службы». Я поехал к нему и снова объявил ему, что не могу исполнить это приказание. Оно было взято назад.
Постоянная оппозиция моя расстроила мало-помалу отношения мои с графом. Он все более и более поддавался интригам Мельникова, который, не будучи взяточником, поступал с подрядчиками хуже, чем взяточник; губил добросовестных, поддерживал плутов. Инженеры тратили на счет подрядчиков баснословные суммы и набивали себе карманы. Департамент должен был посылать к ним деньги по их требованиям, но, исполняя это, постоянно протестовал, отклоняя от себя ответственность за противозаконные приказания министра.
Между тем и министру было нехорошо. Государь охладел к нему, и — о горе! — проезжая мимо дачи Клейнмихеля, который постоянно сидел на балконе, не взглянул на балкон и не поклонился прежнему любимцу. С любимцем сделалась рвота — хроническая. Графиня перепугалась и неутешно плакала. Это дошло, вероятно, через Нелидову, до государя; он сжалился над своим рабом, поехал к нему и, увидев у него в приемной Рокасовского, сказал, что тот должен удалять от графа всякую неприятность и отвечает ему за здоровье графа.
Между тем граф струсил, и когда департамент железных дорог представил ему сведения о запутанностях, возникших из неправильных действий инженеров на местах работ, граф приказал департаменту, под свою ответственностью, действовать по закону и представить ему, кого он считает виновным в его нарушении. Он воображал, что поставил департамент этой резолюцией в безвыходное положение. Он ошибся. Департамент представил ему, что не может непосредственно действовать по закону, потому что дела вышли из законной колеи и настолько отодвинулись от нее на путь произвола, что войти в колею могут не иначе, как воротясь к ней тем же путем произвола; что департамент действовал по резолюциям его сиятельства, представлял возражения каждый раз, когда они казались ему несогласными с договорами, но, за неуважением представлений, покорялся воле начальника, имея в виду, что ответственность за последствия распоряжений, от него не зависящих, не может ни в каком случае оставаться на департаменте.
По прочтении этого доклада, на котором граф наставил десятки колоссальных восклицательных знаков красным карандашом, сделалась с ним жесточайшая рвота. Он разругал своего товарища Рокасовского за то, что тот допустил представление доклада пред его очи. «Так-то вы бережете меня! Так-то вы исполняете высочайшее повеление!» — кричал он ему.
Рокасовский перепугался; он просил позволения взять доклад и возвратить его мне, — приехал ко мне, но я решительно отказался взять обратно доклад. Узнав об этом, граф еще более взбесился, и рвота приняла размеры ужасающие. Графиня написала ко мне по-французски слезное кисло-сладкое письмо, говоря в нем, что ежели я не считаю себя в обязанности быть почтительным к моему начальнику, и еще больному, то она просит меня принять по крайней мере в уважение озабоченность семейства моего начальника.
Рокасовский привез мне это письмо с моим докладом; я согласился переменить в нем один лист, и то с условием оставить у себя замененный лист с графскими восклицаниями, доказывавшими, что лист этот был у графа и что он его читал. Графине отвечал я сладостно-кисловато и через неделю поехал сперва к графине, а потом — к графу. Он, как я уже заметил, был по природе не злой человек, и даже не бесчестный; он был испорчен тиранством Аракчеева, деспотизмом власти и ее прихотями. Откровенность честного человека находила в нем отголосок сочувствия, да он и злопамятен не был.
Я был очень ласково принят, и сам начал разговор о докладе. «Напрасно вы на меня сердитесь, граф! — сказал я ему. — Мельников действует незаконно во всех направлениях, разоряет подрядчиков, разоряет казну и во всем прикрывается вашими резолюциями. Придет время, когда контроль потребует отчета в миллионных передержках; когда подрядчики потребуют вознаграждения миллионных потерь. За них будете отвечать вы одни».
Граф встрепенулся, стал ходить беспокойно по комнате, приговаривая: «Экой мошенник! Экая каналья!» Мы расстались совершенно друзьями.
Глава XV
Мои отношения к графу Клейнмихелю — Образование министерства путей сообщения — Организация его по системе Клейнмихеля — Инженеры-архитекторы — Инженерный аудиториат — Деятельность Клейнмихеля — Институт путей сообщения — Мои проекты — Герстфельд — Архитектор Тон
В продолжение восьми лет я не имел ни минуты времени оглянуться на самого себя: особые поручения начальника морского штаба, управление канцелярией свода морских постановлений, дела по управлению финляндского генерал-губернатора, департамент железных дорог, комитеты, где я был правителем дел, другие, где я был членом, и в особенности система и вся личность графа Клейнмихеля так завладели моим временем, моими мыслями и заботами, что я скорее похож был на бедного рыбака, борющегося с стихией в плохой лодочке, чем на живущего человека. Сделавшись товарищем министра статс-секретаря финляндского, я вошел в гавань, отдохнул, осмотрелся, взглянул вперед: чисто и спокойно; обернулся назад: чепуха, такая чепуха, что и не измерить. Я уже изложил мои воспоминания о крупных, забавно-печальных фактах, выражающих физиономию тогдашнего времени; мало-помалу всплывают в памяти и внутренние действия моего духа, и откровения этой деятельности. Я было решился не записывать этих воспоминаний, чтобы не заклеймить человека, который — повторяю — был все-таки ангелом в сравнении с Чевкиным, с Орловым, с Гагариным, — но ведь не для печати пишу я.
Когда я на новом поприще встретился нос к носу с графом Клейнмихелем, я на минуту ужаснулся, но делать было нечего, и я решился употребить стратагему: принять вид человека, воображающего, что Клейнмихель — самый благовоспитанный муж и рыцарь чести, и эта хитрость мне удалась. Он так дорожил сохранением моих иллюзий, что не погнушался насиловать свою натуру, в желании казаться мне в розовом цвете. Я старался пользоваться этим, чтобы дела наши шли благороднее, чем по постройке Зимнего дворца, а иногда, должен сознаться, употреблял это искусственное настроение в свою пользу, чтобы выйти из неловкого личного положения.
Помню, как я просрочил в Гельсингфорсе отпуск; осведомись, что граф неоднократно изъявлял удивление, что я не еду, и желая предупредить какую-нибудь грубость, которая опять привела бы меня к стычке, я писал ему из Гельсингфорса о политических новостях… что-то о Монпансье — с рассуждениями; знал почти наверное, что г-н Монпансье был совершенно незнакомым лицом для моего государственного мужа, но писал в убеждении, что граф не решился бы на такие письма отвечать замечанием за просрочку. Когда я приехал, Клейнмихель принял меня любезно, благодарил за сообщение интересных политических известий ему, ездившему в глуши по шоссейным работам, и прибавил, что Монпансье — скотина или что-то в этом роде.
Но искусственное состояние не вечно: Мельников так искусно развращал Клейнмихеля, что последний наконец не выдержал, — как говорится, сорвался на скверный какой-то поступок в отношении к добросовестным подрядчикам и, сорвавшись раз, уже потом не церемонился, — наподобие тех слуг, которые, нанимаясь, божатся, что не пьют, — и стараются, во имя божбы, скрывать порок; но если раз господин поймает их на месте преступления, то напиваются после того уже каждый день.
В период лучших отношений наших Клейнмихель просил меня сообщить свое мнение насчет устройства Главного управления путей сообщения, которое он «в настоящем положении оставить не может». Главный форс Клейнмихеля был всегда в симметрии… на бумаге: списки с множеством столбов, озаглавленных буквами разных шрифтов и очерченных самыми лучшими карминными чернилами, гармония цвета поля с цветом надписи на ярлыках и т. п. — в этом заключалась его заслуга, выдвинувшая его в передние ряды по службе. Разумеется, задумав переустройство управления, он прежде всего остановился на симметрии, но и симметрии могут быть достигаемы разными системами. Какую принять? Вот в чем вопрос! Я тогда не знал этого и стал ему предлагать такую систему, за которую он чуть не рассорился со мной.
— Нет, любезный Константин Иванович, вы меня не поняли; пожалуй, по-вашему, можно ограничиться двумя департаментами! Что ж это будет за министерство! Я хочу министерство полное, по крайней мере четыре департамента, только не знаю еще, какие лучше. Можно сделать департаменты: 1) сухопутных сообщений, 2) водных сообщений, 3) железных дорог, 4) публичных зданий, — или: 1) департамент проектов, 2) департамент искусственный, 3) хозяйственный, 4) счетный и, кроме того, департамент железных дорог.
В таком составе и образовалось министерство. Замечательно, с какою последовательностью портилось первоначальное учреждение этого управления, которое, по моему мнению, было совершенно рационально. О шоссе в то время еще не думали, — да и дело немудреное; включать в министерство создание публичных зданий тем менее приходило в голову, что, с одной стороны, и тогда уже наши инженеры успели доказать свою несостоятельность в архитектурном деле, с другой — Россия была богата архитекторами первого разряда. Зимний дворец, дома Строганова, Белосельского, Шереметева, собор Смольного монастыря и Казанский — о том свидетельствуют; но, не говоря о Растрелли, эпоха Александра I представляет творения наших отечественных художников. Захаров построил Адмиралтейство, Воронихин — Казанский собор; при Николае I Тон воздвиг церкви, в которых одна кладка стен превосходит все, что сделано официальными инженерами в тяжелых сырых зданиях, как казармы Конной гвардии и проч.
Только гидротехника не имела в государстве представителей, посему было благоразумно при устройстве управления водных сообщений выписать инженеров и вместе с тем учредить институт инженеров-гидротехников. Так и было сделано, — и, если память не изменяет мне, управление и институт были: водяных путей сообщения, — и дела управления сосредоточивались в двух учреждениях: в департаменте — исполнительные, в комиссии проектов и смет — дела технические.
Когда началось построение шоссе, устройство администрации осталось то же; никому не приходило в голову раздроблять дела в центре управления на сухопутные и водные, когда в натуре они всегда совместны.
Администрации вообще бывают двоякого свойства:
1) такие, которых предметы не имеют взаимного соприкосновения, например подушная подать, таможенные пошлины, внутренние акцизы, кредитная система и пр.,
2) такие, которые заведуют предметами, тесно связывающимися, например: мосты, каналы, шоссе.
Первые администрации могут подразделяться по предметам, связываясь только в голове министра финансов, который законодательным путем обязан уравновешивать отдельные части по мере преобладающего влияния тех или других на внутреннее народное хозяйство.
Администрации второго рода должны непременно подразделяться не иначе, как по местностям. Ежели разделять управление путей сообщения так, как было сделано при Клейнмихеле, то по соединении в каждой, даже самой ничтожной постройке, частей: проектной, искусственной, хозяйственной и счетной, приходилось каждому проходить по всем департаментам и во время каждого антракта заходить к начальнику округа, т. е. каждая бумага по меньшей мере имеет урожай сам-восьмой, а между тем свойства и потребности каждой местности, т. е. самое главное, не присваивается ни одному департаменту; каждый видит только отдельный мост или дорогу, но все они как будто плавают в воздухе: общей идеи нет.
Ежели департаменты делятся на водные и сухопутные, то выходит та же несообразность с натурой; в натуре эти сооружения срастаются.
Положим, что насыпь на шоссе размылась и засорила проходящий под ним канал; в натуре это событие — единое и неделимое, а в бюрократии размыв насыпи шоссе подлежит одному парламенту, а засорение канала — другому! Выходит, как немцы говорят: «Из-за деревьев не видно лесу».
Первоначальное устройство было рациональнее: пути сообщения разделялись на дистанции, которые непосредственно наблюдали за исправностью сооружений и за состоянием вод. Дистанции соединялись в округах, начальники которых, кроме надзора за всеми, собирали сведения о степени местных передвижений, об источниках приобретения материалов и рабочих и о цене их. Эти сведения сосредоточивались в департаменте.
Не знаю, как департамент делился на отделения: по свойству ли путей или местностям; если не по местностям, то это очень дурно, ибо статистика возможна только при средоточиях местностей. Если Клейнмихелю хотелось иметь четыре департамента, то лучше бы он разделил их на департаменты Балтийского, Северного, Черноморского и Каспийского бассейнов вместо отделений одного департамента, таким образом разграниченных, — чем делить их симметрически на бумаге, но нелогично на деле.
Комиссия, т. е. учреждение из подвижных членов для рассмотрения проектов и смет, была тоже полезнее, чем бюрократический департамент. В комиссию сзывались люди опытные по той части или местности, о которых шло дело; они не ограничивались поверкою расчета сопротивлений или прокладкою итогов, но умели судить, в какой мере проектируемое сооружение могло быть полезно в том именно месте или в какой мере оно возможно там из проектированных материалов. Впоследствии назначались в комиссию постоянные члены из офицеров, утративших здоровье на работах в болотной местности или одряхлевших от возраста: таким образом эти ветераны сохраняли способы существования, не переставая быть полезными государству. Все это разрушено.
Еще при герцоге Вюртембергском начали инженеры его пытаться расширить круг своего действия: пустились в архитектуру и в решение вопросов политической экономии, — это как если бы фортепьянный мастер стал считать себя Моцартом, потому что у его инструментов тон хорош… Архитектура, однако, решительно не далась им. Бетанкуру поручено было устроить место для ярмарки в Нижнем, а он поставил пакгаузы так, что они каждую весну заливаются Волгою. Карбоньер построил не помню какое-то здание: оно провалилось. Дестрем, или кто-то другой, устроил канал, в который вода не согласилась течь. Мельников устроил купол на Троицком соборе, но первый ветер сорвал его, как парик с плешивой головы. Отучили они правительство поручать им дела, выходящие из их гидротехнической специальности, и в губернских городах учреждены строительные комиссии, независимые от управления путей сообщения. Клейнмихелю удалось, однако, поглотить эту часть в Главное управление путей сообщения и публичных зданий; но государь приставлял к инженерам дядек из архитекторов; инженеры сохранили за собой только часть подрядную, наиболее жирную.
Так мало-помалу инженеры путей сообщения стали в роль мужей государственных по кругу действия, военных — по мундиру, лакомых — по вкусу и богатых — по ремеслу!
Но всего более жаль мне комиссии. Департамент проектов составлен из начальников отделений — штаб-офицеров, столоначальников — капитанов и помощников столоначальников — поручиков, не только не бывавших на работах, но не умеющих отличить сосновое бревно от елового, как Громов выражался. Отсюда вышло, что проекты рассматривались глупо; сметы проверялись со справочными ценами — плодом фантазии письмоводителей магистратов; положение — с урочным положением, в котором нет здравого смысла (например, отвозка за 80 сажен на лошадях дешевле, чем на тачках, а за 110 сажен — первая дороже, а за 130 опять дешевле). Работа серьезная переродилась в канцелярскую, которая была бы столь же несносна для департамента, сколь бесполезна для правительства, если бы в ней не попадались калифорнийские россыпи.
Вместе с серьезною работою исчезло и убежище престарелых инженеров, которых я еще застал. Чтобы не выбросить их на улицу, стали сажать их в совет и во вновь учрежденный аудиториат, а как это оказалось очень удобным, то потом стали туда сажать и всякую сволочь. Что за совет, Боже мой, и я сидел в нем, и слышал собственными бедными моими ушами, как П. А. Языков протяжным благоговейным тоном возглашал, что он «вчера имел счастье играть у его сиятельства графа П.А. в вист с ее сиятельством графиней К.П., что его сиятельство изволил подойти к столу и сказать ему, что сегодня будет в совете дело такое-то и его сиятельство желает, чтобы оно было разрешено так-то».
Аудиториат! Отчего особое судилище для инженеров путей сообщения? Отчего не особый тоже для министерства юстиции, финансов и пр.? Когда я объявил графу Клейнмихелю, что не желаю более быть директором департамента, то он шутя отвечал мне, что меня не пустит; на замечание мое, что просьба моя написана на высочайшее имя (тоже шутя), что в ней выражена и причина просьбы и что государь, вероятно, признает ее законною, он шутя же отозвался, что не понесет моей просьбы государю. На это я заявил шутя, что я напишу письмо государю, на что последовала шутка, что он меня под суд отдаст; но я выразил ему убеждение, все шутя, что суд оправдает. Тут Клейнмихель забыл шутку. «Как? Мой аудиториат вас оправдает? Против меня? Этой наивности я от вас не ожидал!» — сказал он очень серьезно, но я тоже серьезно отвечал, что я буду судим сенатом. — «Ну, Бог вами! Какой упрямый!» — заключил граф и принял просьбу. Так вот польза особого аудиториата.
Мудрено ли, что выходили положения об устройстве городов, в которых читаем, что в Николаеве, Херсонской губернии, деревянные дома дозволяется строить только на задних улицах и что все дома и улицы должны быть снабжены водосточными дождевыми трубами. К несчастью, это положение передал государь князю Меншикову, который и объяснил Клейнмихелю, что в Херсонской губернии деревянный дом — необыкновенная роскошь, что в Николаеве только один деревянный дом, и это дом главного командира Черноморского флота, что на домах есть дождевые желоба, но не для того, чтобы спускать воду в водосточные трубы, а для того, чтобы сберегать воду, что дождь там редкость, а вода — сокровище. Вышло, что николаевское положение было списано с кронштадтского, а как и Николаев, и Кронштадт — военные порты, то и казалось, что городовые их положения должны быть симметричны.
Управление было принято Клейнмихелем в довольно дурном составе: удивляюсь графу Толю. Товарищем был Девятин, ловкий писака, говорун, но иезуит и такой эгоист, что польза службы была ему нипочем; главное было — не попасться. Клейнмихель поехал с ним в коляске осматривать учреждения. Девятин, превосходивший Толя беглостью языка и гладкими теориями (вроде Чевкина), думал блеснуть и перед Клейнмихелем, но Клейнмихелю опасен был болтливый всезнай, — и на другой же день Девятин был заменен кротким и пугливым Рокасовским.
Затем Клейнмихель поехал осматривать водные системы; тут он нашел смотрителей судоходства в рубищах, иногда с подозрительною краскою на носах и, как ему рассказали, бравших взятки. Он прогнал всех этих смотрителей и заменил их дистанционными инженерами, по одному вместо каждых 5–10 смотрителей, и нанес тем смертельный удар речной навигации. Смотрители действительно брали, брали подаяния по 5–10 копеек с барки, подаваемых, как милостыня, этим беднякам, получавшим 80–100 рублей жалованья в год; но эти смотрители были полезны. Живя в будочках, они неотлучно были на каналах, следили ежеминутно за возвышением вод; когда они доходили до заметки, смотритель посылал к начальнику системы рапорт, на котором давалось разрешение пропустить столько-то судов, а чаще начальник приезжал сам и наблюдал, чтоб по известном понижении уровня шлюзы запирались в ожидании главных караванов.
Этих стариков заменила молодежь в эполетах, не имевшая понятия о важности сбережения каждого вершка воды; разъезжая по поместьям танцевать или обедать, запираясь в своих покоях в ненастье, они мало знали, что делается на каналах.
Кроме того, выходили неурядицы от общей болезни наших отечественных деятелей; у нас стоит только поставить должностное лицо для услуги публики, чтобы оно вообразило себя не слугою, а начальником публики; так всегда было в почтамтах, в банках, в казначействах; так вышло и здесь. Их благородие било по зубам судовщиков, грубиянило с купцами или их протежировало, — и, кажется, в том же году вышла катастрофа: по протекции пропустили караван, не дождавшись главного, выпустили воду, — и большая часть грузов зазимовала в шлюзах. Цены на хлеба ужасно вздорожали; в Петербурге, на бирже, немцы сочинили каламбур по случаю замены графа Толя Клейнмихелем, неурядицы на каналах и смерти генерал-губернатора Эссена: «Kleinmichel ist toll geworden und Petersburg hat kein Essen»[3].
Впоследствии, конечно, не повторялись столь крупные промахи, но в общем характере речная навигация пришла в упадок, в котором и доселе находится.
Во время вояжа Клейнмихель ознакомился с новыми личностями. Надменный, грубый и невежда, он взвешивал людей по низким поклонам, по форменной вытяжке и по болтовне, — первые служили признаком усердия, вторая — представительницею порядка и дисциплины; болтовня свидетельствовала в генералах — о людях опасных; в поручиках — о таланте. Так выплыли Серебряков, Ераков и Адамович.
И у меня был такой барин — Клоков, офицер чрезвычайно способный, но мошенник, — и какая выдержка! Зная, что я делал расправу в тот же день, расправу неумолимую, Клоков восемь лет был самого неукоризненного поведения, но когда я оставил департамент, он на той же неделе объявил подрядчикам, что квитанции до тех пор не будут поверены, пока чертежной не будет обещано 10 процентов. — Извините, что так мало.
Другой вопрос, о котором совещался со мной граф Клейнмихель, имел предметом институт путей сообщения. Направление совести было, по моему мнению, так дурно велено, как я не ожидал от этого училища верных слуг отечества. В целях радикального улучшения я считал нужным уничтожить однокашничество, то есть, другими словами, отменить вовсе интернат и образовать открытую академию, в которую принимать вольнослушающих с гимназическими аттестатами, давать им даровое образование, но и без преимуществ: без чинов и мундиров.
Несколько лет спустя я предлагал то же в отношении всех училищ, дающих право на классный чин, а потом и в отношении кадетских корпусов, в которых, по моему проекту, были бы только открытые классы специальных военных наук, которых успешное прохождение давало бы право на офицерский чин.
Ни один из проектов не состоялся, а граф Клейнмихель ограничился в отношении института путей сообщения тем, что поставил над ним директора Энгельгардта, командовавшего Волынским полком, дав ему в помощники Гогеля, командовавшего ротою того же полка.
Надо, впрочем, отдать справедливость Клейнмихелю, что он заботился об истреблении взяток, но только на свой манер. «Я затеваю большое дело, — говорил он, — пишу самый подробный строительный устав, там все будет. Какая бы ни была постройка, о каждой будет особая глава с инструкциями и чертежами — и потом общее оглавление. Например, нужен мост 5 сажен ширины, 15 сажен длины. Ищи в оглавлении: Мост, потом: такой-то длины и ширины, страница такая-то, а тут все и есть, как и что. Когда этот труд будет готов — прогоню всех каналий-инженеров».
Не выдержал, однако, и Клейнмихель, и к нему втерлись. Был какой-то полковник Романов, гренадерского роста, нахальной наружности, инспектор движения Царскосельской железной дороги. Граф не любил его и обошел при производстве. Вдруг он появляется в гостиных графа, по субботам, после всенощной в домашней церкви (Клейнмихель заявил уже перед тем, что «Лютер — скотина»), — через храм Божий к мирскому преуспеянию. На одном большом вечере у графа, в то время как графиня проходила мимо меня, Романов наклонился к ней и вполголоса сказал ей на ухо: «Ваше сиятельство, честь имею доложить, тысяча рублей». — «Мерси!» — был ответ с благосклонной улыбкой. Вслед за тем Романов произведен в генерал-майоры с назначением начальником 1-го округа. Мне потом объяснили, что Романов выпросил у Громова 1000 рублей в пользу патриотических школ.
Мельников тоже овладел графом. Но когда я объяснил графу, какой имущественной ответственности он подвергнуться может, отпуская Мельникову, против закона, деньги для расхода на счет подрядчиков, то он-таки сердился, приговаривая, что Мельников — каналья. Крафта он ценил выше: Крафт был у него только скотина — в особенности за уклончивые ответы, или, как Клейнмихель выражался, «за аллегории».
Затем, по собственному побуждению, подавал я графу записку о сметных ценах. Управляя департаментом, я заметил, как несообразна система составления смет. Пусть проект утвержден в феврале. В марте собираются справочные цены на овес, песок, камень, лес, перевозки и т. п. — цены колоссальные, оттого что время близится к посеву, амбары истощены, дороги непроходимы. Это цены весенние, самые дорогие; смета составляется летом, в октябре идут торги, а в ноябре заключаются подряды. Подрядчик, спустив с весенних цен 5–10 %, закупает хлеб тотчас по обмолоте, рубит лес зимой, перевозит зимой, — все за полцены, и благодарит Господа и инженеров, а эти последние получают награду за сбережение против сметы.
Или делается напротив: зимой рассчитывают ценность сбора булыжника с полей (из-под снегу) — обходится рублей шесть, мужики летом собирают его охотно за бесценок, и опять подрядчик благодарит.
Или пишется в контракте: «В случае сверхсметных работ подрядчик рассчитывается по справочным ценам с контрактною скидкою процентов». Тут обогатить подрядчика или зарезать (технический термин), — справочные цены на все готовы.
Имея это в виду, но не высказывая, я представлял, что для работ по железной дороге лучше было бы: 1) обязать округи вести реестры цен (действительно состоявшихся на торгах) каждой местности и особо за каждое время года; 2) предоставить департаменту собирать такие же сведения и из других источников; 3) из обоюдных сведений составлять каждый год, особо за каждый сезон, выводы средних местных цен за минувшее трехлетие, за исключением цен весьма спешных работ, и эти выводы брать в основание смет, с определением в контракте, что цены каждого времени года будут принимаемы смотря по тому, в какое время года производится работа.
Клейнмихель отдал мою записку на рассмотрение совета. Какая же буря поднялась в совете: «Караул! Грабят!» — слышалось в каждом переливе голосов. Написали протокол, в котором совершенно извратили смысл моего мнения, и стали возражать на то, чего я не говорил. Правитель дел принес мне журнал к подписанию, но я не подписал его, а приложил отзыв, в котором объяснял, что я говорил вовсе не то, что написано в журнале. Рокасовский поднес этот журнал графу при рапорте, который остался для меня секретом, — и я получил только уведомление, что его сиятельство приказал считать дело конченным.
В то же почти время стали внушать Клейнмихелю, как полезно было бы давать проценты со сметных сбережений в награду строителям. «Так, дескать, в Англии, а в Англии все хорошо». Все ли там хорошо, — я не знаю, но только в Англии строители — люди частные, не служащие; они не получают жалованье, наград, чинов, пенсии; они не присягают на службу; это профессионалы, и контролируются они не однокашниками, не соучастниками, а соревнователями. У нас не то; у нас сегодняшний контролер сам может завтра быть строителем, и наоборот; следовательно — «не плюй в колодец».
Но не таков был Клейнмихель, чтобы поддаться на эту щедрость.
Я всегда был того мнения, что золотом не купить честности, что если вору дать 500 рублей жалованья, то он постарается украсть еще 1500 рублей, а дай ему 5000 рублей жалованья, то он побрезгует 1500 и возьмет 15 000 рублей.
Клейнмихель шел далее меня — он говорил: «Я прикажу быть честным». Так он и приказывал, однако у всех инженеров являлись дома, и даже Шернваль, честный финн, скромных претензий, бывший бедным поручиком на железной дороге, удивил Финляндию своею милою виллою за Выборгом; у Серебрякова — дом, у Липина — дом; что у Еракова — не знаю, но это бандит. Один был честный человек во всем смысле слова: Бутац, перестраивавший мост Аничков и бывший у меня начальником чертежной. Граф не любил его; англичанин-каналья — было единственным его титулом; Бенардаки переманил его в Сибирь, и мне пришлось удовольствоваться Клоковым. Был у меня еще честный человек: Зуев, начальник искусственного отделения, — хороший чиновник, вероятно, хороший профессор, но не думаю, чтобы был инженер.
По смерти Рокасовского назначен был товарищем министра Герстфельд, построивший Варшавскую железную дорогу в Царстве Польском необыкновенно дешево, кажется, в 18 или 20 тысяч рублей верста. Насчет Герстфельда я призадумался. Разум человеческий — граненый, бывают в нем все грани темные и одна светлая; бывает и наоборот — такова разница предельная между идиотом и гением: у одного все темно, у другого — все светло; но и то и другое — исключение. Я знавал Леопольда Мейера — осел во всем блеске, — а что за музыкант, какой вкус, какая теплота! Профессор Велланский говорил про некоторых своих студентов: «Странная вещь! В миллион раз глупее меня — и играет в бостон в сто раз лучше, а ведь тут нужна и тонкость, и комбинация».
Герстфельд вообще человек ограниченный, малограмотный, не наблюдателен, спокоен, без доктрины и потому в своем деле практичен. Когда возникла мысль о С.-Петербургско-Варшавской железной дороге, государь хотел поручить Герстфельду ее постройку, Клейнмихель предложил это ему как идею, от него самого исходящую, но Герстфельд поставил обязательным условием, чтобы дистанционных начальников позволили ему брать с найма, а не офицеров. «Учености, — говорил он, — мне не нужно в мелких исполнителях; мне нужны мастера, десятники. Офицер не умеет различить, хорошо или дурно выкована шайба. Он не захочет и не сможет стоять в ненастье с утра до вечера на дороге и смотреть, как вбивается костыль в подушку, — а с найма я найду людей, которые не сумеют сделать чертеж, но которые отвечают за точность работы». «Как можно, — закричал Клейнмихель, — при целом корпусе инженеров, который стоит миллион, брать наемных!» Герстфельд не спорил, но от стройки отказался.
Был у меня архитектор Желязевич, очень способный человек, прекрасный художник. Поляк-каналья в глазах Клейнмихеля. Однако государь не согласился вверить постройку столичных станций инженерам. Он назначил для этого Тона, который выпросил себе в помощники Желязевича.
Уморительны были сношения Тона с нашими техниками. Тон начертит планы и детали и сделает коротенькую смету без ссылок на урочное положение; он не писал в смету: на устройство копров столько-то лесу, гвоздей; на вырытие ям и т. п. По его сметам расценивалась кубическая сажень фундамента, стен и пр. Входило дело в техническую комиссию, Дестрем объявлял, что нельзя проверить смет, потому что составлено не по урочному положению.
— А других я составлять не умею, — говорил Тон. — Зато у меня никогда не бывает передержек, а у вас, господа, сверхсметных работ более, чем сметных.
— По какому расчету сопротивлений вы положили здание в три и два кирпича?
— А по такому, — отвечал Тон, — что моя Благовещенская церковь века простоит с тонкими стенами, а ваши шестикирпичные конногвардейские казармы и теперь уже преют.
Генералы представляли гневные лики, которых Тон не замечал, потому что все время ходил по зале, понуря голову и руки в карманах. «Я знаю, господа, вы говорите: Тон — каменщик, а не художник. Ну-ка, вы, художники, сложите-ка мне свод, как каменщик сложил в Москве… да-с!»
Иногда Дестрем обращался к моей защите: «Господин директор. Вы наш уполномоченный, пожалуйста…» — но когда я замечал Тону дружеским тоном, что члены комиссии обижаются, он громким голосом отвечал:
— Так пусть сами строят, я скажу государю — я и то даром работаю только для государя.
Тут они притихали и одобряли проекты.
По окончании главных работ по Московской железной дороге, я хотел преобразовать департамент, сократить хозяйственное и счетное отделения и образовать новое контрольное, поверяющее ежедневные сборы. Все было устроено, но как только я оставил департамент, контрольное отделение закрылось по совету Романова, напугавшего графа Клейнмихеля угрозою, что Государственный контроль будет к нему привязываться, что гораздо лучше оставить сбор на веру лица, которого граф сам выберет и сам будет контролировать. Согласно с этим и назначен был инспектором Московской железной дороги сам Романов, а начальником станции — бандит Браков.
После этого я был еще с год членом совета — какой-то сходки, в которую посылались от Клейнмихеля и Ельчанинов, и Серебряков, и черт знает кто. Сквернейший год моей жизни!
Глава XVI
Таможенный вопрос в Финляндии — Моя аудиенция у государя — Разговор по этому поводу с князем Меншиковым — Изучение шведского языка — Проект Ростовцева — Отъезд князя Меншикова — Интриги его бывших подчиненных — Моя аудиенция у великого князя Константина Николаевича — Неудовольствие его на меня и неприятное объяснение — Наговоры государю на князя Меншикова — Краббе — Меры к обороне Финляндии — Клевета на меня — Мне удается не допустить объявления Финляндии на осадном положении — Предложение мне места финляндского генерал-губернатора и мой отказ — Вопрос об устройстве училищ в Финляндии — Холодный прием у цесаревича — Кончина императора Николая — Характеристика приближенных к нему лиц — Наследие, оставленное новому царствованию — Дело Войцеховича — Граф Орлов — Мое назначение сенатором
В минуту вступления моего в должность товарища министра статс-секретаря наткнулся я на критическое обстоятельство.
За год до этого времени государь приказал снять таможенный кордон между Финляндией и С.-Петербургской губернией и вместо того охранять берег Финляндии русскою таможенною стражею от вторжения контрабанды. Эта мысль привела в ужас министра финансов, финляндского генерал-губернатора, министра статс-секретаря и барона Гартмана, — всех по разным воззрениям и опасениям. Сначала все они высказывали слегка неудобства такой меры или старались проволочить дело, надеясь, что государь сам отстанет от своей мысли, но когда замечания их остались без успеха и государь стал твердо настаивать на скорейшем исполнении, они стали протестовать сильнее. Самый способный на это был, конечно, Гартман. Вронченко, которого интересы наиболее страдали, сам парализовал свой вес, называя государя министром финансов, а себя — секретарем. Государь, очевидно, не уважал его. Вронченко сам рассказывал своим подчиненным, как государь закричал ему: «утри нос!» — выводя из этого заключение, что нюхать табак опасно. Куда же ему после этого оспаривать виды царские? Граф Армфельт не имел прямого повода начинать спор. Он по своему званию — прежде всего докладчик представлений сената, не имеющий собственной инициативы. Князь Меншиков боялся резких выражений и потому никогда не выражал с должною яркостью своих мыслей. Я с ним часто спорил об этом, но он уверял меня, что я не знаю государя.
Гартман имел искусство говорить весьма сильно и серьезно, не выражая страсти своим голосом, и с почтительными тоном и осанкою, — но с некоторых пор его убеждения не производили прежнего действия, и он потерял самоуверенность; в делах, разрешаемых чувством вкуса или дипломатической тонкости, этого довольно, чтобы сделать промах, — так точно, как мы всего более краснеем, когда боимся покраснеть. Гартман говорил государю что-то про права Финляндии; цесаревичу он сказал, между прочим, «что кровь польется». Вышло, что он указывал на конституцию как на право, а на последствия — как на угрозу. Слова Армфельта были только внушения. Князь Меншиков часто возвращался к опровержениям, но всегда так, как будто под ним двигался грунт. Вронченко вздумал говорить о финансах; государь отвечал ему: «что ты смыслишь» или что-то вроде этого.
При таком положении таможенного вопроса приказано мне было в воскресенье после обедни представиться государю, но не через обер-камергера, а прямо через князя Меншикова. Отсюда произошло, что и самое представление мое не пошло обыкновенным путем. В ротонде нашел я ряд лиц представлявшихся и встал у входа. Государь прошел мимо меня в коридор к цесаревне, бывшей тогда нездоровою. Только государь вышел, граф Шувалов объявил мне, что представление кончено; я отвечал ему, что я еще не представлялся и явился по высочайшему повелению, потому и могу уйти не иначе, как по такому же повелению. Он отошел от меня, завидя государя, который, идя по коридору с князем Меншиковым, рассказывал ему что-то об австрийском императоре. Проходя меня, он спросил князя: «Кто это?» Я был назван, следовательно, первый акт приема совершился.
Но потом Шувалов опять сказал мне, что тут я не могу стоять, и указал мне на ширму, стоявшую за дверьми, ведущими из ротонды в залу, которая предшествовала кабинету государеву. В зале был Орлов. Я было и стал за ширмы, но, услышав, что государь в той же комнате остановился говорить с Орловым, я вышел оттуда на прежнее место, заметив Шувалову, что за ширмой делаюсь я подслушивающим разговор его величества. Он опять ко мне привязался, но тут от государя вышел Орлов и сказал мне, что государь меня ожидает у себя в кабинете.
Я был принят очаровательно ласково. Затем государь принялся рассказывать мне дело о таможенном кордоне. Это был просто великолепный доклад дела, всей его истории и настоящего положения. Государь говорил превосходно!
При рассказе дела он коснулся положения Финляндии.
— Финляндия благоденствует, — сказал он, прибавив с горькою улыбкою, — если меня не обманывают.
Я прервал государя, сказав, что его не обманывают.
— Слава Богу! — продолжал государь — и опять воротился к вопросу. Кончив тоном последнего слова, т. е. твердой воли, он сделал было шаг ко мне, когда я начал говорить:
— Государь! Цель ваша не может быть не понята, но едва ли она может быть исполнена.
Государь вдруг покрылся сильным румянцем, приподнял голову, расширил глаза и выпустил из них пук молний так, как он один умел; еще одна секунда, и последовал бы страшный взрыв, но я продолжал говорить спокойно, смотря смело ему в глаза, и видел, как улеглась буря, как выступало солнце на его выразительном лице. В первый раз я имел случай проверить слова Гартмана: «Лицо императора — это Эолова арфа, которая дрожит при малейшем дуновении, и вот почему я с ним говорю не смущаясь. Если я издаю звук, который дает ему сильное дрожание, я это сейчас вижу; я меняю объем голоса и вижу действие каждого слова. Я рассматриваю его красивое лицо, как слушают прекрасную музыку».
Что касается меня, я не изменил объема голоса, я докладывал государю, что географическое положение препятствует устройству таможенного надзора в другом месте, что протяжение финляндского берега составляет 1500 верст и прибрежье усеяно бесчисленными шхерами; что если на каждый островок поставить по одному стражу, то потребуется целая дивизия, а страж ничего не сделает, потому что в проходах между шхерами таможенные катера будут становиться на мель там, где челнок контрабандиста плывет свободно; что Финляндия представляет воронку, обращенную широким отверстием к морю, а узким — к Систербеку.
— Да, — сказал государь, — географическое положение! Вот первая основательная причина, которую я слышу, а то все говорят мне вздор. Гартман сидит верхом на конституции; Меншиков финтит. Но, — прибавил он нерешительно, — я буду иметь это в виду; я переведу туда дивизию…
Подошел ко мне, пожал мне руку и сказал:
— Прощайте, господин Фишер, благодарю вас за будущую вашу службу; я ее знаю по вашей прошедшей.
Когда я поцеловал ему плечо, он спросил меня, говорю ли я по-шведски; на ответ мой, что понимаю только шведские бумаги, — государь прибавил:
— Прошу вас говорить по-шведски, мне это нужно! — И добавил с улыбкой: — Скоро ли вы надеетесь выучиться?
— Государь! Утверждать не смею, но, говоря по-немецки и по-английски, думаю, что могу говорить через год или через два и по-шведски.
— Стало быть, через год! Смотрите же, я вас спрошу через год, — сказал государь с улыбкой и опять пожал мне руку.
Когда я вышел от государя, Шувалов смотрел на меня, как на заморского зверя. Князь Меншиков ждал меня в коридоре. Увидев меня, он вполголоса, но с жаром, спросил:
— Что же вы там делали целые три четверти часа? Это произвело впечатление! Что вы могли говорить?
— Князь, говорил император, а я не более пяти минут. Император рассказал мне о таможенном деле, и рассказал превосходно!
— Тише! Не говорите здесь; садитесь в мою карету и расскажите мне все.
В карете я все пересказал. Князь слушал меня с беспокойством и, когда я кончил, сказал:
— Любезный, вы играли большую игру!
— Может быть, что я и играл, — отвечал я, — но кажется, что не проиграл.
Князь с этим не соглашался, уверял меня, что государь мне не простит этого, и обещал в среду, при докладе, завести обо мне речь, чтобы узнать, какое впечатление осталось у государя. В среду князь сказал мне, что заводить обо мне речь не было надобности, что первые слова государя были:
— Я видел Фишера; он мне очень понравился: благородный, откровенный характер.
Меншиков оставался все-таки при том убеждении, что так нельзя противоречить государю, что то, что мне сошло благополучно, не сошло бы ему; а я допускал, что теперь, после 25-летнего царствования, князь Меншиков не мог вдруг переменить свой образ объяснений с государем, но доказывал, что если бы с самого начала своих сношений он говорил откровенно, без обиняков, то вреда не было бы.
— Вы не знаете государя, — заключил он.
— А я полагаю, что знаю его лучше, чем ваша светлость.
Дав государю слово выучиться по-шведски, я тотчас принялся за исполнение. Это казалось мне легче, чем научиться чистописанию, чтобы съездить за границу; я запасся газетами и книгами и всю зиму прилежно читал — сперва сочинения, которых содержание было мне известно, а потом, когда усвоил себе аналогию слов шведских с немецкими и английскими, перешел и к другим. Так я составил себе значительный запас слов и понимал уже без затруднения, что читал своими глазами.
Гораздо труднее было научить ухо. Самые простые фразы в устах шведа были непонятны для моего уха; я слышал звуки, замолкавшие прежде, чем слух мой умел разграничивать их. Весной сел я в коляску, взял с собой чиновника Мелартина, умевшего говорить по-немецки, пригласил его отвечать мне всегда по-шведски и отправился в Финляндию. При въезде в каждый приход являлись ко мне ленсманы; я делал им вопросы. Их шведские ответы скороговоркой отзывались в моих ушах, как шум катящихся с горы каменьев — как «в стену горох». Через неделю я начал уже слышать, где оканчивается одно слово и где начинается другое; на обратном пути я понимал уже порядочно, что мне говорили, но сам говорить не мог, потому что слова, мне нужные, прятались так глубоко в моем складе, и долго надо было рыться в памяти, чтобы отыскать их.
Господин Мелартин оказался чрезвычайно глупым: он вообразил, что моя соображательная способность стояла на уровне моей шведской диалектики, и принял на себя роль дядьки.
Финляндца понимать гораздо труднее, чем шведа; первый глотает все согласные; второй, как бы наслаждаясь гармонией своего языка, с кокетством произносит каждую букву. Швед произносит — Hvad är det (Что это?) точно так, как пишет; финляндец говорит: Waëde?
Через два месяца поехал я опять в Финляндию на месяц в сопровождении господина Хеллена — и к сроку понимал и говорил по-шведски. Это ни мне, ни государю не понадобилось.
Служба моя в статс-секретариате была необыкновенно приятна. Граф Армфельт, просвещенный, умный, добрый, редкой симпатичности; в вежливости он не уступал князю Меншикову, но в его вежливости была теплота, которой не имел Меншиков. В нем нет столько ума, как в князе Меншикове, но гораздо более сердца. Отношения наши были наилучшие. Каждое лето четыре месяца я был свободен и ездил или в деревню, или за границу. У князя Меншикова я сохранял прежние занятия, по дружбе. Различие нашего возраста сглаживалось временем. Когда я познакомился с Меншиковым, мне было 22 года, и я начинал службу, а ему за 40 лет, и он был генерал-адъютант; теперь мне было 45 лет, а ему 63; он был министр, я — товарищ министра: дружба была между нами возможна. В таком положении застал меня Восточный вопрос, разлучивший меня с князем Меншиковым.
Перед его отъездом представился неприятный случай, где Меншиков в первый раз забыл свою обыкновенную преувеличенную осторожность и поступил непростительно. В Фридрихсгаме есть финляндский кадетский корпус, содержащийся на финляндские суммы, но как военно-учебное заведение зависящий от штаба военно-учебных заведений под главным начальством цесаревича, который вместе с тем был канцлером Гельсингфорского университета. Ростовцев сочинил бумагу, совершенно достойную его купеческого происхождения. Он писал, что учителя и офицеры корпуса, получающие 300 рублей содержания за преподавание в классах, дают по 200 и 300 часовых уроков в год, следовательно, имеют от одного до полутора рублей за урок; коллеги в финляндских гимназиях получают столько же, но преподают по 150 или 200 часов, а профессора Александровского университета получают 1000 рублей и дают не более 100 уроков, т. е. имеют по 10 рублей за урок. Развесив труды на весах, как взвешивают пеньку, сало или сахарный песок, Ростовцев, с полным знанием первоначальной арифметики, вывел, сколько должны получать учителя в корпусе и сколько для сего нужно прибавить к штатной сумме.
Эту бумагу подсунул он к подписанию цесаревича, дав ей форму рескрипта финляндскому генерал-губернатору. Князь переслал ко мне это письмо при записке: «Подивитесь красноречию нового Демосфена и усильте все эти нелепости».
Я написал соображение, в котором, разобрав подробно ошибки и нелепости, сказал между прочим, что труд умственный нельзя мерить часами, что если бы это было правильно, то ротный командир должен бы был получать более содержания, чем главнокомандующий, — что низводить профессоров на степень поденщиков менее всего удобно канцлеру, защитнику и покровителю университета, что посему генерал-губернатор просит написать ему другое отношение, которое он мог бы передать в канцелярию, и просит только о прибавке суммы, с умолчанием доводов, представленных его высочеству штабом военно-учебных заведений.
Цель этой записки была объяснить партикулярно цесаревичу, в какие промахи вводит его Ростовцев, и предостеречь от впечатления, какое произведено было бы рескриптом на Финляндию и повредило бы его популярности.
Я доложил князю, что моя бумага не может иметь ни подписи, ни номера, что это не что иное как словесное объяснение, что не угодно ли ему повидаться с цесаревичем и объяснить ему изустно все, что я написал, — оставив у него записку лишь в том случае, если цесаревич, выслушав замечания князя, пожелает иметь письменное их изложение. Условились. Меншиков положил записку в белый незапечатанный конверт и поехал к наследнику. Не застав его высочества, Меншиков оставил этот пакет адъютанту, прося передать его цесаревичу.
Можно себе представить, какое действие произвело чтение этой неожиданной бумаги, без всякой предварительно разъясненной цели ее. Ростовцев, на которого бумага эта была исключительно направлена, постарался, разумеется, усилить ее колорит и объяснить ее цель по-своему. Цесаревич, по свойственной ему кротости, не рассердился, но огорчился. Он говорил Армфельту, что, душевно уважая Меншикова и всегда показывая ему свое уважение, он тем более огорчается злобною, ироническою бумагою, которую князь так бесцеремонно ему передал, даже не лично. Армфельт отвечал, что намерения со стороны князя допустить невозможно, что Фишер должен знать близко заднюю мысль и что если его высочество допустит Фишера к аудиенции, то он уверен, что недоразумение объяснится. Цесаревич отвечал: «Я не желал бы лучшего».
К несчастью, я был в это время в отсутствии, а по моем приезде Армфельт напомнил обо мне цесаревичу, однако я не был призываем. Вероятно, Ростовцев, не в интересах которого было мое объяснение, принял против этого какие-либо свойственные его характеру меры.
Не успел князь Меншиков выехать из столицы, а великий князь Константин принять морское министерство, как все, им выведенные и облагодетельствованные, стали выпытывать, какое положение им принять в отношении к прежнему начальнику. Мелихов, служивший обоюдным шпионом в Николаеве в 1828 году, теперь уже вице-адмирал, более всех стал чернить князя и, как его спутника, меня, остававшегося при морской кодификации по просьбе князя, который, надеясь воротиться через несколько месяцев, упросил меня не сдавать канцелярии до его приезда. Воры, которых князь обходил чинами, вместо того чтобы выгонять из службы, платили ему за это, как подобает ворам. Про меня Мелихов сказал, что я получаю 20 лет 10 тысяч рублей за канцелярию свода морских постановлений и ничего не сделал, а великий князь повторял это, веря Мелихову.
Все управлявшие отдельными частями приглашены подать «откровенные» отчеты о состоянии их частей, и если они в дурном положении, то «откровенно» сказать, что тому причиною. Как поняли эту откровенность управлявшие, утверждать не могу; я же подал отчет, в котором изобразил громадность труда и скудость средств, выразив при этом, что свод постановлений — работа, в умственном смысле ничтожная, требует гораздо более времени, чем начертание нового положения, ибо последнее диктуется умом, а первое требует цитат, которых иногда нельзя приискать ни в одном архиве. Великому князю растолковали, что это стрела, пущенная в него, ибо он издал один отдел нового морского устава.
Когда я принес свой отчет, великий князь принял меня изрядно и, услышав, что я старался в особенности исполнить его волю в отношении к откровенности, — даже очень хорошо, благодарил меня, объявил мне, что он «компетентен судить» и что прочитает мой отчет со вниманием.
— В таком случае долг благодарности на моей стороне, — сказал я. — Ваше высочество изволит увидеть, что я ничего не получал за эту канцелярию, работал двенадцать лет безвозмездно и сделал довольно много.
Слова мои были приняты неблагосклонно. По прочтении же отчета я получил приказание явиться к его высочеству.
— Как вы смели написать, что сочинение нового устава не стоит труда, когда вы знаете, что я написал устав?
— Я излагал откровенно свои убеждения! — отвечал я.
— Так вы не видели, что я перечитал французские и английские уставы?
— Ваше высочество! Я далек был от мысли критиковать новый устав; я привел свое рассуждение только для оправдания собственной моей медленности; мне приходилось перечитывать десятки томов только для того, чтобы убедиться, что закона не было, что правило введено произвольно и укреплено практикою.
— Так я вам покажу, что я кончу дело в год.
— Ваше высочество! Я никогда не равнял себя с вами ни в способностях, ни в средствах, и смею думать, что лучший успех дела под вашим руководством не может послужить мне укором: вы в совершенно другом положении.
Через несколько дней я получил повестку не являться к его высочеству без приказания, и если имею надобность в личном докладе, то чтобы испрашивал разрешения. Эта повестка была предметом роскоши, потому что я никогда не являлся к его высочеству.
В мае я получил по докладу графа Армфельта отпуск за границу, о чем донес его высочеству и просил его соизволения отправиться такого-то числа; на докладе написано: «Согласен», и я уехал.
Прибыв в Петербург, я получаю приказание явиться к его высочеству.
— Какое право имеете вы уезжать, не сказавшись? — встретил меня великий князь.
— Я уехал с вашего согласия, — отвечал я.
— Вы обязаны были ко мне явиться!
— Я не мог этого сделать, потому что получил запрещение являться без приказания.
— Вы считаете себя равным мне, пожалуй, по вашему званию! Вообще странно, что вы сохраняете за собой место в морском ведомстве.
— Ваше высочество! Я не так безрассуден, чтобы равняться с вами, а в морском ведомстве я остаюсь по просьбе князя Меншикова. Это для меня не милость, а жертва.
— Мое почтение! — сказал великий князь, и я вышел.
Вслед за этим я получил извещение великого князя, он поручил кодификацию, не помню, четырем или пяти комиссиям из контр-адмиралов, капитанов и гражданских чиновников каждая, всего человек 25 (у меня было три чиновника), которые, однако, и до сих пор не сделали свода. Я написал о том князю и получил в ответе от 17 октября 1853 года: «Великий князь не передавал мне никакого извещения о преобразовании канцелярии кодификации во многие комитеты, состав которых — такой, как вы мне его изобразили, — не из удачных. Один из членов годился бы особенно для заведования портами; он доказал в этом свои способности, украв в Кронштадте 2500 пудов смолы. Предусматривая это, я написал великому князю частное письмо, в котором сказал ему, что если он рассчитывает предложить перемены в управлении флота, которого он будет, вероятно, скоро непосредственным начальником, я прошу его подождать моего возвращения, чтобы я мог лично передать ему различные улучшения, которые я имел уже в виду. Он мне ответил, что он так и предполагает».
После перехода неприятельских войск на южную сторону Севастополя государь сказал одному офицеру, отправлявшемуся туда, что фельдмаршальский жезл князя Меншикова у него на столе, пусть князь кончит дело и приедет взять его. Это нанесло последний удар. Многие, окружившие престол, которых я имел случай видеть, и впереди всех Орлов, не могли скрыть, что они гораздо более страшились явки Меншикова на приглашение государя, чем поражения нашей армии; дисциплину разрушали всеми средствами. Инкерманское дело князь не мог возобновить оттого, что у него не было пороху. Меншиков, ум которого ценил император Александр и доселе Николай, прослыл глупым; герой 1828-го и 1829 года оказался в 1854 году совершенно неспособным в глазах придворных; человек, который надоедал своей вежливостью и звал к себе моего писаря на чай за то, что он имел обязательность принять из казначейства его арендные деньги, прославлен грубияном, являющимся в пальто к султану. Наконец, женская интрига изобрела оружие еще более меткое: говорили государю, что Меншиков был его несчастливой звездой.
В 1855 году, 12 февраля, за неделю до кончины государя, Меншиков писал мне из Севастополя: «Благодарю вас за ваши добрые письма от 25 декабря, 2 и 9 января; письма, которые получаешь от своих друзей, — настоящий бальзам утешения, когда бываешь, как я, оклеветан и почти опозорен как двором, так и столицею. Я не пишу вам обо всем, что испытываю, и о затруднительности моего положения. Податель этого письма вам все расскажет».
Податель был Краббе, адъютант князя Меншикова. Князь сблизил его с своим домом еще в мичманском чине, потому что отец его служил на Кавказе, в который князь был решительно влюблен. Краббе был тогда, как и теперь, величайший невежда, едва умевший писать, но остроумный, расторопный и фигляр. Потом князь сделал его своим адъютантом, но на службу стал употреблять его деятельно только по выбытии из адъютантов смышленого и неутомимого Васильева, — на службу, поскольку она не требовала ни познаний, ни грамоты.
Князь Меншиков давно уже тяготился директором своей канцелярии А. А. Жандром; говорил всем, что желал бы как-нибудь от него избавиться, — адъютантам, секретарям, знакомым, но только не ему самому. Во всем доме повторяли отзыв князя на вопрос, сделанный ему: «Как поживает ваш зять?» (Вадковский, лежавший в лихорадке.)
— Который? У меня их два, и ни один не удался.
Но Жандр имел свою философию и продолжал наслаждаться преимуществами своего места. Наконец, около 1850 года, он стал ему невмочь. Князь предложил мне его место, но я отвечал, что это уже слишком поздно. В 1852-м или несколько ранее я советовал князю назначить Краббе директором канцелярии, находя, что для переписки, которая в канцелярии не мудреная, он может иметь грамотных начальников отделений, но что он пользуется репутацией обязательного человека и не будет становиться ширмою между князем и флотом. Князь одобрил эту мысль, однако же посовестился и просил меня «поучить» Краббе, дабы он мог по крайней мере написать записочку лучше П. А. Колзакова. Его прикомандировали ко мне в канцелярию, а между тем услали князя в Константинополь. Краббе был несколько раз присылаем сюда из Севастополя с донесениями и держал себя в отношении к князю Меншикову очень хорошо.
Не вдаваясь в полемику о достоинствах нашей Крымской армии, которая была прескверная, он очень ловко аттестовал ее; так, рассказав Орлову подробности Инкерманского дела и выслушав злорадные сожаления Орлова, Краббе прибавил:
— Но это дело имело и хорошие последствия!
— Какие? — спросил Орлов.
— Все полковые командиры перебиты! — отвечал пресерьезно Краббе.
Это рассказывал мне сам А. Ф. Орлов.
В другой раз, когда великий князь Константин стал чернить князя Меншикова, Краббе встал и просил его высочество не говорить так о князе: «Он мне благодетель; я не могу слушать слова, ему оскорбительные!» Это говорил мне Краббе, и я ему верю, — но когда он за эту доблесть стал ближе к великому князю, политика его изменилась; он стал порицать Меншикова с тою же смелостью, с какою прежде заступался за него, — и быстрота его повышений замечательно совпадала с яростью его нападок на репутацию Меншикова! Теперь он — управляющий морским министерством, со всеми почестями и преимуществами звания, но он может откровеннее и вернее сказать великому князю, чем Вронченко говорил государю: «Какой же я министр? Я секретарь вашего высочества!», прибавя к слову «секретарь»: не умеющий писать. Да Бог с ним!
Князь Меншиков оставил в Финляндии экономию, почти равняющуюся двухлетней бюджетной сумме статного дохода. С наступлением весны 1854 года генерал-адмирал взял на себя устроить морскую оборону; придумал каких-то вольных матросов; наняли купеческие суда, набрали по найму тысячи бродяг в должность матросов на эти суда. Не знаю, чего стоила эта флотилия Петра Пустынника государственному казначейству, но знаю, что эти защитники почти всю следующую зиму грабили проезжих по петергофскому шоссе и что вся финляндская экономия истрачена.
Генерал-лейтенант Рокасовский, исправлявший должность генерал-губернатора, доносил государю, что денег в финляндской казне остается на несколько недель и что необходимо сделать «секретный заем». Барон Гартман, соглашаясь в том, что денег недостанет, оспаривал форму займа, предложенную Рокасовским, и предлагал публичный внутренний заем. Государь приказал послать меня в Финляндию, с тем чтобы я, по взаимном совещании, привез ему свое заключение, какой заем лучше. Хитрый, самолюбивый Гартман уехал из Гельсингфорса; Рокасовский просил меня торопиться, потому что в кассе только 150 тысяч рублей (месячная бюджетная сумма). Я позвал помощника начальника финансовой экспедиции Борна, составил сам форму ведомости и поручил Борну дать мне сведение о ресурсах, составленное по этой форме. Оказалось, что касса имеет еще миллион рублей.
Воротясь в Петербург, я донес государю, что займа никакого не нужно: деньги еще есть; что если опять понадобятся экстраординарные расходы, то правительство может употребить фонды, назначенные на ссуды фабрикам, во-первых, потому, что правительство не обязано давать ссуды, когда само не имеет денег, и, во-вторых, потому, что в военное время неуместно распространение новых фабрик на занятые деньги и что подобные спекуляции кончились бы банкротством. В этом же докладе я намекал о неосторожности одобрять проекты прежде расчета, во что они обойдутся и может ли край вынести такой расход. Государь утвердил мое мнение, но финляндский сенат вошел с новым представлением, в котором опровергал мои основания. Тогда я вошел с вторичным докладом, и победа осталась за мною.
На меня были давно сердиты: судебные высшие власти — за закон о викариях; расточители — за закон о прекращении взаимных личных поручительств; литераторы — за закон о финских брошюрах; винокуры — за проект о наказаниях за корчемство. Теперь рассердился и весь сенат — за неудачу его финансовых планов. Нашли средство повредить мне; уверили Ростовцева, что пасквиль на его предположение о финляндском кадетском корпусе — моя штука, что князь Меншиков не знал содержания бумаги, понесенной им к цесаревичу, что он вообще подписывает все, что я подаю ему, не читая (таковский!). Ростовцев пересказал это наследнику. Я не знаю, как принял это наследник, но могу себе представить: он оказывал мне благоволение выше заслуг моих, а я — заплатил за это подлым, ядовитым действием! Таков был бы смысл его впечатлений, если бы то, что ему сказали, не было клеветою. Я мог скорбеть, мог сердиться за то, что цесаревич поверил такому обо мне рассказу, ибо мои правила обозначились уже всею моей службой, но, допустив возможность веры клевете, я не мог иметь сомнения и о том свете, в каком я ему представляться должен. Это все было в октябре 1854 года.
В ноябре возникли затруднения насчет управления Финляндией. Государь нашел, что Рокасовский неспособен к обороне Финляндии, и предложил Н. Н. Муравьеву командование войск в Финляндии. Рокасовский не хотел оставаться при половине прежних прав, а Муравьев затруднялся принять на себя гражданское управление. Этот вопрос не интересовал меня, но в то же время государь приказал объявить Финляндию на осадном положении. Повеление это, еще не объявленное, но уже известное, произвело тревожное действие на финляндские власти; все были убеждены, что это может иметь весьма печальные следствия, но знали и то, что вмешиваться в эту сферу царских распоряжений было чрезвычайно опасно.
Я решился высказать государю правду; написал записку, в которой доказывал, что в Финляндии осадное положение и опасно, и ненужно; что там администрация так устроена, что главнокомандующий не потеряет нисколько времени, обращаясь с своими требованиями к ординарным властям, а не прямо к обывателям, — и, для большего убеждения, приложил и программу отношений военного начальства к гражданскому. Армфельт как финляндец желал, чтобы мое мнение было известно, но как добрый человек опасался за меня и уговаривал меня взять доклад назад. Я на это не согласился: Fais се que dois, arrive que pourra («Исполняй свой долг, несмотря ни на какие последствия»). Армфельт передал мой доклад цесаревичу, а его высочество, довольно нерешительно, подал его государю. Узнав, в чем дело, государь взял бумагу с некоторым гневом, стал читать ее, успокоился, просветлел и, написав на докладе: совершенно справедливо, пожаловал мне орден Владимира 2-й степени. Ни военного, ни осадного положения в Финляндии не было.
Между тем Муравьев решительно отказался от командования войсками в Финляндии, и оно вверено было генерал-адъютанту Бергу. Государь, следуя моей программе, приказал Армфельту представить ему список лиц, из которых он мог бы выбрать финляндского генерал-губернатора, не командующего войсками. Армфельт стал читать ему с расстановкою имена. По третьему имени государь сказал:
— Вы можете прочитать, но у меня есть свой кандидат: это Фишер; отправьтесь непосредственно к нему и попросите его от меня принять это место: скажите ему, что я прошу его об этом.
Армфельт приехал ко мне и пересказал все. Я тут же написал письмо, в котором, изъясняя глубочайшую признательность государю, приводил слабость моего здоровья в виде препятствия принять место, и как здоровье мое всего плоше летом, то я находил, что interregnum (междуцарствие), могущее произойти от моей болезни летом, в разгар военных действий, может иметь весьма неблагоприятное влияние на ход внутреннего управления.
— Вот, граф, — сказал я, отдавая ему письмо, — мой официальный ответ! Если наследник спросит вас о действительных причинах, которые помешали мне принять столь почетное место, то благоволите ему сказать, что они основываются на личности генерала Берга. Я знаю, что у него беспокойный характер и что он домогается места генерал-губернатора. Я боюсь, что он будет обращаться ко мне с просьбами, исполнение которых разорит край. Если я соглашусь на них — страна меня будет проклинать; если я им буду сопротивляться — генерал будет жаловаться и, в случае военной неудачи, свалит все ошибки на меня, — и я буду иметь несчастье потерять хорошее мнение, которое до сих пор имеет обо мне император.
Совершенно забыл, было ли это в 1854 году и совпадало ли с назначением Берга главнокомандующим. Припоминаю, что он командовал уже, когда англичане бомбардировали берега. Впрочем, так как я пишу не для истории и факты остаются фактами, то и оставляю числа без дальнейшей поверки.
В январе опять вышел раскол в вопросе об устройстве училищ. Сенат был одного мнения, епископы — другого, князь Меншиков — третьего.
Для решения этого вопроса государь опять приказал послать меня в Гельсингфорс. Между тем цесаревичу напели, будто проект Меншикова — мой (что так и было), будто я такой самонадеянный, что не допускаю никакой чужой мысли; согрели опять историю об окладах финляндского кадетского корпуса — словом, сделали все, что можно, чтобы уронить меня во мнении наследника, не смея говорить против меня государю, ибо государь вывел бы все на чистую воду.
Съездив в Гельсингфорс, переговорив с педагогами и епископом в Борго, я изложил в записке свое мнение насчет училищ; я опровергал мнение сената, предлагавшего реальные гимназии, тем, что они уничтожили бы серьезное и религиозное направление преподавания; я находил, против мнения епископов, что исключительное подчинение им всех училищ не оправдалось опытом, ибо епископы потворствовали своим коллегам-богословам и вовсе не заботились о дисциплинарном положении училищ; я предпочитал оставить классические гимназии с несколькими высшими техническими классами и присоединить к епископскому надзору совместный надзор губернаторов. В особой записке я говорил, что, как ни сильно мое убеждение, полезно было бы составить из известнейших педагогов комитет, которому сообщить все три проекта, не называя их авторов, с тем чтобы комитет сказал, который из них лучше, не стесняясь иерархическими уважениями.
Я воротился в Петербург за три дня до кончины государя. Не знав в то время о наговорах, против меня сделанных, я был смущен холодностью приема цесаревича. Зная, что его высочеству поручено уже было управление делами империи, я не смел обременять его вовсе не спешным делом и потому оставил портфель у двери в кабинет на стуле. Цесаревич спросил меня сухо, отчего у меня нет доклада об исполненном поручении, — и на мой отзыв, что я не представляю его по несвоевременности, цесаревич так же сухо объявил мне, что он не видит препятствий. Доложив, что доклад у меня за дверью, я изложил свои мысли об училищах и, как видно было, получил одобрение, ибо наследник сказал мне, что вполне разделяет мои мысли и сейчас доложит мою записку государю.
— Государю сегодня гораздо лучше! — прибавил он.
Я осмелился отозваться.
— Ваше высочество! Дозвольте мне говорить с полною откровенностью!
Получив дозволение, я продолжал:
— Ваше высочество! Юношество есть самое драгоценное достояние родителей, на которое правительство имеет гораздо меньше права, чем на всякое другое частное достояние. Поэтому неосторожно бы было распорядиться участью детей на основании какого-нибудь личного соображения. Я говорил об училищах по убеждению, но мое убеждение может быть ошибочно. Спросите лучше у родителей или их поверенных, чего они желают для назидания детей своих! Поверенными я называю духовенство и лучших педагогов, таких, к которым родители отдают своих детей преимущественно. Их нетрудно узнать; в Гельсингфорсе, например, рядом с гимназией, где преподавание безвозмездно, стоит пансион Бакмана, в котором за слушание лекций платят 100 рублей. Гимназия даровая пуста, а дорогой пансион Бакмана переполнен. Следовательно, Бакман есть поверенный всех родителей, дети которых у него учатся. Прикажите, ваше высочество, составить из таких людей комитет и поручить ему пересмотреть все проекты.
Цесаревич, казалось, был удивлен такой речью, но пожал мне руку и сказал:
— Это делает вам честь! Отдайте мне записки!
Думал ли я, что через два дня великий князь, с которым я говорил, будет моим государем! Через два дня скончался Николай Павлович!
Николай Павлович служил России так усердно, как не служил ей ни один из его подданных; он трудился добросовестно, но ошибался в системе и был обманываем с отвратительнейшим цинизмом. Он был несчастлив в выборе людей. Шефом жандармов назначил Бенкендорфа. Не говоря о ложности этой системы полиции, нельзя было упрекнуть государя за выбор Бенкендорфа. Образованный человек, доброго сердца, благородного характера, неустрашимый, — чего же более? — а что делалось при Бенкендорфе!
Родной брат генерал-лейтенанта Эттера, командовавшего дивизией в Финляндии, высокий, черноволосый, очень красивой наружности, знакомый с Бибиковыми и графинею Клейнмихель, чуть не сослан на каторгу по распоряжению Третьего отделения, как беглый с каторги грабитель церкви, который был малого роста, худощав и рыж. Князь Меншиков не мог разуверить Бенкендорфа, что его обманывают, и Бенкендорф только тогда оставил Эттера в покое, когда Меншиков погрозил, что доложит обо всем государю. Говорили тогда, что это затеял начальник Третьего отделения Мордвинов из ревности!
Когда я был директором канцелярии комиссии постройки железной дороги, я близко узнал Бенкендорфа. Зная, что не поймаю председателя на долгое время в Петергофе, я сделал краткий реестр бумаг, поступивших в комиссию, и против номера каждой написал проекты резолюций. Когда граф Бенкендорф увидел в моих руках кипу бумаг, он сказал мне:
— Мой дорогой! Я вам могу дать только полчаса.
— Я у вас попрошу, граф, только четверть часа, — отвечал я; прочитал ему содержание каждой бумаги и проектированную резолюцию и сказал:
— Если ваше сиятельство согласны, не угодно ли подписать этот реестр.
Когда он подписал его и увидел, что я укладываю бумаги, он спросил:
— Как? Все?
— Все, граф.
— Молодец! И скоро, и хорошо!
Когда я приносил ему бумаги к подписанию и собирался читать их, он говорил «не нужно», брал всю кипу, выдвигал из стола с левой руки длинный ящик с поперечными перегородками, подписывал бумаги, не читая, клал каждую подписанную бумагу в ящик, в 1, 2, 3-е отделение его по порядку, так что на первую бумагу ложилась шестая или пятая, а между тем на первой подсыхал его замысловатый автограф.
Какие страшные бумаги могли проходить так через его подпись из Третьего отделения или корпуса жандармов! Но мог ли знать государь, что Бенкендорф так беспечен! Перед ним и все другие, и он принимали вид неистощимой попечительности, — а за глазами государь не видел. Если бы Меншиков, Бибиковы и Клейнмихель сказали государю, что Третье отделение хотело сделать с Эттером, он распорядился бы, — чему был и опыт.
Государь приказал графу Бенкендорфу написать Уварову, что его величество крайне недоволен направлением журналистики и не может не приписать этого невнимательности министерства. Мордвинов же написал Уварову выговор от себя. Уваров пожаловался государю, приложив письмо Мордвинова, и сей последний был немедленно сменен.
Мои личные опыты доказывают, что государю можно было говорить правду и что он переносил противоречие, если оно было сказано откровенно, без боязни и без обходов. Виновны те, кто, имея к нему доступ, занимали его пустяками и умалчивали о важных делах, из мелочных опасений или расчетов.
За исключением Клейнмихеля, нельзя упрекнуть государя и в том, чтобы он замещал должности по прихоти. Лица, им избранные, соединяли большею частью блестящие наружные качества: Бенкендорф, Орлов, Воронцов. Государь им вверился, но как отплатили они ему за его доверие? Бенкендорф все забыл в пользу своей беспечности; Орлов вмешивался в грязные спекуляции; Воронцов оклеветал Муравьева, лучшего русского генерала; Панин сделал все, что мог, к унижению сената; Меншиков не обманывал государя, но ни одной правды не умел сказать, не обинуясь.
Если я рисковал говорить ему прямо, что думаю, то не могу простить им, что они были трусливее меня. Душевно сожалею Меншикову, но не могу не винить его самого, что он пал. Сознаю ошибки государя, но не могу не уважать его и не жалеть о нем. Что должна была выстрадать его могучая натура, когда он увидел, что во всем ошибся и во всем его обманывали; когда севастопольские бастионы, которые величались в отчетах военного министра «несокрушимыми твердынями», рассыпались в порошок под неприятельскими ядрами; когда войска его бежали целыми бригадами, бросая в поле раненых командиров! Патриотизма не было ни в ком из его окружающих; главнокомандующего лишали средств обороны из страха, чтобы он не сделался фельдмаршалом; слово, сказанное им по секрету своим ближайшим сотрудникам, разглашалось и через два дня доходило до французского главнокомандующего Канробера.
Десять лет прошло со времени его кончины, но я скорблю еще о нем. Он тяжко искупил свои невольные ошибки, но безупречен был в помышлениях, патриот, труженик и честный человек! Льстецы его и обманщики сошли со сцены. Клейнмихель, впавший в детство от своего ничтожества; Орлов, считавший себя в безумии свиньей; Воронцов в процессе с публицистом, закидавшим грязью его предков; Панин, осмеянный всей Россией; только Долгоруков благоденствует.
Со вступлением на престол Александра Николаевича являются другие деятели. Князь Меншиков уволен не только от звания главнокомандующего, но и от всех прочих должностей. Клейнмихель тоже, а впоследствии Бибиков. Князь Паскевич и Нессельроде недолго пережили покойного государя. Хрущов, Милютин, Оболенский, Головнин стали вождями партий; откуда ни возьмись выступили из подполья разные партии: славянофилы, социалисты, сепаратисты. Национальности и секты подняли головы; поляки надеялись на возвращение прав; балтийские губернии ждали особого сената; финноманы мечтали о какой-то самостоятельности. Все газы, порожденные разложением сил государственных в последнее десятилетие царствования Николая, газы, сдерживавшиеся его энергическою личностью, выступили наружу, как только он закрыл свои грозные глаза. Задача правительства усложнилась.
В государстве, как в теле органическом, один недуг поддерживает другой, и оба усиливаются взаимно: чем грубее ошибки политические, тем сильнее внутреннее расстройство, и чем сильнее это расстройство, тем легче впасть в ошибки политические. Подготовка нового царствования не обещала России спокойного развития; в ней успели уже окрепнуть дурные элементы, с которыми трудно справиться и опытному правителю, — элементы, из которых самый вредный — элемент канцелярский.
Канцелярская наглость составляла исстари хроническую язву России — гангрену, портившую ее соки и поглощавшую ее силы. Давно уже, со времен татарщины, земские и уездные суды, полиция в городах, хозяйственные и казенные управления грабили с неимоверною дерзостью; еще в младенчестве я слышал от своего крестного отца сарказмы на ордена; он объяснял буквы С. В. на Владимирском ордене как надпись смелее воруй. Эта наглость не касалась только двух частей; политики и училищ — где лица, окружающие престол, берегли свою честь, хотя и не всегда были чисты. Потом эта грязь, облепившая нижние ступени иерархической лестницы, стала подниматься вверх, просасываясь сквозь связи административного механизма. При Николае эта наглость стала принимать правильные формы, несмотря на строгость императора.
Прежде эта наглость действовала посредством нарушения законов; теперь она стала чертить законы, способствующие воровству. Прежде произвол исходил от людей сильных, теперь он вооружил людей канцелярских. Первыми образцами такой наглости были Позен и Мордвинов. Позен, с изумительным нахальством, писал наказы и правила, в виде опытов, приводившие в систему колоссальное воровство. Мордвинов совершал оружием Третьего отделения злодейства инквизиции. История Эттера поражает своей неслыханностью. Сколько лиц, менее известных, погибло, может быть, от подобного злодейского произвола! Но Позен и Мордвинов действовали за ширмами; Чернышев, вероятно, сам не знал в точности, какие вредные семена сеял он, нося к государю позенские проекты, Бенкендорф, наверное, не знал, какие бумаги подписывал.
Однако деморализация оставалась еще в подполье: канцелярские крысы во тьме ночной грызли государственную машину. Наконец выступает наглость высшего рода, где высокие сановники принимают инициативу и берут канцелярскую сволочь в свои сообщники. Родоначальником этой высшей наглости был Киселев. Он сочинил целые тома положений, где каждый параграф — шарлатанство; он окружил себя людьми низкими, чтобы слышать от них только то, что ему было нужно; его чиновникам, рассылаемым по всей России, давались наперед внушения, что они должны писать, и из этих донесений на заказ составлялись отчеты государю, опутывавшие его как паутина. С какою целью действовал он с таким иезуитством?
Не как патриот ли пред заблуждающимся, строптивым государем? Не как либерал ли, увлеченный своей доктриной? По моему убеждению, — ни то ни другое!
По моему убеждению, Киселев был зол и деспот — больше ничего! После польского мятежа приезжала в Петербург жена его хлопотать за Потоцкого, мятежника. Государь рассердился и сказал Киселеву, что если жена его не выедет из Петербурга в три дня, то он вышлет ее с фельдъегерем. Киселев, бывший тогда другом князя Меншикова, изливал ему свою ярость на государя, сказав: «Рано или поздно я отомщу ему за это». И вот он начал подкапывать престол разрушением дворянства, зная, что оно одно может и желает отстаивать самодержавие. Что он был грубый деспот — это знают все его чиновники. Когда Карнеев, начальник 4-го отделения Собственной Его Величества канцелярии, пришел благодарить Киселева за пожалование его в статс-секретари, министр отвечал ему:
— Ах ты, дурак! Неужели ты думаешь, что я для твоей рожи исходатайствовал это звание? Мне нужно было, чтобы мой подчиненный был статс-секретарь, — а ты или другая скотина, это мне все равно!
Другой великий обманщик государя — Орлов. За ним не прятались канцелярские крысы: он за них прятался. Он опирался на нахалов, как Бутков, Суковкин и Гвоздев.
Буткова ставлю я в этот ряд только по сверстничеству; в нравственном отношении он выше их. Вступив на сцену канцелярского владычества, он действовал от себя и на свой страх; разрабатывал с беспредельным нахальством бездарность своих начальников; лез вперед с необыкновенною дерзостью, не раболепствуя перед теми, которые давали ему дорогу; выпрашивал с отвратительною наглостью оклады и награды, но не обкрадывал казны и не брал взяток, как Орлов (шеф жандармов), Суковкин (статс-секретарь) и Гвоздев (директор департамента в министерстве внутренних дел). Словом, Бутков обыгрывал, — но без шулерства.
Орлов начал с того, что со всех почти акционерных обществ брал деньги за покровительство; он входил и в другие спекуляции, например в дело Войцеховича. По смерти матери Войцеховича осталось, или, вернее, предъявлено, завещание очень подозрительного вида, которым мать, имея родных сыновей, оставляла своей сестре большие имения, дома в Киеве и богатую движимость. Войцехович, не смея начинать процесс о подлинности завещания, оспаривал лишь то, что в числе завещанных имений было родовое; его мать была урожденная Сулима, а имение сотни лет называлось Сулимовка; стало быть, самое имя обличало, что имение родовое. Оно ему отдано, однако же через несколько лет начался процесс, о котором Орлов хлопотал всеми средствами, засылал жандармов во все судебные места, где дело рассматривалось, рассказывал в городе и у двора разные небылицы, помрачавшие имя Войцеховича, — так что прежде, чем дошло до высших инстанций, Войцехович был уже замаран в общем мнении. Департамент сената решил в его пользу, но Панин дал предложение, и дело перешло в общее собрание; там большинство было в его же пользу, и Панин перенес дело в Государственный совет, где только трое — Меншиков, Киселев и князь Васильчиков — остались на стороне Войцеховича. При докладе мнения Государственного совета государь спросил:
— Отчего такое простое дело дошло до Государственного совета?
— Оттого, что в общем собрании сената было разногласие, — отвечал Васильчиков.
— Отчего оно дошло до общего собрания?
— Оттого, что министр юстиции дал предложение.
— Отчего он дал предложение?
— Этого, государь, я не знаю!
— А я знаю! — сказал государь и решил дело в пользу Войцеховича.
Через несколько лет Орлов выпросил у государя золотые прииски Мясникова, «в случае, если они окажутся принадлежащими казне». Заручившись высочайшим согласием на такой небывалый дар, Орлов возбудил иск от казны и сам сделался казенным адвокатом как будущий владелец. Дело это сопровождалось возмутительными эпизодами, пока дошло до государя. Орлов уверил его, что он вовсе не знает подробностей и только номинально участвует в кампании. Государь заметил ему, что и имя его не должно быть в таком грязном деле.
Несмотря на подобные намеки, Орлов стал эксплуатировать раскольников; с одной стороны, местные начальства прижимали их, с другой — сообщники Орлова, Суковкин и Гвоздев, предлагали им покровительство шефа жандармов. Войцехович узнал об этом, сказал какому-то главе раскольников, что они понапрасну платят деньги, переговорил с Бибиковым (министром внутренних дел), убедил его просить у государя особое отделение канцелярии его величества по делам раскольников. Он сам предполагал быть товарищем министра внутренних дел и управлять тем отделением. Орлов, узнав об этом, доложил государю, что Войцехович и есть причина жестокого преследования раскольников, что если дать волю ему, то нельзя отвечать за внутреннее спокойствие, и что посему он просит или удалить Войцеховича, или уволить его от должности шефа жандармов. Разумеется, удален Войцехович! (Это последнее Орлов сам мне рассказывал.) Вот в каких обстоятельствах была Россия при кончине Николая I.
Как обо мне хлопотали мои финляндские друзья, видно было из выражения нового государя: «Что бы ни говорили, ему нельзя отказать в способности». Через месяца два государь сказал про меня при Армфельте: «Я упорствую в своем мнении, что вот человек для наших финансов». Армфельт приехал ко мне с поздравлением, но я прошел уже через школу жизни; я тотчас написал просьбу об увольнении меня в отпуск за границу, «чтобы отвратить новое неистовство клеветы», как говорил я доброму графу.
Как ни поторопился я, клевета уже стала действовать. Воротясь из-за границы, я нашел и Армфельта в ином настроении. Он жаловался мне на свое затруднительное положение и стал думать об отставке. Я стал думать, что со мною будет, когда он уйдет. Министром статс-секретарем хорошим я не могу быть: это место политическое, требующее, или тогда требовавшее, близких связей со Швецией, а товарищем другого мне быть не хотелось, тем более что почти все кандидаты были мои креатуры. Я написал письмо к государю, в котором излагал, что финляндцы не могут забыть, что я не финляндец, что я не желал бы быть «политической несовместимостью», и потому просил назначить меня в правительствующий сенат. Эта просьба в 1856 году исполнена; я назначен в сенат.
Боссюэт говорил о смерти: «Красота — это только сон, слава — это одно название, потому что все, что мы называем счастьем, слава, красота, — все смешается в этом обширном океане, где более нет ни славы, ни красоты». Мне сдается, что про наш сенат можно было бы сказать почти то же, — но я устал, и этот океан мне нравился. Я мечтал, что отдохну там! Я не знал, что внешние влияния будут меня тревожить и в этом полуживом теле.
Глава XVII
Придворная атмосфера, окружающая государей — Императрица Екатерина — Император Александр I — Карьера благодаря умению чинить перья — Наказание камердинера за нюхание табака — Император Николай I — Характеристика его — Цесаревич Александр Николаевич — Генерал Левашов
Властителей нельзя судить так, как частных людей. «Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es» — «С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь», говорят французы. Частный человек живет с людьми, и потому из него образуется человек; он видит свет собственными глазами, видит его верно или криво, смотря по глазам, но все же видит сам.
Коронованные особы не имеют естественного роста: это тепличные растения, для которых другие приготовляют почву, другие дают ему обстановку и окружают призматическими стеклами, сквозь которые мир представляется в ложном и, что еще хуже, в радужном свете. На престоле продолжается та же фантасмагория; вокруг него маскарад; все являются или замаскированные в условленном характере, или стереотипные с вечною подобострастною улыбкою на устах; если между ними попадаются лица искренние, они, в пестрой маскарадной среде, кажутся чудаками или непокорными. Так все нравственное развитие продолжает идти путем ненормальным.
Когда вступил на престол Александр II, все стали судить его будущее царствование по свойствам его личности. Подождите: наследник не то, что царь; царь в первый год правления не то, что в десятый, и не то через двадцать лет.
Екатерина II, одаренная великим умом от природы, родилась в Штеттине, в маленьком казенном доме, который в 1835 году был слишком тесен для аптекаря; она приехала в Россию с полдюжиною белья; муж бил и унижал ее; словом, она жила и страдала: сильный урок для царствования. Она как великая княгиня не была окружена китайскою стеною, не сидела в славянском тереме, потому что была не наследницею престола, а женою наследника, ее не любившего. Неопасная царице, она свободно сообщалась с людьми государственными, а таких людей было много. Таким образом, она начала царствовать человечески, и, думаю, царствовала бы еще лучше, если бы трон не стоил ей преступления.
Император Александр I, воспитанный мудрою бабкою, вынес много уроков из своей четырехлетней жизни в качестве наследника престола, рядом с братом своим цесаревичем, которого отец, видимо, предпочитал старшему сыну. Катастрофа, возведшая его на престол, была тоже довольно поучительна, и притом люди Екатерининской школы были все налицо. Если бы Павел процарствовал не четыре, а 24 года, Александру было бы труднее управиться с государством.
Но надолго ли он остался тем, чем был? Воспитанник Лагарпа, либерал XVIII века с примесью славянского двуличия, он вел дела государственные умно в общем смысле до своего апогея, до 1815 года; с 1815 года он был уже не тем человеком, каким вступил на престол: стал подозрителен, мелочен до ребячества, мистификатор и мистик.
Князь Меншиков до сих пор не забыл тех мелочей, с которыми надобно было бороться людям, имеющим с ним дела. Ежели лист бумаги, на котором написан был доклад, казался государю на 1/8 дюйма больше или меньше обыкновенного, он сердился как на важное злоупотребление. Если первый взмах пера не выделывал во всей точности начала буквы А, в вершине тонкое, как волосок, внизу широкое, как след кисти, он бросал перо и не подписывал указа.
Ермолов говорил, что Александр I страдал наследственною хроническою болезнью, и эту болезнь называл симметрией. Очинка пера составляла государственное дело.
Был в министерстве иностранных дел некто Миллер, человек неважного звания и ограниченного ума. Государь, подписав какой-то указ, сказал: «Вот перо, дивно очиненное». Министр подхватил это драгоценное перо, произвел тщательный розыск, кто чинил его: оказалось, что это был Миллер; с этих пор Миллер сделался самым необходимым человеком в дипломатии; он сопровождал министра во все конгрессы и был осыпаем наградами. Иностранные властители думали, вероятно, что это был русский Генц, и награждали его, как Генца. Он умер тайным советником, украшенный звездами. Я был знаком с его семейством. Старшая дочь изъясняла мне пренаивно: «Какие странные и сокровенные вкусы бывают иногда у умных людей: по смерти папа нашли у него в бюро около сотни перочинных ножей! На что были ему нужны эти ножи? Странно!»
В двадцатых годах открылся в государе мистицизм; к деятелям, как Миллер, присоединилась мадам Крюденер; но мистицизм не мешал капризам истерического свойства; в государе нельзя было узнать великого умиротворителя Европы.
М. М. Брискорн, ездивший на конгрессы с военно-походной канцелярией, рассказывал мне, что, не помню во время какого конгресса, получено было известие о бунте Семеновского полка, расстроившее государя очень сильно. В этот день государю показалось, что от камердинера пахнуло нюхательным табаком, предметом сильного отвращения государя.
— Ты нюхал табак!
— Никак нет, ваше величество!
— Нюхал!
— Воля ваша, не нюхал!
Государь подошел к нему нос к носу и опять закричал:
— Нюхал, признайся.
— Не нюхал, ваше величество!
Государь вынул из кармана носовой платок, всунул палец, обвернутый платком, в нос своего камердинера, повертел в носу и, вытащив платок, придвинул его к глазам испуганного слуги.
— А это что?
— Виноват, ваше величество! Никогда не нюхаю; сегодня церковный сторож попотчевал.
— Под арест! — И посадили, не знаю куда, под арест камердинера и инвалида, бывшего при походной церкви.
В сумерки пришел к государю доктор Виллье.
— Как чувствуете себя, государь?
— Нехорошо!
— Что у вас?
— Весь расстроен!
В это же время Виллье вынимает из кармана табакерку, медленно берет из нее табак, еще медленнее укладывает его в нос и пошаривает пальцами в табакерке.
— Ты смеешься надо мной? — закричал взбешенный государь.
— Нет, государь, я не смеюсь, я плачу; посмотрите в окно!
Государь подошел к окну и видит вокруг своего жилища толпу народа.
— Что это значит? — спросил с ужасом государь.
— Они хотят посмотреть, — отвечал Виллье, — как поведут сечь кнутом камердинера и церковного прислужника за то, что нюхали табак.
Государь охранял с величайшею ревностью личную свою репутацию и был мастер этого дела; мелочные вспышки его оставались величайшим секретом; люди, его окружавшие, были слишком умны и хорошо воспитаны, чтобы выносить из избы сор, да и знали тяжкие последствия нескромности. Немудрено, что тактика Виллье произвела колоссальное действие. Недаром говорят: «Для лакея его барин не может быть великим человеком».
С двадцатых же годов государь перестал заниматься внутренним управлением империи и вверил его Аракчееву; в 1823 году он удалил от себя князя Меншикова как зачинщика мысли об освобождении помещичьих крестьян, — тот самый государь, который только и думал об освобождении их при вступлении на престол. Что значит царствовать 25 лет!
Николай Павлович, вступив на престол, начал с того, что в десять раз уменьшил сумму, назначенную на императорскую трапезу. Он говорил, что ему ничего более не нужно, как тарелка щей и котлета с картофелем. Говоря о финансах, он выразился: «Я не финансист, но здравый рассудок говорит мне, что лучшая финансовая система есть бережливость. Этой системе я и буду следовать». — А умер, оставя неоплатные долги на государстве: опять следствие 30-летнего царствования.
Николай Павлович не обладал мудростью своей бабки и не получил воспитания, как старший брат его, однако обстановка его была невыгодна. 14 декабря послужило ему, с первого дня, великим уроком. Правление Аракчеева вдвинуло в правительственные сферы несколько человек, более вредных, чем полезных, однако много оставалось и дельных и опытных помощников государю, людей, видевших собственными глазами великие события начала XIX века и участвовавших лично в этих событиях: Воронцов, Дибич, Толь, Ермолов, Паскевич — испытанные в боях; Новосильцов, Кочубей, Нессельроде — опытные в делах государственных; Канкрин — умный министр финансов; Васильчиков — честный и прямой советник, и другие. С такими людьми можно было многое сделать.
И они, и другие, менее способные, были прежде всего озабочены тем, чтобы точнее исполнить волю государя; никому не приходило в голову проводить, вопреки этой воле, собственные доктрины. Николай Павлович и не потерпел бы этого, но все же большое преимущество — действовать с помощью людей, которые желают исполнять царскую волю и не помышляют о водворении мимо царя своей личной политики.
У государя была нежная мать; без замечательного ума, она многое видела, многое пережила и жизнью приобрела то, что называют тактом и что несравненно лучше, чем кривой или ум или ум вверх ногами.
У Николая Павловича был брат, человек ограниченный, но душою преданный брату и государю своему, вернейший подданный из всех верноподданных. Екатерина приказала коменданту Рылееву сделать чучело из Сутерланда (околевшей ее любимой собаки), и он чуть не содрал кожу с банкира Сутерланда. Если бы Николай Павлович приказал Михаилу сделать что-нибудь несогласное с мыслями последнего, он исполнил бы волю государя добросовестно.
К такой выгодной обстановке присоединялся и характер государя, честный, твердый, отчетливый, однако и он изменялся на императорском троне. Посвятив 10 лет приведению в порядок России, он во второе десятилетие стал уже запутываться, и третье десятилетие представляло уже период разложения.
В периоде разложения нашел Россию нынешний государь, не одаренный ни силою воли, ни проницательностью, но в то же время кроткий, спокойный и ничем не обнаруживавший ни стремлений, ни свойств, из которых выходят великие реформации. Обстановка его была далеко не такова, как отца его.
Покойный император, как все коронованные отцы взрослых сыновей, держал своего сына вдали от дел государственных. Министры не только не езжали к нему для беседы о делах государства, но даже не смели входить в подобные разговоры.
Я не министр, но мне досталось за то, что я употребил в бумаге имя цесаревича. Дело шло о снисхождении к залогодателю, которого залог был арестован за долги винного откупщика; комитет, которого я был правителем дел, имел в своей программе именно снисхождение к залогодателям, если они того заслуживали. Этот залогодатель, имени не помню, заслуживал снисхождения, потому что был в походах и о службе его свидетельствовал с отличной стороны цесаревич по званию бригадного командира; в этом смысле я сослался на свидетельство его высочества в журнале комитета, однако государь сердился и сказал Орлову: «Прошу его императорское высочество не мешаться в дела мои». Орлов, опасаясь неприятностей, доложил государю, что цесаревич писал ему партикулярно о службе этого офицера, не ходатайствуя прямо об оказании ему милости, и что, может быть, не следовало бы помещать это в журнале. «Так скажи Фишеру, что он упомянул о цесаревиче совершенно неуместно».
Все участие наследника в делах государственных заключалось в том, что он присутствовал при докладах министров и в Государственном совете. Присутствуя при докладах, он мог видеть только осанку государя перед своими министрами, — более ничего. Он не имел права ни делать вопросов докладчику, ни выражать своего мнения государю. Министры не смели возражать государю при цесаревиче, даже и те, которые позволяли себе возражения с государем с глазу на глаз. Я не раз слышал от Меншикова: «Это я передоложу, когда государь будет один; при наследнике я не мог противоречить». Чему же он мог бы научиться.
Покойный государь думал, что наследник, вслушиваясь в его резолюции, научится государственной мудрости механическим путем, как губка напитывается водою посредством одного прикосновения; он полагал, что, видя осанку государя, наследник научится быть самостоятельным.
Как в этом случае, так и во многих других, покойный государь пытался посредством внешних обрядов достигнуть того, что приобретается только духовною работою. Государь не подумал, что у него были тоже критики; что, не смея высказывать ему самому свои убеждения, они шептали их наследнику, который и сам не смел высказывать отцу свои мнения. Так, слыша пересуды, видя события ненормальные, он вбирал в себя впечатления, не имея ни в самом себе, ни вокруг себя пробного камня, указывающего достоинство тех или других воззрений; он, что называется, становился в тупик: верил то в один принцип, то в другой, то одному советнику, то другому, то есть не верил окончательно никому и ничему, потому что ни одно доверие его не имело твердого основания.
Он не мог не сознавать, что дела идут плохо, но не научился распознавать средства их исправления: самое опасное состояние для начинающего царствовать; примет он меру, рекомендованную советником коварным или безрассудным, и, увидя, что последствия не те, каких ожидал, примет другую, часто худшую, и т. д.
Так человек, на которого напал рой пчел, сначала старается поражать тростью тех, которые ближе к лицу его, но, не попадая ни в одну и чувствуя жало каждой, начинает размахиваться безотчетно, ударяя по головам своих друзей и минуя своих врагов. Это почти буквально история новейших реформ и новейшего перемещения личностей.
Наследник заседал в Государственном совете, но что за состав совета! Заседания могли быть полезны молодому человеку, когда председателем был честный Васильчиков, членами — Нессельроде, Канкрин, Дашков. Но их уже не было. За Васильчиковым последовал Левашов, которого князь Меншиков очень метко назвал государственным жеребцом, напыщенный фразер без мысли. Административная сила его обрисована очень художественно в рассказе приятеля моего Войцеховича, ехавшего с ним из Киева.
Полицеймейстер ехал на дрожках за коляской генерал-губернатора. Заметив покривившийся фонарный столб, Левашов закричал: «Господин полицеймейстер, это что значит?» Полицеймейстер соскочил с дрожек, приложил руку к шляпе, побежал рысью подле коляски и доложил, что столб покривился ночью и будет исправлен. Левашов проговорил на это с неподражаемою скороговоркою и энергическим крещендо: «Господин полицеймейстер! Честь имею доложить, что я вас под суд отдам, ошельмую, уничтожу; затем, с совершенным почтением честь имею быть ваш покорнейший слуга», — доведя донельзя хриплую энергию голоса на последнем слоге речи.
У заставы бросилась на колени бедная жидовка. Левашов кричит: «Стой! Что вам угодно, госпожа еврейка?» Она просила о пособии. «Госпожа еврейка! Честь имею доложить, что я вас посажу в острог, привяжу, закую. Затем с совершенным почтением честь имею быть ваш покорнейший слуга. Пошел!»
Выехав из города, говорит рассказчик, мы поскакали адским карьером; лошади валились направо и налево и тотчас заменялись на подставах; на станциях ямщики работали с лихорадочною живостью в совершенном безмолвии. В Могилевской губернии скачка в карьер прежняя; в Витебской — тоже, но без ужаса на станционной прислуге; в Псковской Левашов сказал уже один раз: «Тише!» В Петербургской он стал такой смирненький, добренький, ласковый; от Луги стал вздыхать; далее сказал со вздохом: «Как примет меня государь?» — а в Царском Селе стал жаловаться на тягость положения генерал-губернатора.
За ним сел на председательское место Чернышев, который подарил России государственного секретаря Буткова. В лексиконе Boiste Чернышев определен двумя словами: aventurier russe! — русский авантюрист. Бутков имеет такое же право на этот титул. С этих пор воцарилось в Государственном совете канцелярство; хлопотали уже не о том, как разрешить вопрос получше, а о том, как бы спустить дело поскорее, как бы угодить приятелю или фавориту, как бы насолить врагу или опальному, — а в присутствии вместо речей Канкрина и Дашкова слышались болтовня Блудова, софизмы Панина или то бе или не бе Вронченко. Хороша школа наследнику престола! Полезнее было бы ему присутствовать в сенате.
В сенате такие же люди, как и в совете, да положение другое. Иной очень охотно покривил бы душою, если бы надобно было удержаться на хорошем месте или была бы в виду кандидатура на улыбающееся место, но как на дверях сената читается «Оставь всякие надежды», то хлопотать не о чем, и люди, за неимением лучшего, становятся самостоятельными.
Около наследника были два начальника его штабов, Ростовцев и Витовтов, оба невежды, но первый был хитрый и ловкий невежда, а последний — добряк-невежда!
У Александра II и в семействе нет той опоры, какую находил себе отец его. Великий князь Константин Николаевич ученый, но неопытен, впечатлителен и самонадеян слишком. Великая княгиня Елена Павловна, бесспорно, умная и просвещенная, но не знает России; ее просвещение книжное, одностороннее; но если бы служили государю, как великий князь Михаил Павлович, они могли бы быть ему полезны. К несчастью, они более заботились о проведении своих личных теорий, чем о сохранении исторического государственного строя; они не помогали государю, но противодействовали ему; им Россия обязана теми новейшими деятелями, которые сделали из России, как князь Меншиков выразился, une macedoine, смесь.
Я не верю, будто они действовали с намерением повредить самодержавию; они очень хорошо знают, что с переменою формы правления утратятся широкие права всех членов императорского дома. Я убежден, что оба были жертвою дурных советчиков, но все-таки не оправдываю их действий. Действие по убеждению тогда только законно, когда оно предпринимается на свой страх, но проводить именем другого свои воззрения, с честью для себя, если дело удастся, и с ответственностью другого за последствия вредные — значит, чужими руками жар загребать, и ни в каком случае не подобает честному человеку и верноподданному. В такой обстановке и с другими силами нелегко управиться с государством, которого корни уже издавна подгнивали.
Мне тотчас показалась будущность какой-то неверною; я предвидел движение умов, притязания национальностей, усложнение государственных вопросов, перетасовку личностей и, вспомнив Цицероново: «Beatus ille qui procul negoties…» — «Блажен тот, кто, удалившись отдел, возделывает свои отеческие нивы», — попросил в 1855 году отпуска за границу, а в 1856 году — назначения меня в сенаторы, считая, что занятие второго места финляндского управления русским уроженцем есть политическая несовместность.
Так оставил я Финляндию, к великой радости генерала Берга.
Глава XVIII
Перед освобождением крестьян — Противоречия в этом вопросе — Взгляд на крепостное право в России — Проект сенатора Веймарна — Чевкин и Ростовцев — Комитет об улучшении быта крестьян — Барон Корф и неудавшееся министерство цензуры — Высочайший рескрипт и циркулярное его искажение — Дворянские комитеты — Чулков — Комитет Петербургской губернии — Мое объяснение с князем Орловым — Моя речь в комитете — Забаллотирована моего проекта — Заседания комитета — Редакционные комиссии — Смерть Ростовцева и назначение на его место графа Панина — Разговор князя Меншикова с императрицей и великим князем Константином Николаевичем — Перемены в администрации — Хрущов — Действия демагогической партии — Новые деятели — Студенческие беспорядки — Польский мятеж — Земские учреждения — Растление нравов — Покушение Каракозова
Годы 1856 и 1857 представляют замечательную смесь консерватизма и демагогии в действиях правительства, борьбу государя с усилившеюся партией либералов, которая выходит из этой борьбы победителем.
Я не посвящен ни в тайны государева сердца, ни в интриги лиц, окружающих трон. Мои впечатления — отголоски слышанного.
В кругу людей высокопоставленных очень многие утверждали, будто государь сам шел против дворянства из личного к нему недоверия. Князь Меншиков говорил мне, что, стоя в приемной в Ильинском дворце и встретив там Рейтерна, он стал доказывать ему, в какую неурядицу ввели Россию проекты великого князя Константина Николаевича, и что Рейтерн прервал его наконец тоном досады: «Я не знаю, с чего взяли винить великого князя. Идея принадлежит самому государю».
В другое время пересказывали мне рассказ графа Орлова-Давыдова. Он представлялся государю; государь принял его сначала холодно, но по окончании общего приема позвал его в кабинет и между прочим будто бы сказал: «Дворянство злобствует на меня за освобождение крестьян от крепостной зависимости, но оно не знает, насколько я защищал его».
В бытность Перовского министром внутренних дел и когда Бибиков, тогдашний генерал-губернатор юго-западных губерний, стал вводить инвентари, государь — в то время наследник престола — говорил с большим жаром в Государственном совете против действий Бибикова. «Он хочет поссорить государя с дворянством», — сказал наследник. По вступлении Александра Николаевича на престол, Бибиков, уже министр внутренних дел, оставался в царской опале и через несколько месяцев уволен.
На место его посажен Сергей Степанович Ланской, человек дряхлый, глухой, ума ограниченного, неопытный в делах администрации, но родом, жизнью и репутацией — дворянин. На представление Ланского о назначении ему в товарищи Николая Милютина не последовало соизволения: товарищем назначен Левшин, крупный землевладелец.
Министерством государственных имуществ управлял Хрущов — камергер, танцор, крымское яблочко, бестолковый, ограниченный и надменный, но принадлежавший к партии демократов, собиравшихся у великой княгини Елены Павловны. Он считал уже министерство за собою, когда назначили министром В. С. Шереметева, богатого помещика, известного даже строгостью к крестьянам дурного поведения.
Словом, самые назначения указывали на то, что государь следовал политике Александра I: «Без дворянства — без монарха, без монарха — без дворянства». Это предположение подтвердилось фактически циркуляром министра внутренних дел Ланского, в котором он объявлял дворянству о нелепости слухов, ходивших уже по государству, будто правительство намерено посягнуть на дворянскую собственность, убеждал его не верить этим слухам и высочайшим именем удостоверял, что государь никогда не решится на ограничение дворянских прав, дарованных бабкою его Екатериною II.
После этих манифестаций речь, произнесенная государем во время празднеств коронации, речь, в которой государь сказал, что крепостное состояние оставаться не может и что лучше повести переворот сверху, чем ожидать его снизу, — произвела невыразимое действие. Как согласить эти противоречия? Я не верю, чтобы государь имел свою мысль, чтобы он прикрывал эту мысль словами по системе Талейрана. Эта система может быть уместна для искательного придворного, но не у государя, который знает, что каждое слово его раздается по всем углам государства и записывается в историю. Гораздо вероятнее, что государь был и в том и в другом случае искренен, но что его убеждения колебались под влиянием советников разных партий.
«Революция сверху и снизу», очевидно, есть фраза повторенная, сказанная непросвещенным или коварным советником. Людовик XVI тоже затеял революцию сверху, однако же, дойдя донизу, она сама пошла вверх и обратилась в кровавую революцию снизу. Это костер, построенный на порохе: зажгите верхушку — он будет тлеть и сообщать пламя ближайшим нижним слоям, будет тление медленное, спокойное, но когда дойдет до основания, произведет взрыв, который истребит все здание. Так говорит история, эта «книга народов, памятник прошедшего и зерцало будущего». У нас все делается сверху, и оттого все делается по доктринам; оттого наши учреждения, списанные с иностранных, остаются по большей части только на бумаге и не врастают в народную почву.
Я не противник освобождения крестьян, даже не в убытке от совершившегося освобождения, но не одобряю способа исполнения. Вопрос об освобождении крестьян поднят был Киселевым в 1840 году; князь Меншиков поручал мне тогда разные соображения по этому вопросу; для уразумения его я прочитал целые тома богемских законов и видел, что там дело освобождения совершалось рядом последовательных постановлений, тянувшихся более 100 лет. У нас и этого не было нужно, потому что у нас права помещиков были очень ограничены по закону, а казались широкими только по злоупотреблению закона.
Этого различия между законом и практикою наши реформаторы сами не знали.
На что указывали они как на уродливость отношений? На то, что продавались души, но такова была форма купчих крепостей, предписанных Петром Великим. Если эта форма оскорбляла гуманное ухо, стоило только изменить эту форму.
На ссылку в Сибирь по воле помещика? Никогда помещики не имели права ссылки: она была следствием злоупотреблений губернских правлений. Закон предоставлял помещикам отказываться добровольно от людей крепостного состояния, давая о том знать губернскому правлению, а это обязано было поселять таких людей на казенных землях с согласия крестьянских обществ, и только если ни одно общество не пожелает принять отпущенника в свою среду — поселят его в Сибири. Вместо того губернские правления никогда не спрашивали согласия ни обществ, ни отпущенников, нисколько не старались отвести отпущенникам землю в ближайших местах, а просто сажали их в тюрьму и по первому этапу отправляли в Сибирь.
Так отпущение на волю сделалось равносильным ссылке в Сибирь; так вышло два способа отпущения на волю: один — посредством вручения отпущеннику отпускного акта, предоставляя ему самому искать себе другую оседлость; другой — посредством объявления губернскому правлению об отпускаемом на волю. Первый способ употреблялся, когда помещик хотел оказать милость, второй — когда целью было наказание. От правительства зависело постановить, чтобы отпущение на волю происходило только первым способом.
Указывали на то, что помещик имел право сечь крестьян, но ведь и полиция секла не только крестьян, но и мещан, и секла нещадно, тогда как помещик не имел права давать более 15 ударов.
На то, что помещики брали поборы и сгоны? Но закон устанавливал только три дня с тягла. Затем оставалось только учредить крестьянских адвокатов, которые за них вступались бы. Это было бы первым шагом; потом можно бы было постепенно расширять права крестьян до полной свободы, чтобы они сперва узнали бы права свободного человека на деле, а потом — что эти права и означают свободу. В этом духе была моя записка, поданная государю в январе 1857 года.
К сожалению, наши дворяне не так действовали. Наступило царство лжи в нашем обществе; все лгали государю — и министры, и чиновники, и дворяне, все лгали друг другу.
Начали некоторые помещики Ямбургского уезда, во главе которых был сенатор Веймарн. Всполохнувшись от тронной речи, они вздумали отвести удар сверху проектом снизу и сочинили проект, в котором очень нетрудно было видеть, что под прикрытием филантропических изречений они хотели еще более затянуть узел крепостного труда. Веймарн написал урочное положение едва ли не вдвое против практического тяглового урока и замаскировал это постановлением «строжайшего надзора, чтобы помещики не требовали от крестьян работы свыше урочного положения». Проект подан генерал-губернатору для представления на высочайшее утверждение. Ловкость эта сманила Половцова, лужского помещика. Он взял проект Веймарна, исправил его по местным обстоятельствам и просил предводителя дворянства пригласить помещиков Лужского уезда подписать проект «для единства с Ямбургским».
Когда я, критикуя статью за статьею проекта Половцова, стал доказывать несообразность требования, чтобы помещик отпускал лес не только своим, но и соседним крестьянам, то господин Бизюкин прервал меня гуманными излияниями, напоминая мне «меньшую братию». Проект провалился.
Вот как принялись столичные дворяне за государственный вопрос. Проделки их шли прямо в руку демократической партии. Партия эта поймала их на месте преступления и без труда дошла до учреждения комитета для обсуждения вопроса об улучшении быта помещичьих крестьян. Людей, думающих по заказу рядчика, найти у нас не трудно, но опасались государя, зная, что он еще недавно стоял за права дворянства. Надобно было найти людей, пользующихся его доверием, которые искренно или неискренно доказывали бы ему необходимость коренного переворота отношений владельцев к сельскому населению.
И такие люди были налицо: генерал-адъютанты Чевкин и Ростовцев. Чевкин вкрался в доверенность государя с тех пор, когда наследник был председателем комитета Московской железной дороги, а Чевкин управлял делами этого комитета до назначения меня правителем дел; это человек с гибким языком, стяжавший себе репутацию все-зная, — без правил, без убеждений, интриган и ловкий честолюбец. На какой стороне партии сильнее, на той и Чевкин. Ростовцев любил государя искренно; его нельзя было уговорить к обманыванию государя из расчетов честолюбия; за него принялись иначе, отуманили его лестью, уверили его, что он великий муж государственный, наговорили ему фраз, систем и доктрин, которых он по невежеству своему вовсе не понимал, но по тщеславию, свойственному купеческой крови, притворялся понимающим или сам себя в том уверил.
У обоих было, однако, настолько здравого смысла, чтобы подумать о собственных интересах. У Чевкина было душ 50, нажитых им понемногу; он их продал. У Ростовцева было родовое имение душ во 100, поселенных на бесплодной земле, оброчных. Он отпустил их на волю, с переводом на них долга опекунскому совету, т. е. рублей по 60 на душу.
Рассказывали, что крестьяне прислали к нему депутацию с объяснением, что нечем заплатить долг, что они не могут окупить такою платою свою свободу и что если барин не намерен отдать им землю на условиях менее обременительных, то они не желают свободы. Ростовцев прослезился, рассказывая, что любовь крестьян его тронула, что он отпускает их на волю и дарит им землю, а они просят позволения остаться крепостными!
Набрав таких патриотов, собрали комитет, все это под главным руководством великого князя Константина Николаевича, который сам был послушным орудием в руках партии Головнина, Милютина, Хрущова, Соловьева и еще нескольких им подобных.
В комитете заседали: князь П. П. Гагарин, равно готовый на все партии, смотря по личным расчетам; Н. Н. Бахтин, честный и умный, но софист, не видавший никогда России, не выезжавший никогда из Петербурга иначе, как в путь за границу, во Францию или Швейцарию; Чевкин, горбатый телом и умом, по выражению Канкрина; Ростовцев и барон М. А. Корф, тщетно в течение 10 лет гонявшийся за министерским местом.
Когда заговорили, что Панин, министр юстиции, и Норов, министр народного просвещения, сменяются, Корф, говорили, написал государю письмо, в котором сознавался, что, не будучи помещиком и не видав никогда уездной жизни, он слишком мало знаком с крестьянским вопросом, что он, напротив, посвятил свою жизнь изучению права и педагогии, и потом просил, уволив его из крестьянского комитета, употребить его, если угодно, по одной из тех частей, которые ему ближе знакомы. Однако его не употребили, как он желал. Года три позже он было сделался квазиминистр; по его проекту составилось Главное управление цензуры, и Корф был назначен главноуправляющим: недоставало только указа сенату.
Между тем Корф приискал для Главного управления дом Шишмарева, кажется, за 120 тысяч рублей. Барон с супругою ездили уже смотреть дом; приказали кое-какие двери заложить, другие пробить и устроились было как следует. Явился вопрос о мебели. Шишмарев объявил, что дом продается без мебели, а просить дополнительного ассигнования неловко. Корф употребил чиновническую уловку. Мебель стоила 20 тысяч рублей; золото стоило 115 %, как раз та сумма, которая нужна для покупки дома с мебелью, если 120 тысяч рублей разуметь не кредитные, а золотые. На этом основании Корф поднес государю доклад об отпуске 120 тысяч рублей полуимпериалами, а государь, не подозревая канцелярской штуки, утвердил доклад; но когда Корф объявил высочайшее о том повеление министру финансов (Княжевичу), — этот вошел с представлением, что золота нет и что вообще Корф нарушил закон, представя государю денежный вопрос без предварительного сношения с министром финансов. Государь рассердился и похерил Главное цензурное управление.
Комитет сочинил знаменитый рескрипт, первое официальное откровение правительства, что оно намерено изменить взаимные отношения поместного и рабочего сельских сословий; однако рескрипт написан был очень осторожно: о свободе не упоминалось вовсе, об усадьбах и о наделе упоминалось очень условно, но зато очень положительно говорилось, что вотчинная полицейская власть остается неприкосновенною. Стало быть, в то время не смели еще подносить государю бумаги радикального содержания.
В то же время были созваны депутатские дворянские комитеты в Петербурге, а через несколько дней — в Москве и Нижнем Новгороде. Тут настала пора действовать на министерство внутренних дел.
Ланской, выживший из ума, который никогда не пользовался отличным здоровьем, подписывал все; товарищ его Левшин, большой помещик Екатеринославской губернии, был честолюбец, без всяких правил. Служа у Киселева, он гораздо ранее ожидал радикальной развязки и в этом предвидении перенес крестьянские усадьбы так, что отчуждение их не было бы нисколько влиятельно на его хозяйство, а между тем в настоящую минуту было весьма важно для его честолюбия угодить великому князю Константину Николаевичу.
У Константина Николаевича сочинили циркуляр министру внутренних дел, объясняющий рескрипт, но объясняющий так, что смысл его совершенно искажался. Левшин поднес этот циркуляр Ланскому, который и рассылал их вместе с рескриптом во все дворянские комитеты по мере их открытия. Левшин ждал со дня на день в награду министерство, на котором чуть-чуть держался Ланской, но увы! — Левшина посадили в сенат, и он должен разделять участь барона Корфа. Оба кричат: «Меня обокрали!» Хороши!
Какой столбняк нашел на меня, когда лужские дворяне выбрали меня своим депутатом. Я забыл в ту минуту, что значит наше дворянство, и не догадался, что все эти комитеты — комедия. Я всегда понимал важность землевладения; понимал и смысл дворянства замкнутого. Каков этот смысл — другой вопрос, но все же смысл; но в государстве, где сын гайдука Михеля делается графом Клейнмихелем; где камердинер императора делается графом Кутайсовым; где внук крепостного человека становится между вельможами не по праву доблести, где дворянин, покупающий населенную землю, должен давать подписку в том, что ни дед, ни отец его не состояли крепостными людьми в том же имении, — в таком государстве говорить о дворянстве — сумасбродство, и сумасбродство вредное, потому что переносит вопрос о праве собственности в вопрос сословный в таком веке, когда не только мещане вооружаются против дворянства, но и сами дворяне кокетничают либерализмом и даже позорят своих предков, как Филипп Орлеанский, не наученные исходом его расчетов.
Дворянство с самого начала сделало ошибку, отстаивая свои права не ссылкою на закон гражданский или на требования экономического быта государства, а на основании каких-то великих заслуг сословия и каких-то жертв, принесенных на алтарь патриотизма.
Не в натуре человеческой преклоняться пред заслугами того, кто сам кричит о них, хотя бы они действительно достойны были уважения, а заслуги нашего дворянства — довольно двусмысленные. Древнейшие роды наши — потомки Рюрика, опустошившие Россию междоусобными войнами и не останавливавшиеся на призыве на Русь злейших врагов ее, подличавшие при первых царях наших и при императорах, люди, нередко жертвовавшие благом государства, чтобы уронить личного соперника; а доблестных Рюриковых потомков немного; другие роды — или из купцов, как Строгановы, или из простонародья, как Демидовы, или чиновники, обогатившиеся на счет казны или на счет своего барина.
Поводом к отбиранию подписок при покупке имений был некто Чулков. Чулков был крепостной управитель беспутного барина; он въявь обкрадывал его, был неоднократно сечен им розгами при сборе крестьян, но оставался в милости за то, что мастер был доставать барину деньги взаймы. Этот барин отпустил Чулкова на волю, а Чулков с помощью денег дошел без труда до креста или чина, присвоившего ему потомственное дворянство. Когда имение разорившегося помещика продаваемо было с публичного торга, новый дворянин Чулков купил его, но крестьяне решительно отказались от признания его своим господином. «Мы, — говорили они, — видели его изнанку под розгами, видели, как он губил нашего родного барина, — мы пойдем все в Сибирь, а слушаться мошенника не будем…» Многих пересекли, однако приказали Чулкову продать имение. В то же время постановлено было не совершать купчих крепостей на имя людей, которые сами или которых отцы или деды были крепостными в покупаемом имении, а так как наши канцелярии строго держатся форм, то подписки требовались и от дворян, носящих имя историческое, — и от Чулковых, и от Шереметевых.
С.-Петербургский дворянский комитет состоял из депутатов, по два от каждого уезда, с присутствием кандидатов по одному от уезда, под председательством петербургского предводителя дворянства графа Павла Павловича Шувалова.
Члены от С.-Петербургского уезда были: другой барон Корф, разорившийся подрядчик департамента железных дорог, и не помню еще кто.
Петергофского — Зиновьев, отставной поручик Конной гвардии, и сенатор Донауров.
Царскосельского — Платонов, отставной гусар, и Пейкер.
Ямбургского — А. Ф. Веймарн и служивший под моим начальством в департаменте железных дорог барон Николай Велио.
Гдовского — барон Врангель, провиантский комиссионер, и барон Фитингоф, откупщик.
Шлиссельбургского — Чоглоков, разорившийся гуляка, и Лихонин, чиновник по образованию, но хороший человек.
Лужского — я и Христовский.
Были еще два депутата от правительства — флигель-адъютант Шеншин и Лоде, чиновник министерства государственных имуществ.
Как только граф Орлов, тогда уже князь и председатель Государственного совета, узнал о моем назначении, он позвал меня к себе и выразил мне свое убеждение, что я «поддержу правительство». Я отвечал, что высочайший рескрипт есть в моих глазах неприкосновенное начало и что он останется основанием всех моих суждений, но что циркуляр министра внутренних дел толкует рескрипт произвольно, и я, с своей стороны, считаю себя вправе не стесняться личными взглядами министра, который ставит точки над i рескрипта, но ставит их не на месте; например, он говорит об обязательной для помещиков отдаче усадеб крестьянам, а этого вовсе нет в рескрипте.
— Стоит ли из-за этого спорить, — сказал мне Орлов, — вот я подарил усадьбы крестьянам; они согласились платить мне сорок лет то же, что теперь платят за пользование моими землями.
— Есть ли у вас, князь, собственные запашки, собственный дом в этом имении? — спросил я.
— Нет ничего — крестьяне на оброке.
— В таком случае, ваше сиятельство в другом положении, чем лужские помещики. Они хозяева, а вы капиталист, имеющий капитал в земле. Вы очень хорошо поместили этот капитал, упрочив доходы на сорок лет, а хозяева, отдав крестьянские усадьбы освобожденным крестьянам, не только будут иметь против окон своих домов толпу людей, от них независимых, но лишатся возможности поместить около себя вольных наемных работников.
Орлов, видимо, рассердился, но, не показав мне своей досады, сказал:
— Напрасно будете спорить, — вам прикажут: дадут указ.
— Ваше сиятельство, — сказал я, — 697 помещиков поручили мне защищать их право собственности; приняв звание депутата, я взял на свою совесть исполнить это поручение по моим силам, но я не обещал им противиться указам. Я буду защищать право и тем исполню долг свой, а за то, что будет повелено указом, я не отвечаю. Следовательно, я не могу жертвовать вверенными мне интересами потому только, что все-таки прикажут иначе.
Это было последнее мое свидание с князем Орловым; вскоре, впрочем, он впал в беспамятство, а потом — в особенный род помешательства ума, вообразив себя свиньей. Он и помер в полном убеждении, что он не человек, а свинья.
Затем приезжали ко мне Зиновьев и Велио. Я объяснил им свою программу; они были от нее в восторге и умоляли меня не отступать от нее.
Когда в заседании комитета прочтен был высочайший рескрипт, все молчало; никто не решался говорить первый. Перед Лихониным лежал сверток бумаги. Через несколько минут молчания Лихонин объявил, что им составлен проект положения о крестьянах, который он просил позволения прочитать. Все восстало: как можно начинать с положения, когда комитет не остановился еще на главных началах, имеющих служить основанием положения, не выяснил себе даже смысла высочайшего рескрипта и циркуляра. Опять молчание. Видя, что никто не начинает, я встал первый.
Начав с того, что, по моему мнению, под выражением «улучшение быта помещичьих крестьян» надобно разуметь освобождение их из крепостного состояния, я объявил, что очень счастлив, не находя ни одного слова в рескрипте, угрожающего лишением законной собственности тех 697 помещиков, которых я являлся представителем и которые пошли бы по миру, за немногими исключениями, если бы у них отнята была эта собственность. Уступка собственности для блага общественного не в первый раз требуется; она предвидена законом, но тот же закон постановляет, что уступающий свою собственность должен быть вознагражден. В рескрипте нет ни слова о том, чтобы в настоящем случае этот общий закон терял свою силу.
Затем я объяснил, какого рода вознаграждение казалось мне правильным, какими способами оно должно быть сделано и какие ресурсы останутся в руках правительства от той операции, план которой я составил предварительно. Я говорил час. Когда я кончил, Веймарн встал, взмахнул, по обыкновению, костылем и предложил комитету выразить мне общую благодарность за удачное разрешение вопроса, столь важного в интересах личных и государственных. Все или почти все встали, но помню, что депутаты от правительства не вставали.
Шеншин заметил, что в рескрипте не говорится о плате за освобождение. Лоде сказал, что речь моя есть импровизация, обнимающая столько вопросов, что трудно было бы обсудить их на память, и потому он полагал нужным просить меня, чтобы я дал комитету письменное изложение того, что мною говорено. Лихонин опять стал просить позволение прочитать свое положение. Корф пробормотал что-то о банках. Комитет заключил просить у меня письменного мнения, которое я и подал.
На следующее заседание я не мог приехать по болезни и, к удивлению моему, узнал, что барон Корф и Лихонин настаивали на том, чтобы пустить мое мнение на баллотировку, что председатель допустил ее и что по баллотировке оказалось три или четыре шара белых, а прочие черные, — если назвать шарами мнение, заявленное гласно каждым членом. Еще удивительнее было, что в числе лиц, отвергших мое мнение, были Веймарн и Зиновьев.
Я очень хорошо понял, что было причиною такого исхода, за исключением Зиновьева, благородного молодого человека. Веймарн давно уже был в каких-то неопределенных сношениях с Орловым; не подлежит сомнению, что Орлов его настроил не соглашаться со мною, — а этого было довольно, чтобы мой сослуживец не поцеремонился отказаться от своего, публично высказанного, мнения; Лихонину прежде всего хотелось устранить обстоятельства, препятствовавшие прочтению его проекта положения; барону Корфу хотелось непременно банка; разорившийся в пух, в долгах по уши, он не имел других надежд избавиться от долговой тюрьмы, как залучиться в директора общественного банка и там устроить свои делишки.
Не знаю, на чьей стороне был наш просвещенный и благородный председатель, но если не на моей, то, вероятно, потому, что я рассматривал землю как неотъемлемую полную собственность помещиков, а крестьянам предоставлял право перехода на другие земли. Граф Шувалов был чисто либерального направления и, как я замечал и лично, не был сторонником отделения крестьян от земли. Депутаты от правительства должны были решить против меня по званию своему. Врангель, комиссионер, обсчитывавший загородные кавалерийские полки на овсе, дорожил, разумеется, более своим положением в официальных сферах, чем своим небольшим имением, и еще более, чем мнением своих доверителей.
Барон Фитингоф сознался мне, что он не мог принять мой проект оттого, что он лишал помещиков рабочей силы, предоставляя им только 105 рублей вознаграждения за работника; что он намерен предложить ввести в России крестьянские отношения прибалтийских губерний. Когда я заметил ему на это, что в вопросе об улучшении быта крестьян, отбывающих три рабочих дня в неделю, странно предлагать меры, усиливающие барщинную повинность, Фитингоф отозвался, что это можно сделать «с известною ловкостью редакции». Какая наивность! Она напоминает мне поговорку черноморских греков: «Немцу только раз удалось провести грека, да и тут он остался в убытке».
Зиновьев явился ко мне с повинною: «Извините меня; мне сказали, чтобы я остерегался ваших мнений, потому что вы будто обещали Орлову повести дело так тонко, что мы на все согласимся». Велио не хотел испортить себе положения, успев выпросить себе из дворянских сумм пособия по 100 рублей в месяц на поездки в комитет!
С первого разу не понравилась мне физиономия этого дворянского комитета. Полагав тогда с замечательною наивностью, что правительство действительно желало знать мнение дворянства, я соболезновал, что первый комитет выпал на долю столицы. В столице нет поместных дворян; здесь они превращаются в рантье, или в слуг, или в искателей фортуны. Мне было жаль благовоспитанного председателя, который, очевидно, чувствовал себя не в своей тарелке между Корфом и компанией. Шум, гам такой, что пришлось завести колокольчик валдайского диапазона, для 18 членов, но скромная рука председателя робела шевелить язык этого незастенчивого оратора. Граф Шувалов прибегал к разным паллиативам, чтобы усмирять нестройные голоса своих сочленов. Но после того, что, заставив меня написать мнение, комитет не удостоил его даже обсуждения по статьям, а просто закидал шарами, после того, что Веймарн, неуместно вызывавший комитет на изъявление мне благодарности, первый отверг то мнение, которому он первый же аплодировал, — мне стало отвратительно, — и я написал графу Шувалову, что по болезни не могу присутствовать в комитете. Второе мнение, мною написанное, отдал я Христовскому. Комитет наш, как, впрочем, и другие, кончился ничем.
Затем наступил второй акт комедии: учредили редакционные комиссии. Посадив в них несколько лиц, достойных уважения, примешали к ним или разорившихся дворян, как князь Черкасский, или чиновных пролетариев, как Н. Милютин, или просто чиновников, как Семенов, или чернильных разбойников, как Любощинский. Они заглушили голоса лучших людей под приманкою денег, земель, звезд и чинов.
Для разрешения важнейшего государственного социального вопроса натянуты пружины подлейших человеческих страстей. Бесстыдство лжи, клевета, наглость софизма дошли до последних размеров. Юридическое отделение комиссии должно было оправдать законом то, что комиссия сочиняла, по большинству или по меньшинству голосов экспертов, — смотря по тому, что более приходилось к рамке.
Вот как Любощинский оправдал захват вековой дворянской поземельной собственности. Полною собственностью называется такая собственность, которою владелец имеет право распоряжаться по личному своему усмотрению, а как высочайшим рескриптом повелевается оставить землю в пользовании крестьян, то из сего следует, что помещики не имеют на свою землю права полной собственности. На этом основании они и не могут противиться обязательному наделению крестьян своей землей. Это все равно, что рассуждать о смертоубийце так: смертоубийство есть лишение жизни, а как убитый человек не имеет жизни, то и лишить его жизни нельзя. На этом основании убивший человека не есть смертоубийца.
В журналах, поддерживаемых министрами, посыпались ругательства на дворянство; деньги казенные сыпались без счета; на редакционную комиссию отпущено огулом 240 тысяч рублей. Председатель Ростовцев подписывал, что ему подавали, не понимая истинного смысла. Ростовцев был лукав до крайности и пронырлив в такой же мере, но при всем том очень добрый и на свой манер честный человек. Такая аномалия встречается в нашем купечестве беспрестанно и есть, так сказать, отличительная черта нашего купечества.
Люди, добрейшие в семействе, гостеприимные и благотворительные до расточительности, тверды в своем слове на бирже, на ярмарке, но придите к купцу покупать товар в лавке, он даст вам медь за золото и будет всеми святыми божиться, что он вас не обманывает. Видно, что материал духовный недурен, но не выработаны понятия о чести. Упрекните его, скажите купцу: «Как же вы, человек добрый, богобоязненный, решаетесь на такой бессовестный обман?» Он вам ответит жалобным голосом: «Что делать, батюшка! Наше такое дело! Без этого нельзя».
Ростовцев, чистый тип русского купчины, спохватился, что под его фирмою делается что-то недоброе; он просил увольнения его от дела, мало ему знакомого, и поехал лечиться в Вильдбад, с своим редактором Семеновым, которого здесь снабдили полными инструкциями. Семенов подсунул ему программу, объяснил ему благие ее последствия и опять вскружил голову, столь чувствительную к угару от тщеславия. Ростовцев прислал свою программу сюда при письме весьма замечательном. Он говорил, что просил устранения от крестьянского дела по сознанию совершенного незнания его особенностей, что теперь он изучил это дело вполне и представляет плод своих размышлений. Родился в России, жил 60 лет в России, сидел в советах правительства и не знал дела; поехал в Вильдбад и там в три недели изучил Россию! Замечательное действие вильдбадских вод.
Когда барон Корф выразил свое удивление, что Ростовцева, никогда не интересовавшегося народною жизнью России, приобщили к крестьянскому делу, князь Меншиков заметил, что «в том-то и беда, что приобщили, прежде чем исповедать». Эту забытую исповедь отдал Ростовцев мне.
Я послал к нему записку, в которой доказывал бесполезность прикрепления крестьян к их нынешним усадьбам и объяснял, что гораздо лучше обязать тех владельцев, которые будут переманивать к себе работников в Новороссийский край, давать каждому до трех десятин за службу не менее 10 лет. Ростовцев отвечал мне очень вежливым письмом, и я к нему приехал.
Первое слово его было:
— Вы хотите обязать новороссийских помещиков к условиям найма, обеспечивающим работников в приобретении земли. К чему это? Мы не в Германии; в России земли хватит еще на тысячу лет! Пусть каждый идет куда хочет и нанимается как хочет!
Я слушал это как остолбенелый.
— В первый раз, — сказал я, — слышу, что вы такого мнения; оно успокаивает все русское землевладение; простите меня, если я буду всем и каждому пересказывать то, что сегодня слышал.
— Ах, Боже мой! Да разве вы не читали моих писем из Вильдбада? — спросил меня Ростовцев.
Моя записка была именно направлена против вильдбадских писем, требовавших, чтобы усадьбы отданы были крестьянам. Мне ничего не оставалось более, как ответить: не читал!
— Пожалуйста, извините меня; я пришлю вам экземпляр этих писем, — кончил Ростовцев.
Словом, я убедился, что Ростовцев не знал содержания своих писем! Между тем Милютин и К°, заручась вильдбадскою программою, стали уже бесцеремонно развивать свою систему; Ростовцев догадался, куда идут они, спорил с ними, но они давали ему отпор собственною его программою; Ростовцев досадовал, выносил ежедневные стычки, тревожился, захворал и помер. На его место назначили графа Панина, стяжавшего уже репутацию капрала в звании министра юстиции. Панин занялся прежде всего тем, чтобы члены ходили в комиссии в мундирных фраках, чтобы не курили табаку, и прочими подобными полицейскими мерами. В общих выражениях он склонялся к консервативным началам, вследствие чего Любощинский вдруг перескочил в другой лагерь и доказывал, что земля есть неотъемлемая полная собственность дворян. Однако Панин не пошел далее общих выражений; увидя с одной стороны нахмуренные брови великого князя, а с другой — синеющую на горизонте его Андреевскую ленту, он стал предлагать что-то среднее; его не послушали, но ленту дали.
Со всех сторон России слышались между тем вопли и крики землевладельцев; в Петербург наехало множество помещиков, они подавали объяснения, протесты, просьбы; все оставалось без ответа и даже без доведения до государя содержания жалоб. Губернаторов, сколько-нибудь умеренных или консервативных, сменяли офицерами Генерального штаба, известными радикализмом; дворянство ругали публично; настало нечто вроде официального терроризма; и под его влиянием издано «Положение о крестьянах 19 февраля 1861 года».
Читающий его иностранец никак не догадался бы, что здесь дело шло о побуждении дворян к уступке части своей законной собственности в пользу крестьян, со всеми предосторожностями, чтобы крестьяне не захватили лучших земель или больше того, что им необходимо, чтобы крестьянский надел не расстроил помещичьего хозяйства, чтобы помещик отдавал только излишки, а крестьянин получил бы только необходимое.
Напротив, этот незнакомый с нашими обстоятельствами читатель подумал бы, что «Положение» восстанавливает права крестьян на их землю, похищенную у них дворянами, и принимает все меры против дворян-грабителей, чтобы защитить крестьян от повторения подобных грабежей. У помещиков отбиралось не то, что нужно крестьянину, а то, что наиболее нужно помещику. Общая система выражалась тем, что чем более разорится помещик, тем более обогатится крестьянин, а из этого вышло, что теперь уже, через пять лет, разорились и крестьяне и помещики.
Такая система совершенно сродни нашим невеждам. В Петербурге можно видеть сотни примеров между мелкими чиновниками, что они, нанимая квартиру с отоплением, стараются истребить как можно больше дров, находя в этом расхищении хозяйской собственности личный барыш. За квартиру плачу я, говорит такой чиновник, за три комнаты 300 рублей, но я сжигаю у хозяина дров на 200 рублей, следовательно, мне обходятся комнаты только в 100 рублей.
Демагогическая партия торжествовала. Великий князь Константин Николаевич считал себя самым популярным человеком в России, да и при высочайшем дворе были едва ли не того же мнения о своей популярности. На бале императрица, идя в польском с князем Меншиковым, заговорила с ним об эмансипации. Записываю разговор в том виде, как мне передавал его князь Меншиков.
— Я удивляюсь, князь, что вы, с вашим умом, не хотите признать необходимости освободить крепостных людей.
— Я никогда не говорил против освобождения от крепостной зависимости, но я не одобрял образа действия, которым хотят прийти к этому.
— А, значит, вы сознаетесь, что крепостное состояние несовместно с идеями XIX века?
— Да, это несовместно; но подумали ли о том, что и самодержавие несовместно? Оно держится только в России, потому что в России еще есть привилегированный класс, который в своих собственных интересах поддерживает самодержавие, но как только соперничество двух состояний будет устранено, в России будет только одно мнение о форме правления. Государь-наследник высказывается тоже против дворянства: приготовился ли он к последствиям слияния состояний?
— А, Боже мой! Если бы это можно было объяснить императору.
— А также государю-наследнику.
— Мой сын — в руках своего дяди.
Около того же времени князь Меншиков рассказывал мне разговор свой с великим князем Константином Николаевичем. Великий князь сказал:
— Пора сделать дворянству маленькое кровопускание.
Князь Меншиков заметил на это:
— Ваше высочество — первый дворянин империи; может ли он точно определить границу, где остановится раз начатое кровопускание?
Великий князь взял со стола какой-то тесак, сказав:
— Посмотрите, какой удобный тесак я намерен ввести во флоте.
Не увлекаясь своим торжеством, демагогическая партия понимала, что «Положение» о крестьянах может иметь, в строгом его исполнении, только половину того действия, какого она добивалась. Ей хотелось истребить все помещичьи хозяйства и на место их водворить крестьянские, и то не личные, а общинные. Великий князь Константин Николаевич только и говорил об общине, этом идеале социального устройства, о котором так хлопочут на Западе, но который присущ русскому народу и сложился у него исторически, — как будто история варварского состояния народа может служить образцом его цивилизации. Обращать Россию в дикое славянство — то же самое, что водворять в Северо-Американские Штаты нравы эскимосов.
То, чего не смели печатать в «Положении», надобно было сделать посредством недобросовестного исполнения «Положения», а для этого необходимо было еще до издания «Положения» изменить весь состав главных деятелей. В кружке, покровительствуемом великим князем Константином Николаевичем, положено было, как говорили, дать министерство государственных имуществ Хрущову, внутренних дел — Милютину, юстиции — князю Оболенскому (Рейтерна — в кресло министра финансов), министерство народного просвещения — Головнину, но тут вышел скандал: открылось, что Кавелин, учивший цесаревича истории, был в переписке с Герценом, с ведома главного воспитателя Титова. Государь огорчился; в городе рассказывали, будто он с расстроенным видом сказал: «Вот в каком я положении! Не могу даже положиться на выбор людей, рекомендуемых в воспитатели сына моего! Все это интриги Хрущовых и других из этого же круга». Так выразился государь или иначе, трудно поверить, но достоверно то, что партия повесила нос и что комбинации ее покуда не состоялись.
Государь потребовал, чтобы Головнина удалили от великого князя; его посадили в совет министра народного просвещения. На место Шереметева, разбитого параличом, назначен Муравьев, консерватор. Муравьев тотчас же удалил Хрущова. На место Ланского посадили Валуева, тоже консерватора, но действующая партия воспользовалась бесхарактерностью Валуева и навязала ему в деятели по устройству крестьянского быта Соловьева, якобинца, того Соловьева, который спутал идеи великого князя. Рейтерна и Оболенского тоже не смели уже предлагать государю, но их очень ловко подготовляли. Вдвинув Головнина в совет министра народного просвещения, назначили министром неспособного вице-адмирала Путятина; Рейтерна посадили в совет министра финансов, а министру Княжевичу дали ехидного Грота в директора департамента; глупый военный министр Сухозанет заменен Милютиным, братом Николая Милютина.
Хрущов не перенес этого переворота. Алчный эгоист, судившийся со своим отцом за какое-то дрянное имение и женившийся на богатой помещице, он выступил на общественную сцену под маскою друга народа, для которого не щадит ни достояния, ни жизни. Он проповедовал неправосудность неравного разделения богатств (получая 10 тысяч рублей содержания), устраивал на акциях квартиры рабочих, что-то вроде фаланстер, и приходил в благородное негодование, когда помещик отстаивал свою собственность, затаив в душе главный двигатель своих действий: надежду на видное место с огромным содержанием.
Когда отзыв государя поколебал эти надежды, силы Хрущова сокрушились, и маска упала с лица его. Хрущов сошел с ума и, как влюбленная одалиска, высказал в бреду затаенные чувства. Он поехал в полном гофмейстерском мундире к княгине Одоевской и рассказывал ей, что он строит железную дорогу из золотых рельсов, что он устраивает пруды для разведения устриц, которые будут давать ему пять миллионов годового дохода. Так выразилась алчность почестей и денег: о народе, о фаланстерах — ни слова.
Я оставался все еще при надеждах, что новые деятели действуют искренно, что они портят государственное дело не по намерению, а по программе. Не сделав ничего с Ростовцевым, я обратился к великому князю Константину Николаевичу. В циркуляре министра внутренних дел ставилось на вид, что присвоение крестьянам их усадеб необходимо для предупреждения вредной подвижности; я представил его высочеству записку, доказывающую вред неподвижности. Записка эта осталась без последствий. Действия были, очевидно, преднамеренные, но по крайней мере государю невозможно было приписывать преднамерений, потому что дела принимали направление, вредное ему самому.
Жан Поль Рихтер заметил, что люди, носящие на себе благовония, распространяют благоухание на всех, кроме самих себя. Так это бывает и в обратном смысле: обманываемый супруг становится предметом насмешек целого общества и один не замечает украшений у себя на голове; клевета ходит по целому городу, — один оклеветанный ничего про нее не знает. Так и правители узнают последние о кознях, против них направленных, и очень часто узнают о том только в минуту падения, и до той минуты вручают злейшим своим врагам оружие против самих себя. Это история Людовика XVI с его Ассамблеей нотаблей: Павла I — с Паленом; Карла X и Полиньяка — с герцогом Орлеанским. Наши демагоги опутали великого князя; они двигают его перед собой, как таран для пробития стены государственного здания. Он вождь партии, но он и жертва ее, мост, охраняемый до совершения перехода, но сжигаемый, когда переход совершился.
Демагогическая партия продолжала действовать всеми способами. По всей России шныряли Якушкины и другие подобные выгнанные из службы чиновники, вооружавшие чернь против владельцев; на сцене представлялись небылицы или карикатуры на тему помещичьего быта, рассчитанные для влияния на дворовых людей, наполнявших раёк. На дворянских и других собраниях люди дворянского происхождения распространялись о гнилости дворянского сословия или о несправедливости изъятия его из рекрутской повинности; вся эта сволочь действовала по расчету, потому что ругательство на дворянство служило аттестатом кандидатуры на хорошие места в службе, где поругание сословия считалось признаком высшего ума.
В служебную иерархию внесена была ужасная путаница. Начал ее великий князь Константин Николаевич в морском министерстве; тысячи прежних чиновников и офицеров отставлены от службы за штатом, а оклады их разделены между остальными, привилегированными. Князь Оболенский из помощника председателя гражданской палаты сделан директором комиссариатского департамента и статс-секретарем, с полномочиями в хозяйственных заготовлениях, противными закону. Комовский, начальник отделения канцелярии, посланный к князю Меншикову, против его воли, в Севастополь, воротился оттуда тайным советником и статс-секретарем. Рейтерн, мелкий чиновник, посланный в Париж для изучения бухгалтерии, облекается тоже в звание статс-секретаря. Набоков, надворный советник, назначается вицедиректором департамента, с оклада в тысячу рублей — на оклад в шесть тысяч рублей, — исчезает на минуту, потом является опять на сцену в костюме гофмейстера и с окладом в одиннадцать тысяч рублей.
Даже нравственные начала прежней службы ниспровергаются; уважение к людям пожилым уступает место наглости перед «людьми отжившими». Это новое учение осуществлено в официальном распоряжении: в исключении по военному ведомству из службы врачей, достигших 60-летнего возраста, но вместе с тем никогда не было таких торжеств и таких наград за 50-летнюю службу, как в это время. Словом, все понятия перепутались; нигилизм проник во все сферы общественные и правительственные, недоставало ему еще только имени.
Карьера свыше ожидания, небывалые награды, раздача богатых земель людям, участвовавшим в редакции и неправильном исполнении «Положения» о крестьянах, научили и других чиновников, что самая верная спекуляция — писать коммунистические проекты; самый верный способ быть хорошо отрекомендованным государю — нивелировать сословия, преследовать дворянство, подготовлять революцию, — и вот зачатки проектов земских учреждений, судебной части, отмены телесного наказания, сокращения срока военной службы, новой цензуры и прочие. Чиновничество стало первым сословием, надменное, решительное, самодержавное, — не то уже, что Суковкин и Гвоздев, мелкие воришки, а реформаторы или крупные спекуляторы.
Чиновники эти забылись до такой степени, что публично заявляли свое самодержавие. «Я хочу уничтожить первый департамент сената!» — говорил Бутков у себя на вечернем собрании. «Я не могу допустить земство к управлению делами общественными: русская интеллигенция вся на службе, следовательно, служащие одни должны управлять земскими делами», — объявлял Н. Милютин у себя за обедом. «Я вам должен сознаться, — сказал Д. Милютин старику-генералу Корфу, — что я иду к русскому единству и неравенству сословий». Статс-секретарь Заблоцкий, наживший на службе большое состояние, говорил публично речь, что он родился в избе и остается в душе крестьянином; что, несмотря на свои чины и ордена, он думает, как крестьянин, и что вся его политика крестьянская. Князь Меншиков очень метко определил содержание речи Заблоцкого: «Я родился в навозе и с тех пор не умывался».
Покуда в России совершалось это столпотворение вавилонское, готовилась и в Польше катастрофа, предшествуемая студенческими смутами в разных русских университетах.
После мятежа 1830-го и 1831 года покойный государь запретил полякам выезжать из Царства Польского. Путь в Россию был обставлен для них разными затруднениями; путь за границу закрыт совершенно. Польша сделалась для поляков замкнутою казармою, а надзор за этими пятью миллионами узников вверен был твердой и умной руке князя Паскевича.
Мера совершенно рациональная, но государь ошибся в том, что не распространил того же на юношество. Он был, к несчастью, слишком высокого мнения об образовательной силе наших русских училищ и в этом убеждении приказал всех польских юношей воспитывать в России, закрыв польские университеты. Государь не знал ни того, что наши училища прескверны, ни того, что русский элемент вовсе не имеет поглощающего свойства, что он, напротив, очень легко сам распускается во всяком чужом элементе. Русские, в особенности же русские того времени, переставали быть русскими при первом прикосновении к ним чуждого элемента; с немцами они делались немцами; с французами — французами, — и до такой степени, что почти стыдились быть русскими за границею или ругали там русских, чтобы не казаться с ними солидарными.
От такого-то растворного элемента государь ожидал силы переработать образ мыслей юноши, силою оторванного от своего семейства, удаленного из родины, гораздо более просвещенной, чем Россия, отлученного от своей религии, гораздо усерднее исповедуемой, чем в России православие. Последствия были таковы, каких ожидать следовало: несколько сотен польских юношей ополячили все юное поколение России, научили его петь польские патриотические песни; вложили в него чувство негодования на правительство и развили в нем дух оппозиции. Во всех русских университетах молодежь зашевелилась, зашумела и от криков стала переходить к действиям.
Эти смуты указали, как неудачен был выбор попечителей учебных округов. В Киеве студенты отправились полным составом с протестом к попечителю; Катакази спрятался в платяном шкапе. Катакази сменен, а на его место назначен Пирогов, оператор, известный революционными тенденциями. В Казани Молоствов, человек образованный, вступил со студентами в переговоры; он сменен, и на место его послан ничтожный князь Вяземский. В Петербурге студенты заставили попечителя Филипсона идти с ними в конференцию университета: он шел перед ними, пленный, по Невскому проспекту.
Столица северного царства увидела в стенах своих торжество, подобное торжествам Древнего Рима, когда водили побежденных царей мимо Капитолия. На Васильевском острове генерал-губернатор Игнатьев вывел солдат с штыками против безоружных безбородых юношей. Распустили слух, будто несколько студентов ранено; все семейства взволновались; повсюду изъявлялось сочувствие студентам; дамы приезжали в театр, украшенные синими лентами по цвету студенческого мундира. Министр народного просвещения Путятин, умевший укрощать людей только розгами, не нашел в своей программе указания, откуда взять розги и экзекуторов, когда придется высечь в данную минуту вдруг 400 человек. Он заменен Головниным. Таким образом, смуты университетские вызвали на сцену двух попечителей крайне революционного направления: Пирогова и Головнина. Чисто гомеопатическая система лечения: similia similibus.
Из университетов, из артиллерийского училища поляки поступали в армию и в министерства; в армии они развращали офицеров — незрелых умом, как студенты были незрелы телом; и уже в Крымскую войну армия наша потерпела много неудач вследствие тайной передачи неприятелю сведений из штаба нашей армии. Из министерств поляки проникли в западные губернии на места, важные в полицейском отношении, в почтмейстеры, в исправники, председатели палат. В Царстве Польском князь Паскевич держал твердо бразды правления, но никого не доводил до отчаяния, никого не лишал честного куска хлеба. Революционеры боялись его решительности; люди смирные были в должностях и не опасались ни потери места по интриге патриотов, ни их личной мести.
Со смертью князя Паскевича вдруг все изменяется. Князь Горчаков, бесстрашный в бою, но трус в политике, поддается угрозам кружка, ненавидевшего Россию; сменяет преданных нашему правительству чиновников и замещает их кандидатами из враждебной партии; те — тысячами пущены по миру; эти — забрали в свои руки местную администрацию.
Член правительственного совета А. И. Крузенштерн, изучивший Польшу, состоя около 20 лет при прежнем наместнике, написал весьма сильно и ясно записку, в которой изображал неудобства новой политики и предсказывал новую революцию: его не послушали, назвали визионером.
Так со всех сторон приготовлена была мина. Когда последовал взрыв, — вместо того чтобы разгромить первых покусителей на государственное спокойствие, — Горчаков телеграфировал в Петербург вопрос: «Что делать?» Вместо того чтобы отвечать ему из Петербурга: «Вы наместник! Действуйте!» — ему телеграфировали: «Избегаете кровопролития». Так по человеколюбию к 300 бунтовщикам погублены сотни тысяч людей, падших от пуль, кинжала, яда и виселицы!
Горчаков помер. Надобно было избрать нового наместника. По принципу, что люди шестидесяти лет выжили из ума, назначен молодой граф Ламберт, известный барышничеством во время командования Конной гвардией; и Герштенцвейг, человек благородный и умный, но желчный и надменный. Они поссорились; Герштенцвейг застрелился, а Ламберт выехал из Варшавы. Россия в первый раз услышала о дезертире не из рядовых, а из наместников.
Затем вызвали в Петербург Велепольского. Крузенштерн знал тенденции Велепольского; предвидя общественное бедствие, он превозмог свою обычную скромность и снова изложил свои виды, которые сообщил и вице-канцлеру Горчакову. Его опять не послушали, но предсказания его сбылись слишком точно. Оставя службу в Варшаве, Крузенштерн нашел здесь холодный прием. За что же? Конечно, за то, что он оказался правым. Недальновидность никогда не прощает проницательности.
Велепольский принят был в Петербурге как нельзя лучше, и вслед за тем великий князь Константин Николаевич был назначен наместником. В Варшаве Велепольский был на первом плане; он гордо проходил к наместнику чрез приемную залу, где ожидали приема высшие русские воинские власти — Рамзай, Шварц и другие. Несмотря, однако, на это предпочтение поляка, выстрелили и в великого князя, как прежде выстрелили в Людерса и после того в графа Берга.
Я удивлялся, что Ростовцев изучил крестьянский вопрос в Вильдбаде. Теперь вспоминаю, что я сам изучил польский вопрос в Крейцнахе. Араужо, бразильский посланник при берлинском дворе, рассказывал мне в Крейцнахе, что лет пятнадцать пред тем обедал у него Велепольский и излагал ему свои мысли о восстановлении Польши. Он выражал свое убеждение, что восстановить независимое Царство Польское можно только одним способом: заинтересовать русского великого князя и с содействием России оторвать у Пруссии Познань и у Австрии — Галицию.
— И вы хотите признать королем Польши русского великого князя? — спросил у него Араужо.
— Ах, я не знаю, это как Богу будет угодно.
— А как вы думаете, это будет угодно Богу?
— Это был бы исключительный случай, потому что обыкновенно архитектор не живет в доме, который он строил.
Польский мятеж начинает новую эру в наших государственных порядках. Демагогическая партия переносит сцену своих действий в польские губернии, чтобы оттуда действовать и на Россию. Разложение идет так быстро, что становится трудным записывать события. Крестьяне русские после нескольких веков зависимости от помещиков остались внезапно без всякого начальства, перестали работать, перестали платить оброки и повиноваться земским властям; в это самое время, когда особенная надобность настояла в удержании крестьян от беспорядков, отменено телесное наказание и удешевлена водка: с одной стороны — соблазн, с другой — безнаказанность.
Помещики, лишившиеся вдруг и обязательного труда, и части своих земель, стали повсеместно разоряться, за немногими исключениями. Небольшая часть помещиков, обладавших большими средствами или большей энергией, боролись с новыми затруднениями, надеялись было преодолеть их, но новые губернаторы стали распространять между мировыми посредниками учение, по которому в делах спорных помещики должны быть всегда виноватыми, а крестьяне — всегда правыми.
Сам тон, принятый относительно помещиков, был в высшей степени груб; всеми властями принято не называть никого ни по чину, ни дворянином. «Землевладельцу N.N.» — это был общий адрес для всех поместных дворян, пока один какой-то полковник не адресовал своего отзыва посреднику: «Сюртуковладельцу N.N.». Этот сюртуковладелец очень обиделся, потребовал объяснения, отчего он не называет его ни чином, ни званием посредника. Дворянин отвечал ему, что и у него есть чин полковника и звание дворянина, однако посредник не счел нужным называть его иначе, как по предмету владения; что он, следуя примеру посредника, хотел было назвать его шубовладельцем, но, не быв уверен, есть ли у него шуба, назвал его сюртуковладельцем. Этот пример унял многих. Хороши посредники!
Милютинская партия, задумав проводить социалистические принципы чрез западные губернии под маскою обрусения края, добилась учреждения в них поверочных комиссий, для состава которых наслана отсюда толпа отъявленных плутов-чиновников. Эти «деятели» (новое модное слово) стали поверять уставные грамоты, давно приведенные к обоюдному удовлетворению в исполнение, подучали крестьян жаловаться и каждую жалобу удовлетворяли без разбора. Они же определяли размер оброка, подлежащего плате помещику, и размер контрибуции помещика по доходу. Лучшие фольварковые земли отданы крестьянам и оценены по годовой доходности в 75 копеек. Худшие оставлены за помещиками с определением доходности их в три рубля с десятины. При отводе наделов эти деятели рассуждали, что «неудобные» земли, лежащие среди наделов, должны были отдаваться крестьянам даром, и под именем неудобных отводили огромные площади крестьянам.
Пощады не было никому. Даже в Борисовском имении великого князя Николая Николаевича мировые посредники и сам военный начальник, кажется, полковник Скворцов, бунтовали крестьян его высочества. Великий князь сам поехал в имение, лично удостоверился в преступных действиях Скворцова, но не мог ничего сделать. Годом позже он добился смены Скворцова, но смены не карательной. Скворцов переведен в другое место с награждением чином генерал-майора. Между тем шли следственные комиссии, открывавшие преступников около лиц высокостоящих. Сераковский, адъютант военного министра, тяжкий государственный преступник, нашел открытое покровительство в самом Милютине. Огрызко, учредитель мятежных комитетов, был вице-директором департамента податей и сборов, и когда Муравьев потребовал, чтобы бумаги Огрызко были немедленно опечатаны и сам Огрызко доставлен в Вильну, то директор департамента Грот, как утверждали в городе, предупредил его о том и дал ему возможность сжечь бумаги. На Муравьева, которого жестокость я, впрочем, не оправдываю, напали с такою яростью, как будто он сам был предводителем мятежа.
У Муравьева был помощником Потапов, человек умный и умеренный. Потапов имел случай говорить с государем; взгляды его понравились. Чтобы предупредить назначение Потапова начальником западных губерний, Милютин представил государю расстройство земли донских казаков, требующей умного правителя, и лучшим признавал Потапова. Так спровадил он Потапова на Дон, а в западные губернии посадил своего директора канцелярии Кауфмана.
Затем принялись за земские учреждения в том же демагогическом духе, как и «Положение» о крестьянах.
То, чего не могли разорить мировые посредники, должно было разориться земскими учреждениями. Люди партии действовали с тем лицемерием, с каким всегда действуют партии, имеющие заднюю мысль. Общие рассуждения, объяснительная записка, говорили одно, а положение — другое. По общим рассуждениям, основание земства есть земля; в земском благоустройстве заинтересованы наиболее землевладельцы; на этом основании избирателями и гласными должны быть землевладельцы, имеющие не менее 350 десятин земли. Так говорит журнал Государственного совета, — а по положению: несколько землевладельцев, вместе владеющих 350 десятинами, имеют один голос, и дворянин, у которого 50 тысяч десятин, — тоже один голос. Кроме того, дворянин безземельный не имеет голоса, а крестьяне безземельные же — имеют: каждое селение — по одному. Какое же селение — в 200 ли душ, или в 20 — не сказано.
Таким образом, князь Меншиков, имеющий в Клинском уезде, за выделом крестьян, 30 тысяч десятин, представляет один голос, а его бывшие 3000 душ крестьян имеют 30 голосов. В довершение неурядицы правительство уступило земству принадлежавшее ему одному право — право налогов. Разумеется, эти 30 голосов стали очень щедры. На земские управы, на школы, на лекарей и пр. берут с земства деньги по решению двух десятков гласных, из которых половина — крестьяне и половина — разорившиеся мелкопоместные дворяне. Наложат 5 копеек с десятины. Из этого налога падает на каждого крестьянина Меншикова 15 копеек, а на него самого — 1500 рублей. И эти 1500 рублей идут на жалованье одному из тех же гласных!
Не останавливаюсь на том, что это неправосудно. Правосудие сделалось для нас такою странною прихотью, что пожелавший ее вызывает не удовольствие, а насмешку, но какого ожидать благоустройства в финансах, когда все землевладение в руках пролетария или невежды. Как из этого выйти? Данные земству права нельзя брать назад! Это всеобщий голос. С этим и я согласен, но можно дополнить положение. Можно принять в основание власти землевладение и на этом основании присвоить звание гласного каждому, у кого 3 тысячи десятин, с одним голосом; за 7 тысяч десятин — два; за 12 тысяч — три; за 20 тысяч десятин — четыре и за 30 тысяч или более десятин — пять голосов. Можно постановить, чтобы земские налоги не превосходили 2 % чистой прибыли с земли и 3 % — с прибыли от городских промыслов. В таком случае правительство могло бы взять еще по стольку же для государственного казначейства.
За земскими учреждениями пошла реформа судебная, и как логична! Когда писали земское положение, то руководствовались мыслью, что, поскольку цель их чисто хозяйственная, гласные не обязаны быть учеными; часто, мол, мужик лучше смыслит это, чем ученый. Пусть так, но могут ли эти смышленые мужики выбирать основательно мировых судей? Такое постановление напоминает мне из моего отрочества случай, навлекший на меня выговор. Мне были нужны басни Федра. Я просил эконома купить их, но он не нашел в книжных лавках ни одного экземпляра. Когда я привел это в оправдание неимения книги, грубый Белюстин закричал: «Умно! Эконому поручает купить книгу! Любезный, говорит, когда пойдешь покупать капусту, так уж кстати купи мне и Горация!»
Так и выказывается мировой суд, как следовало ожидать; однако сознаюсь, в Петербурге, где судьи из юристов, этот суд хуже, чем в уездах. Замечательно! Останутся ли для и истории эпизоды, характеризующие этих деятелей; узнает ли она, что мальчишки, только что выпущенные из школы, заседают с важностью бояр, что они с неслыханным нахальством вызывают в суд почтенных дам и заслуженных 70-летних стариков по жалобе лакеев, не подкрепляемой никаким доказательством, что эти дамы и старцы должны были в маленькой прихожей вместе с пьяными в нагольных вонючих тулупах и непристойными девками ждать стоя по два и по три часа; что во время судоговорения эти мальчики вежливы только с тулупами, — не по чувству приличия, а потому, что такая мода.
Между тем не дремали ни министр народного просвещения, ни журналистика. Головнин насадил радикалов и коммунистов в профессорские кресла и давал субсидии журналам, проповедовавшим неуважение прав собственности и уз семейственных и позорившим правительство. Библиотеки университетов наполнились сочинениями Ренанов и Фейербахов. Нигилизм сделался модою, всеми овладевшею до исступления; девицы из почтенных семейств собирались в какие-то захолустья, в клубы гражданского брака или безбрачия; на улицах появились барышни в грязных юбках, с коротко остриженными волосами и с синими очками на носу; на сцене императорских театров давались пьесы, возбуждавшие ненависть к помещикам или неуважение к властям; журналы ругали министров, губернаторов и все дворянство без всякой церемонии. Растление нравов сделалось повсеместным, охватившим все сословия, и не замедлило выказаться фактически.
В Петербурге, среди дня, мимо Зимнего дворца разъезжали тройки с полдюжиной седоков, ревущих дикие песни; в кабаках гул, крики женские, дикий хохот, или рев песней, или стук трепака длились всю ночь; в лакейских клубах, которых развелось более 50, плясали до пяти часов утра, играли в карты и т. д. В Сибири не только частные лица, но и правительственные власти делали овации государственным преступникам, приходившим туда по этапу; финансы государственные достигли высшего расстройства; в уездах запылали села; дома помещиков и других зажиточных людей грабились конными наездами целых шаек, и наконец вся эта зараза выразилась в покушении молодого человека на жизнь государя. Публика ожидала с нетерпением разгадки: как зовут преступника? Поляк он или немец? Дворянин или крестьянин?
Какой вздор! Надобно было спрашивать: старик или юноша? Если юноша, — то заговорщиков нет! Есть только жертва того направления, на которое вступили воспитание, журналы, театры и правительственные деятели. Так и оказалось по следствию. Каракозов, молодой человек, прокутившийся студент московского университета, был модным экземпляром известного кружка в самом крайнем его выражении. 4 апреля 1866 года раскрыло правительству много сокровенных язв общества. Они раскрыты: лечат ли их?
4 апреля 1865 года сошелся я у сенатора Войцеховича с сенатором Смирновым. Мы были втроем. Зашла речь о внутреннем положении России. Смирнов приходил в отчаяние; он доказывал с жаром, что Россия не простоит пяти лет, что правительство рухнет, поместная собственность будет расхищена, и Россия расщепится или обратится в кровавую массу. Войцехович утверждал противное: «Пусть только откроют кассационный департамент; он захватит всю власть в свои руки, приведет в порядок все части, даст всем отношениям равновесие». Я говорил, что Смирнов — пессимист, а Войцехович — оптимист; что кассационный департамент решительно ничего не уладит и не достигнет никакой политической власти; что Россия — не Франция и не Италия; что простой народ слишком невежествен для политических демонстраций, а образованные русские слишком индифферентны; что при наших условиях взрывы невозможны, — все будет гнить и только гнить; будет много воровства, много пожаров, много грабежа, — но все это в виде отдельных фактов, пока не явится какая-нибудь неожиданная спасительная комбинация, которая в руках Провидения, и наперед определена быть не может; что, во всяком случае, в пять лет не может быть никакого коренного переворота.
Войцехович решил, что если в пять лет должно ожидать развязки, то уже через год должны быть видимы признаки будущего разложения, что кассационный департамент успеет тоже через год показать, к чему он способен, что на основании этой мысли он приглашает Смирнова и меня отобедать у него втроем же ровно через год, 4 апреля 1866 года, в чем берет с нас подписку. Мы расписались и разъехались.
4 апреля 1866 года, проезжая в 4 1/2 часа мимо Летнего сада, на пути к Войцеховичу, я заметил у решетки группы народа, но, зная, как легко собрать у нас зевак около самого ничтожного предмета, около пьяного, заснувшего на тротуаре, или собачонки, через которую переехали дрожки, я не обратил на эти группы никакого внимания.
Войцеховича нашел я в сильнейшей тревоге. Отправясь около 4 часов прогуляться по Летнему саду и заметив, что маленький вход заперт, — признак, что в саду государь, Войцехович пошел по другому берегу Фонтанки, не желая встретиться с толпою, которую обыкновенно привлекает присутствие государя. У ворот другого конца сада Войцехович встретил кружок людей в живом разговоре, сквозь который слышались слова: «Государь… мещанин… схватили». Далее заметил он еще несколько таких же кружков. Он спросил у сторожа, что случилось. Сторож самым равнодушным, ленивым тоном отвечал: «В государя выстрелили», — таким тоном, каким он отвечал бы на вопрос «который час?». Войцехович побежал домой, встревоженный столько же событием, сколько равнодушием, с каким оно принято сторожем из гвардейцев.
Через четверть часа приехал и Смирнов. С пылкостью своей сангвинической натуры он рассказал слышанные уже им подробности, между прочим — одну: спасителя, оказавшегося мастеровым Комиссаровым, взяли в полицию, и он, струсив, уверял, как говорится, руками и ногами, что он никого не спасал, что он знать не знает и ведать не ведает.
Разумеется, за обедом разговор наш вертелся исключительно около этого происшествия: программа наша была забыта. Мы рассуждали о том, что совершилось бы в столице, если бы злодеяние удалось, или даже если бы распустили только слух, что оно совершилось с успехом; мы рассуждали о нашем полицейском начальстве, о его способности действия в критические минуты. Проезжая домой, я видел солдат Павловского полка, расхаживающих массами по Миллионной в шинелях, без офицеров. Вечером я был приглашен к графине Витте. Захарьевскую улицу, вдоль которой тянутся Кавалергардские казармы, нашел запруженною сплошною массою солдат в шинелях, — и ни одного офицера. Потом оказалось, что вся гвардия была в том же положении; все офицеры были потребованы в Зимний дворец для принесения государю поздравления с Божиим покровительством. Сорок тысяч войска без офицера! Что было бы, если бы в числе офицеров были заговорщики, если бы несколько заговорщиков надели флигель-адъютантские мундиры и поехали бы в полки отдавать свои приказания.
В это же время ходили по городу подозрительные лица; в кабаках рассказывали, будто дворяне подослали убить царя; по железной дороге отправились человек 15 подозрительных. Что же делало полицейское начальство? Оно сосредоточилось на Дворцовой площади; в его глазах шли во дворец люди, не имеющие входа ко двору; в сенях толпился простой народ. Кто-то спросил: «Зачем вы толкаетесь во дворце?» — «Полиция погнала!» — был ответ. Итак, все зависело от случая! Верно, Бог хранил не одного царя, но и столицу.
Обозревая этот ряд преобразований и распоряжений, эту распущенность и неурядицы, останавливаюсь невольно на вопросе: чему приписать такое громадное стечение ошибок; кто же советники царя, кто доводит до его сведения, в каком положении империя?
Глава XIX
Приближенные князя Меншикова — Вилламов — Доклады Ратманова — Профессор Навроцкий — Вагнер и его карьера — Причины гибели наших судов — Взметнев — Беседы с князем Меншиковым о Богдановиче, Тотлебене и военно-морском суде — Бахтин — Его служебная деятельность
По случаю крушения корвета «Александр Невский», при чем едва не утонул великий князь Алексей Александрович, адмирал Матюшкин выразился в сенате: «Вот последствия управления сухопутного генерала!»
Князь Меншиков сдал министерство в начале 1853 года, а последствия его управления обличаются в конце 1868 года. Какая медленная операция!
Не таков был процесс управления адмирала Моллера, до 1828 года. Когда князю Меншикову поручено было преобразование морского министерства, при нем были: полковник Генерального штаба Вилламов, чиновник 5-го класса Андреев и писарь Просин.
Вилламов, добрый, но крайне неспособный человек, сделал карьеру довольно странным образом. Государь Александр Павлович имел обыкновение спрашивать военных начальников о членах их семейства. На разводе, когда он желал быть милостивым к полковому командиру, он спрашивал: «Что делает брат твой, который служил там-то?» или: «Здоров ли старик твой отец такой-то?» — и тому подобное. Вопрошаемый растрогивался до слез при этих вопросах, свидетельствовавших, как государь интересовался его семейством, — но эти вопросы делались на основании приготовляемых князем Меншиковым табличек, которые государь вкладывал в перчатку и при случае справлялся с ними. Таблички эти требовали по цели своей почерка очень мелкого и вместе с тем очень четкого: таков был почерк у Вилламова — у него одного. По этой причине возили Вилламова повсюду, куда ездил государь, вместе с Миллером, чинившим перья.
Кроме того, Вилламов был нужен князю Меншикову, оттого что он ему верил, а князь, в общем смысле, никому не верил, частью по своей недоверчивой натуре, частью вследствие горьких опытов жизни. Он рассказывал мне, что раз только решился, тронутый жалкою участью сироты Навроцкого, взять к себе его, жил вместе с ним, несмотря на его безобразие и неопрятность, и определил его в службу, — и этот Навроцкий крал у него бумаги и шпионил его в самый разгар вражды его с Дибичем.
Андреев — чистый тип чиновника старых времен, взяточник и невежда. Просин — писарь из кантонистов. С этими-то людьми князь должен был образовать новое управление. Князь работал один, и работал до упаду; перед ним стояла большая деревянная табакерка в половину квадратного фута величиной, открытая, из которой он брал щепотками табак или подносил к носу табакерку, чтоб возбуждать нервы, а около полуночи, полуживой, садился в сани и большою рысью ездил по городу с полчаса, чтобы освежиться; потом опять принимался за работу. Какая сила была в тогдашнем поколении: не то что нынешняя вялая молодежь. Она, кажется, и на свет выходит уже с жидким мозгом.
Когда я познакомился с князем Меншиковым, в 1827 году, он жаловался мне на неспособность своих сотрудников. Тут я видел из новых деятелей морской администрации и Ратманова, дежурного генерала. Он привозил к князю кипы бумаг для прочтения или для подписи. Князь, чтобы избавиться от доклада Ратманова, давал ему тетрадку с непристойными картинками. Ратманов надевал очки, рассматривал картинки и по временам хохотал гомерическим смехом, а князь между тем читал бумаги. По окончании смотра картинок Ратманов говорил обыкновенно: «Ваша светлость! Не пора ли заняться делом!» Князь отвечал, что бумаги им уже просмотрены; затем следовал гомерический смех — и доклад кончался.
Один раз, когда доложили о приезде Навроцкого, князь сказал мне:
— Я дам вам случай видеть профессорскую практичность.
Навроцкий — профессор математики, доктор и почетный член многих университетов. Вошел Навроцкий, полковник Генерального штаба, такой несимпатичной физиономии, какой я не встречал ни прежде, ни после, и при том так изуродованный оспою, что на лице его, казалось, была изорванная сеть, наклеенная на кожу. Только что он вошел, князь Меншиков сказал ему:
— Очень кстати! Не могу справиться со счетами! Помоги мне, ты ведь профессор!
— К вашим услугам!
— Вот, братец, в чем дело: я должен лондонской миссии столько-то фунтов и парижской столько-то франков за выписку книг, а деньги мои у берлинского банкира: их осталось столько-то талеров. Достаточно ли этого для уплаты, и если нет, то сколько надо выслать отсюда? Вот тебе и табель нынешних вексельных курсов.
Навроцкий сел у особого стола, сопел, расстегивался и считал, а князь поглядывал на меня украдкой и улыбался. Наконец спросил Навроцкого:
— Ну что, любезный, скоро ли?
Навроцкий, встав, отвечал:
— Странно, ваша светлость, что вы занимаете профессора такими пустяками.
— Ну, извини, любезный, да сделал ли ты счеты?
— Нет, не сделал! Я отвык от этих мелочей!
— То-то, братец, — заключил князь.
В числе лиц, виденных мною в то время у князя, вспоминаю Вагнера. Вагнер, кондуктор рабочего экипажа, молодой человек, явился к князю с маленькою моделью изобретенного им снаряда, которым можно было толочь посредством обращения рукоятки.
— Вот, ваша светлость, — сказал он наивно, — машинка моего изобретения, чтобы кофе толочь.
— Любезный, — заметил князь, — кофе не толкут, а мелют; но, впрочем, очень похвально, что вы занимаетесь механикой.
Отпустив его, князь сказал мне:
— Глуповат, однако предприимчив! Надо дать ему ход, из него, может быть, выйдет что-нибудь!
Князь доложил о нем государю и выпросил разрешение отправить его за границу учиться механике. В то время во Франции было уже волнение в умах. Государь не вдруг согласился на отправление Вагнера, говорил, что он там набалуется, но на уверения князя, что Вагнер человек скромный, — согласился послать его в Париж и Лондон, прибавив: «Под твою личную ответственность». В 1830 году Вагнер воротился, завитой, щеголь и слишком развязный. Всякий другой начальник оскорбился бы фамильярностью и дерзостью приемов Вагнера, но князь Меншиков обладал в отношении к молодым людям необыкновенной терпимостью.
Он смеялся над выходками этого парижанина и, убедясь, что он смыслит дело, поручил ему устройство в Николаеве механической мастерской; дали ему прогоны, подъемные, наградные, жалованье вперед и отправили; но Вагнер, вместо того чтоб ехать в Николаев, бежал за границу, а между тем получены здесь сведения, что Вагнер геройствовал на баррикадах Июльской революции. Государь разбранил Меншикова, а Вагнер пропал без вести, и даже родной брат его, доктор Вагнер, служивший потом у меня, не имел о нем никаких известий!
Лет через пять он получил от него первое известие: беглец просил пособия и уведомлял, что он переменил родовое имя Вагнер на Лодон; брат посылал ему отсюда пособие, сколько мог, в течение следующих пяти лет, но потом письма прекратились, и на письма здешнего Вагнера ответов не было.
В 50-х годах Вагнер, будучи в Париже, стал справляться, не знает ли кто Лодона. «Г-н Лодон? — отвечали ему. — Его знает вся Франция; это наш первый инженер-механик, человек весьма богатый и очень уважаемый…» Вагнер отыскал Лодона в его вилле, но был принят сухо, с объявлением брату, что он прекратил все сношения и воспоминания первой половины своей жизни и теперь живет новым веком без связи с прежним. В прошедшем году этот Лодон помер в сумасшествии. У него был дом в Париже, шато в каком-то предместье, огромная фабрика и более шести миллионов франков капитала. Он предпринял несколько спекуляций, на которых потерял до двух миллионов франков; впал в меланхолию и оставил по себе все показанное выше недвижимое имущество и четыре миллиона франков.
Князь Меншиков вывел многих людей, но в результате ему не посчастливилось. Бахтин, бедный, мелкий чиновник, проведен им в Государственный совет, но оказался демагогом, не признающим ни сословий (кроме своего чина), ни собственности (кроме своего дома). Он много помог испортить дело эмансипации. Головнин — один из вреднейших в России министров. Не говорю о других, которые не имеют влияния на дела государственные. Князь Меншиков, этот сухопутный генерал, управлял флотом 26 лет; в этот период были три катастрофы: исчезла в Ботническом заливе шхуна «Стрела»; сгорел у Кронштадта корабль «Фершампенуаз» и погиб у норвежских берегов корабль «Ингерманланд».
Шхуна «Стрела» построена была на Охте при морском министре Моллере; вследствие ее погибели разобрана была одна из четырех шхун, построенных на Охте в одно время, в том числе и «Стрела», и оказалось, что в ней не было сквозных болтов; вместо них были снаружи и внутри вставлены коротенькие концы с гайками.
«Фершампенуаз» сгорел вследствие педантической строгости командира. Корабль вводился в гавань; порох был уже выгружен; крюйт-камера вымыта. Командир, осматривая эту камеру, нашел ее недовольно чистою и, сделав выговор артиллерийскому офицеру, велел ее перемыть щетками. Офицер, сочтя это за педантство, стал перемывать с открытым фонарем, и последовал взрыв, при котором виновный офицер погиб, а командир, несмотря на усилия князя Меншикова, был, по приговору аудиториата, разжалован в матросы.
«Ингерманланд» шел из Архангельска, полувооруженный, без полного балласта. Князь еще прежде находил неудобным такое плавание и представлял, чтобы в Архангельске строились только фрегаты, но его не послушали.
Следовательно, 26 лет не было ни одного крушения судна парусного, а тем менее парового, вследствие дурного выбора командиров.
После князя все команды сменены. Разных судов погибло столько, что я потерял и счет; государь чуть не утоп в переходе из Кронштадта в Петербург; он два раза пересаживался в пути на другие пароходы; императрицу чуть не утопили в Черном море. Корабль трехпалубный среди дня перевернулся вверх дном у ревельского рейда, и в прошедшую осень разбили в Каттегате паровой фрегат, причем утонуло множество матросов, два офицера, и едва спасся великий князь.
В морском ведомстве учрежден новый суд, гласный и правдивый; он нашел виновными в явной небрежности адмирала, командира и вахтенного лейтенанта, и именно в том, что, испытывая дрейф и переменив направление, поленились даже бросить лот, чтобы определить глубину. При такой изумительной небрежности суд нашел смягчающие обстоятельства и присудил адмирала, приказавшего переменить курс промера, к выговору, а командира и вахтенного лейтенанта — к кратковременному аресту. Суд, хотя и не правый, но милостивый: стоило делать реформу! И говорить после этого, что у нас гласность будет иметь нравственную силу! Такого цинизма не бывало и при закрытых дверях.
Какой хаос! Гуманность при суде над убийцами и бесчеловечие в управлении областями, где вследствие мятежа терзают не по делам, а по национальности; свобода печати и лживые доклады и цифры, публикуемые во всеобщее сведение; ропот против Оттоманской Порты за неравноправность христиан и истязание католиков у себя; возрастающие дефициты и надежды на благосостояние финансов; гласность суда и бесстыдство суда; капральство и революционные стремления; ревнивость власти и добровольная уступка власти; дворцы в столице и кабаки да тройки по всем улицам; усиление полиции и дневные грабежи безнаказанные. Поистине смешанное министерство!
Я упоминал о силе отживающего поколения. Мне пришел на память еще один пример. Взметнев, сын деревенского священника или мелкопоместного дворянина, 17-летний писарь в Муроме, взят был в канцелярию министра финансов за хороший почерк. Он ничего не знал, кроме грамоты русской. В 30 лет от роду он был уже редактором финансовых программ, в которых опирался на школы политической экономии и на статистику европейских государств; он был вполне просвещенный человек, богатый познаниями глубокими. С этих пор он нес на своих плечах почти все министерство финансов, он и Дружинин, и 38 лет вышел в отставку, изнуренный работою, усталый, геморроидальный и, как думали, чахоточный. Когда я с ним познакомился, мне было 18 лет, ему 36; теперь мне 63, стало быть, ему 81 год.
Вот начало его послания, сочиненного недавно по случаю обращения к нему с вопросами о современных делах:
Молчу и думаю: как дважды два четыре, Так точно верно то, что нуль я в этом мире, Где духом Запада все дышит и живет! Другие времена — другие нравы! Нет, Я не могу идти за поколеньем новым, На старческих ногах и с посохом дубовым. Куда мне! Посмотри, как пишут, говорят. И кашу, без крупы, из слов одних варят; Ведь любо посмотреть и дорого послушать! А каково — когда заставят кашу кушать?.. Мое занятие — деревья насаждать; Других — о тысячах вопросов рассуждать…В 81 год! И мысль, и стих! Хотелось бы посмотреть на нынешнюю молодежь через 50 лет… Но нет! Не дай Бог видеть: я не люблю развалин.
Князь Меншиков болен; я нашел его в таком изнурении сил, что невольно видел в нем умирающего. На диване лежали четыре тома в нарядном переплете: «История царствования Александра I» Богдановича. На вопрос мой, что это за книга, князь отвечал мне, что он только что получил ее от автора. Взгляд старца загорелся; вид слабости исчез, откуда-то явилась чудная сила в этом старческом организме. Записываю речь его, пока не изгладилась в памяти.
— Это один из сочинителей по высочайшему повелению!.. Собирался приняться за чтение; открыл наудачу книгу и прямо наткнулся на вздор! Не буду читать!.. Послушайте: «Одна английская ракетная батарея остановила на сутки действия неприятеля». Совершенный вздор! Я, может быть, один остался еще из очевидцев. Это было под Лейпцигом; я состоял по особенному случаю при Бернадоте; батарея была у него же. Когда она тронулась, я был поражен ее красотою. Лошади английские чистой крови; орудия, упряжки, мундиры щегольские; дух людей прекрасный. Я выпросил позволения следовать за нею. Батарея ловко остановилась на высоте против развернутого строя неприятельской кавалерии, кажется саксонцев. Когда ракеты стали шарить по рядам, произошла ужасная катавасия; все смешалось; лошади топтали друг друга, но не прошло пяти минут, как из-за неприятельских рядов появились два орудия французской конной артиллерии; они понеслись в карьер на английскую батарею, остановились на ружейный выстрел, снялись с передков и пустили ядра: одно перерезало надвое туловище батарейного командира, другое подбило ракетный станок, потом перебили лошадей и людей; батареи как будто не бывало, и все это продолжалось каких-нибудь 20 минут. Какие же тут сутки!
Сказав это живым голосом, князь сделал гримасу и бросил с досадою на диван том истории, который он в продолжение рассказа держал развернутым в руках.
— Вы бы рассказали это Богдановичу! — сказал я.
— Не стоит, — ответил Меншиков. — Это… — И, не договорив, махнул рукой.
Я засмеялся.
— Верно, вроде Тотлебена? — заметил я.
— Какое!
При этом князь взял один листок из кипки, которая обыкновенно лежит у него на столе, и, чертя карандашом говорил:
……………….. вот неприятель
−−−−−−−−− это Альма
−− −− −− здесь я
−−− + −−− здесь мои резервы, а здесь (указывая на крестик) находился Кинглек, по его истории… то есть между моей армией и резервами. Но все-таки Кинглек написал гораздо меньше вздору, чем Тотлебен… Тотлебен — отличный пионер и храбрый офицер, но недалекий! Он не знал, что писал, потому что не писал. Милютин выбрал сам в историографы офицериков Генерального штаба и роздал им работу по частям; тенденция была им дана; документы, не подходящие под программу, обойдены. Так каждый мальчик написал свою тетрадку; Тотлебен сшил тетрадки и сочинил заглавный лист. Вот вам и история.
После этого зашел разговор о военно-морском суде над офицерами корабля «Александр Невский». Я сообщил князю Меншикову впечатления публики. Общество наше чересчур рассчитывало на силу гласности; я всегда утверждал, что гласность есть узда только там, где развита народная совесть, а у нас, где люди, открыто накравшие миллионы, собирают у себя на обедах высших сановников, где взяточник идет в театр смотреть пьесу, изображающую взяточника, и горячо аплодирует самым метким ударам, где в мещанском и крестьянском сословии часто хвастают плутнями несодеянными, чтобы заслужить название молодца, гласность не будет уздою.
Что со мной не соглашались, в этом нет худа, но замечательно, что первым защитником идеи о силе гласности был великий князь Константин, и как же доказал он сам эту идею?!
За несколько дней перед судом он испросил повеление об изменении законов насчет состава суда и насчет наказания за крушение. На этом основании весь суд сделался бесстыдной комедией при всей гласности. Я сказал князю, что гораздо приличнее было бы, если не хотели наказывать виновных, объявить от высочайшего имени, что государь, проникнутый великою милостью Провидения, не допустившего погибели любезнейшего сына его, повелевает прекратить следствие и предать дело воле Божией. Князь отозвался на это, что точно эту мысль он выразил на днях заезжавшему к нему великому князю Николаю Николаевичу. Великий князь заметил на это, что он не считает удобным вмешиваться в дело.
Был у умирающего Николая Ивановича Бахтина, с которым я знаком с 1827 года. Он призывал меня для засвидетельствования духовного завещания; едва говорящий от слабости, он с отчетливостью выразил мне цель моего призыва:
— На столе найдете вы две маппы, одна на другой; под обеими лежит белый лист с надписью «духовное завещание»; в этом листе завещание мое и на особом листе формы подписи первого свидетеля и следующих. Потрудитесь подписать по форме следующих свидетелей.
Так это и было. На открытой передо мною странице видел я подпись Волкова, только в ее окончании. Потом всю подпись барона Корфа. Прочитав форму, я заметил, что завещатель назван только по имени, а закон требует обозначения звания. Я сказал это больному; он не хотел мне верить, но когда я подкрепил свои слова примером отказа в нотариальном засвидетельствовании духовной, он встревожился и просил подписаться, как я думал. Странно, что ни племянник его, помощник управляющего делами комитета министров, ни главноуправляющий Вторым отделением, этот представитель законодательства, не знали такого всем известного постановления.
Бахтин пред моим уходом сказал мне изнеможенным голосом:
— Я рад, что князю Меншикову лучше. Давно желал с ним видеться, но с октября месяца болен; теперешняя болезнь моя, вероятно, последняя, не позволяет мне надеяться на свидание, но я часто о нем думаю.
Я сообщил это князю. Он отвечал мне в записочке: «Я тем более чувствителен к добрым чувствам, которые вам выразил Бахтин в отношении меня, что я не избалован в этом отношении».
Бахтин был рекомендован князю в 1827 году как честный и способный человек. Таков он и есть в полном смысле, но ум у него своеобразного склада, — я бы сказал: ум чиновника в самом благородном значении этого слова. Честности непоколебимой, логики безупречной, но взгляда узкого; оттого и ум его, и перо, и обращение — не имеют никакой эластичности. Он превосходно применяет существующие законы, но далеко не удовлетворительно разрешает вопросы государственные, особенно если они входят в сферу политическую или экономическую. Бахтин писал первые отчеты начальника морского штаба; они были составлены добросовестно, аккуратно, но апатично. В начале 1831-го или 1832 года Бахтин просил меня помочь ему, и я составил весь отчет за предшествовавший год. Князю он так понравился, что он сказал Бахтину:
— Вот этот отчет очень удачен!
— Князь, это плохой комплимент, — заметил Бахтин смеясь.
— Отчего?
— Отчет этот писан не мною, а Фишером, — отвечал Бахтин.
Князь уважал Бахтина, но не любил его; узнав, что я могу заменить Бахтина в этой, в то время самой важной работе, — он стал думать о том, как бы освободиться от неприятного ему сотрудника, и это было причиною блестящей карьеры Николая Ивановича. В конце 1833 года открылась вакансия статс-секретаря управляющего делами комитета министров: эту вакансию выхлопотал князь Бахтину. Здесь он был совершенно на своем месте.
В комитет министров входят дела министерств, дела о наградах и искательства частных лиц в министерствах. Бахтин не склонялся ни на частные просьбы, ни на внушения министров; лучшему другу он не делал предпочтение перед злейшим врагом. Между министрами было много людей достойных: они оценили беспристрастие статс-секретаря и уважали его ум и правила.
Лет через десять Васильчиков, назначенный председателем Государственного совета, человек ограниченного ума, но честный и благородный в высшей степени, пригласил Бахтина в государственные секретари. В этом звании видны уже были недостатки Бахтина, но Васильчиков их не видел и вверился совершенно государственному секретарю, который таким образом получил весьма значительное влияние. Имея врожденные зачатки высокомерия, Николай Иванович в новом положении поддался этой слабости настолько, что становился уже неприятным, тем более что, бывая очень мало в высшем круге общества, он не научился искусству скрывать эту слабость или выражать ее в мягких формах. «Я» повторялось почти во всякой фразе с тоном важности, а отзывы о мнении других были полны пренебрежения или насмешки. Несмотря на это, люди благомыслящие его чтили за редкие в русском человеке качества.
Но Васильчикова заменил Левашов, человек надменный, грубый и невежда, принявший несколько заученных фраз за собственный ум и считавший себя за великого политэконома и законодателя. Левашов стал обращаться с Бахтиным, как с секретарем. Этот был, однако, не из такого теста, чтобы вставить себя в роль простого письмоводителя, начались взаимные трения; у Бахтина сделались завалы печени, которые придали ему новую раздражительность; ссоры между секретарем и председателем усиливались и разрешились наконец назначением Бахтина членом Государственного совета. Здесь он опять вырос, но скоро нажил себе врагов резкостью выражений.
В нынешнее царствование великий князь Константин Николаевич, заметив демагогическое направление Бахтина, — плод подавленного самолюбия, — возвысил его личность, но когда Бахтин перестал быть ему нужен, великий князь, по свойственной ему бесцеремонности в делах приличия, бросил его и едва ли не преследовал. Николай Иванович дожил даже до незаслуженных унижений и стал крайне резок. При всем том Бахтин работал честно, умно и больше, чем все прочие члены вместе. Он почти ослеп в работе, но у нас это не имеет никакой цены. Напротив, честность есть добродетель, только пока она обладает тягучестью; как только она достигнет твердости состава, она делается пороком, которого никто никогда не прощает.
Так, прожив холостяком, за рабочим столом, ослепший, изнуренный, Николай Иванович дожил до нынешнего болезненного одра, с которого он не встанет и которого не согревает теплое чувство.
Князь Меншиков шел другою дорогою, он всю жизнь стоял у подножия трона; ум его противоположен уму Бахтина: быстрый, практичный, тонкий, прозревающий сквозь всякую завесь, ускользающий от всякого постороннего прикосновения, но небеспристрастный, хотя и честный, — не всегда логичный, хотя широкий и светлый; однако оба были схожи в одном — оба отталкивали: Бахтин — надменностью, Меншиков — ледяной вежливостью, и пришли к тому же концу: оставленные и забытые.
Эти обе личности замечательны в русской среде. Бахтин не был никогда государственным человеком, но, необыкновенно деятельный среди лентяев, необыкновенно логичный среди плоских мыслителей, настойчивый и остойчивый среди равнодушия и личного расчета, он должен был бы многое сделать или и исправить. Князь Меншиков выше Бахтина на сотню ступеней. Патриот, враг корыстолюбия и поклонничества, трудолюбивый, любознательный, пользовавшийся при двух императорах в течение долгого времени необыкновенным кредитом, должен был бы сделать для России еще гораздо более.
Но ни тот, ни другой ничего не сделали. Когда их похоронят, Россия не только не заметит, что их уже нет, но и не вспомнит, что они когда-то были. Кого винить? Конечно, Бахтин, вращавшийся в сфере администрации, виновен в том, что не умел составить около себя партии, кружка людей столько же честных. И князь Меншиков виноват тем, что неблагосклонной царской мины на параде боялся больше, чем упрямого спора с государем наедине, и пред этою боязнью отступал от проведения своих планов, но в другом государстве эти слабости обоих не имели бы тех же последствий.
Не говорю о чиновнической Франции, но в Англии и Германии Бахтину не пришло бы в голову чванство, потому что там оно не встретило бы ни в ком сочувствия. Там Черноглазовы и Праведниковы не были бы на первом канцелярском плане; Зеленый и Рейтерн не были бы министрами, а лучшие люди или отучили бы от чванства, или простили бы его человеку, полному желания добра.
Князь Меншиков, споря слишком часто с государем в его кабинете и опасаясь холодной мины его на выходе, очевидно, выражал тем страх не перед царем, а перед царедворцами. Он не дорожил своим местом в администрации, но опасался ослиных копыт, которые не замедлили бы лягнуть его при первой замеченной ими царской немилости. Таких копыт не видал бы он ни в Англии, ни в Германии.
Следовательно, эти люди, люди со слабостями, были вследствие этих слабостей бесполезны государству только потому, что жили в неблагородной среде. Они не правы, но еще больше виновата их обстановка. А. И. Чернышев, А. Ф. Орлов, П. П. Гагарин — многого ли они стоят по оценке их деятельности, их чести, их благородства? Найдется ли десяток людей их уважавших? Однако они достигли высших степеней и ознаменовали свое бытие замечательными деяниями, замечательными по своей мерзости. Не доказывает ли это, что у нас пороки Орловых и Гагариных простительнее, чем слабости Бахтиных и Меншиковых.
Глава XX
Клевета Закревского на князя Меншикова — Рассказ князя о письме из Троппау — Разговор с ним по поводу его бумаг — Взгляд на мою службу — Богаевский — Его жестокость — Письма Кошена — Его карьера — Граф Армфельт — Письма его
Сила воли угасает в старости, как все жизненные силы. Закревский, негодуя на князя Меншикова как на преемника своего в звании финляндского генерал-губернатора, искал средств чернить его, но найти их было нелегко. Назвать его вором, или бесчестным, или дураком — значило бы выдать себя за сумасшедшего. Закревскому не оставалось ничего более делать, как распустить слух, что князь Меншиков был сын графа Армфельта, искавшего в России спасения от смертной казни по смерти Густава III. Князь Меншиков знал об этом и смеялся с равнодушием над этой выдумкой. Однако равнодушие было поддельно. 36 лет носил он в сердце досаду и оскорбление, не смея вверить их никому. Теперь, на днях, он не вытерпел. Он повторил мне эту клевету Закревского.
— Может быть, — сказал он мне с волнением, — при вас кто-нибудь повторит эту басню; сделайте мне дружбу, докажите в этом случае нелепость ее. Вот вам для этого тема.
При этих словах передал он мне своеручную записочку следующего содержания: «Густав III скончался 21 марта 1791. Граф Армфельт прибыл в Россию, как изгнанник, после смерти короля, следовательно, не ранее 1791, а князь Меншиков родился 11 сентября 1787, — следовательно, за 4 или 5 лет до прибытия в Россию графа Армфельта».
В разговоре с князем Меншиковым я сообщил ему, что меня со всех сторон спрашивают, ведет ли он записки, и на отрицательный ответ укоряют его в том, что он лишает историю драгоценных материалов. На этот укор я говорил, что князь начал общественную жизнь во время кровавых войн с Францией, что потом он восемь лет не выходил из коляски государя Александра I, который ездил с ним за границу и по всем концам России и целый день отдавал ему словесные приказания, так что князь просиживал ночи для исполнения их. При Николае I он мог бы писать записки, но в то время нельзя было ручаться, чтобы вследствие какой-нибудь катастрофы не явилась в дом князя комиссия для опечатания бумаг.
Князь отозвался:
— Зачем брать государя Николая; это могло случиться и при Александре Павловиче и чуть не случилось со мной. Какой-то господин донес, что он, сидя в ложе подле жены моей, слышал ее рассказ, будто она получила от меня из Троппау письмо, в котором я описывал ей расстройство духа государя по получении известия о бунте Семеновского полка. Писать такие письма было вовсе не в моих правилах, а тем менее к жене моей, которая вовсе не занималась политикой; однако государь писал Милорадовичу, нельзя ли выкрасть это письмо у жены моей и прислать его к нему. Это слышал я от самого Милорадовича.
Замечательный факт, если принять в соображение, что Меншиков был в то время самое доверенное лицо, о котором государь отозвался, что он из него сделает первого после себя человека в империи. При этом случае я обратил внимание князя на то, что по смерти его пришлют комиссию для отобрания находящихся у него бумаг по государственным делам; что прежде эти бумаги отправлялись прямо в государственный архив и были тем надежнее сохраняемы, что начальники архива, считая свою должность синекурою, никогда не любопытствовали знать, что находится в присылаемых тюках: эти тюки хранились столетия неприкосновенными, если и крысам вздумалось уважить их неприкосновенность. Государь Николай I приказал разбирать посмертные бумаги и передавать в министерства по принадлежности. Этим распоряжением разрушена историческая сокровищница; министры разглядывали бумаги не из любознательности, а для убеждения, нет ли в них чего-нибудь против их личности, и такие бумаги истребляли.
— Но что же делать? — спросил князь.
— Отберите те бумаги, — отвечал я, — которые вы считаете наиболее важными, запечатайте их и отдайте на сохранение надежному лицу такого свойства, которое избавит их от миссий, посылаемых к умершим членам Государственного совета.
— Это удачная мысль, — заметил князь.
Приведет ли он ее в исполнение?
Нечаянно нашел я в своих бумагах остатки писем барона Котена и графа Армфельта. Сколько воспоминаний! Воспоминания, наводящие на грустные мысли. Пробегая эти письма, я был изумлен и разнообразностью моей работы, и высокостью моего тогда значения. Сравнивая это прошлое с моим настоящим, я кажусь себе глупым и униженным. Честолюбие не было никогда моею слабостью или моею добродетелью, однако когда я сравниваю свое прежнее положение, уже мною забытое и только вчера воскресшее в памяти, с моею нынешнею обстановкою, с нынешними моими коллегами, с постановкою лицом к лицу с дерзкими мальчиками-правоведами и с мелочностью моих диспутов, — не могу не видеть, с некоторым стыдом, куда я заброшен.
Первое из сохранившихся у меня писем Котена, попавшееся мне на глаза, от 1851 года — о Богаевском, бригадном генерале в Финляндии; второе приглашает меня на вакансию товарища министра статс-секретаря Финляндии; об этом же несколько других писем. Потом о винокурении, об эпизоотии, об Армфельте, Маннергейме и Гартмане — этих трех местных властителях Финляндии. Далее об агрономическом институте, о лесной части, о водяных сообщениях, о бродягах и однодомцах, о надзоре за приезжающими в Валаамский монастырь, о запасных хлебных магазинах, о Саймском канале, о гимназиях, о разных личностях и, наконец, о назначении Котена членом сената. Это назначение сделало из Котена моего врага, действовавшего не с особенным благородством впоследствии. Из содержания писем видно, что относительно разных административных и государственных вопросов я или учил Котена, или требовал от него местных сведений для своего назидания.
Богаевский — тип генерала. Он выстроил себе и меблировал дом в Выборге руками войск, бывших под его начальством. За эту работу он давал каждому, проработавшему всю неделю, 5 копеек, а музыкантам позволял наниматься в праздники. Работы и притеснения тянулись годы, и князь Меншиков ничего о том не знал. Богаевский был женат на сестре Львова, а Львов состоял при шефе жандармов графе Орлове, следовательно, Богаевский был человек страшный, — и все перед ним и о нем молчало. Музыка была первым поводом к восстанию. Котен, управляя Выборгской губернией, устроил в Выборге публичный сад, т. е. насадил штук 50 молодых березок и сделал дорожки. Город нанял военных музыкантов играть в саду по воскресеньям после обеда, т. е. от 5 до 8 часов: финляндцы обедали в 12 или в час.
Богаевскому, праздновавшему какой-то фамильный день в воскресенье, вздумалось приказать играть у него в саду во время обеда и весь вечер, т. е. от 4 до 12 часов. Музыканты, несмотря на то, что город платил им погодно, должны были покориться воле своего начальника — и город остался в дураках. Магистрат жаловался губернатору, а Котен очень деликатно объяснился с генералом, который, однако, принял объяснение неблагосклонно и вследствие того стал теснить брата Котена, командовавшего в его бригаде линейным батальоном. Это взорвало моего приятеля, и он ждал случая отомстить Богаевскому.
Случай представился. Один из лучших унтер-офицеров, с нашивками, имел несчастье быть хорошим столяром, и Богаевский приказал ему делать мебель, дал на это дерево, но об инструменте, лаке и политуре, вероятно, позабыл; когда мебель на одну залу была готова, унтер-офицер попросил у генерала денег на уплату за лак и политуру. Генерал взбесился и подверг его зверским истязаниям.
Я жил на даче в Хортона, близ Выборга. Котен приезжал ко мне каждый день и между прочим рассказал мне подвиги бригадира. Я возмутился рассказом, так как был ответственным за репутацию князя Меншикова, который настолько полагался на мои правила и мои сведения обо всем, что в Финляндии делалось, что все предоставил мне; когда я молчал — значило: все благополучно. Однако я не решился действовать по словесному заявлению губернатора и просил его написать мне то, что он мне рассказывал. Вот что вижу в письме его от 7 июня 1851 года: «Обиженный вагенмейстер называется Кубашев; он прослужил 15 лет, в продолжение которых не подвергался ни малейшему наказанию и всегда считался лучшим солдатом во всем полку; он женат на дочери офицера, и три четверти из них, конечно, менее джентльмены, чем он. Чудовище, в качестве начальника, приказал его бить за частное дело четырем унтер-офицерам другого полка; они его били до того, что пришлось пустить ему кровь и что спина превратилась в бифштекс. Представьте себе, что когда во время страданий этот человек сказал: «Помилуйте, Христа ради!» — начальник сел на него верхом и шпорил его. Это подлое мщение, кажется, было рассчитано заранее между генералом и унтер-офицером из инвалидов, преданным ему телом и душой, его посредником и наперсником. Если бы император знал, что делается, но он этого никогда не узнает…»
Котен оканчивает письмо советом перевести Богаевского на Аланд. Но я поступил иначе. Князь Меншиков быв в черноморских портах; я ничего не писал ему предварительно, поехал недели через три к Богаевскому, но не застал его. На другой день является он ко мне сияющий, благодарит меня за честь, ему оказанную, и надеется заслужить мою дружбу.
— А я, генерал, — сказал я ему, — считаю величайшим несчастьем случай, побудивший меня к вам ехать. До князя дошли сведения, что вы употребляли на свои работы войска, что вы не платили солдатам не только за работы, но и за покупки, сделанные ими для вас, и что вы жестоко истязали отличного унтер-офицера за то, что он попросил у вас денег на уплату за купленный им для полировки вашей мебели материал. Князь поручил мне предупредить вас, что по приезде в Петербург он велит произвести следствие, если к тому времени застанет еще вас на службе. Князь будет к октябрю. Честь имею кланяться.
Какую он сделал рожу! Помню, однако, что уходил от меня, шатаясь. Тут я написал и князю о действиях и Богаевского, и моих. В сентябре он подал в отставку и был уволен.
О винокурении в Финляндии я писал, кажется, прежде; здесь говорится только о свидетельствах на провозимое вино. Самые мощные в Финляндии лица, Гартман и сенатор Рамзай, выкуривая свыше законного количества, рассылали незаконно же свое вино по всем станциям и шинкам на пути от Або до Гельсингфорса и споили все местное население, но как сведения, полученные мною об этих проделках, были совершенно частные, то официально и непосредственно действовать на них было неудобно. Между тем барон Котен жаловался на корчемство эстляндским вином.
Я внушал ему просить о введении провозных свидетельств, имея заднюю мысль обобщить эту меру. Она, разумеется, осталась бы недействительною для Гартмана и Рамзая, пока в Або оставаться будет губернатором их покорнейший слуга А. Кронштедт. Я полагал спустить его и с тем вместе учредить сильную премию поимщикам, зная, что наши честные, но бедные ленсманы не побоятся губернаторского гнева, когда за честное исполнение закона приобретут премию, равняющуюся 10-летнему окладу их жалованья. Дело это протянулось до Крымской кампании, потом до кончины государя и наконец до моего перемещения — к великой радости лиц, видевших, что я подрываю их золотые промыслы.
Письма Котена насчет назначения моего товарищем министра статс-секретаря особенно щекотят мое самолюбие. Котен, давая себе значение моего ходатая, может быть, слишком хвастливо, сохраняет, однако, настолько искренности, что передает мне слова графа Армфельта: «Я коснулся вопроса и увидел, что он думает так же, как и я, что ваше назначение будет самое полезное и для него, и для страны, что его доверие к вашему характеру полное» и т. д. В этом же письме от 31 августа 1851 года пишет мне барон: «Сомнение в принципе и не касается вовсе вашей личности. Это то, что вы не финляндец и что место министра, которое его отец и граф Ребиндер всегда берегли для финляндцев, может перейти вследствие примера в прошедшем какому-то Буткову или Комовскому, в пользу которых стала бы хлопотать вся женская партия. Надо вам сказать, и это важно, что Комовский, не наш, а другой, искал места товарища, и чрез Адлерберга! Я надеюсь, что еще несколько недель вы будете свободны от всякого другого обязательства. Армфельту необходим помощник; в стране указывают только на трех кандидатов: Норденштамма, Кронштедта и меня, но ни один не принесет большой пользы краю; следовательно, кроме вас, нет никого, пусть не прогневаются г-н Комовский с братией, которые бесстыдно думают, что товарищ министра не имеет нужды знать учреждения, положение и характер страны, которая отличается во всем от других частей империи. Право, это очень странно, что Адлерберг этого не понимает. Этот вопрос меня очень волнует, потому что, не скрывая правды, вы нам необходимы».
В письме 26 сентября 1851 года: «Армфельт мне пишет: «Все, что я видел, все, что я был в состоянии узнать, укрепило более, чем когда-либо, принятое мною решение. Если г-н Ф. согласится принять место, о котором идет речь, то я смотрю на это как на единственное средство провести дело благополучно. Его честный и бескорыстный характер, его желание оказать всем услугу, лишь только это возможно, его знание дела и среды, его чрезвычайные способности и его хорошие отношения с князем — представляют ручательства более чем достаточные».
В письме от 16 сентября Котен выписывает еще несколько слов из письма Армфельта и прибавляет свои рассуждения, которых повод совершенно забыл и оценить не могу. «А. пишет мне из своего имения: «Чем более я думаю о нашем разговоре в Вильманстранде, тем более чувствую, что это единственное средство, чтобы спасти отечество и чтобы дела шли в согласии и единстве». Вы, может быть, думаете, что мы очень патетичны, что соединяем отечество с этим делом, но для А. и меня, которые знаем тайны этого отечества, — нет ничего патетического». За этим письмом следует большой пробел. Котен писал ко мне каждую почту, частью об улажении его ошибок, частью с рекомендациями разных лиц. Пока дело шло о местах его губернии, я старался удовлетворять его просьбы, зная, что благосостояние губернии зависит от совместного согласного действия властей по всем отраслям, но приятель мой очень легко увлекался; он начал проводить своих кандидатов по всей Финляндии, от епископа до ленсмана, и так как я, разумеется, не намерен был сделаться его стряпчим, то теплота нашей взаимной дружбы скоро утратилась. Впрочем, он не знает и до сих пор, что граф Армфельт первый боялся его властолюбия и опрометчивости, и хотя находился с ним в самой короткой переписке, очень опасался, чтобы я не слишком много следовал его рекомендациям. В это же время я вошел с ним в сношение об училищах.
Училища (гимназии и вместе с тем семинария) были в плохом состоянии. Епископы, их прямые и исключительные начальники, более занимались своими аннексами, чем училищами, но всего более возбудился вопрос об училищах бестактностью епископа боргоского Оттелина. Какой-то юноша нагрубил своему наставнику. По жалобе последнего Оттелин призвал обоих и приказал наставнику объяснить свое неудовольствие. После нескольких произнесенных им слов, ученик прервал его, сказав: «Это неправда!» Когда наставник заметил ему на это, что он не имеет права прерывать речь старшего, особенно так грубо, епископ с важностью первосвященника заметил: «Передо мной все люди равны».
Котен бросился, со свойственною запальчивостью, проектировать новый устав училищ с подчинением их исключительно губернаторам. Когда он сообщил мне свою мысль, я отвечал ему, что в таком религиозном крае, как Финляндия, нельзя разъединять назидание юношества общечеловеческое и направление духовное, что лучшие наставники финляндские принадлежали все к духовному званию, что самое значительное число юношей, кончивших курс учения, домогаются звания доктора богословия, что это вернейший признак религиозного настроения нравов и что разрушать его с заменою бог знает каким направлением было бы опасно.
На этом основании я находил, что часть назидательная (классы) должна оставаться неприкосновенною, но часть полицейскую правильно передать в светские руки. Начальником этой части я полагал назначить офицеров, служивших в русских войсках и вышедших в отставку по болезни или по неимению средств содержать себя в России. У меня было в виду этою мерою достичь трех результатов: 1) возбудить усердие духовенства ввиду антагонизма, 2) пристроить служилых офицеров и 3) усилить число лиц учебного ведомства, знающих по-русски.
В письме от 7 ноября 1852 года Котен пишет мне: «Сняв копию с вашей записки об учебной части, я спешу вам ее возвратить с выражением моей благодарности за внимание, которое вы оказали тому делу, и за услугу, которую вы мне оказали».
Однако он совсем не на том настаивал, когда сделался начальником духовной экспедиции. Он сочинил проект, которым оставлял в Финляндии две классические гимназии во всем на прежнем основании и три реальные на кадетский лад, и так рассердился, что проект его не одобрен, что, при нынешнем уже государе, стал клеветать на меня. Не понимаю, отчего я не сохранил моих записок, которых написал сотни по разным возникавшим вопросам. Не только не имею и той записки, которую написал в 1852 году для Котена, но и той, которую в 1855 году представил государю.
С 1852 года Котен пришел в какое-то лихорадочное состояние, в письмах его вижу все затронутым: и школы, и епископы, и губернаторы не хороши, и лесной устав не хорош, и бобыли слишком размножились, — и все это захотел он переделать сам, всех сменить, всех учить, взяв с чего-то надежду, что я буду делать все, что он пожелает, и притом делать это до следующей почты.
Вопрос о бобылях мне самому показался важным. По финляндским законам работники должны жить и есть вместе с хозяином, но вместо того расплодились люди, батраки, имевшие собственную кухню. Я списался с Гартманом, и общими силами мы составили «положение», целью которого было постепенное противодействие размножению таких батраков. Так как их считалось в Финляндии до 20 тысяч человек, из них много женатых, то генерал-губернатор предписал губернаторам действовать по «положению» как можно мягче и терпеливее. Котен нашел это нежелательным и уверял, что у него в губернии через полгода не будет ни одного бобыля. В 1851 году получаем мы вдруг ужасающее известие, что один бобыль убил топором детей своих и, явясь к ленсману, сказал: «Губернатор запретил давать работникам харчевые деньги и требовал, чтобы они ели за столом хозяина. Хозяин мой не согласен был кормить моих ребятишек, а я не могу есть, когда дети голодны: я их убил. Доложите это губернатору». Князь Меншиков был этим известием ужасно взволнован. «Котен становится невозможен, но как от него избавиться?» Я советовал князю предложить ему место в сенате, поручив ему духовную экспедицию. Последствия этого были гибельны нашим добрым отношениям, хотя я не был ни в чем здесь виноват.
Радуюсь, что нахожу и теперь подтверждение этого в письмах Котена. В письме 4 февраля 1853 года он пишет: «С тех пор как вы мне сообщили о перемене, о которой идет речь, все мои мысли оглядываются назад, вместо того чтобы обратиться на будущие предметы; я бы хотел оставить, что возможно, в порядке; до осени у меня будет много дела, но результат будет удовлетворительный».
Котен был поручиком Московского полка, когда я о нем услышал. Он любезничал с прекрасною романтическою мадемуазель Гартман, которая в него влюбилась. Когда императрица была в Гельсингфорсе, она на балу поражена была прекрасным бледным миниатюрным личиком, поставленным на гибком теле высокого роста. «Отчего она, бедненькая, так бледна и грустна?» — спросила императрица. Верным ответом было бы «оттого, что болезненна», но дамы предпочли ответ романтический: «Она влюблена в молодого барона Котена, который тоже страстно ее любит, но у них нет состояния, и потому они не решаются вступить в брачный союз». — «Скажите барону, — сказала императрица, — что любовь не следует приносить в жертву расчету; пусть женится: Бог не оставит». Котен женился. Императрица, узнав об этом, приказала объявить Котену, что она готова содействовать исполнению его желаний, если у него есть желания на сердце. Честолюбивый офицер не выдумал ничего лучшего, как проситься в адъютанты к князю Меншикову. Князь терпеть не мог происков подобного рода; уступив просьбе императрицы, он взял Котена в адъютанты, был с ним очень вежлив, беседовал с ним, человеком умным и образованным, о Финляндии, но не любил его и не отличал никакими наградами, которыми, впрочем, не пользовался ни один из его адъютантов, кроме Глазенапа, за которого просил дядя его, морской министр Моллер.
Скоро Котен стал на это жаловаться, и так неосторожно, что князь называл его «крикун», crieur. В 1840-м или 1841 году хотел решительно от него избавиться. Он предложил ему ехать в штаб войск в Финляндии учиться военной администрации.
Котен тотчас рассудил, что его готовят в начальники штаба, и на этом основании с радостью принял предложение, а между тем князь писал начальнику штаба, необразованному и деспотическому полковнику Чепурнову: «Держите этого крикуна в руках!» Так исчез Котен с петербургской сцены, где начал было играть роль. Участь его была незавидная, но когда открылась вакансия директора канцелярии финляндского генерал-губернатора, я стал рекомендовать Котена на это место. Так как князь не знал никого лучшего, то он на это согласился, и таким образом штабс-капитан вдруг оказался чиновником 6-го класса.
В 1844 году открылась вакансия выборгского губернатора; по моему содействию, место это дано Котену, что его повысило в 4-й класс, т. е. в три или четыре года он из штабс-капитанов сделался превосходительством.
Вслед за тем дали ему камергерский ключ. Он усердно принялся за губернию; жена удерживала его от крутых мер, и губерния полюбила его. Тут опять заиграло честолюбие. Несмотря на мой совет, он просил переименования его в военный чин. Его переименовали в генерал-майоры, но губерния не имела уже того доверия к русскому военному мундиру, какое имела к фраку, — и этот мундир не давал ему того входа ко двору, каким он пользовался в камергерском звании. Жена между тем умерла; узда свалилась, и ярый барон предался всей силе своих увлечений, возжаждал ленты и власти и ждал исполнения своих требований с каждою почтою.
Под влиянием этих терзаний, он, вообще человек благородный, решился в отношении ко мне на мерзость, и, как кажется, скоро сам устыдился ее, потому что мне стоило показаться в тот дом, где он был, чтобы заставить его бежать в ту же минуту. Я понимал его моральное состояние, мне стало жаль его, да и надоели эти натянутые отношения. Увидев однажды, как дочь его, фрейлина великой княгини Елены Павловны, выходила с парохода на Английскую набережную, где ждал ее отец, я подошел к нему и сказал ему: «Барон, так как у меня никакой истории с барышней, которую я когда-то носил на руках, не было, то прошу вас сказать ей, что это ее комиссионер по части обуви, который имеет честь раскланяться с нею». Котен сконфуженно пробормотал: «Это господин Фишер». После небольшого дружеского разговора с нею я обратился к Котену: «Друг дочери не может быть врагом отца», — и протянул ему руку. Котен чуть не переломал мне пальцы и чуть не расплакался. С тех пор мы опять друзья. Повторяю, он все-таки очень и очень хороший человек.
Письма графа Армфельта другого рода. Мои к нему отношения установились гораздо ранее, чем его назначение министром статс-секретарем. Если не ошибаюсь, он поступил в статс-секретариат без штатного звания, в чине штабс-капитана; и звание товарища было учреждено для него. Князь Меншиков его жаловал как красивого, ловкого, просвещенного, честного, доброго и великосветского человека и как сына того знаменитого графа Армфельта, который был в коротких сношениях с домом князя Меншикова и которому он в молодости своей удивлялся как северному Алкивиаду!
Очень жалею, что сохранившиеся у меня письма его, может быть, часть — в беспорядке, т. е. без всякой хронологии. Я не могу и восстановить ее, оттого что по большей части они обозначены только днями, а у меня не было привычки, как у князя Меншикова, выставлять на каждой бумаге число, месяц и год ее получения.
В одном письме он благодарит меня за участие к его брату (генерал-адъютанту графу Армфельту, нюландскому губернатору), который был очень долгое время не производим в генерал-лейтенанты; это должно относиться к 1848-му или 1849 году, потому что в этом письме проглядывает досада на то, что и сам министр долго не производился, вероятно, в тайные советники. Оно так резко отличается от тона подобных писем барона Котена, что я выписываю из него почти все из удовольствия выписать.
«Позвольте мне выразить вам горячую и искреннюю благодарность за новый знак дружбы, который вы нам оказали, поговорив с князем М. в пользу моего бедного брата.
Все, что я могу здесь сказать по этому поводу, может вам показаться неуместным, но поверьте мне, я никогда не забуду одолжений, которые вы во многих случаях оказывали мне и моим, и когда я поселюсь в cara patria (дорогое отечество), оставив службу, вдали от света и дел, я вечно сохраню об этом память. Мой брат был первый финляндец, который поступил на службу России во время покорения Финляндии. Все его прежние товарищи, которые так же, как и он, были флигель-адъютантами императора Александра, после смерти этого государя уже генерал-лейтенанты или тайные советники. Не один генерал-майор, моложе моего брата, перешагнул через него, в том числе генерал Эттер. А из всех чувств, которые заставляет нас испытывать наше самолюбие, самое тяжелое, самое мучительное, я могу даже сказать, самое унизительное — это видеть себя превзойденным. Я говорю об этом по опыту, потому что в моей жизни это случалось не раз, и даже недавно, как в Финляндии, так и здесь. Но я всегда старался себя утешить. Говоря себе, что иначе не могло быть и что те личности имеют более заслуг, чем я. Вы согласитесь, однако, со мною, что это плохое утешение».
Всех писем не перебрать; останавливаюсь на одном, где граф является сильно оскорбленным мною. Я помню этот случай. Лангельшельд переврал с намерением слова мои, интригуя против меня в угоду своим соотечественникам. Тоже моя креатура: губернского переводчика, получавшего 140 рублей, я перевел в статс-секретариат 2-м секретарем на 1800 рублей; через год повысил в 1-е секретари с 3000 рублями, и тут он стал интриговать. Я не последовал, однако, правилам Ларошфуко, в 1854 году рекомендовал его в губернаторы, а в 1855 году — Бергу как способнейшего. Берг сделал его начальником финансовой экспедиции и бароном, но этот барон умер от удара, и тем кончились его интриги.
Глава XXI
Похороны Бахтина — Характеристика князя Меншикова — Его семейная жизнь — Воспитание сына и дочери князя Меншикова — Внук князя Вадковский — Предсмертные минуты князя Меншикова и его кончина — Доктора Гемилиан и Экк — Рассказ Герстфельда о приключениях одного проекта
Был на похоронах нашего честного Н. И. Бахтина. Эта торжественная церемония навела на меня чувства омерзения и грусти. В доме покойного вокруг его гроба я нашел ряды людей в лентах, с ничтожностью на лбах. Я рассматривал их со вниманием, начиная с председателя с защемленным в глазной орбите лорнетом до хохлатого статс-секретаря, на самодовольной физиономии которого читалось, что он зять статс-секретаря Буткова. Желчный Корф со взором фарисея, бессмысленное лицо Замятнина, дерзкая и надменная рожа Буткова — пред честным гробом Бахтина; не надо было спрашивать ни исследовать, зачем они приехали: это спутники председателя. На кладбище не поехал ни один из этих государственных мужей.
Что сказала бы Европа о нашем Государственном совете, если бы узрела эти типы составных частей его? По газетам они могут казаться столпами Российского государства, как некогда я читал в газетах известие о слухе, будто в Париже соберется международная финансовая конференция, в которой от России будет прислан господин Шигаев, русский финансист. У Большого проспекта остановился Бутков с важностью боярской. Гавриил Степанович Попов, проходя мимо него, поклонился ему в пояс; Бутков протянул ему палец и с необыкновенною снисходительностью сказал ему громко и отрывисто: «Здравствуйте». Жалко то государство, в котором люди такого свойства и такими деяниями могут пролагать себе путь к власти политической, но еще более жаль, когда эти люди смеют уверить себя, что они действительно стоят на своем законном месте.
Я привык видеть ничтожество у подножия трона. Княжевич тоже ничтожен, но он не Бутков. Княжевич, достигнув кресла министра, видел в этом последствие прихоти фортуны, он наслаждался откровенно своим счастьем, нисколько не приписывая себе заслуг, которые давали бы ему право на его высокое положение. Бутков же, Тройницкий и т. п. убеждены сами, что они великие люди, и вот что омерзительно.
На пути к кладбищу могло бы показаться, что покойный был мелкий или злой человек; балдахин и ряд карет выражали деньги, а не дань современников или хоть сотоварищей, а между тем Бахтин был честный, добросовестный труженик на службе государственной, на которой он сосредоточил всю жизнь свою. За что же выпало на долю его это пренебрежение? За то, конечно, что он был честен и труженик, не под стать своим товарищам.
В церкви мне тоже все было не по нутру. Может быть, способствовала тому продолжительность богослужения, но мне неприятно было видеть, как эти архимандриты, окружавшие гроб, блуждали взорами по публике, как даже диакон, держа своими белыми ручками с розовыми ногтями Евангелие перед архиереем, прогуливался взорами по лицам, за архиереем стоявшим.
Тут были сановники в лентах. Какое настроение духа наполняло их — нельзя было угадать по их физиономиям! Они казались мне куклами, одетыми в шитые мундиры. Ал. Ив. Войцехович был единственным осмысленным лицом, и этот смысл был грустного содержания. Кроме него, только женщины являлись одушевленными существами в церкви, да на пути к могиле я увидел дань благотворительности покойного. Я видел до десяти женщин простого звания, в бедной одежде, истинно предававшихся скорби; занятые исключительно своим горем, они непреднамеренно смешались с шляпами, обшитыми широкими галунами, и бесцеремонно рыдали подле этих важных сановников.
Как трудно жить и как неутешительно умереть в такой отвратительной среде.
Ал. Ив. Войцехович сказывал мне, что Корф удивлялся «капиталам», будто бы оставшимся после Бахтина. Я бы отвечал ему на это, и именно ему, Корфу, что если это правда, то не только утешительно, но и назидательно небогатым молодым людям, начинающим службу: это доказывает, что долговременным трудом и расчетливою жизнью можно на службе приобрести некоторое состояние, не сделав ни одной мерзости и не позволив себе ни одной низости. И этого-то Корфа бедный Николай Иванович выбрал в свидетели своего завещания — поставил его в число вернейших друзей, поместил между Войцеховичем и мною!
Мой благодетель, прежний начальник и старый друг, князь А. С. Меншиков, умирает! На нем отражается резко суета сует — vanitas vanitatum! Отражаются и последствия личных его ложных воззрений. Вольнодумство XVIII века, честолюбие царедворца и родовая скупость — три элемента, подавлявшие движения его благородного сердца и помрачавшие свет его необъятного ума! Эти противники боролись в нем без устали, но в конечном результате добрые элементы подчинялись часто дурным.
Рожденный с необыкновенною независимостью характера, он противился всякому понуждению, даже и тогда, когда понуждение направляло его в область собственных его наклонностей. В Дрездене отец не мог ничем заставить его учиться, устал, махнул рукой и бросил сына. Юноша поехал в Петербург, нанял две комнатки под чердаком дома Манычарова (теперь Якобсона, в Малой Морской), завалил себя книгами и стал учиться, учиться и учиться. Через год определили его, 17-летнего мальчика, в Коллегию иностранных дел с званием камер-юнкера 5-го класса, вместо того, чтобы, по его желанию, определить в армию.
Послали его с депешами в Лондон, но он отдал депеши на почту, а сам определился волонтером на голландскую канонирскую флотилию, вооружившуюся против британского флота. Самозванца-воина схватили и отправили к миссии нашей в Стокгольм. Здесь он так проказничал, что был выслан в Петербург.
Фельдмаршал Прозоровский определил его подпоручиком в армейскую артиллерию и отправил в Молдавию. Князь подчинился уму фельдмаршала Каменского, чтил его, как кумира, повиновался ему, как ребенок, но когда, по смерти Каменского, занял место главнокомандующего Кутузов, Меншиков отказался от службы под командою человека, которого не уважал, — и перешел, кажется, в Преображенский полк.
И этот-то характер не устоял против растлевающей силы придворной атмосферы. Когда отец уведомил его, что нашел ему невесту, и просил приехать посмотреть ее, философ века XVIII писал в ответ: «Мне нечего смотреть; я женился бы и на козе, если у нее золотые рога и она может родить Меншикова». Эта невеста, графиня Протасова, владелица 7000 душ и массы бриллантов, была толстая, красная, безобразная женщина, ума ограниченного и без всякого образования. Ученость ее заключалась в твердом знании святцев и житий святых; беседы ее ограничивались разговорами с монахами и богомолками; деятельность — посещением церквей и монастырей и благотворительностью к бедным, к странникам и к юродивым. Меншиков ужаснулся вида своей невесты, однако не отказался от нее; на увещевания друзей он отвечал, что будущая супруга его — мешок, который он выбросит, вынув из него наследника.
На свадебном бале, стоя с молодою у буфета, он заметил одной даме: «Не находите ли вы, что я похож на пилигрима в Мекку с его дромадером?» Все эти выходки составляли, по-тогдашнему, верные признаки вольнодумца, который был в большой моде; Меншикова отзывы переходили через все уста. Он, прекрасной наружности, тончайших аристократических приемов, сделался предметом общего удивления, и в нем нашло первую пишу честолюбие, таившееся в душе его.
Возмездие не заставило ждать себя. Молодая княгиня, гордясь своим прекрасным, умным и чтимым супругом, забыла монастыри и богомолок; она жаждала случая показаться в свете рядом с изящным кавалером; наряжалась без вкуса, и чем более наряжалась, тем была безобразнее. Самолюбие князя страдало; он употреблял все средства своего ума, чтобы заставить жену сидеть дома; но ум его оказался бессилен урезонить женщину, успевшую сделаться суетною и начинавшую делаться ревнивою. Безуспешность усилий князя возбудила в нем досаду, высказывавшуюся в тонких сарказмах, но простодушная княгиня не понимала тонкостей, и оттого князь становился еще более смешным в глазах общества.
Раз вздумалось княгине участвовать в большом костюмированном бале, на который ожидали весь двор; для князя было вопросом жизни, чтобы княгини не было на бале; но когда его красноречие не подействовало на княгиню, он в насмешку сказал ей, что если она непременно хочет костюмироваться, то самый приличный для нее костюм — Жанны д’Арк. Толстая сутуловатая княгиня последовала совету и явилась Орлеанскою девою. Насмешки, по человеческой нелогичности, посыпались не на виновницу, а на ее мужа.
Ревность княгини возросла между тем до такой степени, что она прибегала к ворожеям и к талисманам; насовала тайком в карманы своего ветреного супруга каких-то корешков и пр., которые посыпались из кармана князя за носовым платком. Мало-помалу распри супружеские дошли до того, что князь, живший в особом уже доме, но еще сообщавшемся с домом жены коридором, велел заложить кирпичом вход в коридор, — и с тех пор супруги, у которых были уже сын и дочь, более не видались.
Между тем открылась князю высокая карьера. Он ездил постоянно с государем, — не выходил, как говорили, из коляски государя десять лет; поглощенный интригами Аракчеева и Дибича и заботами о сохранении царского благоволения, он, разумеется, не имел времени думать о воспитании детей своих.
Воспитание русское и по сию пору есть не более, как дрессура для салонных аллюров, а в то время, особенно в Москве, оно было еще хуже. В Петербурге родители-вельможи редко виделись с детьми, нанимали им гувернеров, гувернанток, учителей и наставниц. Учителя учили пению и игре на фортепиано и на арфе детей родителей, не умевших петь и не понимавших музыки; учили их наукам, которым отцы и матери не учились, но петербургские вельможи отлично говорили по-французски, понимали правильность английского произношения и прекрасно танцевали. За этими предметами они и наблюдали строго, и дети их, обладая объемом познаний, как у французского и английского мужиков, вместе взятых, — были ловки и приветливы. В Москве главное дело было в том, чтобы были в доме французы, француженки и англичанки; а что они делали — это все равно. Чистейшим выражением такого педагогического типа был дом княгини Меншиковой. У князька был гувернером и наставником месье Вуазон, который ничего не делал; учителя русские — подешевле — столько же делали, и не из лености, а из страха не понравиться баричу, потому что одной жалобы барича было довольно, чтобы прогнать учителя.
Для прислуги и практического развития мальчика даны ему, по обыкновению, трое или четверо мальчишек из крепостной дворовой челяди, лошади маленькие, кучер — мальчишка. Князек, разумеется, предпочитал эту компанию, которую имел право бить по щекам рукою и по спине плетью, — компании старика Вуазона. Тот, правда, проповедовал гуманность, но битые мальчишки были слишком умны, чтобы жаловаться; они за каждый рубец на носу получали подарочки, да и от родителей досталось бы им за жалобу, потому что родители детей, служащих при бариче, пользовались особенным почетом и могли обкрадывать господ более безнаказанно.
Около княжны ходили: гувернантка-француженка, компаньонки англичанка и русская и две-три девчонки.
Странно, до какой степени рутина может заступать место здравого рассудка. Тонкий, прозорливый князь Меншиков только лет пять перед сим увидел нелепость одногодков-лакеев, и то по моей инициативе. Он собирался выписать из Москвы мальчиков для внука своего Коли. По этому случаю я выразил князю удивление, что глупый обычай до сих пор не нашел своей здравой оценки. «Дать ребенку ровесников в лакеи — значит учить его всем мерзостям, — говорил я, — на вашем месте я приставил бы к Коле старика: он не станет ни забавляться с ним, ни учить его шалостям, да и Коля научится смотреть на прислугу снисходительно, не пыряя ее из угла в угол из всякого каприза. Старые люди, напротив того, должны брать прислугу из мальчиков, чтобы не стесняться посылкой их десять раз в день из одного конца дома в другой». Князь, видимо, удивился, что такая простая истина не приходила ему в голову.
Княжна занималась сплетнями в девичьей, гаданьями и чтением вздорных романов. По-английски не говорила ни слова, потому что англичанка была из московок и никогда не говорила иначе, как по-русски. Княгиня не только не замечала, как воспитывают ее дочь, но и не находила нужным смотреть за этим. Весь комплект учителей, наставников, компаньонок — нанят; следовательно, долг родительский исполнен; все эти господа и госпожи берут большое жалованье и беспрестанно капризничают и грозят оставить место, — следовательно, хороши. В этом убеждении княгиня вновь отдалась богомолкам, юродивым; благотворила подаяниями в пользу монастырей, и благотворила до того, что описали ее имение и чуть не посадили в тюрьму.
Когда сыну минуло 16 лет, привезли его в Петербург, чтобы отдать в Пажеский корпус. Князь вообразил себе всю ученость и образованность юноши в самом розовом свете. Сделал ему вопрос из истории, нехитрый, вроде того, кто был Юлий Кесарь. — Не знает. Вопрос из географии: какой главный город Швеции? — Не знает. Написал две дроби для сложения — не умеет! Стал диктовать сыну. Этот написал каракули совершенно без орфографии. Заставил читать. Спотыкается, как по вспаханному полю в сумерках. Любовь к изящному изобразилась в юноше коллекцией ямских уздечек и кнутов. Доблести, которыми он хвастался, заключались в вымыслах о страшных побоях ямщиков, которых он никогда не бил.
Опять возмездие! Отчаяние в сердце и забота о помощи. Отыскали в Пажеском корпусе Жирардота, отдали юношу к нему для образования за огромные деньги, — и опять тем и кончилось попечение о сыне. Впрочем, он принят в корпус, стало быть, дело в порядке, но через год не перевели его в следующий класс. Пришлось выходить в армию. Опять дорогие учителя, они втерли его в артиллерию, а отсюда артиллерист переведен в лейб-гусары. Когда Бенкендорф взял гусара в адъютанты, безграмотность выплыла снова наружу. С этих пор до настоящей минуты жизнь моего старика, князя Меншикова, представляет непрерывную цепь страданий и унижений ввиду невежественного сына.
— Боже мой, Боже мой, — говорил мне часто князь, судорожно потирая рукою грудь над сердечною полостью. — Я не сумею вам высказать, как я страдаю, видя, что у моего сына нет ни капли дворянства.
Дочь вышла еще лучше. Я получил от нее записочку[4] в следующей форме, написанную самым невозможным почерком:
Эта записка есть все-таки выражение ее наименьших недостатков. Князь был в постоянной насильственной переписке с нею; она награждала его через день ругательными письмами. В первое время эти отношения не волновали его. Занятый своим расшатавшимся политическим положением, утешаемый приращением своего капитала, он со смехом, хотя и горьким, прочитывал послания своей Лукреции Борджиа, но вот рушится его политический эшафодаж, и в это же время доходит до его сведения, что Вадковская в долгах и что ее сажают в тюрьму. Поневоле, из опасения скандала, пришлось заплатить несколько десятков тысяч.
Испытав брешь и в честолюбии, и в своих капиталах, князь теряет скептицизм. Он чувствует себя одиноким и в свете и в семействе; я один остаюсь ему верен и еще несколько человек; но я один был так близок и так деятелен в смутные его минуты, что он вверяется мне безгранично, после того, что всю жизнь свою не вверялся никому ни на волос. Во всем его роде был один представитель его потомства, Вадковский; он, так сказать, купил его у дочери своей, учредил в его пользу майорат из 40 тысяч десятин и полюбил его с нежностью, доходившею до смешного. Коля Вадковский умирает, унося с собою и развлечения старика, и его надежды на продолжение своего рода. Он так любил этого мальчика, что возненавидел сына своего за то, что тот не любил Колю. Один раз, после обеда, сел он против меня, протянул ко мне обе руки и сказал мне умоляющим голосом:
— Константин Иванович, будьте покровителем моего бедного Коли! — И заплакал.
Князь хотел назначить меня опекуном своего внука, но я на это не согласился; я не хотел вступать в дела с его дочерью, которую сам отец не называл уже иначе, как cette femme infernale — эта несносная женщина. Тогда он решился в завещании своем возложить на меня власть и обязанность определять наибольший предел суммы, которую дворянская опека могла разрешать расходовать для Коли. Он оставлял ему все свое благоприобретенное имущество. Я уговорил его на два исключения: во-первых, оставить Коле деньги, не называя суммы, кроме находящихся в московской конторе, и, во-вторых, завещать библиотеку не Коле, а Московскому Университету. Я уговаривал его не оставлять Коле денег свыше 50 тысяч рублей, но князь прислал ко мне фондов на 100 тысяч талеров. Мы условились, что деньги я буду хранить у себя без всякой расписки в их получении. После каждого неблагосклонного отзыва князя Владимира о Коле, князь приносил мне новые фонды, которых накопилось до 350 тысяч рублей, а с теми, которые я приобрел на проценты с них, они представляли сумму до 400 тысяч талеров. Я клал их в банк на имя князя, но до моего востребования, кроме 18 тысяч рублей, которые положил на свое имя.
Со смертью Коли все эти распоряжения лишились своего смысла; я возвратил князю деньги; недели две князь находил развлечение в исследовании моих счетов и расчетов, но потом наступила могильная тишина в его сердце, и он, видимо, страдал и скучал жизнью. Дорого платил он за насмешки над семейными узами! Теперь он искал и не находил их.
Сын его, вообще неспособный наполнить пустоту его жизни, был с ним часто непочтителен. Жена сына, умная, но холодная женщина, не сходилась с тестем в образе жизни и потому гораздо менее доставляла старику развлечений, чем разных лишений. Он кидался во все стороны, останавливался то на племяннице, то на внучке, но боялся нового, не ясного ему источника неприятностей, и оставался один, читал, читал, пока глаза не отказались от службы.
Оклеветанный в Крымскую войну, выброшенный из службы, в опале царской, он помнил, однако, свою популярность в Москве, видел, что и государь не решался трактовать его иначе, как старейшего генерала и государственного мужа; он знал, что его не любят, однако был уверен, что никто не посмеет приблизиться к нему иначе, как с глубоким уважением.
Характер, который придан судебной реформе нашими юными нахалами, отнял у старика и это последнее утешение. Вследствие письма, писанного им лет за десять к князю Трубецкому, где он сообщал ему слухи, будто любовница внука Трубецкого взяла с собой за границу беременную бабу, — судебный следователь очень бесцеремонно вызвал князя к допросу под присягою, полагая, что равенство перед законом в делах судебных значит равенство гражданское в смысле принципов 1789 года. Напрасно объяснял я князю, что это обряд, который не может кидать тени на честь его, а скорее бросает тень на судей; князь соглашался в уме с моими доводами, но не мог усмирить волнений сердца.
Несмотря на все смягченные формы, по выходе следователя и священника из кабинета князя люди нашли его лежащим на полу в бесчувственном состоянии. С этой минуты он постоянно был болен, ослабевал, слег, и вот уже вторая неделя, как он мучается агонией. В краткие светлые минуты он изъявлял удовольствие, только когда меня видел; только мне вверял свои задушевные мысли, всего чаще повторяя: «Я боюсь приезда госпожи Вадковской».
Четвертого дня в последний раз показал он, что узнал меня; бредил об аксельбантах, смеялся или лежал замертво, но когда я подошел к нему близко, он проговорил слабым голосом: «Крайняя слабость». Это было его прощальное слово; с тех пор он не узнает меня или не обращает на меня, как и ни на что, внимания. Думал ли так умирать князь Меншиков, любимый генерал-адъютант двух императоров, счастливый во всем и гордый до такой степени, что был равно вежлив с первым вельможей и с последним из своих писарей. Бедное человечество!
Наконец Бог прекратил страшные страдания две недели умиравшего старика. Эта агония не есть ли доказательство, что в больном старце был еще большой запас сил. Его залечили!
Года за три нервный удар, первое memento mori, последовал за шестидневным запором. С тех пор князь постоянно хлопотал только о том, чтобы каждый день был у него обильный стул; принимал ревень, алоэ, горькую воду, словом, все, что продавалось в аптеках, и наконец расстроил совершенно желудок. Я посоветовал ему принимать мармелад из слив с александрийским листом по рецепту известного кетенского доктора Гауке. Мармелад действовал, как выражался князь, с точностью часов, но действие его оказывалось через 12 часов после приема. В последние месяцы у князя не было уже терпения ждать 12 часов; он брал мармелад два-три раза в день, а через 12 часов действие наступало с такою силою, что князь брал опиум.
В этом-то положении, требовавшем во враче противника лекарств, князь вздумал взять Гемилиана, содержателя гальванических приборов. Гемилиан напихал в него столько пилюль, микстур и бальзамов, что у князя сделался понос с лихорадкою, продолжавшийся более месяца; от расслабления сил приготовление крови сделалось ненормальным; кровь шла и пузырем и кишками, а лихорадка между тем делала тоже свое дело.
Замечательно было лечение Гемилиана с Экком, которому платили 25 рублей за визит. Они давали князю хину от лихорадки, а так как хина губила желудок, то давали и соляную кислоту для подкрепления желудка, — как будто тело человеческое есть дом с отдельными комнатами, где одну комнату топят, чтобы нагреть, а в другой, слишком теплой, открывают форточку, чтобы освежить.
Я настаивал на перемене доктора. Князь и сам убедился в неспособности Гемилиана, однако отвечал мне: «Я бы не хотел его обидеть!» — и остался при нем. «Этот отзыв выражает всю личность князя», — сказал граф Армфельт.
Истратив миллион на платежи долгов Вадковской, истратив его поневоле, единственно в предупреждение скандалов, князь Меншиков копил в сердце чувство ожесточения; предвидя исход последней болезни, он, казалось, вспомнил обо всех оскорблениях и огорчениях, вынесенных им от дочери, и спешил составить завещание, чтобы сказать в нем, что он ничего не оставляет дочери; он успокоился не прежде, как по вручении мне завещания, с которого копию отдал сыну. Сын опасается теперь сцен на могиле отца; в том же опасении я нашел вынужденным объявить, что в моих руках завещание, которого содержание мне неизвестно — я его вскрою после похорон. Князь, отдавая мне завещание, сказал: «Она меня проклянет!» Когда я заметил на это, что проклятие это похоже будет на анафему тех, кто ездит с дышлом, князь с улыбкой отвечал: «Не с дышлом, а об одной оглобле».
Вежливость и умные речи не уменьшались до самой той минуты, когда он закрыл глаза и перестал владеть языком.
На первую панихиду ожидали государя, но государь захворал, и затем никого на панихиде не было. Грейг, креатура князя, превзошел всех; он приехал, но, видя, что нет никого из знати, — уехал! Что за мерзость!
Э. И. Герстфельд рассказывал мне свои служебные похождения. В министерстве путей сообщения, при министре Мельникове, вырабатывался проект положения об употреблении обочин железных дорог и полиции прилегающих местностей. Работали много, соображали и уравнивали с иностранными правилами, судили в министерском совете и представили министру. Министр снова сообразил, исправил и внес в Государственный совет; здесь К. В. Чевкин взял перо, перемарал проект по-своему, изменил его до основания и представил в соединенные департаменты законов и государственной экономии, пригласив Мельникова и двух его мудрецов, Кербедза и Дельвига. Эти три авторитета аплодировали новому проекту, и департаменты утвердили его. Проект перешел в общее собрание, и тут только увидал Герстфельд, что проект совершенно переделан и никуда не годится. Герстфельд отправился к Мельникову и объяснил ему всю нелепость новых изменений.
— Вы совершенно правы, — отвечал ему министр, — но бросьте это, советую это вам; вы знаете Чевкина, он скорее умрет, чем откажется от своих мыслей; он взбесится. Какая вам охота соваться? Он измелет вас в муку. Бросьте, Эдуард Иванович, пожалуйста, бросьте! Бог с ними!
Герстфельд не убедился министерскою философией: отправился к графу Строганову как председателю Главного общества железных дорог, доказывал ему всю вредность предположенных Чевкиным правил.
— Некогда мне, Эдуард Иванович, — сказал Строганов, — право, некогда; устраните меня от этого; я вам советую переговорить с Чевкиным.
Поехал старик к Чевкину.
— Эдуард Иванович! — возразил ему политэконом. — Мы вместе служили; я вам всегда оказывал уважение и обращался с вами как с другом, — а вы всегда против меня.
— Из чего заключаете вы, — отвечал Герстфельд, — что я против вас, если я стараюсь предупредить ошибки, которые скажутся на деле, о которых узнает вся Россия и в которых вся Россия будет вас винить, — разве это значит идти против вас? Я не того мнения, я буду говорить в Государственном совете, в убеждении, что это будет полезно и железным дорогам, и вам.
— Хорошо, подайте мне записку, — кончил Чевкин тоном сановника, принимающего челобитную.
Герстфельд послал записку ему и Строганову. По докладе дела в общем собрании Герстфельд встал и заявил совету, что он имеет многое заметить насчет этого проекта, о чем уже и объяснился предварительно с Чевкиным. Эта неловкая придаточная фраза поворотила все дело: барон Модест Корф обиделся, что Герстфельд объяснялся с Чевкиным, а не с ним, председателем департамента законов и соединенного присутствия этого департамента и департамента государственной экономии. Он объявил, что дело это было рассмотрено им со всевозможною тщательностью, что ввиду технической специальности вопроса он пригласил в соединенное присутствие первые российские авторитеты и решился пропустить проект на основании единогласного одобрения его этими авторитетами, но что и генерал Герстфельд в его глазах есть авторитет; что он не имел случая слышать его отзыв и потому просит возвратить проект в соединенное присутствие для нового обсуждения с участием Герстфельда. Чевкин отозвался, что он против этого спорить не будет; Мельников — «что если другие на это согласны, то он ничего против этого не имеет».
Проект воротился, Чевкин довольно небрежно объявил в соединенном присутствии, что Герстфельд ничего не сказал нового, что он все сообразил, а отзывы таких лиц, как Мельников, Дельвиг и Кербедз, довольно полновесны, чтобы устранить сомнение в достоинстве положения.
— Я вам дал записку, — заметил Герстфельд, — в которой подробно изложил причины, побудившие меня не согласиться с проектом; я желал бы, чтобы ваше высокопревосходительство удостоили мои замечания специального опровержения.
— Как, вы подали записку Константину Владимировичу? — подхватил оскорбленный чиновник-председатель Корф. — А я не получал от вас никакой записки.
— Я дал записку Константину Владимировичу, — оправдывался скромный Герстфельд, — потому, что он просил меня об этом, и полагал, что его высокопревосходительство приложил ее к проекту.
— Я ничего не получал, — продолжал Корф, — и считаю невозможным приступить к обсуждению дела, не имея предварительно всех принадлежащих к нему бумаг.
Записка была передана, — Корф пристал к Герстфельду, Мельников стал тоже вилять в эту сторону, тем более что в это время уже сделалось известным намерение государя отдать министерство путей сообщения другому, — словом, все нововведения Чевкина забракованы, и проект утвержден в том виде, в каком он поступил в Государственный совет первоначально — благодаря неполитичной придаточной фразе Герстфельда и слухам о назначении графа Бобринского министром путей сообщения.
Именной указатель
Абаза
Абакумов
Авелан
Адлерберг
Александр I
Александр II
Алексей Александрович
Аминов
Андреев
Анна Иоанновна
Апрелев
Аракчеев
Арендт
Армфельт
Архаров
Баговут
Бахтин
Белинский
Белосельский-Белозерский
Бельковский
Бенардаки
Бенкендорф
Берг
Бернадот
Бетанкур
Бехтеев
Бибиков Д. Г.
Бибиков И. Г.
Бларамберг
Блудов
Бобринский А. А.
Богаевский
Богарне
Богданович
Бодиско
Браге
Брискорн
Брок
Бутан
Бутков
Бутурлин
Бухало
Вагнер (Лодон)
Вадковская
Вадковский
Валлен
Васильев
Васильчиков А. В.
Веймарн
Велепольский
Велио
Веригин
Веселаго
Вилламов
Виллье
Виноградов
Войцехович
Волконский
Воронихин
Воронцов
Врангель
Вроченко
Вязмитинов
Гагарин А. П.
Гагарин П. П.
Гагарина
Галич
Галл
Галямин
Гамалея
Гамильтон
Гартман
Гвоздев
Гейден
Герстфельд Э. И.
Герцен
Гец
Глазенап
Голицын
Головнин
Голубцов
Горчаков
Гетман
Грейг
Греч
Григорьев
Громов
Грот
Гурьев
Дашков
Девятин
Дегай
Дегалет
Дельвиг
Депрерадович
Десгрем
Дибич
Долгоруков
Дружинин
Друцкой-Любецкий
Дубельт
Дубенский
Екатерина II
Елена Павловна
Елизавета Петровна
Ераков
Ермолов
Жандр
Желязевич
Жирардот
Заблоцкий
Заика
Закревский
Захаров
Зеленый
Зиновьев
Зотиков
Игнатьев
Искрицкий
Кавелин
Казарский
Калинский
Каменский
Канкрин
Канробер
Каракозов
Карамзин
Карл XIV
Карл X
Карнеев
Кербедз
Кинглек
Киреевский
Киселев
Клейнмихель
Клинковстрем
Клоков
Княжевич
Ковалевский
Колзаков
Комовский
Константин Николаевич
Константин Павлович
Корнилов
Корф
Котен
Краббе
Крафт
Кроль
Крон
Кронштедт А.
Кронштедт К.
Крузеншерн И. Ф.
Крузенштерн А. И.
Крупеников
Крылов
Крюденер
Куприянов
Кутайсов
Кутузов
Лазарев А.
Лазарев М.
Ламберт
Лампе
Лангеншельд
Ланской
Левашов
Левшин
Лихонин
Лобанов
Ломброзо-Каччионе
Ломоносов
Лопухина
Лубяновский
Любецкий
Любощинский
Людовик XVI
Магницкий
Маннергейм
Манычаров
Мария Феодоровна
Марков
Марциновский
Матюшкин
Мейендорф
Мейер
Мелартин
Мелиссино
Мелихов
Мельников
Меншиков
Меггерних
Мечников
Миддендорф
Миллер
Милорадович
Милютин Д.
Милютин Н.
Михаил Павлович
Михайловский-Данилевский
Моллер
Монахтин
Мордвинов
Моро
Муравьев
Мусина-Пушкина
Наполеон
Нелидова
Нессельроде
Николай I
Николай Николаевич
Новосильцов
Норов
Оболенский
Обресков
Овсов
Огильви
Огрызко
Озеров
Опочинин
Ореус
Орлов
Павел I
Панин
Паппенгут
Паскевич
Паулуччи
Перовский
Петр III
Петр I
Петрашевский
Пиль
Пирогов
Плисов
Позен
Потоцкий
Прозоровский
Пустошкин
Путятин
Пушкин
Разумовская
Рамзай
Ратманов
Ребиндер
Рейтерн
Римский-Корсаков
Розенберг
Рокасовский
Романов
Ростовцев
Рунич
Саклен
Сенявин
Серебряков
Соловьев
Сперанский
Строганов
Суковкин
Cуковкины
Суслов А. И.
Сухозанет
Сухтелен
Сущов
Теслев
Толь
Тон
Тотлебен
Уваров
Урусов
Фукс
Христовский
Хрущов
Чевкин
Чернышев
Шереметев
Штиглиц
Штрикер
Шувалов
Энгельгардт
Эггер
Языков
Якобсон
Якушкин
Примечания
1
Была еще Овцова, вызвавшая государя на экспромт, но, во всяком случае, это не жена камердинера. Овцова вышила подушку с изображением овцы и поднесла ее государю с приколотыми стихами: «Я вышила овцу и подношу отцу, из самых тех причин, чтобы мужу дали чин». Государь отвечал ей: «Хоть я народу и отец, но чинов не даю за овец».
(обратно)2
Как вы смеете!
(обратно)3
Клейнмихель сделался сумасшедшим, и Петербург не имеет пищи (игра слов на фамилиях Толя и Эссена).
(обратно)4
Я с сокрушенным сердцем видела издали моего бедного отца, все, чего бы я хотела, это получить его благословение. Помогите мне в этом, как старый друг Александры Вадковской.
(обратно)
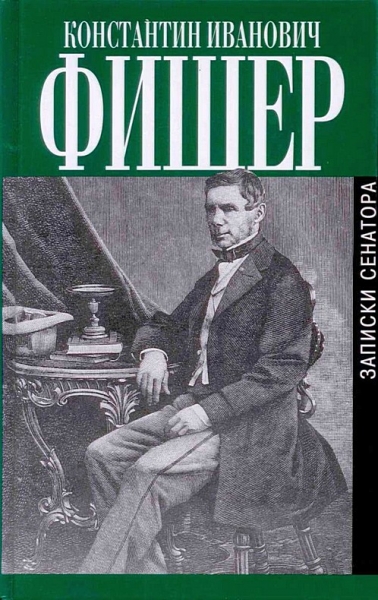

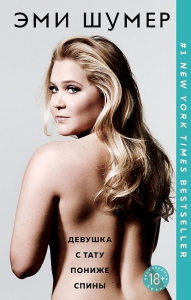

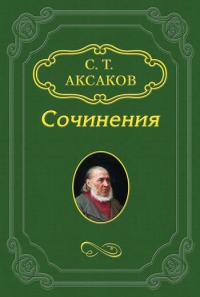

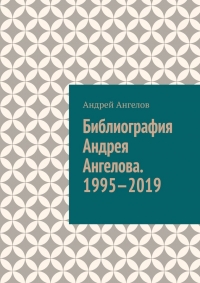

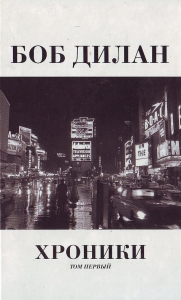
Комментарии к книге «Записки сенатора», Константин Иванович Фишер
Всего 0 комментариев