Георг Брандес Бальзак
Il peignit l\'orbre da côté des racines,
Le combat meurtrier des plantée assassinés
Victor Hugo: La légende des siècles.
Миновали революционные перевороты и войны империи, сменившиеся общим утомлением в правление Людовика XVIII. В это время вышло на сцену новое поколение, которое с редким увлечением посвятило себя, делу высшей культуры, столь долго бывшему в забвении. В эпоху революции и Наполеонова владычества у молодежи были другие дела на руках кроме забот о возрождении литературы и искусства своей страны. Лучшие силы нации были отвлечены в сферу политики, военной службы и администрации. Теперь обильный запас их стал снова свободен.
Период реставрации и июльской монархии можно охарактеризовать как период появления буржуазии на историческом поприще. Начинается эпоха промышленная.
Во Франции это явление объясняется тем, что новый раздел национальных имуществ, совершенный революцией, который Наполеон отстаивал с оружием в руках против целой Европы, и связанная с ним свобода ремесел и торговых сношений начали приносить свои плоды. Монополии и привилегии рухнули, а разделенные на части имущества церковные и монастырские, раздробленные и проданные майораты и поместья эмигрантов – перешли в руки многих собственников. Пущенный в оборот капитал сделался стимулом общественной деятельности и целью стремлений отдельных лиц. После июльской революции мало-помалу богатства заменили собою знатность рода и значение их даже стало выше власти короля. Люди богатые стали получать дворянство, звание пэра и при помощи конституции эксплуатировать королевскую власть в свою пользу. Погоня за деньгами, борьба из-за денег, затрата капиталов на крупные промышленные и торговые предприятия стали преобладающими явлениями того времени. И эта прозаическая деятельность так резко противоречила революционному и воинственному одушевлению прошлого века, что поэты и художники в ужасе отшатнулись от мелких стремлений и интересов своих современников. Это и было отчасти причиною, почему поэзия той эпохи носит на себе печать романтизма, то есть отчуждения от окружающего мира. Стали искать и нашли поэзию в эпохе доисторической, на чужбине, или, как бы забыв действительность, создавали в воображении иных героев иные идеалы.
Только один из поэтов, появившихся около 1830 г., не почувствовал в себе отчуждения от своего века. Напротив, он смело избрал героем своей эпопеи только-что народившуюся силу, нового властелина дум – капитал. Это был Оноре де-Бальзак.
Десятилетие, в средине которого стоял 1830 г., в отношении художественного творчества было эпохою скудною и бесцветною. Главное событие его – июльская революция, но и она не более как кровавое пятно на сером фоне. В правление Карла X три клерикальные министерства не столько были стадиями в ходе исторического развития, сколько разными тонами арии: allegro; andante и allegro furioso. Королевская власть до такой степени утратила популярность в народе, что весть об единственном военном подвиге того времени, завоевания Алжира, пришедшая как раз перед падением династии, была принята холодно, а сильная в то время оппозиция встретила ее даже печальным приветом.
При Людовике Филиппе настало мирное время, господство зажиточных средних классов, во время которого Франция не раз играла унизительную роль в иностранной политике, а правление было лишено всякого блеска и величия. Короче сказать, в сравнении с эпохою минувшею, величавою, хотя полною ужасов, эпоха настоящая с художественной точки зрения была неинтересна и бесславна. Господство монахов сменилось господством буржуазного короля. Нечего и удивляться, если на таком сером фоне, на котором невидимая рука начертила прозаические слова: «juste milieu», возникли литература и искусство – пламенные, бурные, боготворящие страсти и красные призраки.
Поэты того времени еще в детстве слышали о великих событиях революции, пережили времена империи и были сынами героев или жертв. Матери зачали их в эпоху бурную, в промежуток двух войн, и гром пушек приветствовал их появление на свет. Случилось так, что для новых адептов искусства было лишь два рода людей – пылкие юноши и старцы. Они мечтали об искусстве, в котором на первом плане была бы кровь, яркий свет, движение и отвага. Они глубоко презирали литературу и искусство, господствовавшие дотоле, сухо-правильные, бесцветные. Все вокруг них в современном мире казалось им лишенным поэзии, грубо-утилитарным, чуждым гения. Они желали заявить свое пренебрежение к действительности и стали к ней спиною, чтобы сколько можно энергичнее выразить свою вражду к сухим правилам, однообразию и буржуазии.
В то время, когда возникла романтическая школа, лишь один начинавший поэт чувствовал себя если не совсем привольно в этой среде, то все-таки как бы в своей родной сфере. Он с самого начала смотрел на современников и на предыдущее поколение как на почву для своего художественного творчества, как на свой материал и неистощимую сокровищницу. И этот единственный поэт был Бальзак.
I
В роскошной Турени, в этом «саду Франции», – стране, произведшей на свет Рабле, – родился весною 1799 г. и Оноре де-Бальзак, натура необыкновенно богатая, полная сил, с горячею кровью и изобретательная. В одно и то же время грубый и нежный, суровый и чувствительный, способный к мечтательности и к зоркому наблюдению, он соединял в своем сложном духовном организме способность глубоко чувствовать с талантом гениального созерцания, серьезность исследователя с причудливостью веселого рассказчика, дар изобретателя с наклонностью художника изображать в неприкрытой наготе форм то, что он наблюдал, прочувствовал, открыл и создал. Он был как бы создан для того, чтоб отгадывать и разглашать тайны общества и всего человечества.
Крепкого сложения, среднего роста, широкоплечий, угловатый, с летами склонный к полноте, он был наделен толстою шеей атлета, белою, как у женщины, черными волосами, жесткими, как лошадиная грива, наконец взором отважным, как у укротителя львов. Глаза его сверкали как два алмаза и, казалось, видели сквозь стену, что делается в домах, и читали в сердцах людей, как в открытой книге. Это был истинный Сизиф труда.
Бедным, одиноким юношею пришел Бальзак в Париж, влекомый неодолимою страстью к литературе и надеждою составить себе имя. Отец его, как и все отцы, был недоволен тем, что сын, за которым никто не признавал особенных талантов, предпочел юридической карьере литературную, и поэтому он почти вполне предоставил его самому себе. И вот он сидел на своем мрачном чердаке, беспомощный, в холоде, закутавшись в плед, с кофейником с одной стороны стола и чернильницей с другой. Он смотрел на кровли домов громадного города, который ему суждено было впоследствии не раз изображать и обратить в свое духовное достояние. Вид из окошка был не обширен и не красив: обросшие мхом кирпичи, то освещаемые солнцем, то омываемые дождем, водостоки, печные трубы и дым. Комната была неудобна и некрасива. Холодный ветер дул в двери и окна. Мести пол, чистить платье, делать нужные покупки по самой дешевой цене – вот те занятия, которыми должен был начинать свой день молодой поэт. А между тем он обдумывал уже большую трагедию «Кромвель». Развлечением служила прогулка по соседнему кладбищу Père Lachaise, откуда все любуются Парижем. С этих холмов молодой Бальзак (как впоследствии его Растиньяк), меряя глазами громадный город, мысленно давал себе слово, что рано или поздно там будут произносить его пока еще безвестное имя и прославлять его. Трагедию он вскоре оставил, – дарование его было нового закала, любило лишь конкретное. Поэтому он не мог мириться с безжизненными правилами и отвлеченностями французской драмы. Кроме того юному отшельнику, который как бы в виде испытания ушел из отцовского дома, нужно было как можно скорее завоевать себе независимость. Он принялся писать романы. Правда, он ничего не пережил, что могло бы дать прочную основу и истинную цену его произведениям, но он обладал живым, необычайно плодовитым воображением, довольно много читал и мог дать своим созданиям приличную форму, свойственную этого рода литературе. Уже в 1822 году он издал под разными псевдонимами пять таких романов, а в 1823–1825 годах их вышло еще больше. При всем своем самолюбии он не превозносился ими, а смотрел на них чисто с финансовой точки зрения. В 1822 году он писал сестре: «Не посылаю тебе романа „Birague“ потому, что это – просто литературное cochoimerie… В „Jean Louis“ найдешь ты несколько забавных шуток и некоторые характеры, но план целого неудачен.
Единственная заслуга этих произведений, милая моя, заключается в том, что они принесли мне тысячу франков. Впрочем эта сумма дана мне долгосрочными векселями. Заплатят ли ее?» – Кто прочел хоть два из первых произведений Бальзака, тот не признает этого приговора слишком строгим.
В них есть некоторая verve – вот все, что можно сказать о них хорошего.
Но весьма сомнительно, чтобы когда-нибудь та единственная заслуга, которую Бальзак признает за ними, была значительна и существенна. И мы думаем так не потому только, что Бальзак в своих романах изображает в невыгодном свете издателей, награждающих его векселями [1] , – нет, мы знаем, что он в 1825 г., доведенный до отчаяния своим стесненным положением, вдруг решился на время оставить литературу и зарабатывать хлеб книжною торговлей и типографским делом.
И вот он, мозг которого неутомимо создавал всякого рода планы, напал на мысль – приняться за издание классиков, каждого в одном томе. Он был убежден, что подобными изданиями, тогда еще неизвестными, можно сделать выгодный оборот. Это предприятие, верное по основной мысли, имело ту же судьбу, как и все позднейшие коммерческие спекуляции Бальзака: оно обогатило других, а виновнику принесло лишь убыток. То же самое случилось, когда он в 1837 г. в Генуе, обрмененный массою долгов, случайно вспомнил, что римляне далеко не разработали тех серебряных рудников, которые они открыли на острове Сардинии. он сообщил свою мысль одному генуэзцу и решился продолжать это дело. В 1838 г. он предпринял трудную поездку на остров, потребовавшую много времени, с целью исследовать шлаки в рудниках, нашел все так, как предполагал, и стал хлопотать в Турине о дозволении на разработку копей. Но оказалось, что генуэзец уже раньше успел выхлопотать дозволение и теперь шел верным путем в обогащению. Конечно, многие из спекуляций, постоянно возникавших в деятельном уме Бальзака, были несбыточны, но и тут все-таки обнаруживался его гений. Гёте был как бы особою природой в природе, так что, случайно бросив взор на пальму, он открыл тайну метаморфозы растений, а увидавши полураспавшийся череп овцы, он положил основание философической анатомии. Так и Бальзак и в малом, и в великом был изобретателем и всюду открывал неведомое другим. Подобно вдохновенным людям средних веков, он наперед знал, где спрятаны сокровища. У него был и волшебный жезл в руке, который сам собою опускался над золотом, безымянным, бесстрастным героем его произведений. Правда, ему не удалось добыть сокровищ, – он был чародей, поет, но не практический деятель.
Уже и в первом случае его замысел был так же заманчив, как и широк. Он хотел быть в одно время и словолитцем, и типографщиком, и книгопродавцем. Он написал даже введение к своим изданиям классиков и с жаром принялся за выполнение прекрасного плана. Бальзак уговорил своих родителей уступить ему значительную часть имущества на его предприятие. Ему удалось устроить словолитню и типографию, где и были напечатаны отличные иллюстрированные издания Мольера и Лафонтена. Но французские книгопродавцы дружно вооружились против нового соперника, не хотели распространять его изданий и спокойно ждали их фиаско, чтобы потом самим воспользоваться его идеей. Через три года он принужден был продать с большими убытками и свои книги на вес, и свою типографию. Поэт сам в этом случае пережил муки своего несчастного, хотя и изобретательного, типографщика, Давида Сешара, в романе «Eve et David». Из этого кризиса он вышел не только бедняком, но еще с такими долгами на шее, что всю свою жизнь трудился без отдыха, чтобы завоевать себе независимость и воротить состояние матери. Но долги, которые ему нечем было погасить кроме литературных заработков, расти как лавина, так как он долгое время мог только погашать один заем другим. Таким-то образом познакомился он с парижскими ростовщиками разного рода, которых он так мастерски изобразил в Гобсеке и других родственных типах. А слова: «Мои долги, мои кредиторы!» – стали с этих пор постоянным припевом его бесед и даже интимных писем; в них-то и выражаются трогательно-сердечная теплота и задушевность человека, постоянно преследуемого. «Угрызения совести, – читаем мы в одном его романе, – не так ужасны, как долги, ибо они не могут ввергнуть человека в долговую тюрьму».
Спустя несколько лет он познакомился с тюрьмою хотя на короткое время. А как часто он вынужден был иметь во нескольку квартир, менять свое местопребывание, чтобы спастись от неё, и сообщать фальшивые адресы своим корреспондентам. Для поэта долги были вечным источником душевных волнений, неотступным побуждением в труду и творчеству. Мысль о них рано пробуждала его от сна и он видел всюду ужасные призраки. Он принялся работать с исполинским усилием, и работал не покидая рук в течение всей своей юности и зрелого возраста, пока, всего 50 лет от роду, не пал мертвым, от чрезмерного напряжения сил, разом, как бык, убитый на арене. Творчество доставляло ему мало наслаждения, а было, напротив, тяжелым трудом. Дело в том, что неутомимое воображение постоянно побуждало его к созиданию новых произведений, а между тем ему не легко было воплощать их в изящную форму, – у него от природы не было, да и не успел он выработать себе способности легкого изложения. В уменьи владеть языком он не мог равняться с романтическими поэтами. Бальзак не мог написать ни одного мелодического стихотворения (те, которые встречаются в его романах, принадлежать другим: г-же де-Жирарден, Теофилю Готье, Шарлю Бернару, Лассальи). Но не кто иной, как он сам был автором того обильного зияниями стиха, над которым так много смеялись. Этим стихом его Луи Ламберт начинает свою эпопею из истории Инков:
O Inca! о roi infortuné et malheureux!
Поэт, написавший много романов под разными псевдонимами и впоследствии отрекшийся от них, прежде чем усвоить себе вообще известный слог, выдержал жестокую и упорную борьбу, силясь овладеть французскою прозою. Юные романтики, последователи Гюго, долго не хотели признать в нем истинного художника, и это было тернием на его жизненном пути. Готье, обладавший тонким чутьем и признававший его талант, был единственный писатель, порадовавший его своим уважением. Но изумлению Бальзака не было границ, когда он видел, как молодой Готье, без всякой подготовки и затруднения, без малейших поправок писал статьи, прекрасные по форме и по содержанию, просто на конторке в типографии. Сначала он думал, что у Готье статьи уже готовы в уме, но потом убедился, что для искусного изложения мыслей требуется врожденный талант, которого у него нет. А как он трудился, чтобы приобресть эту способность! Как он указал Готье, когда вполне выработалась пластическая и художественная сторона его слога! Доказательства этому можно привести и из такого позднего времени, как 1839 г. В изображении главных женских типов своего романа «Béatrix» Бальзак почти слово в слово заимствует целые выражения из статьи Готье, появившейся годами двумя раньше (об актрисах мадемуазель Жорж и Женни Колон). Сравните сами:
Внимательный читатель заметит, что Бальзаку хотелось усвоить себе и художественную точку зрения Готье, и мастерство в описании, для которого тот употребляет отборные слова. Те выражения, которые Бальзак берет из собственного запаса, отличаются от заимствованного вульгарностью и бедностью. На этом поприще он неизбежно должен был потерпеть поражение. А причина та, что он совсем иначе смотрит на вещи и чувствует. Готье – первоклассный писатель, но, несмотря на свои замечательные поэтические достоинства, как поэт, он холоден, иногда сух; это необыкновенный талант, сфера которого – образовательные искусства, но он ошибкою попал в область поэзии. Напротив, Бальзак, как стилист, писатель второстепенный, но, как поэт, он занимает высшее место. Он не может характеризовать своих героев несколькими меткими словами, потому что они являются перед ним не в одной пластической позе. Его воображение создает личности, и они восстают как живые перед его духовными очами, но он обозревает их не постепенно, но разом, притом видит их в различных костюмах, наблюдает в течение всего их жизненного поприща, видит их в различные эпохи жизни, изучает все их движения и жесты, слышит звуки их голосов. Его внутреннему слуху внятны те речи, которые так наглядно обрисовывают личности, что когда мы слышим их, то последние являются перед нами как живые. У Готье мы находим лишь ассоциацию идей, может-быть и остроумную, но сухую; так, например, сближение с Эгиневою Изидою только иллюстрирует образ. А у Бальзака самый образ слагается бессознательно из бесчисленных ассоциаций идей, роскошный, как сана природа, как живой человек. Образ является цельным существом в физиологическом и психологическом отношении, в силу таинственного сочетания множества материальных и духовных элементов. Едва ли нужно приводить образцы той необычайной способности Бальзака – одним словом, вложенным в уста героев, или жестом, или оригинальностью костюма, домашней обстановки и т. д. в каждый данный момент вызывать перед нами живой образ, – нам пришлось бы наполнить целую книгу выписками [2] . Но Бальзак часто останавливался в недоумении перед теми сокровищами, какие давали ему память или воображение. Часто сочетания идей, лишь для него одного понятные, он силится выразить двумя словами. Так, например, он говорит про невинную женщину, что её ушами «были служанки и уши матери». Или ему хотелось бы весь запас наблюдений и идей, накоплявшихся у него при появлении на сцену известной личности, изложить в последовательном порядке, – и он расплывался в описании, пускался в резонерство. Из этого не выходило ничего ясного, потому что сила, соединяющая поэтические видения с органами красноречия, в душе его была слаба и как бы на время переставала действовать.
И за свою тяжеловатость, которую он и сам чувствовал, он платится громадною массой труда. Сочиняя свои романы, он никогда не имел ни сотрудника, ни секретаря. Отсюда понятно, сколько требовалось самоотвержения и напряжения сил, чтобы в 20 лет написать более сотни больших и маленьких романов и драм, которые с этого момента постепенно возникают в его воображении.
Гюго работает, подобно Рафаелю, окруженный поклонниками и учениками, Бальзак же жил уединенно в своей поэтической мастерской. Он мало спал. Между 7 и 8 часами вечера он ложился, вставал в полночь и работал в белой доминиканской шапочке, подпоясавшись золотою цепочкою, до рассвета, потом, так как натура его требовала движения, сам ходил в типографию – сдать написанное и просмотреть корректуры. Но корректуры эти не были обыкновенные. Их требовалось от 8 до 10 на каждый лист, так как Бальзак не имел дара – точно выражаться и не сразу находил подходящие слова, а равно и потому, что только при переделках его рассказ получал строгую последовательность и он мало-помалу придумывал описания и подробности разговоров. Половину своего гонорара, а вначале иногда и больше половины он платил за напечатание. И никогда никакая горькая нужда не могла заставить его выпустить свое произведение, не обработав его так, как он желал. Бальзак приводит в отчаяние наборщиков, но корректуры мучат и его самого. Первые гранки оттискиваются с большими пробелами между абзацами и с очень широкими полями; но поля эти мало-помалу все исписываются, исчеркиваются разными линиями, и под конец корректура едва-едва не обращается в одно сплошное черное пятно. После этого тяжелая, беспорядочно одетая фигура в мягкой шляпе с сверкающими глазами спешит из типографии домой, и не один человек из толпы, ценя его дарование, робко и почтительно сторонится перед ним с дороги. Опять настают часы труда. Наконец рабочий день заканчивался перед обедом или визитом к красивой и умной даме, или посещением антикварных лавок в чаянии найти там редкую мебель и старинные картины, и только перед вечером окончательно отдыхал неутомимый труженик.
«Иногда, – рассказывает Теофил Готье, – утром он приходил ко мне, охая, усталый, с головокружением от свежего воздуха, подобно Вулкану, убежавшему из своей кузницы, и падал на софу. Долгое сиденье по ночам возбуждало у него аппетит и он делал род теста из сардинок с маслом, которое намазывал на хлеб, и это напоминало ему легкие закуски во время поездок. Это была его любимая закуска. Только что поест, как сейчас же ложится спать, с просьбою разбудить через час. Не слишком заботясь об этом, я берег его сон, столь честно заслуженный, и наблюдал, чтобы в доме не было шуму. Бальзак просыпался сам и когда видел, что вечерние сумерки застилают уже темным покровом небо, то вскакивал и накидывался на меня с бранью, называл предателем, вором, убийцею. По моей вине, – говорил он, – он теряет 10 т. франков, потому что не спи он, он задумал бы план романа, за который получил бы эту сумму (не говоря уже о втором и третьем издании). Я виновник ужасных катастроф и неурядиц. Я помешал ему устроить разные сделки с банкирами, издателями и герцогинями. В старости он окажется неоплатным должником. Этот роковой сон стоит ему миллионов!.. Я же радовался, видя, как здоровый румянец опять играет на его всегда бледных щеках».
Возьмите недавно появившийся библиографический труд [3] ; при помощи его можно проследить работу Бальзака изо дня в день, прочтите его письма и тогда вы увидите, как он, никогда не развлекаясь увеселениями Парижа и не пугаясь нападок своих завистников и критиков, клал твердою рукою камень на камень, чтобы довершить массивный труд своей жизни, и только старался о громадности его размеров. Тогда вы научитесь уважать и этого человека, и его мужество. Добродушный, коренастого сложения, пылкий, Бальзак не был титаном; среди поколения титанов, пытавшихся взять приступом небо, он был существом как бы прикованным к земле. Но он принадлежит к породе циклопов: это был мощный зодчий, обладавший исполинскими силами и этот грубый, стучащий молотом, ворочающий камни, циклоп вознесся с своим зданием на такую же высоту, как и великие лирики – Виктор Гюго и Жорж Занд – на своих легких крыльях.
Он никогда не сомневался в своем изумительном даровании. Доверие к себе, стоявшее в уровень с талантом и выражавшееся наивными толками о себе, но не мелочным тщеславием, поддерживало его в первые трудовые годы. В минуты же душевного расстройства и разочарования, без которых не проходит жизнь ни одного художника, судя по письмам, он находил утешение и счастие у предмета тайной любви. Это была женщина, имени которой он никогда не называл своим друзьям и о которой отзывался всегда с глубочайшим уважением как об «ангеле», как о «светиле нравственном», которая для него была выше матери, выше подруги, – одним словом, выше всего того, чем одно существо может быть для другого. Она поддерживала его среди разных жизненных бурь и словом, и делом, и самоотверженною преданностию. Он, повидимому, познакомился с нею еще в 1822 году и в течение 12 лет (она умерла в 1837 году), как он писал незадолго до её смерти, она умела похищать «у общества, у семьи, у долга, у удовольствий парижской жизни» по два часа в день, чтобы проводить их с ним тайком ото всех [4] . Бальзак, вообще склонный к преувеличениям в изъявлениях любви, несомненно, прибегал к сильным выражениям. Но что заслуживает внимания, так это деликатность чувств у человека, ославленного циником, человеком чувственным, уважение и благодарность, доходящие чуть не до обожания. В этом-то и проявлялась у него истинная любовь.II
Трудно себе представить, что первым его идеалом был Вальтер-Скотт. Великий шотландец имел уже давно поклонников в Германии, Италии и Дании, которые, одушевленные пылким национальным чувством и увлекаясь народными и чисто-нравственными идеалами, стали подражать его романам. Это были Ламотт Фуке, Манцони, Ингеман. В 20-х годах он нашел себе сочувствие и во Франции. Здесь он увлек кружок юных поэтов в особенности теми свойствами, которые не высоко ценились в протестантских странах, своим описательным талантом и возрождением средневекового духа. В особенности же всех прельщали разноцветные костюмы его героев, воротники и шпаги, и романтическая архитектура старых замков. Трезвый взгляд Вальтер-Скотта на жизнь и пуританская мораль, привлекавшие читателей в Германии и в северных странах, здесь, напротив, произвели на молодежь невыгодное впечатление. Его стали упрекать в том, что он не умеет изображать ни женщину, живущую в лицемерном обществе, ни её страстей, проступков и страданий, – искусство, которым впоследствии так гордился перед ним Бальзак [5] . Но Вальтер-Скотту ставили в большую заслугу, что он заменил разговорно-драматическим романом обе прежние формы: повествовательную, в которой названия глав – чистый экстракт их содержания и постоянно выступает личность автора, и форму посланий, где все внезапное, падающее как снег на голову, вложено в тесную рамку между обычными обращениями – «любезный друг» и «преданный тебе».
Во Франции писатель исторических романов мог противопоставит сомнительную нравственность и блестящие пороки католиков мрачным типам кальвинистов в бурные периоды французской истории. Этим он избегал однообразия. Наконец, так как Бальзак, постоянно замышлявший громадные произведения, хотел дать им систематическую стройность, то он и задумал изобразить каждый период истории, начиная с Карла Великого до своего времени, в одном или нескольких романах, которые бы составляли последовательный ряд. Идею, сходную с этой, Густав Фрейтаг выполнил в своем произведении «Предки». Открыть собою этот ряд романов должен был первый роман Бальзака, изданный под его собственным именем, «Les Chouans». В нем изображена война в Вандее во время революции. Другие части задуманного целого – это вышедшие впоследствии произведения «Sur Catherine Medicis» и «Maître Cornélius». В последнем романе Бальзак, соперничая с Вальтер-Скоттом, предоставляет главную роль Людовику XI, к которому, по его убеждению, иноземный поэт был несправедлив. Эти романы не лишены некоторых достоинств и в них живые, основательные характеристики действующих лиц. Тем не менее они показывают, что если бы Бальзак остался верен прежнему поэтическому замыслу – воспроизвести раннюю историческую эпоху, то его значение в литературе того века было бы второстепенное, его просто отнесли бы к числу учеников Вальтер-Скотта.
Он был человек вполне нового времени и потому не мог пристраститься к историческому роду. Его не манили к себе века отдаленные за то он собрал массу наблюдений над окружающим миром и бессознательно выбирал такие сюжеты, при обработке которых ему всего легче и удобнее было воспользоваться своим запасом. Он чувствовал, хотя и не сознавал ясно, что автор исторического романа или должен облечь современную действительность в старинные формы, или спуститься несколькими ступеньками ниже с той фазы развития, на которой он стоит. Но эта задача трудная: изображая времена минувшие, поэты почти всегда рисуют нравы своих современников, во всяком случае – выражают их взгляды. Он не был способен кропотливо собирать материалы в старинных хрониках. Его дело было – изучать жизнь под открытым небом, на почве современной действительности, и с неё рисовать этюды.
«Физиология брака» была первым произведением Бальзака, обратившим на себя внимание. Она написана как бы в pendant в невинной книге Брилья Саварена «La phisiologie du goût». Это на половину шутливый, quasi-научный, постоянно грубый анализ известного общественного учреждения, которое во французской литературе с незапамятных времен служило мишенью для разных острот, предметом всевозможных иронических выходок и беспощадной критики. На него смотрели как на язву общественную. Автор в своем романе не столько отстаивает его, как социальную необходимость, сколько добрыми советами предостерегает людей от опасных увлечений, угрожающих им в этом случае и расстраивающих их согласие, именно от прихотей и страстей. Брак интересен для Бальзака как почва, на которой борются два эгоизма. Он отважно пускается в исследование безграничной области симпатий и антипатий, обнаруживающихся в браке, осматривает и обшаривает все уголки человеческого сердца. Французский брак всегда был учреждением чисто внешним. Что ж удивительного, если Бальзак не благоговеет перед его таинством? Он выражается о нем с Мольеровсвою грубостью, но уже и в этом раннем произведении у него гораздо меньше одушевления, чем у Мольера, потому что в его взглядах больше и пессимизма, и материализма. В произведении этом много остроумия, хотя и грубого, много забавных анекдотов, часто прелестных по контрасту между строго-догматическим тоном доктора брачной науки и пикантностью содержания. Но и при всем том оно прежде всего есть плод раннего разочарования и, конечно, не увлекательно для большинства женщин. Бальзак – писатель с великодушными и благородными чувствами, но здесь их и следа нет, – он здесь поражает лишь даром беспощадного анализа. Но эта книга, обнаружившая яркие свойства его таланта, надолго освежила его организм.
С этого момента его мировоззрение облагораживается или, вернее, делится на два разные – на серьезное и шутливое. Те элементы, которые в «Phisiologie du mariage» были еще нераздельны, именно серьезный взгляд на человеческую жизнь и чувственно-циническое отношение с ней, с этой поры существуют каждый особо, как трагедия и сатирическая драма.
В том же году (1831) он пишет свой первый философский роман «La peau de chagrin», упрочивший за ним репутацию поэта, а романом «La belle impéria» он начинает длинный ряд своих «Contes drolatiques», т.-е. собрание повестей, в роде самых пикантных «contes» времен «возрождения». По духу они родственны с новеллами Боккачио и королевы Маргариты и с анекдотами Брантома, а в языке заметно прямое влияние Рабле. рассказанные новейшим языком, они показались бы пошлыми и грязными, а на наивном языке старины, как бы облагороживающем содержание еще более, чем строгий размер стиха, эти апофеозы чувственности художественны, игривы, как шутки одного из тех монахов светского закала, которые играют роль в рассказах всех народов.
В одном из мастерских прологов к подобным собраниям автор рассказывает, что он в молодости потерял топор – свое наследство – и остался ни с чем. Тогда он, подобно дровосеку в прологе к книге своего дорогого наставника Рабле, стал вопиять в небу в надежде, что там услышат его и он получит другой топор. Но Меркурий бросил ему записку, на которой начертаны были всего три буквы A V E. Он вертел в руках небесный дар так и сяк и, наконец, прочел это слово наоборот EVA. Но что такое EVA? – Что же иное, как не все женщины в одной? Итак, божественный голос говорил автору: «Подумай о женщине, – женщина уврачует твои скорби, наполнит твою охотничью сумку, она – твой бог, твоя собственность. Avé, привет тебе! Eva, о женщина!» Это значило, что ему нужно сумасбродными и забавными рассказами о любовных приключениях заставить смеяться читателя, свободного от предразсудков. И это ему удалось. Никогда еще слог его не достигал такого совершенства и не производил такого сильного впечатления. У самого Рубенса не найдете более смелых штрихов и более ярких красок, не найдете и подобной геркулесовской веселости в изображениях нагих фавнов и пьяных вакханок. Ни один художник речи не поднимался в этом отношении выше Бальзака. Прочтите, например, следующий отрывок из обращения к музе, написанного на радостях по случаю окончания нового ряда новелл:
«Смеющаяся дева, если ты навсегда хочешь остаться свежею и юною, не плачь больше никогда! Подумай лучше о том, как бы не ездить на мухах без стремян, как запрягать твоих хамелеонообразных химер вместе с прелестными облаками, а лошадей обращать в радужные образы, накрывать их попонами из кармазинно-розовых снов, а вместо удил давать им темно-голубые крылья.
Клянусь телом и кровью, курильницею и печатью, книгою и шпагою, лохмотьями и золотом, звуком и цветом, если ты воротишься в пещеру элегий, где евнухи набирают гадких женщин для слабоумных султанов, то я прокляну тебя, лишу тебя ласк и любви, лишу…
Ах! вон она сидит высоко на коне на солнечном луче, сопровождаемая дюжиною рассказов, которые от её смеха рассыпаются воздушными метеорами! Она отражается в их призмах сильная, высокая, так смело бессмысленная, бессмысленно спеша навстречу всему, и ее нужно звать давно и хорошо, чтобы следить за её сиреноподобным хвостом с серебристыми блестками, который она извивает при этой игре. Праведный Боже! Она бросилась вперед, подобно сотне выпущенных вечером на свободу школьников, которые кидаются на садовую изгородь из ежевики. В чорту учителя! Полная дюжина! Праздничный вечер!.. Сюда, ко мне, товарищи!»
Справедливость требует заметить, однако, что едва ли во всех «Contes drolatiques» найдется другой такой длинный отрывок, который бы можно было выписать или прочесть громко.
«La peau de chagrin» – это первая попытка Бальзака помериться с действительностью. Эта книга разнообразная, живая, полная роскошных образов, в которой поэт, как бы забегая вперед, в величавых, но простых символах пытается набросать широкую картину новейшего общества, между тем как его могли вполне изобразить лишь произведения Бальзака, взятые в целом. В фантастическом освещении выставлены здесь в контрастах характеристические моменты из жизни новейшего общества – игорный дом и будуар модной дамы, кабинет ученого и роскошные палаты богача, тоскливая и безнадежная бедность человека, молодого и талантливого, которому не суждено вкусить земных благ, и оргии журналистов и куртизанок, наконец контраст искренности и светских приличий у женщин. Картина набросана смелою кистью и целое произведение состоит из немногих, ярко освещенных, групп, примыкающих одна к другой, но во всем больше философии и символики, чем индивидуальной жизни. Старый тряпичник дает бедному молодому герою, решившемуся на самоубийство, кусок ослиной шкуры, на которую не действует ни огонь, ни железо. Притом у кого она есть, у того все желания исполняются, но за то она каждый раз уменьшается на несколько линий и от неё зависит жизнь владельца. Благодаря изумительному творчеству фантазии, сверхъестественное в этом символическом образе, имеющем глубокий смысл, кажется вероятным. Бальзак сумел придать такую форму фантастическому, в которой оно может мириться с явлениями действительной жизни. Лампа Алладина, если ее потереть, делает чудеса. Она изменяет естественный закон причинности (даже у Эленшлегера). Иное дело – шагреневая кожа: сама она ничего не делает, за то обладание ею доставляет успех в делах, но при этом она постоянно уменьшается, – она как будто состоит из того же материала, который составляет основу нашей жизни. «Человек, – говорит Бальзак, – расходуется на два инстинктивных действия, от которых источники его бытия высыхают. Два глагола выражают все те формы, которые принимают эти две причины его смерти: желать и мочь. Желание нас сжигает, а способность мочь уничтожает. Это значит: в конце концев мы умираем, потому что ежедневно уничтожаем себя. Кожа, подобно нам, тоже уничтожается от нашей способности желать и мочь». Бальзак метко характеризует господствующее стремление целого поколения – познать жизнь во всей её полноте и глубине – и указывает на то, какая душевная пустота следует за исполнением желания и как удовлетворение страстей влечет за собою смерть. «La peau de chagrin» – книга молодого писателя, но блестящая по замыслу и отвлеченно-меланхолическая, как все книги, написанные раньше того, чем поэт прошел долгий путь жизненного опыта. Она имела успех и вне пределов Франции. Гете читал ее даже в последний год своей жизни. У Римёра (который ошибочно считает автором книги В. Гюго) Гёте говорит 11 окт. 1831 года: «Я продолжал чтение „La peau de chagrin“. Это – прекрасное произведение, в новом роде, которое между прочим отличается тем, что искусно лавирует между невозможным и невыносимым, и автор весьма последовательно пользуется чудесным, как средством изобразить выдающиеся стремления и события. Об этом в частности можно было бы сказать много хорошего». А в письме от 17 марта 1831 года он говорит о той же книге: «Это произведение необыкновенного ума указывает на коренную и неисцелимую язву нации, и последняя заражала бы организм все глубже, еслибы те департаменты, в которых теперь еще не умеют ни читать, ни писать, не возродили со временем эту нацию, насколько это возможно» [6] .
В книге не мало частностей, напоминающих жизнь самого автора. Бальзак по собственному опыту знал чувства бедного юноши, который из своей мансарды отправляется на бал, балансируя по пыльным камням в своей единственной паре белых шелковых чулок и в изящных сапогах. Он ужасно боится, как бы не забросала его грязью карета, несущаяся мимо, – ведь тогда он не увидит своей возлюбленной. Но гораздо интереснее тот вывод из наблюдений и мыслей, к которому приходит автор; его можно короче выразить так: общество чуждается бедствий и страданий, боится их как заразы, никогда не колеблется в выборе между бедствием и пороком. Как бы ни было колоссально бедствие, оно сумеет уменьшить размеры его, даже посмеяться над ним в эпиграмме; оно никогда не чувствует сострадания к падшему гладиатору. Одним словом, общество с самого начала представляется Бальзаку чуждым всякой высшей религиозной идеи. Оно оставляет без помощи стариков, бедных, больных; оно поклоняется успеху, силе, деньгам, не терпит несчастия, если из него не может извлечь выгоды для себя. Его девиз – «гибель слабым».
До Бальзака в романе царило лишь одно чувство – любовь. Но он своим гениальным чутьем понял, что кумир современников вовсе не любовь, а деньги, а потому и пружиною общественной деятельности в его романах являются деньги, или вернее недостаток денег, жажда денег. Такой прием был нов и смел. В романе, в поэзии, подробно высчитывать доходы и расходы действующих лиц, вообще говорить о деньгах как о чем-то существенном – это было делом неслыханным, грубою прозою. Ведь всегда грубо – говорить то, что все думают и что поэтому все согласились скрывать или отрицать, а особенно в произведениях такого искусства, которое часто выдавалось за искусство красиво лгать.
III
Но Бальзак был еще молод и для его поэтической души, рано разочаровавшейся, была своя весна, – он чувствовал влечение изобразить в целом ряде романов любовь и женщину. Он разработал эту старую тему с такою самобытностью, что она показалась совершенно новою, и рассказы, в которых он так удачно варьировал ее, составляют особую группу в ряду его произведений.
В женщине он поклонялся не красоте, и всего менее красоте пластической. Чрез искусство он вообще не получал живого впечатления красоты. Уже этим одним он отличается от значительного кружка своих современников. Большая часть романтических поэтов и в Германии, и на Севере, и во Франции страстно любили искусство. Такому поэту-любителю искусства, как Готье (глава целой школы), любовь к искусству, например, помешала изучить действительность. Он сам рассказывает, как он разочаровался, когда ему в первый раз в мастерской Риуля пришлось рисовать с живой женщины, хотя она была красива, очертания изящны и правильны. «Я всегда предпочитал статую живой женщине, а мрамор – телу», признается он. Многознаменательные слова! Представьте себе теперь Готье и Бальзака вместе в Луврском античном музее, в той святая святых, где Венера Милосская красуется в своем лучезарном величии. Поэту, любителю пластики, будет казаться, что из мрамора раздается прекрасный гимн греческого искусства в честь совершенства человеческих форм, и он забудет про Париж, слушая его. Напротив Бальзак забудет про статую, на которую он хочет смотреть, если он увидит парижанку, одетую по современной моде, остановившуюся перед богиней в длинной шали, спускающейся до низу без малейшей складки, в кокетливой шляпке, в тонких перчатках, плотно охватывающих руку. Он с первого взгляда поймет все тонкости её туалета, – для него в этой области нет тайн.
Это – первая особенность его: никакая мифология, никакие предания давно минувших времен не отделяют его от современной женщины. Он не изучал ни одной статуи, не поклонялся ни одной богине, не признавал культа чистой красоты, но видел женщину такою, какою она была, в платье, шали, перчатках и шляпке, со всеми её пороками и добродетелями, чарами и увлечениями, нервами и страстями, со всеми следствиями уклонения от природы, с печатью истощения на болезненном лице. Он любил ее такою, как она есть. Для её изучения он не довольствуется мимолетным наблюдением: он проникает и в будуар её, и в спальню; он не довольствуется и тем, что исследует её душевное состояние, – он допытывается физиологических причин этого состояния, изучает женские страдания, женские болезни. Он ясно понимает всякое невысказанное горе слабого и терпеливого пола.
Вторая особенность: Бальзак выводит в роли возлюбленной не молодую девушку, даже и не очень молодую женщину; главный тип его женских ролей это тот же, как и заглавие романа «Тридцати-летняя женщина». Только гениальный поэт мог открыть и высказать ту простую истину, что под небом северной Франции женщина в 18 лет не развилась еще вполне ни физически, ни духовно. Он вывел перед нами женщину, которая уже прожила первую молодость, а потому глубже и сильнее чувствует и мыслит, испытала уже разочарование, но еще способна к сильной страсти. Она уже несколько пострадала от жизни: тут вот морщина, а там легкий шрам после болезни – червь уже попортил роскошный плод, но она вполне обладает чарами своего пола. Она грустна, она страдала, она наслаждалась, она непонята или покинута, часто была обманута, но все еще надеется – она способна вдохнуть глубокую и пылкую страсть, но источник этой страсти – сострадание. Довольно странно, что на нее не смотрят так, как на мужчину одних с нею лет; нет, о ней так говорят и ее так описывают, как смотрит на нее с своей точки зрения мужчина гораздо её моложе, еще мало наученный жизнью. Свежее чувство, пылкая страсть, наивная восторженность, бессознательная идеализация юной любви увенчивают чадо, не совсем уже юное, молодит женщину, все еще привлекательную и одаренную всеми чарами ласки, грации, женской мечтательности и истинной страсти [7] . Идеализации в изображении её нет (как напр. в романах Жорж Занд, напрашивающихся на сравнение); прямо сказано все, о чем обыкновенно женщины умалчивают, когда они говорят про свой пол, что обходит молчанием и помянутая гениальная писательница, говоря о женщинах, к которым она хочет возбудить сочувствие. Для Жорж Занд женщина прежде всего существо моральное, душа, а для Бальзака – физиолого-психологический факт, поэтому она у него небезукоризненна ни в физическом, ни в духовном отношении. Поэтому у него идеализация типа или чисто-внешняя (напр. идеальное освещение, идеальные любовные отношения), или внутренняя, состоящая в том, что страсть известного лица на время отдаляет на задний план все остальное – и настоящее, и прошедшее, или прикрашивает его и таким образом всему дает идеальный оттенок. Любовь жены, матери, робкое увлечение молодой девушки Бальзак изображает с таким же мастерством, как и свободные отношения любовников.
Французская женщина является у него в четыре разные эпохи истории.
Во-первых, в эпоху революции. Есть небольшой мастерской очерк Бальзака «Le Requisitionnaire». Это один из немногих рассказов, поражающих нас не только ярким изображением нравов и сердечных ощущений, но и совершенством повествовательной формы. В нем автор рассказывает историю любви матери с сыну во время террора.
Маленький городок и оригинальный салон г-жи де-Дей изображены немногими чертами. Страх за сына, приговоренного к смерти, – ожидание его прихода в платье солдата, поставленного с ней на квартиру, – напряжение, усиливающееся с каждым часом до поздней ночи, – мнимо-таинственный приход молодого солдата, которого тайком отводят на верх, в комнату, заботливо приготовленную для него, – сначала отчаяние, а потом безумная радость матери, которая слышит шаги его над собою и должна по-прежнему продолжать беседу в салоне, чтобы не выдать тайны, – наконец, её стремительное вторжение в комнату и ужасное открытие, что пришел не сын её, а рекрут – все это, сжато переданное на печатном листе, рассказано с неподражаемою силою и правдой.
После этого Бальзак выводил да сцену женщин эпохи Наполеонова владычества. Это было время необычайного военного торжества. Всюду слышатся возгласы удивления, женщины боготворят победоносных воинов. Заметно было беззаветное и полное жажды удовольствий стремление скорее жить. А между тем молодая женщина «между первым и пятым бюллетенем из великой армии могла последовательно сыграть роль невесты, жены, матери и вдовы». Возможность скорого вдовства, ожидание приданого или Славы – делало женщин более легкомысленными, а офицеров – соблазнительными. Описание смотра на Тюльерийскомь дворе в 1813 г., составляющее введение к роману «La femme de trente ans», и вечернее сборище в момент победы при Ваграме, изображенное в «La paix du ménage», характеризуют и эпоху, и тип женщин этой эпохи.
Но Бальзак вступает на настоящий путь и достигает мастерства в изображении женских типов и женской любви только в романах из времен реставрации. Взгляд его смел, кисть груба, и он с большим талантом изображает прозаичный период господства испорченной буржуазной среды. Но он все-таки великий поэт, а потому от картин этой пошлой плутократии сороковых годов воображение его тоскливо обращается назад, к эпохе изящного вкуса и утонченных нравов времен реставрации. Эта эпоха была еще эпохою аристократическою, а Бальзак, причислявший себя к знати, питал не малое уважение к аристократии.
Красавица, рожденная и воспитанная в благородном семействе, была в его глазах цветом женщин. Он несомненно принадлежит к тому поколению, которое бредило Наполеоном. Это имя встречается у него через каждые две или три страницы, и он мечтал (подобно Виктору Гюго) оспорить у императора всемирное владычество на литературной почве. В своей рабочей комнате он поставил его статуэтку с надписью на ножнах шпаги: «Что он покорил мечом, то я завоюю пером». Но, несмотря на все свои грезы, увлечения и суетные стремления, он стоял на стороне законной монархии. Время господства последней было временем его юности – потому-то он и относится к нему с особенно теплым чувством. При господстве напудренных королей и старых национальных преданий еще и XIX в. доживал наследие XVIII-го, века гуманности и свободного мышления в сфере религии и нравственности. Господство его миновало с водворением золотого тельца, грубых наслаждений и общественного лицемерия. Салоны, блиставшие остроумием, украшение столицы вкуса, закрылись, нравы по внешности стали строже, получивши английский отпечаток, но в сущности были грубее. Общественное мнение относилось снисходительно с проделкам миллионера и с фарисейскою строгостью восставало против увлечений женщин. Нечего стало-быть и удивляться, если Бальзак изображал нежными чертами и в благоприятном свете красивых грешниц Сен-Жерменского предместья. Красавица Дельфина де-Жирарден, прелестная писательница, создавшая оригинальный парижский фельетон, салон которой так охотно посещался, была его верною и умною подругой. В таких же отношениях была она с Виктором Гюго и Готье. Но гораздо больше добыл он материала для своих произведений от двух герцогинь, которые в его глазах олицетворяли собою величие империи и блеск веселой и изящной старой монархии. С ними он сблизился еще в начале своего поприща. Это были – мадам Жюно, герцогиня Абрантес, которой он помогал в её литературных трудах, и герцогиня Кастри. Последняя объявила ему сначала в анонимном письме, что она заинтересована его произведениями, а он с своей стороны долго питал к ней любовь, не встречавшую однако сочувствия. Он выводит ее в целом ряде романов «Histoire des Treizes» под именем герцогини Ланже.
В начале 30-к годов Бальзак еще, конечно, не касается ни общества времен июльской монархии, ни женщин этой эпохи с их страстями. Это он делает уже позже. Заметим мимоходом, что в зрелые лета он вообще строже и суровее относится к новым сюжетам. Веяние весны отлетело навсегда. Во многих произведениях все еще на первом плане женщина и любовь, но прежняя склонность обратилась в страсть, а страсть стала пороком. Мало бескорыстных чувств и чистых симпатий, но во всем расчет, даже у женщины, притом в деле любви, тем более, если роль любви заменяют другие отношения. Куртизанка во многих романах оттесняет светскую даму на задний план, а иногда у первой меньше корыстолюбия, чем у последней. Автор раскрывает перед читателем мрачные бездны эгоизма и «академии» пороков.
IV
Из произведений, появившихся в 1833-4 гг., преимущественно должно указать на два – на изящную, классическую повесть «Eugénie Grandet» и на большой роман «Père Goriot». В первом романе Бальзак соперничает с Мольером («L\'avare»), а во втором ни больше, ни меньше как с самим Шекспиром («King Lear»).
По «Eugénie Grandet» нельзя судить о таланте Бальзака, хотя он долго гордился именем автора этой новеллы. Она обратила на себя внимание тем, что писатель с необыкновенною наблюдательностью и верностью изображает провинциальную жизнь с её своеобразными пороками и добродетелями. Книгу эту рекомендовали для семейного чтения, потому что героиня – знатная и целомудренная молодая девушка. Бальзак с необыкновенным мастерством раскрывает всю гнусность скупости, в которой древние видели лишь одну комическую сторону. Он доказывает, что скупость, над которою забавлялись, как над смешною слабостью, мало-помалу убивает все человеческие чувства и потом её медузина голова деспотически подымается, как грозный страж над всем тем, что окружает скупца. Автор значительно приблизил этот тип к нашему вниманию. По его взгляду, жадный скупец – не герой мещанской комедии, а властолюбивый мономан, зачерствелый мечтатель, поэт, который при виде золота проникается страстною алчностью и в то же время предается самым диким мечтам. Он только полнее других сознает ту истину, что золото воплощает в себе исполнение всех человеческих стремлений и надежд. Уже в одной этой характеристике виден громадный талант Бальзака. Не берясь самонадеянно за великие задачи, он достигал высоких целей малыми средствами, которых другие не заметили, или если и заметили, то пренебрегли.
Собственно говоря, в «Eugénie Grandet» рамки не тесны, но для дарования Бальзака они очень узки.
В «Père Goriot» сцена романа шире. Не отдаленный провинциальный уголок изучает он здесь, а целый громадный Париж, который подобно гигантской панораме развертывается перед глазами читателя. Здесь уже нет никаких отвлеченностей и обобщений, как в «La peau de chagrin». Каждый класс общества и каждый член его изображены индивидуальными чертами. Я упомянул о «Короле Лире»; но отношения обеих бессердечных дочерей к отцу, как они ни глубоко задуманы и прочувствованы, составляют сюжет у Бальзака лишь с формальной стороны. Настоящий же сюжет – это появление в парижском обществе и похождения молодого человека, приехавшего из провинции и сравнительно не испорченного. Он постепенно открывает истинную суть высшего света и ужасается своих открытий; он сторонится от него, но подвергается искушениям и, наконец, последовательно, хотя и наскоро, воспитывает себя для той жизни, какую ведут окружающие. Характеристика Растиньяка – одна из самых глубоких и верных, какие только создал сам Бальзак и вообще кто-либо из новейших романистов. Бальзак с большим искусством показывает нам, как с разных сторон, всюду, где только мнения не подсказаны лицемерием или наивностью, Растиньяк встречает в обществе те же взгляды и ту же мораль. Его родственница и покровительница, знатная и прелестная г-жа Боссан, говорит ему: «Чем хладнокровнее вы обдумываете, тем дальше пойдете. Сыпьте удары без сожаления, тогда вас и будут бояться. Смотрите на мужчин и на женщин просто как на почтовых лошадей, на которых вы едете во всю прыть к станции… А если у вас есть искреннее чувство, то, смотрите, не обнаруживайте это, а иначе вы будете не молотком, а наковальней… Если женщины найдут вас остроумным, то мужчины поверять этому, если только вы сами не выведете их из заблуждения… Тогда вы узнаете, что общество есть не что иное как сборище дураков и подлецов. Не приставайте ни к тем, ни к другим». А беглый каторжник Вотрен говорит ему: «Надобно или ворваться в среду людей подобно пушечному ядру, или прокрасться подобно заразе. Честность ни к чему не ведет! Преклоняются перед величием гения, но ненавидят его, стараются оклеветать, да и преклоняются, пока он в силе. Одним словом, ему молятся на коленях, если нельзя затоптать его в грязь. Пари держу, что он в Париже и двух шагов не сделает, не наткнувшись на дьявольские проделки… Вот почему честный человек – общий враг. А кто, думаете вы, честный человек? – В Париже – тот, кто может и не хочет делиться».
Растиньяк – это тип молодого француза пройдохи. Он человек с дарованями, не выходящими, впрочем, из общего уровня, и весь идеализм его – кто неопытность двадцатилетнего возраста. Сначала он потрясен и поражен всем тем, что ежедневно видит и переживает, потом сам начинает домогаться жизни жизненных благ все с меньшею совестливостью и все с большей жаждою. Он возмущается, когда Вотрен в первый раз предлагает ему старый вопрос, согласился ли бы он убит мандарина в Китае, которого он никогда не видал, если бы для этого было достаточно одного желания получить миллион. Его воображению живо представляется хрипящий мандарин, уже мечущийся в предсмертной агонии. Сначала он, как и всякий, говорит, что желать сделаться великим или обогатиться во что бы то ни стало – то же самое, что решиться лгать, подличать, пресмыкаться, льстить, обманывать, – то же самое, что согласиться служить тем, кто лжет, подличает, пресмыкается. Потом он отрекается от этих убеждений на том основании, что вовсе не хочет думать, а только следовать влечению сердца. Было время, когда он еще был настолько юн, что не мог действовать с расчетом, но уже настолько созрел, что в его голове носились неопределенные мысли и туманные мечты. Если бы можно было их концентрировать химически, то получился бы не совсем чистый осадок. Сношения со светскою дамой, Дельфиной Нюсенген, дочерью Горио, довершают его воспитание. Он видит всю ту массу крупных и мелких невзгод, из которых слагается жизнь высшего общества, а в то же время находится под влиянием насмешливого циника Вотрена. «Еще два или три урока высшей политики – и вы увидите свет таким, как он есть. Важная особа, разыгрывая по временам мелкие добродетельные сцены, удовлетворяет каждой своей прихоти при оглушительных криках одобрения глупцов… Я с удовольствием позволю вам презирать меня сегодня, потому что потом вы меня полюбите. Вы найдете во мне те зияющие бездны, те сосредоточенные чувства, которые глупцы называют пороками, но никогда не найдете во мне робости или неблагодарности». Глаза его ясно видят кажущийся лоск всего окружающего. Он видит, что уставы и законы для наглецов служат только ширмою, за которою они свободны в своих действиях. Куда он ни взглянет, всюду ложное достоинство, ложная любовь, ложная доброта, ложные браки. С редким тактом изобразил Бальзак тот момент в жизни каждого даровитого юноши, когда при виде светской пошлости у него тяжело становится на сердце и душа наполняется презрением к людям. «Одеваясь, он предался самым печальным размышлениям, доводящим до отчаяния. Он смотрел на общество как на грязное болото, в котором тонет по уши каждый, кто только вздумает вступить в него. Там совершаются лишь мелкие преступления, – сказал он себе. – Вотрен покрупнее». Но по том, наконец, измеривши жерло этого ада, он отлично устраивается в нем и готовится подняться до верхних слоев общества, на пост министра, на котором мы его и встречаем в позднейших романах.
Почти все стороны Бальзаковского таланта нашли себе выражение в этом произведении, столь широко задуманном. Его необычайная живость, его необыкновенный дар изображать верно типы – вполне гармонируют с тем тоном, который так идет к пошлому, истаскавшемуся, грубо острящему обществу собутыльников в пансионе Вокера. Светлых личностей почти не встречается, а потому мало поводов для автора впадать в пафос. Зато читатель постоянно имеет случай наслаждаться тою смелостью и верностью правде, с которыми Бальзак анализирует душу преступника, кокетки, финансиста и завистливой старой девы. Тип старика-отца, брошенного и забытого дочерями, именем которого озаглавлена книга, не совсем удался. Он – печальная жертва, но Бальзак слишком уже сентиментальничает по поводу этого. Совсем не кстати, например, он называет Горио: «Ее Christ de la pauvreté». Кроме того Бальзак придает любви Горио к дочерям (как в романе «Le Béquisition Baire» любви матери к сыну) такой приторный оттенок, что вам противны её слащавые проявления. Но этот покинутый старик, над любовью которого так издеваются родные дочери, играет главную роль в романе и благодаря этому он получает единство и цельность, а это производит выгодное впечатление.
Сатира на общество в духе Ювенала как бы заканчивается меткою эпиграммою. Когда Дельфина отказывается навестить умирающего отца, чтобы подняться степенью выше на общественной лестнице, она непременно хочет воспользоваться приглашением, которого так долго и напрасно ожидала, и явиться на бал к аристократке г-же Боссан. На этот бал, ведь, стремится «tout Paris». Кроме того, она мучится жестоким любопытством. Ей хочется полюбоваться следами мучений на лице хозяйки, которая получила в то утро известие об обручении своего неверного любовника. Мы следуем на Дельфиной, которая едет на бал в своем экипаже вместе с Растиньяком. Молодой человек знает, что она готова проехать по трупу своего отца, лишь бы явиться на этот бал, ноу него нет сил порвать с нею отношения. Он даже боится прогневить ее упреками, но не может не сказать нескольких слов о печальном положении её отца. Унея слезы на глазах. «Но ведь я подурнею, – подумала она про себя и слезы высохли. – Завтра я буду ухаживать за отцом, не отойду от его изголовья», – сказала она. И она действительно думает то, что говорит; она не зла, но она – живое воплощение общественных дисгармоний, рождена не в знатной семье, была богата, лишилась своего богатства, благодаря несчастному браку, любит наслаждения, пуста и честолюбива. Но у Бальзака не хватило таланта изобразит Корделию во всей её Шекспировской чистоте и непорочности: сфера возвышенного – не его сфера. За то Регана и Гонерилья вышли у него человечнее и ближе к правде, чем у гениального британца.
V
Однажды, в 1836 г., Бальзак явился возбужденный, торжествующий, к своей сестре, энергически махая своею тростью, подобно тамбур-мажору. На сердоликовом набалдашнике её он велел вырезать турецкими буквами следующий девиз султана: «Я разрушитель препятствий». Подражая аккомпанементу военной музыки и бою барабанов, он весело крикнул детям: «Поздравьте меня, дети, ведь я скоро сделаюсь гением». Он задумал связать в одно целое все свои романы – и написанные, и будущие и составить из них «Comédie humniae». План был грандиозен и до такой степени оригинален, что подобного еще не являлось в целой всемирной литературе. Он был порождением того же духа системы, который в своем начале поприща внушил ему мысль написать целый ряд исторических романов, обнимающих собою целые века. Новый план, конечно, был интереснее и благотворнее: если б он удался вполне, то его поэтические произведения отличались бы чарующей иллюзией и правдоподобием исторических документов. Его произведение имело бы законное право считаться целым в научном смысле.
Дант в «Божественной Комедии» собрал в одном поэтическом фокусе все мировоззрение и весь жизненный опыт средних веков, а его честолюбивый соперник задумал изобразить полную психологию всех классов общества своей страны, даже отчасти и своего века, выводя на сцену две или три тысячи типических личностей.
Нельзя не согласиться с тем, что результат был беспримерный. В государстве Бальзака, как и в действительном, есть свои министры, свое начальство, генералы, финансисты, ремесленники, купцы и крестьяне. Там есть свои священники, городские и сельские врачи, люди светские, живущие по моде, живописцы, ваятели, поэты, писатели и журналисты, свои старинные знатные роды и «noblesse de robe», свои тщеславные и испорченные женщины, а также и женщины достойные любви и обманутые, свои гениальные писательницы и провинциальные синие чулки, свои старые девы и актрисы, наконец – своя толпа куртизанок. Иллюзия поразительна. Действующие лица одного из романов постоянно встречаются в другом, и мы видим их в разные периоды их жизни. Поэтому мы можем видеть, какие перемены происходят с ними. А когда они не являются на сцену, то о них постоянно говорят другие. Мы очень хорошо знакомы с их наружностями, костюмами, местопребыванием, обыденною жизнью и привычками. Описание всего этого до того живо, что так и кажется, будто встретишь такую-то личность, непременно на такой-то улице, где она живет, или у известной дамы, знакомой всей аристократии романов, которую обыкновенно она посещает после полудня.
Кажется даже почти невозможным, чтобы все эти лица были порождениями фантазии, и невольно думается, что они в то время действительно жили во Франции.
Да, они жили, и жили по всей Франции. Бальзак мало-помалу описал почти все города и провинции своего отечества [8] . Совершено чуждый поползновения осмеивать провинцию, он ставит себе задачею изобразить по возможности верно особенности её застоявшейся жизни, её добродетели, коренящиеся в преданности судьбе и её пороки, источник которых – мелочность. Но в его произведениях преобладает Париж, только его Париж не тот, каким он был 400 лет тому назад и каким он изображается в «Notre-Dame de Paris». Это не идеальный Париж Виктора Гюго, абстрактный Иерусалим ума и просвещения, а действительный, новейший город со всем его весельем, бедствиями и скандалами, единственное чудо света в новейшее время. Он далеко оставляет за собою семь чудес древнего мира. Это громадный полип с сотнею тысяч рук, все притягивающий к себе, и далекое и близкое, – громадный рак, разъедающий Францию. Париж времен Бальзака весь в его произведениях по своими узкими улицами, которые он изображает в виде расходящихся лучей, подобно Рембрандту, со своим шумом и гамом, с криками разносчиков раздающимися с раннего утра, с вечерним хоровым пением множества голосов. И он передает это пение с верностью музыканта. Он, подобно посвященным древних мистерий, насыщался звуками барабана и кимвалов [9] . Он все знает в Париже – архитектуру его домов, мебель в квартирах, атмосферу в его бюро и мастерских, историю его богатств, ряд владельцев его музеев, туалеты дам, счеты портных, шьющих на разных денди, фамильные процессы, состояние здоровья обывателей, род их пищи, потребности и желания всех слоев населения. Он сроднился с ним. Современные ему романтики уносились мыслью далеко от Парижа, слабо освещенного для них лучами солнца, закутанного туманом, от его новейших буржуа, – в Испанию, в Африку, на Восток; для него, напротив, ни одно солнце не светило так приветливо, как парижское, и ни какие другие предметы не были интереснее. В то время, как все вокруг него старались вызвать тени далекого или минувшего прекрасного, неприглядное в действительном мире столь же мало пугало его, как ботаника – крапива, как естествоиспытателя – змея, или болезнь – врача. На месте Фауста он, наверное, никогда не стал бы вызывать из могилы древнегреческую Елену. Скорее он послал бы за своим другом Видоком, бывшим каторжником, а в то время префектом парижской полиции, и заставил бы его рассказывать свои приключения.
Путем наблюдения добывает он массу разных данных, и изложение всего подмеченного во введениях к романам часто утомляет и запутывает читателя. Иной раз он долго описывает наружность, лицо, даже нос, и читатель, не видя ничего этого, скучает. Но его пылкая, творческая фантазия иногда так перерабатывает и сливает в одно целое все эти мелочи, удержанные сильною памятью, как Бенвенуто Челлини – тарелки и ложки, отливая своего Персея. Гёте говорит (см. «Дневник 25 февраля 1780 г.»): «В этой куче я ничего не понимаю. Но я положил дров и соломы в печку и напрасно стараюсь согреться, хотя под ними лежать уголья и всюду идет дым; наконец-то в одном уголке пробивается пламя и охватывает всю массу». У Бальзака дым и чад в описаниях всегда чувствуются, за то нет недостатка и в пламени.
Ведь он был не только наблюдатель, но и творец, человек видений. Если он ночью между 11 и 12 часами встречал рабочего с женой, возвращающихся из театра, то ему приятно было следить за ними до самого дома, ходя взад и вперед по улице, по другую сторону бульвара, близ которого они жили. Мать брала за руки ребенка и привлекала его к себе; в это время они сначала обменивались мнениями об игранной пьесе, потом говорили о деньгах, которые приходилось получить в уплату на другой день, и мысленно расходовали их на двадцать манеров. Они не соглашались между собою и разражались бранью; потом Бальзак внимательно выслушивал жалобы их на долгую зиму, на дороговизну картофеля и топлива. Говоря его же энергическим слогом (в введении к «Facio Cane») он жил жизнью жены рабочего, чувствовал её лохмотья на своей спине, носил её дырявые башмаки. её желания и потребности глубоко западали ему в душу; она до того сливалась с его душой, что он как бы грезил на яву. Он разделял её досаду на хозяев мастерской, каторые притесняли ее, или возвращали её счеты неоплаченными. В таком возбужденном душевном состоянии он оставлял все свои привычки, становился друтим человеком, человеком своего времени. Он не только создавал лица, но и жил их жизнью; они мало-помалу стали для него до такой степени реальными, что он говорил о них со своими знакомыми как о живых людях. Отправляясь однажды в местность, которую он хотел описать, он сказал: «Я еду в Алансонь, где живет г-жа Кормон, и в Гренобль, где живет доктор Бенасси». Сестре он сообщал вести из мира вымышленного, как бы из кружка общих знакомых: «Знаешь ли, на ком женится Феликс де-Ванденесс? – на m-lle де-Гранвиль. Это очень счастливая партия. Гранвили очень богаты, хотя m-lle Белльфёльи очень дорого обошлась этой фамилии». Однажды Жюль Сандо говорил с Бальзаком о его больной сестре, а тот слушал его несколько времени рассеянно, потом прервал тамми словами: «Все кто хорошо, любезный друг, но воротимся к действительности, поговорим об Эжени Гранде». Нужно было самому в неимоверной степени чувствовать иллюзию, чтобы почти с такою же силою передавать ее другим. Его фантазия обладала деспотическою силою, не допускавшею никаких сомнений;-греки называли это τὸ πιϑνὸν (убедительность). Ей он подчинялся и в обыденной жизни. В числе проектов, придуманных им для того, чтоб избавиться от долгов, был следующий: застроить оранжереями голую, безлесную местность в небольшом его поместье, Les jardies, купленном им с тем, чтобы дать обеспечение матери. На них будет идти мало топлива, потому что нет деревьев, и лучи солнца же встречают преграды. В этих оранжереях он хотел развести 100.000 ананасных деревьев, и если продавать каждый ананас во 5 фр. вместо 20, как обыкновенно, то они за вычетом расходов будут давать счастливому владельцу ежегодного дохода до 400.000 фр. и ему не придется поставлять ни одной рукописи. Бальзак мысленно вдыхал уже в себя тропический аромат оранжерей и с такою убедительностью излагал свой план, что друзья не шутя подыскивали ему на бульваре лавочку для продажи ананасов с непосаженных еще деревьев и толковали о форме и цвете вывески. А в другой раз он – неизвестно каким логическим путем – дошел до убеждения, что открыл место близ Парижа на Сене, где Туссен Лувертюре завоевал свои сокровища. Он так красноречиво доказывал своим друзьям, Жюлю Сандо и Теофилу Готье, что он найдет их там, что эти люди, вообще далеко не шальные, в 5 часов утра, вооруженные заступами, тайком ускользнули из Парижа, как преступники, и принялись копать, но, разумеется, не нашли ничего. К фантазии Бальзака как нельзя более идет эпитет могучая.
Эта фантазия, господствовавшая над другими, была также и его деспотом. Она не давала ему покоя, не довольствовалась составлением плана, светлыми, хотя бесплодными радостями художника, – она побуждала его непрестанно творить, потому что иначе мимолетные образы вдохновения улетают. В романе «La cousine Bette» он говорит о личности гениального Венцеслава Штейнбока словами великого поэта: «Я с отчаянием принимаюсь за работу и оставляю ее с грустью». Это, очевидно, лишь скромная форма собственного признания. И он прибавляет: «Пусть знают это непосвященные! Если художник не без размышления принимается за свое дело, не так, как Курций бросается в пропасть, или как солдат – на неприятельские шанцы, и если он не работает в этом кратере, как рудокоп, которого заваливает осыпавшаяся земля, – если он только смотрит на затруднения, вместо того, чтобы постепенно преодолевать их, то он будет свидетелем гибели своего таланта». Тот способ творческой деятельности, о котором он говорит, есть его собственный, но не единственный и не лучший. Более спокойные художники, менее охваченные потоком нового времени, с ясным взором и не волнуясь стоят над клокочущим кратером труда. Они составили себе взгляд, в силу которого никогда не работают механически, скучая за работой, как автор романов «Curé de village» и «Médecin de campagne». Но и то правда, что часто в их произведениях нет того пыла, который сделался потребностью для нервов новейшего художника.
В обширном предисловий к «La comédie humaine» Бальзак объяснил свои взгляды на дело и на самую цель свою. В самом начале он высказывает презрение к обычной манере писать историю. «Если, – говорит он, – вы читаете сухие и скучные перечни сообщений, называемые историей, то вы заметите, что писатели всех стран и всех времен забывают об истории нравов». Он хочет по возможности пополнить этот пробел из общего инвентаря страстей, добродетелей и пороков он намеревается создать характеры и выработать типические личности. Таким образам, при большом терпении и усидчивости, он напишет для Франции XIX в. такую книгу, какой, к несчастью, не оставили нам ни Рим, ни Афины, ни Тир, ни Мемфис, ни Персия, ни Индия. Мы видим, как плохо он судил об истории, – его скудные исторические сведения благоприятствовали такому суровому приговору. Да он и не был историк, но, как он сам себя определил верно и метко, естествоиспытатель своего века. Он ссылается на Жоффруа С.-Илера, который указал на однородность творчества в разных сферах. Перед знатоком естественных наук он чувствует себя как бы доктором наук социальных. «Общество, смотря по той офере, в которой вращается деятельность человека, создает из него столько же различных людей, сколько есть вариантов в физиологии. Разницу между солдатом, рабочим, чиновником, адвокатом, празднолюбцем, ученым, государственным человеком, купцом, моряком, поэтом, обитателем богадельни и пр… конечно, труднее определить, но она столь же велика, как между волком, львом, ослом, вероном, акулою, морской собакою и овцою». Аналогия эта больше остроумна, чем верна, и сам Бальзак чувствует необходимость оговориться, что в социальном мире напр. женщина не всегда бывает самкою мужа и вообще одна и та же личность в обществе может менять свое положение, а между тем, например, акула не может сделаться моржом. Собственно мысль Бальзака та, что его способ изучения человечества в сущности тот же самый, как и способ естествоиспытателя. Он никогда не морализирует и никого не осуждает, никогда не играет роли оратора или проповедника; чувствуя к чему-нибудь отвращение или симпатию, он не теряет из виду верности изображения. Для него, как и для естествоиспытателя, нет ничего слишком малого и ничего слишком великого, – он все с одинаковым интересом анализирует и объясняет. Если смотреть в микроскоп на паука, то он по устройству тела будет больше и разнообразнее самого громадного слона. С научной точки зрения, величественный лев – лишь кусок мяса, костей и пр., ходящий на четырех ногах. Способу питания и форме зубов соответствует устройство черепа, лопаток, мускул и ногтей, и оно объясняет его величие. То, что при известном взгляде кажется отвратительным и грязным преступлением, с иной точки зрения представляется лишь блестящим пороком, и Бальзак это понимал. Уже в «Eugénie Grandet» есть места, доказывающие это. Настает время, когда Евгения должна признаться своему скряге-отцу, что у неё уже нет больше дукатов, что она все их раздарила, и автор говорит: «В течение трех дней должна разыграться ужасная драма, мещанская трагедия без яда, кинжала и крови, но она будет еще ужаснее всех тех драм, какие разыгрались в знаменитом роде Атридов». Это значит: «мой мещанский роман трагичнее ваших классических трагедий». В другом романе, в котором начальница одного женского пансиона горько жалуется на то, что у неё берут воспитанниц, Бальзак говорит: «Хотя лорд Байрон вложил в уста Тассо соответственные его положению жалобы, но они далеко не так верны правде, как жалобы г-жи Буке». Это значит: «мелочная пошлость, изображаемая мною энергическими чертами, гораздо занимательнее всех возвышенных отвлеченностей». В романе «Величие и падение Сезара Бирото» он не только самым заглавием шутливо намекает на книгу Монтескьё, но и с гениальною смелостью сравнивает процветание и упадок доброго парижского парфюмера с перипетиями троянской войны и наполеоновского владычества. «Троя и Наполеон – только материалы для эпопеи. Пусть эта история будет эпосом из мещанской жизни, на которую ни один поэт не обращал до сих пор внимания; как она ни кажется чуждою всякого величия, тем не менее она самая величественная, – здесь дело идет не об неудачах отдельного человека, а о бедствиях целого сословия». Это значит: «в поэзии, собственно говоря, нет ничего ни великого, ни малого; из борьбы с жизнью парфюмера я могу создать героическую эпопею; я чувствую и доказываю, что деяния скромной частной жизни, если их изобразить с их причинами и следствиями, настолько же важны, как и величайшие перевороты в жизни народов». Когда в его произведении «Un ménage de garèon» красивый и хитрый забияка Максаис Жиле гибнет на дуэли, то поэт говорит наконец: «Так умер один из тех людей, которые были бы в состоянии совершить великие подвиги, если б их перенесли в обстановку благоприятную для них, – человек, которого сама природа одарила, как дитя балованное: она дала ему мужество, хладнокровие и политическую мудрость Цезаря Борджиа». Так метки последние слова, что тщательно кажется, будто только теперь он вполне понимает Макса. Как порок, так и добродетель являются у Бальзака продуктом известных условий. Хотя он имеет слабость, говоря о верности долгу и самопожертвовании в духе довольно строгого католицизма, иногда расплываться и сентиментальничать, однако не забывает указать на различные источники добродетели: врожденную холодность чувств, гордость, полусознательный умный рассчет, наследственное благородство мыслей, раскаяние женщин, наивность мужчин, или благочестивую надежду на воздаяние в будущей жизни. Чтобы вполне понять, как сильно было его поэтическое дарование даже в позднейший период его жизни, прочтите «Uu ménage de garèon», «Cousine Bette» и «Illusions perdues».
В первом из названных нами романов, менее других известном, автор в необыкновенно мрачной картине дает нам характеристику целого небольшого города и одной фамилии, члены которой живут и там, и в столице. Гладкое действующее лице – это истаскавшийся грубый офицер наполеоновской гвардии, живое воплощение деспотического эгоизма сильной натуры. Он своего рода miles gloriosus, не робкий, но преступный. В другом романе, самом известном произведении Бальзака, автор с неподражаемою правдою изображает гибельное следствие неумеренности в чувственных наслаждениях. Шекспир едва ли с такою художественностью и верностью обработал эту тему в драме «Антоний и Клеопатра». Наконец в романе «Illusions perdues» автор восстает против злоупотреблений печати, как орудия демократических тенденций.
Заглавие этого замечательного романа характеризует Бальзака. До известной степени он годился бы в заглавие всех его произведений, но ни одно из них не раскрывает нам в такой полноте взгляда его на новейшую культуру. Он здесь смотрит на пагубные стороны журнальной деятельности как на темные стороны общественной жизни вообще. Подобно большинству великих писателей, не доживших до старости, Бальзак имел мало причин восхищаться теми критическими отзывами, каких удостаивало его печать. Его не понимали; а лучшие критики, как, например, Сен-Бёв, были слишком близки в нему до времени, чтоб уразуметь все это достоинства; он же с своей стороны жил одиноко, не делал ни шага, вопреки обыкновению парижан, чтобы добиться похвального отзыва своим произведениям, а успехами своими нажил себе много завистников. В «Illusios perdues» он вывел на сцену так-называемую малую прессу, и журналисты, которых он задел не простил ему этого. Главную роль между ними играл Жюль Жанен, который очень верно изображен в романе только не в очень выгодном свете. Тем любопытнее его критика на этот роман. Она появилась в Révue de Paris 1839 года, в котором и Бальзак был деятельным сотрудником, но, конечно, вышел, когда журнал начал так сказать процесс против него. Критика же Жанена зла, мелочна, остроумна, но она не пережила романа, который хотела убить.
Молодой, бедный провинциальный поэт, красивый как Антиной, слабо-характерный и не очень даровитый, приезжает в Париж с знатною дамой. Дама эта – красивый синий чулок. Любовные отношения их должны были завершиться сожительством в столице, но вдруг дама, принятая как равная в большом свете, взглянула совсем иными глазами на себя и на своего рыцаря. Последовало отчуждение и разрыв с её стороны; Люсьена затмевает какой-то 50-ти летний дэнди. Между тем провинциал перевоспитывается, делается парижанином. Его цель – выступить в качестве поэта; он написал роман и томик стихотворений и сошелся с небольшим кружком молодых людей с благородными стремлениями. Перед ним – целые месяцы нищеты, покорности судьбе, усиленных трудов и робких надежд. Но он сильно жаждет мимолетных наслаждений, славы и мщения всем тем, кто унизил неопытного пришельца. Малая пресса дает ему средства вполне удовлетворить этим стремлениям; у него кружится голова, и он, что называется, очертя голову бросается в журналистику.
Люсто ведет его в магазин богатого книгопродавца и владельца газеты Palais-Royal. При каждом слове, которое говорит книгопродавец, он вырастал в глазах Люсьена. Последний видел, что и политика, и литература сосредоточиваются в этом магазине, как в центре. При виде одного знаменитого поэта, встреченного им тут и продававшего журналисту издание своей музы, – непризнанный великий человек из провинции пришел к ужасному выводу. «Деньги – вот ключ ко всем загадкам. Он чувствовал себя одиноким, безвестным, и лишь от ненадежного друга зависел его успех. Он обвинял своих истинных и преданных друзей литературного cénacle в том, что они рисовали ему жизнь в ложном свете и помешали броситься в борьбу с пером в руке». Из книжного магазина друзья идут в театр. Люсто всюду встречают приветливо, как журналиста. Директор рассказывает ему, что затеялась было интрига против него с целью отбить одну пьесу, но богатые поклонники двух его красавиц актрис заплатили за нее дороже и все расстроила. В Театре, как и в книжном магазине, и у издателя, и в редакции газеты – ни слова об искусстве и истинном даровании. Чеканный молоток как будто непрерывно стучит по его голове и сердцу. Под влиянием всего виденного и слышанного литературная совесть его смягчается, он делается литературным и театральным критиком в небольшой газете без всякого направления. Его любит и содержит молодая актриса и он все глубже погружается в пошлость жизни человека, продавшего себя. Унижение его доходит до крайности, когда он, по воле главного редактора, должен написать злой пасквиль на книгу своего лучшего друга, которую сам одобряет. Раньше, чем статья была напечатана, он стучится у двери этого писателя, чтобы попросить у него прощения. Его возлюбленная умирает; он так обеднел, что сочинял нескромные шансонетки у её смертного одра, чтобы было на что похоронить ее. Наконец, он берет в виде подарка деньги от её горничной, так постыдно заработанные, и на них решается ехать в провинцию. Все это ужасно, но все это – истина, ужасная истина. Это – единственное произведение, в котором Бальзака покидает беспристрастие естествоиспытателя. Он всегда сохранял душевное спокойствие, но здесь приходит в ярость и бичует.
VI
Мишле в своей «Историй Франция» начинает новую эпоху культуры с того времени, когда кофе входит в общее употребление. Это уже крайность, но можно без преувеличения утверждать, что в слоге и манере Вольтера можно видеть влияние кофе, как у многих более ранних писателей – влияние вина. Бальзак очень много работал и принужден был освежать свои силы на ночь большим количеством кофе, но это разрушало его организм. Не помню, кто именно сказал про него очень метко: «Он жил благодаря 50.000 чашек кофе и эти же 50.000 чашек свели его в могилу».
В его произведениях заметна сильная спешность работы и крайнее раздражение нервов; но, по всей вероятности, обдумывай он тщательнее свои произведения, они не были бы так живы, не читались бы с таким увлечением. Неимоверная сутолока во всемирном городе, бешеная конкуренция, лихорадочная деятельность по части изобретения, жажда наслаждений, несмолкаемый шум станков, постоянный огонь в кухнях и лампах – все это одушевляло и согревало его произведения. Он жил среди работы и рабочих как в родной стихии, видел только работу, насколько глаз мог видеть, как моряк видит только море. В последние семнадцать лет безмолвие его отшельнической жизни нарушалось и оживлялось корреспонденциею с одной женщиной, жившей далеко от него, которой он давал отчет в каждом проведенном дне. Эти отношения с легкою маскировкою изображены в романе «Albert Savarus». Во время одной поездки Бальзак познакомился с польскою графиней, Ганскою. Между ними началась переписка в 1833 году, прерывавшаяся лишь на время их редких встреч где-нибудь в Европе. Она принимала тон все более интимный, а в 1850 году Бальзак женился на этой даме, которую так долго обожал и которая за несколько лет перед тем овдовела. Трудно определить её влияние на писателя, так как ей обязаны появлением в свет столь разнородные произведения, как роман в духе Сведенборга «Seraphita» и умная повесть «Modeste Mignon».
Хотя Бальзак в течение долгах лет пламенно желал этого союза, но по собственной воле откладывал его, пока баснословные долги были уплачены, так что он мог с честью начать новую жизнь. Он устроил в Париже красивое помещение для своей невесты и счастливым, хотя уже далеко не молодым, женихом отправился в её поместье в Малороссии.
Там, еще до свадьбы, отпразднованной в Бердичеве, у него открылась болезнь, вследствие долголетнего неумеренного напряжения сил, которая и свела его в могилу. Брачное сожительство супругов было кратковременно. В марте 1850 года была свадьба, а чрез три месяца Бальзак был уже в могиле. «Как только готов дом, – говорит турецкая пословица, – приходить смерть». Она пришла в то время, когда Бальзак стоял на высоте своего творчества. Никогда еще не писал он лучших, более глубоких произведений, как в последние годы, перед смертью. Поэтому можно сказать, что он стоял на высоте своей славы. Она приобреталась медленно. Когда он написал 20 или 30 романов, но не пользовался еще большой известностью, писатели младшего поколения начали сближаться с ним и почтительно идти по его следам. Он рекомендовал им трудолюбие, уединенную жизнь, но прежде всего чистоту нравов, если они хотят чего-нибудь достичь в литературе, он допускал писание посланий к предмету любви, «потому что они образуют слог». С удивлением выслушали они эти наставления из уст человека, произведения которого в периодической печати постоянно вызывали громкие вопли о их безнравственности, повторявшиеся на разные лады. Они не знали, что это всегда первая и последняя уловка литературного ничтожества против всего живого и здорового на литературной почве. Несмотря на все нападки, его имя входило в славу. Современники стали мало-помалу сознавать, что в лице Бальзака они имеют одного из тех истинно великих писателей, которые кладут свою печать на произведения искусства. Он не только дал новую форму роману, но, как истинный сын того века, в который наука все более и более вторгается в область искусства, указал метод наблюдения и описаний, усвоенный и впоследствии примененный к делу другими. Его имя было славно и само по себе; но кто основывает школу, того имя – легион. Однако при жизни он не приобрел себе полной славы и это зависело от двух недостатков его произведений. Его слог был неровен: то он был очень прост, то высокопарен, а недостаток обработки слога всегда имеет большое значение, потому что именно хорошим слогом отличаются художественные произведения литературы от обыкновенных. В особенности к этому строги французы, столь чуткие в риторическом отношении. Но по смерти Бальзака его произведения стали расходиться и в чужих странах, а там мало обращали внимания на этот недостаток. Кто настолько понимает язык, что может на нем читать, но не может вполне оценить всех его тонкостей, тот легко прощает стилистические погрешности, если они вознаграждаются крупными внутренними достоинствами. В таком именно положении была вся европейская публика, читавшая романы Бальзака. Образованные итальянцы, австрийцы, поляки, русские и т. д. читали его с наслажденьем и не замечали недостатков формы. Но мы не хотим этим сказать, что эти недостатки романов Бальзака не помешают их долговечности. Все не обработанное или слабо обработанное не живуче. Громадная «Comédie humaine», как и картина в 10 тыс. стадий в длину, о которой говорит Аристотель, не может считаться одним произведением и отрывки целого сохранятся во всемирной литературе лишь соответственно своим художественным достоинствам. По прошествии веков они будут лишь материалом для истории культуры, но читать их не будут.
К недостаткам формы у Бальзака нужно прибавить еще более крупный недостаток – бедность идеи. Его не могли вполне оценить при жизни, потому что он велик только как поэт; но в поэте привыкли видеть духовного вождя, а Бальзак не был им. Его непонимание великих религиозных и социальных идей века, которые так рано и с такою ясностью усвоили себе Виктор Гюго, Жорж Занд и многие другие, ослабляло впечатление, производимое великим талантом этого естествоиспытателя человеческого духа. Его политические и религиозные теории чисто-абсолютистического характера отталкивали всех. Сначала читатели только улыбались, когда романист, зараженный сенсуализмом и революционным духом, ссылался на доктринеров под белым знаменем, на Жозефа де-Местра и Бональда, но мало-помалу поняли, что он не уяснил себе этих вопросов.
Чувственная подкладка всего его существа и необыкновенно сильная фантазия привели его к мистицизму в деле науки и религии. Животный магнетизм, который уже в 1820 г. играх важную роль в литературе, как средство к объяснению психологических процессов, стал предметом его увлечений. В «La peau de chagrin», «Seraphita», «Louis Lambert» воля определяется как сила, подобная силе пара, – как жидкость, которая может изменять все, даже абсолютные законы природы. Несмотря на то, что Бальзак был человек нового закала, он был настолько романтик, что питал влечение к «тайным наукам».
И природа, и воспитание готовили его к разумному наслаждению жизнью. Но уже в молодых летах посвященный в тайны испорченного общества, возмущаясь против всякой беспорядочности, он искал узды для распущенного человечества и нашел ее в господствующей церкви. Вот отчего часто мы замечаем у Бальзака такое резкое противоречие между чувственными инстинктами и аскетическими стремлениями, в особенности когда он размышляет о взаимных отношениях обоих полов; благодаря этому-то контрасту его романы: «Le lys dans la vallée», считаемый им за образцовое произведение, «Les mémoires de deux jeunes mariées» – производят неприятное впечатление. Этим же объясняется и часто встречающееся у него противоречие между основными философскими взглядами и клерикальными тенденциями. В предисловии к полному собранию своих сочинений он объясняет, что человек сам по себе ни хорош, ни дурен, и что общество всегда делает его лучшим, – стало-быть бессознательно высказывается резко против основного учения церкви. Чрез несколько строк он превозносит католицизм, как «единственное учение, подавляющее порочные человеческие наклонности», и требует, чтобы воспитание были вверено духовенству. Мысль об испорченных наклонностях века довела его до того, что он смотрел на народ, на прислугу, на крестьян почти как на общих врагов всякого собственника и в таком духе изображал их. Заметьте его комические выходки против послов в «Cousine Bette» и типы крестьян в романе «Les paysans». Его коньком были нападки на демократов, на либералов, на обе палаты и на представительную форму правления вообще.
При всем его крупном и блестящем таланте ему кое-чего не хватало, для выражения чего у французов нет слова, но что немцы называют образованием (Bildung). Ему не доставало также спокойствия, необходимого для приобретения образования. Спокойствие никогда не имела его деятельная натура, не знавшая устали, постоянно витавшая в мире фантазии. Но он обладал тем, что для поэта важнее всякого образования – сильным талантом и любовью к истине. Кто стремится только к прекрасному, тот изображает только ствол и верхушку человеческого древа. Но он изображал человека со всеми корнями его бытия и для него было в особенности важно, чтобы сплетение корней, часть растения, скрытая в земле, от которой зависит жизнь целого, была раскрыта для зрителя во всей своей самобытности. Пробелы в его образовании не помешают потомству учиться у него.
...
«Русская Мысль», № 6, 1881
Сноски
1
См. Un grand homme de province à Paris
2
Только для пояснения моей мысли приведу один пример. Куртизанка Жозефа спрашивает у старого барона Гизо, истощенного развратом, одного из генералов Бонапарта, правда ли, что он убил своего дядю и брата, разорил всю фамилию и обманул правительство, чтоб исполнять каприз своей возлюбленной?
Le baron inclina tristement la tête. – Eh bien! J\'aime cela! S\'écria Josepha; qui же leva plein d\'enthousiasme. C\'est an brûlage général. C\'est Sardanapale! C\'est grand! C\'est complet! On est une canaille maie on а du coeur! Eh bien! moi j\'aime mieu an mange – tout passioné comme toi pour les femmes que ces froids banquiers sans âmes qu\'on dit vertueux et qui ruinent des milliers de famille, avec leurs rails… Ça n\'est pas comme toi, mon vieu tu es un homme à passions, on te ferait vendre ta patrie! Ainsi, vois tu, je suis prête à tout faire pour toi! Td es mon père, ta m\'as lancé! c\'est sacré. Que te faut-il? Yeux tu cent-mille francs? On s\'ex terminera le tempérament pour te les gagnera.
Как метко обрисованы здесь характеры собеседников в немногих словах!
3
Charles de Louvenjoul: «Histoire des oeuvres de Balzac». 1879.
4
Это была г-жа де-Берни. См. Balzac: Correspondance, «Lettres à Louis», I и XXII. Письма к матери (январь 1836 г.) и к г-же Ганской (октябрь 1836 г.) ясно показывают, что дама, не названная по имени, о которой он пишет, была именно г-жа де-Берни.
5
Об этом говорят сам Бальзак, в «Ayant-Propos à la Comédie Humaine» и его alter ego, Даниэль д\'Арте, в «Illusions perdues». Самые крупные таланты из числа молодых французских поэтов подражают ему, напр. Альфред де-Виньи в «Cinq-Mars», В. Гюго в «Notre Dame de Paris», Мериме в «Chronique du règne de Charles IX», а впоследствии и Александр Дюма во множестве романов. Подобно друтим, и Бальзак был увлечен иноземным художником, начавшим новую эру в истории романа. Он хотел идти по его следам, не будучи однако слепым подражателем. Он думал соперничать с ним в описательном роде, который снова вошел в честь у романтиков, и сумел вдохнуть совсем иную жизнь в беседу действующих лиц. У Вальтер-Скотта является только один тип женщин.
6
Gëthe-Jahbuch 1880, стр. 289.
7
Прочтите в особенности «Le Message», «La Grenadière», «La femme abandonnée», «La grande Brétèche» и «La femme de trente ans» – собрание этюдов, не связанных между собою.
8
Иссуден в романе «Un ménage de garèon», Дуэ в «Le recherche de Pahsolu», Алансон в «La vieille fille», Безансон в «Albert Savaros», Сoмюр в «Eugénie Grandet», Ангулем в «Les deux poètes», Турью «Le curé de tour», Лимож в «Le curé de village», Сансерр в «La muse du département» и т. д.
9
Прочтите, например, замечательное введение к повести «La fille aux yeux d\'or», идея которой, к сожалению, антипатична. В нем парижская суета, веселье и роскошь изображены языком почти музыкальным.






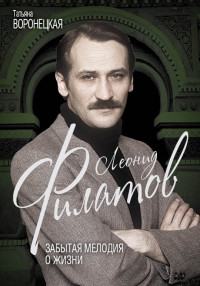
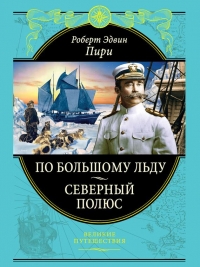
Комментарии к книге «Бальзак», Георг Брандес
Всего 0 комментариев