Иван Иванович Лажечников Заметки для биографии Белинского
Там одной незаметной могилы,[1] Где уснули великие силы, Мне хотелось давно поискать.Посвящая несколько страниц памяти одного из самых замечательных деятелей в нашей литературе, я должен оговориться, почему в длинном вступлении к моей статье я говорю о многом, что попадалось мне в цепи моих воспоминаний, и почти ничего о Белинском. Причина этому следующая: статья эта извлечена из моих памятных записок и в каком виде в них находилась, в таком ее представляю, исключая дополнения, необходимо требовавшие себе места в ней, когда я ее переписывал, и неминуемые обрезки, которые по многим причинам не могут еще увидеть свет (например, описание состояния Казанского университета в 1820-25 годах[2]). Я пожалел исключить длинное вступление, потому что оно обрисовывает время, когда ум и сердце Белинского начало тревожить все, что он видел, слышал и читал. Это время было оселком для врожденного критического такта его, развившегося впоследствии так художественно.
I
В конце 1820 года был я определен директором училищ Пензенской губернии.
Я приехал в Пензу поздно вечером и остановился на постоялом дворе. Желая застать училище без приготовления, я никому не дал знать о своем приезде. Хозяин двора не понимал даже, что такое за лицо директор училищ. Обыкновенно, как въезжает в заставу вновь определенная власть, управляющая или ревизующая, например, председатель какой-нибудь палаты, обер-форштмейстер (я разумею тогдашних, которые в два, три года наживали себе большие состояния, находя готовые клады, не охраняемые никакими духами, в лесах, преимущественно корабельных), чиновник особых поручений из Петербурга, не говорю уж о губернаторе, — когда въезжает в заставу такая власть, даже за несколько станций от города, уже в городе чутьем слышат персону. Все там, от мала до велика, приходит тогда в неописанное волнение, как бы в муравейник ткнули палкой. Не мудрено: с этими властями связаны жители видимыми и невидимыми нитями интереса. Но начальник училищ чужд этих интересов. В нем не имеют нужды ни полиция, ни откупщик, ни тяжущиеся за твое и мое, ни подсудимые, ни даже члены общества, играющие по большой. А в провинции и эта последняя несостоятельность шибко роняет человека! Кому до него дело, кроме бедных учителей, да разве двух, трех чадолюбивых родителей из числа сотен, отдающих свое детище на выучку в училище...{1}
Спустясь на более низшую ступень, расскажу еще один случай, приблизительно выражающий почет, каким пользовались тогда наставники юношества. Извините, и тут не миную отступлений.
В 1822 г. возвращался я в Пензу из Саратовской губернии, куда послан был визитатором тамошних училищ. В голове и сердце моем толпились еще свежие, отрадные воспоминания о Сарепте[3] и вообще о колониях тамошнего края, попадавшихся мне в пути. Везде видел я поля, прекрасно обработанные, леса, не только сбереженные, но и выхоленные, опрятность в домах, храмы божии и училища в каждой колонии, грамотность, ремесленность, сильно развитую, трудолюбие, строгую нравственность в семействах. Едешь на почтовых, сейчас угадаешь, кто тебя везет, колонист или русский мужичок. У первого лошади сыты и сбережены, сбруя на них кожаная, хорошо смазана; сам возчик в чистом, крепком кафтане, едет доброй, законной рысью, которую не прибавит ни за угрозы, ни за деньги. У другого лошади сбиты, иногда в язвах, по которым он, для поощрения своего живота, а иногда для собственной потехи, метко бьет кнутом; сбруя в узлах; иногда он едет так тихо, как будто ждет русского словца с подзатыльником, или за водку готов уморить лошадей. В колониях на праздник слышны духовные песни, стариков и молодых застаешь за чтением священных книг, на вечеринках соблюдается приличие; девушка зарделась бы от стыда, если бы повеса осмелился сказать при ней непристойное слово, да и отец и родственники явились бы перед судом пастора грозными обличителями в оскорблении ее стыдливости. Что ж видел я в наших русских деревнях? Курные избы, в них свиньи и бараны сбивают вас с ног, нечистота, грязь, рядом с иконами безобразные картинки с Спасского моста, все это облепленное тараканами, загаженное мухами; перед избой тощая хворостина под именем березки, посаженная по приказанию. Во время богослужения в церкви, бабы, сидя на паперти, гуторят про житейское, если еще не бранятся; что ни речь между мужиками, то сквернословие, которого не услышишь ни у какого народа; в избе валяются кое-как вместе: и женатая чета, и девки, и малолетки, — не думая ограждать чувство стыдливости хоть холщовым пологом. Хороводы дико горланят до полуночи, парни с девками обнимаются при всех; приезжего на сельский праздник городского молодца девки, увидевшие его в первый раз, зазывают на тайное свидание, свекровь за деньги сама приведет свою невестку, племянник и вместе крестный сын проучивает кулаками по рылу своего дядю, бывшего восприемником его от святой купели... Правда, ныне в богатых великорусских оброчных и казенных селениях, особенно в губерниях, близких к столицам, стали чище и даже богаче одеваться. В праздники на улицах увидите много женщин в малиновых штофных обжимцах, с куньими под соболь воротниками, и корсетках, в кринолинах своего рода, в башмаках и серых тонких чулках с красными стрелками (а женская щеголеватая обувь есть уже признак цивилизации), мужчин в нанковых или суконных полушубках, обшитых котиками, в плисовых шароварах и козловых сапогах. На окошках стоят самовары, песни в хороводах поются более нежными голосами. Но в избах та же нечистота, нравственность едва ли не на прежней ступени. Спросите у любого крестьянина или крестьянки, знают ли они заповеди божий, понимают ли они молитвы, если и выучили какую молитву; знает ли большая часть из них другой грех, кроме нарушения поста. Не говорю о белорусах{2}. Перед ними великорус и малорус смотрят барином. Зато кем не загнан был белорусский мужичок? и войной, и арендаторами, и жидами, и всем, что его окружает. Он ест обыкновенно хлеб, который великорусский крестьянин, тем менее малорус, не станет ни за что есть, разве в величайший голод (кроме псковитян, на границе Витебской, перенявших эту скудную яству от своих соседей). Это какая-то смесь из одной трети муки и двух третей мякины, род кирпича, которым в степи топят избы. Один помещик, говоря со мною об этом предмете, весьма наивно уверял меня, что, если дадут белорусу хлеб, вкушаемый другою породою людей, он будет болен. Это напомнило мне французов, взятых в плен в зиму 1812 г.; привыкшие питаться палой кониною, они вскоре умирали, как только их насыщали здоровою пищею. В Белоруссии многие владельцы прямо с полей свозят крестьянский хлеб к себе на гумно, будто бы для того, чтобы он не был пропит в корчмах (между тем заботятся об устройстве в своих имениях таких увеселительных домов), а потом выдают в месячину вышереченную смесь. Поверите ли, что один чиновник, ездивший по делам службы в ближайший от Витебска уезд, среди 600 душ одного помещика, не нашел куска чистого русского хлеба, чтоб утолить свой голод. Бывши несколько раз по должности моей в рекрутском присутствии, я видел, с каким удовольствием поставляемый в рекруты слышал над собою отрадный возглас: «лоб!» Он чуял уже в солдатской артели запах чистого русского хлеба. Белорусские крестьяне не считают великим бедствием холеру в сравнении с другим, постоянно их сокрушающим голодом. Я замечал во время пути моего через Белоруссию, что даже собаки в деревнях не лают на проезжих, а, увидав экипаж или холщовую еврейскую фуру, бегут под заворотню. Аминь.
Будем надеяться, что с благотворным изменением общественного быта наших крестьян примутся деятельные меры и к нравственно-религиозному их воспитанию. Об этом воспитании писал я еще в 1837 году к Пушкину[4] по случаю его замечания в письме ко мне, будто «тиранское управление Бирона было в духе его времени и во нравах народа». Натура русского человека не хуже натуры других народов. Известны его сметливость, отвага, твердость. В нынешнем году я имел случай убедиться, как животворно действуют на крестьян внушения доброго и умного пастыря. С какой жадностью грамотные из них выпрашивали у меня крижечки почитать! Не вина этой натуры, если она окружена была враждующими с нею обстоятельствами, от которых осталась в загрубелом состоянии. Зачем же клеветать на нее? Почва не дурна, только она была долго и долго в залежи и заросла разными плевелами. Расчистите ее, дайте свободным струям воздуха обдуть ее, лучу света проникнуть в ее пласты, бросьте в нее добрые семена, и вы увидите, какою благодарною жатвою она покроется. Скоро ли это сделается, как знать; но мы благословляем судьбу, что дожили до того времени, когда могучая и благодетельная рука[5] взялась уже за плуг... Да подаст господь царственному деятелю силы, долгие и славные дни на совершение им начатого!
В одной из колоний остановился я для перемены лошадей. Это было в понедельник, на первой неделе великого поста. В одно время со мною приехала туда же одна помещица. Мы вошли в большую, светлую, опрятную комнату. К одной стороне стан с основой серпянки, к другой — шкап с сияющей посудой; за перегородкой виднелась кровать с чисто прибранною постелью и занавесками. Из внутренней стенки выдвинулась невысокая, в уровень человека печь со вделанным в нее котлом, дном вверх, на котором молодая женщина, весьма опрятно одетая, готовила пшеничные блины (печь у колонистов топится из сеней, так что в жилье нет ни угару, ни дыму). Молодица приветствовала нас с добрым днем и потом предложила моей временной спутнице блинков ее изделия со свежим сливочным маслом. Помещица, поблагодарив ее, сказала, что теперь грех есть скоромное, потому что у нас пост. На это молодица отвечала текстом из св. писания.
В доме не было видно никакого смотрителя; лошадей запрягли в несколько минут.
На другой день, то есть во вторник на первой неделе великого поста, ожидала меня другая картина; я приехал на русскую станцию. Станционный дом был двухэтажный. На ступенях лестницы наросло грязи на вершок, паутина окружала вас со всех сторон. В комнате смотрителя та же нечистота. Стекла с оранжевыми и фиолетовыми отливами и струями сырости по запекшейся на них пыли свидетельствовали, что они несколько лет не мыты; на столе, среди лужи вина, стоял опорожненный штоф. На лавке лежала в безобразном виде пьяная жена смотрителя, еще молодая женщина, с распущенною, длинною косою, сметавшей пыль при малейшем ее движении. Смотритель был тоже порядком нагружен. Съежившись, с подобострастием принял он от меня подорожную, но лишь только блуждающими глазами поймал в ней начало слова: «училищ», как вырос целою головой. Гневно и презрительно взглянул на меня, повелительно вытянул свою могучую жилистую руку, будто превратился в трагического героя и хотел сказать: Qu'il mourut{3} (на станции)! и закричал хриплым, гробовым голосом: «учитель? — Не давать ему лошадей!»
Едва ли не подобный почет, только проявлявшийся не так гласно и в более мягких формах, приходился на долю тогдашних наставников юношества и от трезвых, более развитых членов общества. Бедность учителей, особенно уездных, оттого отчуждение их от этого общества, оттого дикость и странности их характера, иногда уклонение от порядочной жизни, оттого еще большее разъединение с обществом — вот причины и последствия того состояния, в каком находились в мое время наставники юношества. В каком состоянии они и теперь, можете видеть из художественного описания членов уездного училища в 1 части «Тысячи душ» Писемского.
Но возвратимся к осмотру пензенских училищ.
В гимназию пришел я в 10 часов утра. Еще в передней послышались мне дикие голоса и между ними крики: ура! Только что я хотел войти в классную комнату, как перед моим носом распахнулась дверь; ватага гимназистов хлынула через нее и едва не сшибла меня с ног. Школьники несли на руках учителя русской словесности, в каком положении — можете догадаться. «Что это вы делаете?» — спросил я их. «Мыши кота погребают»[6], — отвечали они. Какие меры не употреблял я, чтобы привести этого господина на правый путь, а по своим способностям он это заслуживал — поселил его подле себя, пригласил разделять со мною хлеб-соль, старался ввести в свой кружок — ничто не помогло. Бывало, чем свет, накинет на себя свой дырявый ситцевый халат и, в туфлях на босую ногу, бежит к струям российской отуманивающей иппокрены и потом заедает их солеными огурцами. В других классах ни одного учителя, ни одного ученика.
В уездном училище, при моем посещении, тоже ни одного учителя. Был класс русской истории. Преподаватель ее, задав на выучку, слово в слово, целого удельного князя и отметив в книге задачу, ушел куда-то по своим домашним надобностям. Учеников застал я в самом разгаре гимнастических упражнений, так что в комнате стояла пыль столбом.
На место кота, которого погребали мыши, поступил школяр и педант в высшей степени. Он твердо зазубрил всевозможные риторики, русские и латинские, и даже вздумал было преподавать одну из них по иезуитскому руководству Лежая. Большей частью забивал он учеников хитрыми упражнениями на фигурах и тропах, как будто учил выделывать из слов разные фокусы. Разумеется, по тогдашнему он учил и изобретал по известным вопросам: кто, что и т.д. Белинский был долго под ферулой его, как учителя русской словесности и исправлявшего некоторое время, по старшинству, должность директора училищ, но, с врожденной ему энергией, не поддался ей. Вероятно, что с того времени риторика ему и опротивела. Преподавателей других предметов или не было, или были они вроде кота и ритора. Не говорю уж о жалких учителях французского и немецкого языков того времени.
Да из кого ж было набрать их?.. Помнится, вскоре после моего прибытия в Пензу, вышло постановление, чтобы желающие поступить в домашние учители иностранных языков были экзаменуемы в гимназиях. Каких претендентов не являлось на эту должность, — и солдаты великой наполеоновской армии, оставшиеся в России после 12-го года, и красильщики, ткачи, не находившие у нас работы рукам своим! Бывало, напишут ко мне на своем родном языке просительное письмо о желании их держать экзамен, а я на этом же письме, в каких-нибудь десяти строчках, подчеркну до двадцати грубых ошибок против грамматики и, без всяких дальнейших объяснений, отошлю письмо назад к просителю. Тем нередко и кончался экзамен. Один из этих господ, бывший лионский красильщик, которому я таким образом забрил затылок, увидав меня лет через восемь в Москве, с бесстыдством сказал мне: «О! я теперь хорошо знаю грамматику; вы бы теперь меня не узнали!» То есть он, уча детей, на помещичьи деньги сам учился и практиковался. Из этой-то когорты передовые люди определялись в учители гимназии.
В скором однако ж времени поступило в нее несколько более образованных и надежных учителей из воспитанников университета. Между ними был один, М.М.П[опо]в[7] настоящий клад для гимназии. С любовью к науке, особенно к литературе, с светлым умом и основательным образованием, он соединял теплое сердце и душу поэтическую. Я приобрел его дружбу{4}. Ученики любили его и никого не слушали с таким удовольствием и пользою. Счастлив был Белинский, что попал в его школу; под теплым крылом его он развил в себе любовь к литературе и ко всему прекрасному.
Удивительно ли, что я застал почти за 40 лет назад пензенскую гимназию в таком состоянии, когда я, 12 лет позднее, нашел одну из гимназий московского учебного округа, именно тверскую, едва ли в лучшем. Учители беспрестанно занимались в ней сутяжничеством и доносами друг на друга, вмешательством в самую мелкую экономию заведения. Поверят ли теперь, что один из них, вскоре после моего определения в директоры, подал мне рапорт с приложением клочков бумаги, найденных им в каком-то секретном месте, о котором приличие не позволяет говорить? В этом донесении изъяснял он, что подозревает в бумажных лоскутках экономические счеты гимназии, и потому, как верный подданный, радея о казенном интересе, просит строжайше исследовать дело... Был учитель старичок, настоящий заплесневевший сухарь по наружности и по познаниям, который всегда, по выбытии из гимназии кого-либо из учителей — выходил ли преподаватель естественной истории, так называемой политической, латыни, французского языка и пр. и пр. — сейчас предлагал себя для замещения его, разумеется, с прибавочным жалованием. По его мнению, чтобы быть преподавателем, стоило только взять любое руководство, задавать из него уроки, отмечать их карандашом, или, что дешевле, ногтем, спрашивать эти уроки слово в слово или возлагать эту обязанность на старших учеников, за незнание ставить детей на колени, а иногда попросту высечь их — и вот вам готов учитель. Был учитель латыни, тоже вроде кота, который, по выходе из гимназии, не нашел для себя лучшей карьеры, как сельского заседателя, и впоследствии из этой должности порывался на прежнюю. Был преподаватель из наполеоновских тамбур-мажоров, который пять дней в неделю чадолюбиво откармливал на своей ферме индеек и поросят, или шнырял в присутственных местах по своим и соседским тяжебным делам, а два дня, на скорую руку, упитывал чужих детей задачами из французских диалогов и грамматики, чтобы скорее возвратиться к своим четвероногим и двуногим пенатам, или к весам Фемиды. И так далее, и так далее. Каково было мне возиться с этими господами, особенно с теми, которые имели сватов, кумов и покровителей в Москве!.. Виноват перед латинской поговоркой — покойников добром помянуть нечем.
Но и здесь (не все ж говорить о подвигах высоких особ; почему ж и не почтить память бедного труженика учителя? достойно нести 25 лет, да еще на одном месте, эту должность, нелегкий подвиг — стоит 25 лет походов!) долгом почитаю оговорить, что полезнейшим, образованнейшим из членов гимназии, украшением ее был, в мое время и долго, долго после меня, учитель математики Будревич, товарищ Мицкевича и Ковалевского{5}[8] по Виленскому университету.
Можно сказать, что благодатной эрой обновления гимназий московского учебного округа было то время, когда дирекция их перешла из-под заведования советов и правлений университета в непосредственное управление попечителей или, лучше сказать, со времени попечителя графа С.Г.Строганова[9]. Сильною, незыблющеюся рукою выкинул он из этих заведений всю ветошь и гниль и заменил их свежими, разумными силами из Московского университета. Многое сделал он для университета, многое совершил и для гимназий. С благодарностью отметит потомство имя этого государственного человека, обновителя московского учебного округа.
II
В 1823 году ревизовал я чембарское училище. Новый дом был только что для него отстроен. (В этом ли доме, или во вновь построенном после бывшего пожара, не знаю хорошо, жил несколько времени император Николай Павлович по случаю болезни своей от падения из экипажа на пути близ Чембара). Во время делаемого мною экзамена выступил передо мною, между прочими учениками, мальчик лет 12, которого наружность с первого взгляда привлекла мое внимание. Лоб его был прекрасно развит, в глазах светился разум не по летам; худенький и маленький, он, между тем, на лицо казался старее, чем показывал его рост. Смотрел он очень серьезно. Таким вообразил бы я себе ученого доктора между позднейшими нашими потомками, когда, по предсказаниям науки, измельчает род человеческий. На все делаемые ему вопросы, он отвечал так скоро, легко, с такою уверенностию, будто налетал на них, как ястреб на свою добычу (отчего я тут же прозвал его ястребком), и отвечал, большею частию, своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже в казенном руководстве, — доказательство, что он читал и книги, не положенные в классах. Я особенно занялся им, бросался с ним от одного предмета к другому, связывая их непрерывною цепью, и признаюсь, старался сбить его... Мальчик вышел из трудного испытания с торжеством. Это меня приятно изумило, также и то, что штатный смотритель (Авр. Греков[10]) не конфузился, что его ученик говорит не слово в слово по учебной книжке (как я привык видеть и с чем боролся немало в других училищах). Напротив, лицо доброго и умного смотрителя сияло радостью, как будто он видел в этом торжестве собственное свое. Я спросил его, кто этот мальчик. «Виссарион Белинский, сын здешнего уездного штаб-лекаря», — сказал он мне. Я поцеловал Белинского в лоб, с душевною теплотой приветствовал его, тут же потребовал из продажной библиотеки какую-то книжонку, на заглавном листе которой подписал: «Виссариону Белинскому за прекрасные успехи в учении» (или что-то подобное) от такого-то, тогда-то. Мальчик принял от меня книгу без особенного радостного увлечения, как должную себе дань, без низких поклонов, которым учат бедняков с малолетства. Чембар — маленький уездный городок, не лучше посредственного села. Местоположение его и окрестностей довольно живописны.
Как говорил мне смотритель, Белинский гулял часто один, не был сообщителен с товарищами по училищу, не вмешивался в их игры и находил особенное удовольствие за книжками, которые доставал, где только мог. Отец его, уроженец Польши[11] или западных губерний, был очень беден и неизвестен дальше своего околотка{6}. Сын его Виссарион родился в наших степях[12], в нашей вере, и был вполне русским. Общество, которое дитя встречало у отца, были городские чиновники, большею частью члены полиции, с которыми уездный лекарь имел дело по своей должности (от которой ничего не наживал). Общество это видел он нараспашку, часто за ерофеичем и пуншем, слышал речи, вращавшиеся более всего около частных интересов, приправленные цинизмом взяточничества и мерзких проделок, видел воочию неправду и черноту, замаскированные боязнью гласности, не закрашенные лоском образованности, видел и купленное за ведерку крестное целование понятых и свидетельствование разного рода побоев и пр. и пр... Душа его, в которую пала с малолетства искра божия, не могла не возмущаться при слушании этих речей, при виде разного рода отвратительных сцен. С ранних лет накипела в ней ненависть к обскурантизму, ко всякой неправде, ко всему ложному, в чем бы они ни проявлялись, в обществе или в литературе. Оттого-то его убеждения перешли в его плоть и кровь, слились с его жизнью. Только с жизнью он и покинул их. Прибавьте к безотрадному зрелищу гнилого общества, которое окружало его в малолетстве, домашнее горе, бедность, нужды, вечно его преследовавшие, вечную борьбу с ними, и вы поймете, отчего произведения его иногда переполнялись желчью, отчего, в откровенной беседе с ним, из наболевшей груди его вырывались грознообличительные речи, которые, казалось, душили его. Он действовал на общество и литературу, как врач на больного, у которого прижигает и вырезывает язвы; можно ли сказать, что этот врач не любит человечество?.. Менее страстная и энергическая натура уступила бы обстоятельствам и не совершила бы того, что он совершил в такую короткую жизнь.
По случаю перевода моего в Казань я потерял было Белинского из виду. Знал я только, что он перешел в пензенскую гимназию в августе 1825 года (из просьбы отца его начальству гимназии о приеме его в это учебное заведение видно, что ему было тогда 14 лет). По сведениям, почерпнутым из гимназических ведомостей, видно, что Белинскому в 3-м классе отмечено: из алгебры и геометрии 2, из истории, статистики и географии 4, из латинского языка 2, из естественной истории 4, из русской словесности и славянского языка 4, во французском и немецком языках отмечен, что не учился{7}. В январе 1829 года в ведомостях показано, что за нехождение в класс не рекомендуется, а в феврале вычеркнут из списков и рукою директора означено: «за нехождение в класс». Что ж можно вывести из всех этих отметок? Что он был нерадив к учению? Мы могли бы указать на примеры некоторых великих писателей, в том числе нашего Пушкина, которые не считались в школе отличными учениками. Но мы найдем объяснение официальной аттестации Белинского в следующем интересном свидетельстве любимого, уважаемого им учителя о любимом своем ученике[13].
«В гимназии, по возрасту и возмужалости, он во всех классах был старше многих сотоварищей. Наружность его мало изменилась впоследствии: он и тогда был неуклюж, угловат в движениях. Неправильные черты лица его между хорошенькими личиками других детей казались суровыми и старыми. На вакации он ездил в Чембар, но не помню, чтобы отец его приезжал к нему в Пензу, не помню, чтобы кто-нибудь принимал в нем участие. Он, видимо, был без женского призора, носил платье кое-какое, иногда с непочиненными прорехами. Другой на его месте смотрел бы жалким, заброшенным мальчиком, а у него взгляд и поступки были смелые, как бы говорившие, что он не нуждается ни в чьей помощи, ни в чьем покровительстве. Таков он был и после, таким и пошел в могилу.
...Впрочем, зачем перечислять учителей? Некоторые из них были ученые люди, с познаниями, да ум-то Белинского мало выносил познаний из школьного учения. К математике он не чувствовал никакой склонности, иностранные языки, география, грамматика и все, что передавалось по системе заучиванья, не шли ему в голову{8}; он не был отличным учеником и в одном, котором-то, классе, просидел два года.
Надобно однако ж сказать, что Белинский, несмотря на малые успехи в науках и языках, не считался плохим мальчиком. Многое мимоходом западало в его крепкую память, многое он понимал сам, своим пылким умом; еще больше в нем набиралось сведений из книг, которые он читал вне гимназии. Бывало, поэкзаменуйте его, как обыкновенно экзаменуют детей — он из последних, а поговорите с ним дома, по-дружески, даже о точных науках, — он первый ученик. Учителя словесности были не совсем довольны его успехами, но сказывали, что он лучше всех товарищей своих писал сочинения на заданные темы.
Во время бытности Белинского в пензенской гимназии преподавал я естественную историю, которая начиналась уже в 3-м классе. (Тогдашний курс гимназический состоял из четырех классов). Поэтому он учился у меня только в двух высших классах. Но я знал его с первых, потому что он дружен был с соучеником своим, моим родным племянником, и иногда бывал в нашем доме. Он брал у меня книги и журналы, пересказывал мне прочитанное, судил и рядил обо всем, задавал мне вопрос за вопросом. Скоро я полюбил его. По летам и тогдашним отношениям нашим он был неравный мне, но не помню, чтоб в Пензе с кем-нибудь другим я так душевно разговаривал, как с ним, о науках и литературе.
Домашние беседы наши продолжались и после того, как Белинский поступил в высшие классы гимназии. Дома мы толковали о словесности; в гимназии он, с другими учениками, слушал у меня естественную историю. Но в Казанском университете я шел по филологическому факультету, и русская словесность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себе, что иногда происходило в классе естественной истории, где перед страстным, еще молодым в то время учителем сидел такой же страстный к словесности ученик. Разумеется, начинал я с зоологии, ботаники или ориктогнозии и старался держаться этого берега, но с средины, а случалось и с начала лекции, от меня ли, от Белинского ли, бог знает, только естественные науки превращались у нас в теорию или историю литературы. От Бюффона-натуралиста[14] я переходил к Бюффону-писателю, от гумбольдтовой[15] географии растений к его „Картинам природы“, от них к поэзии разных стран, потом к целому миру, к сочинениям Тацита и Шекспира, к поэзии в сочинениях Шиллера и Жуковского... А гербаризации? Бывало, когда отправлюсь с учениками за город, во всю дорогу, пока не дойдем до засеки, что позади городского гулянья, или до рощи, что за рекой Пензой, Белинский пристает ко мне с вопросами о Гете, Вальтере Скотте, Байроне, Пушкине, о романтизме и обо всем, что волновало в то доброе время наши молодые сердца.
Тогда Белинский, по летам своим, еще не мог отрешиться от обаяния первых пушкинских поэм и мелких стихов. Неприветно встретил он сцену: „Келья в Чудовом монастыре“. Он и в то время нескоро поддавался на чужое мнение. Когда я объяснил ему высокую прелесть в простоте, поворот к самобытности и возрастание таланта Пушкина, он качал головой, отмалчивался или говорил: „дайте, подумаю; еще прочту“. Если же с чем он соглашался, то, бывало, отвечал с страшной уверенностью: „совершенно справедливо!“
Журналистика наша в двадцатых годах выходила из детства. Полевой передавал по „Телеграфу“[16] идеи запада, все, что являлось там нового в области философии, истории, литературы и критики. Надоумко[17] смотрел исподлобья, но глубже Полевого, и знакомил русских с германской философией. Оба они снимали маски со старых и новых наших писателей и приучали судить о них, не покоряясь авторитетам. Белинский читал с жадностию тогдашние журналы и всасывал в себя дух Полевого и Надеждина.
Он уехал в Москву в августе 1829 г.».
Это свидетельство неофициальное, не требует комментарий. Скажу только, что в школе любимого своего учителя гениальная натура Белинского начала свое настоящее образование; здесь была его гимназия.
В 1829 г. жил я в Москве. В этот и следующий год являлись ко мне молодые люди, исчерпавшие глубину премудрости пензенской гимназии и переходившие в Московский университет, который, преимущественно перед другими университетами, обаятельно привлекал к себе юношей изо всех мест. Они являлись ко мне или по старой памяти, или с рекомендательными письмами доброго M.M.П., который заботился об них, как самый близкий родной, и за пределами гимназии. Мое дело было приютить их на первых порах в Москве, казавшейся этим дальним странникам из степей каким-то Вавилоном, похлопотать скорее пристроить бедняков в университет, и, если можно, на казенный кошт, руководить их советами, пригреть их в сиротстве добрым, ласковым словом, помочь им, чем и как позволяли мои скудные средства. Эти обязанности считал я самыми приятными; в числе этих молодых людей был и Белинский.
В 1830 году задумали мы с M.M.П[оповым] альманах «Пожинки», и вербовали из пензенцев более даровитых молодых людей себе в сотрудники. Издание этого альманаха не удалось. Вот письмо, писанное по этому случаю 19-летним Белинским своему бывшему наставнику; оно интересно выражениями гордого, благородного характера юноши, никогда не изменявшегося впоследствии, несмотря ни на какие обстоятельства, и процесса, каким вырабатывалось в его душе истинное его призвание.
«Москва, 1830 года, апреля 30 дня.
Милостивый государь
М[ихаил] М[ихайлович]!
В чрезвычайное затруднение привело меня письмо моего родственника: „М[ихаил] М[ихайлович], пишет он, издает с И[ваном] И[вановичем] Л[ажечниковым] альманах и через меня просил вас прислать ему ваших стихотворений, самых лучших“. Не могу вам описать, какое действие произвели на меня эти строки: мысль, что вы еще меня не забыли, что вы еще так же ко мне благосклонны, как и прежде; ваше желание, которого я, несмотря на пламенное усердие, не могу исполнить, — все это привело меня в необыкновенное состояние радости, горести и замешательства. Бывши во втором классе гимназии, я писал стихи и почитал себя опасным соперником Жуковского; но времена переменились. Вы знаете, что в жизни юноши всякий час важен: чему он верил вчера, над тем смеется завтра. Я увидел, что не рожден быть стихотворцем, и, не хотя идти наперекор природе, давно уже оставил писать стихи. В сердце моем часто происходят движения необыкновенные, душа часто полна чувствами и впечатлениями сильными, в уме рождаются мысли высокие, благородные — хочу их выразить стихами и не могу! Тщетно трудясь, с досадою бросаю перо. Имею пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имею душу полную и, при всем том, не имею таланта выражать свои мысли и чувства легкими, гармоническими стихами. Рифма мне не дается и, не покоряясь, смеется над моими усилиями; выражения не уламываются в стопы, и я нашелся принужденным приняться за смиренную прозу. Есть довольно много начатого — и ничего оконченного и обработанного, даже такого, что могло поместиться не только в альманахе, где сбирается все отличное, но даже и в „Дамском журнале“[18]! В первый еще раз я с горестию проклинаю свою неспособность писать стихами и леность писать прозою.
Мне давно нужно было писать к вам, но я не могу сам понять, что меня от сего удерживало, и в сем случае столько перед вами виноват, что не смею и оправдываться.
Вы писали обо мне И.И.Лажечникову. Я это как бы предчувствовал в то время, как вы вручали мне письмо. Благородный человек, скажите: чем я могу вам заслужить за это? Столько ласк, столько внимания и наконец такое одолжение! ищу слов для моей признательности и не нахожу ни одного, которое бы могло выразить оную. Вы доставили мне случай видеть человека, которого я всегда любил и уважал, — видеть и говорить с ним. Он принял меня очень ласково и, исполняя ваше желание, просил обо мне некоторых из гг. профессоров, но просьбы его и намерение оказать мне одолжение не имели успеха: ибо я, по стечению некоторых неблагоприятных для меня обстоятельств, не мог ими пользоваться.
Я не из числа тех низких людей, которые тогда только чувствуют благодарность за прилагаемые об них старания, когда оные бывают не тщетны. Хотя моим поступлением в университет я никому не обязан, однако навсегда останусь благодарным вам и И.И. Если ваше желание споспешествовать устроению моего счастия не имело успеха, то этому причиною не вы, а посторонние обстоятельства.
Так, милостивый государь, если моя к вам признательность, мое беспредельное уважение, искреннее чувство любви имеют в глазах ваших хотя некоторую цену, то позвольте уверить вас, что я оные буду вечно хранить в душе моей, буду ими гордиться. Уметь ценить и уважать такого человека, как вы, есть достоинство, заслужить от вас внимание есть счастие.
Но, может быть, я утомил вас изъяснением моей благодарности. Извините меня: строки сии не суть следствие лести; нет: это излияние души тронутой, сердца, исполненного благодарности; чувства мои неподдельные: они чисты и благородны, как мысль о том, кому посвящаются. Для меня нет ничего тягостнее, ужаснее, как быть обязанным кому-либо: вы делаете из сего исключение, и для меня ничего нет приятнее, как изъявлять вам мою благодарность.
Извините меня, если я продолжительным письмом моим отвлек вас от ваших занятий и похитил у них несколько минут. Итак, вторично прося у вас извинения за то, что я не засвидетельствовал прежде вам моей благодарности, остаюсь с чувством глубочайшего уважения и готовностию к услугам вашим,
ученик ваш
Виссарион Белинский».
Пока я жил в Москве, он нередко посещал меня; мы сблизились, несмотря на расстояние лет; не было заботы и надежды, не было юношеского увлечения, которых он не поверял бы мне; случалось мне и отечески пожурить его. По моему совету, он обещал мне заняться французским и немецким языками, тогда ему малодоступными.
«Чрез полтора года, — пишет ко мне M.M.П[опов], — как после отъезда Белинского из Пензы я отправился в Петербург, на пути, в Москве, пробыл дня три: это было во время масленицы 1831 года. Каждое утро приходили ко мне племянник мой и Белинский. Потом, возвращаясь от вас или из театра, я опять встречал их в моей квартире. Прежние разговоры у нас возобновились. Тут я увидел большую перемену в Белинском. Ум его возмужал; в замечаниях его проявлялось много истины. Там прочли мы только что вышедшего тогда „Бориса Годунова“. Сцена „Келья в Чудовом монастыре“ на своем месте, при чтении всей драмы, показалась мне еще лучше. Белинский с удивлением замечал в этой драме верность изображений времени, жизни и людей; чувствовал поэзию в пятистопных безрифменных стихах, которые прежде называл прозаическими, чувствовал поэзию и в самой прозе Пушкина. Особенно поразила его сцена „Корчма на литовской границе“. Прочитав разговор хозяйки корчмы с собравшимися у нее бродягами, улики против Григория и бегство его через окно, Белинский выронил книгу из рук, чуть не сломал стула, на котором сидел, и восторженно закричал: „Да, это живые; я видел, я вижу, как он бросился в окно!..“ В нем уже проявился тот критический взгляд, который впоследствии руководил им при оценке сочинений Гоголя.
После того между мною и Белинским не было сношений до переезда его в Петербург. В этот промежуток он выступил в московских журналах на литературном поприще.
Из первой же критической статьи его (1834) „Литературные мечтания“ видно было, что он угадал талант свой. Тогда вспомнил я, что и в годы ученья он обнаруживал больше всего способность к критике; что душою его мыслей, разговоров его всегда были суждения о писателях. Еще в гимназии он пробовал писать стихи, повести прозой — шло туго, не клеилось; написал грамматику — не годилось. Принялся за критику — и пошло писать... После того ни грамматика, ни служба, ни общественные развлечения, ни жажда денег, ни слава быть стихотворцем или беллетристом — ничто уж не совлекало его с избранного пути... Он родился, жил и умер критиком».
M.M.Попов в этом письме прибавляет:
«Белинского я так долго и коротко знал, что могу рассказать весь тайный процесс его умственного развития.
Прежде говорил я, что в гимназии учился он не столько в классах, сколько из книг и разговоров. Так было и в университете. Все познания его сложились из русских журналов, не старее двадцатых годов, и из русских же книг. Недостающее в том пополнилось тем, что он слышал в беседах с друзьями. Верно, что в Москве умный Станкевич имел сильное влияние на своих товарищей. Думаю, что для Белинского он был полезнее университета. Сделавшись литератором, Белинский постоянно находился между небольшим кружком людей, если не глубоко ученых, то таких, в кругу которых обращались все современные, живые и любопытные сведения. Эти люди, большею частию молодые, кипели жаждою познаний, добра и чести. Почти все они, зная иностранные языки, читали столько же иностранные, сколько и русские книги и журналы. Каждый из них не был профессор, но все вместе по части философии, истории и литературы постояли бы против целой Сорбонны. В этой-то школе Белинский оказал огромные успехи. Друзья и не замечали, что были его учителями, а он, вводя их в споры, горячась с ними, заставлял их выкладывать перед ним все свои познания, глубоко вбирал в себя слова их, на лету схватывал замечательные мысли, развивал их далее и объемистей, чем те, которые их высказывали. Таким образом, не погружаясь в бездну русских старых книг, не читая ничего на иностранных языках, он знал все замечательное в русской и иностранных литературах. В этой-то школе вырос талант его и возмужало его русское слово».
В 1832 году, бывши уже на втором университетском курсе, он написал драму[19], в которой живо затронул крепостной вопрос. Я предсказал ему судьбу его; действительность оправдала мое предсказание[20]. Это его очень огорчило. С того времени стал он нерадиво посещать лекции и вскоре перестал ходить на них. Жизнь его помутилась... Но дремота его духовных сил была не долговременна; ни люди, ни обстоятельства не могли их подавить в этой юной, но уже непреклонной натуре. Дары от бога, не от людей, не пропадают. В 1834 году появилась в нескольких нумерах «Молвы» блистательная статья его под названием «Литературные мечтания, элегия в прозе». Мало кому из молодых писателей случалось начинать свое поприще так смело, сильно и самостоятельно. Белинский выступил в ней во всеоружии даровитого иноватора. Изумление читателей было общее. Кто был от нее в восторге, кто вознегодовал, что дерзкою рукой юноши, недоучившегося студента (как узнали вскоре), семинариста (как называли его иные), одним словом, человека без роду-племени, кумиры их сбиты с пьедестала, на котором они, казалось, стояли так твердо. Поклонники этих кумиров, провожая их по течению Леты, как ни кричали им: «батюшка, выдыбай!», сколько ни делали усилий пригнать их к вожделенному берегу, — не многие из них спаслись от потопления. С этой поры Белинский угадал свое призвание и не ошибся в нем. Критик, какого мы до него не имели, он до сих пор ждет себе преемника. Что бы ни говорили об его ошибках (не мое дело здесь защищать его: я не пишу критического разбора), за ним навсегда останется слава, что он сокрушил риторику, все натянутое и изысканное, всякую ложь, всякую мишуру, и на место их стал проповедовать правду в искусстве (разумея тут и правду художественную). Рядом с его теорией шли Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Даль, артисты Мочалов и Щепкин; за нею следовала целая плеяда высокодаровитых писателей, и во главе их Тургенев, высокий поэт и в самых мелких из своих произведений. И теперь вновь выдвинувшиеся из литературных рядов деятели вышли из его школы. Артисты Мартынов и Садовский принадлежат к ней. Лучшие критики нашего времени живут ее началами. Те из них, которые фантазируют свои новые туманные теории, ими самими непонятые, тем более другими, еле-еле дышат.
Никто, как Белинский, не сокрушал так сильно ложных знаменитостей, никто, как он, так зорко не угадывал в первых опытах молодых писателей будущего замечательного таланта, не упрочивал так твердо славы за теми, кому она, по его убеждению, следовала. Убеждения были в нем так сильны, он так строго, так свято берег их от старых литературных уставщиков, что был сурово-неумолим для всего, в чем видел даже малейшее уклонение от правды в искусстве, неумолим для всех дальних и близких, в которых замечал это уклонение, принадлежали ли они к временам Августа, Людовика XIV, Екатерины II, или к его времени. Став на страже у алтаря правды, он готов был поднять камень и против друга, который осмелился бы обратиться спиной к его богине.
Писал ли он об учебной книге, о воспитании, о художественном произведении, об игре актера в «Гамлете», каждая статья, хотя и писанная на срок, для журнала, заключала в себе целую теорию искусства, воспитания, общественной и личной нравственности. Откладывать написанное для просмотра, очищать, обтачивать было некогда и не по нем; тут все правила Буало[21] (которого он и терпеть не мог) — за окошко. Пуризм был для него своего рода риторика. Между тем язык его прост, ясен, энергичен, вычеканивает мысль верно, четко, в образ, как мастер выбивает из слитка благородного металла, только что вынутого из горнила, крупные монеты с новым художественным штемпелем, которые ложатся, одна за другою, как жар горящими рядами.
«Перечтите, — говорит M.M.Попов, — статьи Белинского, написанные превосходным русским языком: сколько в них мыслей, высокого ума, сколько одушевления!.. Это не сухие разборы, не повторения избитого, не журнальный балласт, но сочинения, дышащие жизнью, самобытные и увлекательные! Он был столько же замечательный литератор, сколько замечательный критик. По таланту критика, у нас до сих пор никто не превосходил Белинского; как литератор он один из лучших писателей сороковых годов».
Приехав однажды в первых тридцатых годах из Твери в Москву, я хотел посетить Белинского и узнать его домашнее житье-бытье. Он квартировал в бельэтаже (слово было подчеркнуто в его адресе), в каком-то переулке между Трубой и Петровкой[22]. Красив же был его бельэтаж! Внизу жили и работали кузнецы. Пробраться к нему надо было по грязной лестнице; рядом с его каморкой была прачешная, из которой беспрестанно неслись к нему испарения мокрого белья и вонючего мыла. Каково было дышать этим воздухом, особенно ему, с слабой грудью! Каково было слышать за дверьми упоительную беседу прачек и под собой стукотню от молотов русских циклопов, если не подземных, то подпольных! Не говорю о беднейшей обстановке его комнаты, не запертой (хотя я не застал хозяина дома), потому что в ней нечего было украсть. Прислуги никакой; он ел, вероятно, то, что ели его соседки. Сердце мое облилось кровью... я спешил бежать от смрада испарений, обхвативших меня и пропитавших в несколько минут мое платье; скорей, скорей на чистый воздух, чтобы хоть несколько облегчить грудь от всего, что я видел, что я прочувствовал в этом убогом жилище литератора, заявившего России уже свое имя!
Между разными средствами, которые мы отыскивали с Белинским, чтобы вывести его из этого ужасного положения, придуман был один и одобрен нами: идти ему в домашние секретари к одному богатому аристократу, страшному охотнику писать и печататься. Он известен в литературе под именем, помнится, Прутикова[23]. Обязанности секретаря состояли так же, как и прачек, в том, чтобы чистить, штопать и выглаживать черное литературное белье его превосходительства. Зато стол, квартира, прислуга в богатом доме и небольшое жалованье, чего же лучше! Дело было легко уладить. Прутиков не раз обращался ко мне с просьбой, по дружбе, взглянуть на его творения и, если мне не в тягость, поправить кое-где грамматические и другие погрешности. Но когда догадался, что это занятие не по мне, стал уже просить меня приискать ему в помощники надежного студента. Под этот случай попался Белинский.
Вскоре он водворен в аристократическом доме, пользуется не только чистым, но даже ароматическим воздухом, имеет прислугу, которая летает по его мановению, имеет хороший стол, отличные вина, слушает музыку разных европейских знаменитостей (одна дочь его прев[осходительств]ва музыкантша), располагает огромной библиотекой, будто собственной, одним словом — катался, как сыр в масле. Но вскоре заходят тучи над этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчас жертвовать своими убеждениями, собственною рукой писать им приговоры, действовать против совести. И вот, в одно прекрасное утро Белинский исчезает из дома, начиненного всеми житейскими благами, исчезает с своим добром, завязанным в носовой платок, и с сокровищем, которое он носил в груди своей. Его превосходительству оставлена записка с извинением нижеподписавшегося покорного слуги, что он не сроден к должности домашнего секретаря. Шаги его направлены к такой же убогой квартирке, в какой он жил прежде. Голова его высоко поднята, глаза его смело смотрят в небо: ни разу они, так же, как и сердце, не обратились назад к великолепным палатам, им оставленным. Он чувствует, что исполнил долг свой.
В одном из уездов Тверской губернии есть уголок[24] (Пушкин некоторое время жил близ этих мест, у помещика Вульфа[25]), на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими, какие могла только собрать в стране семимесячных снегов. Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях. Да и семейство, жившее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами. Зато как было тепло в нем сердцу, как ум и талант в нем разыгрывались, как было в нем привольно всему доброму и благородному! Художник, музыкант, писатель, учитель, студент, или просто добрый и честный человек, были в нем обласканы равно, несмотря на состояние и рождение. Казалось мне, бедности-то и отдавали в нем первое место. Посетители его, всегда многочисленные, считали себя в нем не гостями, а принадлежащими к семейству. Душою дома был глава его, патриарх округа. Как хорош был этот величавый, с лишком семидесятилетний старец[26], с не покидающею его улыбкой, с белыми, падающими на плечи волосами, с голубыми глазами, не видящими, как у Гомера, но с душою, глубоко зрящею, среди молодых людей, в кругу которых он особенно любил находиться и которых не тревожил своим присутствием. Ни одна свободная речь не останавливалась от его прихода. В нем забывали лета, свыкнувшись только с его добротой и умом.
Он учился в одном из знаменитых в свое время итальянских университетов, служил не долго, не гонялся за почестями, доступными ему по рождению и связям его, дослужился до неважного чина и с молодых лет поселился в деревне, под сень посаженных его собственною рукою кедров. Только два раза вырывали его из сельского убежища обязанности губернского предводителя дворянства и почетного попечителя гимназии. Он любил все прекрасное, природу, особенно цветы, литературу, музыку и лепет младенца в колыбели, и пожатие нежной руки женщины, и красноречивую тишину могилы. Что любил он, то любила его жена и приятная женщина, любили дети, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнее.
Откуда, с каких концов России, не стекались к нему посетители! Сюда, вместе с Станкевичем[27], Боткиным[28] и многими другими даровитыми молодыми людьми (имена их смешались в моей памяти), не мог не попасть и Белинский. В один из последних тридцатых годов общество молодых людей (в том числе и Белинский), гостивших у моего соседа, в уголку, мною описанном, посетило и меня на берегах Волги[29]. Говорю об этом случае, потому что он, по многим причинам, оставил навсегда в душе моей приятное воспоминание. Это было то время, когда учение Гегеля сильно у нас разгоралось, когда адепты его ходили в каком-то восторженном от него упоении до того, что вербовали в его школу и стариков, и юношей, и девиц. Один из них даже писал к молодой, прекрасной особе, к которой был очень неравнодушен, послания по эстетике Гегеля. Он сам гораздо позже над этим смеялся. Сомневаться в каком-нибудь начале учителя было преступлением, тупоумием; на профана смотрели с каким-то сожалением, если не с пренебрежением. Это юношеское увлечение было, однако ж, не бесполезно; оно много содействовало развитию умственной деятельности молодого поколения. Мог ли Белинский, попав в это общество, оставаться чуждым его разумному движению? Но как он нетверд был в немецком языке, то взялись посвящать его в начала Гегеля молодые гегелисты, в том числе Станкевич, изучивший глубже других знаменитого немецкого философа. За что брался с охотой Белинский, за то принимался он с жаром и всегда с успехом. Так и в настоящем случае. Статьи его сороковых годов, проникнутые философией Гегеля, это свидетельствуют.
«По переезде в Петербург, — говорит М.М.П[опов], — Белинский тотчас отыскал меня. Тогдашние петербургские журналисты сами страшно ругались, но проповедовали о приличиях и умеренности. Задетые, едва ли не все, молодым бойцом, они находили особенное удовольствие называть его недоучившимся студентом. Приятель наш, А.Ф.Воейков, в знаменитой своей сатире, угощая тем и другим барона Брамбеуса[30], сказал, что этот писатель:
И Белинского нахальство Совместил себе в позор![31]В первые пять или шесть лет жизни Белинского в Петербурге он посещал меня довольно часто. Споры у нас случались беспрестанные. Он сам любил поспорить. К знакомым ходил он собственно для того, чтоб отвесть душу в разговорах о литературе. Когда с ним никто не спорил, ему было скучно. Только во время споров он был в своей тарелке, настоящим Белинским, вторым томом своих сочинений. При возражениях, или даже слушая разговоры, не к нему обращенные, но несогласные с его убеждениями, он скоро приходил в состояние кипятка. Сначала говорил своим решительным, как бы рассерженным тоном, чем дальше, тем более, горячился, почти выходил из себя, будто дело шло о жизни или смерти! Лицо его подергивалось судорогами... И всегда подверженный одышке, он тут начинал каждый период всхлипыванием: в жарких же спорах случалось, что одышка или кашель совсем прерывали его разговоры. Собираясь после того с силами, он то вставал и ходил по комнате, то останавливался, скрестив руки на груди и устремив глаза в того, с кем говорил; потом опять разражался громовой речью. Он не был ни шутлив, ни остер в смысле веселости, но был жестоко-колок и грубо-правдив. Надобно признаться, что в эти минуты он был хорош. Это был факир, или, нет, лучше того: это был жрец своего искусства! Обаятельное влияние его на других было тем сильнее, что в нем не проглядывало ничего искусственного: все было одна натура, душа открытая, сердце, чуждое всякого лукавства.
Споры литературные, в которых вольному воля, никогда не оканчивались у нас размолвками. Иногда мы расставались, я нахмуренный, он вполне взволнованный, но через месяц, через два опять он звонил у моих дверей, и я опять встречал его как гостя, по котором соскучился.
Белинский умер в бедности. Во все время литературного поприща он был поденщиком у журналистов. Нужда не дает соков, а высасывает их, и человек горящий — недолго прогорит. В Белинском развилась злейшая чахотка»...
М.В.О.[32], по выходе своем из А. московского института одною из лучших его учениц, украшенная дарами природы и образования, страстно любившая литературу, жила несколько времени у меня в доме в Твери в 1832 году, занимаясь воспитанием моих племянниц. Она носит имя Белинского и может гордиться им.
Вот все, что я мог, с помощью моего почтенного друга, собрать для биографии Белинского. Не мое дело критически разбирать произведения его, как литератора, критика и публициста: другие сделают это лучше меня и, вероятно, тем скорее, что не замедлится выход полного издания его сочинений[33]. Если я в этой статье и говорил об его литературных заслугах, то делал это мимоходом, невольно платя им дань от сердца, всегда любившего Белинского, говорил только то, что служит ореолом его памяти, а другого я не находил что сказать.
Красное-сельцо.
Март 1859 г.
Комментарии
1
Здесь автором выпущено несколько строк.
(обратно)2
В 3 № «Русского вестника» нынешнего года в статье «Помещики и крестьяне», П.Э., весьма верно списан быт белорусских крестьян. Надо прибавить, что те крестьяне Витебской губернии, которые живут в большом довольстве, великорусские переселенцы, засевшие на границах Лифляндии и Курляндии. И крестьяне в этом углу более довольны помещиками и помещики более довольны крестьянами. Хозяйство тут стройнее и гуманнее. Довольство обоюдное.
(обратно)3
Хоть умри он... (фр.)
(обратно)4
Не знаю, как благодарить моего почтенного друга за драгоценные сведения, доставленные им о Белинском: я извлек из письма его только то, что приходилось по рамке моей статьи и мною заданной задачи, в оглавлении ее оставя в стороне все, что касалось того критического разбора, который не входил в мою программу.
(обратно)5
Ковалевский, ныне столь известный ориенталист, прибыл с двумя новыми товарищами в Казанский университет во время четырехмесячного исправления мною в нем должности инспектора студентов. Всегда светлела душа моя, когда я по служебным обязанностям сближался с этою прекрасною, благородною личностью.
(обратно)6
Семейство его, сколько я знаю, состояло из трех сыновей и одной дочери. Некоторые члены из этого семейства были живы не так давно. Один из братьев его в 1857 году служил корректором во 2-м отделе в канцелярии, сестра его Александра Гр. замужем за штатным смотрителем Нижнеломовских училищ Кузьминым.
(обратно)7
Высший балл в то время был — 4.
(обратно)8
Из того, что он составил русскую грамматику, бывши еще в гимназии, можно заключить, что Белинский ни одним учебником по этому предмету не удовлетворялся: учась, он не подчинялся авторитетам, соображал, делал свои выводы, и там он был уж критик.
(обратно)Примечания
1
«Там одной незаметной могилы...» — Эпиграф взят из стихотворения Н.А.Некрасова «Утренняя прогулка» (цикл «О погоде»).
(обратно)2
...описание состояния Казанского университета в 1820-1825 гг. — Лажечников считал, что в 1859 г. не настало время рассказать всю правду о плачевном состоянии, в котором находилось преподавание в университете при Магницком. Через 7 лет он это расскажет в статье «Как я знал Магницкого».
(обратно)3
Сарепта — немецкая колония бывшей Саратовской губернии, Царицынского уезда, основанная в 1765 году гернгутерами — евангелической общиной.
(обратно)4
...писал я еще в 1837 году к Пушкину... — Лажечников имеет в виду свое письмо к Пушкину от 22 ноября 1835 г.
(обратно)5
...дожили до того времени, когда могучая и благодетельная рука... — имеются в виду реформы конца 50-х — начала 60-х гг.
(обратно)6
Мыши кота погребают — известная лубочная картинка.
(обратно)7
Попов Михаил Максимович (1800-1871) — учитель Белинского по естественной истории в пензенской гимназии; сделал головокружительную карьеру, став старшим чиновником особых поручений в III отделении, правой рукой Л.В.Дубельта. Является автором важнейших секретных сводов III отделения.
(обратно)8
Ковалевский Осип Михайлович (1800-1878) — языковед, автор грамматики монгольского языка и «Монголо-французско-русского словаря».
(обратно)9
Строганов Сергей Григорьевич (1794-1882) — государственный деятель, археолог, основатель Строгановского училища в Москве (впоследствии ВХУТЕМАС).
(обратно)10
Греков Авраам Григорьевич — учитель по всем предметам и смотритель чембарского училища.
(обратно)11
«Отец его, уроженец Польши...» — Ошибка, отец Белинского Григорий Никифорович Белынский был русским, сыном священника из села Белыни Пензенской губернии, фамилию Белынский Виссарион смягчил при поступлении в университет. (См.: Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 29.)
(обратно)12
...Виссарион родился в наших степях... — На самом деле, Белинский родился в Свеаборге, где его отец служил флотским лекарем.
(обратно)13
...в следующем интересном свидетельстве любимого... учителя о любимом своем ученике. — Приводится выдержка из письма M.M.Попова Лажечникову.
(обратно)14
Бюффон Жорж Луи Леклер (1707-1788) — французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории» в 36 томах (1749-1788).
(обратно)15
Гумбольдт Александр (1769-1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник, один из основоположников географии растений.
(обратно)16
Полевой передавал по «Телеграфу»... — Имеется в виду журнал «Московский телеграф», издаваемый в 1825-1834 гг. Н.Полевым.
(обратно)17
Надоумко (Никодим Надоумко) — псевдоним Н.И.Надеждина (1804-1856), ученого, публициста, издателя «Телескопа».
(обратно)18
...в «Дамском журнале». — Имеется в виду «Дамский журнал», издаваемый князем П.И.Шаликовым (1823-1833), — объект постоянных насмешек, благодаря своей сентиментальности и претенциозности.
(обратно)19
...в 1832 г. он написал драму... — Неточность: драма «Дмитрий Калинин» была написана в 1831 г.
(обратно)20
...действительность оправдала мое предсказание. — Антикрепостническая драма «Дмитрий Калинин» послужила причиной исключения Белинского из университета в 1833 г.
(обратно)21
Буало Депрео Никола (1636-1711) — французский поэт и теоретик классицизма; в поэме «Поэтическое искусство» (1874) сформулировал основные эстетические принципы классицизма.
(обратно)22
...в каком-то переулке между Трубой и Петровкой. — Речь идет о доме № 4 по Рахмановскому переулку, где Белинский жил в 1832-1834, 1835, 1837 гг.
(обратно)23
...под именем Прутикова Дормидона Васильевича писал графоман А.М.Полторацкий. На его произведение «Провинциальные бредни и записки» Белинский поместил в «Молве» резкую рецензию.
(обратно)24
В одном из уездов Тверской губернии есть уголок. — Лажечников имеет в виду поместье Бакуниных недалеко от Торжка.
(обратно)25
Вульф Алексей Николаевич (1805-1881) — сын П.А.Осиповой, хозяйки Тригорского, близкий приятель Пушкина. В конце 20-х гг. Пушкин несколько раз гостил в тверском имении Вульфов — Малинники.
(обратно)26
Как хорош был этот величавый старец... — то есть Александр Михайлович Бакунин, отец известного Михаила Александровича Бакунина (1814-1876), революционера, публициста, крупнейшего идеолога анархизма. Лажечников из семьи Бакуниных наиболее близок был именно с Михаилом, но нигде не упоминает его имени, и даже вообще не называет фамилии Бакуниных, так как с 1857 г. М.Бакунин был сослан в Сибирь как государственный преступник.
(обратно)27
Станкевич Николай Владимирович (1813-1840) — глава московского кружка «западников», в 30-е гг. занимавшегося вопросами философии и литературы.
(обратно)28
Боткин Василий Петрович (1810-1869) — писатель, член кружка Станкевича и Белинского.
(обратно)29
...посетило и меня на берегах Волги — Лажечников вспоминает приезд в его имение в с.Коноплино под Старицей Белинского с компанией молодежи, гостивших у Михаила Бакунина.
(обратно)30
Барон Брамбеус — псевдоним Осипа Ивановича Сенковского (1800-1859), журналиста, беллетриста и критика, с 1834 г. редактировавшего «Библиотеку для чтения».
(обратно)31
«И Белинского нахальство // Совместил себе в позор!» — из стихотворной сатиры А.Ф.Воейкова «Дом сумасшедших» (1814-1838).
(обратно)32
М.В.О. — Мария Васильевна Орлова, с 1843 г. жена Белинского.
(обратно)33
...не замедлится выход полного издания его сочинений. — Имеется в виду первое собр. соч. В.Г.Белинского в 12 томах. М., 1859-1862 гг.
(обратно)
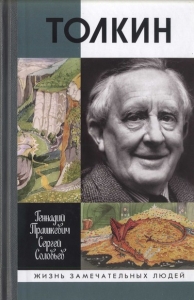

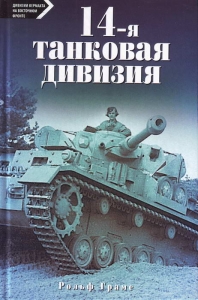
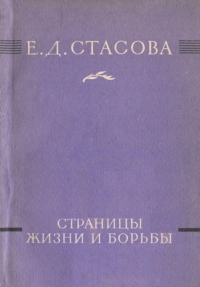
Комментарии к книге «Заметки для биографии Белинского», Иван Иванович Лажечников
Всего 0 комментариев