Встречи
ОТЗВУК Повесть
1
Свою трудовую жизнь начинал я в редакции районной газеты в небольшом рабочем поселке. Тираж нашей «районки» и в лучшие времена не превышал пяти тысяч экземпляров, но выходила газета четыре раза в неделю и работы сотрудникам хватало. Редактором у нас в ту пору был Иван Иванович Васильев, человек пожилой, грузный, из местных. Новшеств никаких Иван Иванович в газетном деле не любил, на язык и перо был коряв, но работал как вол и никому не давал дремать. Газетные полосы заполнялись всегда «своим» материалом, районным, а не только тассовскими и центральногазетными перепечатками. Конечно же, материалы наши не шли в сравнение с центральной прессой ни по художественному уровню, ни по глубине постановки вопросов и проблем, но тираж газеты из года в год рос. Это доказывало, что старый газетный «капитан» Иван Иванович Васильев вел наше редакционное суденышко правильным курсом. Читатели хотели знать не только то, что делается в стране, как живет зарубежный мир, но и то, что происходит в их районном доме. Сотрудников в редакции постоянно не хватало. Места наши были глухие, малодорожные. В осеннюю пору основным видом транспорта становился трактор. Собственного жилья редакция не имела, и журналисты-чужаки к нам не заглядывали. Обходились своими силами. Когда кто-нибудь из редакционных увольнялся, Иван Иванович отправлялся в местную школу и бросал выпускникам клич: «Кто хочет после десятилетки стать журналистом? Кто мечтает работать в редакции?» Звучное слово «журналист» привлекало в газету немало юных голов. Редактор предлагал жаждущим попасть на работу в газету написать конкурсное сочинение. Тему сочинения он давал всегда одну и ту же: «Что я умею делать?» Сочинения эти Иван Иванович сотрудникам своим никогда не показывал и не советовался с нами по их содержанию. Но, по слухам, отбор кандидатур у него был самый странный. Те, например, кто написал о конкретных своих способностях: умеют водить автомобиль, трактор, работать на комбайне, изготовлять кузнечные поковки, вытачивать детали на станке, пахать землю и сеять зерно, — редактора не интересовали. Иван Иванович хотя и был человек сухой, необщительный, грубоватый, имел все же, видимо, в глубине души определенную поэтическую жилку и тяготел к лирикам. Как-то раз я спросил молодого парня Игоря Красовского, пришедшего к нам в редакцию со школьной скамьи, что он написал в сочинении для Ивана Ивановича. «Всего полстранички написал, — усмехнулся Игорь, — что ничего пока не умею делать. Разве что могу почувствовать в словах или делах человека фальшь, лицемерие или наоборот — добро. И еще умею не любить тех, кто не держит своего слова. По-моему, все беды на земле от таких людей, которые не умеют или не хотят держать сло́ва».
Всех работников нашей редакции можно было разделить на два основных вида: литературные сотрудники и литературные фанатики. К литературным сотрудникам относились те, для которых газетная работа была делом обычным, земным, зарплатным. К литературным фанатикам я причислял лишь себя и отчасти Игоря. Для меня работа в районной печати была трамплином, с которого намеревался я совершить прыжок в большую литературу. Все свое свободное, а иногда, чего греха таить, и рабочее время отдавал я литературному творчеству. Писал рассказы (простые и юмористические), повести, заготовки для будущих романов и пьес. И не просто писал — экспериментировал, пробовал, искал новые формы самовыражения на бумаге, собственный свой стиль. Особое внимание уделял, по совету прочитанных классиков, языку. Смело вводил в свои литературные творения простонародные слова, обороты, пословицы, поговорки, присказки, прибаутки, жаргон. Для редакции литературный фанатик в газете сущее наказание. Напичканный литературной теорией и полюбившимися цитатами из классиков, фанатик даже в заметку по вывозу навоза на колхозное поло запросто может ввернуть что-нибудь из Вольтера. Например, такое: «Все жанры хороши, кроме скучного». Редактор, например, дает задание: «Езжай на ферму, разберись, почему с молоком „минусуют“». А фанатик и тут цитату — из Шекспира. Или вот простейший совсем пример. Приехал я в колхоз, в деревенский клуб, с заданием осветить в печати деятельность этого сельского очага культуры, рассказать про опыт работы. Заведующая клубом — девица видная, фигуристая, в брюках расклешенных, с сигаретой заморской в губах, с накладными ресницами. Жалуется, что ансамблю их деревенскому на областном смотре-конкурсе грамоту не дали. Говорит: «Играли ребята — сплошной балдеж. А как узнала я, что им грамоту не дали, так и повяла». Я, конечно, в восторге. Вот она, думаю, речь народная, не газетная, язык в первозданном своем обличий. Весь «балдеж» завклубом в корреспонденцию перенес, дал в прямой речи. Сочный получился материал, душистый. Глянул его редактор и за голову схватился. «Переделай, — говорит, — эту белиберду. Напиши русским языком!» Как ни упирался я, как ни доказывал редактору, что стараюсь отходить от газетных штампов, писать и мыслить образно, пришлось со стоном душевным перечеркивать написанное.
Не раз, наверное, приходила Ивану Ивановичу в голову мысль избавить себя и газету от лишних хлопот. Только уволить меня или попросить вон из редакции было не так-то просто. Хотя я числился на штатной должности «литсотрудник», выполнял еще обязанности фотокорреспондента, рабочего ЭГА (электронно-гравировального аппарата для нарезки клише) и даже шофера. Заниматься фотографией и нарезать клише на капризном ЭГА приходилось мне по необходимости, штатного фотокорреспондента в редакции не было, а возиться с химикатами и допотопным фотоаппаратом никто из редакционных не умел, вернее — не хотел. Я же на этом деле поднаторел и частенько вытягивал свою литсотрудническую «норму» за счет фотоиллюстраций. А вот возиться со старой «Победой» было моим вторым хобби. Машина эта добросовестно отбегала положенный ей километраж, постарела, вконец поизносилась в узлах и деталях, и найти для нее хозяина — серьезного профессионального шофера — редакция не могла. Подзалатав «обувку» автомобиля, наладив тормоза и укрепив рулевое управление, я возил иногда в сухую погоду редактора по району, подложив предварительно ему и себе под ноги листы жести, чтобы, не дай бог, не продавить на ходу прогнивший кузов. Скорость передвижения на «Победе» не превышала тридцати километров в час, но Иван Иванович был доволен, посматривал на меня благожелательно и даже не морщился, когда я намекал ему, что заканчиваю работу над новой повестью и скоро представлю ее на его суд. Иван Иванович иногда поддерживал мой моральный дух и давал в газете «кусок» из моих творений.
Личная жизнь моя в ту пору большим разнообразием не отличалась. Жил я на краю поселка в небольшом деревянном домике с яблоневым садом, снимал комнату. Хозяева мои — Полина Никаноровна и дядя Коля — были чудесные старики, заботились обо мне, как о родном сыне. Плату они с меня брали чисто символическую, да и ту я частенько не мог им отдать. Всю мою зарплату, порой до последней копейки, пожирала редакционная машинистка Дуся. Брала она с меня по десяти копеек за страницу машинописного текста — цена вполне божеская. Но выдавал я в месяц не менее ста страниц и творения свои рассылал во все «толстые» столичные и провинциальные журналы, а они принимали на рецензирование только первые экземпляры рукописи. Отсылал я свои творения одновременно в пять-шесть журналов, вот почему стостраничная месячная «норма» для Дуси и моего кармана возрастала сразу в несколько раз. Дуся приходила в редакцию на два часа раньше и уходила с работы на час позже. «Стучала» для меня все выходные и праздничные дни, в любую свободную минуту.
— Из редакции выхожу — в какую сторону домой идти, не знаю, — жаловалась она мне. — Совсем ошалела от твоих рассказов. Брошу к черту этот приработок, здоровье дороже. Как мой Саша говорит: «Всех баб не перелюбишь, всех цветов не перенюхаешь».
С полчаса упрашивал я машинистку не делать этого необдуманного шага, умолял войти и в мое положение, набавлял пятак за страницу, и Дуся успокаивалась.
Старики-хозяева поили меня безвозмездно молоком, подкармливали огородной зеленью-витаминами, и чувствовал я себя совсем неплохо. Мучило, правда, легкое угрызение совести за иждивенчество, но успокаивал себя мыслью, что скоро бытие мое наладится, получу приличный столичный гонорар и куплю Полине Никаноровне стиральную машину. Не знаю, откуда в нашем доме бралось грязное белье, но старуха ужасно много стирала. Сидя за столом в многочасовых творческих раздумьях, я наблюдал в окне ее сухую фигуру под заснеженным угором возле реки. Старуха полоскала белье в проруби, скручивала его, отжимала. Потом долго стояла согнувшись, упершись руками в колени. В такие минуты мне становилось не по себе. «А делом ли я занимаюсь?» — мелькала в голове мысль. Успокаивал себя тем, чем успокаивает, наверное, себя всякий пишущий человек: «Делом! Иначе зачем люди читают книги? Значит, они нуждаются в них».
Я писал, отключившись от всех соблазнов жизни. Писал, писал… И рассылал бесчисленные свои творения по газетам и журналам. Зачем? Для чего? Какая сила заставляла меня ежедневно по десять и больше часов сидеть за столом, покрытым старой потрескавшейся клеенкой? Жажда славы, денег? Потребность сказать людям что-то свое, сокровенное, излить перед ними свои обиды, раскрыть свой взгляд на мир? Увы, нет. Моя жажда славы не выходила за рамки редакции. Я представлял, как удивленно поползет вверх седая бровь Ивана Ивановича, когда прочитает он мое имя в солидном столичном издании, как переглянутся мои редакционные друзья и перестанут наконец отпускать шуточки по поводу моего литературного хобби. Это было приятно, щекотало самолюбие, и только. Деньги? В ту пору единственной моей материальной мечтой было желание приобрести портативную пишущую машинку, научиться печатать на ней и освободиться от Дуськиного рабства. Я молод, румян, набит здоровьем. Я не знаю, что такое тоска, одиночество, боль утраты. Мое незнакомы чувства зависти, ненависти, безнадежности. Ни разу не испытал я большой радости, большого огорчения, предательства друзей, ужаса приближающейся смерти. Даже страх незнаком мне. Хотя нет, однажды испугался. Это произошло совсем недавно, когда фотографировал в колхозе новую подвесную дорогу на молочной ферме. Взобрался по рельсу повыше, чтобы снять панораму фермы, оперся спиной о самоопрокидывающуюся тележку и… тележка опрокинулась, я рухнул в навозосборную яму. Людей поблизости не оказалось, и когда ноги мои выше колен стали погружаться в навозную жижу и дна не могли нащупать, я отчаянно завопил и затрепыхался. К счастью, подоспел скотник и, протягивая мне жердь, успокоил: «Ничево, там не глыбко. Не потонешь!» В тот миг страх лишь слегка задел меня своим крылом, а ведь есть еще ужас перед неотвратимой смертью, когда она надвигается на человека. И есть люди, которые умеют победить в себе этот ужас во имя спасения своих близких, друзей, Родины. Как мне понять таких людей, как передать их внутреннюю суть, душевный настрой словами без фальши? Да и можно ли писать о чувствах, которые ты не проверил на себе самом, можно ли писать о них убедительно, чтобы читатель поверил тебе? Может быть, писать о любви, самом извечном и чудном человеческом чувстве? Но, черт возьми, что я знаю о любви? Хорошенькая грудастая корректорша Верочка волнует меня, это правда. Когда я смотрю на ее припухшие нежно-розовые губки, которые так и хочется поцеловать, меня охватывает сладостная истома, а в глазах все плывет и покачивается. Но те же чувства испытывает, наверное, и тот вон бычок, что резвится на поляне перед моим окном и умильно поглядывает на телочку в соседнем огороде. А ведь существует, наверное, более сильное, могучее, человечное чувство. Такая любовь, которая побеждает саму смерть. Будь я поэтом, возможно, и смог бы передать, хоть в неясных туманных образах, то, что волнует и тревожит меня. Недаром известный престарелый поэт сказал, что он только теперь начинает понимать многие свои юношеские стихи. Но то поэт, проза требует реальных земных чувств в конкретных жизненных ситуациях, а не поэтического тумана.
Может быть, писать о людях, с которыми рядом живу, работаю? О том же Иване Ивановиче Васильеве, редакторе нашей газеты? Но слишком он и все остальные в редакции обычные, будничные, неяркие. Вечно они заняты бумажными хлопотами: корреспонденциями, сводками, отчетами. И разговоры всегда по одному кругу идут: ремонт техники, посевная, уборка урожая, подготовка ферм к зиме. Нет сильных страстей, роковых ударов судьбы, потрясающих жизненных передряг. Вот Джек Лондон! О каких людях он писал, какие характеры выводил на страницах своих рассказов. Его герой почти всегда стоит перед дилеммой: быть или не быть? А Бальзак с его многотомной «Человеческой комедией»! Как умел он подметить и выставить на всеобщее осмеяние извечные пороки человека: зависть, жадность, корысть, ревность, продажность чувств. А смех Бомарше! Одни его «Мемуары» чего стоят. От сильных мира сего, осмеянных острым пером Бомарше, оставались лишь жалкие бледные тени. Как же силен и могуществен писатель! С какой силой и непринужденной легкостью развенчивает он царей, королей, императоров, срывает маски с инквизиторов, фюреров, тиранов всех мастей и оттенков. Не зря страшатся и ненавидят настоящего писателя все, кто ест дармовой хлеб.
— Сынок, окрошечки похлебаешь? — Певучий голос Полины Никаноровны возвращал меня из заоблачных литературных мечтаний-размышлений на грешную прозаическую землю. Потягиваясь, я поднимался из-за стола, за которым просидел несколько часов не написав ни строчки, и, как поступал иногда в подобных случаях Лев Толстой, произносил: «Сегодня я хорошо поработал». Потом вздыхал и шел хлебать дармовую окрошку.
Но иногда меня прорывало. Непрерывным чернильным потоком извергал я на бумагу рассказы, эссе, куски для будущих больших произведений и даже собственные афоризмы, вроде: «Чтобы узнать человека, нужно видеть, как он умирает». В такие дни я работал как одержимый, забывая про сон, еду, редакционные дела. Не мешкая, относил Дусе все на перепечатку и рассылал по редакциям. Выводили меня обычно из этого творческого запоя официальные бумаги — ответы на мои рукописи. Разные они были по тону, но сводились к одному: «Замысел хороший, но…», «Слабы в художественном отношении…», «Не знаете жизни…», «Учитесь у классиков…». Были и обнадеживающие. Такие, к примеру: «К сожалению, опубликовать ваши рассказы редакция не имеет возможности…» Поначалу ответы эти выбивали меня из творческого строя на целую неделю. Потом на несколько дней, часов, и наконец я выработал в себе иммунитет к любым критическим ударам. Но полным графоманом я все же, видимо, не был, так как критическое отношение к своим художественным произведениям подавить окончательно не мог. Сравнивая рассказы того же Джека Лондона со своими, с грустью убеждался, что герои моих произведений сильно смахивают на раскрашенных бумажных кукол, хотя сюжет у меня иногда закручен не хуже. И любимый герой мой Мартин Иден вовсе не похож на меня, вернее, я не похож на него. Мартин Иден входил в литературу из жизни, я же пытаюсь войти в литературу из литературы. Жизни по-настоящему я не знаю, рецензенты правы. Пишу о ней понаслышке, пишу, о чем слышал от других или о чем читал. И в литературе, истории я дилетант, хотя перечитал груды книг. В моей голове все перемешалось: имена, эпохи, философские и социальные теории. Когда я читаю исторические романы, мне кажется, что историю знаю. Когда же сам начинаю сочинять на историческую тему, то получается фантастика или безэпохно-детективные мифы. Надо мне учиться и учиться, основательно, капитально…
На таких грустных размышлениях кончался обычно мой творческий запой. С тупой, гудящей головой сидел я за столом и бездумно ковырял пером старую клеенку. Знал: больше не напишу ни строчки. Необходимо отложить перо на несколько дней, прийти в себя. В такие минуты я хорошо понимал Хемингуэя, сказавшего: если ты стар и немощен и тебе нечего больше сказать людям, пиши о том, что ты стар, немощен и ничего уже не можешь сказать людям. Но чаще вспоминался совет Толстого: «Если можешь, не пиши».
2
Однажды в конце лета произошло событие, для нашей редакции приметное, а для меня и вовсе важное. Я только что вернулся в редакцию из поездки по району, таскался на велосипеде по бездорожью на Борскую ферму, двадцать километров в один конец. На ферме этой, лучшей в районе, вдруг резко упали надои молока. Специалист по коровам был я аховый, с трудом улавливал разницу между стельной коровой и яловой, но, как говаривал Иван Иванович, хороший журналист должен уметь писать и про «запуск» коровы, и про запуск космического корабля.
— Зайди к редактору, — проговорил Игорь Красовский, едва только я переступил порог редакции, — он тебя несколько раз спрашивал.
Я заглянул в кабинет редактора. Иван Иванович сидел за столом между двух стоп газетных подшивок и рокотал что-то в телефонную трубку. Обычно бледное одутловатое лицо его полыхало румянцем, глаза под седыми бровями поблескивали весело.
— Как съездил? — спросил Иван Иванович и положил трубку на аппарат.
— Плохо.
— Что так?
— Не понять ничего на ферме. Коровы те же, доярки тоже на месте все, и пастухи старые, и скотники. Кормов хватает, трава вон, по пузо коровам вымахала. Подкормку зеленую дают…
— Почему же «минусуют», — перебил меня редактор, — с людьми беседовал?
— А как же! Со всеми переговорил: с доярками, с бригадиром фермы, с зоотехником разговаривал.
— Ну?
— Все как есть в лучшем виде, а «минус» прет.
— Может, воруют?
— Как можно, Иван Иванович! Старые все доярки, известные. С чего бы им в воровство ударяться?
— А эта, как ее… Нифонтова. Молоко-то водой разбавляла. Помнишь? С Борской ведь фермы.
— Она не работает уже, Иван Иванович. Она теперь в Борском магазине заведующей.
— Что будем в газете давать по Борской ферме? Чем объяснить «минус»?
— Не знаю. Если доярки с зоотехником этого объяснить не могут… Может быть, на коров разные атмосферные явления влияют, галактики там, приливы и отливы океанов. А может, они по живому быку затосковали, осточертела им пипетка осеменителя.
— Ты эти шуточки брось. — Редактор посерьезнел. — Выходит, день проболтался, а материала нет?
— Материал взял, Иван Иванович. Всех доярок перефотографировал. И скотников, и пастухов.
— Они «минус» дают, а ты их для газеты фотографируешь?
— Сегодня «минус», завтра «плюс», Иван Иванович. Скоро осень, дороги развезет, на ферму эту до самых морозов не доберешься. К съезду животноводов фотографии пригодятся, как-никак лучшая ферма в районе даже и при «минусе».
— Ну ладно… — вздохнул редактор. — На безрыбье и рак рыба. Посоветуемся еще с сельхозуправлением насчет Борской фермы. Может, и прояснится что. А у меня интересная новость для тебя. — Глаза Ивана Ивановича вновь заблестели. — Знаешь, кто к нам приехал?
— Кто?
— Громов!
— Кто это?
— Илья Громов, писатель. Ты что, «Партизанские тропы» не читал? О наших местах написано.
— Слышал…
— В сорок третьем году у нас штаб партизанской бригады как раз в районе Борской фермы находился.
— А разве вы, Иван Иванович, в партизанах были?
— Быть-то был… — Редактор махнул рукой. — Но и там по газетному делу шел. Вдвоем с метранпажем однополоску раз в неделю делали. Сами и материалы готовили, и набирали сами, и печатали.
— А Громов?
— Громов поначалу Новгородским отрядом командовал, а когда мы в бригаду объединились, командиром полка стал. Сейчас в Москве живет, приехал к нам места старые, фронтовые посмотреть. С виду совсем плох. — Редактор покачал головой. — Ты вот что: «Победа» на ходу?
— Тормоза никудышные, тормозные цилиндры текут. ГАИ запретила выезжать.
— Тормоза требуется наладить. С ГАИ договорюсь сам. Завтра с Громовым поедешь по району. Ну как, будут тормоза?
— Постараюсь, Иван Иванович. — До меня только сейчас начинал доходить смысл сказанного редактором. Поеду с Громовым! Значит, познакомлюсь с настоящим писателем! Может быть, он даже прочитает мои вещи, возьмет их с собой в Москву, предложит «толстому» журналу. Рекомендация известного писателя для журнала, наверное, многое значит? Хорошо бы, Иван Иванович намекнул Громову про меня.
Редактор, словно читая мои мысли, усмехнулся:
— Насчет тебя Громову говорил. Есть, мол, и у нас писатель. Молодой еще, но настырности на пятерых. Посмотрел бы, говорю, что он там кропает.
— И что Громов? — Я замер.
— Посмотрю, говорит. Так что приноси сегодня вечерком ко мне свои байки, он у меня остановился. Отбери что получше, килограмма полтора-два, не больше. Желательно, про наш район.
— Спасибо вам, Иван Иванович. — Я задохнулся от волнения. — Даже не ожидал от вас…
— Чего там… Все мы в душе немножко писатели, — вздохнул редактор, — всем хочется оставить потомкам на прочтение хотя бы свою жизнь…
— Так я побежал, Иван Иванович?
— Давай!
Домой я летел на велосипеде стрелой, только педали потрескивали. Вбежал в комнату, принялся торопливо ворошить папки со своими рукописями. Потом вспомнил про «Победу», необходимо было, пока есть время, наладить тормоза. С бумагами успеется, вся ночь моя.
Было уже темно, когда я, прижимая под мышкой папку со своими творениями, подошел к домику редактора. Иван Иванович с женой и гостем сидели за столом.
— Здравствуйте! — проговорил я, останавливаясь возле двери.
— Вот он, наш классик! — загудел Иван Иванович, поднимаясь. — Знакомься, Илья.
Писатель был высок и необычайно худ. Скулы лица его обтягивала желтая пергаментная кожа, невысокий лоб и ввалившиеся щеки иссечены были глубокими морщинами. Темные запавшие глаза смотрели на меня пронзительно и сухо. Поднявшись из-за стола, писатель молча протянул мне руку, я так же молча пожал ее.
— Присаживайся! — пригласил редактор.
— Спасибо, Иван Иванович, не могу. На бензозаправку надо еще съездить, машину заправить.
— Тормоза наладил?
— Все в порядке.
— Ну ладно… Давай свои бумаги. Выезд завтра в семь ноль-ноль от редакции.
Я положил папку на стол и попрощался.
— Будь здоров! — отозвался редактор. Писатель лишь молча кивнул мне головой.
На улицу я вышел с бьющимся сердцем. Всю ночь ворочался под одеялом, мечтал. Заснул только под утро и едва не проспал.
3
Утро это выдалось на редкость тихое, солнечное и, хотя до осени оставались считанные дни, по-летнему жаркое. Изжеванная колесами тракторов, затвердевшая, словно бетон, колея петляла по крутому берегу речки Сабы. За рекой на заливных лугах плавали клочья тумана и виднелись стога сена, словно шлемы ушедших в землю великанов. Машину подбрасывало на ухабах, швыряло из стороны в сторону, хотя скорость была не более тракторной. Писатель, далеко высунувшись из окна кабины, непрерывно и жадно курил. Никогда еще не видел я, чтобы так много курил человек. Несколько глубоких затяжек, и он вытаскивал губами из пачки новую папиросу, прикуривал ее от старой. Сейчас, при ярком солнечном свете, мой пассажир выглядел еще хуже, чем вчера. Длинное, вытянутое лицо его, словно сдавленное с боков, было землистого цвета, под глазами чернели мешки. Мы почти не разговаривали и не смотрели друг на друга. Только раз я столкнулся с его тяжелым взглядом, и мне показалось, что писателя раздражает мой румяный вид. Конечно же, мне очень хотелось узнать, прочитал ли писатель мои сочинения, но спросить об этом я не решался. «Не успел, наверное, прочитать, — думал я, крутя баранку. — У Ивана Ивановича застолье было, когда же читать».
— Давно пишешь? — неожиданно спросил писатель, не поворачивая ко мне головы.
— Лет пять.
— Откуда родом?
— Псковский. Мать в Пскове живет.
— Где еще работал?
— Нигде. После школы сразу сюда приехал, в редакцию.
— Оно и чувствуется… Прочитал твои вещи.
Сердце мое замерло, остановилось.
— Ералаш у тебя в голове, парень. Но искра от бога вроде есть. Учиться надо.
— Я и сам об этом подумываю, Илья Борисович. В Литературный институт мечтаю поступить.
— Нет. В Литературный институт пока незачем. У жизни учись. На завод иди к станку, в поле на трактор, к лесорубам с топором. Приглядывайся к людям, к жизни их, заботам, мечтам. Из редакции уходи, «районка» засосет. Твои «Рассказы районного фотокорреспондента» имеют кости, наращивай мясо. Остальное — ученическое…
Писатель вдруг разговорился. Я слушал, впитывая в себя каждое его слово. Через полчаса я уже понял, что с этого дня судьба моя круто изменится. В самом деле, как мог я писать, ничего не зная о жизни, ни разу не испытав на себе ее мало-мальского удара! Кому нужны мои фантастические, оторванные от реальной действительности рассказы и повести? Тот же Джек Лондон прежде, чем стал писать, немало поварился в жизненном котле. Нет, завтра же подаю Ивану Ивановичу заявление об уходе — и в путь по России-матушке…
Я так взволнованно размечтался, ушел в себя, что едва не проскочил развилку, где одна колея сворачивала к Борской ферме, другая сбегала вниз к Сабе в заросли ольшаника, за которым виднелись крыши домов.
— Куда, Илья Борисович? — спросил я, поворачиваясь к писателю. — На ферму поедем или в деревню?
— Егор Антонов знаешь где живет?
— Это который музеем здешним заведует? Егор Архипович?
— Он самый.
— Он в Борках с того краю живет. Вторая изба от оврага.
— Давай к нему.
Егора Архиповича Антонова, основателя местного деревенского музея, я знал хорошо. Раньше старик частенько появлялся в редакции нашей газеты, приносил материалы по истории края и воспоминания свои о Федоре Шаляпине. В молодости Егор Архипович жил в Петрограде, работал в Мариинском театре плотником по оформлению декораций сцены, имел несколько фотографий великого певца с дарственными надписями, чем очень гордился. Меня всегда поражали материалы, написанные Егором Архиповичем, и прежде всего язык их: чистый, образный, в меру сдобренный народными пословицами и поговорками, не засоренный нашими газетными штампами. У старика была поразительная память на имена и даты. Он помнил всех партнерш Шаляпина, постановщиков спектаклей, композиторов, артистов того времени.
Заходясь в дымном реве, «Победа» на первой скорости вползла на крутогор. Мы въехали в деревню. Возле избы Егора Архиповича — трехоконной, приземистой, обшитой свежеструганой вагонкой — я нажал на тормоза.
— Здесь, Илья Борисович.
— Идем вместе.
Мы вошли в дом. В просторной прибранной избе было тихо. Пахло щами и свежевымытыми полами.
— Есть кто дома? Хозяева! — крикнул я.
— Эй, кто там? — послышалось из-за дощатой переборки, ограждающей громадную русскую печь.
Егор Архипович лежал в закутке возле печи на деревянном топчане. На нем были валенки, ватная стеганая безрукавка и ватные штаны. Я не видел старика около года и поразился, как сдал он за это время. Густая борода и усы его, которые и в восемьдесят лет не брала седина, сейчас были сплошь покрыты серебром. Голова, совсем белая, осела, ушла в плечи, и только глаза остались прежними, смотрели на нас с интересом.
— Егор Архипович, здравствуйте! — громко произнес я.
— Что за люди? — Старик шевельнулся, сделал попытку приподнять голову и не смог. — Поднимите меня, едрена мать! — приказал он. — Манька кудыть убегла, один лежу, — добавил он еще бодрым и чистым голосом.
Вдвоем с писателем мы осторожно приподняли старика с лежанки, поставили его на ноги.
— А… паря, — узнал меня Егор Архипович. — А это кто?
— Это, Егор Архипович, писатель Громов из Москвы. Не узнаешь?
Старик снизу вверх глянул на моего спутника, Илья Борисович смотрел на него улыбаясь.
— Небось музей приехал смотреть? — спросил старик.
— Музей, Егор Архипович.
— Пошли! — Старик сделал шаг и покачнулся. Я успел подхватить его под руку. — Ничего, я разойдуся, — успокоил старик, — я как разойдуся, еще шустрый бываю.
— Не узнал… — тихо проговорил писатель и покачал головой.
На улице старик и впрямь разошелся. Бодро зашаркал валенками по тропинке, ведущей к двухэтажному каменному зданию Борской школы, бывшему помещичьему особняку.
Музей Егора Архиповича располагался на втором этаже школы в небольшой угловой комнате, выходящей окнами на речку Сабу. Стены комнаты увешаны были щитами с фотографиями, схемами, картами. На деревянных стеллажах лежало немецкое трофейное оружие, боеприпасы. В застекленных шкафах, изготовленных руками старика, хранились бинокли, полевые сумки, ордена погибших борских партизан. По углам комнаты таились, словно живые, чучела зверей, с потолка на тонких бечевках свисали чучела птиц. Было здесь еще много интересного — от старых самопрях до почерневших от времени заморских монет. Все это богатство Егор Архипович с деревенскими ребятами собирал годами, музей этот был его детищем, его гордостью. Он был зарегистрирован в районном отделе культуры и официально значился как Антоновский народный музей — по фамилии Егора Архиповича. Антоновский музей вошел в школьный экскурсионный маршрут, который организован был недавно под названием «Места партизанские».
Как только мы вошли в музей, Егор Архипович подошел к центральному щиту с фотографиями, повернулся к нам, выпрямился. Глаза его под седыми кустистыми бровями словно бы выдвинулись вперед, сделались строгими.
— Погибли за землю родную от руки супостата… (От торжественно зазвеневшего голоса старика мы с Ильей Борисовичем невольно опустили руки по швам и замерли.) Иван Петров из деревни Замошье, Николай Бойков из Заозерья, Федор Федоров из Пехенца, братья Андрей и Василий Козловы из Двориц…
Егор Архипович не перечислял погибших, а словно бы пел гимн. Заскорузлый скрюченный палец его скользил по фотографиям, а по моей спине бегали мурашки. Никогда потом, бывая в разных музеях — небольших и всемирно известных, слушая умные и складные речи высокообразованных экскурсоводов, не испытывал я такого глубокого внутреннего волнения, как в той комнатушке деревенского музея. И невольно думал о том, что скоро детище Егора Архиповича осиротеет. Забегая вперед, скажу: ровно неделю спустя после этой поездки я копался в своем фотоархиве, выискивая фотографию старика, чтобы дать ее в газете с некрологом. После смерти Егора Архиповича Антонова на дверь его музея повесили замок и открывали его редко. Несколько раз газета наша выступала с предложениями оживить работу Антоновского народного музея. Но оживить работу не удалось ни предложениями газеты, ни резолюциями и решениями районного отдела культуры, ни даже денежной ставкой, которую выделили для музея. Без Егора Архиповича музей захирел, превратился в кладовку старого хлама, потом его и вовсе растащили по частям кто куда.
Экскурсия наша по музею продолжалась. Егор Архипович говорил и говорил, обращаясь больше ко мне. Старик любил, чтобы его слушали внимательно, и потому посматривал на Илью Борисовича неодобрительно. Писатель прохаживался вдоль стен, заложив руки за спину, рассматривал снимки и, казалось, совсем не обращал внимания на старика, не слышал его.
— Тимка! — вдруг негромко произнес Илья Борисович.
Старик вздрогнул, словно его ударили, и замер на полуслове. Приблизился к гостю и осевшим голосом прошептал:
— Где?
Илья Борисович молча ткнул пальцем в групповой снимок, висевший на стене. Заинтересованный, я подошел ближе к писателю. С фотографии на меня смотрела большая группа парней и девчат, принаряженных и даже расфранченных. У всех были неподвижные, замершие лица, какие бывают у людей, не часто стоящих под объективом фотоаппарата. Палец Ильи Борисовича упирался в миловидное девичье лицо.
— Она… — прошептал старик, вглядываясь в снимок.
И тут произошло неожиданное. Егор Архипович вдруг рванулся вперед, сорвал со щита фотографию вместе с застекленной рамкой и грохнул ее об пол. Никогда еще не видел я старика в таком возбуждении.
— Она, паскуда! — хрипел Егор Архипович и растирал на полу валенками фотографию. — Она, стерва!..
Пораженный этой сценой, я стоял не двигаясь, переводя взгляд со старика на Илью Борисовича. Лицо писателя оставалось непроницаемым.
Успокоившись, Егор Архипович подошел к гостю вплотную, вгляделся ему в лицо, спросил тихо и требовательно:
— Кто такой будешь?
— Не узнал еще, Егор Архипович? — так же тихо ответил вопросом на вопрос Илья Борисович и смотрел теперь на старика строго, без улыбки.
— Чую, свой, а признать не могу, — виновато проговорил Егор Архипович, протирая глаза ладонью.
— Этого помнишь? — Илья Борисович повернулся к щиту и указал на фотографию молоденького паренька в шапке-ушанке.
Старик перевел взгляд с фотографии на лицо гостя, ахнул:
— Ильюха! Илья!
В дом к Егору Архиповичу я больше не пошел. Предупредил Илью Борисовича, что подожду его у Борской заводи. Спустился на «Победе» с крутого угора к реке, развел костер. Расстелил возле огня старые, потрепанные чехлы с сидений и улегся на них.
Впечатлений дня у меня было много. Кто была та девушка на снимке с красивым именем Тима? Почему так разъярился старик, узнав ее? Я ищу, выдумываю сюжеты для своих рассказов, повестей, пьес, а жизнь — вот, сама предлагает мне их.
Вода в Сабе потемнела, буруны на перекатах перестали искрить. По дороге к Борской ферме пылило стадо, пастухи привычно покрикивали на коров, беззлобно матерились. Где-то в деревне запиликала гармошка, над заводью уже плавая туман.
— Спишь? — раздался голос.
Я вздрогнул.
Илья Борисович подсел к костру, подбросил в него несколько сухих хворостин. Спросил, доставая из кармана папиросы:
— Домой не торопишься?
— Нет.
— Тогда посидим.
Я поднялся и отправился на поиски дров. Отыскал в прибрежных кустах сухой валежник и принялся таскать его к костру. Илья Борисович сидел возле огня, поджав колени к подбородку и обхватив их руками, курил. Я прилег на другой стороне у костра и, решившись, попросил:
— Илья Борисович, расскажите, пожалуйста, про Тиму. Про ту, чью фотографию Егор Архипович разорвал.
Писатель долго не отвечал, мне показалось даже, что он не слышал моей просьбы. Огонек папиросы и веселое пламя костра высвечивали костистое лицо его, словно высеченное из серого камня, жутковато играли в его немигающих глазах.
— Длинная история, — произнес наконец Илья Борисович, — много в ней жизней закручено, в том числе и моя. Хотел роман писать по ней, да, видно, не судьба… Да и что роман? Разве сравнится какой-нибудь роман с жизнью? Слушай.
4
Начинал я писать, как и ты, в районной газете. Правда, до этого я уже армию отслужил и белый свет посмотрел. В газете работал так: днем по району мотался, газетные материалы писал, а по вечерам и ночью — стихи. Я ведь со стихов начинал. Чем черт не шутит, может, и получился б из меня поэт, если бы не война. Еще собирал я по деревням разные интересные истории: предания, сказы, легенды, песни старые записывал. Думал, что пригодится это все когда-нибудь. В то время романтик я был, фантазер. Прослышишь иной раз про случай самый заурядный, начнешь записывать, да столько литературно-художественного домысла подпустишь, что самому потом не разобрать: то ли быль записал, то ли легенду. Вот такую историю послушай. Она у меня с продолжением на всю жизнь получилась.
Жил в деревушке на Псковщине (перед войной я на Псковщине работал) кузнец — бобыль. Откуда он родом и что за человек, никто из деревенских не знал, пришлый был. Избу поставил на отшибе, возле оврага, и кузницу там же. Кузнечное дело свое знал и любил. Коня ли подковать, хитрую поковку какую изготовить — все мог. Веселый был мужик, красивый, хотя и не молодой уже. И жил он так: днем с молотком в кузнице, а вечером гармонь в руки — и в поле, в лес, к озерам. А пел как! Послушаешь, душа переворачивается. Бабы деревенские — девки и замужние — на кузнеца смотрели как завороженные. А по ночам многие к нему на свидание бегали. Он всех их привечал, всех любил, никого не выделяя. Иная некрасивая, мужем битая, подкрадется ночью к кузнецовой избе, стукнет в оконце робко. А он выйдет на улицу, на руки ее подхватит и как принцессу в поле звездное несет. А утром некрасивая, мужем забитая, возвращается в деревню не таясь. Идет, светится вся, будто прозревшая слепая, а из окон на нее люди смотрят. И вся деревня знает: от кузнеца идет. И все деревенские молодухи некрасивой завидуют.
Нашлись злые люди, убили кузнеца.
— Убили?! — невольно воскликнул я.
— Эту историю, Толя, рассказываю тебе в своей интерпретации, в своей, так сказать, литературной обработке. Лирик я был в душе неуемный… В жизни же эта история куда прозаичнее выглядела. Примерно так. В деревне Горлицы жил кузнец по фамилии Ревский. Пьяница был и бабник. Жил без жены, бобылем. В доме его хозяйничали старуха по имени Матрена и дочь-красавица, которой сам кузнец побаивался. С характером была девица, и звали ее Тима Ревская. Однажды в пьяной драке проломили кузнецу голову чем-то. Умер в больнице. Я от редакции тогда со следователем в деревню эту ездил, очерк ко Дню милиции готовил. Тогда с Тимой и познакомился. Как бы тебе ее поточнее обрисовать… Роста была чуть выше среднего, формы в меру пышные, но стройная, гибкая и словно соком весенним налита вся. Нет, словами не передать, ее видеть надо было. Словно сам господь бог в фигуру ее всю женственность, всю страсть плотскую, человеческую вложил. Мужики мимо пройти не могут, останавливаются, глаза пялят, а она под их взглядами греховно вздрагивает вся. А вот лицо ее… На лице я одни глаза запомнил. Бесцветные какие-то, прозрачные почти и недобрые. Вернее, недоверчивые глаза. Смотрит на тебя и словно бы говорит глазами: знаю, знаю, что вам всем от меня надо…
— И вы, наверное, влюбились в нее? — поторопил я писателя вопросом, так как Илья Борисович замолчал и задумался.
— Нет, — Илья Борисович усмехнулся, — я уже был влюблен. В супругу свою теперешнюю Ирину. Она в ту пору у нас в редакции машинисткой работала, а в партизанском отряде была у нас радисткой. И чтобы тебе полностью расклад любовный в рассказе моем ясен был, так скажу: Ирина сына Егора Архиповича любила, Сережу Антонова. И до сих пор, сдается мне, любит. Вот так…
Писатель вновь замолчал, но я не стал поторапливать его вопросами. Подбросил в костер сучьев и стал ждать.
— Сережа Антонов к нам в редакцию частенько заглядывал, — продолжил Илья Борисович, закуривая, — мы с ним приятели были, вместе в литературном кружке при газете нашей занимались. Он тогда вторым секретарем в райкоме комсомола работал. Рассказал я ему про кузнецову дочку, разрисовал ее в красках. Сережа парень был заводной, горячий (я удивлялся потом, как его могли командиром партизанского отряда назначить), говорит мне: «Хочу на нее посмотреть».
— А как же Ирина?.. — невольно спросил я и осекся.
— Выбрали мы с Сережей время, съездили на мотоцикле в Горлицы, — писатель словно бы не слышал моего вопроса, — там я его с Тимой и познакомил. Пропал Сергей, влюбился. Зачастил в Горлицы по нескольку раз на неделе. «Женюсь, — говорит, — без Тимки мне жизни нет». А я рад, конечно. «Женись, — поддерживаю, — свадьбу комсомольскую сыграем». Говорю ему так, а в душе кошки скребут. Если бы по Ирина, никогда не посоветовал бы Сергею красавицу эту в жены брать. Проще говоря, был у меня в женитьбе Сергея свой интерес — Ирина…
Да. Сделал Сергей Тиме предложение, а она соглашаться замуж за него не торопится. Сама в город зачастила и вроде как к житью-бытью нашему присматривается. Сергей, помнится, на литкружок ее раз затащил. Сидела, слушала, молчала. Понравилось ли, интересно ли ей — ни звука. Потом с Сергеем сюда в деревню приезжала, с Егором Архиповичем познакомилась. Наконец согласилась Тима на замужество, но такое условие поставила: в город жить не поедет. Дескать, если Сергей любит ее, пускай перебирается жить и работать в ее деревню. Сколько ни уговаривал ее Сергей — ни в какую. А сама уже и ребенка от него носит. Сдается мне, что на ее решение в этом вопросе большое влияние Матрена оказывала, тетка.
— А как Егор Архипович к Тиме относился? — спросил я.
— Тиму он вроде бы терпимо поначалу воспринял. Как-никак невеста сына. Но потом, когда ответный визит в Горлицы нанес и с Матреной познакомился, помрачнел. Когда же узнал, что Тимка его Сергею условие поставила в деревне вместе с Матреной жить, на дыбы поднялся. Хоть в деревне живите, говорит, хоть в городе, хоть у черта на куличках, но чтобы этой старой ведьмы рядом с вами не было. Ну а Тимка закусила удила.
Не знаю, чем бы эта история закончилась, если бы не война. Перед самой войной Тима Ревская родила мальчика. Назвала Олегом. В горкоме на Сергея уже косо стали посматривать, дескать, что ты за комсомольский секретарь, если свою личную жизнь наладить не можешь, ребенка на стороне имеешь.
Да, такие вот получились пироги… Началась война. У нас в районе комсомольский партизанский отряд был сформирован. Сергея Антонова командиром назначили, а я поначалу подрывником-инструктором был, а потом разведку возглавил. Комсомольским отряд наш только назывался. Через месяц после оккупации Псковщины к нам около сотни человек прибилось. Кто из окружения выходил, которые местные. Стали мы немцев понемногу пощипывать.
— А Тима как? — не выдержал я и перебил писателя вопросом.
— С Тимкой так получилось. В деревне ее, в Горлицах, немецкий строительный отряд разместился. Черт знает что они там строили, но землю копали, как кроты, с утра до вечера, В Тимкином доме офицер немецкий поселился, начальник стройки майор Вольф. И, как пошли слухи, неплохо с ней личное время проводил.
— Неужели?! — невольно вырвалось у меня. — Не может быть!
— Вот и я поначалу так же думал, верить не хотел. А Сергею Антонову и намекать боялись. Он под горячую руку черт те что мог натворить. Решил я сам в Горлицы сходить и разузнать, что к чему, лично. Вдвоем с Ириной на подводе поехали…
Тимку с Матреной в деревне и до войны не любили. Своенравная была слишком, жила как хотела, ни с чьим мнением не считалась. Во время оккупации женщины и девчонки деревенские месяцами не мылись, сажей себя мазали, ногтей не стригли, только бы немецким солдатам не приглянуться. А она… Сам видел: идет от колодца разряженная, грудь вперед, бедрами играет. Поговорил с деревенскими о Тимке, плюются. Все как есть подтвердили про офицера. Рассказал я Сергею про Ревскую. Не поверил командир. «Чтобы больше этих разговоров про нее, — говорит, — я не слышал. Сам разберусь». А чего уж тут разбираться. Офицерик Тимкин по утрам чуть ли не трико ее на веревке развешивает, за водой с ведрами вместо Тимки бегает. Да… Житье партизанское известное: немцы за нами, мы от них и за ними. Сергей Антонов в отряде дремать никому не давал, хотя, повторяю, для командира был легковат. Во многих случаях, как под Гдовом, например, вместо того чтобы думать, сам автомат в руки хватал — и напролом. Горячность его иногда лишних жизней стоила.
В ту пору пришел приказ из центра: узнать, что за строительство ведется возле деревни Горлицы. Немцы кричат вовсю, что Москва пала, а сами вроде как оборонительные укрепления строят под Псковом. Короче, решили мы офицера Тимкиного в качестве «языка» взять. Сергей лично эту операцию проводил. К Тимке в деревню мы вчетвером поехали на подводе: Сергей Антонов (сколько ни отговаривал его не ездить самому, куда там), Ирина, Вася Попов из местных и я. Все, кроме Ирины, под полицаев одеты, с повязками, и еще староста с нами горлицкий, наш человек. Самогон для натуральности прихватили и катим с песнями. Въехали в деревню, возле Тимкиного дома остановились как бы случайно. Тимка на крыльце белье стирает. Сергей кричит: «Здорово, Тима! Не узнаешь соседских?» А та громко: «Узнаю. Здравствуйте!» — «В гости пригласи», — Сергей предлагает и бутыль с самогоном из-под соломы достает. «Пригласила бы, — Тимка отвечает, — да у меня квартирант живет. Отдыхает сейчас, его беспокоить нельзя». — «Тогда иди к нам, глотни за встречу», — Сергей зовет. Подошла Тимка к подводе, поздоровалась еще раз, к бутылке приложилась. Сергей и шепнул ей: в субботу, мол, офицера твоего брать будем. Чтобы баню ему к вечеру истопила и самогонкой побаловала. Помню, Тимка отвечает: «У меня квартирант непьющий». Сергей ей тихо: «Олега (сына его) отправь с Матреной к Невзоровым. Я его ночью к отцу в Борки переправлю. А ты с нами после операции уйдешь». — «Никуда я сына отправлять не буду, — Тимка отвечает, — ребенка-то хоть в свои дела не путайте. И с вами уходить по лесу бродяжничать не собираюсь. Как жила, так и буду жить…»
Разговаривает Сергей с Тимкой, а я вижу — из окна дома ее за нами кто-то наблюдает, угол занавески отогнут. «Наверное, Матрена, — думаю. — Ведь ежели она нас узнала и шепнет сейчас офицеру…» Но ничего, обошлось все. Уговорил Тимку Сергей, попрощались мы с ней, уехали, а за домом Ревских постоянное наблюдение установили. Неспокойно у меня, помню, было на душе, предчувствие мучило. Ох как не хотели мы командира пускать на эту операцию, с другой стороны, в доме Ревских его сын. Ирина так прямо висла на Сергее…
Три дня, до субботы, мы с Тимкиного дома глаз не спускали. В субботу, как договаривались, натаскала Тимка в баню воды, два веника березовых наломала (майор Вольф париться любил), затопила баню и в дом ушла. Незадолго до приезда офицера Матрена с ребенком на руках из дома вышла и пошла в другой конец деревни к Невзоровым. Наконец машина грузовая с солдатами к Тимкиному дому подъехала. Майор из кабины выскочил, шоферу рукой махнул, чтобы отъезжали, и тоже в дом.
Через час уже, как стемнело, выходит майор на крыльцо без мундира, в белой рубашке. Зевнул, потянулся и двинулся к бане. Идет, песню мурлычет и вроде как навеселе. Подождали мы еще минут пятнадцать — и осторожно огородами к бане. Сергей Антонов впереди шел, а я — с другой стороны, от леса. Стали к бане подходить, как вдруг из бани и с чердака Тимкиного дома пулеметы ударили. Сергея Антонова две очереди трассирующих перекрестили, Николая Анисимова срезали, Петра Маченко, Толю Волошина и Васю Тяпкина, совсем еще мальчишка был. А мы, остальные, еле ноги унесли.
— Неужели Тимка предала? Может быть, Матрена?
— Нет, Тимка. Тетке своей она рассказала все, с ее благословения и решилась на это подлое дело. Не знаю, на что она рассчитывала, на что надеялась… Она и не запиралась особо, сама во всем созналась, просила только, чтобы сына на Матрену оставили. Мы Тимку Ревскую через месяц после гибели командира по приговору партизанского суда расстреляли.
— А как же Олег?
— Сына Сергея тогда на Матрену оставили. Из-за ребенка только с ведьмой той и не рассчитались вовремя. Ее судили уже после войны.
— А Олег?
— Олег… — Писатель протянул к костру руку, выхватил из огня дымящийся сук и прикурил от него. — История эта, повторяю, у меня с продолжением на всю жизнь получилась. Война — только первая часть ее. Слушай дальше.
После войны мы с Ириной поженились. Я книгу о партизанах написал, в Литературном институте стал заочно учиться, перебрались мы с Ириной на жительство в Москву. Своих детей у нас не было, и предложила Ирина сына Сергея Антонова разыскать и усыновить. Так мы и сделали. Нашли Олега в детском доме под Лугой, мальчишке шестой год шел. Матрена в то время уже срок отбывала.
Да… Как-то незаметно жизнь пролетела. Срочные бумаги, срочные корректуры, книги, редакции, письменный стол, с Олегом поговорить некогда было. В доме нашем всяк сам по себе жил, встречались только за обеденным столом. До сих пор неясно: откуда Олег узнал, что он приемный наш сын. Матрена, наверное, как-то дотянулась до него. Олег весь мой военный архив переворошил и, когда убедился, что родная мать его была расстреляна партизанами за предательство родного его отца, с нервным расстройством в психиатрическую больницу попал. И все это у него на выпускной класс пало, на десятый. Он, оказывается, втайне от нас с Ириной и в здешних местах побывал. В Горлицы приезжал, с Матреной встречался.
— С Матреной? Значит, она еще жива?
— Эта старая ведьма, отсидев свое и прежде чем со света белого убраться, успела еще одну большую пакость сотворить на земле. Заверила мальчишку клятвенно на Тимкиной могиле, что мать его невиновна. И еще сказала, что Ревскую лично я застрелил из пистолета и на ее глазах в бане без всякого разбирательства. А бумаги на признание ею своей вины, на следствие и партизанский суд и прочие — это, дескать, потом все написано, задним числом.
— Вот сволочь! И Олег поверил?
— Он очень хотел верить, что мать его невиновна. Только сейчас узнал: Олег, оказывается, тогда же и у Егора Архиповича побывал, у деда. Старик, как только имя Ревской услышал, в ярость пришел. Да, забыл сказать: Тимкиного постояльца майора Вольфа партизаны позднее все же взяли, правда, уже не нашего отряда ребята. Майор ценные сведения по строительству укрепрайона «Пантера» дал, а затем до конца войны работал в Москве в антифашистском комитете. У нас по делу Ревской собственноручное показание Вольфа хранилось в архиве, где он показывал, что с Ревской сожительствовал и она лично ему сообщила про операцию партизан отряда Сергея Антонова. Олег и этой бумаге не поверил.
— А сколько сейчас Олегу лет?
— Двадцать второй пошел. Десятый класс он так и не закончил, из дома ушел. В армию его не взяли, живет сейчас в общежитии, работает во Дворце спорта мотористом. С Ириной иногда еще встречается, со мной же все отношения порвал. Сказал, что невиновность матери докажет, даже если придется потратить на это всю жизнь. Совсем недавно вновь в психиатрической больнице побывал. Я с его лечащим врачом беседовал. Врач сказал, что излечить Олега может только одно: доказательство своей правоты. Но, увы, правда войны беспощадна ко всем, даже к детям. Можно восстановить разруху, вызванную войной, но нельзя вернуть жизни, которые она унесла. И что еще страшнее, нельзя изменить исковерканные войной людские судьбы. Война будет давать себя знать еще во многих людских поколениях…
5
Ночь пролетела для меня мгновенно. Я слушал низкий негромкий голос Ильи Борисовича и, казалось, бредил наяву. То, что рассказывал писатель, было простым и потрясающим одновременно. Это был материал для той самой пьесы, которую я мечтал написать. Я почему-то ни мгновения не сомневался, что рассказ писателя, который я слышу, должен лечь в основу именно пьесы, а не повести или романа.
Я плохо помнил, как вернулись мы с Ильей Борисовичем в поселок, как провожали его всей редакцией в Москву. Все вокруг меня как бы подернулось туманом, голоса и звуки отодвинулись куда-то, в писках стучала одна мысль: «Писать, писать…» На меня надвигался очередной и грозный творческий запой. Последнее, что запомнилось мне из сказанного писателем Громовым на прощание, была его фраза: «Что напишешь — присылай».
Сразу же после отъезда Ильи Борисовича в Москву я подошел к редактору и решительно попросил:
— Иван Иванович, дайте отпуск за свой счет. Хотя бы на месяц.
Редактор посмотрел на меня как на малое дитя, вздохнул понимающе, поинтересовался:
— Небось на роман замахнулся?
— На пьесу.
— Не могу тебе сейчас отпуск дать. Только уволить могу.
— Увольняйте, — согласился я, — на месяц.
— Эх, работнички, — проворчал Иван Иванович, — вот и делай с такими газету. На что жить-то будешь?
— Куртку меховую продам, она у меня совсем еще новая.
— Ладно… Так сделаем: переведу тебя на должность фотокорреспондента. Получать будешь поменьше, зато времени свободного больше. Снимков запас есть?
— На три месяца хватит, Иван Иванович! — обрадовался я.
— Этот месяц живи на запасе да клише делай. Пару фоторепортажей с уборочной организуй, и все твои заботы. Но учти: только месяц на твои фантазии даю.
Управиться за месяц с пьесой я, конечно же, не смог. Как ни старался, как ни спешил, не успел написать ее даже к Новому году. Закончил пьесу только к весне. В основу ее лег рассказ писателя Громова, который я от него слышал. Подлинные имена заменил вымышленными, за исключением двух: Громова и Тимы. В пьесу добавил я и толику своей фантазии, романтических авторских всхлипов, крутых сюжетных поворотов. Но, хотя сюжет я и закрутил, литературно-художественного домысла моего в пьесе было не так уж и много. Из подлинного рассказа Ильи Борисовича я сохранил в ней почти все: любовь Сергея Антонова к Тиме Ревской, гибель командира партизанского отряда от ее предательства, расстрел Ревской, усыновление после войны супругами Громовыми сына своего погибшего командира. В моей пьесе приемный сын Ильи Борисовича случайно обнаружил в его архиве документы, из которых узнал правду о своей родной матери и отце. Потрясенный юноша втайне от приемных родителей начал самостоятельный поиск людей и документов с целью доказать невиновность своей матери. Только один серьезный факт из рассказа Ильи Борисовича я изменил. Из предательницы Тимы Ревской сделал жертву партизанской ошибки. В эпилоге сфантазировал сцену встречи юноши с бывшим немецким офицером, приехавшим туристом из Берлина в Москву. На встрече этой присутствовали приемные родители юноши, их друзья по партизанскому отряду. И вот в присутствии всех их Вольф признается, что Тима Ревская не предательница. Что о предстоящем нападении на него партизан он догадался сам, когда увидел в окно Ревскую, беседующую возле повозки с незнакомыми полицаями.
Такую концовку пьесы сделал я отнюдь не из желания покруче завернуть сюжет. Не укладывалось у меня в голове, что миловидное девичье лицо с полными, красиво очерченными губами, которое успел рассмотреть я на фотокарточке, уничтоженной Егором Архиповичем, принадлежит предательнице. Как ни пытался, не мог представить себе, чтобы те красивые губы могли целовать чужое лицо солдата, невесть зачем появившегося в русской деревушке, могли шептать ему на ухо имя Сергея Антонова, отца своего ребенка. Я помнил все, что рассказывал мне Илья Борисович о предательстве Ревской, вспоминал перекошенное лицо старика Антонова, в гневе топтавшего валенками фотокарточку виновницы гибели его сына, и разум мой отказывался осилить и хоть как-то переварить в художественном плане психологию Тимы Ревской, мотивы ее преступления. Я понимал, что она могла испугаться предложения партизан. И за себя испугаться, и, в первую очередь, за своего ребенка. Что перспектива вести кочевую и смертельно опасную жизнь в лесу ее никак не устраивала. Предавая партизан, она не могла не понимать, что оставшиеся в живых партизаны осудят ее за это и суд их будет суровым. Что же получается? Выходит, она надеялась избежать наказания за свое преступление? Значит, она верила, что Москва пала, что все партизаны скоро исчезнут, что нет больше России, а есть одна «Великая Германия». И Германия эта сумеет защитить ее от наказания. Но как может не быть России? Даже если сдана Москва (вспомним французов), даже если всю землю ее заполонили чужеземные орды (вспомним татаро-монголов), Россия поднимется. Неужели Ревская не понимала этого?
Сколько ни размышлял я о Тиме Ревской, мне все время казалось, что произошла какая-то ошибка, недоразумение, роковое стечение обстоятельств и что Тима невиновна. Я допускал, что партизаны после гибели своих товарищей во главе с командиром могли поспешить, поторопиться, не разобраться основательно в существе дела и осудить невиновного человека. Разве не было подобных трагических ошибок на войне? Но допустить, чтобы девушка с лицом, которое я видел на фотографии, сознательно и обдуманно совершила подобное преступление, я просто-напросто не мог. Потому, наверное, что был еще слишком молод. Вот почему я написал так, как написал.
Пьесу мою машинистка Дуся успела перепечатать до майских праздников, и я отослал рукопись Илье Борисовичу в Москву вместе с поздравлениями с Маем и Днем Победы. И принялся с нетерпением ждать ответа. Мне почему-то казалось, что Илья Борисович ответит быстро и одобрит эту мою работу.
6
Шли дни, недели, месяцы — ответа из Москвы не было. Я не знал, что и думать. Писатель произвел на меня впечатление человека слова. Так почему же он молчит столько времени? Возможно, пьеса не дошла до него, затерялась где-нибудь на почте? Возможно, она не понравилась ему и он не считает нужным вести о ней разговор? Но понравилась она ему или не понравилась, ответить-то он, в конце концов, должен. Я начинал злиться.
И вот незадолго до Октябрьских праздников в редакцию нашу пришло известие из Москвы: Илья Борисович Громов умер.
Нельзя сказать, чтобы печальная весть эта явилась для меня полной неожиданностью. Я знал, что писатель тяжело болен, но не ожидал, что «это» произойдет так скоро. Было грустно и тяжко на душе. Смерть Ильи Борисовича была, пожалуй, первой смертью, которая пробудила во мне чувство невозвратимой утраты.
Редактор Иван Иванович выехал в Москву на похороны Ильи Борисовича Громова. Вернулся он через несколько дней и привез в портфеле рукопись моей пьесы. Когда я раскрыл ее дома, нашел в папке письмо. Письмо было на мое имя от Ильи Борисовича. Со странным неловким чувством читал я письмо от человека, которого уже не было в живых. Вот это письмо.
«Толя! Пьесу твою прочитал. Не удовлетворен. Не упрекаю тебя в том, что этот строго документальный материал ты ставишь с ног на голову. В конце концов у тебя, как художника, имеется право на домысел, измени только фамилии своих героев и место действия. Но разговор сейчас не о том. В этой своей работе ты сознательно или подсознательно пошел по наиболее легкому пути, сделав из виновника жертву. Ведь если бы тебе пришлось глубоко раскрывать образ Ревской, сознательно идущей на самое тягчайшее преступление (и ради чего?), тебе необходимо было бы заглянуть в такие черные глубины человеческой души, куда удавалось проникать лишь немногим писателям. Но только при этом условии, мне думается, могла получиться серьезная вещь.
Не хочу давать советы и потому скажу несколько слов о себе. Возможно, в моей короткой исповеди что-то заинтересует тебя, станет полезным в работе (может быть, позднее). Дело в том, что я считаю себя писателем, увы, несостоявшимся. Как это ни горько, правде необходимо смотреть в глаза. Отчасти в этом виноват я сам, но главной виновницей того, что я превратился в творческого импотента, считаю войну. Война калечила людей не только физически и морально, она калечила и их творческий потенциал. На мою долю выпало наблюдать и быть участником многих человеческих трагедий, да и самого меня война не раз ставила перед выбором «быть или не быть». После войны, начав серьезно заниматься писательским делом, я вдруг почувствовал, что потерял что-то в себе безвозвратно, как молодость. Твой Громов в пьесе правильно замечает: написав книгу о своих товарищах-партизанах, надо было остановиться, но… Я не только мнил себя писателем, я был им… до войны. После официально-шумного успеха первой своей книги я принялся за серьезные, как мне казалось, вещи, продолжая военную тему. Своих героев я ставил, как правило, в исключительные жизненные ситуации, ставил перед выбором «быть или не быть». Меня печатали, хвалили за глубокое проникновение в психологию человека, в духовный мир своих героев, за смелый и свежий взгляд на извечные вопросы добра и зла. Но я уже понял, что лишь поверхностно касаюсь извечных и неразрешимых вопросов, что в этой теме я просто-напросто лишь жалкий эпигон.
Я вернулся к тому, о чем мечтал писать до войны: о людях и делах их на земле без всяких «быть или не быть». Но, увы, в моих книгах присутствовали эпохальные дела и свершения, не было в них только живого человека. Все мои положительные и отрицательные персонажи напоминали роботов, изготовить и запрограммировать которых современному человеку вполне по силам. В то же время рядом со мной работало несколько писателей, чье творчество как-то странно волновало и будоражило меня. Особенно поражал меня один молодой коллега, хорошо известный тебе сейчас, наверное, по своим рассказам. Если я писал рассказ о том, как фашисты вешали на колокольне церквушки партизан (чему я являюсь живым свидетелем), у моего молодого коллеги появлялся рассказ, в котором лихой бригадир набрасывает на колокольню тросовую петлю и рушит церквушку трактором. Рушит просто так, из одной прихоти, «абы не стоял чертов культ». И странное дело, его «заземленный» рассказ оказывал на читателей (и меня в том числе) несравненно большее эмоциональное воздействие, чем мое повествование о гибели людей. Я долго не мог понять: почему происходит такое? В чем сила этого писателя? На какой опоре выстроен хотя бы этот его рассказ? И лишь позднее понял, что опирается он на высказывание самого Пушкина, сказавшего, что культура народа определяется тем, как он относится к своей истории. Церквушка та была историей народа и, следовательно, его культурой. А губители народной культуры вызывают у людей ничуть не меньший гнев и отвращение, чем губители людских жизней.
Но более всего поражало меня в творчестве этого писателя умение вызвать в читателе интерес к личности казалось бы заурядной, а то и вовсе никчемной. Лично я никогда не испытывал сочувствия к отрицательным персонажам своих книг. Когда они появлялись из-под моего пера, перед моими глазами невольно вставали мои боевые друзья, гибнущие в Холмских болотах. Ради чего умирали они? Чтобы этот вот тип мог безнаказанно пьянствовать, работать, абы получать от общества, ничего не давая взамен? Губить алкоголем по только себя, но и свое потомство? Порождать на свет дебилов, обрекающих мою нацию на вырождение? Нацию, цвет которой умирал у меня на глазах четыре года. Или мои друзья гибли за то, чтобы процветала эта вот фифочка с накладными ресницами, весь мир для которой и все ее миропонимание утыкаются в поиски «приличного» мужа, заграничных тряпок и полированной мебели? Ведь она готова отдать за эти тряпки все, сделать то, что сделала Ревская. И самое грустное заключается в том, что в подобных фифочек продолжают влюбляться, продолжают боготворить их такие парни, как Сергей Антонов.
Нет, к своим отрицательным героям я испытывал в лучшем случае злость, но никак не сочувствие или понимание. Тем более не пытался пробудить этого сочувствия в читателе. Но, увы, и мои положительные герои не находили душевного отклика у читателя. В то же время герои молодого моего коллеги такой отклик в сердце читателя и сочувствие к ним находили. Если я писал роман о крупнейшей стройке страны, он писал о стройке рассказ. В моем многоплановом романе присутствовали и ударно трудились десятки положительных персонажей, в его десятистраничном рассказе два «героя» этой стройки просыпаются в вытрезвителе. И, проснувшись, в коротком сочном диалоге раскрывают в общем-то все то, что пытался сделать я в своем объемном труде. Каким-то чудом раздувал автор в читателе огонек сочувствия и доброжелательности к этим никчемным, на первый взгляд, людям и высвечивал этим огоньком красивейшие уголки человеческой души. Уголки, о которых и сами эти люди уже давно забыли.
Но понял я это, повторяю, позднее, когда моего коллеги вдруг не стало и я прочитал все его рассказы, впервые собранные в единую книгу. Огоньки доброжелательного сочувствия к человеку, любви к нему — к хорошему и к плохому — сливались в этой книге в единый негасимый свет, освещали с разных сторон Человека, высвечивали его изнутри. И Человек этот был прекрасен, и величие Дел его на земле было потрясающим.
Прочитав эту книгу, я понял наконец, что привлекало меня в творчестве этого писателя. Его книга была «моей» книгой! Ведь именно ее я мечтал написать до войны…
Тогда же я впервые отчетливо осознал, как искалечила меня война, что она от меня отобрала, почему я никогда не смогу создать того, что мог бы создать. Война лишила меня сострадания! Я имел в своем сердце сострадание ко всему человечеству, но уже не имел его к человеку, который нуждался в нем. А без этого писателя нет.
Если бы я смог начать жить и писать сызнова, или хотя бы мог забыть войну, мое творческое кредо было бы таким: нет смерти на земле и нет на ней лишнего человека.
Заканчиваю. Надо еще успеть разобрать свои фронтовые бумаги. Возможно, они пригодятся тем поколениям, которые станут изучать войну и писать о ней, не зная ее. Дай бог, чтобы таких поколений было больше.
Прощай. Громов».
Даты на письме не было, и мне оставалось только гадать: за сколько дней, а может быть и часов, до смерти написал его Илья Борисович? Письмо это я никому не показывал и не рассказывал про него никому, даже Ивану Ивановичу. Но спустя несколько месяцев после кончины писателя я прочитал в литературном еженедельнике, что Секретариатом Союза писателей СССР создана комиссия по литературному наследию писателя Ильи Борисовича Громова, и все материалы по жизни и творчеству писателя Громова комиссия просит направлять по адресу…
И я выслал по этому адресу письмо Ильи Борисовича ко мне, как ни жалел об этом… Тем, кто займется изучением творческого наследия писателя Громова, оно, мне кажется, может послужить ключом к пониманию всего его писательского наследия.
А пьесу свою я так и не переделал. И никогда потом вновь не возвращался к ней.
РАССКАЗЫ РАЙОННОГО ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА
ЛУЖСКОЕ КОЛЬЦО
Город Луга с районом Лужским, где проживаю я с первых дней своего рождения вот уже пятый десяток лет, клином вбиты промеж трех областей: Ленинградской (к которой приписаны), Новгородской, Псковской. В грибной сезон, бывает, заплутаешь с лукошком в лесу — из Ленинградской области на Псковщину забредешь. В деревушке глухой псковской молочка, тьфу — типун на язык (молочко нынче в глухих деревушках Псковщины в сапожках щеголяет), — водицы изопьешь, глядь, через пару часов уже по Новгородчине топаешь. Зимой на выходной день с рыбаками затемно из дома выйдешь и ну рядить: на Ильмень-озеро поехать рыбачить, на Шелонь-реку, Мсту, канал Сиверсов? А может, на Псковское озеро податься к островам? Или на Чудское, к Козлову берегу? На Теплом озере у Самолвы плотва, говорят, берет хорошо напротив Вороньего камня (это историки, археологи Вороний камень найти не могли, рыбаки давно знают). Кое-кто из горячих рыбацких голов на Финский залив предлагает двинуть, а то и на Ладогу. И, заметьте, во все эти концы одним днем обернуться надо, одними сутками.
Новгород, Старая Русса, Михайловское, Псков, Изборск, Гдов, Петродворец, Ленинград, Пушкин, Павловск, Гатчина… Это вроде как кольцо вокруг города моего. Колец разных нынче много: Золотое, Серебряное, Северное, Зеленое, а мое — Лужское. Много истории и дивных памятников старины заключено в кольце этом, но нет ничего интереснее людей, живших здесь и живущих ныне. Живущих воочию каждодневно наблюдаю, интересы живших в памятниках старины улавливаю, во всем том, что оставили они после себя на земле нашей, в памяти людской.
Летом на зорьке в кресло автобуса экскурсионного усядешься — и в путь-дорогу по историческим местам кольца своего. Чуть больше часа езды — и уже у древних стен Новгородского Детинца стоишь, у белокаменной красавицы Софии («где София — там и Новгород»). Потом — у Георгиевского собора стоишь, что с древности с Софией соперничает. Из монастыря по тропинке травяной к «Кижам» новгородским выходишь, к «Витославлицам». Поглядывают на тебя оконцами вековые северные избы на высоких подклетах, принаряженные по оконным наличникам, балкончикам, причелинам в резные деревянные кружева. «Черные» избы и «белые». Не мертво поглядывают, а живо, с интересом, с пытливостью. Будто спрашивают: кто таков, добрый молодец? Зачем пожаловал к нам? Мастерством Новгородчины мужицкой любуешься или, как говорят сейчас у вас, строительной культурой русского Севера? Что ж, похвально, что предков своих не забываешь. Смотри на нас, узнавай, гордись, запоминай!
Идешь по улице «Витославлиц», глазеешь по сторонам, дивишься на рукотворные бревенчатые чудеса. Вот церковь Рождества стоит. Исаакий деревянный! Четыреста с лишним лет под небом красуется, топором мужицким рубленная! От куполов ее шатровых и в пасмурную погоду будто свет неземной исходит, с молочной дымкой Ильмень-озера сливается, отражается на горизонте в золоченом куполе Софии-собора. Неподалеку от великанши Рождества крошечная совсем церковь Успения стоит на берегу озера Мячино. Не та шатровая Успения, что из села Курицко в «Витославлицы» перевезенная, а из Любытинского района церковка, на кресте которой 1599 год выбит и которую в народе Успеньюшкой кличут. В конце августа, в канун дня успения, из многих деревень Любытинского района приезжают в «Витославлицы» старые люди, украшают церковь цветами, развешивают на ней различные вещи и предметы домашнего обихода. Как-то спросил я древнюю старушку, которая сухонькими пальчиками украшала церковь ромашками-цветами: «Сколько лет вам, бабушка? Откуда вы?» — «Из деревни Никулино я, родный, — старушка отвечала, — девяносто третий годок пойдет мне как раз с успения. В этой церкви дедушку моего крестили и бабушку. И я с Иваном, царство ему небесное, венчалась в ней. Когда увозили из деревни Успеньюшку, плакала я, думала, больше не свидимся с ней. Сказывали потом люди, что возродилась она у Юрьева монастыря, да я не верила. А нынче вот сама приехала Успеньюшку проведать. Спасибо вам, люди добрые, за Успеньюшку нашу ненаглядную, что сберегаете ее». — И старушка отвесила всем собравшимся земной поклон.
Хорошо в «Витославлицах» в конце мая побывать на празднике фольклора. Из разных мест земли новгородской съезжаются туда хранители и любители песен народных, обрядов, обычаев. Сидишь на галерее под оконцем «черной» избы, слушаешь песни старинные, что старушки в национальных костюмах прямо на улице «Витославлиц» исполняют, танцы народные старинные смотришь, хороводы наблюдаешь и всем своим естеством ощущаешь связь с землей своей, с историей ее, культурой. А если в старушечьем хоре лицо помоложе углядишь, радуешься. Значит, не оборвутся живые нити устного народного творчества, что тянутся к настоящей жизни из глубин веков, не заглушит их вконец визг-вой заморских мелодий и ритмов, не оскудеет культура русская.
Здесь история земли русской всюду напоминает о себе, куда ни бросишь взгляд. Помнят свою историю новгородцы (истинные, конечно), изучают, хранят, а порой и воссоздают по крупицам то, что утеряно было, казалось, навсегда. По крупицам — в переносном и самом прямом смысле этого слова. За примерами далеко ходить не надо. Вон за водной гладью Волхова виднеется в поле знаменитая церковь Спаса-Нередицы, к югу от нее хорошие глаза различат на горизонте Ильмень-озера купол Николы-на-Липне, а дальше за Спас-Нередицей, в трех верстах от Новгорода, — церковь Спаса-на-Ковалеве, руины Успения-на-Волотове. В годы Великой Отечественной эти знаменитые новгородские храмы оказались на линии огня. Немцы били по ним прямой наводкой из орудий, и мало что уцелело от шедевров новгородской и мировой культуры. По старым чертежам удалось воссоздать разрушенное, но фрески? От всемирно известной фресковой росписи Спаса-Нередицы уцелели лишь отдельные фрагменты, не более 14—15 процентов росписи. Церковь Спаса-на-Ковалеве превращена была в груду развалин. Все фрески Ковалевской церкви, исполненные в 1380 году новгородскими и южнославянскими художниками (одно из доказательств прочных культурных связей Новгорода с балканскими славянскими странами), казалось, погибли безвозвратно. В 1965 году началось исследование развалин Спаса-на-Ковалеве, затем раскопки, восстановление. В работах этих принимали участие многие люди, но самыми упорными были супруги Грековы — Александр Петрович и Валентина Борисовна. Двадцать лет воссоздают они из груд штукатурки (расфасованной в сотни ящиков) фрески Ковалевской церкви, по крупицам выискивая и монтируя их на фанерных, а затем на титановых щитах. Все, кто наблюдал работу художников-реставраторов Грековых в помещении Лихудовского корпуса Новгородского кремля, не могли не восхищаться их трудом, их верой, их страстью. Академик Д. С. Лихачев сказал о работе Грековых так: «Это самая героическая, самая вдохновенная и самая нужная работа реставраторов, которую я когда-либо видел. Это работа не только большого технического мастерства, но и работа, за которой чувствуется моральная сила». Сейчас собрано свыше ста сорока квадратных метров фресковых композиций.
Если имена Грековых известны далеко за пределами страны нашей, то сколько их, почти безвестных ценителей и хранителей истории, культуры, творчества народного, живет на земле новгородской. Тех, о делах которых порой и соседи-то по квартире ничего не знают не ведают. Довелось мне однажды попасть в неприхотливую квартиру новгородца Владимира Ивановича Поветкина, и с тех пор я благодарю судьбу за то, что подарила она мне знакомство с этим талантливейшим и скромнейшим человеком. Все в комнатухе Владимира Ивановича — от плетенных из бересты подстаканников и хлебницы до старинных музыкальных инструментов — сделано его руками, все — произведения искусства. Древнего новгородского искусства. Музыкальные инструменты — гусли, жалейки, гудки, свирели Владимир Иванович воссоздает по древним образцам, найденным при раскопках Новгорода, по старинным рисункам. Дерево на инструмент (как это было у новгородцев) пускает самое разнообразное, лаки не применяет, а только естественные красители, инструмент украшает резьбой. Когда я впервые попросил Владимира Ивановича сыграть что-нибудь на одном из инструментов, он ответил, беря в руки гусли, что играть не умеет. Играть умели только те новгородцы, которым принадлежали эти и подобные им инструменты, он же может лишь извлекать некоторые звуки. «Некоторые звуки» — чистые, сильные, смелые, идущие, казалось, из глубин прошлого, — потрясли меня. Можно реставрировать древний музыкальный инструмент, найденный при раскопках, можно воссоздать его по полуистлевшим останкам, чертежам, рисункам, но музыка? Как воссоздать ее? Возможно ли? Мне кажется, что Владимиру Ивановичу подвластно и это. От музыки его невольно разворачиваются плечи, выше поднимается голова, в душе пробуждаются мысли и чувства высокие, и ощущаешь себя на земле своей хозяином, и хочется тебе пригласить в дом свой на вечное дружество всех добрых и даже недобрых людей.
От Новгорода полтора часа хорошего хода на автобусе — и вы уже в Старой Руссе, трясетесь по ухабам набережной речки Перерытицы. Кого из экскурсантов радикулиты мучают, полиартриты, ревматизмы и прочие хвори, тот, естественно, из окна автобуса выискивает знаменитый грязелечебный курорт; ну а те, кто к творчеству Федора Михайловича Достоевского неравнодушен, притихшие сидят. Вот-вот дом-музей Федора Михайловича показаться должен, единственная его недвижимая собственность, приобретенная на исходе жизненного пути. Здесь под негласным надзором полиции провел Достоевский с семьей несколько летних сезонов, здесь он создал «Братьев Карамазовых», гулял с верной своей подругой Анной Григорьевной вот по этой набережной Перерытицы, под этими громадными вязами аракчеевских еще времен; вот знаменитая дача Гриббе, а вот и сам бывший директор дома-музея Достоевского Георгий Иванович Смирнов, интереснейший человек, фанатик от Достоевского, чье имя так же неразрывно связано с музейным комплексом Достоевского в Старой Руссе, как имя другого фанатика — от Пушкина, Семена Степановича Гейченко — связано с музеем-заповедником Пушкина на Псковщине. Кстати, если у вас есть время, желание и силенка в руках, можно прямо отсюда — от дома-музея Достоевского — выйти на байдарке по Перерытице в Порусью, подняться до ее истока, до озера Русское. А ежели вы туристской настырностью еще обладаете и не теряетесь в глухих болотистых местах, то, придавив килограммчик-другой комаров и мошек, сможете отыскать в районе Русского озера исток Сороти, она приведет вас в пушкинские места, к дому-музею Александра Сергеевича. В местах этих необходимо побывать каждому человеку, в чьем сердце хоть чуто́к теплится интерес к жизни, к земле своей. У меня так зачастую бывает: навалятся заботы повседневные, тяготы разные житейские — свет не мил. Видеть никого не хочется, ехать куда-то и подавно желания нет, а пересилишь себя, соберешь в пятницу рюкзачишко свой походный — и на попутку. Только не дай бог в Михайловское в первый воскресный день лета попасть на традиционный праздник Поэзии, когда тысячи и тысячи людей, оглушаемые репродукторным славословием великого поэта, бродят по Михайловскому и его окрестностям. С некоторых пор на Пушкинских празднествах в Михайловском и промтоварные ярмарки разворачиваться стали. Раньше, бывало, на вашем пути к большой Михайловской поляне, где любители поэзии собираются, только книжные соблазны встречались и разные питейно-закусочные. Теперь же по пути к пушкинским местам и калоши нужного размера подобрать можно, и кальсоны к ноге прикинуть. Иные прямо с узлами-покупками по заветным пушкинским тропкам, обгоняя один другого, к дому Александра Сергеевича спешат. Слух какой-то шутник пустил, что и там «чёй-то давать будут».
Все это, в общем-то, не ново, хотя и грустно. Директор Пушкинского заповедника Семен Степанович Гейченко в своей книге «У Лукоморья» рассказывает, как проходил первый Пушкинский праздник, посвященный столетию со дня рождения поэта.
«В Святые Горы понаехали маркитанты и кабатчики всех рангов и мастей. На дверях трактиров вывешивались объявления о том, что здесь в памятные дни будут подаваться специальные блюда «беф а ля Пушкин» и «салат а ля Евгений Онегин». Фирма купца Шустова выставила свои рекламные, щиты, сообщавшие о том, что ею выпущен «Юбилейный ликер Александра Сергеевича» с портретом поэта на этикетке и полным текстом стихотворения «Я люблю веселый пир». Ликер был в стеклянных бутылках в виде фигурки Пушкина и с пробкой, изображающей его черную шляпу».
Отправляясь в Михайловское, очень желательно перечитать упомянутую книгу Семена Степановича. Однако ж еще советую: встретиться с Гейченко и его рассказы о великом поэте послушать не спешите. Семен Степанович натура сильная, волевая, страстная, ему недолго и подмять вас под себя, свое видение Пушкина навязать, свое понимание. Вон неподалеку от «Острова уединения» не так давно скульптура молодого Пушкина установлена, работы ленинградского скульптора Галины Васильевны Додоновой. Пушкин-юноша возлежит прямо на траве, очарованный всем, что его окружает. Он весь — молодость, порыв, вдохновенье. Слов нет, работа Додоновой интересна, талантлива, но… Прежде чем это свое «но» пояснить, приведу газетное высказывание Семена Степановича Гейченко о скульптуре Додоновой:
«В скульптуре Додоновой интересно все, особенно трактовка головы Пушкина, в ней чувствуется образ, найденный самим Пушкиным в его автопортретах». И далее: «Будете в Михайловском — обязательно посмотрите ее шедевр, и благо вам будет!»
Всего несколько строчек, а чувствуете, какой напор в словах, сколько в них страстной, убедительной силы. Представляете, что будет, если вы, прежде чем скульптуру Додоновой увидите, Гейченко послушаете? Разве сможете вы после этого на скульптуру Пушкина своими глазами взглянуть? Да никогда! Только глазами Гейченко. Теперь о своем «но» продолжу, о том, как лично я без подсказки Семена Степановича работу Додоновой воспринимаю. Не приемлет душа моя ее трактовку головы Пушкина, особенно лица поэта. Африканское лицо. Более того — типично африканское лицо без малейшей примеси русской крови. Глядя на человека с таким лицом, и подумать трудно, что он русский язык знать может, да еще и стихи на нем писать. Я не против «африканских» мотивов в трактовке пушкинского обличья, но зачем же упор на них делать? Пушкин как-никак в первую очередь поэт русский.
Чтобы Пушкина в Михайловском ощутить, в местах этих надобно не менее суток провести. Одному или с самым близким для вас человеком. Чтобы вечер у вас в Михайловском был, и ночь, и часы рассветные, и первые солнечные лучи. Входить в заповедные места лучше всего на челноке по Сороти. Пройдя озеро Кучане, остановиться напротив Савкиной горки, на противоположном от нее берегу. Здесь возле самой воды и костерок крошечный сладить можно, ушицу заварить. Прошли те времена, когда Семен Степанович Гейченко хаживал на огонек к цыганским таборам, что жгли костры у озера Маленец. Теперь в заповеднике окурок бросить — только в урну. Но сюда, за Сороть, карающая десница Гейченко не дотянется, здесь у рыбацкого костра еще можно посидеть ночку. А рано утром, когда засветлеет небо, но птицы еще вполголоса говорят, на левый берег Сороти переправиться, по густой росистой траве подняться на Савкину горку. Здесь и встретить рассвет. Потом, неспешно огибая Маленец, к Михайловскому двинуться, чтобы с первыми солнечными лучами к дому Пушкина подойти…
После Михайловского на кольце Лужском Псков стоит, древний страж земли русской, младший брат Новгорода. Из всех городов, что Лугу мою окружают, Псков более всего люблю. За что — и сам не знаю. За людей, наверное, которые в краю Псковском проживают. Более неприхотливых и приветливых людей, чем псковичи, встречать мне на Руси не доводилось.
Но, кажется, я слишком увлекся путешествием по кольцу Лужскому, эдак и конца-краю не будет. Про город свой рассказ продолжу.
Если вы хорошо знаете Пушкина, значит, о городке нашем слышали. Помните, у Александра Сергеевича:
Есть в России город Луга Петербургского округа; Хуже не было б сего Городишки на примете, Если б не было на свете Новоржева моего.Строчки эти поэт написал в Михайловском летом 1817 года, после окончания Лицея. Стихотворение при жизни Пушкина не печаталось, но современные сборники, составленные из стихотворений, написанных в Михайловском, открываются почти всегда им. Что ни говори — неважное впечатление произвел на 18-летнего поэта городок, который встретился ему по пути в Михайловское на Белорусском тракте (ныне Киевское шоссе). С той поры много воды утекло в реке Луге, что делит город на две части, много событий — больших в малых — повидал мой городок. Последнее самое памятное — Великая Отечественная война. В сорок первом году на Лужском рубеже на полтора месяца остановлены были отборные немецкие дивизии, рвавшиеся к Ленинграду. Лужский рубеж проходил как раз по диаметру кольца Лужского — от Финского залива через Лугу до Ильмень-озера. Немало полегло на рубеже этом моих лужан, ленинградцев, псковичей, новгородцев…
Самое интересное в городе моем — люди. О них и рассказы свои веду. Хотя определение «рассказы» в данном случае будет весьма условным. Скорее это полурассказы-полуочерки о конкретных живых людях, с которыми фотокорреспондента районной газеты ежедневно сталкивает работа. Встречи эти длятся порой всего несколько минут (время, чтобы взвести и щелкнуть затвором фотоаппарата), но и они вызывают определенные эмоции, будят какие-то мысли, оставляют след в памяти. В одних материалах имена и фамилии людей оставлены подлинными, в других по ряду причин изменены, «Рассказы районного фотокорреспондента» писались в разные годы и потому, конечно же, разнятся между собой. Но главное, что объединяет их в единый цикл, мне кажется, это невыдуманный человек, стоящий всегда в центре любого из этих рассказов.
НАСТАВНИЦА
Хуже нет для меня в женском коллективе работать. Представляете: вхожу я, молодой, розовощекий, неженатый человек, в швейный, к примеру, цех. И сразу на меня десятки, а то и сотни глаз устремляются, как же — «редакция» пришла! Шуточки разные начинаются, смех, подначки. Я, конечно, не такой чтобы совсем уж скромный и стеснительный, однако ж напоминаю: неженатый и недавно из армии, то есть практически от женского общества отвыкший. Сразу оговорюсь: в армии не со своим годом служил ввиду отсрочки, многие мои однокашники давно женатые люди. И я тоже на семейную жизнь здорово нацелен. Однако про цех рассказ продолжу.
Достаю я из сумки фотоаппарат, лампы осветительные, прочее фотохозяйство, раскладываю все это где-нибудь в уголке, к съемкам готовлюсь. Швеи которые постарше, замужние, давно на меня уже внимания не обращают, знай стрекочат машинками, перебрасывают швейные свои изделия с руки на руку. А молодые да игривые только-только заводиться начинают. Среди большого женского коллектива, как и среди мужского, тоже ведь свои Василии Теркины найдутся. Пока они газете нашей подначки отпускают, фотографиям моим газетным, еще куда ни шло. А вот когда конкретно на личность мою переходить начинают, да еще с малосольными шуточками, сразу жарко становится. Обнимутся две какие-нибудь пухленькие подружки-хохотушки, уставятся на тебя во все глаза и ну шептаться, давиться смехом. И мастер им ни звука за то, что работу бросили. Видать, шустрые в деле подружки, задел хороший имеют, если позволяют себе поболтать на глазах у мастера. Представляю себе, о чем наш брат-мужик шептаться может, когда молодух разглядывает, аж в жар бросит. Неужто и они про меня нечто подобное?
Чтобы как-то приглушить излишнее к себе внимание, щелкаю несколько раз затвором, общий вид цеха фотографирую, всех работающих. И вдруг одна глазастая кричит: «Фотограф, крышку-то с фотоаппарата забыл снять!» И хохот в цехе. Я, конечно, вида не подаю, что смущен. Тоже посмеиваюсь и в карман за словом не лезу, а у самого по спине уже теплые струйки сбегают. Это надо же так опростоволоситься на глазах у всего цеха!
Наконец приступаю к основному делу — съемке швей-мотористок. Кажется, чего проще: навел объектив на работающую женщину, нажал кнопку — готово! Ан нет! Вокруг одного щелчка затвора немало разных технических и психологических нюансов накручено. Многое в моей работе от общего настроя в коллективе зависит, от так называемого микроклимата. Я этот микроклимат, как ни затюкан женскими глазами и насмешками, сразу секу-улавливаю. Основной нюанс-закавыка в том заключается, что сфотографировать мне надо всего пять-шесть человек, а в цехе их, скажем, сто. И все, за небольшим исключением, план перевыполняют, звание ударника носят, в общественной жизни цеха участвуют, жалоб от соседей на личную их непутевую жизнь в завком не поступало. В хорошем микроклимате никаких эксцессов при съемке не возникает. Мастер или кто другой, которые меня по цеху сопровождают, сразу все разъяснят людям. Так, мол, и так, товарищи, фотокорреспондент газеты районной к нам пожаловал, надо ему пять человек сфотографировать. Одну швею-наставницу с ученицей, одну швею — активистку народного контроля, молодую комсомолку, которая нынче из средней школы к нам пришла, редактора стенной газеты и лучшую спортсменку-физкультурницу. Руководство цеха посоветовалось и решило: из нашего коллектива любая достойна быть представленной в газете, но поскольку только пять человек требуется, то решили мы рекомендовать на этот раз следующих… И называет пять фамилий. Сразу все ясно людям, и никаких особых обид ни у кого нет. Начинают избранные прихорашиваться перед зеркальцами, губы подкрашивают, брови приглаживают, прически поправляют. Подруги избранным платочки перевязывают, шутки, улыбки, смех всюду. Короче, атмосфера для моей работы что надо.
Другое дело, когда микроклимата подходящего в цехе нет. Идем, вот как сейчас, с начальницей цеха промеж столов, и словно волны ледяные от нас по сторонам расходятся. Начальница — женщина мощная, властная, безукоризненно в костюм влитая, со взглядом холодно-стальным, руководящим. Суждения ее точные, ничьих возражений не терпящие, на пальцах рук — перстни. И еще деталь: на ногах начальницы наимоднейшие бордовые сапоги на сногсшибательной «платформе». Я потому особо на эту деталь внимание обращаю, что тетка моя такие сапоги который год по магазинам ищет. Волшебная какая-то обувка: на прилавках магазинных ее нет, а на ногах у людей имеется. Хочу порасспросить начальника цеха, делами цеховыми поинтересоваться, гляну на нее — слова в горле застревают. А, ладно, думаю, сфотографирую по-быстрому кого дадут и восвояси. По телефону данные возьму из редакции, какие нужны будут.
Подводит меня начальница к столу, за которым две швеи работают, говорит: «Вот ее сфотографируйте, Иванову».
Иванову так Иванову! Включил лампу осветительную, затвор фотоаппарата взвел, ракурс съемки прикидываю. Иванова — женщина под стать начальнице — высокая, крупная, фигурой на киноактрису Нонну Мордюкову смахивает. Не работает за машинкой — кипит. Даже прихорашиваться перед зеркальцем не стала, фотографируй, дескать, какая есть, некогда мне позировать.
Прикидываю Иванову в видоискателе так и эдак. Шея длинновата, а вырез платья на груди еще больше удлиняет ее. На снимке такая шея столбом телеграфным выглядеть будет. Придется прикрыть. Брови у Ивановой выщипаны и по красноте щипаной до самых висков черной краской подведены, губы — словно розу алую в зубах держит. Это ничего, такие цветовые контрасты для нашего типографского старичка ЭГА (электронно-гравировальный аппарат) даже желательны. А вот нос никуда не годится. С глубоким вырезом ноздри, как две черные горошины на лице. Снизу фотографировать нельзя, придется сверху брать или в профиль, а то и со спины.
Веду я таким образом чисто техническую прикидку «объекта», но наплывают на меня всякие психологические нюансы. Открою вам свою сугубо личную, можно даже сказать, интимно-профессиональную тайну. Люди, которых фотографирую я для газеты, бывают симпатичные мне и не очень симпатичные. На качестве работы моей симпатии эти не отражаются. Впрочем, как сказать. Бывает, на симпатичный «объект» целую пленку ухлопаешь, а вот как сейчас на Иванову — два-три кадра всего. Сразу и не объяснишь, чем мне Иванова не приглянулась. Если брови до ушей и рот розой, не моя забота чужой вкус осуждать. Вроде видел ее где-то, кажись, в обувном магазине работала? Спрашиваю швею: вы раньше в магазине возле базара не работали? «Это сестра моя родная, — Иванова отвечает. — Она и сейчас там работает». Глянул я случайно на обувку Ивановой — мать честная! Бордовые сапоги на платформе, точь-в-точь как у начальницы. Ага, смекаю, сестра родная в обувном магазине работает, а у самой Ивановой с начальницей сапоги — близнецы редкостные. Чувствуете, какую тонкую связь улавливаю, треугольник какой получается, а если говорить языком дипломатии, — ось? А уж как смотрит Иванова на стальную начальницу свою, как улыбается ей — блином масленым в рот лезет. Впрочем, не мое дело, кто кому и как улыбается.
Прицеливаюсь я объективом в Иванову, а у самого глаз разгорается на соседку ее, пожилую горбатенькую швею. Работает горбатенькая не так шустро, как Иванова, однако, по всему видно, ветеран труда. Лет тридцать, наверное, за машинкой сидит, вот и сгорбилась. Седые короткие волосы ее на затылке гребешком схвачены, лицо морщинистое, а глаза большие и молодые совсем, как у девушки. Чистые какие-то глаза, неторопливые, домашние. На Валентинины глаза похожи, подруги моей предармейской, которая меня из армии не дождалась, замуж вышла. Полтора года письмами ко мне заходилась, а потом парень подвернулся подходящий, ну и бог с ней! Я, может быть, на ней и впрямь не женился бы. Глаза хорошие еще не главное достоинство в невесте, тем более в жене.
Работаю я с Ивановой, вдруг откуда-то из дальнего угла вопрос раздается, к начальнице обращенный:
— Варвара Андреевна, почему тетю Клаву для газеты не фотографируете?
— Не суйтесь не в свое дело, — начальница отвечает, — работайте!
— Это и наше дело, — голос возражает, — у тети Клавы половина цеха учениками были. Она последняя, кто в старом цеху работал.
— И троих детей одна без мужика воспитала, — подсказал другой голос.
Мне, конечно, нетрудно догадаться, что тетя Клава, о которой спор разгорается, — горбатенькая. Только имя свое услышала, распласталась грудью на столе, прильнула лицом к самой игле и головы от нее не поднимает. А когда о детях упомянули, заморгала, захлопала набрякшими сразу веками и вовсе не видна стала из-за машинки. Дело нехитрое — понять сейчас швею тетю Клаву. Да не нужна ей эта фотография в газете. Прожила, слава богу, и без нее жизнь, детей троих — вон люди говорят — вырастила. По голосам женским и гулу недовольному чувствуется, что уважают ее швейники, а вот Варваре Андреевне, видать, чем-то не угодила.
Прислушиваюсь я к разговорам, тружусь над Ивановой, однако в кадр и горбатенькую пытаюсь заловить. Я, бывает, в работе своей и своевольничаю иногда. Фотографирую не только тех, кого рекомендуют, но и тех, кто лично мне приглянулся. У нас порой как еще: на одного человека все валят, от благодарностей, премий, статей в газетах до Героя Труда. Других же словно и нет рядом, словно один этот Герой дело делает. Правда, редактор подобной самодеятельности моей не одобряет, потому как промашки в ней случаются. За одну такую самодеятельность-промашку я даже выговор получил. Дал в газету фотографию пожилого электрика с химзавода, понравился он мне своими рацпредложениями по усовершенствованию фасовочного аппарата. А на следующий день народ в редакцию пошел, письма возмущенные посыпались. Электрик этот, оказывается, во времена оккупации в полиции у немцев служил. После войны наказание отбыл и вновь все гражданские права от государства получил. Простило его государство, а вот люди предательства не прощают. В этом я тогда здорово убедился. Редактор всех разгневанных посетителей ко мне препровождал, чтобы я перед ними лично ответ держал. Наслушался я всякого вдоволь. Один старик из дальней деревни специально в город приехал, чтобы лично «редакцию насчет Генки-полицая упредить». Электрик злополучный, оказывается, родом из деревни старика был, а у старика в войну четыре сына полегли, одни дочки остались. Пришел старик в редакцию с внуком-здоровяком, как я позже узнал, трактористом. И часа полтора рассказывал мне про своих погибших сыновей, про Генку-полицая и его родственников, а внук старика, тракторист, дремал в это время на редакционном диване да изредка, вскидывая голову и приоткрывая глаза, произносил угрожающе одну-единственную фразу: «За такое дело морду бить надо». Я так и не понял тогда, кому бить — мне или Генке-полицаю? Старик и внук в целом мне понравились; осенью, проезжая их деревню, я навестил старика и сфотографировал его внука Федора на картофелеуборочном комбайне. Снимок получился удачным, и широко улыбающийся губастый Федор появился в газете на первой полосе крупным планом. В тот же день управляющий отделением, где работал Федор, заявил мне по телефону решительный протест, — Федор в рабочее время часто «злоупотреблял», хотя работником был хорошим. На празднике урожая тот же управляющий с удивлением поведал: после снимка в газете тракториста Федора стало не узнать — за всю уборочную он не совершил ни одного прогула, а «злоупотреблял» значительно меньше. Вот вам, так сказать, положительный пример моей самодеятельности. И таких примеров намного больше, чем с Генкой-полицаем. Не помню случая, чтобы человек, чья фотография появилась в газете, стал работать или вести себя в обществе хуже. Однако вернемся в швейный цех.
Закончил я швею Иванову фотографировать, и тетю Клаву контрабандой в кадр поймал, жду, когда начальница цеха очередной «объект» мне представит. В цехе гул голосов недовольных не умолкает, а все явственнее становится. Смотрю, глаза у Варвары Андреевны заметались, заискрились, как бенгальские огни. Взъерошилась она как-то вся, подобралась, зловеще-спокойным голосом проговорила:
— Помолчать бы вам, некоторым, надо. Вот тебе, например, Кислякова!
— Почему я молчать должна, Варвара Андреевна, — неуверенно возразил девичий голосок, — я у тети Клавы училась, она моя наставница.
— Значит, плохо наставляли тебя, если воровать умеешь! Вот и прострочи свой роток ворованными нитками. Помолчи, не суй нос не в свое дело.
После этих слов Варвары Андреевны смолкли голоса в цехе и даже стрекот машинок швейных как бы беззвучным стал, тишина повисла. И в тишине вдруг всхлипнул кто-то негромко, заплакал. Наверное, Кислякова.
Вижу, из-за машинки седая голова горбатенькой показалась, тети Клавы. Глаза ее большие строгими сделались, брови бесцветные нахмурились, произносит она укоризненно:
— Как вам, Варвара Андреевна, не стыдно такое говорить про Надежду при посторонних людях. Ведь по молодости это у нее было, по глупости. Обговорено все давно, зачем же старое ворошить? Надежду давно уже никто ни в чем упрекнуть не может, замуж девчонка вышла, только-только наладилось у нее…
— Это мое дело, вспоминать или не вспоминать! — отрезала Варвара Андреевна, багровея. — Пушок с рыльца еще не опал, а уже высовывается! Мы все знаем и все помним!
Вот ударила начальница цеха, так ударила. При «редакции» стеганула девчонку по самому больному месту наотмашь, как нагайкой. Эх, Кислякова, Кислякова! Теперь реви не реви, а такие, как Варвара Андреевна, нитками этими рот тебе долго затыкать будут. Люди добрые, вроде наставницы твоей тети Клавы, если нет за тобой новых грехов, по пословице живут: «Кто старое помянет, тому глаз вон», а такие, как Варвара Андреевна, ничего не забывают. Потому что невыгодно им забыть это, не резон. Знаю я нескольких человек, с Варварой Андреевной схожих. Чуть заденет кто самолюбие их, сомнение в деловых или моральных их качествах выскажет, сразу огрызаются, как раненые хищники. В самое больное, незащищенное место бьют. Ребенком попрекнут, матерью, тюрьмой, а чаще всего, вот как сейчас Варвара Андреевна, нечестностью. И не важно совсем для них, что в проступке своем человек раскаялся давно, вновь трудом добросовестным доверие товарищей приобрел. Знают хорошо: тем больнее для человека удар-попрек их.
Плачь, Кислякова Надежда, реви, поделом тебе! И за себя теперь не можешь постоять, и за наставницу свою тетю Клаву. Варвара Андреевна не только на твой роток платок накинула, но и детям твоим спуску не даст, попрекнет при случае матерью-воровкой. Ну что ты, дуреха, на нитках тех разбогатеть хотела? Из поколения в поколение людей русских мудрость народная передается: «Береги честь смолоду». Для себя береги, для детей своих, чтобы Варвара Андреевна и подобные ей не могли согнуть тебя, скрутить, подмять под себя. Чтобы могла ты всегда высоко держать голову и ни перед кем не опускать глаз.
Размышляю я про себя таким несколько возвышенным слогом, работаю, а диалог тети Клавы горбатенькой с начальницей цеха, между тем, обострился.
— Вы, тетя Клава, много на себя берете, — произносит Варвара Андреевна и прямо-таки подрагивает от внутреннего давления.
— Как хотите, Варвара Андреевна, а Надежду мы вам попрекать не разрешим, — с твердостью возражает тетя Клава. — Не для того столько времени возились с девчонкой, воспитывали, приучали к делу, чтобы все насмарку пошло. Добром но хотите понять, на собрании цеховом поговорим. И редакцию пригласим послушать, пускай они про то в газете напишут, — тетя Клава проговорила это, ко мне обращаясь.
Еще минуту назад я не мог и помыслить, чтобы кто-нибудь из работающих женщин-швей решился так резко и смело говорить с величественно-грозной Варварой Андреевной, которая метала сейчас в горбатенькую ох какие взгляды, но куснуть ее, заткнуть рот ничем, видимо, не могла.
Да, трудно работать в коллективе с тяжелым микроклиматом. Но этими съемками в швейном цехе я был доволен. Для нелегального снимка швеи тети Клавы удалось собрать тайком от Варвары Андреевны несколько казенных слов информации: «ударница», «наставница», «член завкома». Среди этих слов были и два личных: «день рождения». Послезавтра у тети Клавы день рождения. Представляя, какие глаза сделает Варвара Андреевна, когда увидит строптивую, непокорную швею на первой газетной полосе крупным планом, я невольно ускорял шаг к редакции. И подпись соответствующая под снимком будет. Из таких емких понятий, как «ударница», «наставница», «член завкома», опытный и неленивый газетчик кое-что может сделать. Правда, слегка портила настроение мысль, что после публикации снимка в газете Варвара Андреевна позвонит в редакцию о моем самовольстве. Но, черт возьми, в любой работе должна быть какая-то доля риска. Иначе что это за работа?
НЕУДАВШИЙСЯ СНИМОК
Я сижу в тесной нише, которая именуется громко: фотолаборатория. Слева от меня, за фанерной переборкой, — общественная приемная редакции районной газеты, справа — кабинет редактора. Каморка, наполненная густым оранжевым полумраком, таинственно уютна. Над столом, уставленным ванночками с растворами, громадным черным пауком высится фотоувеличитель, в углу потрескивают электроглянцеватели, над головой тихо мурлычет вентилятор.
Я люблю эти спокойные часы лабораторной работы. Набегаешься за день по совхозным полям и фермам, по заводским цехам и стройкам, а рано утром, вот как сейчас, засядешь в «ящик», то бишь в лабораторию, и вновь встречаешься с теми, кого вчера фотографировал. Кто улыбается тебе с мокрых, лоснящихся глянцем листов бумаги как старому знакомому, кто хмуро смотрит, кто устало.
Но сейчас дело что-то не клеится. Шестой лист бумага летит в ведро. Меняю выдержку, диафрагму, фотобумагу, меняю лампы в фотоувеличителе — ничего не получается. Раз за разом в мутноватом растворе проявителя вырисовывается небритая физиономия с угрюмо-удивленным взглядом и прилипшим к губе окурком. И вот эту-то физиономию я хочу «протолкнуть» на первую полосу. Нелегко это будет сделать. Ляжет такая фотография на стол ответственного секретаря, и смахнет он ее молча в корзину. Да и что я, собственно, знаю об этом человеке? Почти ничего. Вспоминаю нашу недавнюю встречу.
Выехал я поутру на автобусе в совхоз «Волошовский» снимать лучшую доярку района Нину Ивановну Николаеву. Совхоз отдаленный, до центральной усадьбы километров семьдесят, от нее до Затрубической фермы, где Нина Николаевна трудится, еще километров двенадцать — пятнадцать. До центральной усадьбы добрался часа за два, а вот на Затрубичье — пеший ход. Правда, знакомого зоотехника в Волошово встретил и дал он мне старый, хиленький велосипед. Двинулся я к Затрубической ферме по осенней лесной дорожке. Дорога тракторами разбита, грязь выше колен. Бреду по лужам, спускаюсь из оврага в овраг, перебираюсь по скользким бревнышкам через ручьи и речушки и все думаю: зачем это меня зоотехник велосипедом снабдил, пошутил, что ли? Тащу велосипед на себе. Поскользнулся, упал в яму с водой. Не только вымок, а «с головкой» — даже берет всплыл. Наконец до деревни добрался, до фермы. Не знаю, как в других районах, а в нашем худшего помещения фермы не найти. Стоит длинный сарай-развалюха, обнесенный громадным валом навоза, — это и есть Затрубическая ферма Просто не верится, что по надоям эта ферма лучшая в районе, а Нина Ивановна Николаева получает в год по пять с половиной тысяч килограммов молока от каждой своей коровы. Ведь это по пуду в день!
Подхожу к ферме. Смотрю, ползут по земле три громадные вязанки сена. Пригляделся — под вязанками доярки.
— Здравствуйте, — кричу, — уважаемые женщины! Принимайте гостя.
Думаете, обрадовались гостю? Как бы не так! Сбросили они со своих плеч вязанки и давай меня песочить. «Не нас, — кричат, — надо фотографировать, а безобразия, что на ферме творятся! Начальство сюда носа не кажет, а мы из сил выбиваемся. Скотник — лодырь, навозом заросли, воду на себе носим, сено вот подвезти не на чем…»
Стою я, помалкиваю. А что делать? Все верно. О том, чтобы сфотографировать сейчас этих разъяренных женщин, не может быть и речи. Отложил фотоаппарат в сторонку, подхватил вязанку сена и попер. Потом с ведрами за водой побежал, потом за вилы взялся — навоз кидать. Смотрю, отходят доярки, добреют, посмеиваться начинают. Одна уже в кружку молоко наливает…
— Женщины, — говорю, — дорогие вы мои! Расскажу я о ваших бедах в редакции. Все сделаем, чтобы помочь. А сейчас не откажите сфотографироваться, ведь солнце садится…
Сфотографировал доярок, распрощался — и в обратный путь. А уже смеркается. Знобить начало, радикулит старый проснулся — током бьет. Чавкаю по дороге с велосипедом, а в голове одна мысль вертится: «Попутку бы…»
Только присел на пенек передохнуть, слышу, сзади машина гудит. Обрадовался, на дорогу выскочил, руку вытянул — «голосую».
Машина — новенький ЗИЛ с тремя ведущими мостами — легко плывет по грязи. Шофер в белой рубашке при галстуке (сейчас у молодых водителей это модой, шиком становится — работать при галстуке) высунулся из кабины и дремотно на меня поглядывает. Не с интересом поглядывает и не с равнодушием, а как на лося примерно, из леса вышедшего.
— Эй, товарищ! — кричу и велосипед уже приподнимаю, чтобы в кузов его бросить. А машина неторопливо мимо ползет, «товарищ» даже головы не повернул. В первый момент не поверил, что не остановит. Ну, понятно, на людной дороге или улице не остановить, а тут лес, грязь, ночь надвигается.
Скрылся ЗИЛ за поворотом, и такая меня обида и злость взяла, что дыхание перехватило. «Эх, шофер, шофер, — думаю, — позоришь ты это гордое звание. Сволочь ты, а не шофер!» И еще разные нехорошие слова вслух произнес, да так громко, что невольно по сторонам оглянулся — не слышит ли кто.
Плетусь дальше. Спускаюсь в овраг и слышу: вновь тарахтит что-то сзади. Оглядываюсь — самосвал — газик. Не машина — развалюха с перекошенным железным кузовом, вся забрызгана грязью, только на ветровом стекле щетками две смотровые амбразуры размазаны. В двуместной кабине двое сидят. Я уже не «голосую», газику сейчас останавливаться нельзя, из последних своих лошадиных силенок ползет по колее, а впереди крутой подъем. Поравнялся самосвал со мной и вдруг остановился, фыркнул дымом. Из кабины шоферская голова в помятой кепчонке высунулась, и рука машет: залезай! Швырнул велосипед в кузов, в кабину втиснулся, и не верится, что все дорожные мытарства остались позади. Только я растолкался в кабине поудобнее, как пришлось вылезать. Подъем, как я и думал, без разгона взять не удалось, забуксовали. Вылезли все, и, как полагается в таких случаях, кто чем: шофер с лопатой под машину полез, мы со вторым попутчиком — парнишкой лет четырнадцати — хворост подтаскиваем и под колеса пихаем. Час провозились, вылезли, едем. Шофер, мрачноватый дядя с нездоровым, отечным лицом, заросшим седеющей щетиной, оказался не из разговорчивых. Всю дорогу молчал и только жадно-жадно, будто не мог надышаться дымом, затягивался сигаретой. Парнишка, по всей видимости сын шофера, тоже помалкивал. К городу подъезжаем, я в кармане рубль нащупываю. Протягиваю водителю.
— Не надо, — говорит шофер, просто так, устало: «Не надо». Дескать, спасибо, парень, в данный момент не нуждаюсь.
«Как бы мне тебя, товарищ, сфотографировать?» — думаю я, вылезая из кабины. Ведь если предложить — откажется. Это точно. У меня на таких людей глаз наметан.
Еще раньше заметил я на руке шофера четыре выколотые буквы: «Петя». Прощаюсь и словно бы невзначай спрашиваю:
— Эта машина откуда?
— Из передвижной мехколонны.
— А вас, случайно, не Петром звать?
— Петром… — Водитель высовывается из кабины.
— А фамилия? — Я выхватываю фотоаппарат.
— Фадеев…
И прежде чем изумленный шофер пришел в себя, я успеваю два раза щелкнуть затвором.
…Еще и еще вглядываюсь в неудавшийся фотоснимок. Глаза незнакомого человека совсем близко. Почему они так волнуют и беспокоят? Дался мне этот шофер! Подумаешь, подвез уставшего фотокорреспондента…
А тот, при галстуке, не подвез. Тому не нужно было лезть с лопатой под машину, нужно было только нажать педаль тормоза. Он не нажал.
Два человека, два поступка, на первый взгляд неприметные. Ну а если вглядеться в них попристальнее, если обобщить?
Вчера я звонил в передвижную механизированную колонну, справлялся о шофере Петре Фадееве.
— Что за человек? — переспросил начальник отдела кадров. — Да как вам сказать… Работает без замечаний, а так — невеселый человек.
Немногое мог сказать начальник отдела кадров про Петра Фадеева. «Невеселый человек…» Жизнь-то, она сложная штука. Не каждого весельем полнит. Иного так пошвыряет да пожует, что многое порастеряет человек. Видно, и Петра Фадеева не баловала она. Повытрясла из него и здоровье, и радость, но одного не сумела отобрать — человечности.
«ПАУТИНКИ» НА ДОРОГЕ
Выхватываю из ванночки с проявителем очередной отпечаток. Снимок удачный, фотографировал при хорошем освещении, с короткой выдержкой. Молодой рабочий в новенькой спецовке как будто сошел с плаката: белозубая улыбка во все лицо, веселый прищур глаз под крыльями черных бровей, крутые сильные плечи. Как «богато» будет выглядеть газета с такой вот фотографией на первой полосе! А я медлю бросить этот лист в закрепитель…
В завкоме абразивного завода мнение было почти единодушно: показать в газете комсомольца Ивана Малышева. Абразивный завод, который в недалеком прошлом назывался «Красный тигель», хоть и старейшее предприятие в нашем городе, но отнюдь не самое передовое, тем более не показательное. Производство здесь трудное — жаркое, пыльное, грязное. Молоко рабочим дают, и на пенсию многие люди отсюда уходят раньше обычного. Куда эффектнее было бы показать, к примеру, завод «Белкозин». Единственный на весь Союз завод по выпуску белковой колбасной оболочки, по последнему слову науки и техники построен. Автоматизация, механизация, чистота, блеск повсюду. Да чего там много говорить — о бассейне купальном заводском разговор ведется. Трудно даже сравнивать «Белкозин» с абразивным заводом. Зато на абразивном, где стерильный блеск отсутствует, копоти, пыли, гари и прочего подобного хватает, человека рассмотреть легче. Когда стоит абразивщик или тигельщик ночью возле ревущей обжигательной печи и кожа на его лице лопается от жара, его деловые (а порой и моральные) качества друзья-товарищи за одну смену распознать могут. Здесь даже директоров завода (много их сменилось за последние годы) в считанные дни распознают. Иной руководитель за все свое директорство ночью ни разу в цеху абразивном или тигельном не побывает. Один величиной себя мнит, которой не к лицу до ночной смены опускаться, а другой просто-напросто боится рабочих. Потому что ткнут его рабочие без всякой деликатности в неполадки, которые директорским равнодушием из мелочей до безобразия доведены. И требуется от тебя, директор, всего на первый раз: тележки грузовые отремонтировать, чтобы не таскали люди мешки с графитом на своем горбу; транспортер грузовой, простейший, установить; вентиляцию такой наладить, какой ей законом положено быть; щели в цементном полу заделать, чтобы не ломали в них люди ноги, а электрокары — колеса. Приди в ночную смену в цех раз, два (почему именно в ночную? Кто работал в ночную, тот знает почему), потолкуй с людьми, неполадки лично узнай, а потом и устрани, что можешь, — вот и проклюнется в рабочих к тебе уважение. Но я, кажется, сентенциями увлекся, директорам нравоучения читаю, а нить рассказа о комсомольце Иване Малышеве, незакрепленную фотографию которого в руках держу, потерял.
Так вот, порекомендовали мне в завкоме абразивного завода молодого рабочего Ивана Малышева сфотографировать. Малышев — ударник, активно участвует в общественной жизни цеха, лучший спортсмен города, учится заочно в техникуме. Начальник цеха против Малышева тоже не возражал: «Парень дисциплинированный, по полторы-две нормы дает. Отчего не сфотографировать?»
Прошелся я по цеху, со знакомыми ребятами встретился, с которыми еще в школе учился, курнули с ними наскоро, потом спрашиваю: так, мол, и так, мужики, хочу Малышева для газеты «щелкнуть». Ваше мнение?
Молчат рабочие. Не возражает никто, но и согласия нет. Такое в моей фоторепортерской практике редко встречается. Иной раз хоть так ответят: «Если хочется — „щелкай“». Или: «Порекомендовало тебе начальство его фотографировать — зачем нас спрашиваешь?» Подобные ответы, в которых обида какая-то затаенная проскальзывает, сразу настораживают. Значит, не очень-то расположены люди к рекомендованному мне «объекту». Значит, надо в этом деле еще разобраться и уточнить, чтобы обид потом не было, насмешек над газетой и надо мной тоже. А вот с Иваном Малышевым и этих нюансов даже нет, пустота какая-то.
Подошел я к знакомой пожилой формовщице (с пожилыми людьми всегда легче на эту тему разговаривать), спрашиваю:
— Тетя Маша, что-то я не пойму, в чем дело? Почему у ребят к Малышеву такое отношение? Вроде он им не по душе, а почему — они и сами объяснить не могут. Или ошибаюсь я?
— Да нет, не ошибаетесь, — тетя Маша отвечает. — И мне сразу сказать трудно… Вроде всем парень хорош, только… Знаете, как в лесу иногда бывает: идешь средь кустов, а на лицо тебе невидимая паутина садится, мешает, глаза слезит. Лес тихий, солнечный, а идешь с протянутой рукой — от паутины спасаешься. Вот и к Ивану Малышеву с протянутой рукой подходить надо…
— Что-то вы, тетя Маша, чересчур хитро, не пойму я.
— А вот посмотрите лучше за его работой повнимательнее, может, вам понятнее станет, о чем я говорю, — тетя Маша отвечает.
Стоим мы с формовщицей, наблюдаем за Малышевым. Иван на электрокаре работает, сырые абразивные круги, только что отформованные, к обжигательной печи подвозит. Лихо работает. Электрокар по цеху вертится, аж дух захватывает. Второй электрокарщик два рейса к печи сделает, а Малышев уже третий заканчивает.
— Ничего не замечаете? — тетя Маша спрашивает.
— Нет.
— А видите вон там в полу небольшую выбоину? Василий Васильевич, что на другом электрокаре работает, — смотрите, перед ней всегда притормозит, а Иван мчится не глядя. Круги сырые, после такой встряски в них трещинки невидимые могут появиться. Получат эти круги где-нибудь на заводе, заложат в станок, а они — вдребезги. И помянут нас люди недобрым словом. Вот в таких «паутинках» Иван Малышев весь.
— Тетя Маша, — говорю, — а может быть, легче заделать эту трещину в полу и не создавать Малышеву условий, при которых он тормозить должен?
Глянула мне в глаза старая формовщица (мудрые же бывают глаза у женщин) и говорит:
— Разве все рытвины да ухабы с пути человеческого уберешь? Ежели перед ухабами все мы притормаживать перестанем ради славы своей или рубля лишнего — что получится? Эдак весь шар земной, а не только абразивный круг, треснуть может…
Еще минуту раздумываю, держа пинцетом мокрую бумагу с лоснящимся фотогеничным лицом на ней, и не без сожаления бросаю ее в мусорное ведро.
ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
Время близится к девяти часам. Редакция оживает. Слышу, как спешат по коридору литсотрудники, корректоры, машинистки. Каждого узнаю по походке. Вот проскрипел пол под грузной фигурой сотрудника общественной приемной редакции Федора Федоровича. Значит, сегодня он дежурит. Федору Федоровичу восемьдесят лет, и это мой любимый общественник. Старик поразительно похож на Льва Толстого. У него такая же седая окладистая борода, такие же кустистые брови, из-под которых выглядывают мудрые и чуть усмешливые глаза. Это сходство невольно бросается в глаза еще потому, что над столом, где он сидит, висит портрет писателя. И если бы на Федоре Федоровиче не было неизменного его железнодорожного мундира (полвека водил поезда), сходство старика с Львом Николаевичем могло быть еще заметнее.
Покашливая, как и все заядлые курильщики, Федор Федорович усаживается за стол совсем рядом со мной, нас разделяет только тонкая фанерная переборка. Федор Федорович дышит тяжело, видно, второй этаж дался ему нелегко. Отдышавшись, старик чиркает спичкой. Непривычный ядовитый запах махорки ударяет в нос. Через минуту в дальнем конце коридора раздается встревоженный голос секретаря-машинистки Верочки:
— Девчонки, закупоривайся, Цирочкин дежурит!
— Хе, хе, хе, — посасывая трубку и покашливая, посмеивается старик.
В дверь общественной приемной раздается неуверенный стук, наверное, первый посетитель. Так и есть. Для меня слушать, как Федор Федорович ведет прием, одно удовольствие. Я иной раз из каморки своей лишний час не вылезаю, чтобы только Федора Федоровича послушать.
Посетитель — пенсионер. Жалуется на соседа. Тот взялся огородить его приусадебный участок забором за двадцать пять рублей. Огородил. А ему забор не очень понравился, и дал он соседу не двадцать пять рублей, а только двадцать. Сосед рассердился, деньги не взял, а забор разнес вдребезги топором, даже столбы выворотил. А кто ему-то, пенсионеру, теперь за сломанные доски заплатит?
Федор Федорович очень четко выносит определение: поскольку сам истец нарушил денежный договор, значит, сам и виноват. Жадничать не следует, с собой в могилу ничего не заберешь.
Пенсионер уходит ворча, Федором Федоровичем не вполне довольный. А на смену ему приходит новый посетитель — женщина. Перемежая свой рассказ сочными всхлипываниями, раскрывает она перед стариком перипетии семейной драмы.
Жила она с сыном Семеном, невесткой Галиной и внуком Ленькой. Жили хорошо. Семен — непьющий, работящий, партийный, на абразивном заводе мастером работает. Невестка и того лучше, в двух местах работает: бухгалтером в домоуправлении и по совместительству в бытпромкомбинате. Да еще дома шьет, да еще выучилась на машинистку — заказы берет печатать. Деньжонки стали скапливаться в доме. Деньжонки-то приберечь тоже нужно уметь. Иной сколько ни получает, а деньжонки текут, как вода сквозь пальцы. Невестка-то ее насчет деньжонок и бережливости — ну прямо талант. Бывало, пойдет в кино с Семеном. Другие-то на кино рубль ухлопают да в буфете еще рублишко оставят. А невестка-то билетики по двадцать копеек купит, да в буфете стаканчик лимонада за десять копеек разопьют. То же удовольствие, а обходится в полтинничек. А вот Семен ценить денежку не умел. С получки накупит книг рублей на десять да игрушку Леньке рубля за три, а то и пять. Это мыслимое ли дело: пятнадцать рублей как корове под хвост. А зачем ему книги покупать, когда, эвон, библиотеки повсюду наторканы, читай сколько хочешь? Невестка верно говорила: уж лучше бы выпил с получки. Взял бы бутылочку вина, распил дома с женой по-человечески, всяко не пятнадцать рублей обойдется, а четыре, от силы — пять.
Все же жили неплохо. Дом — полная чаша.
И вот, поди ты, стал Семен погуливать. Невестка-то вся в работе, за Семеном некогда смотреть. Вот и приходится матери за ним приглядывать, оберегать семью. А у нее глаз на это острый: бывало, муж-покойник этим делом баловался. Выследила она: ходит Семен к молодой стрелочнице на пост. Накрыла их вечерком и такой гром устроила, что поезд едва на другой путь не сошел.
Семена потом, как положено, и дома разобрали, и на работе. Дома простили, а на работе выговор по партийной линии дали.
— А дальше что? — интересуется Федор Федорович.
— А дальше, — посетительница заливается слезами, — ушел Семен к этой змее-стрелочнице. Дом бросил, хозяйство бросил и ушел, совсем ушел. На развод подал. Комнату они сейчас снимают, здесь неподалеку живут. Ленька-то, внучок, к ним повадился бегать. Отец его подарками разными приваживает, от живой матери к мачехе тянет.
— Мы-то чем вам можем помочь? — спрашивает Федор Федорович.
— Как чем! — Женщина мгновенно перестает плакать. — Приструнить надо Семена, наказать. Первое дело — из партии вон, не одумается — в тюрьму…
— В тюрьму?! — Даже невозмутимый старик поражен. — За что же в тюрьму?
— За двоеженство. Посадить его, кобеля, на полгодика, на годик, небось одумается тогда, вернется к семье.
Я отодвигаю занавеску, прикрывающую дверь фотолаборатории, выглядываю в щелку. Не часто приходится видеть мать, готовую посадить в тюрьму собственного сына.
— А может, у Семена со стрелочницей любовь? — высказывает предположение Федор Федорович.
Теперь поражена посетительница. Ее удивленный взгляд обегает комнату, как бы спрашивая: «Господи, куда это я попала?» Потом с недоброй укоризной останавливается на старике: дескать, про что ты говоришь, ведь борода седая!
Расстаются собеседники, недовольные друг другом.
— Разберитесь и помогите, — строго говорит женщина на прощание, — семья — дело не только личное, но и государственное.
— Разберемся, разберемся, — гудит старик, записывая адрес посетительницы в толстый журнал. — Сколько лет Семену-то?
— Тридцать два.
Федор Федорович отрывается от журнала, поднимает желтый, обкуренный палец к портрету Льва Толстого и говорит:
— А Лев Николаевич в восемьдесят два года из дома убежал. До сих пор не разобрались.
— Нашел с кого пример брать! — В сердцах хлопнув дверью, посетительница уходит.
Федор Федорович непрерывно дымит трубкой. Старику нелегко. Посетители приходят разные, есть и капризные. Сейчас вот голосистый мужчина полчаса задает один и тот же вопрос: «Кто зароет собаку?» Собаку эту раздавила возле его дома неизвестная машина, и она лежит перед его окном. Федор Федорович склоняется к тому, что собаку надо бы зарыть самому гражданину, на что последний упрямо возражает: собака не его, давил не он, и на что тогда городские власти?
Следующий посетитель склонен к обобщениям. Он спрашивает ни много ни мало: «Есть ли у нас Советская власть?» Если есть, то почему ему не обменивают кальсоны, которые он купил вчера в городском универмаге, почему ему грубят продавцы?
Поток посетителей растет. Федор Федорович, отдуваясь, расстегивает воротничок кителя…
В свободные же минуты, когда в общественной приемной нет посетителей, я люблю с Федором Федоровичем поговорить. Старик он любознательный — и слушает, и рассказывает обо всем охотно. Ежегодно положен Федору Федоровичу, как заслуженному железнодорожнику, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в любой конец страны туда и обратно. Нынче старик собирается съездить недалеко — в Москву, посмотреть панораму Бородинского сражения. Почему именно панораму эту, не знаю, только Федора Федоровича она интересует очень. О «Бородинской панораме» он говорит всегда с таким неподдельным интересом, что я невольно думаю: вот бы мне в восемьдесят лет сохранить такой интерес к жизни. А то сколько раз я мимо этой панорамы проезжал, и даже мысль не мелькнула, чтобы зайти, посмотреть, поудивляться. Что же с моей любознательностью станет через полвека, если возраста Федора Федоровича достигну? Сейчас нам с Федором Федоровичем словом перекинуться некогда, идут и идут люди в приемную. Самые «легкие» для старика те, которые с экономическими выкладками приходят, с расчетами, со схемами, изобретениями, рацпредложениями. Таких посетителей старик просто-напросто перепроваживает к штатным сотрудникам редакции. Остальных выслушивает сам. Наиболее «трудные» — по жилищному вопросу.
Федор Федорович усиленно зачмокал трубкой. В голосе очередной его собеседницы слышится надрыв. Вот-вот сорвется на крик от обиды, от боли.
— Объясните мне, старый человек, что это на свете белом происходит. Есть правда, или о ней только в газетах пишут? Я к вам в редакцию случайно зашла. Иду мимо, вижу — «редакция», вот и зашла. О помощи уже не прошу, объясните хотя бы. Я на комбинате двадцать два года без единого замечания работаю. Семья — четыре человека, в одной комнатушке живем. А председатель месткома нашего дом свой в позапрошлом году продал, квартиру новую получил. Сейчас вторую получить хочет — для сына. Я его встретила, говорю: «Олег Михайлович, поимейте совесть. Ведь я на очереди за квартирой десять лет стою. У меня Борис жениться надумал и Анюта на выданье. Как мы в одной квартире жить-то будем? Ведь очередь-то на квартиру моя, а у вас трехкомнатная есть, для сына и разменять можно». А он мне знаете что: дулю под нос. «Вот, — говорит, — тебе, а не квартира. Ты на меня жаловалась? Жаловалась. Будешь знать, как против ветра плеваться. Жалуйся, Разговора нашего никто не слышал, докажи».
Что же это такое, товарищи дорогие? Как так жить-то можно? Ведь партийный он, коммунист! Объясните вы мне, если можете…
Слышу, у Федора Федоровича трубка затрещала, словно в костер сухих сучьев подбросили.
— Можем, — говорит старик, — объяснить. Объясним. Вот ты, дочка, сказала, что коммунист он. Неправда. Что билет партийный имеет — верно, что коммунист — неправда. Коммуниста ведь не только по партийному билету определяют. Вокруг партии человечки гадкие всегда вьются, принюхиваются: где что урвать можно. Иные и партийный билет добудут, коммунистами, а то и партией себя возомнят. Прикроются билетом и живут, в кулак хихикают. А того не понимают, что не дано им природой коммунистами стать, людьми с большой буквы. Вот и он, дочка, таким человечком оказался. Ты от людей-то не таись, расскажи им все. На собрании встань и скажи: так, мол, и так, люди добрые. Знаете меня? Обидела я кого или обманула за двадцать два года, напраслину когда возвела? И все народу изложи, что сейчас здесь говорила. Народ разберется. Делец этот ваш месткомовский вмиг на корню увянет…
ПРИЕМ ВЕДЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ
Доводилось ли вам встречать человека, который «за спасибо» работает? За самое настоящее русское «спасибо». Мне за свою жизнь только одного такого встретить пришлось: Виктор Ефимович Невский, заведующий нашей общественной редакционной приемной. Сейчас нашу газету даже трудно себе представить без общественной приемной. Еще труднее себе представить общественную приемную без Виктора Ефимовича. Когда увидел я впервые этого человека, то, говоря откровенно, отнесся к нему даже с некоторым недоверием. Представьте себе: сидит за столом человек — седой, в очках, с безбровым рябым лицом, про которое говорят «на нем черт горох молотил». В одной руке седого человека авторучка, в другой — громадная лупа, какой пользуются в комедийных фильмах детективы или натуралисты. Сидит он, словно первоклассник, навалившись грудью на стол, и водит бугристым носом, ручкой и лупой по листу бумаги. Входит посетитель. Виктор Ефимович вскакивает, усаживает вошедшего в кресло. Сам садится напротив и, завалив голову назад, из-под очков смотрит на посетителя и слушает. Слушает, не перебивая, столько, сколько человек говорить будет. И не проста слушает, а впитывает в себя каждое слово и неотрывно в глаза посетителя смотрит. Потом расспрашивать его обо всем начинает, вопросы самые разные задавать, бумаги-документы рассматривать.
Выспросив все, что нужно, и зарегистрировав поступившую просьбу или жалобу в журнале общественной приемной, Виктор Ефимович развивает такую бурную деятельность, которая показалась мне поначалу неестественной. Первым делом спешит он к юристу посоветоваться по данному делу, затем бежит в партийную или профсоюзную организацию, где работает этот человек, затем в домоуправление, к соседям жалобщика. Беседует с десятками людей, выясняет, уточняет, сопоставляет. Подключает к этому делу других сотрудников общественной приемной. А дел-то разных — десятки. И бегает Виктор Ефимович, и крутится, и вертится с утра до поздней ночи. Обедать частенько забывает, а здоровьица у людей, войну перенесших, идеального не бывает. И стоит напомнить, что за работу свою он ни копейки не получает — общественник. «Ну, — думаю, — такого запала заведующему общественной приемной хватит ненадолго, через недельку поостынет. Прямо-таки идеал общественника собой воплощает, какая-то даже неправдоподобность в этом есть». Проходит неделя, проходит месяц, год, другой, третий — Виктор Ефимович все так же хлопочет по чужим делам с утра до вечера.
Недавно встретил в поезде знакомого. Разговорились. Зашла речь о Невском. «Ба, — вскричал знакомый, — да я Виктора Ефимовича с юных лет знаю; потом, после войны уже, в армии вместе служили. Он всегда таким чудаком был…»
И еще узнал от знакомого: обидели Виктора Ефимовича в прошлом здорово. Как обидели и за что — не столь уж и важно. Обидеть человека легче, чем губу переплюнуть. Может быть, от обиды той и появился у Виктора Ефимовича особый дар людей распознавать. В редакцию идут не только честные, обиженные кем-то или чем-то люди. Иной раз заплывают такие экземпляры, что только диву даешься. Если Федор Федорович даже на эти экземпляры человеческого рода с высоты своих восьмидесяти лет взирает с мягким грустновато-философским юмором, то Виктор Ефимович относится к ним и разговаривает с ними по-иному…
Федор Федорович отправился перекусить и малость размяться, а его место за столом занял заведующий приемной. Дверь моей фотокаморки открыта — глянцую отпечатки, и теперь мне не только слышно, но и видно все, что происходит в общественной приемной.
Вот в дверь робко протискивается пожилая женщина с заплаканным лицом, одной рукой она держится за грудь, другой судорожно хватает стену — вот-вот упадет, обессиленная. Виктор Ефимович вскакивает из-за стола, подхватывает посетительницу, усаживает ее в кресло. Торопливо наливает в стакан воды, протягивает его женщине. Выпив, женщина слегка успокаивается, но все еще держится рукой за сердце. Наконец произносит тихо, почти шепотом:
— Товарищи, дорогие, помогите! Редакция — последняя моя надежда. Если и вы не поможете, тогда хоть в прорубь головой…
Рассказ женщины будоражит всю редакцию. Здесь, в нашем городе, живет ее престарелая мать. Живет одна, больная, беспомощная, полуслепая. Живет в старом, полуразвалившемся домишке. Мать замерзает, некому истопить печь, некому принести воды. И вот она, дочь, приехала, чтобы ухаживать за матерью, а ее не прописывают. Слыханное ли дело: не прописывают родную дочь у больной матери!
В приемную набилось полным-полно: общественники, штатные сотрудники. Все говорят, спорят, возмущаются. Действительно, как много еще в нашей жизни равнодушия к чужому горю, чужой беде! Проходим мы иной раз мимо человека, в нашей помощи нуждающегося, и не глядим на него. А у человека этого, может быть, уже и сил нет нашей помощи попросить. Или не смеет он, немощный, оторвать наше внимание от больших и важных дел, на себя обратить.
Гудит приемная от негодования, и только Виктор Ефимович молча, испытующе смотрит на рассказчицу. Затем спрашивает:
— Вы откуда приехали?
— Из Эстонии я. Дом бросила, хозяйство бросила, приехала — и вот…
— То есть как — бросили? — уточняет заведующий приемной. — Продали, что ли, дом?
— Продала. Пришлось продать, за бесценок отдала, только бы с матерью быть. Ее-то, старую, уже с места не сдвинешь.
— Как фамилия вашей матери?
— Истомина. Наталья Никитична Истомина.
Виктор Ефимович несколько секунд из-под очков смотрит на женщину, затем берет телефонную трубку и, набрав номер, с кем-то тихо беседует. Затем вновь поворачивается к посетительнице:
— Когда последний раз вы навещали свою мать?
— Не помню…
— За вашей матерью второй год ухаживают соседи и пионеры-тимуровцы. — В голосе Виктора Ефимовича я улавливаю жесткие нотки. — Мы пытались определить ее в дом престарелых, но этого сделать не удалось, так как у старушки есть дочь. Мы писали вам об этом, просили помочь матери, но ответа не получили.
Виктор Ефимович роется в журнале.
— Вот… Письмо от пятого мая и письмо от первого сентября прошлого года. Вы получили их?
Посетительница поправляет на голове платок, выпрямляется, меняется на глазах. Перед нами уже не убитая горем немощная женщина, а статная злая молодка. Без тени смущения она оглядывает собравшихся, произносит твердо:
— Мне нужны не письма, а прописка. Я имею на это право.
— Дом, где живет ваша мать, идет на снос, — продолжает Виктор Ефимович. — Согласно закону она получит благоустроенную квартиру в новом доме. Вы узнали об этом и приехали. Вы не вспоминали больную мать многие годы, а сейчас, продав дом, приехали, чтобы ограбить ее. Ведь это кощунство. Как вам не стыдно!
Но посетительнице не стыдно. Совсем не стыдно. Она легко смотрит говорящему в лицо и слушает его даже с некоторым интересом.
— Вашу мать мы не оставим, государство ее не оставит, — продолжает Виктор Ефимович. — Она будет жить в доме престарелых. Теперь нам ясно, что дочери у нее нет. А вы… вы уходите, немедленно уходите!
Заканчивая короткий рассказ о заведующем нашей общественной редакционной приемной, едва не забыл о том, с чего начал, — о «спасибо». Лично для меня всякое «спасибо» чисто символическое значение имеет. И для Федора Федоровича «спасибо» не ахти какое вознаграждение, вполне обходится старик и без него. А для Виктора Ефимовича «спасибо» за свой общественный труд получить — прямо-таки физическая необходимость, как для нас, к примеру, зарплата. Если уходит от него человек, по делам которого Виктор Ефимович несколько дней в поте лица мотался, и спасибо не скажет (и таких немало), заведующий общественной приемной не в обиде даже остается, а в какой-то растерянности. Сидит, пригорюнившись, где-нибудь в редакционном уголке, потом устало и вяло домой поплетется. Ну а если посетитель общественной приемной спасибо ему скажет да еще руку с чувством потрясет на прощание, Виктор Ефимович на глазах преображается, молодеет.
НЕФОТОГЕНИЧНЫЕ ЛИЦА
В фотоделе есть выражение: фотогеничное лицо, нефотогеничное лицо. Фотогеничность определить не просто, для этого немалая практика нужна. Иной раз сфотографируешь человека, проявишь пленку, отпечатаешь снимок и… не получился! Нефотогеничность лица подвела. Плоское лицо на снимке, невыразительное, скучное. А человека, может быть, за вей жизнь впервые для газеты фотографировали. И дома он про это рассказал, и соседи уже знают, и приятели в курсе. Каждый день человек газету с особым вниманием просматривает, свою фотографию ждет. И не столько сам ждет, сколько дети его, ребятня. Им особенно интересно отца в газете увидеть. А снимка все нет и нет. Соседи и приятели над человеком подшучивать начинают. Дескать, загнул ты насчет газеты, а может, редакция грешки твои какие узнала. Встретишься со своим «объектом» на улице, о «здравствуйте» между нами уже и не говорю. Иной на другую сторону улицы перейдет, когда меня приметит, лишь бы не встречаться.
Позднее, когда пообкатала меня газетная работа, приспособился я к нефотогеничным лицам таким образом: фотографирую человека, а для страховки материал о нем беру строк на сто. Не получится снимок, даю в газете заметку или зарисовку. Много, конечно, в сотне строк о человеке не расскажешь. Основные, как говорится, вехи биографии только-только расставишь. Главный упор идет, по обыкновению, на трудовую деятельность: где работает, как работает, давно ли работает. Материалы эти мои газетные, прямо скажем, не шедевры. Иной раз сам удивляешься: неужели земляки читают их? Читают после Толстого, Достоевского, Шекспира, после Чехова, Гоголя (да зачем перечислять); читают, наконец, после центральных газет? Да, читают. Подписка на «районку» нашу растет из года в год. И это несмотря на то, что образовательный ценз моих земляков повышается, что теперь они на читательских конференциях и по произведениям классиков делают замечания. Понятно, что повышение читательской культуры и меня ко многому обязывает. Если раньше тратил я на расширенную подпись под снимком или зарисовку несколько минут, то теперь корплю над ними часами. Порой кажется, что классики с настенных портретов подмигивают мне насмешливо. Дескать, давай, парень, не посрами пишущих перед современными читателями. Будет вам, многоуважаемые коллеги, насмехаться, отвечаю мысленно. Попробовали вот вы бы, дорогой Лев Николаевич, утрамбовать свою «Анну Каренину» в двести строк. Очень любопытно было бы на это ваше творение посмотреть, адаптированное для нашей газеты. Мне же на Анну (Максимовну) Каренину — сельского врача-педиатра, которую в субботу на пенсию провожают, — ровно двести строк секретарем отпущено. А биография у моей Анны Карениной, между прочим, побогаче, чем у вашей, Лев Николаевич. Одна веха в жизни — война Отечественная — чего стоит! На войне той Анна Максимовна целых полтора года в полевом медсанбате служила, а затем до конца войны в госпитале медсестрой. Двенадцать человек лично из боя вынесла. Это не считая тех раненых, которых по разным причинам вынести не могла, но которым первую медицинскую помощь оказывала, а потом за подмогой ползла. И любовь у Анны Максимовны была, но отобрала ее война, и ребенок был…
О многом рассказала мне врач-педиатр Анна Каренина в тот предпенсионный свой вечер, который провел я у нее дома за чаем. Взгрустнула Анна Максимовна, расчувствовалась, не успевал рассказы ее записывать. О фронтовых эпизодах сухо рассказывала, и каждый из них документально подтверждала — орденом, медалью, письменной благодарностью командования, справкой о ранении. Меня, как человека сравнительно еще молодого и к повседневным, будничным делам несколько равнодушного, конечно же, в биографии Анны Максимовны интересовало прежде всего героическое начало. Детали фронтовых дел особенно интересовали: откуда выносила раненых, куда выносила, как выносила, были немцы поблизости в это время, что испытывала в те минуты? И еще: кто из раненых запомнился более всего?
На последний вопрос ответ был неожиданный: самый памятный для нее раненый живет в нашем городе — Гринев Иван Дмитриевич, председатель Лужского городского народного суда. Поначалу обрадовался такому совпадению. Вот, думаю, хорошо, сфотографирую я вас, Анна Максимовна, с Иваном Дмитриевичем, редкостный кадр получится. Но потом про нефотогеничность лица обоих вспомнил. У Анны Максимовны лицо война испортила, оставила на нем заметный след — шрам, а у судьи нашего городского лицо природой создано не для объектива. За лицо его имел я неоднократно от ответственного секретаря Ивана Осиповича устные замечания. Накануне выборов в народные суды даем мы обычно биографии всех городских судей и фотографии их. Все судьи получаются у меня хорошо, кроме Ивана Дмитриевича. Более неудачного для моего фотоаппарата лица встречать мне не доводилось. Не лицо на снимке получается — пародия на судью. Какой-то широкий комковатый блин, прикрытый наполовину выпуклыми безглазыми очками, с редкой растительностью наверху и тонкой ниточкой губ внизу. А ведь в миру, как говорится, лицо Ивана Дмитриевича ничем особым от остальных лиц его возраста и не отличается, разве что громадными очками с выпуклыми линзами. Ответственный секретарь на мой снимок судьи Гринева взглянет и аж вздрогнет. «Понимаешь, — говорит, — на чью мельницу ты политическую воду льешь?»
Сколько ни пытался я Ивана Дмитриевича перефотографировать, ничего лучшего не получилось, а ведь у судьи тоже нервы имеются. Чтобы отвязаться от меня, дал мне Иван Дмитриевич для предвыборных кампаний свою фотографию, сделанную фотомастером, глядя на которую испытываю я укоры совести за профессиональную свою немощность. Когда встречаемся с судьей на улице (Иван Дмитриевич каждый день на работу и с работы мимо моего дома идет, прихрамывая), чувствую себя неловко. Поздороваемся, глянет он на меня пронзительным очкастым взглядом, и почему-то на ум всегда вот это народное изречение приходит: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся».
Долго мне Анна Максимовна Каренина о самом памятном своем рассказывала. Нашла она его в сорок втором году под Рамушевом, что недалеко от Старой Руссы. На поле боя лежал среди мертвых с осколочным ранением в плечо и в голову.
— Хотела я его на спину перевернуть, — говорила Анна Максимовна, разливая чай, — а он шепчет: «Не тронь, нельзя». У него, оказывается, под животом граната зажата с выдернутой чекой, а отбросить ее у него сил нет. Пришлось помучиться с ним, пока вытащила. Я его на полевой сумке волокла. Зажал он под здоровое плечо сумку, а я тащу. Не знаю, откуда сила у меня тогда бралась. Потом оборвался ремень…
От Анны Максимовны и в тот же вечер (задание секретаря было — к утру материал сдать) позвонил я судье Гриневу, попросил о встрече.
— Давай заходи, — Иван Дмитриевич отвечает.
У Ивана Дмитриевича просидел я часа полтора. Скромно живет судья, без излишеств. Недаром люди говорят о нем как о великом скромняге. А люди в нашем городке все друг о друге знают, особенно о тех, кто на виду. И о супруге судьи Раисе Степановне, рабочей обувной фабрики, никогда я дурного слова не слышал. Как судья Иван Дмитриевич слывет человеком жестким, сухим, которого эмоциями разными — слезами, жалобами и прочим подобным — не проймешь. Мелкие жулики, воришки особенно не любят к нему попадать. Знают: от Гринева поблажки не будет ни малейшей. Но у кого серьезное дело, требующее принципиального, непредвзятого взгляда и холодной судейской головы, те наоборот — к судье Гриневу попасть стараются.
Пришел я к Ивану Дмитриевичу домой, он в комнатушке удочку для рыбалки настраивает. Сразу предупредил Ивана Дмитриевича, что фотографировать его намерений не имею, и попросил рассказать об Анне Максимовне Карениной и о своем фронтовом периоде жизни.
Из рассказа Ивана Дмитриевича ничего нового для себя об Анне Максимовне почти не узнал. Разве то, что встретились они потом еще раз, но уже в госпитале, где валялся он после второго ранения (разрывная пуля в позвоночник попала) одиннадцать месяцев. Из госпитального их периода знакомства Ивану Дмитриевичу особенно запомнилась одна неприглядная история, которая в дальнейшем, возможно, повлияла как-то на его выбор профессии. Медсестру Каренину обворовали.
— Очень задела меня та история, — неторопливо рассказывал Иван Дмитриевич, — все вещички девчонки подчистую загребли, в одном платье осталась да белый халат еще. Кроме наших, думаю, некому. В лепешку разобьюсь, а найду подлеца. Передвигался я тогда только на костылях, да и то с трудом, но следствие повел энергично, Узнал, с кем она была в тот вечер, кто знал из госпитальных, что вечером ее не будет дома (она рядом с госпиталем жила), прикинул так и эдак, присмотрелся к тем, у кого деньги вдруг появились, и нашел вора. Им оказался ходячий из соседней палаты. Когда я его фактами прижал, он и отпираться не стал. Все вернул из вещей, кроме юбки, которую пропить успел.
Потом у нас в госпитале еще один случай воровства произошел, продовольственный склад обворовали. Меня уже как «специалиста» пригласили это дело обмозговать. Посмотрел, что к чему, прикинул, поразмышлял над фактами и говорю: кроме заведующего складом некому. И точно. Сам заведующий и оказался вором.
Те два следственные дела, видать, и пробудили во мне настрой на юридическую науку. После снятия блокады с Ленинграда вернулся я домой, в Ораниенбаум, инвалидом второй группы. До войны на заводе слесарем работал, а после ранения никакой физической работы нельзя до сих пор. Кусок разрывной и сейчас в хребте сидит. Вот удочку шевелю — и то спина мокрая. Поначалу пристроили меня на комсомольскую работу, потом юридическую школу закончил, потом заочно университет. С пятьдесят второго года в Луге работаю. Прокурором города был, потом судьей…
Слушаю я Ивана Дмитриевича, записываю его рассказ в блокнот, но не то мне хочется услышать. Не сухомятину эту — где учился, кем работал, а поострее что-нибудь, поувлекательнее. Попросил рассказать про самые памятные боевые эпизоды.
— Про боевые так про боевые, — Иван Дмитриевич соглашается. — Только лично я рассказы подобные слушать и читать не люблю. Особенно сейчас, когда о подвигах своих распространяются спустя столько лет после войны.
— Вы расскажите не о подвигах, а о ранениях и как ту или другую награду получили, — подсказываю я. — Только обязательно с подробностями, детально.
Достал Иван Дмитриевич, точь-в-точь как Анна Максимовна, из стола коробочку красную, бумаги на столе разложил и говорит:
— Вот тут все. И наград-то у меня фронтовых две: медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Остальные не в счет. Медаль я после первого ранения получил, орден — после второго.
— Что за граната у вас была под животом с выдернутой чекой, про которую Анна Максимовна упоминала?
— Не было у меня гранаты с выдернутой чекой, — Иван Дмитриевич усмехнулся, — запамятовала Анна. Была граната РГД, в ней чеки нет. Я тогда старшим сержантом был, командиром взвода. Наша рота отход прикрывала. Немцы из орудий прямой наводкой бьют, потери несем большие, стали отходить. Командира роты на высотке убило, а мне необходимо у него документы забрать, сумку с картой и пистолет — так полагалось. До высотки втроем добрались, два солдата еще со мной. Забрал я у мертвого командира все, что положено, назад побежали. Ремни у нас поначалу белые были, брезентовые, черт бы их брал! Эти ремни нас тогда больше всего злили. Бежишь, а ремень словно подсказывает немцу: целься под ремень.
— Вот, вот, Иван Дмитриевич, — обрадовался я, — очень хорошая деталь. Еще подробнее, пожалуйста.
— Куда подробнее. Тех двоих, что со мной были, сразу положили, а я петлял. Бегу, лицо и голову лопаткой саперной прикрываю, а вокруг словно крупный град сыплет. Потом взрыв. Очнулся, поднял голову — никого. Только слышу в леске голоса чужие. А у нас приказ был: в плен не сдаваться. Да и не станут немцы возиться с раненым. Прошьют очередью, и все дела. Вот тогда я РГД под живот и приспособил, а немцы меня стороной обошли. Да, вот вам деталь: стали мой вещмешок разбирать, а он весь, как сито, пулями изрешечен. Клубок парашютных ниток у меня в мешке был — измочален, как вата. Ложе у винтовки вдрызг разбито, в каске дырка, в котелке и кружке — дырки, а сам жив.
Подлечили меня, медаль «За отвагу» дали, младшего лейтенанта присвоили и вновь командиром пехотного взвода на Ленинградский фронт. Там-то мне и не повезло… Бросили мой взвод, усиленный пэтээрами (противотанковые ружья), в разведку боем. Представляете, что это такое?
Честно говоря, разведку боем я представлял смутно, в чем и признался Ивану Дмитриевичу.
— Есть такая жестокая арифметика на войне, — продолжал Иван Дмитриевич, — несколько десятков положить, чтобы там сотни и тысячи не легли. Короче: весь огонь на себя, чтобы наши огневые точки противника выявить и засечь могли. Вот мне со взводом и выпала эта судьба. Помню, мимо дотов ползли, на минное поле противопехотное нарвались. Из дотов пулеметы бьют, а вокруг нас мины натяжного действия. Чуть шевельнулся, проволоку в траве задел — взрыв. Кто-то корягу выворотил из земли, веревку к ней привязали. Бросим вперед как «кошку», подтянем, мины рвутся. Кто живой, в проход ползет, вновь «кошку» бросаем… До сих пор не знаю, остался ли кто из моих пятидесяти человек в живых. Минное поле проползли, поднялся я — разрывная в спину. Вынес меня на себе — фамилию его хорошо запомнил — пэтээровец Кулагин. Еще с одним раненым на опушке нас положил, а сам — вперед, задачу надо выполнять. Остальное смутно помню. Потом выяснилось, что мы не разведку боем вели, а бросили нас для отвлечения главного удара. Когда наши подошли и меня уже в «лодке» тащили, запомнился мне наш горящий танк «КВ». Танкисту ноги заклинило, и он выбраться не мог. Кричал, а чем поможешь…
На том для меня война закончилась. Одиннадцать месяцев по госпиталям валялся, вот эту Красную Звезду на память получил… Об остальном вроде рассказывал…
Из дома Ивана Дмитриевича Гринева вышел я уже поздно. Материала я собрал немало, но произведение мое не должно было превышать двести строк.
Находясь под свежим впечатлением от встреч с Анной Максимовной и Иваном Дмитриевичем, создал я «Анну Каренину» (так и назвал зарисовку) за одну ночь. В нормативные двести строк уложиться не удалось, получилось триста шестьдесят. Что-либо сокращать в этом материале было, на мой взгляд, просто уже немыслимо. Выверено было каждое слово, каждая запятая, и убери их — терялся смысл всего повествования, исчезали характеры, живые люди. Втайне я надеялся, что ответственный секретарь оценит по достоинству мое произведение и даст ему в газете «зеленую улицу» без сокращений. Получилось, однако, иначе. Полистал секретарь мою «Анну Каренину», говорит:
— Прекрасно, старик, прекрасно сделано! А какие детали! Подобного я и у Симонова не встречал; таких деталей военного быта ни у Василя Быкова не нахожу, ни у Бондарева. Но, понимаешь, из сельхозуправлепия сводку по сенажу принесли, надо давать. Так что и двухсот строк тебе выделить не могу, не то что триста шестьдесят. Наполовину сокращай.
Здесь надо обязательно несколько слов о нашем ответственном секретаре сказать, об Иване Осиповиче. Он не только моим непосредственным начальником является, но и, если можно так выразиться, журналистским наставником. Лицо у него нефотогеничное, рост маленький, по натуре он неуживчивый, ершистый, любит коллегам шпильки, подначки отпускать, и потому многие его у нас недолюбливают. Особенно тем от Ивана Осиповича достается, кто, выражаясь военной терминологией, в журналистике о маршальском жезле не мечтает, для кого газетная работа — обычное повседневное дело, кого больше интересует гонорар, нежели творческое начало. С Иваном Осиповичем я не всегда бываю согласен, особенно с категоричностью его, максимализмом, но чем-то он мне нравится. Прежде всего тем, наверное, что познания в своем деле имеет большие, что читать любит и все деньги, какие имеет, на книги тратит. Дома у него все книгами забито, в основном по искусству (Иван Осипович диссертацию о творчестве одного забытого художника написал, но пока защитить ее не может), из мебели — один обшарпанный диван. Жена ему с каждой получки скандал закатывает (ее и понять можно — семью кормить надо), а Иван Осипович, бывает, всю получку на какой-нибудь старый журнал ухлопает. Зато в одежде, еде и прочем житейско-бытовом Иван Осипович человек неприхотливый. Черный костюм и штиблеты (ботинки свои он штиблетами зовет) ответственный секретарь носит столько лет, сколько с ним работаем. В стоптанных штиблетах его разноцветные шнурки от газетных подшивок. Не знаю, кто ему дома шнурки из штиблет вытаскивает, может быть, дочка или щенок, только частенько потрошит он старые газетные подшивки, а шнурки, которыми они скреплены, в свои штиблеты вдевает. Когда же тетя Оля, уборщица, ему замечание за разноцветные шнурки делает, Иван Осипович отвечает, что это те мелочи жизни, на которые не следует обращать внимания.
Как журналистский наставник Иван Осипович меня вполне устраивает, хотя работает он с учениками по методу того тренера-боксера, который новичкам физиономию бьет, а потом смотрит: не исчезла ли у новичка тяга к этому виду спорта? Вот и тогда Иван Осипович переспросил меня:
— Значит, говоришь, твой материал нельзя сокращать?
— Нельзя, — подтверждаю.
— А вот смотри как это можно сделать, — говорит.
Взял ответственный секретарь рукопись моей «Анны Карениной» за уголок, потряс листками перед моим носом. Несколько листков из рукописи выпорхнуло и на пол упало. Поднял их Иван Осипович бережно и, не глядя, разорвал. По оставшимся пробежался пером, две-три строчки вычеркнул, остальное чертой соединил и протянул мне со словами:
— Готово. Неси на машинку.
И, что самое удивительное, «Анна Каренина» моя от подобной секретарской правки не особенно пострадала. А кое в чем даже и выиграла. Короче стала, лаконичнее, строже. Правда, о самом памятном раненом Анны Максимовны мало осталось. Одно только упоминание о судье Гриневе и что в мирное время к его боевым наградам орден Трудового Красного Знамени добавился.
Иван Осипович за этот материал о людях с нефотогеничными лицами даже похвалил меня.
— Вот за что я тебе симпатизирую, — говорит, — так за то, что никогда из-за своих шедевров не возникаешь. А те военные детали, о которых тебе врач с судьей рассказали, прибереги для серьезной и неспешной работы. Скоро о таких вещах мы из первых рук узнавать уже не сможем.
ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА
Не знаю, где и как я эту привычку подцепил. И до чего злая, до чего въедливая, никак от нее не избавиться. Придешь, к примеру, на завод, люди говорят: «Неполадки у нас, редакция. Разберитесь, пропечатайте в газете, помогите». — «Разберемся, — отвечаю, — поможем». Ушел — и забыл про сказанное. И до чего я насобачился давать людям любые обещания, уму непостижимо. И сам-то чувствую: губит меня привычка эта, а бросить ее не могу. Самые близкие люди начинают на меня косо посматривать, в глазах редактора грустинку осуждающую улавливаю.
Избавиться от дурной привычки этой случай помог. Ничем не примечательный на первый взгляд случай, но толчок соответствующий именно он дал.
Приехал я как-то на ферму в совхоз имени Володарского. Ферма добротная, капитальная. Окружили меня доярки, жалуются на непорядки. Женщины все крепкие, розовощекие, голосистые. Говорят разом. Одна кричит: «Скамейками обеспечить не могут! Думают: раз электродойка, так и на карачках посидят. А у меня половину коров вручную поддаивать надо. Я на чурках всяких сижу. Директору звонила — никакого толку. Ему что? Он ведь не на чурбаке сидит…»
Ей вторит другая: «Людей, говорят, для фермы не хватает. А посмотрите, чем занимаются те двое мужиков. Целыми днями навоз от ворот коровника к дороге, куда трактор подходит, отбрасывают. А ведь если удлинить «подвеску» еще метров на десять, то навоз сразу у дороги сваливать можно. Сделать это мужикам — день работы. Вот и высвободились бы для фермы две пары рук. Так нет! Перекидывают навоз с места на место, а удлинить «подвеску», говорят, нет команды».
Выслушал я доярок, пообещал помочь, сфотографировал. По пути домой заехал на центральную усадьбу. Зашел к директору. Директор, Иван Петрович, человек заслуженный, неторопливый, малоразговорчивый. Совхоз его передовой в районе, каждый год то знамя переходящее, то премию завоевывает. Иван Петрович к наградам и похвалам привычный. Народ своего директора уважает за рассудительность, за хозяйскую твердую руку. Но газета иногда «пощипывает» Ивана Петровича и его хозяйство. Директор критику воспринимает вроде бы положительно, но на нас, газетчиков, смотрит, как на надоедливых мух, разве что не морщится при встрече.
Сижу я перед директором, рассказываю о жалобах доярок, о неполадках на ферме. Иван Петрович слушает вежливо, даже записывает что-то иногда. Но на лице его можно прочитать: «Вижу, вижу, какой ты умный. На часик заскочил в совхоз и все нелады наши заметил, все уловил. А мы-то, дураки, здесь годами сидим и ничего но замечаем».
— До свидания, — говорю, — Иван Петрович. Очень прошу вас от имени редакции удовлетворить законные просьбы и требования доярок.
— До свидания, до свидания, — говорит директор. Дескать, катись ты, парень, побыстрее, работать надо.
Прошло некоторое время, Новый год близится, заканчивается подписная газетно-журнальная кампания. Надо прямо сказать, для газетчиков подписная кампания, что для хлеборобов посевная. Тираж газеты — основной показатель популярности ее среди населения. Растет тираж — значит, читают газету люди, интересует она их. Падает тираж — худо. Для нас, газетчиков, в первую очередь худо. Работаем, выходит, плохо, не можем заинтересовать читателя своими материалами. А если в высокие материи не вдаваться, проще можно сказать: газета наша на хозрасчете, и потому от тиража ее зарплата наша во многом зависит. Все мы, сотрудники, к тиражному показателю своей газеты ревниво относимся, но особенно раним в этом вопросе редактор наш Лев Юльевич. Чуть где уменьшилась подписка, редактор тотчас на газик — и к бывшим подписчикам для беседы. Все расспросит: почему отказались от подписки, чем им газета стала не по душе, какой они хотели бы видеть свою «районку». Суммирует все претензии, обобщит их, выводы сделает. А на очередной «летучке» нам свои соображения по этому вопросу выскажет.
В тот день, помнится, редактор меня к себе утром вызвал. Захожу в редакторский кабинет, присаживаюсь. Лев Юльевич говорит:
— В совхозе имени Володарского сократилась подписка на нашу газету.
— Нехорошо, — высказываю свое мнение.
— Особенно упала она в деревне Конезерье, — продолжает редактор. — Восемь подписчиков как корова языком слизнула.
— Худо, — соглашаюсь я.
— Я побывал в Конезерье, беседовал с людьми, отказавшимися от подписки на нашу газету. Знаете, что они мне сказали?
— Что?
— Газета ваша обещала нам навести на ферме порядок. И слово свое не сдержала. У нас в совхозе своих болтунов хватает, зачем нам еще газетных слушать? Да еще деньги за это платить. Это вы были на Конезерской ферме в начале осени и давали обещания от имени газеты?
— Я.
— Что будем делать?
Редактор имел обыкновение задавать этот вопрос одновременно себе и собеседнику. Отвечал на него, как правило, сам — поговоркой или пословицей. На этот раз я его опередил:
— Лучше поздно, чем никогда.
— Правильно, — согласился редактор, — исправляйте ошибку. Извинитесь хотя бы перед людьми. И вообще подумайте, что можно сделать для фермы в наших условиях.
Думал я, думал, как мне вновь появиться перед обманутыми конезерскими доярками, и наконец придумал.
В пятницу после работы во дворе редакции рыбаки-любители снаряжали машину для поездки на подледный лов. Устанавливали в кузове машины деревянную будку, налаживали в будке «буржуйку», строгали, приколачивали. Подошел я к рыбакам, спрашиваю:
— Куда завтра?
— На Ильмень, — отвечают, — в устье Шелони.
Если уж задумали рыбаки на Ильмень, отговорить их трудно. Надежда по первому льду напасть на легендарный ильменский окунь заставляет самого робкого и хилого здоровьем любителя затемно еще пускаться в стодвадцатикилометровый нелегкий путь к озеру.
Деревня Конезерье находится на озере Верхнее Врево, и потому мне с рыбаками не по пути. Но в Конезерье как-то надо попасть. Решаюсь на хитрость.
— Да что вы, мужики! — удивляюсь. — Разве не слышали, что на Верхнем Вреве творится?
— Нет, — отвечают рыбаки, — а что такое?
— Да как же!.. — изумляюсь. — Пелядь на мотыля пошла!
— Не может быть… — Рыбаки переглянулись. — Кто ловил?
Тут я несколько отвлекусь от основного своего рассказа. Среди читателей, возможно, тоже рыбаки-любители найдутся, им о рыбе пеляди, которая в озерах нашего района прижилась, небезынтересно будет узнать.
Пелядь — единственная, пожалуй, в нашем районе рыба, которая не идет на удочку к рыбаку. В сеть — пожалуйста, на крючок — нет. Питается она планктоном — мельчайшими водорослями, и потому на богатейший ассортимент наживок, которые ей почти насильно пихают в рот орды рыбаков-любителей, смотрит равнодушно. Рыба эта неприхотливая, быстрорастущая, из семейства сиговых. За год ее мальки вырастают в двухсотграммовых рыб, за два года — в полукилограммовых серебристых красавиц. Родина пеляди — озеро Ендырь в бассейне реки Оби. Оттуда несколько лет назад Научно-исследовательским институтом озерного и речного хозяйства пелядь была расселена по водоемам Европейской части СССР. Завезли мальков пеляди и в наше озеро Верхнее Врево. Акклиматизировалась пелядь быстро, как, впрочем, и в остальных водоемах нового местожительства. Сейчас мальки пеляди вывозятся и в зарубежные страны: Польшу, ГДР, Финляндию.
В нашем районе пелядь стала промысловой рыбой. Из озера Верхнее Врево она перебралась в Нижнее, в Череменецкое, в Раковское и продолжает по узким ручейкам и речкам пробираться в другие озера. Всем хороша рыба пелядь, да есть у нее два недостатка. До сих пор не удалось получить пелядь от естественного нереста. Гибнут ее малыш от хищных рыб. Вот и приходится выращивать мальков пеляди после искусственного осеменения в питомниках — огороженных от озера водоемах — до веса в пятнадцать — двадцать граммов, а уж затем выпускать в озеро. Второй недостаток — не идет на крючок. Для нас, рыбаков-любителей, он особенно значим. Ну что это за рыба, которой кишит озеро, но которую вы можете увидеть только в сетях рыболовецких бригад да изредка в магазине. Среди любителей нет-нет да и проползет слушок: «Поймал пелядь на крючок». Кто поймал, как поймал, на какую наживку — этого никогда выяснить точно не удается. Может быть, случайно зацепилась пелядь нежной губой за острый крючок — все может быть, но слухи эти будят и поддерживают в любителях надежду. Вот почему мои слова об «идущей» пеляди были встречены редакционно-типографскими любителями хотя и с некоторым недоверием, но и с сердечным замиранием.
После короткого совещания рыбаки почти единодушно приняли мое предложение: ехать на Верхнее Врево.
— А теперь, мужики, — сказал я, — у меня к вам огромная лично-общественная просьба. У вас в руках сейчас пиломатериалы и соответствующий инструмент. Изготовьте мне, пожалуйста, каждый по маленькой скамейке. Ну, знаете, на каких раньше женщины коров доили, Я за это вас завтра на Врево целый день фотографировать буду. Каждому фотографии на память сделаю. Хотите — с пелядью, хотите — без.
Подивились рыбаки моей просьбе, но за дело взялись бодро. Через час скамейки были готовы. Покрасил я их подвернувшейся под руку типографской краской, сложил в сторону просыхать.
На следующее утро поехали на Верхнее Врево. Приехали в деревню Конезерье, спустились на лед озера.
— Показывай, — говорят рыбаки, — где твой свояк пелядь ловил.
— Да не свояк, — возражаю, — а брат его двоюродный.
Кое-как удалось отговориться. Разбрелись рыбаки по озеру, а мы с шофером к ферме поехали.
Пока сгружали мы с шофером у ворот Конезерской фермы скамейки, доярки собрались. Стоят, диву даются: что за табуретки им привезли. Самая горластая доярка — та, что осенью про скамейки вела речь, подходит ко мне и спрашивает неуверенно:
— Фотограф, а фотограф! Чейт ты за подставки нам привез?
А у меня, надо сказать, профессиональная память на лица и фамилии. К тому же в редакционной фототеке фотографии почти всех постоянных доярок района имеются. И, собираясь вчера на Конезерскую ферму, я фотоснимки конезерских доярок просмотрел, освежил в памяти не только фамилии работниц, но и имена-отчества их, и еще кое-какие данные.
— Это, Полина Андреевна, — отвечаю горластой, — то, о чем вы осенью просили. Скамейки для додаивания коров вручную. Скромный предновогодний подарок от коллектива редакции нашей коллективу Конезерской фермы.
У доярки от изумления губа отвисла.
— Фотограф, — спрашивает, — откуда ты меня по отчеству-то помнишь?
— А как же, Полина Андреевна! — удивляюсь. — Вы известная на весь район доярка, орденом «Знак Почета» награждены. У нас в редакции вас каждый знает. Вам в прошлом году молока всего ста семидесяти килограммов до «пятитысячницы» не хватило.
— Смотри-кось ты, — доярка, польщенно, но недоверчиво улыбаясь, косится на меня, — смотри-кось, какой памятливый…
— А меня по отчеству признаешь? — ощерилась беззубым ртом высокая сутулая старуха. — Орденов нету у меня, зато «пятитысячницей» в молодости хаживала.
— Ефросинья Ивановна, и вы еще спрашиваете! — восклицаю. — Данилову не знать, старейшую доярку района! Да вы что, Ефросинья Ивановна, газету нашу не читаете? Мы же в газете фотографию сына вашего Сашки каждую посевную крупным планом даем и вас вспоминаем. Прошлой веской Сашка на областных соревнованиях трактористов звание лучшего пахаря области завоевал. Как же мне фамилию Даниловых не знать.
Старуха после этих слов моих ну прямо размякла вся. Чувствую, контакт с коллективом фермы у меня налаживается. В это время водитель машины кричит из кабины:
— Я на озеро! Вечерком за тобой заскочим, жди!
Забегая вперед, скажу: не приехали рыбаки за мной на ферму. Обиделись. Целый день носились по озеру за пелядью, по сотне лунок просверлили, ершами обловились и много нехороших слов в мой адрес набросали. А я, честно говоря, особых угрызений совести перед рыбаками не испытывал. По морозному воздуху побегали, отдохнули — вполне достаточно удовольствий. Мне же в Конезерье пришлось почти до одиннадцати часов вечера маршрутный автобус на город ждать. Зато с доярками и заведующей фермой вдоволь обо всем наговорился, на вечерней дойке присутствовал, целый блокнот критического материала насобирал.
Через несколько дней появилась в газете моя корреспонденция о Конезерской ферме, которая называлась «В роли созерцателей». «Созерцатели» — это я в руководство совхоза камушек бросил. С директором совхоза, мол, у нас еще осенью разговор о неполадках на Конезерской ферме был, а воз и ныне там. Дороги капитальной к ферме нет, по весне грязь непролазная, подвесную дорогу удлинить, навозосборник расширить у совхозных специалистов руки не доходят. Что там о серьезных неполадках говорить, когда даже весов и разгрузочных площадок под корма на ферме нет, сено прямо в навозную жижу сгружается…
Спустя некоторое время позвонил я на Конезерскую ферму, поинтересовался у заведующей: шевельнул кого-нибудь из руководителей совхоза мой газетный материал?
— Сам Иван Петрович на ферму приезжал, — ответила заведующая. — Все скамейки ваши перещупал, уж больно они его удивили. «Чего не ожидал, — говорит, — от редакции, того не ожидал». Одну скамейку с собой увез…
Как-то так получилось, что после поездки на Конезерскую ферму начал я помаленьку отвыкать от привычки бросаться обещаниями направо и налево. Только, бывает, хочу сказать: «Сделаем!», перед глазами сразу жутковатые раскоряки-скамейки появляются, выкрашенные черной типографской краской. И обещания в горле у меня сами собой застревают.
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
В сельском женском коллективе работать для меня куда проще и привлекательнее, чем в городском. На селе все как-то натуральнее получается, без многих городских условностей, искреннее, что ли, душевнее. Возьмем для примера молочнотоварную ферму. Если добротная ферма, благополучная, да еще «плюсует» к прошлому году хорошо, как в дом родной приходишь туда работать. Поначалу, по неопытности, фотографировал я на фермах лишь двух-трех доярок, которые больше других молока надаивают. Потом вижу: не то делаю, по-другому необходимо работать. Мало, что контакт с остальными доярками у меня нарушается, обиды разные возникают, так еще и газетное дело страдает. Пока проявишь пленку, снимок отпечатаешь, клише изготовишь, пока очередь для снимка в газете подойдет, глядь, а доярку мою уже подруги по надоям обошли. Вновь на ферму отправляешься, теперь уже подруг фотографировать, а они посылают меня подальше. Дескать, раньше ты нас не хотел фотографировать, а теперь у нас желания нет.
Теперь я с доярками иным методом работаю. Прихожу на ферму здороваюсь зычно, объявляю во всеуслышанье:
— Дорогие женщины-бабоньки! Ферма ваша гремит на весь район. Всем фотографироваться для газеты! Платки снять, прически взбить, подкрасивиться!
— Неужто всем фотографироваться, — кто-нибудь из доярок уточняет, — и подменным?
— И подменным.
— А пастухам?
— И пастухам, и слесарям, и трактористам, если, конечно, они вам в работе хорошо помогают.
— Помогают, как же! Помогают! А дяде Пете-скотнику и Коле-кочегару?
— Дяде Пете обязательно и Коле тоже, — это я уже с легким сердцем решаю, потому как чистота на скотном дворе за дядю Петю говорит, а теплынь — за Колю-кочегара.
Начинается на ферме веселая предсъемочная кутерьма-суматоха. До чего же хороша, до чего приятна атмосфера в коллективе, когда никто фотовниманием не обойден! Сбрасывают доярки неизменные свои платочки с бахромой, прически жиденькие друг дружке взбивают, одна над другой подсмеиваются. Что и говорить, красавиц мало на фермах. Лица чаще немолодые, обветренные, морщинистые, глаза от испарений коровьей мочи красные у многих, воспаленные, фигуры тоже стройностью не блещут. А снимут телогрейки, воротники на груди расправят, прихорошатся друг перед другом, глядь, и помолодели женщины. Собьются в кучку где-нибудь в уголке светлом (первый снимок на передовой ферме я всегда групповой делаю), обнимутся — давай фотографируй! Дядя Петя-скотник с недельной щетиной на подбородке норовит наперед доярок вылезти, затмить строй. Говорю скотнику:
— Дядя Петя, тебе улыбаться нельзя. В два раза больше моего получаешь, а зубы золотые вставить жадничаешь. Становись позади всех с того вон края. — И грех на душу беру, объективом так в коллектив прицеливаюсь, чтобы небритого дядю Петю, беззубо лыбящегося, из кадра исключить. Как-никак не для стенгазеты снимок пойдет, и не посылать же скотника домой бриться. Ну, может быть, не начисто исключить, кое-что и оставить, кончик носа, например. Словно бы ненароком дядю Петю заслонили доярки или Коля-кочегар.
Сделал групповой снимок — все мужики в сторону отходи, начинаю главную ударно-трудовую силу фермы фотографировать, доярок. Персонально каждую. И тех, которые «плюсуют», и которые «минусуют», и подменных, и совсем еще молоденьких девчонок-учениц. Это я уже для своей фототеки заготовки делаю. Сегодня девчонка ученица, а завтра, быть может, первой в районе станет. Сегодня «минусует» доярка, а завтра у ее коров «плюс» пошел на удивление всем. Вот тут-то фототека моя и пригодится. Достану из нее фотографию нужной доярки, положу на стол ответсекретаря, а в награду мне поощрительный взгляд за оперативность.
Рассказываю я вам о своей фотокорреспондентской работе на селе хоть и подробно, но все-таки в общих чертах. Хочется же какой-нибудь конкретный эпизод выделить, интересную историю поведать. Тем более что историй интересных в практике работы моей на тех же фермах случалось немало. И страх бывал, смех и грех бывал, и любовные истории даже.
Смех и грех, в качестве примера, зимой произошел. Отправились мы сборным редакционно-типографским охотколлективом на лося. Идем по лесу, егерь запропал куда-то, тропа заснеженная кружит, петляет, бросает нас из стороны в сторону. Возбуждены мы все разговорами и байками охотничьими, но, поверьте на слово, ни у кого ни в одном глазу ни капли. Вдруг метранпаж Леша Длинный остановился, присел, вскрикнул шепотом: «Лось!» Глянули мы туда, куда Леша указывал, и обмерли: голова лосиная из кустов выглядывает, за нами наблюдает. Замредактора Иван Васильевич с животика двустволку приподнял и без раздумий долгих — хрясть дуплетом! И что самое удивительное, прежде Иван Васильевич не то чтобы в лося, в сарай с полсотни шагов попасть не мог, а тут прямо в ухо зверю угодил, наповал срезал. Подбежали мы гуртом к поверженному лесному великану и… мать честная, лошадь! Да еще в сани запряженная, а поодаль скотный двор виднеется, и оттуда бежит к нам, поминая бога и матушку, возчик.
С трех получек охотколлектив наш полностью с совхозом за лошадь рассчитался, но разговоров-то, стыдобушки-то сколько было потом. Воистину и смех и грех.
А вот об одной любовной истории, которая со мной приключилась, хочется поподробнее рассказать. Только надо, видимо, такому расплывчатому понятию, как «любовная история», более конкретное определение дать. Назовем, возможно и с некоторой натяжкой, историю эту «несостоявшейся любовью». Пускай так. По понятной причине настоящую фамилию доярки и название фермы указывать не стану, а вот имя девушки оставлю подлинное: Ия. Сравнительно редкое имя, напоминающее мне чем-то короткое и прохладное лото того северного края, где служил я. Прошу прощения, но придется мне в рассказе своем несколько нескромным быть. Дело в том, что Ию я еще на районном съезде животноводов заприметил. Вернее, не я ее, а она меня. Фотокорреспондент — он ведь все время на виду. И когда люди в зале тихо сидят, речи докладчиков слушают, и когда награды-подарки на сцене получают, и когда в буфетах непринужденно уже мнениями и опытом обмениваются, а то и пляс выдают, мельтешит фотокорреспондент у всех перед глазами с фотоаппаратом. Теперь представьте себе: сидят в зале молоденькие незамужние доярочки из глухой какой-нибудь деревушки района, где парней-то всего один на всех, да и тот в армию уходит, сидят и слушают скучнейший в общем-то доклад о том, как еще больше молока от коров получать. Принаряженным незамужним сейчас не бормотание седого дяденьки слушать хочется, который, спотыкаясь в бумажках, гундосит им что-то о жирности молока, а совсем другое. Не будем о поэтических душевных тонкостях рассуждать, прозой скажем: им, доярочкам-то, семью пора обретать, детей рожать. Найти мужа — вот для них, молоденьких, сейчас проблема из проблем. Кто их там в бесперспективной деревушке заметит? Да если бы им с пареньком хорошим жизнь свою соединить, так никаких проблем для них и вовсе бы не существовало.
Вот и судите сами: должны они, доярочки, хоть какое-то внимание обратить на фотокорреспондента, пускай не красавца, но тоже молодого и неженатого. А что фотокорреспондент неженатый, кому надо знают, не такие уж они простушки, как кажутся. Короче, прохаживаюсь я в актовом зале вдоль стены, фотоаппаратом поигрываю, девичьи взгляды на себе улавливаю-секу. И сам, конечно, к девичьему народу приглядываюсь, не вечна же моя холостяцкая жизнь. Примечаю с краешку ряда двух молоденьких пухляночек. Перешептываются пухляночки, пересмеиваются, поблескивают зубками и глазками из полумрака зала на меня заинтересованно, а кресло одно рядом с ними пустует. Подмигнул я доярочкам приветливо, прошелся неторопливо мимо ряда их туда-сюда, слышу, шепчут:
— Фотограф, присаживайся к нам.
Подсел я к девушкам, на лице своем строгость навел, все внимание, естественно, на сцену, к докладчику.
— Фотограф, почему ты такой серьезный? — соседка шепчет, и дыхание ее на моей щеке парным молоком отдает, как у телка-сосунка.
— Тебя как зовут? — тихо спрашиваю не поворачивая головы.
— Ия, — шепчет, — Ия Павлова.
— Откуда ты?
— Из Поддубья.
— Заозерская ферма?
— Ага…
Глянул я искоса на соседку — и обмер. Мать родная! Не скажу, чтобы красавица на меня смотрела, но глаза… и губы! Полные, свежие, верхняя губка чуть вывернута и к самому носику приподнята, но, главное, как смотрит!
Тут, чтобы полнее и убедительнее свои ощущения читателю передать, должен я одну особенность характера своего приоткрыть. Дело в том, что отношусь я к тому типу людей, у которых, как говорится, все с первого взгляда. Нет, нет, речь даже не о любви идет, а о простом, если так можно выразиться, человеческом контакте. При знакомстве встретишься с человеком — и сразу ясно: с этим представителем рода человеческого в приятельские отношения войти не смогу. Не потому не смогу, что нос его мне не нравится или уши, а потому, что во взгляде его интереса к себе не улавливаю. С какой стати, спросите вы, у незнакомого человека интерес ко мне должен появляться с первого взгляда, что я за личность такая? Личность, сразу отвечу, самая обыкновенная, однако вон поэт Рильке еще говорил, что любой человек, самый заурядный даже, — это целый мир, это интереснейший непрочитанный роман. Да что там Рильке, дядя Коля хромой, сосед мой по подъезду, о Рильке и не слыхивал, а как накатит — ту же мысль по всеуслышанье излагает, и я на этот счет придерживаюсь того же мнения. Теперь, думается, понятнее будет, почему замыкает во мне что-то, когда подхожу к незнакомцу как к целому неразгаданному миру, а он ко мне — с зевотой во взгляде. Прошу учесть, что рассуждения эти веду пока что применительно к лицам мужского пола, а также к женщинам, чьи взгляды не трогают в душе моей лирические струны. Ну а с теми, чей взгляд может тронуть эти самые струны, дело обстоит еще сложнее. Тут, помимо интереса во взгляде, искра еще должна быть. Та самая искра, которую поэты в стихах воспевают, которая души людей извечным и самым прекрасным огнем воспламеняет и без которой многие люди — увы! — прекрасно обходятся. Это я о Валентине намекаю, невесте своей бывшей, которая меня из армии не дождалась. Недавно встречаю ее возле аптеки — коляску с ребенком катит, спрашиваю: «Ну как живешь?» — «Да так, — отвечает, — тлею помаленьку, дымлю». — «Ну и дыми, — думаю, — ежели огонь сберечь не смогла». Ладно, хватит о Валентине вспоминать, не о ней сейчас речь. К Ие Павловой вернемся, на районный съезд животноводов.
Сидим мы с Ией рядышком, прижавшись друг к другу плечами, глаза в глаза, и такое у меня ощущение, будто давным-давно знакомы с ней. Смотрит Ия на меня так, словно один-разъединственный я для нее на белом свете (мужчины такое особенно ценят), а у меня в ответ в душе все струны лирические чудесные звуки издают. Сижу, нежностью переполненный, и с трудом удерживаюсь, чтобы губами доярочку за ушко не ущипнуть.
— Фотограф, приезжай к нам в Поддубье, — Ия шепчет, — пофотографируй нас.
— Мало молока даете, — шепчу в ответ, — чтобы фотографировать вас, — и руку девушки осторожно в ладони свои заключаю.
— А сколько надо молока? — Ия спрашивает и пальцы руки своей горячей с моими пальцами переплетает.
— Много, — бормочу и волосы ее со щеки своей сдуваю.
— Приезжай, — едва слышно выдохнула Ия, и здесь как-то так получилось, что губы наши на мгновение случайно соприкоснулись.
Дальнейшее все смутно воспринимал. В глазах моих, как в песне поется, «помутился белый свет». Словно в полусне слышу: аплодисменты по залу прошелестели, видать, лектор речь свою закончил. Потом еще разные голоса в микрофон говорили, потом вдруг привел меня в себя начальственный басок: «Фотокорреспондент! Где фотокорреспондент?»
Пожал я руку девушки многообещающе и, не прощаясь, на сцену с фотоаппаратом поспешил. Фотографирую передовиков, которым на сцене почетные ленты через плечо повязывают, подарки цепные и грамоты вручают, записываю в блокнот фамилии, адреса, а сам нет-нет да и брошу взгляд в зрительный зал, в сторону доярки Павловой. Да разве усмотришь ее в эдакой массе лиц! Невольно опасение закрадывалось: ну как разминемся с Ией? Ни лица ее вспомнить не могу, ни фигуры, ни в чем одета, только глаза да губы. Что ее на сцену не вызовут за подарками — сомнений нет. Заозерская ферма и в лучшие свои времена надоями не блистала, а нынче к бесперспективным причислена, скоро вовсе прикроют. Удивительно еще, как могла Ия Павлова с подружкой «съездовскую» норму из «бесперспективных» своих коровенок вытянуть.
Только закончилась «подарочная» процедура на сцене, подошел я к начальнику районного сельхозуправления и попросил шепотом: так, мол, и так, Павел Васильевич, прошу объявить в микрофон, чтобы все работники ферм не забыли у меня сфотографироваться. Жду их в кабинете заведующего библиотекой на втором этаже. Павел Васильевич эту мою просьбу охотно исполнил, а я на второй этаж поспешил, к съемкам готовиться.
Тут должен я небольшую профессиональную тайну приоткрыть перед читателями. Подобные собрания людей, вроде этого съезда, представляют особый интерес не только для газеты, но и лично для меня. Чем больше лиц поймаю я в объектив фотоаппарата, тем легче дальнейшая моя профессиональная жизнь. Представляете: сколько надо по району болтаться, чтобы всех этих людей на местах рабочих сфотографировать? А тут все вместе и каждый при параде. Конечно же, о художественно-композиционной стороне дела при поточном фотографировании говорить не приходится. Однако в газете эта сторона дела частенько не самой главной является. Иной раз захудалая фотография доярки или механизатора важнее лучшего конкурсного фотоэтюда.
Поначалу, как это обычно бывает, людей в комнатушку набралось тьма. Никто толком понять не может: зачем фотографироваться, для чего фотографироваться? Иные, слышу, предполагают, что для доски Почета, иные говорят — на память карточки, иные и вовсе плетут невесть что. Главное, что людей сейчас ко мне привлекает, — это любопытство, неизвестность. Объясни я, что для газеты съемки веду, вмиг поредеет толпа. Первый этаж соблазнами уже гудит: музыка, танцы, буфеты с апельсинами, киоски книжные… Не всякий устоит. К тому же среди делегатов съезда немало «пятитысячниц». Чтобы столько молока от коров своих получать ежегодно, да еще в условиях, в каких порой они работают, нужно великим тружеником быть. А великие труженики, как правило, и великие скромники. Трудно представить себе великого человека, стоящего в очереди ради своей газетной фотографии. Короче говоря, работаю, хожу винтом, чтобы народ не упустить, на каждого человека по три кадра затрачиваю — фас, профиль, три четверти — отходи! Помощники мои добровольные едва успевают в блокноты фамилии записывать, кто кем и где работает. Я же на все вопросы однообразно отвечаю: «Надо, товарищи, надо!» А сам, естественно, на дверь поглядывать не забываю, Ию жду.
И вдруг сердце екнуло — она! Наконец-то! Заглянули с подружкой в дверь не совсем уверенно (я ее тотчас по глазам узнал) и как бы размышляют: входить или не входить? Поймал я Иин взгляд, чуть заметным кивком головы на дальний угол указал. Твоя очередь ко мне, дескать, последняя. Поняла все, заулыбалась. Стоит ли говорить, что работа у меня еще энергичнее пошла, еще шустрее. Через десять-пятнадцать минут в комнатушке только Ия с подругой остались. Подругу ее сфотографировал в том же темпе, говорю:
— Не смею вас задерживать. С Ией мне необходимо наедине поработать, хочу ее особо снять.
Остались мы с девушкой наедине, Ия спрашивает:
— Почему меня особо?
— Нравишься мне очень, потому и особо, — отвечаю.
— Правда? — улыбается.
— Правда, — подтверждаю.
— Тогда я согласна. Фотографируй по-особому, только карточки не забудь привезти. Привезешь?
— Привезу.
Прикинул я девушку в видоискателе в разных ракурсах и только тогда рассмотрел ее хорошенько. Помнится, одета она была в кофточку с короткими рукавами и юбку ниже колен (мода на «мини» у доярок из отдаленных деревень почти не приживается), роста выше среднего, узкоплечая, но сбита плотно, гибкая, сильные длинные бедра под юбкой рельефно вырисовываются, а грудь… Я такую грудь только однажды у какой-то французской актрисы в кино видел… Нет, трудно описывать женщину, которая тебе нравится. Попробуйте сами — убедитесь. Как ни стараешься, а получается все не то и даже пошлостью отдает. Лучше на слово поверьте: хороша была Ия! Так хороша, что, глядя на нее, дышать было нечем и ноги слабостью наливались, подкашивались. Вот только одна несуразность из всего Ииного обличья мне в глаза бросилась. Фигура ее женственностью дышала, такие фигуры скульпторы любят обнаженными изображать с грудным младенцем на руках, а глаза, губы, все лицо ее и нежная девичья шея совсем юными казались, нецелованными.
Поймал я улыбку девушки в кадр, щелкнул затвором. Ия спрашивает:
— И это все?
— Нет, — отвечаю, — это только начало.
Отложил фотоаппарат в сторону, подошел к девушке, говорю:
— Головку вот так поверни, волосики со лба убрать, воротничок поправить… — И все эти операции, естественно, помогаю девушке выполнять. А она на меня лучится глазами — даже неловко повторяться — как на единственного, на суженого своего…
— Откуда ты такая взялась? — тихо спрашиваю и горящие щеки девушки ладонями трогаю, охлаждаю.
— Какая? — улыбается.
— Хорошая…
Поймала она вдруг руками мои ладони на своих щеках и губами нежно их трогает, целует. А я, поверьте, даже не засмущался нисколько, словно не впервой мне девушки руки целуют. Смотрю ей в глаза и словно душу живую, человеческую, в ладонях своих держу, и хочется мне почему-то на колени перед девушкой этой стать.
Ну а потом, скрывать не стану, поцеловались. И, что удивительно, ни у нее, ни у меня никакой стыдливости нет, будто муж и жена мы, после долгой разлуки встретились. Придрались друг к другу и молчим, улыбаемся, губы один у другого губами ловим. Только когда я пуговку на кофточке Ии расстегнул, спросила смеясь:
— Это у тебя «по-особому» называется?
Ответить ей не успел. Дверь распахнулась, и в комнату ввалилась шумная подвыпившая компания. Ия отпрянула от меня и только шепнуть успела: «Приезжай!»
— Вот он, фотограф, здеся! — чей-то голос заорал. — С дояркой нашей милуется! Давай фотографируй нас, желаем!
— А пошли вы все, — говорю, — от меня подальше. Никого больше снимать не буду. Не желаю! У меня сегодня, между прочим, тоже выходной день.
Отбился я от захмелевшей компании, огляделся, Ии нигде нет. На первый этаж спустился, по вестибюлю побродил, в буфет заглянул, в зрительный зал — там самодеятельные артисты к спектаклю готовились. Нет Ии, как сквозь землю провалилась. Потолкался я невесело среди людей, тоскливо стало. Повсюду голоса возбужденные гудят, музыка гремит, танцуют люди, пляшут, частушки голосят, а Ии нет!
Скажу честно: обиделся я тогда на доярку Павлову. Могла бы хотя попрощаться по-человечески. Подумаешь, фифа с пухленькими губками, небось в кафе-ресторан какой-нибудь подалась со своими совхозными, про меня и думать забыла. А я хожу тут, переживаю…
Как ни настраивал себя против доярки Павловой, всерьез обидеться на нее не мог. Не верилось, что из глухой деревушки девушка так лицемерно играть могла, так притворяться. Может быть, она про меня решила, что пижон я городской, к любой подсаживаюсь, которая глазом мигнет?
Со съезда животноводов возвращался я домой в настроении грустном. Пришел в квартиру свою холостяцкую, побродил из угла в угол, хотел пленки проявить, но не смог заставить себя работать. Наконец решил, что утро вечера мудренее, и лег спать. Одеяло на голову натянул и… Понятно, кто предстал передо мной. А вскоре шепот послышался нежный: «Приезжай!..» Под шепот этот и уснул.
В понедельник утром, как заведено в нашей редакции, собрались сотрудники газеты в кабинете редактора на «летучку». Обговорили по-быстрому основные дела на предстоящую рабочую неделю, стали редакционный газик по отделам распределять — кому и куда надо съездить.
— Товарищи, — говорю, — прошу не забывать и про фотокорреспондента. Снимков из отдаленных мест нет. Даем в газету что поближе лежит, одни и те же фамилии перепеваем, а до глубинки руки не доходят. Прошу выделить мне машину для работы на отдаленных фермах.
— С чего это ты в самокритику ударился, на отдаленную ферму разохотился? — ответственный секретарь Иван Осипович спрашивает не без подозрительности. — Да еще после съезда животноводов? После таких съездов ты газету по году «иконами» кормишь. Небось фотоаппарат со вчерашнего дня еще не остыл.
— Совершенно с вами согласен, Иван Осипович. «Иконами» я запасся надолго, а вот сюжетных снимков с ферм нет. Потому и прошу машину. Почему бы действительно не показать нам в газете, к примеру, Заозерскую ферму? Ну и что — бесперспективная? Но люди там работают, делегатами районного съезда были, значит, неплохо работают. Вот доярка Павлова, например…
— Молодая? — Иван Осипович спрашивает.
— Представьте — да, — говорю, — молодая и комсомолка.
— Павлова-а? — Иван Осипович раздумчиво тянет (а он, надо отдать ему должное, фамилии всех мало-мальски известных доярок района на память знает). — Не припомню что-то…
— Доклад на съезде вчера надо было внимательнее слушать, Иван Осипович. Тогда и фамилию Павловой знали бы.
Отбрил я таким арапистым манером ответственного секретаря, чтобы не было еще намеков разных и подначек, однако коллеги мои порешили газик в единоличное мое распоряжение на ближайшей неделе не выделять.
Всю последующую неделю работал в городе, трудился, образно говоря, в девичьих цветниках — в комсомольско-молодежных бригадах трикотажной и обувной фабрик, химзавода, у строителей-отделочников. И, честно скажу, от изобилия девичьих улыбок и глаз приветливых образ доярки Павловой в памяти моей — увы! — туманиться начал, дымкой забвения покрываться. Потом морозы лютые ударили, потом воспаление легких на рыбалке подхватил, а после больницы, мягко говоря, в отпуск выперли, в дом отдыха поехал. В доме отдыха опять же — молодежь, танцы, прогулки лыжные. Но, что удивительно, танцую я, к примеру, в доме отдыха с новой своей симпатичной знакомой — рука в руке, глаза — в глаза, и дистанция промеж нас наикратчайшая, и искра иной раз проскакивает, а все не то! Ну не то все, хоть убей! Ничего похожего на Ию. Когда же пошел свою новую знакомую после танцев в соседний корпус провожать, поцеловались. Правда, инициатива в этом вопросе с ее стороны исходила, но не буду оправдываться. Скажу только, что ощущение у меня после поцелуя ее такое было, прошу прощения за неудачное, может быть, сравнение, словно после Пушкина или Есенина стихи начинающего поэта из дома престарелых прочитал. Наутро собрал вещички и за неделю до окончания срока отдыха своего домой поехал.
Тут, конечно же, вопрос напрашивается: почему я к Ие не съездил, как обещал? В конце концов, и без редакционного газика можно было бы обойтись, мало я пешком в свое время по бездорожью хаживал. Нет, тут совсем другая закавыка. Дело в том, собственно, заключалось, что хотя был я положительно на семейную жизнь настроен, все же как-то боязно было свободу свою терять. А что свободу Ия у меня отобрать может, я инстинктивно с первой нашей встречи почувствовал. Просто околдовала меня доярка Павлова. Вот и хотелось, как принято иногда говорить, дать своим чувствам проверку временем. К тому же на лирические струны в душе моей разные нюансы и отрицательные эмоции влияли. Накануне посевной совсем уже было собрался на Заозерскую ферму, да вновь Валентину на улице случайно встретил. Ну, «здравствуй», «здравствуй», «как живешь» и все такое, а потом она мне вдруг и говорит: «Аркадий мой (муж ее) в командировку от ПМК на два месяца уехал». — «Ну и что, — спрашиваю, — что уехал?» — «Приходи, — говорит, — сегодня вечером попозже, когда Татьяну (дочка ее) спать уложу». Я не сразу даже сообразил, зачем она меня к себе приглашает, да еще попозже, А потом — мать честная! Так это же она меня в любовники к себе приглашает, любопытно ей со мной в любовь поиграть. «Знаешь что, — говорю, — Валентина, много я тебе хороших слов говорил и в письмах писал, позволь теперь плохое молвить. Стерва ты! Если, — говорю, — все женщины на земле исчезнут, одна ты останешься, и тогда к тебе не приду».
После этой встречи с зазнобой своей бывшей всю посевную на женщин не смотрел и даже Ию вспоминать не хотелось. Посевная закончилась в районе, времени свободного побольше стало, черемуха зацвела, вечера теплые, безветренные установились, вновь Ия по ночам сниться стала, шептать настойчиво: «Приезжай же…» Тут наконец дошли руки фотографию Ии отпечатать; помните, на съезде животноводов успел один кадр с нее щелкнуть. Выхватил из ванночки с проявителем Иин отпечаток, глянул в мокрые от раствора и словно бы заплаканные глаза девушки, и… пошел к редактору. Так, мол, и так, говорю, Лев Юльевич, посевная закончена, за всю страду весеннюю ни одного выходного дня не имел, прошу отгул на пару дней. Если отгулы нельзя, в счет отпуска дайте с завтрашнего дня по семейным обстоятельствам. «Ладно, — редактор говорит, — поработал ты вроде неплохо, гуляй два дня». Про семейные обстоятельства и расспрашивать не стал.
Желание встретиться с Ией было так сильно, что порешил я поначалу ехать в Поддубье немедля. Затем вспомнил, что автобус в те края идет только утром (семьдесят километров), да еще пешком придется километров пятнадцать — двадцать отмахать. Конечно же, отправляться лучше с утра.
Как дождался утра, как доехал до конечной автобусной стоянки и шагал потом несколько часов по заболоченной колее-дороге, рассказывать не стану. Скажу только, что день тот выдался солнечный, жаркий, от омшарных испарений и запаха багульника у меня разболелась голова. Оттого, может быть, и чувствовал себя при подходе к Ииной деревне не слишком уверенно, совсем не так, как накануне вечером. Шагаю, в руках у меня портфель, а в нем коробка конфет и бутылка сухого вина, и еще фотоаппарат. В конце концов, если Ия встретит меня не так, как рисовалось в моем воображении (почти полгода прошло с нашей встречи, многое могло измениться), фотоаппарат поможет мне из неловкого положения выйти. Лицо я на любой ферме района официальное, со своим рабочим инструментом прибываю, так что пускай доярка Павлова слишком о себе не воображает…
Болото наконец кончилось, и дорога запетляла по сухим песчаным косам, поросшим мелким сосняком и кустами можжевельника. Здесь гулял ветерок, идти стало легче, и я повеселел. В этих местах мне довелось быть только однажды, но смутно припоминал, что справа от дороги должно быть озеро и скотный двор, а деревня на противоположном берегу озера, на горке.
Вскоре среди мелколесья засеребрилось озерцо, и я увидел старый скотный двор, крытый соломой. Что-то насторожило меня в этой скособочившейся развалюхе и, только подойдя ближе, понял: скотный двор брошен. Двери двора были сорваны и валялись поодаль, вокруг царило безлюдное запустение, хотя коровьи следы в жирной торфяной грязи казались совсем свежими. Оглядевшись, я заметил возле озера дымок. Полагая, что костер жгут деревенские мальчишки-рыбаки, я решил разузнать у них окрестные новости, прежде чем входить в деревню. Не успел я сделать и нескольких шагов, как вдруг увидел человека в черной кепке, который, пригибаясь, бежал от меня по кустам, держа в руках молочный бидон. Недоумевая, я двинулся к деревне.
Не знаю, почему деревушка Поддубьем названа, вокруг и намека на дубы нет, но выглядит она в солнечный майский день привлекательно. Десятка полтора домишек, не ахти каких красавцев, но в яркой молодой зелени и белых черемуховых кипунах, разбросаны по склону холма. Едва я ступил на деревенскую улицу, как возле крайней избы приметил черную кепку, за мной наблюдали. Поравнявшись с избой, я увидел владельца черной кепки, который как ни в чем не бывало сидел на крыльце, словно и не выглядывал минуту назад из-за кустов сирени. Это был щуплый, невысокого роста мужичок со спекшимся лицом — морщинистым и загоревшим до черноты. Запрокинув голову, мужичок смотрел на меня из-под черного козырька прицельно, слегка настороженно, но с явным настроем на разговор. Я поздоровался, мужичок живо откликнулся:
— Здоров! Заходь! Седай!
Я охотно принял приглашение и присел рядом с мужичком с надеждой, что сейчас все деревенские новости и местная обстановка станут мне ясны. Но не тут-то было. Мужичок односложно «дакал», «акал» и вообще придуривался, явно намереваясь больше услышать, чем рассказать. Я решил пожертвовать бутылкой марочного. Мужичок разговорился:
— А я думал, ты из милиции. Смотрю, идет: большой, в белой рубахе, с портфелем. Все, думаю, Марфа — соседка заложила меня милиции (я самогонку за скотным двором варил). Грозится милицией — спасу нет от нее. Ну, я бидон в руки и по-пластунски от тебя подхватился…
Через несколько минут я уже знал, что зовут его Никифором, но все в деревне кличут Цыганом; он «испокон веков местный», детей нет, жена второй месяц лежит в больнице в Ленинграде («а хрен ее знает, чейт там у нее по женской части»), ему под шестьдесят. До недавнего времени Цыган (буду и я его так называть, коль все называют) работал скотником на Заозерской ферме, а по весне ферму как бесперспективную (непростое это слово Цыган произнес неожиданно легко) ликвидировали, коров перевели на центральную усадьбу совхоза, и он оказался не у дел. Теперь до самой пенсии думает «ударять по полеводству».
— А как же доярки, — поинтересовался я, — они что, тоже на центральную усадьбу перебрались?
— Какие у нас доярки, — Цыган сплюнул, — Ленка, Ийка (при этом имени сердце мое замерло) да Марфа-змея. И еще две сестры не из нашей деревни, аж из Гориц. Ну и баба моя иные разы на подмене.
— А сейчас где эти… Ленка и Ийка? — Я осторожно подводил собеседника к главному вопросу.
Цыган вновь насторожился, повертел в руках опорожненную бутылку с иностранной наклейкой, испытующе стрельнул бесцветными глазками из-под козырька на мой портфель и вдруг обрадованно хлопнул ладошками по острым коленкам.
— Погодь, погодь… Ну как же! То-то, я смотрю, обличье твое мне знакомо. Фотограф ты из газеты! Ну как же, знаю. Помнишь, про меня у вас писали? Все Марфы-змеи забота…
Цыган принялся ругать Марфу-змею, я же прикидывал: как, не привлекая внимания собеседника к интересующему меня вопросу, разузнать про девушку.
— Значит, к Ийке нашей приехал… — проговорил вдруг Цыган и беззубо ощерился, заулыбался.
От неожиданности я поперхнулся, пробормотал растерянно:
— С чего вы взяли?
— Более тебе не к кому. Фермы у нас теперича нет, фотографировать у нас некого. Доярками интересуешься, а Ийка первая на деревне баба. Вино-кислятину опять же в портфеле несешь, конфетки…
«Вот черт, и конфеты успел заметить», — удивился я про себя.
— А как же! — словно читая мои мысли, продолжал Цыган. — Я в партизанах первым разведчиком был. Сам Константин Дионисович Карицкий про меня в газете писал. А Ийки нет. Уехала.
— Как… Куда уехала? Когда?
— Мужик ее из тюрьмы вернулся.
— Мужик?
— Ага. Сенька Грач. Как раз на Женский день заявился, он на год посаженный был. Выпили мы с ним, Сенька спрашивает: «Гуляла Ийка без меня?» Не замечал, отвечаю. Да и с кем гулять? Я свое отгулял уже, а больше у нас в деревне и мужиков стоящих нет. Одно слово: бесперспективная деревня.
— Что же дальше? — поторопил я Цыгана со сжавшимся сердцем.
— А дальше Сенька говорит: «Врешь, поди, Цыган. Пойду сам у Ийки разузнаю». — «А чего тебе разузнавать, — говорю Сеньке, — Ийка с тобой развелась, теперича она тебе никто». А Сенька хвать мои вожжи и орет: «Сейчас поглядишь, „кто“ она мне или „никто“». Босиком по снегу гонял бабу, дурак.
— Потом что? — перебил я Цыгана.
— Потом Ийка у Марфы в доме заперлась, а наутро из деревни ушла. Марфа говорит: навсегда уехала. Вон она, Марфа-змея, ползет, у ней спроси.
Марфа Анисимовна (отчество ее узнал позднее) — пожилая грузная женщина с одышкой — на мое приветствие ответила сдержанно. Глаза у женщины были внимательные, умные, и я, не мудрствуя лукаво, представился ей и объяснил, что пришел в деревню по приглашению Ии.
— Опоздал, милок, опоздал, — мелко и часто дыша, отозвалась женщина. — Уехала Ия из деревни, в Мурманск на рыбу завербовалась. Вон его, паразита, — Марфа Анисимовна кивнула головой в сторону Цыгана, сидящего на крыльце, — за все благодарить надо. Нет на него управы ни людской, ни божьей…
— Ползи, ползи, змея подколодная, — живо откликнулся Цыган, — вали с больной головы на здоровую. Кто Ийке аборт сделал, не ты? Кто девку искалечил? Дите теперича иметь не может.
— Я Ийку искалечила?! — вскинулась Марфа Анисимовна, и лицо ее налилось кровью. — Ийка дите иметь не может?! Ах ты сморчок вонючий! Кто Сеньку к вину приучил, кто из мальца алкоголика сделал? Да Ийка сама сказала: «Чем с алкоголиком жить и пьяниц плодить, лучше я из деревни уйду судьбу свою искать». Вот посмотришь еще: с дитем Ийка вернется из Мурманска или без дитя. А на тебя я управу найду, сморчок поганый. Попомни мое слово: найду, найду управу!
— Сморчок ноне в цене, — Цыган ухмыльнулся, — эвон заготовитель наш сморчки для Франции собирает. В Европу ноне сморчок идет. Сама-то небось ко мне, сморчку, по молодости клинья подбивала, захомутать в мужья хотела.
— Я тебя в мужья?! — ахнула Марфа Анисимовна. — Да не ты ли ко мне сватался, не тебе ли я дала от ворот поворот?
Перепалка соседей длилась долго. Цыган явно получал от нее удовольствие, беззубо ухмылялся и подзадоривал соседку. Марфа Анисимовна же, наоборот, все слова принимала близко к сердцу и так волновалась, что, когда отошла, я почувствовал облегчение. Спросил Цыгана:
— За что муж Ии в тюрьме сидел?
— Сенька-то? А пьяный на тракторе железнодорожный переезд переезжал, плугом рельсы своротил. Поезд чуть под откос не сковырнулся. Ийка из деревни ушла, а Сенька недавно на центральную усадьбу перебрался. Комнату в большом доме дали, в ремонтных мастерских слесарем работает. Ийкин дом — эвон, на горке. Который заколоченный. Из Ленинграда уже наведывались сюда, про Ийкин дом разузнавали. Да вроде она продавать его не намечала, такого разговору не слыхал. Может, еще вернется в деревню, как знать.
— У Ии что, родных нет?
— Егор Ильич, отец ее, у нас до войны председателем колхоза был. А после войны с Татьяной (маткой Ийкиной) развелся и в Ленинград подался. У него, сказывали, от фронтовой ППЖ (слыхал небось: походно-полевая жена) дите имелось. Жив ли, помер ли Егор Ильич, не знаю. А Татьяна от рака года четыре как померла. Брат еще у Ийки имеется, в Мурманске живет. Я так полагаю, что Ийка к брату подалась.
Я поднялся с крыльца, попрощался с хозяином. Делать в деревне мне было больше нечего.
Возвращался я домой той же дорогой, хотя Цыган посоветовал мне сократить путь до автобуса болотной тропкой. Полуденная жара спала, но туча жгучих слепней не давала продыха, гналась за мной по пятам. Возле заброшенного скотного двора — бывшей Заозерской фермы — остановился на мгновение, оглянулся. Деревни уже не было видно, а Иин дом на горке еще виднелся. Узкие щели заколоченных окон отражали косые солнечные лучи, и казалось, что дом подмигивает мне — то ли насмешливо, то ли укоризненно.
ЮЛЬКА
Познакомился я с Юлькой года три назад. Начало лета было, тополиный пух на улице мальчишки поджигали. Вышел я из редакции, к столовой направляюсь перекусить. Иду мимо областного дома малютки, смотрю: из садовых кустов на меня живая куколка глазищи таращит. Садик, где куколка стоит, забором обнесен, вернее — сеткой железной, какой на птицефермах цыплят огораживают. Сетка зеленью переплетена, кустами облапана. Пробрался я сквозь кусты, присел перед девочкой на корточки. Платочек на ней «матрешкой» повязан, челка пшеничная из-под него выглядывает. Глазищи немигающие, зеленые, внимательные.
— Тебя как звать? — спрашиваю, а про себя прикидываю: можно ли из этой куколки фотоэтюд для четвертой полосы сделать.
Куколка на ножках нетвердо стоит, за сетку держится, однако отвечает:
— Юлька. — И еще что-то по-своему лопочет.
Достал я из кармана барбариску, что вместо папирос с собой ношу, угостил девочку. Потом футляр фотоаппарата расстегнул, выдержку прикидываю на глаз. Девочка конфету в кулачок зажала и говорит мне, то ли вопросительно, то ли утверждая:
— Папа.
— Да нет, — отвечаю, — я дядя.
— Папа, — куколка возражает.
Вдруг слышу за спиной чей-то голос:
— С кем это ты беседуешь?
Оглядываюсь — Павел Вениаминович стоит, наш заведующий промышленным отделом.
— Да вот, — отвечаю, — познакомился. Папой признала.
Присел Павел Вениаминович рядом, говорит:
— Дай-ка леденец, и я хочу папой быть.
Сунул он девочке конфетку, Юлька проворковала:
— Дядя.
— Ишь ты, пузырь какой разборчивый, — обиделся заведующий. — Ты обедать идешь? Поспешим, а то продавцы из универмага в столовую нахлынут.
Так и не сфотографировал я Юльку в тот день. Фотоэтюды не любят спешки, торопливости и когда под рукой кто-то стоит.
Спустя несколько дней иду я мимо областного дома малюток, Юльку вспомнил. «Дай, — думаю, — загляну к малышам, надо-таки фотоэтюд сделать». Раньше-то я в доме малюток частым гостем был. Придешь, в садике на крошечной скамеечке пристроишься с фоторужьем и охотишься за детскими забавами. Два моих фотоэтюда из дома малюток даже в союзный журнал проскочили. Но однажды знакомая нянечка, тетя Ксеня, шепнула мне по секрету, что поговаривают у них, будто охочусь я здесь не столько на малышей, сколько на новую их медсестру Аллочку. «Тетя Ксеня, — говорю, — Аллочка чудесная девушка, и нравится она мне, и виноват, конечно, что фотографию ее дал в газете без совета с заведующей, но чтобы такое подумать…»
«Верю, верю, сынок, — успокоила меня нянечка, — да злые языки страшнее пистолета. После твоей фотографии в газете к нашей Аллочке женихи табунками потянулись. Девке-то самое время свою судьбу устраивать, а ты женатый уже. Так что держись, сынок, от греха подальше и не пыли пересудами на девичьем пути».
Послушался я совета нянечки, стал дом малюток стороной обходить. И не только потому, что сплетен боялся, а уж больно неприветливо меня здесь заведующая встречала, Мария Сергеевна. Прямо скажем, большую вольность я допустил, когда, не посоветовавшись с ней, медсестру Аллочку сфотографировал для газеты. Конечно же, в областном доме малюток (где с грудного возраста живут и воспитываются под опекой государства дети, потерявшие родителей или брошенные ими) немалый коллектив трудится. В коллективе том многие врачи и медсестры по четверти века и более работали, Аллочка же — без году неделя. Та же тетя Ксеня трудовой стаж свыше пяти десятков лет имеет, а ни разу фотография ее в газете не была. Все это я понимал, но… У Аллочки одно громадное преимущество перед всеми было: красота и молодость! И еще — улыбка. Ради этой улыбки, честно говоря, и сфотографировал ее. Глянет Аллочка на вас, улыбнется зеленоватыми кошачьими глазами, и в голову мысль приходит, что никогда не стоит рано жениться. Вот эту обворожительную Аллочкину улыбку и подарил я, не согласовав свое действо с заведующей, всем читателям (главным образом мужчинам) нашей газеты. Позднее узнал: фотоснимок тот газетный для Аллочки судьбой стал. Сразила ее улыбка молоденького лейтенанта-отпускника, упал он перед Аллочкой на колени, и пошла она за ним на далекую окраину… Ленинграда.
Открываю калитку в сад дома малюток, захожу в царство малышей с некоторой неловкостью. Заведующая Мария Сергеевна под «грибочком» на песочнице сидит и сухо со мной здоровается (Аллочку простить не может). А вот кто обрадовался моему приходу, так это тетя Ксеня. Говорит она мне:
— Сейчас, сынок, пообожди немного, освобожусь я. Душеньку мы с тобой разговорчиками попарим.
Присел я на лавочке, фотоаппарат настроил, привел в готовность. Наблюдаю окружающую жизнь. Вокруг суета, суматоха. Нянечки с медсестрами грудных малышей из здания в сад выносят, солнечные ванны принимать. Укладывают их в кроватки, что рядами под кленами стоят, пеленки разворачивают. Малыши попискивают, ножки вверх задирают и словно педали на велосипедах крутят. Пощелкал я фотоаппаратом малышей с разных сторон, тетя Ксеня подошла, опустилась на лавочку и отдышаться не может.
— Ох, — говорит, — сынок, сил моих больше нет. Домой приду — руки отымаются. В мои-то годы таких бутузов таскать.
— Да, — сочувствую, — пора вам, тетя Ксеня, на отдых.
— Годы немалые, — соглашается нянечка, — седьмой десяток давно разменяла. Да не могу я, сынок, от малюток оторваться. Как подумаю, что останутся сиротинки без моего присмотра, сердце заходится. Вот, думаю, подрастут, поокрепнут, тогда уйду. Ан нет! Новые нарождаются, новых приносят.
Засморкалась нянечка, глазами покрасневшими заморгала, продолжает:
— Зато когда малютку в хорошую семью от нас берут, праздник у меня на душе. Помнишь Колечку, которого ты для газеты фотографировал? Чернявенький такой, букашистый? Мать его после родов умерла. Знаешь, кто усыновил?
— Кто?
— Цыган. Вот никогда бездетных цыган не встречала. А тут натуральный цыган заявился, с усами, в галифе. Говорю ему: «Как мы тебе дите отдадим, ведь ты цыган, тебя на одном месте арканом не удержишь, ты не оседлый». А цыган кричит: «Старая калоша, я в совхозе с послевоенных лет работаю! В партизанах был и Ленинскую медаль имею».
Отдали Колечку цыгану. Я его проведать в совхоз ездила. Цыган и впрямь мужик работящий оказался, положительный. На сенокос они ехали на коне конечно, куда цыган без коня. Колечка на телеге лежит в корзинище, чистенький, прибранный. А рядом коза. Женка у цыгана молодая еще, приветливая. Я их спрашиваю: коза-то на телеге зачем? Цыган отвечает: «Колю молоком поим». Так за телегой бы привязали, говорю. «Нельзя, — отвечает цыган, — от дороги у козы молоко портится, перегорает».
Слушаю я нянечку, чувствую — кто-то меня сзади за рубаху теребит. Оглядываюсь — та самая куколка с пшеничной челкой, которая меня папой признала. Юля!
— Здравствуй, Юлечка!
Смотрит девочка на меня серьезно, не улыбается, молчит. Забыла, значит. Навел я на нее объектив, а у малышки вдруг из глаз две громадные слезинки вывалились. Так и щелкнул я ее со слезинками на щеках.
— Спать хочет, — поясняет нянечка, — вот и не в настроении. Спала сегодня плохо, а так живая она, веселая.
Посадила она девочку к себе на колени. Девочка повертелась немного, побарахталась и задремала. Тетя Ксеня говорит шепотом:
— Сколько годов живу, а все удивляюсь: откуда такие матери берутся, что свое родное дите бросают? Сама-то я одна, без мужика, пятерых после войны на ноги поставила. Кажись, в военные-то годы труднее и быть не могло, а ничего, держались. А тут в нонешние времена от дите отказываются. Иная, подлая, загубить дите согласная, лишь бы самой веселее жить. Слыхал, в запрошлом году судили одну, которая дите свое в лесу под хворост упрятала? — Тетя Ксеня на любимую свою тему перешла.
— Нет, не слыхал.
— Как же так, не слыхал, — удивилась нянечка. — Весь город говорил. Три дня дите под хворостом лежало, а потом мужчина-грибник идет мимо, слышит — пищит кто-то под хворостом. Разбросал сучья — господи! Дите живое, спеленатое лежит! Нашли ту, подлую, в тюрьму посадили. А дите живое осталось.
— Не может быть, тетя Ксеня, — деликатно возражаю, — чтобы грудной под хворостом три дня прожил.
— А вот и прожил! — Глазки старухи радостно блеснули. — Она, подлая-то, посмотреть пошла ночью дите — помер или нет. Живого увидела, не выдержала — покормила. А грудь дала — шабаш! Материнская природа просыпается, ее не пересилишь. Каждую ночь бегала в лес дите кормить, потому и нашли живого…
Да ты, вижу, не веришь. Все вы так, молодые, — проворчала нянечка. — Вот ее-то, Юлю Касаткину, ведь тоже бросила мать, отказалась. Ну, знала я: родит иная обиженная, кричит: не надо ребенка! А грудь дала — и присмиреет. А Касаткина-то девочку принесла — полгодика ей уже было. «Забирайте», — говорит, и весь сказ. И объяснять ничего не стала мне. Бросила дите и ушла. Да помнишь, о Касаткиной этой газета ваша писала? С матерью своей они не ладят, как кошка с собакой живут.
Покачивает нянечка спящую девочку, просит:
— Ты малышку-то сфотографировал, вот и помести в газету. Может, мать ее карточку увидит, шевельнется у ней, подлой, душенька.
Поместить Юльку в газете не простым делом оказалось.
— Идея какая? — спросил ответственный секретарь, когда я ему фотографию девочки на стол положил.
Рассказал про сироту при живой матери, объяснил идею.
— Узковато, — поморщился секретарь, — идея твоя немногим читателям понятна будет.
Кое-как упросил секретаря. Напечатали снимок девочки в газете, на четвертой полосе дали как фотоэтюд, хотя на фотоэтюд он не тянул.
А на другой день заявилась в редакцию сама Касаткина, мать девочки. Не знаю почему, но я ее сразу узнал, догадался. Лицо у Касаткиной серое, землистое, острое все какое-то. Роста невысокого, худая, угловатая, правый глаз громадная бородавка прикрывает. Внешность, прямо скажу, не Аллочкина. И только глаза Юлькины: большие, немигающие, невеселые. Держится спокойно, но, вижу, изнутри дрожит волнением. К заведующему общественной приемной Виктору Ефимовичу обращается:
— Скажите, пожалуйста, где мне человека найти, который вот эту девочку фотографировал? — И протягивает заведующему газету.
Виктор Ефимович молча на меня указывает.
— Вы фотографировали? — Касаткина спрашивает.
— Я.
— Нельзя ли мне фотокарточку эту, я заплачу вам?
— Гражданка, дорогая, — отвечаю, — вы бы лучше в натуре на дочку взглянуть сходили. Это совсем недалеко отсюда и дешевле вам обойдется.
Ничего не ответила Касаткина. Повернулась молча и ушла. У меня даже жалость к ней шевельнулась, уж больно невзрачная на вид, болезненная. «Надо было карточки Юлькины ей отдать, — думаю, — зачем они мне?»
Виктор Ефимович вдруг Касаткиной заинтересовался, начал расспрашивать: что за женщина, зачем приходила, — будто мало ему своих посетителей. Рассказал ему что знал. Виктор Ефимович говорит:
— Помню, как же. Писали мы о Касаткиных. Правда, сам я этим делом не занимался, кажется, семейные ссоры. Но сам факт — ребенка оставила — трагичен. Вы, я слышал, к литературному делу тяготеете — вот вам и тема для рассказа. Познакомьтесь с этим делом, распутайте его для себя хотя бы. Факт редкий, но из него можно многое почерпнуть. Сам Достоевский, мне думается, подобным делом заинтересовался бы. Адрес Касаткиной у нас в журнале должен быть зарегистрирован. Посмотрите.
Наговорил мне Виктор Ефимович разных слов, расщекотал мое писательское самолюбие. Понимал я, конечно же, что Виктор Ефимович не столько о развитии моих литературных задатков заботится, сколько история самой Касаткиной его заинтересовала. Но решил сходить к Касаткиной. В конце концов, какому газетчику с редким человеческим типом познакомиться не интересно?
В пятницу, после работы, завернул все Юлькины фотографии в бумагу и пошел на Заречную улицу, где Касаткина жила. Не сразу, но нашел на Заречной улице нужный дом. Дом громадный, пятистенный, входные калитки высоким глухим забором разделены. Знаю уже, что Касаткина с матерью дом поделили, каждый сам по себе живет, но кто на какой половине, определить не могу. Одна половина у дома в зелени вся, в грядках, а другая голая, словно степь в засуху. Поразмышлял так и эдак, поприкидывал психологически, решил зайти на голую половину. И не ошибся. Дверь открыла сама Касаткина, но меня, видно, не узнала. В домашнем халате выглядела она еще более худой, ну в чем душа держится. А лицо порозовело и глаз под бородавкой поблескивает.
— Что надо? — спрашивает.
— Здравствуйте, — отвечаю, — принес вам фотографии девочки, вы просили.
По лицу Касаткиной тень пробежала, узнала, видно, меня. Посторонилась в дверях, приглашает:
— Заходите.
Захожу и что-то себя неловко чувствую. Чего, думаю, приперся в чужой дом, нос сую не в свое дело. Отдам сейчас фотографии и уйду.
Развернул пакет, фотографии на стол положил. Объясняю:
— Вот… принес на память.
Подошла Касаткина к столу, фотографии взяла, рассматривает, молчит. На снимках Юлька очень хорошо получилась. На одном — улыбается, на другом — в задумчивости, на третьем, что в газете был, — со слезинками на щеках. Глядит Касаткина на фотографии, лицо у нее подергивается, смотреть на нее неловко.
Вдруг женщина то ли проговорила что, то ли застонала. Отбросила фотокарточки, к шкафу метнулась. Дверцы распахнула, сумочку достает. Выхватила из сумочки деньги, бормочет:
— Возьмите, возьмите… — И сует мне их в руки, за фотокарточки, значит.
Повернулся я, пошел к выходу. Касаткина меня уже возле калитки догнала. За руку схватила и говорит просительно:
— Не сердитесь, спасибо вам. Не откажите еще в одном, зайдите на несколько минут.
Захожу снова в дом, но уже с лучшим настроем. Касаткина на стол чашку с яблоками поставила, бутылку вина из кухни принесла.
— День рождения у меня сегодня, — поясняет, — не откажите.
Ладно, думаю, видно, хочется тебе душу излить незнакомому человеку, расчувствовалась.
Пока Касаткина возле стола хлопотала, оглядел я незаметно комнату. Комната как комната: высокая железная кровать, шкаф платяной, стол, стулья… И хотя в три больших окна комната, сумрачно как-то в ней, все вещи словно пылью припорошены. Что радует глаз, так это громадный букет полевых цветов, стоящий в трехлитровой банке на окне. Такое впечатление создается: букет этот — единственная стоящая вещь в комнате.
— Пожалуйста, садитесь, — хозяйка к столу приглашает.
Поднял я стакан с вином, говорю:
— За день рождения ваш. За Юльку.
Хотела хозяйка что-то ответить, но промолчала. Пьет, а зубы о стакан постукивают. Допила вино и как-то опала вся, обмякла.
За окном потемнело вдруг, тучи наползли. Ветер развеселился, грохнул ставнями. Поднялась Касаткина из-за стола, подошла к окну, прикрыла ставни. Стоит у окна не поворачиваясь, молчит. Потом говорит тихо, будто про себя:
— В детстве видела двух счастливых людей. Представьте: лес, сосны-великаны небо кронами закрывают, земля зеленым ковром устлана. И ливень, страшный ливень при солнце. А они — мальчишка с девчонкой — спелый арбуз едят. Прямо горстями, и хохочут. Головы вверх задрали, серебристые капли ртами ловят, арбуз запивают. Только не помню, со мной это было или не со мной, во сне это видела или наяву, а может, в мечтах…
«Ах, так тебя, — думаю. — В полутора километрах от нее дочь покинутая плачет, а она мне здесь туману поэтического напускает, сантименты развешивает».
— О чем еще мечтать любите? — зло спрашиваю.
Оглянулась Касаткина, улыбнулась вдруг впервые, говорит негромко:
— О любви.
Меня даже холодком обдало. «Э… — думаю. — Уж не на меня ли ты прицелилась? А что? В доме никого. Не смотри, что страшненькая. Уж ежели с дочерью номер отколола, то на всякое способна».
Размышляю я так, за хозяйкой зорко посматриваю.
Отошла Касаткина от окна, произносит тихо:
— Вот и пришел день рождения. И с подарком…
Взяла она фотографии, на дочку смотрит, губы тонкие бесцветные покусывает.
— Красивая у меня Юлька. Да в песне поется: «Не родись красивой, а родись счастливой». А я вот и некрасивая, и несчастливая. О чем только не мечтают люди: о славе, о работе, о космосе, о деньгах. Я — о любви. Такой урод, как я, — и любовь. Правда, смешно? В школе меня «Квазимодой» прозвали. Миша прозвал, красивый мальчик, я в него влюблена была. На «Квазимоду» не обижалась, откликалась даже. А как подросли, стали меня все жалеть: и учителя, и ребята, и Миша даже… У меня свой мир был. Я в нем и Василисой Прекрасной была, и Золушкой. Потом Джульеттой, Татьяной Лариной, Карениной. А потом принц пришел. Показалось мне, что отец ее, — Касаткина на фотографию дочки кивнула, — на алых парусах ко мне приплыл. Да нет. Так… снизошел человек из любопытства. Вот она, — Касаткина вновь на фотографию кивнула, — может быть, найдет своего принца. Или сама под алыми парусами плавать будет.
Помолчала моя собеседница, вдруг спрашивает:
— Вы в бога верите?
Смотрю на нее, не могу понять: всерьез она это или шутит.
— Да нет, — сама отвечает, — вы здоровый и сильный. Такие только в эту жизнь верят. Это ведь тоже как красота и любовь — не каждому дается. Это все земного уродства грезы…
«Что она такое бормочет? — думаю. — Удружил мне Виктор Ефимович с Касаткиной. Пусть бы его пенсионеры сидели здесь и бред ее слушали».
Вдруг лицо у Касаткиной перекосилось, наклонилась она ко мне, глаза горят, побледнела. Шепчет страстно:
— И мой бог — жизнь! И у дочери моей — мой бог будет!
«Все, — думаю, — надо уходить. Видать, с «заворотом» дамочка».
Хозяйка словно мысли мои прочитала.
— Извините, — говорит, — вижу, вам домой не терпится. Захмелела я, заболталась. Историй вам разных чувствительных наговорила. Спасибо за компанию, за подарок.
Распрощался я, ушел.
Месяца через два-три, поздней осенью уже, иду по Заречной улице, дом Касаткиных увидал. Что-то в доме этом мне новым показалось. Пригляделся, вспомнил: забора нет, который входные калитки разделял, видать, с матерью помирилась. Не думал я заходить к Касаткиной вновь, а тут решил: зайду, авось не выгонят. В конце концов, что я за газетчик, если так и не узнал, в чем тут дело. Пора отвыкать от излишней стеснительности.
Прошел калитку, в дверь стучусь. Приоткрылась дверь, на пороге пожилая женщина. Во что одета была, не помню, но лицо ее навсегда в память врезалось. Чистое лицо, мраморно-белое, без морщин. Седые волосы гладко зачесаны и пучком к затылку стянуты. Глаза холодные, пронзительные, жутковатые. Смотрит на тебя, будто голый перед ней стоишь. Такое лицо я однажды на картине в Русском музее видел. Все боялся потом, что теща мне с такими глазами попадется. «Наверное, Касаткина-старшая, — думаю, — хотя вроде и не похожа на дочь».
— Извините, — шляпу приподнимаю, — здравствуйте. Могу я Касаткину видеть?
— Я Касаткина.
— Извините, мне надо, видимо, вашу дочь. Мать девочки Юли.
— Нет ее.
— Дома нет? — уточняю.
— Умерла Касаткина, раба божья.
Стою, слова женщины в толк взять не могу.
— Как умерла? Когда?
А хозяйка уже и дверь перед моим носом захлопнула.
Целый день под влиянием этой жуткой вести ходил. Никогда еще смерть малознакомого человека не производила на меня такого впечатления. Вспоминал свою встречу с Касаткиной, что говорила она, припоминал, как вела себя…
Вечером зашел в областной дом малюток, постучался в кабинет Марии Сергеевны. Извинился еще раз за Аллочку, говорю:
— Зря вы, Мария Сергеевна, меня за Аллочку упрекаете. Она самой красивой девушкой в нашем городе была, она своей красотой читателям нашим радость доставила. А сейчас прошу вас про некрасивую рассказать, про Касаткину…
Вот что рассказала мне Мария Сергеевна.
— Юлю Касаткину девочкой еще знала. В школе, где она училась, я врачом работала.
— Касаткину что, тоже Юлей звали?
— Да, Юлей. Она и дочери свое имя дала, знала, что умрет скоро. Больная она была неизлечимо. «Пусть, — говорит, — все же будет на свете Юлька Касаткина». Ей рожать нельзя было, я предупреждала ее. Не послушалась. Когда дочку к нам принесла, об одном меня просила: никому ничего не рассказывать. «Больше всего жалости людской боюсь, Мария Сергеевна, — говорит. — Люди даже представить себе не могут, как страшна мне их жалость. Коль природа и жизнь обошли меня щедростью своей, что поделаешь. Мне уже никто помочь не может, вы-то знаете. Я сейчас смерти так не боюсь, как жалости. Сломает она меня, раздавит».
Страшно гордая была девчонка. И все — сама, все — сама. Родители ее сектанты. Помню, в пионеры запретили ей вступать. Комиссия гороно к ним домой пришла. Так знаете, она что комиссии заявила? «Сама разберусь». Да, так и сказала: «Сама разберусь, куда мне вступать». Самостоятельная и умная была девчонка, эх, если бы не болезнь ее…
— Мария Сергеевна, а старшая Касаткина не может внучку забрать от вас?
— Нет. У нас есть письменное заявление Юли Касаткиной. Ее дочь будет воспитывать государство.
Когда я уходил от заведующей, в саду дома малюток царила суматоха. Сестры и нянечки собирали детей с вечерней прогулки, Лучи заходящего осеннего солнца сбивали с кленов налитые, разрумяненные листья. Весь сад был завален ими. В цветастом листяном ковре плескались малыши. Я поискал глазами Юльку. Увидел ее на качелях. Девочка взлетала в крошечной корзинке, а рядом с ней хлопотала тетя Ксеня. Нянечка притворно ахала и пыталась поймать, остановить корзинку. Юлька не давалась, приседала и, запрокидывая головку, озорно, заливисто хохотала.
НЕВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Это было в конце мая. Вызвал меня редактор к себе и говорит:
— Есть тонкое задание. В нашем районе уже несколько сезонов отдыхает известный академик. Заметьте, несколько сезонов, — редактор поднял вверх палец, — не в Крыму, не на Кавказе, не где-нибудь в Карловых Варах или на островах Италии, а у нас, в нашем районе. Улавливаете мысль?
— Улавливаю. Только чего же здесь удивительного? Римский-Корсаков в нашем районе отдыхать любил, и Мусоргский тоже. Художники Шишкин, Крамской, Савицкий считали, что красивее лужской земли мало мест на свете. А писатели Салтыков-Щедрин, Куприн, поэт Некрасов? Изобретатель радио Попов?
— Все это так, — отвечает редактор, — но это история. А назовите-ка вы мне знаменитость, которая провела бы свой отпуск в нашем районе за последние годы.
Подумал я, подумал и действительно ни одного масштабного имени вспомнить не мог.
— И вот представьте себе, — редактор вновь оживился, — даем мы в газете материал, ну хотя бы фотоочерк, о крупнейшем нашем ученом под заголовком «Только в Лужских краях». Улавливаете резонанс?
— Этот резонанс я каждое лето улавливаю. Дачники жизни не дают. В магазин придешь — очередь дачников, на базар — опять же к прилавку не протолкнуться. И все из-за дачников. По полтиннику за пучок лука дают, все хватают…
Редактор на мои слова внимания не обращает, свою мысль развивает:
— Я за этим академиком давно охочусь. Он по нашему району инкогнито путешествует. Только нащупаю координаты, его уже и след простыл. Сегодня узнал: академик в деревне Раковичи базируется. Вы, я слышал, родом из тех мест, значит, задача ваша упрощается, хотя о трудности и деликатности этого задания предупреждаю. Академик со странностями, журналистов за версту обходит, они ему, наверное, в Москве поднадоели. Если учует запах прессы — поминай как звали. Фотоочерк делайте, по возможности, «скрытой камерой». Познакомьтесь с ученым поближе. Узнайте, чем для него примечателен наш край, что его сюда притягивает. Академик страстный рыболов — с этого бока к нему и подходите. В вашем распоряжении два дня — суббота и воскресенье. Вы их всегда губите на рыбалку, так совместите на этот раз приятное с полезным. Действуйте.
Собрался я быстро. Привязал к велосипеду удочку, закинул за плечи рюкзак со снедью, повесил на шею старенький ФЭД, чтобы ученый сразу же привыкал к фотоаппарату, и кручу педалями по Киевскому шоссе.
От города нашего до деревни Раковичи километров одиннадцать-двенадцать. Кончается город на Лангиной горе. Останавливаюсь здесь перекурить. Когда-то, на моей памяти еще, на этом самом месте красивая церковь стояла, примечательная тем, что принимала в себя гроб с телом Пушкина на время смены лошадей в повозке. Потом в этой церкви наш городской музей располагался, где директорствовал школьный мой учитель рисования Валентин Иванович Зерцалов, потом церковь снесли и на ее месте пивной ларек построили. Ларек этот — великий соблазн для шоферов, курсирующих по шоссе. В жаркий день не каждый устоит перед кружечкой пивка, а ГАИ в засаде сидит и за действиями шоферов внимательно наблюдает. С горы на север и юг хороший вид открывается. По южному склону Лангиной горы в начале войны одна из оборонительных линий Лужского укрепрайона пролегала, того самого укрепрайона, который на сорок пять суток немцев под Лугой остановил и дал возможность Ленинграду к обороне подготовиться. Сейчас на южном склоне целый мемориальный комплекс сооружен, в который входит памятник ополченцам Балтийского завода; пушка-гаубица на постаменте, установленная здесь в честь артиллеристов Григория Федоровича Одинцова, впоследствии маршала артиллерии; старый законсервированный дот, траншеи. В северную сторону глянешь — вид на город открывается. Деревянные домики прячутся под шатром деревьев, многоэтажные дома толпятся кучками по щиколотку в зелени.
Вечереет. В отблесках заходящего солнца покореженный временем и осколками снарядов купол церкви светлеет, а домики исчезают в тени. На смену запаху разомлевшего асфальта наплывают волны цветущей черемухи. Ощетинившись удилищами, с треском проносятся мопеды, мотоциклы и легковые машины. Лужане спешат к вечернему клеву. Два велосипедиста — парень и девушка, — отпустив рули и обнявшись, дружно вертят педали. Две старушки, ждущие на остановке автобус, неодобрительно посматривают на них. Парень вдруг наклоняется к девушке, та вытягивает губы, и звонкий озорной поцелуй будоражит стариковское недовольство.
Бросаю сигарету, сажусь на велосипед и, захлебываясь вечерним парным ветром, мчусь с горы вниз. Испортил все-таки редактор мои выходные дни. Ну что это за отдых, когда над тобой висит редакционное задание. И какое задание! Академик! Да еще с гонором. Это не механизатор, не доярка, не рабочий, с которыми я привык иметь дело.
Кручу педали, любуюсь пейзажами. Места все с детства знакомые. Вон по той тропинке, что к озеру Череменец ведет, бегал я после войны в первые классы. Там, где она пересекает овраг, был небольшой холмик — могила неизвестного солдата. Много их было тогда, таких холмиков, в здешних лесах. У нас, пацанов, был обычай: проходя мимо этой могилы, снимать шапки. И только один — Колька Скачок не подчинялся общему правилу, шапку не снимал. Кольку били, но он твердо стоял на своем. Аргумент у него был веский: «А может, там немец лежит?»
Затем вечный сон солдата был потревожен. Прах защитников лужской земли переносили на городское кладбище. Лег в братскую могилу и наш солдат. Когда отрывали мы лесную могилу и грузили на телегу останки, красная звездочка на почерневшей пилотке развеяла наши сомнения.
Вон та старинная аллея от шоссе к деревне Колгановка ведет, что на берегу Раковского озера раскинулась, на котором моя завтрашняя рыбалка намечена. Упирается аллея в красный кирпичный особняк, бывший помещичий, в котором сейчас контора госконзавода размещается. У последнего колгановского помещика Курдюмова бабушка моя в горничных служила. Летом здесь покои барыни обслуживала, а зимой — в барском доме в Питере. Совсем недавно узнал, что бабушка моя питерским рабочим-забастовщикам помогала. Барыня Курдюмова очень любила свежие сливки и приказала две лучшие коровы зимой в Питере содержать. Ну, сливки снимали, часть молока выпивали, остальное выливали. Узнали про то забастовщики и попросили бабушку через деда (дед в порту грузчиком работал) остатки молока не выливать, а детям бастующих рабочих передавать. Так и делала она потихоньку от барыни.
И еще одно памятное для нашего рода событие связано с этой старинной аллеей. На ней, за несколько лет до войны, был убит мой дядя, брат матери. Убит тем самым бандитом Иваном Байковым, который позднее убил и Колю Яковлева, известного лужского пионера…
За воспоминаниями не заметил, как до деревни Раковичи добрался. Бабушка моя, у которой я в детстве здесь жил, давно умерла, но в деревне осталось у нас немало родственников. И мне повезло сейчас: «база» академика располагалась в старой бане тети Нюши, родной сестры моей бабушки. Тетя Нюша после войны, во время которой сгорел у нее дом (и вся деревня сгорела), переделала оставшуюся баньку под жилье. Потом вернулся с войны сын Валентин и построил новый дом, а баню стала тетя Нюша сдавать на лето дачникам. Мужа тети Нюши дядю Женю власовцы расстреляли за то, что помогал партизанам. Сын после войны выучился, уехал в Ленинград, работает сейчас конструктором на Металлическом заводе. Все три дочери повыходили замуж и тоже разъехались кто куда. Осталась тетя Нюша одна. Вернее, зимой одна, а летом полный дом гостей: то дочки с мужьями, внучатами, а теперь уже и правнуками, то сын, то дачники. Когда спит тетя Нюша, неизвестно. Чуть забрезжит рассвет, она уже стучит подойником, спешит козу доить. Коза у нее редкостная, вымя по земле волочится, иная корова позавидовать может. Да вот беда, царапает коза вымя. Придет вечером домой, а из вымени вместе с молоком кровь сочится. Тетя Нюша обмоет ей вымя теплой водой, смажет царапины йодом, разотрет вазелином. Начнет доить, а коза, как человек, стонет от боли. Доит тетя Нюша козу и плачет от жалости. Сын не раз говорил ей: «Да продай ты, мама, свою козу. И себя мучаешь, и меня. Приеду к тебе отдыхать, а нужно козе сено и веники заготавливать. Много ли тебе молока надо? Пол-литра в день у соседки купишь».
Тетя Нюша сыну не возражает, а козу не продает. Не накосит сын сена — она по вязанке козе на зиму веников наносит. Зато внучата приедут, всегда свое молочко имеется. А что может быть полезнее парного козьего молока?
Больше всего забот доставляют тете Нюше огород и сад. Сын и дочки в один голос твердят: «Зачем тебе, мама, огород? Ведь тебе картошки купить на пятерку — за зиму не съешь. Вышлем мы тебе деньги, не мучай себя, брось огород».
А тетя Нюша не может. Зимой вроде бы согласится, а придет весна, начнут соседи свои приусадебные участки пахать, у нее сердце кровью обливается. Достанет она из платочка трешницу, бежит к соседу: «Уважь, сосед, вспаши огород». А огород немалый — сорок соток. Картошку и посадить надо, и окучить, и прополоть, и выкопать. Целое лето мечется тетя Нюша по огороду, а года-то уже немалые, скоро восемьдесят.
В огороде еще яблони растут. Осенью с ними просто беда. Мало у кого в деревне такие вкусные яблоки. У мальчишек на эти яблоки зуб горит днем и ночью. Вот и приходится ей днем в ночью быть начеку. Днем-то еще ничего, а ночью худо. Несколько раз выходит ночью на улицу тетя Нюша и стучит палкой в старое ведро, мальчишек от яблок отпугивает. Да разве убережешься от мальчишек! Обтрясут яблоки и не столько унесут, сколько сучков обломают. Тетя Нюша каждый сломанный сучок бинтом перевяжет, глиной замажет и пуще прежнего с яблонь глаз не спускает.
Зато осенью, когда засыпана в подпол картошка, а яблоки уложены на чердаке, начинаются у тети Нюши радостные дни. Посылает она с оказией сыну в Ленинград мешочек картошки и яблок, дочкам тоже по мешочку. Несколько мешков везет на базар. Яблоки везти не торопится, зимой они дороже, не сгниют — каждое яблочко соломой переложено. От картошки да от дачников, а теперь еще и от пенсии, собираются у тети Нюши деньжата. Начинает она бегать по магазинам, внучатам подарки покупать. Кому шапочку меховую купит, кому — валеночки или костюмчик шерстяной. Костюмчик берет всегда на два, а то и на три номера больше. Вещь шерстяная, износится не скоро, на вырост брать надо. Разошлет подарки и заскучает. А как завоет во дворе снежная метель, тетя Нюша из дома почти совсем не выходит. Печку топит мало, дрова экономит. Оденется потеплее и сидит у окошка. Если уж совсем скучно станет, постелет в углу кухни соломы и приведет козу. Хотя и коза, а существо живое, с нею и поговорить можно.
Ждет тетя Нюша всегда двенадцати часов. В это время почтальон почту разносит. Раньше-то почтарка всегда мимо ее дома пробегала. Выскакивала тетя Нюша на крыльцо, кричала, чтобы посмотрела хорошенько в сумке-то, а почтарка в ответ только рукой махала. Теперь выписывает тетя Нюша нашу газету. Читать ее она не читает, в грамоте слаба, да и глаза без очков не видят, но теперь уже почтальон мимо ее дома не пройдет. Теперь тетя Нюша и бумагу газетную в хозяйстве имеет, и с почтаркой словечком-другим перекинется, и сама в ее сумке копается, а вдруг письмо от детей там затерялось. Но дети не балуют ее письмами, как, впрочем, и большинство детей не балуют письмами своих родителей.
Подъехал я к дому тети Нюши, что на горе возле самого шоссе стоит, открыл калитку. Старуха под окном сидит, между грядок. Протыкает она пальцем в грядке дырочки, потом с ладони семена какие-то берет и аккуратно их в дырочки сыплет. И так она увлечена этим занятием, что не слышит, как я подошел.
— Тетя Нюша, здравствуй.
Обрадовалась хозяйка, всполошилась, заохала. Повела в дом, молоком козьим потчует, компотом из сухих яблок. Выпил я молоко, съел компот, основные семейные новости поведал и говорю:
— Я к тебе, тетя Нюша, по важному делу от редакции.
Тетя Нюша маленькими глазками без ресниц хитренько заблестела:
— Никак, внучок, меня, старуху, в газету хочешь сфотографировать? А что? Я первой в колхоз вступила, корову сдала, телку. И сейчас еще хожу в совхоз помогать, если Петруха-бригадир попросит. И картошку перебираю, и полоть могу…
— И вправду, тетя Нюша, — я взял в руки фотоаппарат, — сфотографирую тебя как активную колхозную пенсионерку.
— Спасибо, внучок, спасибо, — тетя Нюша вдруг засмущалась, — стара я стала, некрасивая. Вот если бы годков пятьдесят, шестьдесят назад ты меня в газету поместил, тогда многие полюбовались бы. В молодости-то я не хуже той красавицы была, что во вчерашней газете у тебя сфотографирована.
— А ты, тетя Нюша, газету-то нашу посматриваешь?
— А как же, внучок, а как же! Читать не могу, а карточки твои смотрю. Только почему это у тебя на карточках все улыбаются? Помню, мы с мужем, царство ему небесное, в цирке были один раз и вместе с бабушкой твоей Екатериной Гавриловной. Так там зверь какой-то на хозяина напал. Хозяин ему палкой в морду тычет, назад пятится, а сам улыбается, будто весело ему. Вот и у тебя все улыбаются, вроде как в цирке.
— Это, тетя Нюша, «почерк» работы у меня такой. Люблю улыбающихся людей.
— Когда люди улыбаются, внучок, это и вправду хорошо. Только не все улыбаться могут. Я раньше-то тоже веселой была. Бывало, с какой работы ни приду, а заиграет гармошка — плясать первая бегу. А как расстреляли власовцы Женю, так и разучилась веселью…
Поговорили мы с тетей Нюшей, побеседовали. Ввел я ее в курс дела, ради которого приехал, попросил поподробнее рассказать все о дачнике — академике.
Старуха вдруг расстроилась.
— Всяких у меня дачников перебывало, ученые все люди, а таких не было. Не хотела я баню сдавать в нонешное лето, Валентин обещал приехать погостить с приятелем. Он любит в бане на сене спать. А ученый-то, Петр Петрович, с супругой Мариной Васильевной очень меня просили сдать баньку. Уж больно она им понравилась. Там все отдельно, никто не мешает, сами себе хозяева. Говорят: «За ценой не постоим, а приедет сын — освободим домик». А сами такие вежливые, обходительные. Пустила я их, они и деньги мне вперед уплатили.
— Так в чем же беда, тетя Нюша?
— Да деньги-то я истратила все. Шифер купила, крышу надо чинить, протекает.
— Но это же твои деньги.
Тетя Нюша вдруг замолчала, прислушалась. Спросила шепотом:
— Слышишь? Пилят дрова. За окном мерно чвыкала пила.
Тетя Нюша продолжала все так же шепотом:
— Утром пилят, вечером пилят. Все дрова мои, почитай кубометров десять, распилили, раскололи и сложили. Супруга Петра Петровича вровень с ним — и пилит, и колет. Воду мне носят, огород копают, грядки делают. Рыбу, что Петр Петрович поймает, почитай, всю мне отдают. Мне перед ними стыдно, будто не дачники, а работники у меня. Посчитала я, сколько делов они переделали, так половину денег вернуть им надо. А у меня и нет уже, все извела. Что делать — не знаю.
— Да не расстраивайся, тетя Нюша. Твои дачники так отдыхают, активный отдых называется. Это сейчас в моде. Ты им, главное, работенку соответствующую подыскивай. Пользуйся случаем.
Успокоил я старуху, предупредил, чтобы не раскрыла ненароком мое инкогнито, и пошли мы знакомиться с академиком.
Академик во дворе колуном орудует, березовые чурки колет. Размахнется колуном — хрясть — чурка со звоном разлетается пополам. Академик приземистый, в плечах широкий, на киноартиста Николая Крючкова смахивает, только с лысиной. Супруга его не успевает чурки устанавливать, сама беленькая, худенькая, как девочка.
Поздоровался я. Представила меня тетя Нюша как родственника, объяснила, что приехал из города порыбачить. Поговорили мы немного о погоде, еще о том о сем, и вижу, — Петр Петрович не прочь со мной и расстаться. Я и так и сяк, и истории разные занимательные рассказываю, о завтрашней рыбалке намекаю, дескать, места мне здесь знакомые, где рыбка водится знаю. Ничего не получается. Академик в дружеские отношения вступать не хочет и знай колуном помахивает.
Отошел я и думаю: чего приставать к людям? И им порчу настроение и себе. Не хочет ученый попасть в нашу газету — не надо. До сих пор, слава богу, и без ученых обходились. Так и скажу редактору.
Решил я так — и сразу успокоился. Занялся своим делом, подготовкой к рыбалке. Червей в огороде накопал, снасть рыболовную настроил, а потом молоток с топором взял и принялся тете Нюше забор повалившийся подправлять.
Дачники ее в это время своими делами занимаются: Петр Петрович у плиты на улице ужин готовит, а супруга его рядом в кресле соломенном сидит, читает. Я на них внимания не обращаю, они на меня тоже.
Ночевать устроился я на чердаке дома, на прошлогоднем сене. Тете Нюше сказал, чтобы меня не будила, сам проснусь, иначе старуха всю ночь спать не будет, уж больно она обязательная.
Перед рыбалкой какой сон! Полежал, поворочался с боку на бок, послушал, как внизу хрумкает коза, копошатся куры, и вставать пора. Вышел на улицу — туман кругом, прохладно. Ищу в крапиве банку с червями, найти не могу. Вдруг слышу шаги чьи-то и голос над собой:
— Утро доброе! Раненько вы поднялись…
Оглядываюсь — академик стоит с ведерком и охапкой удочек.
— Доброе утро! — отвечаю. — Вы тоже не проспали…
Отправились мы к озеру вместе. Идем темным лесом, Петр Петрович спрашивает:
— Вы где работаете?
— В редакции газеты, — отвечаю, — фотокорреспондентом.
Петр Петрович улыбнулся.
— Я почему-то так и подумал…
Рассказал я ученому о спецзадании редактора все откровенно.
— У меня, — говорю, — Петр Петрович, такое правило: не хочет человек фотографироваться для газеты — не надо. Иначе принесешь ему вместо радости неприятность. Вот как-то нужно было сделать мне снимок лучшей молодой швеи-мотористки. Пришел на фабрику, а швея фотографироваться отказалась наотрез. Сколько ни уговаривал — ни в какую. Ну, бывает, у девчонки на лице недостаток какой-нибудь: глаз косит или прыщ на носу вскочил, тогда понятно, почему не хочет. А эта дивчина — загляденье. Потом по секрету ее подруга объяснила мне, в чем дело. Оказывается, девушка эта познакомилась с парнем, инженером из «Сельхозтехники». Представилась ему студенткой Ленинградского университета. Пошутила, а теперь не знает, что делать. Шутка далеко зашла, а парень относится к ней серьезно, и она к нему неравнодушна. Каждую субботу садится Лена на автобус, доезжает до первой железнодорожной станции, а там пересаживается на поезд, идущий из Ленинграда. Приезжает в город «к маме на выходные», инженер ее на перроне с цветами встречает. Зимой с цветами! Теперь представляете, Петр Петрович, что могло быть, появись снимок Лены в нашей газете?
— Чем же закончилась эта история? — поинтересовался академик.
— Девушка сама рассказала парню все. Я их под Новый год в загсе фотографировал для газеты, и Лена нисколько не возражала.
А то был у меня другой случай. Отказался фотографироваться машинист торфоуборочного комбайна. Ну, думаю, не хочешь — и хрен с тобой. Слез с комбайна и зашагал своей дорогой. Вдруг, вижу, бежит машинист за мной, кричит: «Подожди, товарищ, передумал я». Подошел он, снял кепку, хлопнул ее с размаху о землю, будто в огонь прыгать собрался, и говорит: «Снимай! Только покрупнее и обязательно на первую страницу. И накрути, товарищ, побольше обо мне всяких красивостей. Накрути побольше, очень тебя прошу».
Вышла газета с портретом машиниста, а через несколько дней мне из милиции звонят. «Спасибо, — говорят, — за помощь. Ваш торфяник — беглый уголовник. Мы его давно разыскиваем».
— Что вы говорите! — воскликнул пораженный ученый и даже остановился от неожиданности. — Зачем же он тогда фотографировался?
— Мне и самому это было интересно узнать. Оказывается, когда оперативная группа выехала за «моим» машинистом, он повстречался им на пути, сам шел с чемоданчиком в милицию. А почему в газету решил попасть, это я узнал уже после суда. На Урале у него жила старуха-мать, которую он любил. У матери он был единственный сын. Старуха толком не знала, где сын, что с ним. Уехал после школы учиться в техникум, да так с тех пор и не приезжал. Приходили иногда матери переводы и письма, но все из разных мест. Соседи старухи были злые люди, изводили ее чем могли. Не знаю, как они про сына ее дознались, только стали ее попрекать сыном вором. А старуха не верила, что сын вор, все ждала его, плакала. Сын все это знал, вот и послал он матери кипу наших газет со своей фотографией. Письмо написал. Смотри, мол, мама, кто есть твой сын, и заткни этой газетой рот соседям. А меня, мол, сейчас, как лучшего молодого машиниста предприятия, посылают в длительную командировку за границу в молодые африканские государства, скинувшие с себя иго колониальной зависимости. Буду помогать им развивать торфяную промышленность. Вернусь годика через два, через три, домик тебе новый построю, вместе жить будем. Ты уж только крепись, старая, дождись меня…
До самого озера я академику байки из своей фоторепортерской практики рассказывал. К озеру подошли, Петр Петрович спрашивает:
— Вы как, с берега предпочитаете ловить или с лодки? Если с лодки — прошу со мной. С вами, вижу, не соскучишься.
Влез я в лодку академика, встали мы на якорь на прикормленном Петром Петровиче месте и… до самого захода солнца не до разговоров было. Академик истинным рыбаком оказался. Это, знаете, когда время за рыбалкой так быстро летит, что зуд сожаления во всем теле, и все на солнце посматриваешь — только бы помедленнее оно к лесу сползало, а мыслей в голове — никаких, полный мозговой отдых. Таскаем молча окуней хороших, плотву, подлещиков, а когда сорвется что покрупнее, червя на крючок насадить трудно — и у меня, и у Петра Петровича руки от волнения дрожат.
Зашло солнце, академик говорит:
— Шабаш! Теперь — костер. Уху будем варить.
Уху так уху. Пристали мы к берегу возле бывшей дачи Дойникова, самый красивый уголок на берегу Раковского озера. До войны в этой даче санаторий располагался, где моя мать медсестрой работала, после войны от здания дачи ничего не осталось, лишь каменный ледник сохранился. Сейчас на леднике бывшем деревянный этаж добавлен, проживает в нем лесник с семьей. А рядом с домом лесника смотровая противопожарная вышка стоит — высоченный столб с будочкой наверху. Дежурит на столбе этом уже много-много лет Вася Румяный из Ракович, любитель песни петь. В тихий вечер, когда рыбачишь на Раковском озере, песни Васи Румяного в любом уголке озера слышны.
Петр Петрович за день в лодке, видать, намаялся. Расстелил на земле плащ, прилег на него и сразу глаза прикрыл. Я наломал сучьев, развел костер, котелок с водой над огнем приспособил и принялся рыбу чистить.
— Помочь вам? — академик спрашивает.
— Не надо, — отвечаю.
Вечер тихий выдался, теплый. Соловьи в кустах заливаются, дергач где-то на поляне скрипит, за озером весенний тетерев булькает, и все это с вышки протяжная песня Васи Румяного покрывает.
— Кто это поет? — Петр Петрович спрашивает.
— Это поет, — отвечаю, — самый счастливый из людей, которых я знаю, Вася Румяный. Редко встретишь человека, который был бы в жизни всем доволен. У одного личная жизнь не ладится, у другого удовлетворения от работы нет или зарплата не устраивает, у третьего служебная карьера застопорилась или болезни мучают, а Вася Румяный всем доволен. Сколько помню его, всегда он веселый, ни на кого и ни на что не жалуется. Подлетит утром на своей старой «макаке» со скоростью пятнадцать километров в час к смотровой вышке, взберется на нее и целый день песни поет, оберегает лес от пожара.
Улыбнулся Петр Петрович, навзничь на траву откинулся, руки под голову заложил и лежит, на сосны смотрит. Потом спрашивает:
— У вас дети есть?
— Есть, — отвечаю, — сын. Только на рыбалку его со мной мать не часто пускает. Пусть, говорит, найдет себе увлечение поумнее. А я без леса и озера больше недели прожить не могу. Больной хожу, разбитый. Недавно квартиру в новом доме получили. Жена на стены картин разных навешала, эстампов. А я на степе листок повесил со стихотворением и строго-настрого наказал ей: не снимать. «Утро» Никитина. В субботу проснусь на рассвете. Жене с вечера слово дал, что проведем выходной день вместе, в кино сходим, к свояку в гости. Взгляну на листок, что над кроватью висит, и словно в поле предрассветное выхожу:
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака. Белый пар по лугам расстилается. По зеркальной воде, по кудрям лозняка От зари алый свет разливается. Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье вокруг. Чуть приметна тропинка росистая. Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг С листьев брызнет роса серебристая.Читаю я эти строчки, и, верите или нет, Петр Петрович, какая-то сила меня с кровати приподнимает и потихонечку в дверь выталкивает. Прихвачу удочки в сарае, на велосипед — и к озеру.
Вечером домой прибреду, жена уже не ругается, молчанием бьет. А я на листок свой смотрю.
По плечу молодцу все тяжелое… Не боли ты, душа! отдохни от забот! Здравствуй, солнце да утро веселое!И снова живу с хорошим настроением до следующего выходного дня.
— Никитина и я люблю, — говорит Петр Петрович, — это его стихотворение с детства помню…
Беседуем мы с академиком таким манером не спеша, и не заметил, как вода в котелке закипела. Стал уху заваривать.
Сварил уху, разложил снедь у костра на газетке, сидим, уху из котелка хлебаем.
Поел Петр Петрович и снова на траву откинулся. Лежит, молчит, в темнеющее небо смотрит. Васи Румяного «макака» протарахтела, домой с дежурства поехал, Я к озеру сбегал, котелок помыл и тоже к костру присел, сучья в костер подбрасываю.
Приподнялся вдруг Петр Петрович, взял в руку сук, угли ворошит. Вижу, волнуется, хочется ему излить душу малознакомому человеку, как это иногда в дороге бывает.
— Хотите, — говорит, — расскажу вам, что влечет меня сюда, в края эти, уже много лет? Не для газеты, конечно…
Я соглашаюсь молча.
Не переставая помешивать угли, Петр Петрович начал свой рассказ:
— Поженились мы с Мариной Васильевной, когда нам только-только по восемнадцати стукнуло. Трудные были те первые годы для нас, но и счастливые. Я на рабфаке учился, Марина на заводе работала учетчицей, а по вечерам тоже бегала в школу, седьмой класс заканчивала. Должен был у нас появиться ребенок. Но решили мы с Мариной до окончания учебы от детей воздержаться. Избавилась Марина от ребенка… Молодые были тогда, сильные, глупые. После этого не могла уже Марина иметь детей. Стала уходить из нашего дома радость. Марина места себе не находила, и мне ребенок, сын, просто необходим стал. Я его отсутствие почти физически ощущал. Жизнь пустой и ненужной казалась, тоску работой глушил, а избавиться от нее не мог. Подумывать даже начал, чтобы расстаться с Мариной…
Однажды встретил в Ленинграде школьную свою приятельницу Татьяну. С мужем Татьяна давно развелась, жила одна, и мы… Не стану вам про наши отношения рассказывать, скажу только, что родила мне Татьяна сына. Жили мы тогда с Мариной Васильевной под Москвой, а в Ленинграде я часто бывал в командировках… Да… Никитой назван ли. Татьяна никогда не препятствовала мне встречаться с ним. Смышленый рос мальчишка, рисовать любил, стихи начал писать…
Петр Петрович вдруг замолчал, прикрыл глаза и замер, опустив голову на грудь.
— А сейчас где ваш сын?
Мой собеседник встрепенулся.
— Когда война началась, Никите семнадцать исполнилось. С ополчением Балтийского завода, где Татьяна тогда работала, ушел сюда, под Лугу, укрепрайон строить. Здесь и погиб. Где лежит, не знаю, где-то в этих местах…
Я хотел спросить, знает ли Марина Васильевна про Никиту, но спросить не решился. Петр Петрович, похоже, к дальнейшему разговору расположен уже не был. Поджав ноги к подбородку, он не мигая смотрел на огонь.
Костер медленно догорал. Едкий дым, перемешиваясь с озерным туманом, заволакивал все вокруг белой пеленой. По-прежнему в кустах не умолкали соловьи, пел свою страстную весеннюю песню тетерев-полуночник, а игривые волны, перешептываясь, гонялись одна за другой по песчаному берегу и не давали дремать старым высохшим камышам.
«КРАСНЫЙ ТИГЕЛЬ»
У каждого сотрудника нашей газеты есть «свой», любимый завод, фабрика, совхоз. Почему любимый? Да потому, наверное, что там больше друзей, чем на других предприятиях, знакомо производство, знакомы люди. Сюда приходишь, как домой, и, вполне понятно, материал для газеты здесь «брать» много легче, и получается он добротнее и глубже. Фотокорреспондент в газете один, и потому приходится в равной мере бывать на всех объектах города и района без исключения. Но все же и у меня есть «свой» завод, тот самый «Красный тигель», о котором обещал рассказать поподробнее. С именем завода «Красный тигель» (сейчас — Лужский абразивный завод) связана не только история нашего города, но и история всей советской металлургии. В развитии цветной металлургии страны завод «Красный тигель» сыграл огромную роль. Лужские тигельщики с первых же дней создания завода немало попортили крови респектабельным господам Англии, Франции, Германии. Но особенно насолили они англичанину Моргану. Хитрый был англичанин, умный и богатый. Имел в Лондоне тигельные заводы. Заводы эти выпускали тигли — графитовые формы для плавки металлов, в первую очередь цветных. Производство тиглей — дело сложное и дорогое. Изготовляются они из графита, высокосортной глины и других компонентов. Затем обжигаются в специальных печах при высокой температуре и особом режиме. Составление тигельной массы и режим обжига тиглей являлись величайшим секретом. На заводе Моргана этот секрет знали всего несколько мастеров, преданных своему хозяину, как собаки. Но даже им не доверял капиталист. Когда мастера старились, он покупал им в далекой Австралии клочок земли, строил на нем дом и сплавлял мастеров туда, от греха подальше.
В то время как в западных странах (Англия, Германия) тигельное производство существовало веками, в России о нем ничего не знали. Цветные металлы на русских заводах плавились в кирпичных печах. Металл перегорал, терял свою стойкость, плавки стоили дорого. Лишь в XVIII веке, когда на Урале начала развиваться железоделательная промышленность, русские кустари-одиночки на Златоустовском заводе стали изготовлять тигли из графитсодержащей руды. Тигли эти были несовершенны, с трудом выдерживали одну-две плавки металла и, вполне понятно, не могли обеспечить развитие металлургической промышленности России.
Морган быстро смекнул, что в России на продаже тиглей можно погреть руки. Английские тигли поплыли в Россию, а из России в банки Моргана потекло русское золото. Затем англичанин решил упростить дело: построить в России тигельный завод и полностью монополизировать тигельное производство в этой стране.
Сказано — сделано.
В С.-Петербурге, на Выборгской набережной, открылся тигельный завод. Шикарная вывеска гласила; «Товарищество тиглей Морган и К°».
Но еще задолго до строительства завода в России тонкий нюх бывалого предпринимателя подсказывал Моргану, что в этой стране назревают революционные события, которые могут принести ему большие неприятности. Он решил обезопасить свои капиталы в России простым и, как показало время, единственно верным способом.
Управляющий заводом Моргана в С.-Петербурге Вольфман получил от своего хозяина четкие, лаконичные, отшлифованные опытом вековой эксплуатации колоний, инструкции. Первое и самое главное: секрет производства. О рецептуре тигельной массы должны знать самые верные и надежные люди, два-три человека. Рабочий должен знать только свою операцию и ничего больше. Всякую конкуренцию душить всеми силами и средствами, ни в коем случае не допустить развитие русского тигельного производства.
«В вашем арсенале большой выбор средств борьбы, — наставлял Морган своего управляющего, — одно из самых верных средств — взятка. Денег на это не жалейте. Давайте взятки всем, кто будет вам мешать, кто может быть вам полезен. Запомните: мелкие взятки честные люди не берут, большие взятки берут все. Опасайтесь русских рабочих…»
В это самое время, когда Вольфман почтительно выслушивал сентенции своего шефа, в грязные воды Темзы вошел пароход, прибывший из далекого С.-Петербурга. На палубе, кутаясь в длинный прорезиненный плащ, стоял кряжистый парень. На могучей шее плотно сидела большая, словно бы сплюснутая с висков голова. Массивный нос, широкий подбородок, будто вспухшие бугристые надбровья, из-под которых поблескивали затаенные глаза, — таким предстал перед лондонцами в этот день Иосиф Каспржик — обрусевший поляк, рабочий Балтийского завода в С.-Петербурге.
Что привело его сюда, в далекий чужой, незнакомый город?
Несколько десятков лет спустя на лужском заводе «Красный тигель» состоялось торжество, посвященное мастеру Иосифу Станиславовичу Каспржику, который был представлен к ордену Красного Знамени. Вспоминая эту свою поездку, Каспржик рассказывал:
— Было мне тогда двадцать восемь лет. Поехал в Лондон. Хотел узнать секрет производства моргановских тиглей и организовать их производство у пас в России.
Но молодой рабочий тогда не представлял себе всю трудность задуманного дела. Поездка в чужую страну казалась ему интересной, увлекательной прогулкой.
Сойдя с парохода на набережную Темзы, Каспржик пересчитал свой «капитал». От двухсот рублей, которые ему удалось скопить для поездки, осталась половина. Остальное ушло на билет, паспорт, справочники. «С чего начать? Куда пойти? Где пристроиться на ночь?» — с такими мыслями бродил он по Лондону. Увидел польский костел. Зашел. Старый ксендз, услышав польскую речь, расчувствовался, приютил парня, а на следующий день познакомил его с рабочими-поляками. Кое-как удалось полякам пристроить своего собрата на работу. Стал Иосиф Каспржик развозить на тележке по Лондону булки. Заработок — двенадцать шиллингов в день. При его аппетите этого с трудом хватало на завтрак. Деньги, скопленные в России, таяли. Вскоре лишился он и этой работы. Правительству Англии не удалось обеспечить работой своих подданных, какое ему было дело до «туристов». Жизнь поворачивалась к Каспржику самой черной своей стороной. Но парня не оставляла мысль: «Попасть на тигельный завод Моргана».
Часами бродил он вокруг мрачных заводских стен. Ему повезло. Один из служащих завода взялся за «мзду» порекомендовать его на работу. (На завод можно было попасть только по рекомендации.) Карманы Каспржика полностью и надолго опустели, но зато он добился своего: попал на завод Моргана.
Первое время Иосифу казалось, что он работает с глухонемыми. Люди трудились молча, изредка перекидываясь од-ним-двумя словами. Разговорчивых увольняли. Если мастер замечал, что кто-то интересуется операцией, его не касающейся, человека увольняли немедленно. Если заглянул в другой цех — получи расчет. Даже если у тебя слишком пытливый взгляд, тебя под любым предлогом сплавляли с завода. Рабочий должен знать только ту операцию, к которой приставлен, и ничего больше. Это правило действовало на заводе Моргана неукоснительно.
Пожалуй, только сейчас Иосиф Каспржик понял, как трудна его задача: разгадать секрет производства тиглей.
Работа, которую он стал выполнять, была несложна — развозить в тачке шихту — массу для приготовления тиглей. Каждый вечер, уходя с работы, Иосиф уносил в карманах крошечные кусочки шихты, глины, графита. Придя домой, бережно перекладывал все это в спичечные коробки, надписывал и прятал. Если кто-нибудь заглянул бы вечером в его каморку, то решил бы, что перед ним сумасшедший. Сидя за столом, перед ржавыми лабораторными весами, приобретенными у старьевщика, Каспржик что-то записывал в тетрадь. Неожиданно со стола на пол летели портсигар, пепельница, кружка. Бросив предметы, парень тут же кидался их подбирать. Потом он тщательно взвешивал каждый предмет на весах и, заглядывая в тетрадь, хмурился или улыбался. И так час за часом, изо дня в день. Вскоре Каспржик достаточно точно мог определить вес любого предмета, побывавшего у него в руках.
На заводе уже привыкли к неуклюжему увальню, вечно спотыкающемуся, теряющему то портсигар, то носовой платок, то пуговицу. Будто невзначай задевал локтем Каспржик весы, на которых отмеривал мастер компоненты шихты. Гири падали. Каспржик быстро поднимал их и, обдаваемый сочными ругательствами мастера, равнодушно отходил, глуповато улыбался. Мастер не мог и предположить, что вес этих не имеющих маркировки гирь, побывавших в руках у парня, определен с точностью до нескольких граммов.
С каждым днем заносил Каспржик в свою тетрадь все новые и новые записи, схемы, чертежи. Но до раскрытия тайны производства тигля было очень и очень далеко. Скоро случилось то, чего Иосиф боялся больше всего. Он попытался, заглянуть в формовочный цех. Кто-то заметил его. Ровно через десять минут мастер вручил ему конверт с расчетными деньгами и насмешливо приподнял шляпу: «Вы свободны, сэр!»
Началась прежняя скитальческая жизнь. Каспржик бродил по Лондону в поисках работы. Возвращаться в Россию было нельзя: нет денег на билет, да и не хотел он так легко сдаться, отказаться от своей мечты.
В 1903 году, скопив немного денег, Иосиф Каспржик едет в Германию, в Гамбург. Теперь его цель — попасть на тигельный завод Розена, который долгое время безуспешно пытался конкурировать с Морганом.
В Германии на завод Розена Каспржик попал точно так же, как и на моргановский, — за взятку. Мастер-немец потребовал, чтобы бо́льшую часть заработка Каспржик отдавал ему. Только на этих условиях он соглашался принять парня на завод. И Каспржик принял эти бесчеловечные условия.
На заводе Розена порядки были помягче, чем на моргановском. Каспржик стал работать в бригаде печников, изучал кладку обжигательных печей. Ему даже удалось тайком снять копию с чертежей печи. Затем он стал работать в формовочном отделении, а через полгода его перевели в заготовительный цех…
Настал наконец долгожданный день. По трапу на гранитную набережную Невы сошел, бережно держа в руках чемоданчик с образцами, первый русский мастер тигельного производства Иосиф Станиславович Каспржик. К Балтийскому заводу Каспржик отправился пешком — на извозчика денег не хватало.
Компаньоны для организации производства тиглей нашлись быстро.
Каспржик занялся поиском участка, на котором можно было бы построить завод. В 1904 году он прибыл в Лугу. Место ему понравилось. Земля здесь была дешевой, кругом чистый сосновый лес, сухие песчаные почвы, а главное — Луга находилась сравнительно недалеко от балтийских портов: Риги, Ревеля (Таллина), Петербурга. Ведь сырье для тиглей — графит и глину — нужно было возить из-за границы.
Участок был выбран Каспржиком у самой железной дороги. Приехали компаньоны, одобрили выбор и подписали купчую. «Обмыли» покупку в привокзальном буфете. До глубокой ночи гудел буфет от пьяных криков и песен. И только Иосиф Каспржик был в этот вечер невесел. Ему вдруг показалось, что он взвалил на себя непосильную ношу. Груз нелегко прожитых лет уже начал давить на его широкие плечи гнетущей тяжестью. Рано засеребрились волосы, по лицу побежали морщины, а задуманному не видно конца. И кто знает, что еще придется претерпеть, прежде чем его тигли пойдут на русские заводы. Да и пойдут ли? Не слишком ли он размахнулся? Что ему нужно от жизни?
Еще не начав «дело», он уже попал в кабалу к компаньонам. В музее завода хранится копия выписки из договора, заключенного Каспржиком с компаньонами:
«Выписка из договора. С.-Петербург. 1904 года. Сентябрь, 11 дня.
Мы, нижеподписавшиеся: Иосиф Станиславович Каспржик, Леопольд Осипович Гиндпер и Михаил Осипович Баранский, согласились устроить и эксплуатировать в России завод для выделки тиглей.
Для этой цели на общие наши средства на имя двоих из нас — Каспржика и Гиндпера в г. Луге на углу Боровичского переулка, Тверской и Маркизской улиц куплен участок земли площадью 730 кв. сажен и на нем, также на общие средства всех нас троих, возведены необходимые заводские постройки.
За недостатком средств к завершению задуманного предприятия, мы пригласили к участию в нем на правах потомственного почетного гражданина Мелитона Антоновича Баланчивадзе…»
Все «средства» Каспржика, о которых упоминалось в договоре, заключались в его знании секрета тигельного производства. В договоре говорилось, что секрет производства тиглей является общим достоянием Товарищества. Иосиф Каспржик не имеет права передать его другим лицам, не может продать его.
Так, еще не успев разбогатеть, Каспржик, по сути дела, лишился того, что добыл годами каторжного труда и лишений.
С бешеной энергией взялся он за организацию завода. Вскоре была возведена заводская постройка с обжигательной печью. За границей закупили партию цейлонского графита. (Цейлонский графит был лучшим по тем временам. Морган имел на Цейлоне графитовые разработки, и его заводы работали только на этом графите.)
Шла русско-японская война. Тиглей в стране не хватало. Даже Морган не мог обеспечить спрос на них, хотя его завод в Петербурге и лондонские заводы работали на полную мощность. Но и в этих условиях царское правительство не заинтересовалось русским Товариществом по производству тиглей. Они были предоставлены самим себе.
Все же Каспржику удалось создать первый русский тигель. И тигли эти ничем не уступали моргановским.
В протоколе хозяйственного коменданта Патронного завода от 7 апреля 1909 года, за № 1184, говорится:
«…Тигли выдержали каждый по 28 плавок, надо считать, что они дали результаты испытаний хорошие…»
Военное министерство управления генерал-инспектора артиллерии в выписке от 16 февраля 1910 года сообщало:
«Тигли русского завода на опытах в Тульском и СПб. патронных заводах оказались мало уступающими заграничным…»
Управление вагоностроительного и механического завода «Феликс» сообщало товариществу «Первый русский тигельный завод»:
«В ответ на ваше письмо от 10-го мая с. г. № 719 сообщаем, что качеством доставленных вами нам тиглей мы вполне довольны».
Русский тигель был признан. Но никто и пальцем не шевельнул, чтобы помочь русским мастерам. А рядом был Морган.
К Каспржику заявился посланец Вольфмана, управляющего моргановским заводом, с толстой пачкой, перевязанной красной тесемкой. Каспржик деньги взять отказался.
Морган понизил цены на тигли.
Товарищество затрещало по всем швам. Даже денег почетного толстосума Мелитона Баланчивадзе не хватало, чтобы конкурировать с Морганом.
Каспржик пытался что-то делать, улучшал качество тиглей, пытался расширить производство.
К началу 1913 года товарищество возвело пристройку к производственному корпусу, добыло старый нефтяной движок и обратилось в Лужскую городскую думу с просьбой дать согласие на расширение завода и пуск движка. Дума приняла «соломоново» решение: разрешить завод расширить, запретить пуск движка, «дабы не коптил и не мешал дачникам и всем проживающим поблизости мещанам».
Морган вновь снизил цены на тигли и улучшил их качество. Товарищество стало тонуть. Выпуск русских тиглей, по сути дела, прекратился.
Второе рождение завода началось в 1925 году. В этом году мелкие полукустарные предприятия Луги объединились в промкомбинат. В числе этих предприятий был и тигельный завод: закоптелое, заброшенное здание мастерской без окон и крыши да кирпичная труба обжигательной печи, выглядывающая из груды развалин. Директором промкомбината был назначен Диомид Андреевич Корман. В гражданскую войну Корман командовал полком, был награжден орденом Красного Знамени. Многие лужане до сих пор вспоминают его. «Обаятельный» — это редкое, выходящее из употребления слово мне пришлось не раз услышать от бывших друзей Диомида Андреевича.
Корман был не только обаятельной личностью, но и энергичным, деловым человеком. Он прекрасно понимал, что значит отечественное тигельное производство для растущей металлургической промышленности страны. Морган по-прежнему процветал. Его завод в Ленинграде, на Выборгской набережной, не был национализирован и весело дымил трубами. Русское золото продолжало плыть в заграничные банки.
Коммунисты промкомбината во главе с Корманом решили: восстановить тигельный завод и наладить выпуск отечественных тиглей. Но с чего начать? В ленинградских институтах, куда обратился он за помощью, ни одного человека, мало-мальски знакомого с тигельным производством, не нашлось. Корман вернулся в Лугу и, посоветовавшись с секретарем уездного комитета партии Быстровым, решил искать Каспржика. Нелегкое это дело — искать человека по всей стране, не зная адреса. И все же Корман нашел пионера русского тигельного производства. Иосиф Станиславович Каспржик жил в Новороссийске, работал в ремонтных мастерских. Неприветливо встретил старик посланца из Луги. Слишком много сил и жизни отдал он тиглям. Ничего из этого не вышло. Начинать все сначала не было желания.
Старик был упрям, но упрям был и Корман. Да разве и мог Иосиф Каспржик всерьез отказаться от того, что ему предлагали?! Ведь ему предлагали осуществить свою мечту. Вместе с семьей он переехал в Лугу и уже в августе 1926 года изготовил вручную четыре тигля. В течение двух недель эти тигли испытывались на заводе «Красный выборжец» в Ленинграде. Производственное совещание литейного отдела завода «Красный выборжец» в решении от 31 августа зафиксировало:
«Испытание тиглей Лужского завода показало весьма хорошую устойчивость против тиглей фабрики Моргана, продукция которого в последнее время по качеству своему крайне низка и убыточна для завода».
Лужские тигли выдержали в три раза больше плавок, чем моргановские.
Морган забеспокоился. Он понимал, что сейчас не те времена, что вновь зарождающийся тигельный завод в Луге не останется без поддержки.
К Иосифу Каспржику прибыл новый посланец управляющею моргановским заводом. Посланец был осторожен. Беседовал со старым мастером с глазу на глаз. Никто толком так и не узнал, о чем они разговаривали, что предлагал моргановский представитель Иосифу Каспржику. Сам Каспржик никому не рассказывал об этом. Был он по натуре молчалив (а может быть, жизнь научила его не бросаться словами). В работе любил, чтобы понимали его с полуслова, по кивку головы, по движению бровей.
Мне удалось узнать содержание этой беседы. Работая над очерком о заводе «Красный тигель», я отыскал адрес сына Каспржика и побывал в Ленинграде, на тихой Коломенской улице. Здесь, неподалеку от Московского вокзала, в старинном кирпичном доме до недавнего времени жил сын Иосифа Каспржика — Станислав.
Станислав Иосифович искренне обрадовался мне — гостю из Луги. У сына Иосифа Каспржика были широкие плечи, густая, но совершенно белая шевелюра и умные глаза. Он хлопнул руками по своему внушительному животу, воскликнул с неподдельной искренностью:
— Вот повезло! Собеседника бог послал. А я здесь один от скуки изнываю — второй месяц на пенсии…
Видимо, Каспржик действительно соскучился по собеседнику. Говорил он много и охотно.
— На пенсии, знаете ли, тоже нужно учиться, как жить. Хорошо тому, кто какое-нибудь увлечение имеет, или, как сейчас говорят, второе призвание. Ну а если нет увлечения, нет призвания? Тогда как?
Я обвел рукой громоздившиеся повсюду картины, ворохи рисунков, набросков, спросил:
— У вас-то, как видно, есть увлечение?
— Балуюсь с детства. Только не способствует сие увлечение рассасыванию вот этого накопления, — Станислав Иосифович вновь похлопал себя по животу, — да и сердечку тяжело.
Продолжая говорить, хозяин принялся не спеша накрывать на стол.
— Семья наша небольшая, «классическая» по нынешним временам: мы с женой и сын. Сын недавно Лесотехническую академию окончил.
— Не женился еще? — поинтересовался я.
— Женился. Жена пока еще учится. В аспирантуре…
За чаем разговор коснулся Иосифа Каспржика. Станислав Иосифович помедлил, потом подошел к шкафу и достал папку.
— Здесь записи отца. Прочтите, если интересуетесь.
Я осторожно листаю пожелтевшие страницы. Читаю на выбор:
«Россия хотя и была для меня плохой родиной, но я не нашел ее ни в доброй старой Англии, ни в аккуратной, чистой Германии. У Морганов, Розенов была, у меня — нет. Свою Родину мне еще предстояло найти, открыть, завоевать…»
— Отец не раз пытался описать свою жизнь, — проговорил Каспржик, — ведь он много разного повидал на свете. Не получалось. Я помогал ему, вместе писали, но… — Станислав Иосифович грустно улыбнулся, — писать не так-то просто даже о своей жизни. Этому тоже нужно учиться. Отец весь упор делал на детали, на мелкие факты, на штрихи. Они давили на него, не давали возможности широко оглядеться. Помню, особенно часто вспоминал он, как встретил однажды в Англии после долгих мытарств земляков-поляков. Обрадовался до слез. Кинулся обнимать. Те тоже расчувствовались, руки жмут, по плечам хлопают, смеются. Один к груди отца припал, оторваться не может. У отца в галстуке брошь была, подарок деда, семейная реликвия. Он с ней никогда не расставался. Так вот: земляк, что на его груди елозил, эту брошь зубами вытащил…
Из таких вот эпизодов и состоят записи отца. Уж очень они его ранили. Всю жизнь кровоточили воспоминания. Он ведь по натуре был доверчивый и честный, но жизнь больно стегала его за это, учила и заставляла надеяться только на себя.
— Станислав Иосифович, осенью тысяча девятьсот двадцать шестого года в Лугу к вашему отцу приезжал человек от моргановского завода. Вам известно содержание их беседы?
— Как же, как же, — оживился Каспржик, — для отца это было памятное событие. Представитель моргановской фирмы предлагал ему место мастера на заводе в Ленинграде и пятьдесят тысяч рублей золотом за уход с лужского завода.
— И что же ответил на это предложение ваш отец?
— Ничего не ответил… Знаете ли, пятьдесят тысяч золотом — очень большие деньги, а отец хорошо знал цену каждому рублю и, чего греха таить, мечтал разбогатеть. Деньги не были для него самоцелью. Отец считал, что, имея их, он не будет ни от кого зависеть, останется наконец наедине сам с собой, со своей семьей…
— Но что же все-таки он ответил? — нетерпеливо переспросил я собеседника.
Станислав Иосифович, будто не слыша, колдовал над пузатым цветастым чайником, заваривая чай, и продолжал:
— Тогда в Луге, на заводе, у нас впервые появились друзья. Это были рабочие, с которыми отец изготовлял свои тигли, мастера, техники. Особенно близко сошелся отец с Диомидом Андреевичем Корманом. Диомид Андреевич стал первым и настоящим другом нашей семьи. Потом я часто задавал себе вопрос: что сблизило отца, уже немолодого и замкнутого, с этими людьми? Ведь он всегда сторонился их. Ответ был один: работа. Многие, с которыми он трудился, работали не только за деньги. Да, они радовались каждому заработанному рублю, но свой труд они оценивали не только в рублях и копейках. Вместе с отцом они по две смены не выходили из цеха. Часто их никто не просил делать это, тем более не платили сверхурочных, вернее, нечем было платить. А сколько было радости, когда пришла новость, что их тигли оказались лучше моргановских! Это была радость творчества, а не радость заработка. Отец всегда очень тонко различал это в человеке. Порядочность, мастерство, трудолюбие — вот качества, по которым он оценивал людей. «А деньги, — говорил отец, — нужны только для того, чтобы не приподнимать шляпу перед ничтожествами, от которых зависишь».
Знаете, у отца была огромная ручища, — вдруг круто изменил разговор Каспржик и, сложив свои ладони вместе, добавил: — Вот такая. Руки его никогда не отмывались набело от въевшейся в поры шихты. Человек Моргана, что сидел у нас в доме, помню, все сгибался и разгибался перед отцом, будто молился сидя, и бормотал: «Место мастера и пятьдесят тысяч золотом, место мастера и пятьдесят тысяч золотом». Это был его основной аргумент.
Отец слушал, молчал. Потом вдруг сложил пальцы в громадный кукиш и поднес к носу представителя. Хотите — верьте, хотите — нет, — Станислав Иосифович усмехнулся, — представитель, как кот, нюхнул кукиш, а уж потом стал пальтишко напяливать. Когда он ушел, отец сказал: «Ну, сын, теперь я стал самым богатым человеком. Ведь даже Морган никому не покажет «дулю», которая стоит пятьдесят тысяч золотых рублей», — и засмеялся. А смеялся он редко…
Успешное испытание первых советских тиглей заставило лужских тигельщиков подумать о расширении тигельного производства. Но где взять сырье, оборудование? На помощь, как всегда в трудные минуты, пришла природная смекалка рабочего человека. На колбасной фабрике нашли старую мясорубку — приспособили ее для мешалки шихты. Сфантазировали мельницу, развес, пресс. Дело пошло.
Труднее было с сырьем. Отечественного сырья не было. На моргановский завод графит по-прежнему доставлялся с острова Цейлон, где у англичанина были свои разработки.
Завод обратился за помощью в иностранный отдел ВСНХ. Лицензия Моргана была урезана, и за счет моргановских поставок Лужский тигельный завод получил графит. Но это была капля в море. Необходимо было срочно искать отечественное сырье.
Корман выехал в Москву. Там он узнал о Ботогольском месторождении графита в Сибири, где еще до революции французское акционерное общество вело разработки графита для карандашной промышленности. Карандаши — не тигли. Но все же…
«Попробуйте, — сказали в Москве Корману на прощание, — на то вы и фантазеры».
Но даже лужским фантазерам не удалось изготовить стоящие тигли из карандашного графита.
Закупили для Лужского завода цейлонский графит в Германии. Заплатили золотом. Когда графит прибыл в Лугу, мастер Каспржик долго и подозрительно мял его пальцами. По внешнему виду графит ничем не отличался от цейлонского, но чутье подсказывало другое.
Принес Каспржик кислоту, керосин, воду и еще какие-то бутылки с жидкостью и здесь же, на месте, произвел анализ. Вывод был невеселый: «Нас надули. Графит не цейлонский, а баварский, карандашный».
Как оказалось впоследствии, агенты Моргана не дремали. Это была их работа.
Завод обратился за помощью в Москву. В Москве решили вновь урезать лицензию Моргана в пользу лужского завода. Лужане с нетерпением ждали графит. Из Лондона уже пришла телеграмма:
«Закупаем для вас графит».
И вновь неудача.
В Лондоне на советское торгпредство и торговое общество «Аркос» совершено нападение, организованное английскими реакционерами. Торговые отношения Англии и СССР прекратились. Графит для лужского завода был передан в Германию. На запрос о судьбе графита оттуда пришел ответ:
«Ваш графит вследствие наводнения затонул в Гамбургской пристани».
Наконец завод все же получил партию цейлонского графита. Иосиф Каспржик соорудил себе у станка деревянный топчан и сутками не выходил из цеха. Мастер экономил каждый грамм графита. Попробовал разбавлять импортный графит ботогольским (сибирским). Качество оставалось хорошим. Тигельщики повеселели. Добавляя в цейлонский графит ботогольский, они могли почти в два раза давать больше тиглей, чем поначалу предполагали.
К этому времени была построена новая обжигательная печь. Ленинградский губернский отдел местной промышленности помог приобрести заводу двигатель, новую дробилку, мешалку, станки. Завод оперялся, становился на ноги.
В начале 1928 года очередная партия лужских тиглей поступила для испытаний на заводы Ленинграда, Тулы и других городов.
Морган понимал, что для него в России наступили черные дни, что скоро ему придется убираться отсюда, но делал все возможное, чтобы хоть как-нибудь замедлить наступление советского тигля. В ход были пущены все средства борьбы: подкуп, шантаж, вредительство.
С Кольчугинского завода, где испытывалась партия лужских тиглей, пришло тревожное сообщение:
«Лужские тигли во много раз хуже моргановских».
Корман срочно выехал на Кольчугинский завод.
При первом же беглом осмотре использованных тиглей он убедился, что здесь действовала чья-то злая рука. Тигли были деформированы, края их обломаны. Ясно, что при работе применялись более узкие клещи, чем были нужны. Ему удалось выяснить, что перед испытаниями лужских тиглей не выполнялись элементарные меры по хранению и подготовке их к плавкам. Тигли хранились под открытым небом, в некоторых он обнаружил даже замерзшую воду. Перед работой тигли не закалялись в горне, а некоторые, наоборот, перегревались до того, что графит выгорал, они становились белыми и разваливались при первых плавках.
Корман потребовал повторного испытания. Некоторые мастера и инженеры возражали против этого, ею Корман добился своего. Повторные испытания дали отличные результаты.
А как прошло испытание лужских тиглей на других заводах?
Вот некоторые документальные отзывы на продукцию лужских тигельщиков:
Завод «Большевик».
Справка от 9 февраля 1928 года.
«При испытании лужских тиглей в работе они оказались не уступающими довоенным моргановским и гораздо лучше моргановских концессионных: лужские тигли выдерживают 20 плавок на бронзе (в среднем), а концессионные моргановские — 6 плавок».
Завод «Красный путиловец» писал:
«Сообщаем устойчивость графитовых тиглей: лужские на чугуне выдержали 2—4 плавки, на меди — 7—10 плавок.
Моргановские — на чугуне — 1 плавку, на меди — 4 плавки».
Хорошие вести шли и с других заводов, где испытывались лужские тигли. Продукция Лужского тигельного завода завоевывала симпатии самых закоренелых недоверов, всю жизнь работавших с импортными тиглями.
Морган решил дать решающий бой лужскому тиглю.
Он снизил цены на свою продукцию.
Интересно проследить снижение цен на тигли по годам. До 1926 года, то есть до создания Лужского тигельного завода, цена одной марки тигля (марка — единица измерения, равная объему 1 кг расплавленного металла) была у Моргана 35 копеек. В 1926 году — 20 копеек, в 1927 году — 13 копеек, в 1928-м — 12 копеек.
Раньше, не имея конкурента, Морган сбывал советским заводам тигли, которые выдерживали всего 4—5 плавок и даже меньше. Он сознательно снижал качество тиглей, суррогатировал свой цейлонский графит дешевым карандашным, применял глины низкого качества и делал другие темные махинации, которые ему давали громадные барыши.
Теперь он вынужден был резко улучшить качество своих тиглей. Но эти меры уже не могли спасти Моргана от краха.
Лужский тигельный завод был уже не кустарем-одиночкой. На помощь ему пришла вся страна. Расширялись производственные площади, устанавливалось новое оборудование, которое слали ему заводы со всех уголков страны.
Керамический институт, институт «Механобр», институт прикладной химии и другие научно-исследовательские учреждения занялись поисками отечественного сырья для тигельного производства.
Начались опыты по обогащению графитовых руд Ботогольского, Завальевского, Мариупольского, Старо-Крымского и других месторождений.
Открывались и испытывались новые месторождения огнеупорных глин.
С каждым днем лужский завод увеличивал количество тиглей, поставляемых металлургическим предприятиям страны, хотя продукция эта по-прежнему состояла наполовину из импортного сырья.
Морган решился на крайний шаг.
В конце 1928 года он закрыл свой завод в Ленинграде, предварительно скупив лучшую огнеупорную глину в Союзе, а свой цейлонский графит, хранившийся в заводских складах, припрятал.
С невиданной щедростью рассчитывал управляющий заводом рабочих и мастеров. Каждый из них получил денежное содержание за десять лет вперед. За это увольняемые давали своему хозяину письменное обязательство — в течение нескольких лет не работать на керамических предприятиях Советского Союза, и в первую очередь на Лужском тигельном заводе.
Расчет английского капиталиста был прост. Морган еще надеялся, что неокрепший лужский завод не сможет обеспечить тиглями запросы цветной металлургии страны. Это создаст кризис во многих отраслях производства, и русские будут вынуждены вновь обратиться к нему, Моргану. И тогда он снова пустит в ход свой завод в Ленинграде, но с одним условием: завода в Луге не должно быть никогда.
Трудно поверить, чтобы такой опытный и бывалый делец, как Морган, искренне верил в реальность этих своих мечтаний. Но у него не было другого выбора, это был его последний шанс…
После закрытия английского концессионного завода в Ленинграде лужским тигельщикам пришлось нелегко. Потребовалось вдвое увеличить производство тиглей, а сырья не было. Поиски отечественных графитов и огнеупорных глин шли успешно, но на освоение новых месторождений требовалось время, а тигли заводам нужны были сейчас, немедленно, каждодневно.
Заводская лаборатория «Красного тигля» превратилась в «главный штаб» по изысканию сырья.
Технический руководитель завода Иосиф Станиславович Каспржик дневал и ночевал здесь. Директор завода, главный инженер, мастера забыли, где их кабинеты и конторки, и перебрались в лабораторию. Здесь же по утрам, перед сменой, в обеденный перерыв и вечером собирались рабочие. Курили и думали: «Из чего завтра будем делать тигли?»
Думали и придумывали.
Если бы Морган или его мастера узнали, что завод в Луге изготовляет свою продукцию из его использованных, битых и горелых тиглей, они, конечно, не поверили бы. Но это было так.
Во дворах заводов-потребителей за десятилетия скопились целые горы тигельного лома. В лаборатории «Красного тигля» нашли способ извлечения части графита из этого хлама. Началось строительство специального цеха по переработке тигельных отходов и использованных тиглей.
Теперь, отгружая заказчику очередную партию своей продукции, тигельный завод обязывал его немедленно присылать в адрес Луги весь имеющийся у них бой тигля.
Заводские умельцы изготовили приспособление для очистки горелых тиглей от окалины и металла, сконструировали дробилку, смонтировали в цехе флотационный аппарат с центрифугой для флотирования отходов графита.
В короткий срок цех был построен и пущен в ход. Из черепков старых тиглей лужане стали извлекать до 25 процентов отличного графита. Этот графит не только шел для суррогатирования импортного, из него можно было уже изготовлять высококачественные тигли.
Резерв сырья был найден.
Ввоз импортного графита в СССР резко сократился. Это дало стране громадную экономию, ведь за графит платили золотом.
Ну а каким было качество этих первых советских тигельных изделий после ухода Моргана из Ленинграда?
Лужские тигли выдерживали до ста с лишним плавок металла. Это в десять раз больше, чем в лучших моргановских тиглях.
Изделия «Красного тигля» быстро завоевывали себе добрую славу. С каждым днем уменьшалось количество импортного сырья в изделиях лужских тигельщиков.
В 1933 году завод полностью перешел работать на отечественное сырье.
Работая над очерком о заводе, я натолкнулся в архиве на небольшую брошюру, изданную в 1933 году редакцией «Крестьянской правды» (так первоначально называлась лужская районная газета). Лужские журналисты подготовили и напечатали отдельным изданием воспоминания тружеников завода «Красный тигель». Воспоминания эти интересны прежде всего тем, что они написаны непосредственными участниками борьбы за советский тигель. Люди рассказывают о своем труде просто, буднично. Вспоминают, какую получали зарплату, что готовили тогда на обед в заводской столовой, как нелегко приходилось в первые дни работы на заводе. Но работали и делали тигли не хуже, а много лучше моргановских.
Для меня как газетчика воспоминания эти интересны вдвойне. Читая их, я вижу не только самоотверженный труд людей завода, но и труд моих коллег — районных журналистов тридцатых годов. Они подготовили эти материалы. Они сумели сохранить индивидуальность авторов — рабочих, мастеров, инженеров. Язык этих материалов порой коряв, грубоват, засорен профессионализмами, он царапает читателя, будоражит его, но не гладит, не усыпляет. Сравнение этих материалов с сегодняшними нашими газетными материалами, отшлифованными и отутюженными, порой не в пользу последних. Эти материалы — трудовая летопись завода за первые пять лет. Вот некоторые из них.
КАК МЫ СТАВИЛИ ЗАВОД
(Воспоминания)
А. Васильев, слесарь завода
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Когда я в 1926 году поступил на завод, то его нельзя было назвать заводом. Это была просто небольшая кустарная мастерская. В помещениях стояли две небольшие обжигательные печи, которые очень редко были в действии. Рядом с этими печами была крохотная сушилка, в которой тоже была пустота, в третьем помещении, площадью метров в 40, было размещено механическое оборудование для производства тиглей. Стояла главная трансмиссия метров 12 длины. Она производила движение мешалки и передавала на другую трансмиссию, которая производила движение трех формовочных станков и одного пресса. Тут же стояли три обделочных станка.
Вот при этом-то оборудовании завода начали мы производство тиглей. Выработка была не особенно велика, но в рабочий день мы отформовывали до двенадцати тиглей, иной раз и меньше.
Позднее была установлена еще одна неусовершенствованная графитовая мельница и бегуны для размола кварца.
В старом деревянном помещении, пристроенном к кирпичному зданию, находился трепаный «Экваль», который, проработав два часа, требовал часовой остановки на ремонт.
Главный цех по замешиванию массы находился в то время на чердаке под крышей. Там же стояла и глиномельница.
Под руководством механика Антипова стали мы устанавливать трехгрузные вальцы под открытым небом на деревянных столбах. Здесь пришлось потрудиться. Все же вальцы были установлены, и проба была сделана, хотя над их установкой нам пришлось пробиться до двух с половиной месяцев.
К вальцам нужны были еще детали — элеваторы. Сделали элеваторы и бурат, и на вальцах дробили советское сырье.
Вскоре мы получили заказ — сделать большую механическую мешалку, а материала не было.
Механик стал искать котельного железа, взамен железа нашел три трубы, которые пришлось с большим трудом выпрямлять, загнуть корпус мешалки. Корпус согнули, потребовались угольники и другие части — их не было.
Мы, рабочие, работали не складывая рук. Растачивать большую шестерню было негде, не было частей. В кладовой завода нашли два поломанных токарных станка (в одном станке была передняя бабка, а в другом станке был только корпус). Все части пришлось растачивать сложными приемами. Мы на одном из станков поставили два подшипника, а в подшипники включили трансмиссию, на конец вала надели половину шестеренки и с другого станка подвели суппорт и стали растачивать шестерню. Таким же способом расточили остальные части мешалки.
Мешалка была закончена и сдана в эксплуатацию в апреле месяце 1928 года.
В настоящее время у нас таких мешалок работает три, четвертую начали делать, но уже более усовершенствованную. Прежних трудностей нет. Завод разросся.
А. Тимшина, работница
РОДНОЙ ЗАВОД
На завод я пришла четыре с половиной года тому назад. Мне сейчас уже 57 лет. За это время я видела очень многое. Мы, рабочие, понимаем, что тигли нужны стране, знаем, что за моргановские тигли приходилось переплачивать золотом.
Несмотря на свой преклонный возраст, я выполняла план с другими рабочими, боролась за высокое качество наших тиглей.
Первое время было тяжело. Работали без нужных машин — просто руками. Но работали мы с подъемом. Я работала по размолу глины в течение четырех часов. Первое время это делалось кустарно, но все же я одна обслуживала участок работы, ежедневно выставляя по 30 и больше мешков размолотой глины.
Завод вырос на моих глазах. Постепенно завозились машины, новые станки, оборудование. Строились новые корпуса.
За это время я сроднилась с заводом, чувствую себя здесь, как дома.
Когда я пришла на завод, из женщин работали только двое — я и Мария Харитонюк. А сейчас женский труд внедрен во всех цехах: женщина в фасонной, у станка, у машины — на сложных работах, вровень с мужчиной.
Это большая победа. Наша женская победа.
Вступая на завод, я получала 32 рубля, а сейчас — 80 рублей. На заводе оборудована столовая. Обеды дают хорошие, чаще с мясом. Получаю продукты по I категории, имею ударную карточку. А раньше как было, и вспомнить тошно. Не хочется. Одно расстройство. При батюшке-царе я частенько ложилась спать голодной. Простоишь день за лоханкой белья, придешь домой, а тебе и есть нечего.
Сейчас мы решили вывести завод в передовые. И мы добьемся этого. Поднажмем на станки, уничтожим прогулы, бесхозяйственность, будем учиться, осваивать технику. Развернем соцсоревнование, станем ударниками. Лучших рабочих — старых производственников будем готовить в партию. А с партией мы победим.
К. Фишер, мастер
НАША ПОБЕДА НАД МОРГАНОМ
Поступил на завод в 1928 году. Начал работать на замеске массы. Через неделю перевели на формовочный станок.
В течение двух лет прошел через закатку и обивку массы, пока не сделали формовщиком.
На формовке работали в то время еще только два станка. Рабочих на них было занято по три человека на станок, два человека работали на прессе и три в отделке. Для изготовления массы работала мешалка, а пробную массу приготовляли топтанием ногами. Времена для завода были тяжелые. Рабочий день определен был в 8 часов. Но наша работа не укладывалась в это время. После дневной работы вечерами мы выгружали мешалку, подготовляли массу для следующего дня.
За эту сверхурочную работу мы не требовали оплату, так как знали тяжелое финансовое положение и считали предъявлять такие требования преступлением. Все работали дружно, чтобы добиться победы над Морганом.
Условия работы были трудные, но жалоб со стороны рабочих не слышалось, — все понимали, что сразу дело нельзя наладить. Мы понимаем, что если будем предъявлять большие требования в тот момент, когда решалась судьба завода, мы будем играть на руку Моргану.
На собраниях, которые рабочие посещали очень аккуратно, наши руководители постоянно ставили нас в известность о положении завода и как проходит борьба с Морганом.
В администрации мы видели товарищей, которые, не разыгрывая из себя начальников, вместе с нами жили и работали на производстве.
Рабочие активно участвовали в улучшении и развитии завода, вносили свои предложения, каждый кусочек массы берегли и собирали, как крупицу золота.
Рабочие берегли производство.
Мы сами были учениками и учителями, помогая друг другу в работе. Через мои руки прошло более двадцати человек в течение двух лет, которых я обучал закатке, сбивке, формовке.
На сбивке требовалась четкая работа и большая затрата физической силы, выносливость. Не всякий выдерживал эту работу, и, посбивав два-три дня, иные просили перевода на другую работу.
Сейчас я уже работаю мастером по шаблону.
В 1929 году производство расширилось, пустили два новых формовочных станка в верхней формовочной.
Раньше мы делали тигли только от 80 до 130 марок. В 1929 году стали вырабатывать тигли больших размеров и фасонные (марки А-300 с носом).
Возникло ударничество. Прослышав, что на ленинградских заводах работают как-то по-новому, по-ударному, мы разузнали об этом как следует и решили у себя тоже ввести новые формы работы. Собралась группа в восемь человек, которые объявили себя ударниками и поставили себе задачей как можно больше производить и как можно лучше. Я был один из этой группы. Мы соревновались станок со станком. У нас не было письменных договоров. Мы просто каждый день, приходя на работу, давали себе урок сделать столько-то тиглей: другой станок подхватывал и выдвигал бо́льшую норму. Или, например, я брался и показывал закатку одновременно на двух станках.
С введением ударного способа работы производительность наша значительно возросла.
До ударничества вырабатывали 30 тиглей стомарковых, не больше, а после вырабатывали и 80, 100, и больше.
За такую работу нас премировали то деньгами, то промтоварами. Я лично был премирован 8 раз. Также был премирован за 4 рационализаторских предложения по мешалке, по прессу, по сбору и переработке разбрасываемой массы в сырье.
С организацией бригад и введением хозрасчета в 1931 году производительность еще больше возросла. А ударничество и соревнование охватило весь завод.
У нас была твердая и умелая партячейка, благодаря которой мы были хорошо сплочены вокруг завода.
Завком работал слабее, в особенности по части культурно-просветительной работы. Но когда он поднабрал сил, по-разжился средствами, он стал деятельным руководителем производственной жизни.
Если уж мы смогли пережить те трудности, которые были в первые годы существования завода, и сумели побить Моргана, то сейчас под руководством партии побьем морганов и на мировом тигельном рынке.
И. Сорокин, рабочий, ныне зав. ОТК
МАСТЕРОМ МЕНЯ СДЕЛАЛ ЗАВОД
Когда я пришел на завод «Красный тигель», я еще не имел представления, что это за производство, знал лишь, что это единственный завод в СССР.
В 1927 году поступаю я на завод. Завхоз Дядечко повел меня по двору завода, привел к какому-то сарайчику, показал пачки листов кровельного железа, дал концов, вареного масла и говорит: «Вот это все нужно выкрасить». Ну и принялся я за работу во дворе. Шпарю без закурки. Листы из окованных пачек после олифы складываю в груду на перекладинах.
Время проходит незаметно. Вижу, ребята выползают из завода и кричат: «Эй, дядя, на обед!» (Гудка в заводе не было, потому что работала не паровая машина, а маленький нефтяник.)
Столовая представляла из себя жилую комнату с маленькой перегородкой, где ребята получали по литру молока и располагались обедать, некоторые подогревали обеды на плите в коридоре. Потом читали газеты, в которых были завернуты завтраки.
На следующий день я опять продолжаю красить листы железа, смотрю, у меня вырастает куча не меньше вчерашней, а обеда еще нет. Не знал, что в субботу обед на 2 часа позднее, а день, в целом, короче.
После выходного дня меня перебросили уже под заводскую крышу, раскатывать шамотовую массу возле маленькой обжигательной печи. Здесь я столкнулся с рабочим-коммунистом тов. Федоровым, от которого узнал, что на заводе имеется только два коммуниста и никаких организаций не существует, за исключением его самого, как профуполномоченного.
На следующий день меня передвинули в так называемую главную мастерскую, катать тигельную массу для набивки коробок вручную. В главной мастерской, на вальцах, на графитовой мельнице, на обжиге работало девять человек и одна уборщица.
Труддисциплина была крепкая, все приказания мастера Каспржика И. С. исполнялись беспрекословно.
Не имея своей партячейки, нас, трех коммунистов, прикрепили к заводу «Свобода», где мы посещали собрания и партшколу 1-й ступени. Учеба для меня была полезна, так как до сих пор работал все время в деревне.
В это время, октябрь — ноябрь 1927 года, когда мы доказывали, что завод может делать советские тигли, мы имели всего один малосильный «Экваль», одну маленькую мешалку, 2 формовочных станка, 2 обделочных станка, 2 сушилки, одна из них предварительная, 3 обжигательных печи, одна из них маленькая, а третья совершенно малюсенькая, тигля на 3—4, для проб.
С этим оборудованием и не имея сырья начали мы борьбу с Морганом за советский тигель.
После меня приняли на завод еще несколько товарищей. Кадр рабочих подобрался неплохой.
У коммунистов завода в числе трех человек и четвертого тов. Кормана, как управляющего комбинатом, возникла мысль еще больше окоммунизировать завод. Для этого необходимо создать партячейку на самом заводе. Для усиления ячейки к заводу прикрепили из комбината тов. Кормана и Сакович, из окружных организаций — тов. Пойш, и 10-го ноября 1927 года состоялось первое организационное собрание ячейки, на котором выбрали бюро ячейки, членом которого был и я.
На первом же заседании бюро обсудило вопрос о создании заводского комитета, и уже 26-го ноября 1927 года на заводском собрании рабочих и служащих был избран заводской комитет. Председателем избрали меня. Зародились уже две организации на заводе. Завком по своей линии начал организовывать добровольные общества (МОПР, Осоавиахим, «Безбожник» и др.). Вскоре организовалась комсоячейка и не осталось ни одного рабочего, который бы не был втянут в партийно-комсомольскую и общественную работу.
На заводе сработалась тесная семья, которая и явилась фундаментом завода.
Вскоре завод стал выпускать стенгазету (впоследствии эта стенновка выросла в постоянную печатную газету «Штурмовка»).
Проходит трудный 1927 год. Завод тигли делать научился по качеству лучше, чем фирма Моргана. Заказы крупных заводов, «Красного выборжца» и других, стали увеличиваться.
Пройдя несколько разных работ, меня ровно через шесть с половиной месяцев поставили на отделку тиглей. Я стал получать уже 62 рубля.
В июне месяце секретаря партячейки тов. Федорова командируют на стекольный завод «Торковичи», а мне пришлось принять дела партячейки. Партячейка руководила производством. Не проходило ни одного собрания, где бы не обсуждали коммунисты важнейшие вопросы о сырье и укреплении тигельного производства.
В октябре на съезде я избираюсь членом окружного союза коммунальщиков.
Продолжаю работать на производстве. Меня ставят на сбивку массы, — ты, мол, теперь здоровый. И это выдерживаю, не сдаю ни на нитку.
Находясь секретарем партячейки, чувствую себя политически малоразвитым, записываюсь в вечернюю совпартшколу, просиживаю на ученической скамье два вечера в неделю по 4 часа. Несмотря на это, не снимались и другие партийные и союзные нагрузки.
В Ленинграде завод Моргана, чувствуя свою гибель, делает разные маневры, стараясь задушить советский тигель. Снижает цены на свою продукцию, а потом и вовсе закрывает завод, думая, что Советская власть придет к нему с поклоном.
Но он просчитался. В советский тигель уже верили.
После закрытия завода Моргана мы поняли, что нам придется снабжать всю цветную металлургическую промышленность Советского Союза. Стали расширять цеха.
В начале 1929 года работаю обдельщиком, уже получаю зарплату 87 рублей в месяц и являюсь техническим агентом, так как Каспржик И. С. уехал на курсы в керамический институт. Мне, как замещающему его, приходится бывать на ленинградских и других заводах в литейных цехах с пробными партиями тиглей. Отношение заводских администраторов было не вполне благоприятное, несмотря на то что большая часть рабочих-литейщиков были очень довольны советским тиглем.
В 1929 году состоялся суд над фирмой Моргана в Ленинграде за взяточничество. Я присутствовал в народном суде в качестве слушателя два дня. На суде выяснилось, что Морган уплатил зарплату рабочим за 10 лет вперед (по закрытии завода) с таким условием, чтобы только не пошли работать на Лужский тигельный завод.
На заводе рабочие все больше втягивались в общественную работу. Лучшие рабочие-ударники подавали заявления о приеме в партию. Осенью 1929 года было подано коллективное заявление десяти человек рабочих о приеме их в партию. Парторганизация завода проникала все глубже в цеха. В 1931 году ячейка возросла до 40 человек (не считая тех товарищей, которые ушли, выдвинутые на советскую работу). Ячейка своевременно будировала районные, окружные партийные и советские организации при всяких перебоях с сырьем.
Меня направляют в Ленинград, на курсы рабочих ударников-рационализаторов. Пробыв на курсах 6 месяцев, возвращаюсь долгой. Меня ставят сменным мастером. Нажимаем на все педали, выполняем программу с превышением на 10 процентов.
За выполнение плана 1930 года получаю премию.
Закрепившись за заводом до конца пятилетки, считаю это недостаточным и закрепляюсь на всю жизнь.
П. Антипов, механик завода
ЛУЖСКОЕ ЧУДО
Заводская труба. Полуразрушенный небольшой корпус с выбитыми стеклами. Кучи строительного хлама и мусора.
Вот картина, которую я увидел, когда пришел на завод «Красный тигель» в июле 1926 г. для устройства первой мешалки.
На бывшем заводе не было никаких остатков оборудования, и мы не представляли себе, какую нужно сконструировать мешалку, в каком виде, каких размеров. Решили мешалку делать в Ленинграде. Мне поручили сконструировать ее.
Мешалку сделали в срок и привезли в Лугу. Для испытания мешалку загрузили в 8 часов вечера. Проработали около часа. К ужасу присутствующих товарищей, смешивания массы не получилось — мешалка оказалась негодной.
Работников завода охватило недоумение: как же так? И уже было приступили к составлению акта о непригодности конструкции мешалки. Я, ее конструктор, вмешался в это дело. Меня задело за живое. Чувствуя на себе ответственность, решил дело довести до конца.
Огорченные (и, наверно, мало верившие в мои надежды) тов. Корман и Каспржик ушли с завода. Я остался. Твердо решил: не уйду, пока не налажу машину.
По винтику разобрал всю мешалку, допытываясь причину неудачной работы. Ранним утром обнаружил причину, устранил неправильность монтажа.
С помощью рабочих загрузил мешалку. Пустил в ход. Было 8 часов утра. Бросаюсь к телефону:
— Диомид Андреевич, на завод скорее идите!
— Что такое?
— Там узнаете. Мешалка заработала, — радостно кричу я в трубку.
Я не спал всю ночь. Не ушел с завода и днем. Готов был не спать и следующую ночь, чтобы видеть, как работает первая советская мешалка на первом советском тигельном заводе. Это мои личные переживания, но их испытывали тогда все, для нас была близка участь зарождавшегося завода.
Этой мешалкой была сделана масса для первой партии 50-марковых тиглей, отличившихся своей невиданной стойкостью (до 103 плавок) и заставивших Моргана пересмотреть и повысить качество своей продукции.
Хорошие были люди на заводе. Упорные, настойчивые, по-большевистски взявшиеся за работу.
Вот, к примеру, нынешний технический директор завода Каспржик И. С. Старый мастер на его месте сидел бы в мягком кресле и выслушивал доклады подчиненных, обдумывал свои личные интересы. Пришлось мне видеть таких директоров в старое время. А этот директор, по уши замаранный графитом и тигельной массой, собственноручно работал на мешалках, на прессе, на станках. Срочно обучал, готовил первые кадры рабочих. Не знал кабинета. Бессменно у станков. Всегда в напряженной, наряду с рабочими, работе.
Вот другой наш товарищ — Тимшина А. И. — старая, но нестареющая по производительности труда работница.
Харитонюк — ласковая, заботливая для всех рабочих, лучшая ударница производства.
Звонарев — машинист, преданный своим двигателям.
Дядечко А. Л. — примерный хозяйственник, и другие незаметные герои — творцы советского тигля.
Я. Лисса, рабочий
ПУТЬ ЗАВОДА — НАШ ПУТЬ
На завод я поступил в 1928 году. Работал на замеске массы и графитовой мельнице. В одном помещении с графитовой мельницей были размещены пальцы и бегуны для размола кварца и дробилка. Пылища во время работы была невероятная. Друг друга не видели. Ходить приходилось ощупью.
С графитовой мельницы перешел на сбивку. Работа хотя и не в пыли, но физически тяжелая, болели руки.
Через три месяца выдвинули на формовку.
С установкой нового формовочного станка для выработки больших фасонных тиглей меня перевели на этот станок.
Я бессменно проработал на самых ответственных тиглях вплоть до октября 1931 года. В этом месяце меня выдвинули на должность сменного мастера.
Сам я по происхождению чех, в Россию попал в 1916 году как военнопленный. На родине меня так же эксплуатировали, как и в России при царском режиме. Били, как скотину.
Когда я попал на завод «Красный тигель», я нашел здесь друзей, достиг того, о чем раньше не мог и мечтать.
РЯДОВОЙ ФАКТ
С каждым годом писать для газеты все труднее. «Изюминку», как газетчики говорят, в человеке найти труднее. Иной факт несколько лет назад «изюминкой» являлся, сейчас рядовым становится. А без «изюминки» любой газетный материал — что кушанье без соли. Как ни старайся приготовить, читатель в лучшем случае лишь не морщится.
Пришел я недавно на «свой» завод с заданием редакции сфотографировать молодого слесаря-ремонтника и сделать о нем зарисовку. Порекомендовали на заводе Сергея Глазкова — слесаря по ремонту электрооборудования. «Уж больно мастер хороший, — говорят, — но тихий, неприметный». — «Что тихий, — думаю, — это для меня даже хорошо. С тихим мне работать сподручнее».
Встретился с Глазковым, под ложечкой засосало. Нефотогеничное лицо! Лоб у Сергея огромный, «сократовский», густая шевелюра на затылок сдвинута, впереди хохолок легкомысленный. Глазницы глубокие, щеки втянутые, бровей нет. Если на улице фотографировать, можно еще что-нибудь сделать, но снимать необходимо в помещении. Прикинул я, что на снимке получится: глазницы в тени, под скулами тоже тени, лоб — плафон электрический. Наперед знаю, ответственный секретарь о снимке этом примерно так скажет: «Твою работу только на столбах электропередач вешать со скрещенными костями. Коровы — и те шарахаться будут».
«Ладно, — думаю, — не получится снимок, сделаю о Сергее расширенную зарисовку, а то и корреспонденцию поинтереснее».
Сфотографировал Глазкова за рабочим местом, стали мы с ним беседовать. Увы, не получается разговора. Каждое слово из парня вымучиваю, он только улыбается.
Обратился к товарищам Сергея, что рядом с ним работают, с ними разговор завел. Те тоже о Глазкове ничего вразумительного сказать не могут.
— Работает хорошо, — говорят.
— А вы плохо работаете? — спрашиваю.
— И мы хорошо.
— Так чем же Сергей примечателен?
— Поможет в любое время, когда ни попроси, хоть ночью разбуди.
— А вы не поможете?
— И мы поможем…
Бился, бился — не то чтобы «изюминки», вразумительного материала о слесаре Глазкове собрать не могу. Решил сходить в заводской музей к Сергею Арсентьевичу. «Может быть, — думаю, — общественный директор музея о слесаре что-нибудь интересное вспомнит». И не ошибся.
— Видишь, машина легковая у проходной стоит? — Сергей Арсентьевич меня спрашивает. — Сережкина. Сам ее сконструировал, по винтику собрал. Машину сфантазировать у нас на заводе не он один может. А ты попробуй зарегистрировать ее в ГАИ, номер получить. Это дело посложнее. Сережка в ГАИ пришел, начальник инспекции его на смех поднял. «Чтобы твой самокат зарегистрировать и номера тебе выдать, — говорит, — на каждую гайку, болт, узел расчет научный требуется представить. Сделаешь расчеты — милости просим».
Пришел Серега в ГАИ через некоторое время, на стол начальника папку положил.
— Что это? — спрашивает начальник.
— Чертежи, расчеты на мой «самокат», — Сергей отвечает.
Почесал начальник ГАИ в затылке, отослал Сережкины бумаги в Ленинград для проверки. Там проверили, отвечают:
«Расчеты правильны, выдавайте документы на автомобиль».
«Ага, — думаю, — вот она, «изюминка», нашел! От такого факта фигура слесаря в материале моем заиграет».
Снимок Сергея Глазкова, как и ожидал я, получился некачественным. Я его даже предлагать не стал ответственному секретарю. А вот зарисовку о Сергее написал и на стол Ивана Осиповича положил. Прочитал секретарь материал мой о слесаре абразивного завода и говорит:
— Плохо! Человека не видно. Ну что ты за факт выкопал: «Автомобиль сконструировал, расчеты произвел». Это же рядовой факт. У меня сын в седьмом классе учится, трактор по радио управляемый собрал. Подработай еще материал.
Так и не появился в газете снимок Сергея Глазкова, и зарисовка о нем не появилась. Не смог я найти «изюминку» в этом парне. Видно, мастерства профессионального, газетного не хватило.
КОМПОНЕНТЫ СЧАСТЬЯ
Люблю бродить по цехам «своего» завода. Здесь у меня много знакомых, друзей, школьных однокашников. Для фотокорреспондента условия работы тут не самые лучшие. Одно дело, к примеру, сфотографировать вязальщицу в белом халатике на трикотажной фабрике, в цехе, залитом неоновым светом, у эффектной котонной машины; другое — оператора в пыльной робе, с чернотой под носом, у ревущей огнем обжигательной печи. Здесь работают люди резкие, порывистые, на первый взгляд грубоватые. Позировать не любят и не всегда будут. А если еще порой дело не ладится, то под горячую руку могут послать вместе с фотоаппаратом очень далеко. Света для съемок у печей маловато, приходится работать с лампой-вспышкой. Фотокорреспонденты «вспышкой» работать не любят, снимки получаются слишком контрастными, необъемными, лица людей — плоскими, невыразительными.
Помнится, сфотографировал я впервые операторов за работой. Появился снимок в газете. Взглянул я на него — и мороз по коже. Что на снимке? То ли люди, то ли звери фантастические, не пойму. Расстроился очень. Пошел к базару и долго стоял у доски объявлений «Куда пойти работать».
Наутро, успокоившись, вновь отправился на завод. Встретили меня рабочие у печей, как ни странно, приветливей, чем я ожидал.
— Извините, — говорю, — товарищи, за вчерашний снимок в газете. Брак дал, моя вина…
— Да чего там, — отвечают рабочие, — это в любом деле может быть. Мы ведь понимаем, что здесь не ателье…
Стал я их фотографировать снова. Снимаются даже охотнее, чем в прошлый раз. Народ вокруг нас собрался, шутят, посмеиваются, кто-то полез лампочки-«пятисотки» вворачивать, чтобы посветлее было, кто-то робу чистую, без заплат притащил, напяливает на товарища. Словом, атмосфера для моей работы создалась дружественная. Все шло хорошо, пока не дошла очередь до Антоневича — пожилого сутулого оператора с тонкими злыми губами. Сидел Антоневич в темном углу нога на ногу, курил, посматривал на меня недружелюбно.
В завкоме кандидатура Антоневича вызвала споры. Одни говорили, что Антоневич — старейший и опытнейший оператор завода, которого нужно показать в газете, другие возражали им: Антоневич общественными делами не интересуется, нелюдим, угрюм, с товарищами зачастую груб, третьи просто сомневались, что Антоневич согласится фотографироваться. Встретившись глазами с оператором, я понял, что правы последние: этот человек вряд ли станет под объектив фотоаппарата. Все же я решил сделать попытку и подошел к Антоневичу.
— Проходите, гражданин, мимо и не мешайте работать, — ответил Антоневич на мое предложение сфотографироваться, — ни вы, ни ваша газета меня не интересуют.
— Простите, но разве не интересно вам увидеть себя или своих товарищей в газете? Это ведь не часто бывает.
— Своих товарищей я вижу каждый день и без газеты. А что касается меня, то я уже был однажды в вашей газете. Лихо расписали. Даже в чем счастье мое разъяснили. Я до седых волос дожил, не разобрал в чем счастье, а такой, как вы, корреспондент побеседовал со мной пять минут — и все ему ясно. Счастье мое, оказывается, стоять у печи и вонь от абразивов нюхать. Так и написал: «Счастье оператора Антоневича — когда огонь и дым в лицо, когда гудят после работы натруженные руки, но легко и вольно дышит широкая грудь». Во как, дословно помню.
Закашлял Антоневич глухо, впалую грудь потирает, а я уже и не рад, что с ним связался. Атмосфера в цехе меняться начала. Шутки исчезли, смех замолк. С Антоневичем никто в спор не вступает, хотя и не поддерживает его. По всему чувствуется: недолюбливают его здесь, но побаиваются. Стали люди от нас отходить как-то неловко, боком.
— Куда же вы, ударнички? — кричит Антоневич. — Сфотографируйтесь в газету, интервью дайте, глядишь, и подкинут вам гонорарчику. И товарищу корреспонденту тоже надо заработать.
Слушаю я эти речи, не каменный же человек, злиться начал. Ну, не хочешь фотографироваться — твое дело. Зачем же всем настроение мутить? Но сейчас упаси бог ответить Антоневичу грубостью. Тогда все — за ним последнее слово останется. Сейчас надо вежливо, но точный удар в ответ нанести. Да так ударить, чтобы все почувствовали: не промахнулся я.
— Простите, — говорю, — товарищ Антоневич, что мой коллега неправильно определил ваше счастье. Его ведь каждый по-своему понимает. Лично я никогда не написал бы, что вы счастливы. В моем понимании счастье из многих компонентов состоит. Это как в фотоделе. Составляешь проявитель, забудешь в раствор метола добавить, или гидрохинона, или еще чего — все насмарку. Так и счастье: нет одного компонента — нет полного счастья.
Стали вокруг нас снова рабочие тесниться, к философскому нашему диспуту прислушиваются.
— Какого же компонента для моего счастья не хватает? — усмехнулся не без интереса Антоневич.
Вот тут-то и наступила для меня решающая минута для удара.
— Мне кажется, товарищ Антоневич, у вас не хватает самого главного для счастья компонента — друзей. Не знаю, как вы дома, а здесь, в цехе, среди людей, вы одиноки — так мне кажется…
Говорю и слышу: зазвенела в цехе тишина. Глянул в глаза Антоневича — страшно стало. Вижу: попал, да не в больное место, а в самое сердце. Смотрит на меня человек, а глаза его, кажется, кричат от боли. Хотя тишина эта длилась не больше секунды и усмехнулся потом Антоневич скептически, воспоминание о нем мне потом долго покоя не давало. И люди в цехе, чувствую, не на моей стороне, не одобряют они такого жестокого удара.
Несколько дней не шел у меня из головы оператор Антоневич. Клял себя за недомыслие, за мальчишество, наконец собрался, пошел в заводской музей к Сергею Арсентьевичу. Музей закрытым оказался, но прохожий подсказал: «На заводе его ищите, только что видел его в тигельном цехе».
Подхожу к заводской проходной и вспомнил: удостоверение от газеты дома забыл. «Может быть, проскочу, — думаю, — давно мы по абразивному заводу критического материала не давали. Должны и без удостоверения пропустить».
Расчет верным оказался. Спешу делово через проходную, поясняю громко: «Из редакции». Вахтер знакомый шляпу приподнял, зевнул сонно.
Иду по двору, вижу: у входа в инструментальный цех народ толпится, шум, грохот. Пробился я сквозь толпу, смотрю, громадный деревянный крокодил стоит на колесах, метра три высотой. Разрисован красками, как живой, а в лапах листок держит, «Колючку». В «Колючке» пьяницы и бракоделы расписаны, карикатуры разные.
— Это Сергей Арсентьевич такую штуку соорудил, — говорят знакомые, — каждое утро подтаскивает своего крокодила к тому цеху, где происшествие случилось. Та же «Колючка», а смотрите, какой эффект производит. А когда на стене висит «Колючка», на нее и не глядит никто, приелась.
В цехе я старого мастера не нашел. Заглянул в клуб. Никого, тихо. Вдруг слышу, под сценой что-то шуршит. Постучал по сцене каблуком — вылезает из-под нее Сергей Арсентьевич. В пыли весь, в паутине, радостный. В руках у него охапка пожелтевших бумаг.
— Посмотри, что нашел, — вместо приветствия загудел он, — снимки первых бригад коммунистического труда, знамя старое, стенгазета послевоенная. Это же для нашего музея просто клад. У тебя ко мне срочное дело?
— Да нет, поговорить хотелось…
Мастер облегченно вздохнул и вновь нырнул под сцену, крикнув:
— Приходи вечерком ко мне домой, чайку попьем! Сейчас некогда. Работы здесь непочатый край.
Пришел к Сергею Арсентьевичу вечерком. Вечерок субботний, торопиться некуда. Развалились мы с хозяином в садике в прутяных креслах. Кресла эти Сергей Арсентьевич сам плел из ивовых прутьев. Удобные, но скрипят. Супруга хозяина, Антонина Григорьевна, вынесла нам в садик электрический самовар, поставила на столик. Бытует мнение, что глухой забор вокруг дома — чуть ли не признак мещанства или чего похуже. Но как приятно и вольготно посидеть в таком вот отгороженном от шумной улицы и любопытствующих глаз уголке с интересным человеком, поговорить, послушать! Недаром народная мудрость гласит: «Лучший отдых — в хорошей беседе».
Побеседовали мы с Сергеем Арсентьевичем о том о сем. Рассказал я ему историю с Антоневичем, спрашиваю:
— Что за человек Антоневич?
Задумался мастер. Снял очки, платком протирает, потом говорит:
— Антоневича с детства знаю. В школе вместе учились, на заводе не один десяток лет работаем, да и живем по соседству. Вон его дом, — Сергей Арсентьевич махнул рукой в сторону забора. — Вся жизнь Антоневича перед моими глазами прошла. Что друзей не имеет — это ты точно подметил, но обидел его зря. Человек он честный и трудолюбивый. Правда, однобокий какой-то. Потому, может, и жизнь его кувырком шла. Помню, мальчишками еще были. Если обидит его кто-то, обманет или иной некрасивый поступок совершит, перестает Антоневич замечать этого человека. Никому обид не прощал, а злопамятный был страшно. Петь любил. Голос у него был — чудо. На школьных вечерах выступал, в городской самодеятельности участвовал. Ну а мы, как это у мальчишек всегда бывает, подсмеивались над ним, «певцом» прозвали. Сторонился нас Антоневич. Я с ним вначале в мире жил, у нас даже дружба наклевывалась. А потом вот что произошло. Неравнодушен был Антоневич к девочке одной — Тоне Семиной. Красивая была девочка, тоже петь любила, они вместе в самодеятельности занимались. Попросил он меня как-то передать Тоне записку, в кино приглашал. А мы с мальчишками решили подшутить над Антоневичем. В классе у нас другая Тоня была — Галкина. Некрасивая, капризная, ябеда страшная, я ее и сейчас когда вспомню, на душе муторно делается. И вот я этой Галкиной записку Антоневича и передал. Сам с мальчишками за встречей их возле кинотеатра наблюдал, животы надорвали от смеха. Сколько лет с той поры прошло, а Антоневич мне этого простить не может, сквозь зубы здоровается.
— Как же дальше сложилась его жизнь?
— Я из школы рано ушел, на заводе стал работать. Антоневич учиться продолжал, с Тоней Семиной дружил. Закончили они школу, поехали вместе в Ленинград в музыкальное училище поступать. Тоню приняли, а Антоневича нет. Вернулся он, устроился к нам на завод работать в ремонтный цех. На следующий год снова поехал в музыкальное училище поступать. И снова провалился, уж не знаю, почему ему ее везло, голос у него был куда лучше, чем у Семиной. На третий год — настырный был — вновь поехал. И вдруг в тот же день назад вернулся, говорят, экзамены почему-то не стал сдавать. С той поры я на его лице никогда улыбки больше не видел.
Вскоре после этого приехали к нам из Ленинграда артисты, концерт давали. Ну, сижу я, слушаю; я, бывало, ни одного концерта не пропускал. Смотрю, выходит на сцену Тонька Семина. Еле узнал. Располнела, на голове прическа пузырем, пальчиком по микрофону постукивает. Ведущий объявляет:
— Выступает выпускница Ленинградского музыкального училища Антонина Салынская.
«Какая, — думаю, — Салынская? Это же Тонька Семина». Глянул на Антоневича. Сидит он с опущенной головой, руками в стул вцепился, а сам белый весь. Тут только и понял я все.
— Семья у Антоневича есть?
— Женился он поздно, уже перед самой войной. Жену его Марией звали, у нас в абразивном работала формовщицей. Тихая была, болела часто. Жили они вроде дружно. Со стороны-то чужую жизнь не всегда рассмотришь, но, по моему пониманию, не было промеж них любви, на одних уважительных характерах жили.
Война началась, я на фронт ушел, а Антоневича в армию не взяли — бронь была, да и со здоровьем у него не все в порядке. Немцы к городу подошли, завод наш в Сибирь эвакуировали. Там Маша Антоневича и умерла, замерзла. Работала на станке весь день, а станки вначале под открытым небом стояли с навесами небольшими от дождя и снега. Отработала смену, присела за штабель досок отдохнуть да и заснула. Мороз был. Утром только нашли ее. Антоневич один остался с дочкой. Не женился больше. Сам дочку вырастил и воспитал. Последнее время она экономистом на трикотажной фабрике работала. Замуж вышла неудачно. Разошлись. Так и жила с отцом в этом доме. Года три назад Мария — дочку его тоже Марией звали — попала под машину. Да ты, наверное, помнишь эту историю? С автостанции двое пьяных угнали автобус, а у базара в толпу врезались. Марию и еще двух человек тогда убило.
— Выходит, Антоневич один живет?
— Нет, не один. Внучка у него есть, Тоня. Слышишь? Она играет…
Из-за кустов сирени, насевших на забор, неслись звуки скрипки. Мягкая волнистая мелодия неизвестного мне произведения вплеталась в шелест кустов и растекалась по саду тревожно и грустно.
— Антоневич в своей внучке души не чает, — продолжал Сергей Арсентьевич, — каждый день ее в школу провожает и из школы встречать ходит. В родительский комитет его избрали. Внучка его еще в детской музыкальной школе учится. Говорят, талантливая к музыке. Недавно у них в школе музыкальный конкурс был: «Звучат любимые произведения Ильича». Так она на нем первое место заняла. Это мне сам Антоневич говорил. Редко мы с ним разговариваем — недолюбливает он меня, а тут не удержался, похвастался. Ты бы сфотографировал его внучку да написал о ней что-нибудь. Милая девчушка. Ко мне иногда забегает, я ее яблоками угощаю. Антоневич не любит, когда она ко мне приходит, ревнует.
За кустами по-прежнему играла скрипка. Я встал, подошел к забору. Раздвинул ветки отцветшей сирени и вздрогнул. За забором, совсем рядом, сидел на скамье Антоневич. Не скажи мне Сергей Арсентьевич, что Антоневич его сосед, я бы сейчас не узнал его без войлочной шляпы на голове и без брезентовой робы. Антоневич сидел, скрестив руки на впалой груди, и смотрел на стоящую поодаль детскую фигурку.
В полумраке вечера загорелая девочка казалась невидимкой, которую выдавало только белое платье да белый бант в волосах. Бант, словно громадная ночная бабочка, порхал над скрипкой, которая пела и пела, не уставая, уверенно и сильно. Лица Антоневича рассмотреть я не мог, но в его угловатой, сгорбленной фигуре было что-то такое, что тотчас заставило вспомнить наш разговор о счастье.
На следующий день я, как посоветовал Сергей Арсентьевич, отправился в городскую музыкальную школу.
— Да, Тоня Антоневич талантливая, трудолюбивая девочка, о ней стоит написать, — сказал директор школы.
Но мне хотелось не только сфотографировать девочку и сделать о ней обычную короткую зарисовку. Хотелось сделать материал о внучке Антоневича так, чтобы старого оператора он не оставил равнодушным.
Никогда раньше не тратил я столько времени, сил и пленки на один снимок. Целую неделю ходил в детскую музыкальную школу. К неудовольствию учителей музыки (кому приятно иметь на уроках постороннего человека), наблюдал и, по возможности, незаметно фотографировал девочку на уроках, на репетициях, на внутришкольном концерте. Из четырех отснятых пленок выбрал один кадр. Снимок получился на редкость удачным. Крупным планом взято лицо девочки и скрипка. Скрипка, смычок, черты лица юной музыкантши неясны, расплывчаты. Живут только глаза. Огромные, глубокие, чистые, они, кажется, лучатся и светятся музыкой.
Пару вечеров потом еще корпел дома над зарисовкой о девочке. Зарисовка получилась не бог весть какая, но в целом материалом своим о Тоне Антоневич я был доволен. Появился материал в газете, а через несколько дней встретился на улице с Антоневичем и его внучкой. Девочка по школьно-музыкальной моде реверансик мне сделала, а оператор в знак приветствия головой кивнул. И по глазам его вижу: доволен и простил мне злые слова, в цехе сказанные.
Целый день я после этой встречи с хорошим настроением ходил. Ничего нет на свете прекраснее, чем хорошее настроение.
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Мы с сыном меняли воду в аквариуме, когда в прихожей раздался звонок.
— Кто там? — крикнул Вовка и, не дожидаясь ответа, бросился к двери. Я вышел за ним следом и увидел незнакомых людей.
— Вам кого?
— Да вот… к вам мы…
— Заходите, пожалуйста, — раздался за моей спиной приветливый голос Наташи — жены, — да заходите же, прошу вас.
Вошедших было трое. Впереди стоял невысокий остроносый мужичок, с усталым скуластым лицом, за ним женщина в пуховом платке и мальчик лет тринадцати, ровесник, наверное, моему Вовке, с такими же живыми подвижными глазенками. На всех троих были потертые, но опрятные телогрейки, за плечами мужичка — громадный рюкзак.
— Извиняйте, хозяева, — неожиданно могучим густым басом произнес незнакомец и снял шайку, — из Печор мы, в Новгород путь держим, на поезд запоздали. Вдвоем с жинкой оно бы для нас ничего ночь перебиться, да вот мальчонка… Переночевать не пустите, люди добрые?
— Переночевать?!
Мы с супругой переглянулись, Вовка изумленно уставился на незваных гостей.
— Почему же к нам? — смущенно пробормотала моя супруга, — здесь неподалеку гостиница.
— Местов нет, были уже, — прогудел незнакомец, — хотели на вокзале перебиться, да ремонт там. Вы не сумневайтесь, хозяева, мы вам за ночлег заплатим.
— Нет, нет, вы не так меня поняли, — смутилась супруга.
— Мы в деньгах не нуждаемся! — вдруг вызывающе громко проговорил Вовка, обычно немногословный и застенчивый с чужими людьми.
— Знамо дело, хозяева, незваный гость хуже татарина. Мы-то с бабой перебьемся, да вот мальчонка…
Из кухни донесся запах подгорающего печенья, в ванной комнате угрожающе булькала вода, а незваные гости все еще не собирались уходить. Мальчишка, следуя примеру отца, стащил с головы шапку и завороженно заглядывал в комнату Вовки, где в подсвеченном аквариуме лениво колыхались диковинные рыбки.
Я на мгновение представил, что эти чужие незнакомые люди действительно останутся у нас ночевать. Сколько непредвиденных хлопот, неудобств, стеснений принесут они. Нужно где-то разместить их, накормить, может быть, предложить принять ванну. Значит, прощай уютный субботний вечер в кругу семьи, А как быть с работой, что ждет меня за письменным столом? Нет, черт возьми, с какой стати! Есть в городе гостиница, и обязанность ее администрации — заботиться о своих клиентах. Если в гостинице нет свободных мест, то наверняка имеются адреса частных квартир, где за плату охотно примут пришельцев на ночлег.
— К сожалению, мы не можем принять вас, у нас такие обстоятельства…
— Ну чего там, — без обиды приговорил пришелец и стал натягивать на голову шапку, — на «нет» суда нет. — Он встряхнул за спиной рюкзак, поправил врезавшиеся в плечи ремни, добавил: — Просим прощеньица за беспокойство, — и стал осторожно разворачиваться, подталкивая к выходу мальчишку и женщину в пуховом платке.
— Зайдите в гостиницу железнодорожников, — посоветовала Наташа вслед уходящим, — там бывают свободные места.
— Не извольте беспокоиться, хозяева, — прогудел мужичок не оборачиваясь, — как-нибудь перебьемся. Мир не без добрых людей.
После ухода незваных гостей я прошел в кабинет, сел за стол, но сосредоточиться на работе не мог и стал бездумно рисовать на чистом листе бумаги чертиков. В кухне слышались голоса.
— Печенье подгорело из-за этих ночлежников, — сокрушалась Наташа.
— Мама, как так можно: ночевать к незнакомым людям? — удивлялся Вовка.
Порыв ветра вдруг с треском отбросил форточку, и в комнату ворвался холодный ознобный воздух с хлопьями мокрого снега. Я торопливо вскочил, прикрыл форточку. Постоял у окна, вглядываясь в густое снежное месиво за окном, и зябко передернул плечами. Во мне проснулось неясное беспокойство. Нет, я беспокоился не за тех троих, что бродят сейчас по незнакомому городу в поисках ночлега. Они найдут крышу на ночь, я не сомневался в этом. Меня наполняла какая-то гнетущая тревога за самых близких мне людей, что переговариваются сейчас на кухне, за самого себя. Впервые в наш дом постучались чужие люди, пусть не с бедой — со скромной просьбой: переночевать. Им было отказано в этом. Почему? Почему в голосе моей всегда доброй, приветливой Наташи зазвучали эти жесткие деревянные нотки? Почему так внутренне ощетинился Вовка? Разве не интересно было бы ему провести вечер со сверстником, показать ему своих новых рыбок? Ну, а если в наш дом постучатся люди с настоящей бедой? Неужели и тогда Наташа с Вовкой поступят так же? А если беда случится со мной? Страшная, непоправимая беда?
Я задавал себе бесчисленные вопросы и старался как-то оправдать своих близких. В конце концов, они никогда не нуждались в помощи чужих людей. Вот почему просьба незнакомцев о ночлеге кажется им просто бестактным поступком, чуть ли не наглостью. А чем объяснить свое поведение? Что заставило меня отказать людям в их скромной просьбе? Уж я ли не стучался в детстве в чужие двери, мне ли надо напоминать заповедь: мир не без добрых людей.
На кухне голоса стали громче.
— Нет, нет, — возражал матери Вовка, — весь папин кабинет мы украсим эстампами. Темные стены всегда оживляют светлыми эстампами, нам Ольга Владимировна объясняла…
«Стены, — машинально повторил я, — стены…» И вдруг вспомнил нашу послевоенную деревенскую избу. Стены ее были срублены из смолистых сосновых бревен, грубо отесанных топором. В красном углу избы таилась крошечная закоптелая иконка, а на стене, на самом видном месте, висели в застекленной деревянной рамке старые фотографии. Такие рамки с фотографиями были во всех избах нашей деревни. Всякий, кто входил в дом, непременно останавливался перед рамкой и рассматривал снимки. Многое рассказывали они про хозяев дома даже непосвященному человеку.
Я поднялся из-за стола, подошел к книжному шкафу и, раскрыв дверцы, стал копаться в бумагах. Нашел пакет, перевязанный бечевкой, Не без труда развязал тугой узел, развернул желтый газетный лист. Вот они, наши фотографии. Как давно я не видел их. Сестра привезла мне их лет десять назад, вернее, двенадцать, сразу же после рождения Вовки. Уму непостижимо, как удалось сберечь ей эти карточки. В конце сорок седьмого года, после смерти деда, нас отправили с ней в детский дом, в небольшой городок под Ленинградом. И Настя сунула в узелок этот пакет.
Я стал перебирать фотографии. С куска потемневшего картона на меня смотрел стройный щеголеватый офицер, перетянутый ремнями, совсем еще мальчик. За ним — плотный ряд кряжистых пожилых солдат с однообразными застывшими лицами. Этот снимок — времен первой мировой войны. В ряду солдат, третий слева, с усами, мой дед. Старик не любил рассказывать о себе, но я знал: Георгиевский крест, что висел на его старом мундире, он получил за этого молоденького офицерика — взводного командира. Он тащил раненого офицера-мальчика по болоту несколько дней, вынес его из окружения, но мальчик потом ослеп.
Вот другая фотография: деревенские парни в белых рубашках стоят, обнявшись, полукругом. Крайний, с пышной шевелюрой, — мой отец, младший сын деда. Похоронная на него пришла уже после Победы. Какому-то фанатику в Берлине мало было крови, что лилась четыре года, и он застрелил отца из-за угла, в спину. А как ждали мы его с Настей домой! Как ждал его дед! Когда на отца пришла похоронная, старик стал быстро сдавать. Обрабатывать огород уже не мог, и пахал наш участок и помогал сажать картошку однорукий дядя Павел, председатель колхоза. Он же привозил нам осенью на подводе мешок муки, горох и другие продукты. Мы с Настей помогали ему перетаскивать в дом все это богатство, а дед ворчал: «Зачем, Павлуха, небось не нищие». Председатель сердился: «Я, дед Парфентий, не свое тебе привез. Колхозное. На правлении решили выделить твоим внукам. Так что «спасибо» говорить надо, а не нос воротить». Но дармовой хлеб не был для старика сладок. Не ел он его никогда за всю долгую свою жизнь. Поэтому и не благодарил председателя, и нас с Настей обзывал дармоедами.
Если с гибелью старшего сына в первые же дни войны старик смирился, то в смерть младшего верить не хотел, не мог.
В трудные послевоенные годы через деревню нашу проходило много разного люда. Кого заставала ночь на улице, стучались в избы и просились переночевать. Деревенские, хлебнувшие в годы войны лихостины, сами недавно еще ютившиеся в землянках, не отказывали пришельцам. И вдруг однажды председатель дядя Павел прошел по домам и запретил колхозникам принимать незнакомых людей на ночлег без его письменного разрешения. Позже, повзрослев, я разгадал несложную хитрость председателя. В деревне было немало дворов, где жили вдовы с ребятишками, одинокие старики. На ночлег к ним председатель всегда определял постояльцев, что побогаче, покрепче. Чтобы могли и дров поколоть, и угостить ребятишек куском сахара или чем иным. А глаз у председателя на пришлых людей был наметан, и имущественный ценз их, размещавшийся в заплечных мешках, определял он достаточно точно.
Дед на ночлег принимал всех охотно и приветливо, но с особым радушием встречал демобилизованных, вчерашних солдат в белых линялых гимнастерках. Принимая такого гостя, старик оживал. Отправлял Настю к соседям просить разрешения истопить баню, меня — рубить для бани хворост. Мылся демобилизованный долго. Остервенело стегал себя веником в слабеньком пару, блаженно ухал. После бани садились гости с хозяином за стол. Мы с Настей устраивались на печке, переговаривались шепотом, наблюдали за гостем из-за занавески. Дед выставлял на стол все, что было в доме: вареную картошку, капусту, лепешки из крахмала и муки. Демобилизованный придвигал к себе вещевой мешок и начинал но спеша развязывать его. Мы с Настей замирали. Гость выкладывал на стол хлеб, сахар, банку консервов. «Сахар, — восторженно дышала мне в ухо Настя, — консервы…» — «Второй фронт», — поправлял я сестру, стараясь казаться равнодушным. Гость оделял нас с Настей куском сахара, протягивал два ломтя хлеба, щедро смазанные рыхлой консервной колбасой. Мы выжидательно поглядывали на деда, не решаясь принять угощение из рук незнакомого человека. «Берите, чего уж… — разрешал старик и, словно оправдываясь перед гостем, пояснял: — Без матери растут. Утопла перед войной Валентина-то. Полоскала белье на плоту, поскользнулась… А отец, Ильюха-то мой, с этой германской еще не вернулся». О похоронной на отца дед не упоминал никогда.
После ужина гость с дедом долго дымили цигарками. Я не помню случая, чтобы старик притронулся за столом к сахару или колбасе, но закуривал он из кисета гостя охотно и даже, когда предлагали, брал щепоть «про запас». Демобилизованный рассказывал про свою жизнь, про войну, про далекие немецкие города. Старик никогда не перебивал рассказчика, не задавал вопросов. Только перед тем, как улечься спать, всегда спрашивал: «Ильюху Макарова в Германии не встречал часом? Он приметный: поболе тебя будет и ухо правое сломлено. Ильюха Макаров, шофер?» — «Не встречал», — отвечал гость. Дед глубоко затягивался дымом и замирал. Иногда, уловив в ответе собеседника нерешительность, старик прибавлял огня в керосиновой лампе, подходил к рамке с фотографиями, вытягивал желтый обкуренный палец: «Эвон Ильюха-то, крайний?» — и выжидательно моргал на демобилизованного бесцветными слезящимися глазами. «Не встречал», — виновато подтверждал гость…
Я перебирал старые фотографии, весь отдавшись воспоминаниям. Сколько замечательных людей встретилось нам с Настей в детстве. Вот Алексей Николаевич, директор детского дома, куда определил нас с сестрой председатель дядя Павел после смерти деда. На снимке Алексей Николаевич изображен сидящим в инвалидной коляске в окружении детей. У него была парализована нижняя часть туловища, и он не мог двигаться. Многим из нас Алексей Николаевич стал самым близким человеком. Он был одним из тех, о которых и сложено в народе: «Мир не без добрых людей». Жил Алексей Николаевич в нашем же детском доме, в небольшой комнате с супругой Галиной Александровной. В детский дом часто приезжали незнакомые люди, все они ночевали в комнате Алексея Николаевича. В такие дни детский дом притихал. «Родители приехали», — передавали ребята новость друг другу. В первое время у меня от этих слов перехватывало дыхание и темнело в глазах. Я еще ждал отца, надеялся на его возвращение. Потом стал спокойнее, сдружился с Алексеем Николаевичем и даже…
— Папа!
Я вздрогнул и оглянулся. Передо мной стоял Вовка.
— Чего тебе?
— Мама зовет пить чай.
За чаем я рассеянно жевал подгоревшее печенье и вдруг неожиданно для самого себя предложил:
— Вовка, а что, если мы повесим в моем кабинете эти фотографии?
— Какие фотографии?
— Ну те, которые тетя Настя прислала.
— Зачем?
— Да так… Вместо эстампов.
Я посмотрел на Наташу. Она молча убирала чашки.
РАССКАЗ ИВАНА ФИЛЕВА, СЛЕСАРЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Всякому журналисту приятно, наверное (и лестно чуточку), когда приходит в редакцию незнакомый человек, рядовой читатель газеты, и называет вашу фамилию. Дескать, к такому-то хочу обратиться, поскольку давно слежу за его газетными материалами и нахожу в них созвучие своим мыслям, чувствам и настроению. Бывает, и проще выражается человек; бывает, и витиеватей. Вот и ко мне однажды пришел в редакцию такой поклонник.
— Это вы, — спрашивает, — фельетончики и байки разные о пьющих людях кропаете?
— Я, — отвечаю.
— Желаете, — говорит посетитель, — послушать занимательную историйку, которая со мной приключилась? Может, и сгодится вам для рассказика? Никогда не думал, что потянет меня в газету, а вот…
Смотрю я на посетителя, соглашаться не поспешаю. Говорунов нынче разных немало в редакции появляется, только развесь уши. Иные в редакции по полдня сидят нога на ногу, воспоминают о былом и разном.
Но сейчас, кажется, не тот случай. Человек, сидящий передо мной, не похож на пустопорожнего говоруна. Невысокий, впалогрудый, большая голова с залысинами на длинную жилистую шею посажена. Черты лица грубые, как говорят — топором тесаные, кругленькие глазки под бугристые надбровья утоплены, усмешливо смотрят. В угловатых плечах человека силы не чувствуется, а вот прочерненные кисти рук, что из коротких рукавов пиджака далеко высовываются, сильными кажутся и привычного к железу человека выдают, мастерового. Хоть и усмешливый взгляд у пришельца, и бодрится он как-то внешне, в обличье его некоторая неуверенность проступает и житейская какая-то помятость.
— Ну как, рассказывать историйку? — посетитель вновь спрашивает.
— Слушаю вас.
Поначалу «историйка», рассказанная слесарем Филевым, показалась мне заурядной, годной разве что на юмористический рассказик. Но потом раздумье взяло: Иван Филев не из тех людей, что завсегдатаями редакций являются, при каждом удобном случае норовят выплеснуть свои болячки на газетные полосы. Значит, очень задела его эта история, коль пришел он впервые в своей жизни в редакцию газеты. Забегая вперед, скажу: после редакционной беседы с Иваном Филевым встретил я случайно на улице начальника цеха, которого слесарь в своем рассказе упоминал. С начальником цеха у нас знакомство шапочное, раскланиваемся при встрече да изредка словом-другим перебросимся. На этот раз я начальника цеха спрашиваю: так, мол, и так, что за человек Филев, что у вас в цеху слесарем работает?
— Как человек — пьет, а как работник — мастер — золотые руки, — начальник цеха отвечает.
До чего же выразителен и емок русский язык! Четыре слова всего: «Пьет, мастер — золотые руки» — целую человеческую судьбу вместили. «Пьет» начальник цеха произнес спокойно, так иногда опытный руководитель о недостатках своих подчиненных с трибуны говорит. Пьет, дескать, но работы с ним не прекращаем, воспитываем. Зато слова «мастер — золотые руки» так сказал, что сразу полная ясность: слесарь Филев в цеху фигура заметная, без которой начальнику цеха обойтись трудно. Попробуй такую фигуру не воспитывать у себя, ее тотчас примут на воспитание другие коллективы.
Мне же вдруг вспомнился эпизод на бакелитовом участке этого цеха, который довелось как-то наблюдать. Приезжие мастера-наладчики монтировали в цеху новый формовочный станок. Не знаю, что там у них не получалось с установкой станка, только спорили они между собой подолгу, ругались, чесали затылки. Формовщицы над приезжими мастерами подсмеивались и советовали кликнуть на помощь «нашего Ивана». Вскоре и впрямь кто-то крикнул: «Иван, иди сюда!» К монтажникам подошел невысокий человек в серой спецовке и кепке, надвинутой на глаза; постоял возле работающих, понаблюдал, потом схватил ломик, колупнул энергично станок, сдвинул, еще колупнул и говорит: «А эту станину на четырех шпильках закрепить — и полный ажур!»
Напомнил я начальнику цеха про этот эпизод, спрашиваю:
— Наверное, тот Иван и был Филевым?
— Все может быть, — начальник цеха отвечает, — разве упомнишь такие мелочи. А вот недавно Иван Филев по-настоящему великое дело сотворил, не только цех, весь завод из прорыва вывел. Знаете, наверное, что цех наш расширяется, новую кирпичную пристройку возвели. Мы в ней пресса и полуавтоматы формовочные размещаем. Начали уже фундаменты под пресса закладывать и вдруг наткнулись на какие-то бетонные глыбы. Задали эти глыбы нам работу! Ломали мы их, дробили, взрывать даже хотели, и если бы не Иван Филев, до сих пор новый участок в эксплуатацию не сдали бы.
Теперешний наш бакелитовый цех после революции самостоятельным заводиком был, «Смычка» назывался. Отец Ивана Филева на «Смычке» еще механиком работал, сейчас он на пенсии. Порасспросил Иван отца о том, что было раньше на месте нашей пристройки, ничего толком не узнал. Пошел в наш заводской музей, там целый день в альбомах и фотографиях копался. Нашел-таки! На месте нашей пристройки раньше, оказывается, цех плоскошлифовальных станков был. Иван и фотографию этого цеха раздобыл. Глянешь на эту фотографию, и полная во всем ясность. Бетонные плиты, что ковыряли мы на новом участке, были не что иное, как старые фундаменты плоскошлифовальных станков. А фундаменты раньше клали с «запасом», не в нынешнюю расчетную тютельку. Короче говоря, прикинул Иван по фотографии расстояние между станками, потом на участке еще поковырялся, замеры старых фундаментов произвел. И через несколько дней предложил нашим заводским специалистам свою схему монтажа станков и оборудования на новом участке. Да так ловко все пресса и полуавтоматы распределил, что старые фундаменты и выковыривать не надо…
Теперь к рассказу Ивана Филева вернемся. Рассказ его записал я почти со стенографической точностью, опустил лишь в отдельных местах излишне повторяющиеся фразы: «Не в этом дело» и «Хотите — верьте, хотите — нет».
«Нашел кошелек. С деньгами. Хотите — верьте, хотите — нет. Иду со смены домой через реку, глядь: возле лунки лежит! Черненький такой, рваненький, на молнии. Ну, поднял кошелек, раскрыл, пересчитал деньги. Мать честная! Четыре рубля двенадцать копеек! Ровно. Видать, рыбак на лунке сидел, обронил. А у меня как раз настрой соответствующий и в кармане — вошь на аркане. Сами понимаете, кошелек для меня дар божий. Я, между нами говоря по-честному, употребляю. Нет, нет, не забулдыга я какой-нибудь, не бракодел или прогульщик, но с получки или с настроения грешен, скрывать не стану. Специалист я квалификации высшей, дело свое не только знаю, но и люблю, потому на работе меня товарищи уважают, начальство ценит, хотя, конечно, и воспитывают меня. Но не в этом дело. Про кошелек продолжу.
Что, думаете, я с тем кошельком сделал, куда пустил четыре двенадцать? Не улыбайтесь, не отгадали. До сих пор понять не могу, что на меня тогда нашло. Волна какая-то вдруг нахлынула, дурман. Дай, думаю, хоть раз в жизни совершу такое, чтобы всех друзей-приятелей удивить. Ну, стою, размышляю, а тут как раз идет навстречу Володька Фомичев, участковый. Он до армии у нас карщиком работал, а после армии в милицию подался. Спрашивает меня: «Чего стоишь, Иван Андреич?» — «Да вот кошелек нашел, — отвечаю, — четыре двенадцать в нем». — «Чего же ты соображаешь?» — Володька скалится. «А то соображаю, — говорю, — что хочу кошелек с деньгами сдать туда, куда законом положено». Смотрю, у Володьки глаза на лоб полезли. «Ты это серьезно, Иван Андреич?» — спрашивает. «А то нет», — отвечаю. «Тогда пошли, — Володька говорит, — я как раз в милицию иду, представлю тебя там в лучшем виде».
Пришли мы с Володькой в милицию, оформили как положено в стол находок кошелек, а через три дня — мать честная! — в газете вашей про меня напечатали. Помните небось заметку, «Благородный поступок» называлась? Правда, сколько денег в кошельке было, не указали, а зря. Веселее бы все получилось, и кто надо, меня бы понял.
На работе у нас про кошелек тот еще больше кадило раздули. В стенгазету цеховую «Благородный поступок» наклеили, по заводскому радио про меня передали. От народа житья не стало, скажи да скажи, Андреич, сколько денег в милицию снес? И никто не верит, что ровно четыре двенадцать. Только Матюнин, грузчик из транспортного, литру обещал поставить, если скажу по-честному. «А пошли вы все от меня подальше, губошлепы!» — говорю. Но не в этом дело. От начальства ко мне другая резьба пошла. Сам начальник цеха передо мной шляпу приподнимать стал. Мастер Виктор Артурович, мы в детстве с ним дружками были, домой к себе пригласил в гости.
Но самое главное из этой историйки то вышло, что бросил я пить. Не потому, конечно, бросил, что губошлепы разные на мою честность дивиться начали, а начальник цеха шляпу приподнимать. Давно я хотел дурную эту привычку к спиртному в себе прихлопнуть, уж больно она мне жизнь выкручивала. Из-за привычки этой от меня жена с дочкой сбежали, к теще в Сибирь уехали. Но не в этом дело. После кошелька так получилось, что главный мой соблазнитель в цеху Мишка Журба в больницу попал. Ой, попортил мне этот Мишка крови! В ночную смену, бывало, работаю и не вспоминаю. Так нет, подойдет и смотрит. «Чего тебе?» — спрашиваю. «Ну как, Андреич?» — Мишка говорит. «Отстань, паразит!» — отвечаю. Отойдет, а через полчаса опять является: «Ну как, Андреич?» — «Не мешай работать, Мишка!» — возражаю. Смена кончается, он опять тут как тут. «Ну где возьмешь, — спрашиваю, — ведь утро скоро?» А Мишка, паразит, достает из-за пазухи бутылку. «Ну ел бы сам, — говорю, — меня-то зачем соблазняешь?» — «Не, Андреич, — Мишка скалится, — я компанию люблю».
Мишка этот Журба меня едва женоубивцем не сделал. Рассказывал уже вам, что жена с дочкой от меня уехали. А я, хотите — верьте, хотите — нет, жену и дочку во как люблю! Другие стыдятся такое вслух говорить, а я во весь голос заявляю: жену с дочкой люблю и никого другого мне не надо! А дело так было.
Организм сдавать начал. Как выпью, на другой день ломает всего по-страшному, и с похмелкой не отойти. Слабость невозможная, в глазах круги черные плавают, наклонился как-то абразивы поднять — брык, лежу, обморок. «Все, — говорю Мишке, — видать, норму свою жизненную выбрал, пора кончать с этим делом». А Мишка, паразит, шепчет: «Это тебя баба таблетками травит. У меня такое точь-в-точь было. Достала она где-то противоводочных таблеток и подкармливала меня втихаря, пока не скопытился. Во, у меня и название этих таблеток проклятых записано. Ты приди домой и пошукай в комоде. Уверен, что травит тебя».
Вообще-то я мужик спокойный. На бровях, бывало, домой приползу, а жену с дочкой пальцем не трону. А тут настроил меня Мишка с этими таблетками до невозможности. Иду домой, кипит все во мне, злость по телу разливается, злоба душит. Чувствую, хуже зверя становлюсь, а поделать с собой ничего не могу. В таком вот настрое и заявился домой. Жена с дочкой, как сейчас помню, ужинали. Ну, я с ходу к серванту, посуду на пол смахнул, ящики вырвал, об пол хрястнул, смотрю: таблетки! Целая пачка! Я бабу за волосы, всю пачку ей в рот, графин с водой в зубы, запивай! Жена хрипит, дочка кричит, а я осатанел. Соседи ворвались, милиция приехала, еле скрутили меня. А когда через пятнадцать суток домой вернулся, жены с дочкой уже не было, в Сибирь уехали. Жена и развод взяла. Сам я виноват. Таблетки вовсе и не те были, ошибся я в названии, едва не уморил бабу.
После того случая хотели меня цеховые насильно отправить на лечение. Я им так сказал: насильно отправить вы меня, конечно, теперь право имеете, но назад в цех я не вернусь. В самой захудалой конторе работать стану, а вам обиды не прощу. Тут, конечно, формовщицы загалдели: пропадем, мол, без Ваниных пресс-форм, он мужик с характером, сам со своей болезнью справится. А я, говоря по-честному, и вправду характер имею, с полсотни раз уже пить бросал. Мне, чтобы бросить, обязательно свое решение к чему-нибудь приурочить надо. Как праздник какой подступает, думаю: в последний раз и хорошенько… Но не в этом дело. В тот раз приурочить я решил и намертво завязать применительно к кошельку. Настрой хороший у меня получился, и, главное, Мишка Журба в больнице лежит. Ну, я день не пью, два не пью, неделю не пью, настроение терпимое. Тут опять губошлепы разные начали на меня дивиться. Подначки пошли от некоторых. «Смотрите-ка, — говорят, — Ваня наш не употребляет, здоровьице бережет. Небось до получки проупирается». Ах вас, думаю, так и разэдак! Покажу вам настоящий свой характер! Грамма больше в рот не возьму!
Еще несколько дней держался на полном сухом законе, а потом меня ломать начало, жажда. И получка на подходе, и Мишка Журба из больницы на выходе, чувствую: не устоять! И такая меня тоска взяла… Но не в этом дело. Пошел к мастеру Виктору Артурычу и говорю: «Невмоготу больше, Артурыч, пропадаю. Может, посоветуешь чего?» — «Что я тебе могу посоветовать, Иван? — мастер отвечает. — Советы эти я тебе на каждом цеховом собрании даю, да не больно ты их слушаешь. Сам с собой справиться не можешь — лечись. Иного совета не знаю». Короче говоря, порешили мы с Артурычем так, чтобы подлечился я, но без огласки, втихаря. Чтобы внимания людского к себе не привлекать и от насмешек губошлепов разных избавиться.
Дней десять после работы в диспансер ходил, таблетки глотал, а Мишку Журбу Артурыч в другую от меня смену перевел. Не знаю, что помогло, может, и таблетки, только привычку свою дурную я, хотите — верьте, хотите — нет, полностью прихлопнул. Аж до самого Нового года во рту маковой росинки не было. На работе за троих ломлю, рацпредложения даю, а с получки и с аванса в Сибирь переводы шлю. Это, заметьте, помимо алиментов, которые у меня высчитывают. Ну, первой теща не выдержала, прислала мне посылку с вяленой рыбой. Потом от дочки письмишко получил с фотографией. Я в ответ ни гу-гу, только переводы шлю, себе лишь на пропитание оставляю. Жена молчит, характер выдерживает, теща посылками заходится, а на подходе Новый год, самое серьезное для меня испытание.
Как ни крепился я, как ни старался, а под самый Новый год заскучал, затосковал. Шутка ли: одному в пустой квартире встречать этот наипервейший семейный праздник. При живой-то жене и дочке! Хотел было дать супружнице своей бывшей телеграмму, чтобы приезжала, не дурила, но не дал. Не улеглась еще в душе обида на нее. Эвон, в кино смотрел: жены декабристов за муженьками в Сибирь ходили. Это из буржуйских-то семейств дамочки. А моя пролетарка от меня, рабочего человека, в Сибирь убежала. Мало ли что с мужем не бывает, подсоблять надо мужику, поддерживать. Легче всего бросить человека и убежать. Но не в этом дело. Короче говоря, пригласил меня на Новый год к себе мастер Виктор Артурыч, вместе решили Новый год встречать. Прошу обратить внимание — к главному моменту в своей историйке подхожу. Набрал я целую сумку тещиных даров, бутылку шампанского раздобыл и ровно в одиннадцать часов из дома выхожу, через городской парк на Заречную к Артурычу двигаюсь. Иду по тропинке снежной, а вокруг ни души, на небе хоть бы звездочка. И вдруг в кустах черных, заснеженных, где-то в районе туалета летнего, вопль раздался: «Помогите!..» — и возня какая-то, стоны и слова, извиняюсь, нехорошие. Ну, первым делом я шагу прибавил, ходу. Обстановка, сами понимаете, к размышлениям не располагает. «По-могите-е!.. — вопль опять из кустов жуткий. — Убива…»
Превозмог я себя, остановился. Говорю сам себе вслух: «Что ж ты, Ваня, друг любезный, делаешь?! Куда бежишь? Ведь человек о помощи взывает. От тебя сейчас, может быть, жизнь человеческая зависит, а ты за новогодний стол торопишься. Перед губошлепами разными ты, Ваня, таблетку проглотить совестишься, перед женой, дочкой характер свой кажешь, а сейчас? Значит, тебя, Ваня, рабочего человека, только на кошелек хватило, на четыре двенадцать?»
Тут я не выдержал. Выхватил из кошелки бутылку шампанского, горлышко ее в кулаке зажал и ринулся в кусты черные на помощь человеку. С шумом ринулся, с криком, со словами, извиняюсь, нехорошими. Дальше что было, плохо помню. Словно дерево мне на голову упало. Засверкало все вокруг, заискрилось. Под ребра будто клин вколачивали, по спине ухали, по лицу. Короче говоря, очухался я и пришел в себя окончательно уже после Нового года. Пока рассказывал в милиции, как дело было, пока подписывал что надо, советы дежурного выслушивал, утро новогоднее наступило. Пришел домой в квартиру свою холостяцкую, глянул в зеркало — мать честная! Не лицо, а новогодняя маска! Но не в этом дело.
Назавтра прихожу на работу. В цеху уже известно все: как нашли меня в снегу возле туалета и что в милиции Новый год встретил. И никто, конечно, не верит, что трезвый я был, человека спасал. Вот что главное в историйке: никто не верит! Ну, губошлепы там разные смеются, бог с ними. Но ведь и мастер Виктор Артурыч не поверил! «Эх, Ваня, Ваня, — говорит, — а мы тебя с Настей на Новый год ждали». Так, мол, и так, Артурыч, объясняю, такая приключилась со мной историйка в городском саду. «Да ладно, Иван, чего уж там…» — мастер говорит и не смотрит на меня.
Эх, обидел меня Артурыч, как никто еще не обижал. А вот кто сомнений во мне не имел, так это Мишка Журба. В тот же вечер подходит ко мне и смотрит молча на мою физиономию-маску. Потом говорит: «Только так, Андреич, ты со своим характером и мог поступить. Ты и четыре двенадцать вернуть можешь, и человека спасти. За что люблю тебя, уважаю и ценю твою компанию».
В тот же вечер порешили мы с Мишкой Журбой опять в одной смене работать. Такая вот приключилась со мной историйка, хотите — верьте, хотите — нет».
ПЕЧНИК ИЗ ЗАКЛИНЬЯ
Иногда после работы или в выходной день ухожу я из города в деревню к друзьям своим, приятелям. Чаще других у Дмитрия Блюмова бываю, что в деревне Заклинье живет, километрах в двух-трех от Луги. Работает Дмитрий Блюмов на абразивном заводе печником, и еще — стихи пишет. Стихи редакция берет не очень охотно, но берет. Иногда в полосе «дырку» закрыть нечем, вот тут-то стих и может пригодиться. Подправят его наскоро, подрежут — и в полосу. Появится стихотворение где-нибудь в уголке газетном рядом со сводкой по вывозке торфо-минеральных удобрений, и не всегда печник Блюмов стихотворение свое узнать может. Вообще-то у нас, почитай, в каждой деревне поэт имеется, но сегодня разговор только о Блюмове. Поскольку в рассказе этом о старейшем своем заводском приятеле намерен обильно его стихи цитировать, сразу оговорюсь: в техническом отношении стихи Блюмова не всегда совершенны. Рифмой иногда грешат и прочими правилами стихосложения. Но, думается, когда читатели с Дмитрием Блюмовым и его семьей поближе познакомятся, они простят ему это.
На заводе, в деревне, в близлежащей деревенской округе Дмитрия Блюмова знают, но не как поэта, а как печника — мастера. Он один из тех последних могикан печного дела на лужской земле, которые так ценились исстари на деревне, о мастерстве которых слагались легенды.
Как печник Блюмов вошел в известность в послевоенные годы. Семья его росла стремительно. После восьми лет семейной жизни у него уже были дети: Наташа, Юрий, Павел, Надежда, Тамара, Галина, Марина. Жена и старуха теща округляли его семью до полного десятка. В ту пору работали мы с Дмитрием здесь же, в Заклинье. Я — грузчиком на колхозной пилораме, он — пилоставом. Тогда Дмитрий только еще начинал строить в деревне свой дом. Деревенские смотрели на него как на чудака. Такую ораву ртов и прокормить-то дай бог каждому, а он еще на дом замахнулся. Имеешь в городе комнатуху, ну и живи, благо крыша над головой есть. Так нет, в деревню ему захотелось, дом ему подавай. Никто из друзей и знакомых Дмитрия Блюмова, даже жена его Клава — никогда не унывающая толстушка, и не догадывались, что в деревню Дмитрия тянут не только огород и грядки, с помощью которых надеялись они откормить свою отощавшую ребятню. Уже тогда в душе Дмитрия рождались стихи, которые записывал он на клочках бумаги.
А душа летит к реке и роще, Где сегодня, проявив заботу, Солнце вербу в омуте полощет.Деревенский дом свой Дмитрий Блюмов строил не один год. Взял у государства ссуду, в долги влез, поставил на краю деревни, возле речки, сруб. Установил в середине сруба прямо на землю железную бочку, под печку приспособленную, полати из горбылей соорудил над ней, прикрыл сверху стропила листами ржавого железа, что насобирал в лесу, и стал обживаться, обрастать помаленьку хозяйством. Самой трудной в новом доме, вернее срубе, первая зима была. В ту лютую зиму умер младший его сын Толя, еще грудной. Остальные ребятишки зиму пережили ни разу не заболев, удивляя деревенских выносливостью и закалкой, когда они, худые, голодные, прокопченные дымом до желтизны, носились шумной ватагой по заснеженной деревенской улице босиком. С женой своей Клавой, или, как любил ее Дмитрий называть, Клавдией Александровной, жили они душа в душу. Клавдия хоть и ходила девять месяцев в году брюхатой, однако те работала на железнодорожном вокзале уборщицей, почитай, круглый год, а за ребятами присматривала мать ее, Дмитриева теща. Ребята без дела тоже не сидели, по снегу босиком много не набегаешь, занимались «паломничеством» — половые швабры вязали. Надомную эту работу брал Дмитрий много лет подряд у деревообрабатывающего комбината, и была она для его семьи неплохим подспорьем. Ребятня так наловчилась вязать швабры, что даже отца с матерью в этом деле обгоняла. В иной вечер блюмовская семья до сотни швабр вязала. Правда, стоила швабра недорого — три копейки старыми деньгами, но за зиму на пару ботинок набегало, и покупали их тому, кто шел в школу.
Печником Дмитрий Блюмов стал нежданно-негаданно. Насобирал он летом с семьей возле разрушенного здания кирпичей и сложил в своем доме печь. И хотя раньше этим делом заниматься ему не доводилось, получилась печка не такой уж и плохой. И тяга была, и жар давала. И решил Дмитрий в свободное от работы время подрабатывать на жизнь печным делом. Долго приглядывался к печникам, к работе их. Литературы по печному делу насобирал, чертежей поначертил, а взяться за кладку все же робел. Наконец решился.
В деревне Турово у бабки Ватруши печь дымила. К ней и подрядился. С печью своей бабка Ватруша намаялась вдоволь и никогда бы не доверила перекладывать ее незнакомому человеку, да пожадничала. Новый печник только полцены запросил и с виду был обходительный, не горластый.
Четыре дня возился Дмитрий с печью бабки Ватруши. Хозяйка уже засомневалась в нем, затосковала. Что за печник! Положит десяток кирпичей и сидит, курит, в бумажки свои заглядывает. А то вдруг готовую печь заново разбирать начнет. А уж раствор замешивает, будто тесто. И месит, и месит, всякий камушек растирает. Это — за полцены-то!
Бабку Ватрушу глодала подозрительность.
Но как затопили наконец печь, да как завыла она тягой, заполыхала жаром с одной охапки ольховых поленьев, поняла бабка Ватруша, что подвалила ей большущая удача.
Потом Блюмов сложил печь в деревне Мерево. И эта печь порадовала хозяйку.
О новом печнике заговорили.
В эту пору многие строились в деревнях, но печников хватало. В каждой большой деревне был один, а то и два. Блюмову предстояло выдержать жесткую конкуренцию. Опыту бывалых мастеров противопоставил он добросовестность в работе и меньшую плату. С годами приходил и опыт, и то чувство, что зовется интуицией, а в народе — уменьем. А печник без уменья, что мастерок без рукоятки.
Печи даже одинаковой конструкции всегда разнятся между собой. У одной тяга бумагу из рук вырывает, а тепла нет. Другая с капризами — дымит; третью, чтобы растопить, жизнь проклянешь. Опытный печной мастер при кладке печки все учитывает: на горке дом стоит или в низине, лес поблизости или озеро. Не любят мастера чужие, не ими сложенные печи перебирать, причины капризов выискивать. Хлопотное это дело. Иной раз, чтобы «вылечить» такую печь, достаточно флюгарку над трубой установить, ветер в сторону отвести. А иногда сложную техническую задачу решать приходится, со многими неизвестными. И уж коль зашел такой подробный разговор о печном деле, нельзя не рассказать о тех проделках, что устраивают иногда печники в отместку негостеприимным хозяевам. Вмазывается, например, в дымоходе горлышко от бутылки. Поет по ночам печь, завывает на разные голоса, словно леший в нее вселился или домовой. А то подвешивается в трубе на тонкой бечевке кирпич. Через два-три дня бечевка перегорает, кирпич падает, печь дымить начинает.
Или такой фокус. Заделывается в дымоходе одним концом бумажный лист. Затопят печь — лист как лепестковый клапан действует — поднимается и перекрывает дымоход. Трубочисты трубу в поте продраивают, а дым по-прежнему валит в дом.
Дмитрий Блюмов фокусы эти никогда не проделывает, но знает их великое множество.
Однажды старый печник и ему загадал загадку, которую он не сразу решил. По весне дело было. В соседней деревне клал печь Михеич — единственный, пожалуй, кто на равных соперничал с Блюмовым в мастерстве. Но любил Михеич по окончании работы щедро «обмыть» свое печное творение. И норма его была известна — полкило. Слово «пол-литра» Михеич не любил, полкило — и все тут.
Уже заканчивая «шляпу» трубы, заприметил он хозяйку, поспешающую из магазина. И хотя глаза у Михеича немолодые были, усек он с высоты в кошелке хозяйки две беленькие головки «четвертинок».
Закончил Михеич печь, протопил. Не печь получилась — игрушка!
Сел за стол. Глядь, а на столе одна «маленькая». Вторую хозяйка приберечь решила. Печь-то сложена уже. А что будет печник недоволен, так это — бог с ним, переживем.
На обращение такое Михеич кровно обиделся. «Маленькую» не тронул, ушел не попрощавшись.
Хозяйка на печь не налюбуется. Решила снова протопить. Растопилась печь поначалу вроде хорошо, а потом… Господи! Дым в хату повалил!
Заголосила хозяйка и, проклиная жадность свою, помчалась к Димке Блюмову. А у Блюмова Михеич уже побывал. Слово у него вырвал, что если прибежит жадюга насчет печи, взять с нее килограмм. «Хоть вылей потом, а возьми килограмм. Это моя единственная к тебе просьба», — заключил Михеич.
Отказать Михеичу значило обидеть его. Был он мужик гордый, до просьб снисходил редко, а секретов печных немало открыл в свое время Дмитрию. Что за проделку соорудил он, Михеич не объяснил, а расспрашивать Блюмов не стал.
Больше часа провозился Дмитрий с печью, прежде чем обнаружил в отверстии для самоварной трубы нехитрое устройство Михеича. Это была бумажная вертушка на гвоздике, какими забавляются обычно ребятишки. Вертушка эта и гнала из трубы дым, вернее, не пускала его в трубу.
Слава о мастерстве печника Блюмова расходилась по деревням и достигла Луги. Дмитрия пригласили работать печником на завод «Красный тигель». Громадные заводские печи, в которых обжигаются тигли, Блюмов освоил с поразительной быстротой. Обжигательные печи, норовистые и капризные, вдруг, под присмотром нового печника, выправились, загудели ровно и дружно. Выяснилось, что штатный печник в цеху и не нужен, достаточно приходящего. Перевели Блюмова в заводской жилотдел. Стал он налаживать старые печки в домах работников завода. А если завод новый дом строит, вслед за строителями Блюмова пускают. Строители печи по типовому проекту кладут. Раз-два — и готово. Им не до тонкостей, не до художеств. Блюмов иную печку сразу заново перекладывает, у другой дымоход уширит на два-три сантиметра, третью лишь легонько молоточком простучит. Поют печки!
В гости к старому своему приятелю отправляюсь я всегда по тропинке, что протоптана им от деревни до города в чистом стройном сосняке. По тропинке этой Дмитрий Блюмов проходит от дома до завода трижды в день туда и обратно. В общей сложности набегает у него за день около десяти лесных километров. В иной день, правда, когда работы на заводе много — печь обжигательная забарахлила или котельная, Дмитрий на обед в деревню не ходит, перекусывает в заводской столовой. Он очень дорожит лесными часами дороги, когда может побыть наедине с собой, наедине с природой. Здесь каждое дерево, каждый куст можжевельника тронуты его палитрой. Вот сосны:
Отличаются сосны внешностью, Есть у каждой свой взгляд и поза, — Та согнулась с лихой поспешностью, Эта смотрит на мир с угрозой.Я медленно бреду по тропинке. Терпко пахнет хвоей, дышится легко, свободно, и, наверное, от избытка озона меня охватывает ожидающе-радостное и чуть тревожное настроение, как бывало когда-то в детстве. Из-за поворота вылетел развеселившийся ветерок, упруго толкнул в лицо парной теплынью, но вдруг остановился, сник, растаял. Потом вновь встрепенулся, ожил, стал крепнуть.
Солнце, словно через вату, Землю мутно освещает, Ветер черную заплату Горизонту подшивает.Петляет, петляет тропинка по лесу печника Блюмова. Здесь все его, повсюду он.
Меня почему-то всегда волнуют, тревожат стихи Дмитрия Блюмова о природе. Настояны они на любви к родной земле, на детски чистой, солнечной душе, чуждой всякой фальши.
Этот лес по-особому русский; Ель, береза, осина, сосна — Непридуманное искусство, Неразгаданная старина. Мишура, суета и мода В этой области не живут. Величайший ваятель — Природа Днем и ночью работает тут.Тропинка вытекает из леса и круто падает вниз, к ручью. За ручьем деревня Заклинье. Еще дальше — совхозные поля, ферма, ремонтные мастерские и голые пятиэтажные здания центральной усадьбы совхоза «Лужский». Дом Дмитрия Блюмова сейчас в самом центре деревни. Дом размашистый, с пристройками, садом, но небогатый. На задворках возле бани — старый тополь в кругу молодых сосенок.
Вот мы и у дома Дмитрия Блюмова. В этом доме — как в лесу: легко, свежо дышится, покойно и шумно от детского гомона.
Мягко крушится клубок, Вяжет бабушка чулок. На гитаре брат играет, Ноту к ноте подбирает. Мама стряпает обед, Мелет мясо для котлет. Папа сунул нос в газету — Путешествует по свету…Детство самого Дмитрия Блюмова оборвалось летом 1941 года. Больного, ослабевшего, его с сестренкой вывезли из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера на Большую землю.
Детство, дети… Дети Дмитрия Блюмова уже выросли, окрепли, ребята отслужили в армии и вернулись домой. Все женились и повыходили замуж, народили детей. Старший сын Юрий работает трактористом в «Сельхозтехнике», депутат нашего городского Совета. Павел — на химическом заводе работает, Тамара — швея на трикотажной фабрике, Галя — на почте телеграфисткой, а младшая, Марина, на деревообрабатывающем комбинате работает. На том самом комбинате, от которого надомничала в детстве, половые швабры вязала. Только теперь Марина не швабры вяжет, а изготовляет знаменитые лужские деревянные игрушки, которые не раз завоевывали призы на международных выставках. В детстве Марину не баловали игрушками, но отец посвятил ей немало своих стихов, она была неизменная спутница Дмитрия в его лесных походах.
В жизни и творчестве Дмитрия Блюмова дети занимают центральное место. Его стихотворный цикл «Мои дети» — самый богатый. Вот одно стихотворение из этого цикла:
Сын уроки садится делать, В руки книжку берет обстоятельно. Его носик, уже загорелый, Вдруг наморщится обязательно. Он свой пальчик за строчками тянет, Как по рельсам состав тяжелый, Он на каждой точке станет. Как на станции незнакомой.А вот и сам хозяин спешит мне навстречу. Немолодой уже, сутулиться начал. Лицо в морщинах, неприметное, и серые глаза словно выцвели, посветлели. Печи по деревням Дмитрий Блюмов уже не кладет. Нужды в этом нет, в доме достаток.
Мы уединяемся с хозяином дома в небольшой комнате. «Кабинет», — шутливо зовет Дмитрий эту клетушку. Добрую половину ее занимает стол, собственноручно сколоченный хозяином. Стол завален книгами. В основном — стихи. Отдельной стопкой — его любимые. Эти Дмитрий читает почти ежедневно, как бы ни устал. Поэты разные. Здесь Дмитрий Кедрин и Расул Гамзатов, Петрусь Бровка и Евгений Евтушенко, Вадим Шефнер и Глеб Горбовский, и два вологодских поэта, творчество которых особенно близко и понятно Блюмову, — Ольга Фокина и Николай Рубцов. На окне, обернутые белой бумагой, три томика — святыни Блюмова: Пушкин, Есенин, Блок.
Я иногда приношу Дмитрию небольшие книжки новых стихов, которые оставляет для него в книжном магазине моя знакомая продавщица. Дмитрий берет их в руки и, не глядя на название книги и фамилию автора, начинает читать стихи вслух. Оценку стихам и автору он дает всегда разную, порой жесткую. «Мастер», «Ремесленник», «Умеет делать деньги», «Этот растолкается», «Этого, бы к нам на завод, на обжиг тиглей, а то жизнью не пахнет». Но вот Дмитрий, прочитав понравившийся ему стих еще и еще раз, понижает голос и произносит благоговейно: «Поэзия. Поэт». И только после этого смотрит название книги и фамилию автора.
Свои стихи Дмитрий Блюмов читает негромко, слегка заикаясь. Я готов слушать его до утра. Передо мной раскрывается внутренний мир этого человека, которого я знаю с детских лет, мир, богатый красками жизни, чуткий, нестареющий.
Быстро проходят годы. Годы уходят в вечность. Годы, как пароходы, Плывут в бесконечность.В жизни Блюмов неспокойный, ищущий, хлопотливый. И в поэтическом мироощущении своем такой же.
В век, когда расщепленный атом Может жизнь на земле пресечь, Нужно каждый сучок горбатый, Листик каждый, травинку беречь.Лучшие стихи Дмитрия — о матери. Он читает их как-то иначе, по-особому, волнуясь и заражая меня своим волнением.
На крутых перегонах Житейских дорог Я чертовски устал И чертовски продрог. Очень холодно мне Без твоей теплоты, Без заботы твоей И твоей доброты. Мне вернуться бы надо В твой дом за рекой, Где, как в озере горном, Незыблем покой. Где ветра не шумят И дожди не идут. Где меня так давно, Так безропотно ждут. Мне вернуться бы надо… Но это же сон, Это прошлого тихий, Настойчивый звон. Нету дома давно, И тебя тоже нет. Ты ушла в глубину Мною прожитых лет. Только память моя Образ светлый хранит, Только сердце мое Гулко вдруг застучит. И тогда отвернусь я, Губу прикушу Или залпом воды Полный ковш осушу.Давно уже погасли в деревне огни. Угомонилось за стеной большое семейство Блюмовых, а я все не могу расстаться с этим гостеприимным домом. Стихи, стихи, стихи.
Стараясь не хлопать дверьми и не скрипеть половицами, мы с хозяином на ощупь выбираемся из бесчисленных комнат его дома. Отовсюду несется сонное посапывание и бормотание его внуков.
Мы выходим на улицу. Деревня спит. Дмитрий идет проводить меня до ручья. Мы идем молча, очарованные тишиной и красками весенней ночи. Идем прямиком через яблоневый сад Дмитрия, мимо его бани, мимо детских качелей.
Стоят дома, застыв от изумленья Перед волшебной, дивной красотой. Часов невозмутимое движенье Простукивает шар земной.У ручья мы расстаемся. Дмитрий, не оглядываясь, неторопливо идет назад, к темнеющей на фоне светлого летнего неба деревне.
Я еще долго смотрю вслед печнику и, кажется, слышу его хрипловатый, слегка заикающийся голос:
Разве я не богат? На дела не гожусь? Есть друзья у меня — Дорогие лужане. Есть земля у меня — Необъятная Русь.ЗАНУДА
История эта началась с письма, присланного в редакцию на имя главного редактора из деревни Толкани. И длилась она (жалобы, разбирательства, ответы, выводы, контржалобы, опровержения, наказания, коллективные письма в защиту, повторные разбирательства, и повторные выводы, и повторные письма и т. д.) на протяжении многих лет. Сказать с уверенностью, что она закончилась, не могу даже сейчас. Поскольку история эта даже в моем сжатом изложении выглядит несколько растянутой, решил я ее разбить для удобства чтения на главки. Сделать из длинного рассказа нечто вроде короткой повести.
Итак, глава первая, которую я назвал просто:
Письмо
Письмо это пришло в редакцию весной, когда с полей сошел снег и началась первая пахота. Все страницы письма посвящены были одному лицу — колхозному скотнику из деревни Толкани Светлову Петру, нехорошему человеку. Обвинялся Светлов во многих грехах, но главное: содержит в личном хозяйстве колхозную лошадь, «из коей извлекает нетрудовые доходы», — выражение это запомнилось мне дословно. Письмо редакция переслала на соответствующий сельсовет с просьбой разобраться и дать газете ответ.
Глава вторая. Ответ
Пришел ответ за подписью председателя сельсовета, в котором сообщалось, что факты по письму-жалобе из деревни Толкани проверены и подтвердились частично. Что касается лошади, находящейся якобы в личном его безотчетном пользовании, то данная лошадь по кличке Зануда выделена колхозом для обслуживания Толканской фермы и закреплена за скотником Светловым Петром. Содержит он лошадь на своем дворе по причине отсутствия казенного помещения (конюшни).
Далее сообщалось, что товарищ Светлов активно участвует в общественной жизни деревни Толкани, как-то: вспахивает огороды ветеранам войны и труда, обеспечивает дровами и товарами повседневного спроса, минувшей осенью в период распутицы спас человека (вывез на лошади Зануде больную с острым приступом аппендицита на центральную усадьбу колхоза). В заключение этого подробного и обстоятельного ответа солидно сообщалось, что проверку фактов по жалобе в деревне Толкани проводил участковый уполномоченный милиции старший лейтенант Тимофеев.
Редакция дала соответствующий ответ автору жалобы из деревни Толкани и с чистой совестью посчитала, что дело на этом закончено. Но не тут-то было.
Глава третья. Светлов Петр не унимается
Вскоре в редакцию, в милицию, в прокуратуру города, в горисполком и прочие инстанции поступили новые письма, уведомляющие, что гражданин Светлов Петр продолжает творить в деревне Толкани свои черные дела, а участковый уполномоченный милиции старший лейтенант Тимофеев, который приезжал в деревню для проверки указанных фактов, и этот Светлов гуляли по деревне с гармошкой и ревели песни.
Глава четвертая. Нестойкий, но принципиальный уполномоченный
Увы, многие факты при повторной проверке подтвердились. В том числе и о старшем лейтенанте милиции Тимофееве. Ради справедливости следует сказать, что у Тимофеева было немало смягчающих дело обстоятельств. Во-первых, скотник Светлов доводился уполномоченному Тимофееву по его первой жене свояком. Во-вторых, они вместе партизанили в годы войны. В-третьих, события, описываемые в повторных жалобах, происходили в субботне-воскресные дни. Таким образом, можно было считать, что участковый уполномоченный Тимофеев просто-напросто гостил в деревне у своего родственника и старого фронтового товарища. Что же касается песен, то этот факт убедительно доказать не удалось. И Тимофеев и Светлов в один голос утверждали, что пели они народные частушки, которые испокон веков поются на деревне. Подобные песни в исполнении скотника Светлова Петра приезжал записывать (подтверждено свидетелями) в свое время большой профессор из Ленинграда и называл их «народные частушки с картинками».
Глава пятая. Наказание скотника Светлова Петра и трагедия Зануды
После долгих скрупулезных разбирательств, неустанного труда многих должностных лиц и организаций, после сомнений и колебаний решено было скотника Светлова Петра из деревни Толкани наказать. Ему объявлено было общественное порицание. Участковый уполномоченный Тимофеев получил от своего начальства выговор, а вот кто пострадал трагично, так это лошадь Зануда. Дабы не разгорался вновь из-за нее сыр-бор в деревне и по причине старости, решено было сдать ее на мясокомбинат.
Глава шестая. В защиту скотника Светлова Петра
Казалось, справедливость восторжествовала. Возмутитель деревенского спокойствия наказан. Никто теперь толканским пенсионерам огороды лошадью не пашет, дров не возит, частушек «с картинками» не поет. Ан нет! Доярки Толканской фермы письменно вступились за своего скотника Светлова Петра, справедливо утверждая, что на безрыбье и рак рыба. Раньше хоть какая-то лошадиная подмога была на ферме, а теперь и той нет.
Глава седьмая. Таинственный жеребенок
В редакцию вновь стали поступать письма и телефонные сигналы из деревни Толкани. Скотник Светлов Петр завел на своем дворе невесть откуда добытого жеребенка и явно нацелен на продолжение старых дел. Даже кличку жеребенку дал прежнюю: Зануда. Недруг скотника призывал редакцию и другие компетентные органы проверить, откуда у гражданина Светлова Петра лошадь.
Глава восьмая. Факт подтвердился
Редактор газеты лично позвонил в правление колхоза и узнал, что никакой лошади или жеребенка в деревне Толкани быть не должно. На колхозном балансе таковые не числятся.
Дело закрутилось с новой силой. Подключены были к нему и следственные органы. Шаг за шагом распутывали они хитросплетенные ходы скотника Светлова Петра и добрались-таки до сути дела, выявили, откуда появился в личном пользовании скотника нигде не учтенный жеребенок по кличке Зануда.
Глава девятая. Разоблаченные ходы скотника
Началось с того, что Светлов Петр раздобыл себе в больнице (по знакомству) справку, что он страдает хронической болезнью желудка — гастритом. И гастрит у него не простой, а редкостный, на который благотворно влияет лишь свежее конское мясо. Затем в правление колхоза поступило заявление от участника войны и активиста партизанского движения в родном крае с просьбой это самое конское мясо ему выделить, ибо боли в желудке нестерпимые и мешают ему трудиться с полной общественно полезной отдачей. К заявлению прилагалась справка с больничной печатью, подтверждающая наличие у гражданина Светлова Петра редкостного гастрита. Правление колхоза пошло навстречу просьбе участника войны и выделило ему конское мясо в живом весе (выбракованный жеребенок). «Мясо» это Светлов Петр и увел в свою деревню Толкани. И теперь обкатывает уже его на приусадебных участках односельчан.
Глава десятая. Технический прогресс и Зануда
Время шло. Коллеги мои, бывая изредка на Толканской ферме, рассказывали, что в краю том не осталось уже ни одной лошади, всех их заменили автомобили, трактора, самоходные шасси. Теперь, чтобы забросить в бригаду бочку солярки или подвезти к ферме корма, не скупятся иной раз и на «Кировца» с прицепом. А у того богатыря арифметика отдачи от подобной лошадиной работы простая: бочку солярки привез, сам при этом две скушал, плюс стоимость живой лошади на износ. Из всего колхоза лишь скотник Толканской фермы Светлов Петр сопротивляется наступающему техническому прогрессу, умудряется каким-то чудом сохранить на своем дворе кобыленку по кличке Зануда. Не ту «гастритную» Зануду, которую он вырастил из отпущенного ему «живого веса», и не последующую даже — их конфисковали у него и сдали на мясокомбинат, а следующую после последующей. На кобыленке этой, на балансе колхоза не числящейся, неугомонный скотник шустрит на ферме, на частных огородах, на дровозаготовках, на сенокосе, а когда припирает деревенских нужда в товаре «повседневного спроса», ставит Зануду под седло. От Толкани до ближайшего сельмага как-никак семь верст разухабистой болотной колеи, по которой даже «Кировец» проходит с опаской.
Глава одиннадцатая. Светлов Петр приспосабливается
Как бы ни хитрил скотник Светлов Петр, как бы ни петлял, какими бы тайными тропами ни приводил на свой двор очередную лошадь или жеребенка, недремлющий писучий его недруг тотчас давал о том знать соответствующим органам. И органы эти, изучившие повадки Светлова, давно уже перестали распутывать его сложные ходы, вроде «гастритного», а упростили дело до чрезвычайности. Едва поступал сигнал, что в деревне Толкани во дворе скотника Светлова Петра слышится конское ржание, как участковый уполномоченный милиции старший лейтенант Тимофеев получал от своего начальства оперативное задание: проверить сигнал общественности, и, если у Светлова Петра нет на лошадь требуемых документов, таковую лошадь из частного его пользования изъять и отвести собственным ходом на мясокомбинат. Но и Светлов Петр, как явствует уже из предыдущих глав, не лыком шит. На каждую свою очередную Зануду он изловчился доставать охранную бумагу. Бумаги эти были от самых разных организаций. Суть такого документа сводилась к тому, что руководство организации (Вторчермет, Мехлесхоз, Общество охраны памятников, Общество охотников и рыболовов и т. д.) «просит», «ходатайствует» перед местными органами власти, что организации просто-напросто необходима в отдельные периоды времени помощь лошади и что гражданин Светлов Петр обязуется таковую помощь на лошади по кличке Зануда данной организации оказывать безвозмездно в любое время года. Законная сила подобных не совсем вразумительных документов была конечно же относительной. Но отпечатан такой документ был, как правило, на фирменном бланке организации, в нужных местах стояли соответствующие подписи и солидная круглая печать. Этого оказывалось вполне достаточно для участкового уполномоченного милиции старшего лейтенанта Тимофеева, который с чистой совестью сообщал по команде, что документы на лошадь по кличке Зануда, временно закрепленной за гражданином Светловым, находятся в полном порядке. Правда, всевидящий недруг Светлова немедленно уведомлял органы о том, что проверка сигналов общественности участковым уполномоченным Тимофеевым в деревне Толкани проводилась поверхностно, что за время пребывания участкового в избе Светлова Петра последний дважды ставил лошадь Зануду под седло, а потом в его избе играла гармошка. Но то были улики против скотника и участкового уже, как говорится, косвенные, к тому же они отдавали замочноскважинным душком. Короче говоря, пока суд да дело, скотник Светлов Петр успевал попользоваться Занудой год, а то и два.
Глава двенадцатая. Светлов Петр устанавливает связь с наукой
На какое-то время редакция потеряла из вида Светлова Петра и его «дело». Но ненадолго.
В редакции газеты нашей появился как-то ленинградский ученый-топонимист. Ученый представился просто: Коля. Он был тощий, длинный и молодой. Все лицо Коли до самых глаз заросло светлой курчавой бородкой, и был Коля очень общительный. Он поведал нам, что в Ленинграде готовится областной топонимический словарь и сам он уже не первый год занимается изучением происхождения названий населенных пунктов нашего района. Топонимически в целом район несложный, но есть названия, над разгадкой которых его коллеги в Ленинграде бьются не один год. Среди этих неразгаданных услышал я вдруг знакомое: Толкани.
— Если происхождение остальных названий еще можно как-то логически осмыслить и приблизительно объяснить, то Тол-ка-ни? — говорил Коля. — Какая-то абракадабра. Месячную зарплату свою не пожалею тому, кто хоть намек даст на происхождение подобного необъяснимого феномена. Выручайте, мужики, — попросил Коля, — бросьте клич через свою газету. Авось кто и откликнется.
Редакция охотно пошла навстречу просьбе ученого-топонимиста. С помощью Коли подготовлен был материал, в котором популярно рассказывалось о науке топонимии, приводились наиболее интересные названия деревень и поселков, разгаданные учеными. В заключение ученый от своего имени обращался к читателям газеты с просьбой помочь разобраться в названиях некоторых населенных пунктов, таких, например, как Толкани…
Вы, конечно же, догадались уже, что первым на призыв науки топонимии откликнулся Светлов Петр из деревни Толкани.
Вот его письмо.
«Гражданин хороший из газеты. Пишет тебе скотник Светлов Петр из деревни Толкани. Участковый наш, свояк мой, надоумил, напиши говорит в газету что и как ежели просют. У нас на скотном и на деревню всю одна кобыленка осталася, помог бы сохранить ее гражданин хороший, а. Ну как можно в деревне без лошади сам подумай. Я бы тебе за это про деревню нашу Толкани все как есть растолковал и объяснил, ни в чем бы сомнений не заимел. Я с наукой связь давно имею, у меня профессор был из Ленинграда который частушки записывает. Мы со свояком накидали ему частушек столь, что он говорят из них большую книгу сделал и мешок денег получил. Обещал бумагами на лошадь помочь да и с концами, обманул. Я недавно у цыган с Низовской кобыленку добыл. Ежели поможешь с бумагой на нее, знать будешь что такое наша Толкани практически и гарантийно. А ежели нужда будет куда слетать на лошади для науки или по личному, я в любой момент без отказа. Приезжай гражданин хороший. Мой дом на горке голубой и под шифером. Светлов Петр».
Глава тринадцатая. Встреча
Ученый Коля, получив это письмо, прочитал его в редакции вслух и незамедлительно собрался в дорогу на своем помятом, видавшем виды «Запорожце» — «горбатеньком», как звал он его. У меня давно уже не было фотоснимков из тех мест, куда собрался Коля, и я попросился к нему в попутчики.
— Поехали, — охотно согласился ученый, — вдвоем веселее.
Минут сорок мчались мы по шоссе на «горбатеньком» со скоростью пятьдесят километров в час, затем свернули на проселочную дорогу, вдрызг разбитую тракторами и прочей техникой. К удивлению моему, Коля оказался классным водителем. Дорога с каждой минутой все более оседала, раскисала, вползала в неоглядное болото, заросшее мелким сосняком, но «горбатенький» творил чудеса. Истошно воя и скрежеща днищем по земле (слава богу, что нет камней), он настырно полз вперед. Мы уже не ехали — плыли по черной болотной хляби, и уже нельзя было повернуть и назад — обочины исчезли, водянистые мхи подступили к колее вплотную. Казалось, еще немного, и дорога растворится в болоте, и придется нам возвращаться на большак пешком.
Нам не хватило совсем чуть-чуть. Колея уже начала приподниматься, крепнуть, обрастать обочинами, уже отступил сосняк и вдали показалась деревня, как вдруг мы сели. Завязли в невзрачной, до обидного, луже. Газуя, Коля подергал своего «горбатенького» взад-вперед и в сердцах стукнул кулаками по баранке:
— Все, приехали!
Мы вылезли из машины, предварительно сняв ботинки и закатал брюки до колен, и уселись на аккуратную жердевую скамейку, сооруженную возле лужи словно бы в насмешку каким-то чудаком. Закурили.
Хорошо было вокруг, солнечно, прохладно, безветренно и как-то по-осеннему звонко. Под белыми кучевыми облаками парил коршун, над замшелым пнем кружил шмель. Где-то в стороне за лесом то ли трактор работал, то ли породой кричал.
— Люблю природу, — проговорил Коля с чувством и огладил ладонями льняную бородку. — Дышится легко, все заботы долой с плеч. Всю жизнь мечтаю жить в деревне. Чтобы хороший дом, сад, пчелы…
— Пчелы — это прекрасно, — поддержал я ученого. — Говорят, пчеловоды и печники дольше всех живут и многими болезнями не страдают.
— Какими, например? — живо поинтересовался Коля.
— Мне знакомый печник рассказывал, что у печников почти не бывает желудочных заболеваний. При вдыхании зольной пыли в желудке у человека щелочи образуются благоприятные.
— Смотри-ка ты! — удивился Коля и с философинкой в голосе добавил: — Да, много еще в жизни такого… От этой вот скамейки в чистом поле до бесконечности миров…
— А что скамейка? — не понял я.
— Кто-то ведь сработал ее здесь. Ты посмотри, даже жерди топором обтесал, а зачем? Лужей любоваться? Ну, положим, узнать, кто сработал эту скамейку, мы можем. А вот что двигало человеком, делавшим ее здесь для чужих, незнакомых людей, этого, пожалуй, строитель объяснить толком и сам не сможет. Возможно, им двигало извечное, в генах заложенное стремление помочь, поддержать особь, себе подобную, чтобы продолжить человеческий род. Стремление, которое люди, вышедшие из каменного века, назовут позднее добротой. Как ни странно, но нам, топонимистам, очень часто приходится сталкиваться в своей работе с человеческой добротой и участием друг к другу, запечатленными в названиях, которые мы сейчас разгадываем. Вполне возможно, что в основе тех же необъяснимых пока Тол-ка-ни лежит это участие, которое ощущаем мы сейчас, сидя на скамейке неизвестного нам индивидуума…
Спутника моего вдруг всерьез понесло на философские рассуждения, и я вынужден был прервать его:
— Сиди не сиди, Коля, на скамейке, а трактор искать придется. Без него не выберемся.
— Да, придется, — Коля вздохнул.
И тут вдали показалась лошадь, запряженная в телегу. На телеге горбатилась человеческая фигура, рядом с ней кто-то лежал, изредка приподнимая голову и тут же роняя ее.
— Кажись, на ловца и зверь… — с надеждой проговорил Коля, вглядываясь в приближающуюся повозку. — Никак ваш знаменитый конелюб Светлов на своей неистребимой Зануде?
— Больше на лошади здесь вроде бы некому, — согласился я.
Мы не ошиблись, возчик и впрямь оказался Петром Светловым. Это был статный, среднего роста мужичок лет шестидесяти, с открытым красивым лицом и, что редко бывает у деревенских в страдную пору, чисто выбритым. На нем была милицейская фуражка, телогрейка, синие с красным кантом галифе и резиновые сапоги. Тот, кого я поначалу принял за человека, лежащего в телеге, оказался громадным ожиревшим бараном, связанным веревками.
— Тпрру-у! Черт! — притормозил возница веселенькую, шуструю кобыленку возле нашей скамейки. — Здоро́во!
— Здравствуйте! — отозвались мы.
— Сидим?
— Сидим.
— Закурить имеется?
— Поищем.
— А… газета, — узнал вдруг меня возница (я этого человека видел впервые), — уж не ко мне ли путь держите?
— Если Светлов Петр, тогда к вам.
— Светлов, Светлов, как же. Теперича у нас ежели на коне кто — тот и Светлов.
Глава четырнадцатая. Некоторые мысли и рассуждения Светлова Петра о живых душах
Вот ты, гражданин хороший, спрашиваешь: почему я за коня держусь? А привычка. В нашем роду все мужики испокон веков при коне, бабы при корове, а ребятня при собаке. А теперича в деревне что? Мужик при тракторе, ребятня при мопеде, а баба от коровы, как черт от ладана. К животине какое стало отношение? Сколь дает, чего может, сколь на ее сил-труда требуется. Щелк-щелк на счетах, и полная во всем ясность: эту животину оставить, эту со двора долой. С одной только этой стороны и подходим к животине, а ведь она душа живая. Я вот не помню, как с девкой впервой поцеловался, а как жеребенок мне, несмышленышу, уши теплыми губами щипал, вовек забыть не могу. После войны я ведь тоже в город подался, на «Литейщике» обдирщиком работал. И комната отдельная в общежитии была, и зарплата хорошая, а проснешься, бывало, ночью, что вспоминается? Как коней на озере купаю или в ночное гоню. И еще пес Верный помнится, как ждет он меня, поджидает у крыльца школьного. Выхожу из школы, Верный мне на грудь шасть — и аж слезы у него из глаз от радости. А теперича посмотри вокруг, гражданин хороший. Собак в деревне не стало!
Эвон, соседа моего тракториста Ваську Мамонтова возьмем (это который на кобылу мою жалобы пишет). Справный мужик, непьющий. Сам и на тракторе, и на машине, и на комбайне. На все руки мастак, по три сотни в месяц выколачивает, а то и поболе бывает. Баба его бригадиром на парниках — полторы сотни. Двое ребят у них — Костя и Генка. Полная чаша дом. Телевизор цветной, магнитофон, у самого — мотоцикл с коляской, у ребят по мопеду, два мотора еще лодочных. А из животины — кота и того в доме нет, крыс-мышей отравой изводят, а за молоком в Рогово на мотоцикле гоняют к Васькиной матке. Костя с Генкой не хуже отца в технике кумекают и на тракторе подсобляют ему, и на комбайне. Старшой-то — Костя — в армию пошел, Васька ему дом царский принялся в деревне строить, чтобы после армии — женись и с молодой женой в новый дом. А я говорю Ваське: зря стараешься, не вернется твой Костя из армии в деревню. Потому как с люльки к железу приучен, а не к душе живой. А железа в городе больше. Ну что его в деревню твою поманит, чем родительский дом вспомнится? Что ему там на казенной-то койке по ночам снится? Трактор твой вонючий, что под окном стоит? Так у него уже танк имеется, ему после армии электричку подавай.
Ведь как в воду глядел я: не вернулся Костя из армии, на сверхсрочную службу записался.
Теперича вот Генки черед идти на службу. Васька Мамонтов ему и дом Костин обещает отдать, если вернется, и машину новую легковую купить. А я говорю Ваське: зря стараешься. И Генка твой в деревню не вернется, ну разве только на машину легковую позарится. Страсть какой охочий Генка до своей машины. Еще мальчонкой принялся на машину копить, каждую копейку в кубышку прятал. Осенью, бывало, клюквы из болота натаскает — заготовитель наш на одном Генке клюквой план выполнял. А подрос, стал с клюквой на базар в город ездить. Эвон, скамейку-то эту он сработал, Генка. Как подморозит, каждую субботу и воскресенье дежурит здеся с отцовым трактором. Зимой рыбаков-то на наше Толканское озеро на машинах видимо-невидимо прет. А здеся теплый ручей проходит, зимой не промерзает. Одна машина ввалилась, остальные стоят, объезда нету. Ну, Генка с трактором тут как тут. Скидывайся рыбаки по гривеннику ровно на двадцать пять целковых, все машины трактором через ручей перетянет. Жаден становится парень и без оглядки на людей живет. Это он ведь отца подбивает жалобы на кобылу мою писать. Без Зануды моей трактор Мамонтовых в деревне главная фигура. Генка всей деревне огороды на тракторе пашет, червонец со двора. А моя Зануда — пользуйся, кто может. За сеном надо, за дровами, в магазин — езжай сам, только запрягать научись, чтобы хомут спереди был, а не сзади. Огород вспахать надо? Бери кобылу, паши. Не можешь сам, я вспашу огород, и всяко по червонец возьму, а рубля три-четыре. Вот и стоит моя кобыла Мамонтовым поперек горла костью. А я Ваське, значит, и говорю: ежели и вернется твой Генка в деревню за машиной, все едино потом в город укатит. Потому как вырос он без общения с животиной. А без живой души рядом, с одним голым железом сызмальства, как можно?! И в том, Васька, твоя вина. Не мопед надо было покупать ребятам — собаку. Не изводить кобыл моих, а в ночное ребятам гонять их, купать, холить, радоваться, что осталась еще в деревне нашей древняя эта тварь, роднее и ближе которой у человека друга нет. Мои дети, говорю, Васька, потому все в деревне живут, что живыми душами воспитаны и взрощены, а не мопедами. Потому за старость свою и спокойный я, дети меня не обидят. А тебе, Васька, не завидовать надобно и не злиться на меня, а о внуках своих подумать. В городе-то небось без животины живут.
Глава пятнадцатая. Толкани
Наговорились мы со Светловым Петром, рассуждений его о жизни вволю наслушались, а о деле, ради которого сюда приехали, старик ни гугу. Словно бы и не он приглашал ученого в деревню свою с обещанием тайну названия ее для науки раскрыть. Коля к Светлову и так и эдак подходит. И кобылу его по висло-унылой морде погладит, по дряблой шее потреплет, в который уже раз клятвенно заверит хозяина ее, что кровь из носа, а выправит на Зануду охранную бумагу в своей ученой организации, Светлов Петр не реагирует. Папиросу нашу докурил и вдруг засобирался:
— Пора мне, ребятушки. Эвон, баран измаялся. В райпо везу его сдавать, успеть бы засветло. Подсобить, что ли, вашему железу из болотины выбраться?
— Сделайте такую любезность, — Коля фыркнул, начиная злиться, — уж подсобите, второй час сидим. Никак не нагуляемся в ваших местах.
— И-и, ребятушки! — бодро откликнулся Светлов, разбирая вожжи. — Што час! Я в этих-то местах седьмой десяток гуляю, нагуляться не могу. Трос имеется?
Мы прицепили «горбатенького» буксирным канатом к телеге, Коля залез в кабину, включил мотор. Возница со словами: «А ну, Зануда, черт ленивый!» — стеганул кобылу вожжами по острым мостолыгам; и машина, дымя колесами, стала медленно выползать из грязевого омута. «Горбатенькому» оставалось совсем чуть-чуть до дорожной тверди, как вдруг Светлов остановил Зануду, молча отвязал от телеги буксирный канат и, с явным намерением покинуть нас, принялся переворачивать барана на другой бок.
— В чем дело?! — крикнул Коля, высовываясь из кабины. — Почему буксир отдали?
— Теперича сами давайте, — невозмутимо ответил возница, вспрыгивая на телегу, и, кивнув на меня, добавил: — Эвон, «газета» здоровая, подсобит.
Коля в сердцах плюнул, выругался и, покрутив у виска пальцем, крикнул мне:
— Черт с ним, сами выберемся! А ну толкани!
— О! — громко произнес Светлов Петр, поднимая палец. — Толкани! То-то ж!
— Толкани? — прошептал Коля изумленно. — Толкани…
— И, главное, своим умом дошел, — похвалил возница ученого, — получается, что гарантийно. Как и обещано.
Мы с Колей все еще не могли прийти в себя от неожиданной разгадки сложного научного феномена, а Светлов Петр продолжал:
— Помнится, в люльке еще под потолком качаюсь, в оконце люди ночью стучат, тятьку просят: «Эй, хозяин, телега завязла. Будь добр, толкани!» В сырую погоду деревню нашу проехать и не завязнуть — мудреное дело. Испокон веков деревня наша — Толкани. Так что, ежели с бумагой на Зануду не забудете, все названия в краю нашем объясню вам практически и гарантийно. Бывайте здоровы, хорошие граждане.
«ГУСЛИ — МЫСЛИ МОИ…»
1
Есть люди, о которых очень трудно писать. Они настолько самобытны, талантливы и скромны, что, когда начинаешь лепить их образ словами, на бумаге получается лишь бледная тень интересного человека. Таков для меня Владимир Иванович Поветкин, тот самый гусляр из Новгорода, о котором упоминаю в начале книги. Многие, кто интересуется работой Новгородской археологической экспедиции и знаком с находками древних музыкальных инструментов в Новгороде, о Поветкине слышали или знают его лично. Много лет Владимир Иванович сотрудничает с экспедицией, вначале нештатно, теперь в штате. Работа у него самая разная — от прориси берестяных грамот до реконструкции древних музыкальных инструментов. Для примера скажу: самые ранние гусли — пятиструнный инструмент, на корпусе которого вырезано имя владельца гуслей — Словиша (Соловушка), — найденные на усадьбе зажиточного новгородца середины одиннадцатого века, реконструировал Поветкин. Таким образом, Поветкин реконструировал инструмент древнейшего русского музыканта, имя которого (наряду с Бояном) стало нам известно.
Сегодня образцы древних музыкальных инструментов — гуслей, гудков, сопелей, сделанные удивительными руками Владимира Ивановича Поветкина, можно увидеть в музеях Москвы, Ленинграда, Новгорода и других городов страны. Самое же удивительное заключается в том, что инструменты эти в его руках перестают быть мертвыми экспонатами, они оживают, звучат. Звучат не просто музыкой, а музыкой народной, берущей свое начало из глубины веков. Возможно ли такое? Академик Д. С. Лихачев считает, например, что Поветкин подобное совершает.
Но коль зашла речь о музыкальных инструментах древнего Новгорода, стоит, видимо, прежде чем продолжить рассказ о Владимире Ивановиче Поветкине, сказать коротко о музыкальной культуре Древней Руси и средневекового Новгорода для тех читателей, которые этим вопросом прежде детально не интересовались.
2
Для современного человека сведения о музыкальной культуре своих предков складываются из разных источников: письменных, иконографических, былинного эпоса, народных песен, археологических материалов. Поскольку церковная музыка в православной церкви допускалась только в вокальной форме, а музыка инструментальная во время богослужения запрещалась, то инструментальной музыке и музыкантам в разные времена приходилось туго. Музыка эта, и прежде всего «гусленое художество», сосредоточивалась в среде профессиональных и полупрофессиональных музыкантов — скоморохов. Письменные источники и иконографические материалы Руси XI—XV веков многократно упоминают такие музыкальные инструменты, как трубы, сопели, свирели, цевницы, сурна, рог, гусли, смык, бубны, накры, било, бряцало и варганы.
Работы Новгородской археологической экспедиции безоговорочно доказали, что древний Новгород был городом высокой культуры. Это подтверждается прежде всего широко развитой письменностью, которой владели не только имущие классы, но и простолюдины, в том числе и женщины. С 1951 года по сегодняшний день найдено уже свыше шестисот берестяных грамот. Наличие широко развитой письменности подтверждают и граффити (надписи и рисунки, процарапанные на стенах церквей и жилых зданий), сделанные, как правило, простыми людьми. На многих предметах, найденных археологами при раскопках в Новгороде, обнаружены надписи их бывших владельцев.
В 1981 году в Новгороде найдена древнейшая русская азбука (XI в.).
Летописные записи в Новгороде, известные с XI века, велись не только в Софийском соборе, но и во многих монастырях. В это же время получили широкое распространение рукописные книги. Древнейшая из сохранившихся рукописных книг Древней Руси — «Остромирово евангелие» — переписана дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира в 1056—1057 годах. Далеко за пределами Новгорода известна была Софийская библиотека. Из всех древнерусских книг, дошедших до нас (с XI в.), более половины принадлежало Новгороду.
Ученого монаха Кирика (середина XII в.), автора сочинения «Учение», называют первым русским математиком. Он же автор и другого сочинения — «Вопрошание», в котором он записывал свои беседы с новгородским архиепископом Нифонтом и другими, выступая уже в качестве летописца. Эти работы Кирика показывают, что автор их знаком был со многими учеными трудами византийских, греческих, латинских авторов.
Свидетельством высокоразвитого искусства в Новгороде является последнее крупное открытие Новгородской археологической экспедиции, завершившееся летом 1982 года: обнаружена и полностью раскопана мастерская художника XII—XIII веков Олисия Гречина. Это древнейший русский художник, имя которого дошло до наших дней. В. Л. Яниным выдвинута гипотеза, что Олисий Гречин был автором знаменитых фресок в церкви Спаса на Нередицком холме около Рюрикова городища. Церковь эта была построена по велению князя Ярослава Владимировича для княжеской семьи в 1198 году и через год расписана фресками, которые почти все, за исключением отдельных фрагментов, погибли в годы Великой Отечественной войны.
Отличался древний Новгород и высочайшей музыкальной культурой. Музыка звучит в хоромах князей и бояр и в избах крестьян. Она сопутствует пирам, игрищам, потехам, свадьбам и тризнам. Многие былинные богатыри играют на гудках и гуслях. Кто не слышал о новгородском госте Садко, завораживающем своей игрой на гуслях всех — и людей, и стихию, и неземных царей:
Как начал играть Садко в гусельки яровчаты, Как начал плясать царь морской во синем море.Кстати сказать, не только Садко, но и вся его команда на корабле были грамотными, каждый мог сам написать свое имя на жребии.
Первый музыкальный инструмент — гудок — был найден при раскопках в Новгороде в 1954 году. Сейчас коллекция древних музыкальных инструментов — гуслей, гудков, сопелей, собранная Новгородской археологической экспедицией, является крупнейшей в Европе. Это подтверждает и каталог Крейна, в котором опубликованы сведения обо всех известных науке музыкальных инструментах до 1500 года. Среди новгородских музыкальных находок больше всего обнаружено гуслей — 26. Практически целых гуслей (слово это во всех славянских языках обозначает струнный музыкальный инструмент) найдено только пять, от остальных сохранились лишь отдельные детали. Гусли были пяти-, шести- и девятиструнными. Изготовлялись они из хвойных пород — ели и сосны, дека делалась иногда из дуба. Корпус инструмента всегда был цельнодолбленый, струны — металлические или жильные. Размеры гуслей (в длину от 36 до 85 сантиметров) говорят за то, что на них играли и дети, приобщаясь к «гусленому художеству» с раннего возраста. О наиболее древних гуслях «Словиша» (Соловушка) уже упоминалось. Хочется только добавить, что былинного гостя Будимировича, мастерски игравшего на гуслях, тоже звали Соловей.
Помимо гуслей распространенным инструментом в древнем Новгороде был гудок — трехструнный смычковый инструмент. В Западной Европе подобный инструмент носит название фидель, или византийская лира. В древнерусских письменных памятниках гудок не упоминается до середины XVII века, а упоминается струнный инструмент смык. Ученые предполагают, что это и есть название русского смычкового инструмента, но более раннее.
В Новгороде найдено 12 гудков, из которых два — целые инструменты. Длина гудков от 30 до 50 сантиметров, струны их делались из сухих жил или кишок. Размеры гудков позволяют сделать предположение, что на них, как и на гуслях, играли и дети. Наиболее древний гудок (часть корпуса) найден в слоях XI века. Но поскольку все гудки в Новгороде обнаружены без смычков, то ученым пришлось поломать голову: к какому виду инструментов их отнести — к щипковым или смычковым? Решить этот вопрос помогли иконографические памятники и русские этнографические материалы.
Из других музыкальных инструментов Древней Руси распространен был инструмент духовой — сопель. Название это, сохранившееся до ваших дней, упоминается уже в «Повести временных лет». По устройству и внешнему виду древнерусские сопели похожи на современные сопели и дудки. В Новгороде найдено три сопели, относящиеся к XI, XII, XV векам. Сопели имели соответственно четыре, пять и три игровых отверстия.
К четвертому виду музыкальных инструментов, обнаруженных в Новгороде, относятся варганы — инструменты, широко распространенные у многих народов Европы, Азии, Африки. Инструменты эти изготовлялись из металла и представляют собой небольшую подковку с вытянутыми концами, между которыми расположен тонкий пружинистый язычок. Играющий прикладывает концы инструмента к зубам и, придерживая их губами, щиплет пальцами язычок варгана, одновременно вдувая или выдувая воздух ртом. Рот же служит резонатором инструмента, ртом меняется и высота звука.
Варган — инструмент древний, известный еще во времена Римской империи. Вначале он делался из бронзы, в средние века варганы стали изготовлять из железа и стали. В нашей стране варганы обнаружены не только в Новгороде, но и в других древнерусских городах: Вщиже, Друцке, Брянске. Наиболее древний варган найден на славянском городище Алчедар в Молдавии в слоях X века.
В Новгороде обнаружено шесть варганов в слоях XII—XV веков. В каталоге Крейна зарегистрированы лишь два новгородских варгана и один из Алчедара.
3
Музыкальные инструменты древнего Новгорода найдены, но как быть с музыкой, звучавшей на них? Как обнаружить ее, воссоздать? Мыслима ли вообще подобная задача?
Вот что писал по этому вопросу известный советский специалист по древнерусским музыкальным инструментам Б. А. Колчин:
«Восстановив древний музыкальный инструмент и сделав его абсолютную модель, мы смогли бы услышать диапазон его звучания, его тембр и определить технические возможности. Если достоянием науки станут источники, в которых мы найдем сведения о звукорядах и интервалах, о принципах настройки инструментов и, наконец, сами музыкальные записи, то мы сможем услышать и подлинное звучание древней музыки».
Ну а если музыкальные записи не будут найдены? В самом деле: трудно представить себе, что археологи обнаружат нечто подобное древним нотам. Значит, услышать звучание древней музыки современному человеку не дано?
Самое удивительное, что когда были напечатаны эти строки Б. А. Колчина, в Новгороде, в каморке Воротной башни гостиного двора на Ярославовом дворище, уже звучала древняя музыка. Самая настоящая древняя музыка, хотя автором ее и исполнителем на гуслях, гудках, сопелях, воссозданных его же руками, был наш современник Владимир Иванович Поветкин. Реставрируя древние музыкальные инструменты Новгорода, найденные археологами, Владимир Иванович Поветкин изучил их устройство и материалы, из которых они сделаны. Опираясь на эти и другие строго научные данные, он изготовил как бы руками средневекового мастера древние сопели, гудки, гусли. На них он демонстрирует диапазон звучания древнего инструмента, его тембр, его технические возможности, принципы настройки и т. д. Талант исследователя, реставратора, скульптора, художника и музыканта, которым его щедро наградила природа, помноженный на «поразительную, — по словам академика Д. С. Лихачева, — музыкальную интуицию» Поветкина, на его фанатичную настойчивость и работоспособность, позволил Владимиру Ивановичу выполнить, по сути дела, почти все условия для воссоздания древней русской музыки, о которых говорит Б. А. Колчин. Разве что без находок записей древней музыки.
Еще не один год кропотливого научного поиска и каждодневного труда потребовался Владимиру Ивановичу Поветкину, прежде чем появилась в «Новгородской правде» небольшая заметка кандидата искусствоведения С. Фролова под заголовком «Для Пушкинского Дома»:
«Уникальные магнитофонные записи сделали в Новгороде научные сотрудники фонограммархива Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.
Они зафиксировали в стереофоническом звучании образцы голосов древних новгородских музыкальных инструментов: гуслей XI, XIII и XIV веков и сопели XI века. Эти инструменты заново воссозданы по археологическим находкам замечательным новгородским мастером-реконструктором В. И. Поветкиным. Его имя хорошо известно археологам, историкам, искусствоведам.
В. И. Поветкин также талантливый музыкант-исполнитель и композитор. Именно в его руках древние русские инструменты раскрыли свои прекрасные голоса.
Новые магнитофонные записи будут храниться в Ленинграде среди звуковых коллекций фонограммархива, соседствуя с образцами звучания произведений древнерусского певческого искусства, с голосами Льва Толстого и Есенина».
4
Владимир Иванович Поветкин родился в труднейшем для земли своей году — 1943-м — и в самом горячем в то время месте этой земли — в Сталинградской области. Остальные данные биографии его укладываются в несколько строк. Растила и воспитывала его мать Байбакова Мария Федоровна, женщина простая, тихая и трудолюбивая. Жили трудно. После войны переехали в Курск, где Мария Федоровна живет и сейчас. Окончив семилетку, сын ее стал учиться в Курском художественно-графическом училище, затем в Ленинградском художественно-графическом педагогическом училище, которое и окончил. Работал художником в редакции. Срочную службу служил на Северном и Балтийском флотах.
В Новгород Владимир Иванович приехал в 1969 году. В городе этом не было у него ни друзей, ни знакомых. Не было ни жилья, ни работы, ни денег. Почему он решил связать свою жизнь с Новгородом? Сейчас, зная его работы, об этом нетрудно догадаться. Новгород — город, где каждый камень, каждая улица дышат историей. Стоит углубиться на несколько метров в землю, и вы можете читать, изучать, воссоздавать историю по первоисточникам.
Пришел Владимир Иванович в дирекцию Новгородского музея-заповедника и предложил свои услуги: любую работу по дереву или металлу. Для пробы дали ему небольшую договорную работу. Сделал. Посмотрели ее ответственные работники музея, сама директор сказала: «О!» — и разрешили Поветкину временно проживать в гриднице Ярославова дворища (гридницей работники музея звали помещение в Воротной башне гостиного двора), с условием, что он станет выполнять различные музейные заказы.
На этих условиях Владимир Иванович Поветкин прожил в сыром, не приспособленном для жилья помещении гридницы, где не было даже печки для обогрева, десять лет. Одновременно он нештатно сотрудничал и с Новгородской археологической экспедицией, помогая археологам сохранять и восстанавливать находки из раскопов. Спустя это десятилетие начальник экспедиции член-корреспондент АН СССР В. Л. Янин даст в печати такую характеристику В. И. Поветкину:
«Владимир Иванович Поветкин — настоящий клад для археологов. Давно мы ждали человека, который бы умел так чувствовать душу дерева. Средневековая Русь была деревянной, и необходим был мастер, обладающий интуицией ученого. Поветкин — художник-реставратор высочайшего класса, умеющий сочетать строгую научность с ювелирным мастерством. Теперь этот талантливый человек — сотрудник нашей экспедиции».
Но до этого «теперь», до того, как работы Поветкина по реконструкции древних музыкальных инструментов обратили на себя внимание серьезных ученых, искусствоведов, музыкантов, а восстановленные им звучащие инструменты стали приобретать крупнейшие музыкальные музеи страны и о Поветкине заговорили в печати, до этого, повторяю, талантливейший новгородский мастер жил и работал в условиях, мягко говоря, суровых. У него не было не только мало-мальски сносной мастерской, где мог бы он работать, но и в каменной гриднице Поветкин проживал все те годы на птичьих правах. Трижды его просили освободить помещение, трижды упаковывал он вещи, станок, инструменты и отправлял к матери в Курск. Многие необходимые ему инструменты, в том числе токарный деревообрабатывающий станок его же конструкции, так и не вернулись еще в Новгород. Когда же Владимир Иванович Поветкин получил извещение, что ему выделена квартира, он вышел из гридницы уже на костылях. Десять лет, прожитые в сырых камнях, сделали свое дело.
5
Внешне Владимир Иванович Поветкин выглядит несколько необычно, хотя роста он среднего и фигурой тоже не выделяется: сухой, чуть сутулый. А вот на лице его запомнились мне в первую нашу встречу лишь большие немигающие глаза васильковой сини, да еще ремешок на лбу, каким древние мастера стягивали свои волосы, чтобы не мешали они работать. Ремешок этот и длинные волосы по сей день доставляют Владимиру Ивановичу немало хлопот. Как всякий истинный мастер, восхищающий людей своим талантом, Владимир Иванович имеет не только искренних друзей, но и не менее искренних завистников, или, как принято их мягче называть, недоброжелателей. Если учесть, что Поветкин необычайно скромный, деликатный и предельно обязательный в слове своем человек, то станет понятным, что с людьми нескромными, неделикатными и необязательными в словах своих ему ужиться трудно. Мне самому до личного знакомства с Владимиром Ивановичем доводилось слышать о нем разные шепотки: мол, и горд непомерно, и заносчив, и в Дом народного творчества не ходит; да что там, дескать, много о нем говорить, вы на прическу его посмотрите, на этот вызывающий ремешок на голове…
Честно говоря, мне и самому, как человеку в прошлом военному, с привитой уставом и старшинами любовью к прическам коротким, «волосатики» никогда не были симпатичны. Уже спустя несколько лет после нашего с Поветкиным знакомства поинтересовался я как можно деликатнее у Владимира Ивановича насчет взгляда его на длинные волосы. Сказал, что мне понятно его стремление приблизить свой быт и внешний вид к тем временам, которые воссоздает он в своих работах. Известно также, что древние новгородцы, как показывают раскопки города, во всем, в том числе и во внешнем своем виде, отличались высоким художественным вкусом. Емкое понятие это, по моему разумению, должно включать в себя и такие компоненты, как удобство и гигиеничность. Следовательно, длинные волосы и у древних новгородцев не могли быть нормой, а если и встречались в какие времена, то были лишь временной модой.
— Что вы, у меня совсем иное, — усмехнулся Владимир Иванович. — Когда в гриднице жил, не до стрижки было, потом привык. Так вы находите мои волосы несколько длинноватыми? Да, действительно пора подстричься. Знаете, я люблю стоять в поле в сильный ветер, слушать, как он играет и поет в волосах.
6
Когда я познакомился с Поветкиным лично, он уже перебрался из гридницы в новую свою квартиру, которую получил в старом двухэтажном деревянном доме неподалеку от Волхова. Квартира была хоть и крошечной и без многих бытовых удобств, привычных современному человеку, зато сухая, а это тогда для него было, конечно же, главным. Владимир Иванович только-только еще отходил от болезни и не всегда еще мог подняться с кровати навстречу гостям, но новое жилище его уже представляло собой и активно действующую мастерскую. Напротив самодельной деревянной кровати (в квартире Поветкина все — от кровати и домотканых половиков до чайного подноса и подстаканников, плетенных из бересты, — сделано его руками) стоял столярный верстак, на верстаке лежали заготовки гудка и гуслей, чехлы для музыкальных инструментов, сплетенные из коры. Тут же — старинное пианино, над пианино высилась деревянная стойка с внушительным набором колоколов (на которых, как позднее я убедился, Владимир Иванович играет с таким же мастерством, как и на любом другом старинном инструменте), в углу стояла полуразобранная швейная машинка начала нынешнего века. Хозяин любит покопаться в подобной технике, тем более что сам он и шьет, и вяжет, и вышивает, и ткет холсты. Под окном своего нового жилища Владимир Иванович умудрился уже вскопать грядку и засеял ее льном. Лен для своих художественных поделок выделывает сам.
Многолетний опыт работы с археологами помогает ему находить многие материалы для своих работ буквально под ногами. Любители вышивать, к примеру, страдают порой из-за отсутствия ниток. Владимир Иванович подобной проблемы не знает. Он может надергать ниток из разных неприметных тряпиц. А позже многие любуются его чудесными вышивками, которые по технике исполнения, по мотивам и краскам сродни древнерусским.
Много времени проводит Владимир Иванович в поисках дерева для гуслей. Ведь гусли, по народному преданию, были не просто музыкальным инструментом, а инструментом таинственным, волшебным, способным отгонять от человека злые силы. Корпус гуслей делался из дерева, которое вырастало на могиле человека, душа же этого человека переходила в дерево. И мастерство гуслярного мастера заключалось в том, чтобы человеческую душу в инструменте своем сохранить. Каким чутьем находит Владимир Иванович дерево для своих инструментов — ведомо только ему. Весь угол в коридоре его квартиры заставлен старыми досками, чурбаками, чурками, плахами, которые нашел мастер на улице. Глядя на этот деревянный хлам, создается впечатление, что собирал его хозяин для топки печи. Но вот мастер берет в руки какой-то толстый огрызок доски, укладывает его на верстак и легонько трогает дерево рубанком. И происходит чудо: природа приоткрывает мастеру в своих рисунках по дереву красоту… Но красота дерева далеко не самый важный компонент в выборе инструментальной заготовки. Забегая вперед, скажу: читатели, которых заинтересовала «гусельная тема», могут не без интереса, на мой взгляд, прочитать статью В. И. Поветкина «Новгородские гусли и гудки» в «Новгородском сборнике», подготовленном Академией наук СССР к 50-летию раскопок Новгорода. Статья Поветкина написана в несколько необычном для подобных статей ключе: строгий научный анализ соседствует в ней с мягким лиризмом. Для примера приведу из этой статьи Поветкина небольшую выдержку, которая, кстати, поможет нам понять разницу между гуслями традиционными, древними, и гуслями усовершенствованными, которые слышим мы в концертных выступлениях:
«Сравнивая традиционные гусли с усовершенствованными, в которых при изменении размеров резонаторного отверстия можно более ощутимо изменять тембр и громкость звука, надо заметить, что природа возникновения звука у этих разновидностей гуслей не совсем одинакова. Это, без преувеличения можно сказать, различные музыкальные инструменты, каждый из которых имеет свои музыкальные особенности. В усовершенствованных гуслях очень много торжественности и громкости. В традиционных гуслях много души. В усовершенствованных гуслях решающее значение имеет подставка, мгновенно передающая вибрацию струн на верхнюю деку. В традиционных гуслях такая механическая связь деки со струнами как будто специально не поддерживается, отсюда и звук этих гуслей возникает как бы с опозданием. В наши дни усовершенствованные гусли предназначены для концертных выступлений. Если вернуть к жизни традиционные гусли, они могут стать прекрасным инструментом для домашнего музицирования».
В квартире Владимира Ивановича Поветкина образцы древних музыкальных инструментов Новгорода, изготовленные его руками, занимают целую стену. Здесь гусли разных веков, размеров и форм, гудки и гудочки, сопели… Подобной коллекции могут позавидовать многие музеи музыкальных инструментов. Тем более что все инструменты в квартире Поветкина звучащие.
Если вы в гостях у Поветкина (к Владимиру Ивановичу частенько заходят и совершенно незнакомые люди) и хозяин дома проникся к вам симпатией, он, возможно, не только покажет вам инструменты, но и снимет со стены гусли, усядется с ними на кровать и… ударит перстами по струнам.
Все остальное надо слышать.
7
В Новгороде имя Поветкина можно услышать в самых казалось бы далеких от археологии и музыки местах. Я, например, услышал однажды его имя в рембытмастерской.
— Колька, — раздался за дощатой переборкой сиплый бас, — что тут у тебя в ящике за проволока? Никак струны?
— А хрен его знает что. Братан с завода припер.
— Может, Поветкину на гусли подойдет?..
— Снеси, может, и подойдет. У меня братан еще камни какие-то черные на Мсте нашел. С блестками. Расколешь — горят огнем. Спроси Володю, может, ему и камни эти сгодятся. Огнем горят!
8
У Владимира Ивановича Поветкина есть мечта: создать в Новгороде (при музее ли, при археологической ли экспедиции — роли не играет) экспериментальную музыкальную мастерскую по реконструкции древних музыкальных инструментов, их озвучиванию. Чтобы люди могли не только видеть образцы музыкальных инструментов, на которых играли их далекие предки, но и слышать их звучание. Проще говоря, создать в Новгороде центр по пропаганде древнерусских инструментов и древнерусской музыки. Мечту эту Владимир Иванович по разным причинам не может осуществить уже много лет, хотя помочь ему пытались многие заслуженные люди и организации. Такие, например, как Пушкинский Дом или Ленинградская Государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова.
Задумав написать о Поветкине очерк и как-то помочь интересному и важному делу, которым занимается он, решил я обратиться с письмами к трем людям: начальнику Новгородской археологической экспедиции В. Л. Янину, под чьим непосредственным руководством многие годы работает Поветкин; к писателю Василию Белову, который «копает» в литературе тот же «культурный слой» своего народа, что и Поветкин в музыке; и к академику Д. С. Лихачеву, крупнейшему советскому историку русской и мировой культуры. Мои письма этим людям по содержанию были во многом схожими. В заключение каждого своего письма я просил разрешения, если мне ответят адресаты, цитировать их высказывания о Поветкине в своих печатных работах.
Начальник Новгородской археологической экспедиции на мое письмо не ответил.
Писатель Василий Белов прислал в ответ открытку, смысл которой сводился к тому, что он обеими руками за Поветкина и давайте, мол, ребята, работайте!
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев ответил обстоятельным письмом. Более того, спустя некоторое время Дмитрий Сергеевич прислал мне второе письмо, в котором спрашивал: достаточно ли полно и вразумительно отозвался он о работах Поветкина, не надо ли чего еще?
Привожу отзыв академика Д. С. Лихачева о работах В. И. Поветкина полностью. Отзыв этот предваряю своим письмом к Дмитрию Сергеевичу.
«Уважаемый Дмитрий Сергеевич! Пишет Вам Рощин Борис Алексеевич, член СП СССР (Ленинградская писательская организация), проживающий ныне в Новгороде.
Обращаюсь к Вам вот по какому вопросу. В из-ве «Советский писатель» у меня готовится книга «Медовые росы». В эту книгу я хотел бы включить очерковый материал о новгородце Поветкине Владимире Ивановиче. Кроме того, материал о Поветкине хочу предложить газете «Правда», с которой имею по этому вопросу соответствующую договоренность. Насколько я знаю, Вы знакомы с Поветкиным недавно, и потому хочу добавить, что Владимир Иванович не только замечательный мастер по реконструкции и воссозданию древних музыкальных инструментов, найденных при раскопках Новгорода, но и на редкость скромный, твердый духом человек, не идущий ни на какие компромиссы ради собственных благ. Достаточно сказать для примера, что он около десяти лет прожил, почти безвыходно, в клетухе Воротной башни гостиного двора на Ярославовом дворище, день и ночь работая над реконструкцией инструментов, озвучивая их. Почти безвыходно — в самом прямом смысле слова, ибо он настолько пропах, пропитался лаком, клеем, растворителями и прочим, что люди шарахались от него, а переодеться ему было не во что. Несколько раз его обворовывали, уничтожая все созданное и приобретенное им, но он находил в себе силы и мужество продолжать работу. И все это впроголодь, под многократные угрозы выселения, привлечения к ответственности за «тунеядство» и прочее, и прочее. В ту пору лишь старухи сторожа Ярославова дворища интересовались его судьбой, крича поутру возле Воротной башни: «Володя, живой?»
Вот так воссоздавались многие музыкальные инструменты древнего Новгорода, которые приобретают теперь музеи Москвы, Ленинграда, Новгорода, которые демонстрируются за рубежом, вызывая сенсации. Добавлю еще, что всю свою работу по реконструкции инструментов В. И. Поветкин ведет на строго научной основе, исходя из данных археологических раскопок, научных трудов ученых и своих собственных. Правильность реконструкторского пути, которым идет Поветкин, подтверждает и тот факт, что им найден звукоряд некоторых инструментов. И отличие Поветкина как мастера именно в этом и заключается: его инструменты не мертвые экспонаты, а живые, звучащие. Мне еще не доводилось встречать человека, которого бы игра Поветкина на этих инструментах оставила равнодушным.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич! Моя просьба к Вам относительно Поветкина заключается в следующем.
1. Ваше мнение о Поветкине как о мастере по реконструкции и воссозданию инструментов древнего Новгорода, как исполнителе игры на этих инструментах? И вообще Ваши впечатления о нем как о человеке?
2. Ваше мнение о создании в Новгороде мастерской по изучению, распространению, реконструкции и воссозданию древних музыкальных инструментов, озвучиванию их?
Необходимость в такой мастерской, мне кажется, назрела. Работы Поветкина получают все большее признание как у нас в стране, так и за рубежом. Признание как специалистов, так и простых любителей музыки, людей, которых интересует и волнует история своей страны. В Японии, например, мастерам, подобным Поветкину, присваивается высшее звание, звучащее в переводе примерно так: «Мастер — достояние государства». У Поветкина же нет элементарной мастерской, где он мог бы спокойно работать. Такая мастерская могла бы стать единственным в стране центром по изучению и распространению древней музыкальной культуры, основанной на новгородских археологических материалах. Современные «древние» музыкальные инструменты, звучащие в ансамблях и оркестрах и приспособленные к сегодняшней музыкальной культуре и моде, конечно же слишком отличаются от истинно древних. При мастерской можно создать и небольшой экспозиционный зал, где демонстрация древних музыкальных инструментов и их звучания велась бы на самом высоком профессиональном уровне.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич! Видимо, нет надобности объяснять, почему я обращаюсь с подобной просьбой именно к Вам. Прошу также Вашего согласия (если у Вас найдется время и желание ответить мне) цитировать выдержки из Вашего письма в своих печатных материалах.
Остаюсь с глубочайшим уважением к Вам Б. Рощин».
Отзыв академика Д. С. Лихачева о работах В. И. Поветкина по реконструкции древнерусских музыкальных инструментов:
«На Западе, да и до недавнего времени в Советском Союзе, представления о культуре Древней Руси были как о культуре «молчащей». Один американский специалист по культуре и литературе Древней Руси так прямо и пишет о ней, как о «культуре великого молчания». Признавались и признаются в ней только «немые» искусства — живопись (иконопись, фрески, мозаика, миниатюры) и архитектура. Только сейчас в нашей стране происходит постепенно открытие древней русской литературы как искусства, не ограничивающегося одним «Словом о полку Игореве», и музыки. Но музыка до сих пор упорно ограничивается в сознании историков русской культуры только церковной — певческой. О наличии обильной, богатой инструментальной музыки мы даже не догадывались до сих пор. Существование в Древней Руси инструментальной музыки, открытой работами В. И. Поветкина, принципиально важно, так как инструментальная музыка могла быть только светской.
В чем суть открытия В. И. Поветкина? На миниатюрах, фресках (в частности, в Мелетове Псковской области) изображались инструменты (гусли, гудки и пр.), упоминались инструменты и в различного рода документах и литературных произведениях. Однако все предполагали, что звучание этих инструментов было довольно бедным, примитивным. Археологические находки, в которых дерево инструментов деформировалось от усыхания или неумелой реставрации, только подтверждали это ошибочное мнение.
В. И. Поветкин предложил, сохраняя максимально бережно все археологические находки и ни в коем случае не производя на них опыта реконструкций, особенно с помощью различных новых синтетических материалов и клеев, в корне изменяющих звучание материалов, реконструировать на основе всех данных и из нового дерева (напомню, что найденные остатки инструментов в новгородских археологических работах тоже были когда-то «из нового дерева») звучащие инструменты. Благодаря поразительной музыкальной интуиции это ему в полной мере удалось. Он не только воссоздает внешний облик инструмента — он создает археологически точно звучащий инструмент и сам на нем играет, т. е. он ко всему прочему еще и композитор — композитор-реконструктор.
В. И. Поветкин — это не просто поразительно одаренный реставратор музыкальных инструментов, это своего рода явление.
В человеческом существе многое не разгадано, многое еще требует изучения. В. И. Поветкин обладает прямо-таки чудодейственной интуицией. Напомню, что на интуиции стоит человеческая культура — на ней строятся все искусства, в значительной мере науки (особенно такая, как математика), практическая деятельность и пр. Если кто-нибудь из музыкантов, воспитанных на современных музыкальных знаниях, будет сомневаться в правильности догадок В. И. Поветкина в области древнерусской музыки, то сомневаться в творческом таланте В. И. Поветкина нет никаких оснований: слушать его — значит проникать в особый мир — мир, близкий Древней Руси и народному творчеству.
Было бы чрезвычайно важно (в Новгороде ли, или в другом крупном городе — Москве, Ленинграде, где есть специалисты-музыковеды) устроить небольшой музей или раздел в музее (например, в музее музыкальных инструментов в Ленинграде на Исаакиевской площади), где посетители могли бы увидеть консервированные остатки инструментов, снимки с древних изображений инструментов и где можно было бы прослушать — в магнитофонной или пластиночной записи — игру на этих инструментах В. И. Поветкина. Кстати, совершенно необходимо, чтобы какая-то пластиночная фирма — например фирма «Мелодия» — выпустила пластинки с записями игры В. И. Поветкина на реконструированных им древнерусских инструментах.
А в Новгороде необходимо во что бы то ни стало создать для В. И. Поветкина все необходимые условия для его работы по реконструкции музыкальных инструментов и опытов игры на них.
Придет время, и хотят ли многие в Новгороде или нет сейчас, но работой В. И. Поветкина, его музыкальными композициями, Новгород будет гордиться. Пусть же ни нам, ни новгородцам не будет стыдно перед нашими потомками. Академик Лихачев».
9
Летом 1982 года в Новгороде проходил 4-й съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В древнем русском городе собралось много интересных, знающих и любознательных людей. Еще больше было высказано и зачитано интересных и мудрых мыслей, немало было откушано и медовухи в седом Детинце участниками съезда. О медовухе — это к тому, что позднее газета «Советская Россия» (от 24 декабря 1983 г.) в фельетоне «Купола со звоном» упрекнет устроителей съезда, в частности директора (теперь уже бывшего) специальной научно-реставрационной мастерской в Новгороде А. А. Сырникова, а также всесильную некогда Л. И. Ярош — генерального директора (теперь уже бывшего) Новгородского музея-заповедника — в разных грешках. Директора реставраторов за то, что кудесники реставрационных дел под его началом на бумаге-документе занимались спасанием бесценных памятников старины, на деле же белили стены и латали крыши общественных зданий, «реставрировали» кабинеты и частные квартиры — «нерядовые, но далеко не исторические». А в это время гибнет замечательная живопись Клопского монастыря, что на берегу озера Ильмень; рушится уже отремонтированное резное крыльцо в знаменитом Вяжищском монастыре, который реставрируется с незапамятных времен; падает на землю купол церкви в Песчаном…
Людмиле Ивановне Ярош вменялись в вину и вовсе «мелочи», вроде вышеупомянутой медовухи, когда закатила она избранным участникам съезда банкет на деньги, начисленные «своим людям» за покос травы на земляном валу, что окружает город. Самое удивительное, что трава на валу и впрямь была аккуратно подстрижена, но только… козами. Или то, что отвалила Людмила Ивановна оформителям за «торопливое» оформление музейной экспозиции в соборе Николая Чудотворца ни много ни мало — двадцать шесть тысяч рублей из государственной казны. Или содержала в штате дворника — заслуженного художника РСФСР, председателя правления Новгородского отделения Союза художников. И прочие проделки, на которые Людмила Ивановна была куда как изобретательна.
А ведь в свое время генерального директора Новгородского музея-заповедника упрекали куда в больших грехах, и как с гуся вода. Бо́льших — для русской и мировой культуры. Ну, к примеру, за ее отношение к работе художников-реставраторов супругов Грековых, о работе которых по восстановлению фресок церкви Спаса-на-Ковалеве коротко рассказывается в начале этой книги. Вот уже двадцать лет воссоздают они из груд битой штукатурки бесценные фрески, утерянные, казалось, для человечества навсегда. Хочу напомнить слова академика Д. С. Лихачева, который еще пятнадцать лет назад писал о работе Грековых так:
«Это самая героическая, самая вдохновенная и самая нужная работа реставраторов, которую я когда-либо видел. Это работа но только большого технического мастерства, но и работа, за которой чувствуется моральная сила».
Все эти годы Грековы боролись не только за спасение ковалевских фресок. Вот что писал журнал «Огонек» (№ 29 за 1982 г.) в интервью с академиком Д. С. Лихачевым «Память истории священна»:
«Одним из самых ярких примеров недопустимого отношения к величайшим памятникам нашей культуры со стороны совершенно конкретных лиц является «борьба против Грековых», которая уже много лет подряд ведется в Новгороде…»
Что же это за «борьба против Грековых», о которой в разное время писали газеты и журналы, осуждая эту борьбу, но не упоминая конкретных лиц, мешающих Грековым спокойно работать? Цитирую из вышеупомянутого интервью «Огонька»:
«После первых побед Грековых, когда всем стало ясно, что их терпение, труд, талант возрождают казалось бы погибшие шедевры, возникла идея отстроить вновь и сам храм Спаса-на-Ковалеве. И естественно, вернуть фрески на их «штатное» место.
За долгие годы подвижнического труда Грековы убедились в том, что собранные из микроскопических частиц, скрепленные специальным составом и смонтированные на титановых щитах композиции нуждаются в особо бережном хранении в помещении со строгим температурно-влажностным режимом.
Считаю необходимым еще раз напомнить про исключительную культурную и художественную ценность ковалевских фресок. Роспись была завершена за месяц до Куликовской битвы, и «военная тематика» доминирует в композициях. Гениальные древнерусские художники сумели передать всенародный дух высокого патриотизма, владевший в то время русскими людьми.
Особенное значение имеет и то, что в создании фресок вместе с русскими художниками принимали участие и сербские мастера…
Применение в возводимой зимой постройке раствора с большими добавками цемента сделало здание сырым, как бы тянущим в себя влагу из окружающей местности.
Попросту говоря, при восстановлении Ковалевского храма был допущен большой брак. И каждому здравомыслящему человеку ясно, что ни о каком музейном экспонировании (а тем более драгоценных фресок) в этом сыром здании и речи быть не может.
И несмотря на это, в Новгороде уже много лет добиваются того, чтобы фрески были установлены именно в Ковалевском храме.
Странно, но «идею» о возвращении фресок в Ковалево деятельно поддерживает директор новгородского музея Л. И. Ярош, а также руководители ВО «Союзреставрация» — Всесоюзного объединения, занимающегося реставрационными работами, — В. И. Антонов и И. М. Гудков.
Очевидно, здесь мы имеем дело с административным упрямством и самыми мелкими чувствами по отношению к заслуженной широкой известности, какой пользуются А. П. и В. Б. Грековы».
Читателям может показаться, что, начав главу со Всероссийского съезда общества охраны памятников истории и культуры и продолжая ее рассказом о неблаговидных делах некоторых новгородских чиновников от культуры, я отдаляюсь от главного своего повествования — о Поветкине. Или умаляю дела других талантливых новгородских мастеров своего дела. Отнюдь нет! Просто эти отступления проясняют атмосферу, в которой приходится порой жить и творить этим самым мастерам, в том числе и Поветкину. И коль уж супругам Грековым, пользующимся всемирной известностью, людям, умеющим постоять за себя и за свое дело, приходится туго, что говорить о Поветкине, который в ответ на любое проявление несправедливости или хамства к себе и к своей работе принимается лишь молча строгать, пилить, настраивать струны гудков и гуслей…
Говоря обо всем этом, очень не хочется, чтобы у читателей сложилось мнение, будто культурная жизнь в Новгороде пущена на самотек, а областная партийная организация и местные Советы находятся в стороне от этого важного дела. В том же вышеупомянутом интервью журналу «Огонек», продолжая разговор о «борьбе против Грековых», академик Д. С. Лихачев писал:
«Особенно печально говорить про эту историю, которая происходит в Новгороде, поскольку есть немало примеров того, как внимательно, заинтересованно, чутко реагируют и областная партийная организация и местные Советы на все проблемы археологов, реставраторов, хранителей многочисленных сокровищ Новгорода».
В качестве, примера подобного заинтересованного и внимательного отношения к проблемам археологов со стороны областной партийной организации и областного Совета народных депутатов может служить история со строительством филиала Сельскохозяйственного института в старой части Новгорода. Место для строительства оказалось не согласованным с археологами и, хотя у города была острая нужда в филиале института (перенос стройки в другой район значительно удорожал строительство и отодвигал срок ввода объекта в строй), стройка была перенесена, а археологам предоставлена возможность работать в старом районе города.
Другим подобным примером может служить постановление городского Совета о закрытии движения на улице, в районе которой археологами обнаружена усадьба художника Олисия Гречина. Было не только запрещено движение по этой улице, но и снят с ее проезжей части асфальт, и участок был передан под раскопки. Подобных примеров можно привести немало.
Но продолжу рассказ о том, с чего начал эту главу. Хочу привести выдержку из своего вышеупомянутого письма писателю Василию Белову, которое я послал ему за несколько месяцев до 4-го съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
«Теперь последняя к Вам просьба, Василий Иванович. Нынешним летом, где-то в июне или в июле, в Новгороде состоится Всероссийский съезд Общества охраны памятников старины. Пригласить на этот съезд Поветкина, чтобы он мог выступить на нем и продемонстрировать свои звучащие реконструированные инструменты, конечно же, никто не догадался и не догадается. А вот газета «Комсомольская правда», например, за 3 января нынешнего года (1982 г. — Б. Р.) сообщала, что в Болгарии на международном конгрессе археологов прозвучали магнитофонные записи игры Поветкина на старинных, реконструированных им, гуслях; и игра эта вызвала сенсацию. Вот как: за рубежом сенсации, за рубеж возят музыку и инструменты Поветкина другие дяди и тети, а сам он не может показать свою работу и рассказать о ней даже в родном городе.
Уважаемый Василий Иванович! Если у Вас имеется возможность помочь Поветкину выступить на этом съезде, сделайте это, пожалуйста».
Не знаю, пытался ли писатель Белов выполнить мою просьбу (в его ответе-открытке об этом не упоминается), но на съезд общества Поветкин так и не был приглашен, даже как гость. Участники съезда подолгу рассматривали в музее музыкальные инструменты, изготовленные Поветкиным, сравнивали их по снимкам с подлинниками, реконструированными Поветкиным, а вот увидеть самого мастера и, главное, услышать его игру на этих инструментах им не удалось. Даже в записи. Почему?
Два человека — участники съезда — в гостях у Владимира Ивановича Поветкина все же побывали. Пришли вечером, представились, сказали, что слышали о нем от писателя Белова. Попросили рассказать, показать, поиграть. Стал Владимир Иванович рассказывать гостям о своей работе, коллекцию инструментов своих представил, взял в руки гусли… Поднялись вдруг гости, извинились, сказали, что зашли на минутку, а слушать подобную музыку в спешке им просто стыдно. И попросили у хозяина дома разрешения прийти назавтра, с друзьями-товарищами по съезду. Чтобы и те могли услышать чудо.
Сказали так гости и… назавтра не пришли. Почему?
Увы, догадаться не трудно. Дали себя знать все те же «самые мелкие чувства». Многозначительное бывшедиректорское или «своих людей»: «Не советую встречаться…» И совсем уж тихим и многозначительным голосом — что-то на ушко…
Что ж, все это не ново. Еще Бальзак сказал:
«Нет ничего беспощаднее, чем война, которую ведут посредственности против таланта».
10
В последние годы каждую весну, лето и осень, а иногда и круглый год живу я с семьей на Псковщине, в деревеньке Малы, что в нескольких километрах от знаменитой Изборской крепости. В деревне этой приобрел я наконец избушку, о которой давно мечтал. Избушка в три оконца, древняя (местные старожилы утверждают, что ей не менее сотни лет), но еще крепкая, пол и потолок из тесанных топором бревенчатых плах. Такие доски-плахи — наверное, слышали? — по долговечности значительно превосходят обычные пильные доски. И купил сравнительно недорого — за тысячу рублей. При избушке и сад-огород имеется, небольшой — как раз по силе-возможности моей семьи. Посадили мы с женой яблони в саду, груши, сливы, кустарник разный ягодный и ягоду-клубнику. Картошку, конечно, тоже посадили и прочие овощи. Полное, можно сказать, натуральное хозяйство. Молока только нет и мяса. Мясом приспособились уже не злоупотреблять, а без молока и дня прожить не можем. Народились у меня недавно еще два сына — Иван и Егор, а врачи посоветовали их, в том числе и грудного, парным коровьим молоком кормить и подкармливать. И чтобы ни в коем случае молоко не кипятить. Так и делаем. Молоко берем у соседа через дом — Василия Яковлевича Тютяжова. Корова у него добротная, проверенная. Молока нынче в деревне купить не просто, хотя в Малах коров еще набирается голов за двадцать. (В недалеком прошлом за сотню было.) Не знаю, как в других местах молочный вопрос поставлен, а в деревне моей так стоит, что владельцу коровы выгоднее молоко колхозу сдавать, нежели продавать дачникам и бескоровным своим сельчанам. Я, к примеру, молоко у Василия Яковлевича по сорок копеек за литр беру. А колхоз ему платит за тот же литр (учитывая жирность и прочие данные) по сорок две копейки. Кроме того (и что для Василия Яковлевича очень важно), получает он за сданное молоко бесплатно корма. А животина у него в хлеву самая разная. Помимо коровы овцы имеются, поросенок всегда на откорме, а то и два, куры, в саду — пчелы. Кажется, чего проще: невыгодно продавать молоко дачникам по сорок копеек — набавь цену, чтобы с выгодой быть. Ан нет! Никто в деревне молоко дороже чем за сорок копеек вам не продаст. Или за эту цену, или откажут вовсе. Таков неписаный деревенский закон.
У читателя, возможно, вновь начинает складываться впечатление, что, увлекшись рассказом о деревне и соседе Василии Яковлевиче, удаляюсь я от разговора о гуслях и Поветкине. Нет, не удаляюсь. А что об избе своей несколько нескромно разговор затягиваю, так это оттого, что тема «изба в деревне» сейчас, на мой взгляд, многих городских читателей интересует ничуть не меньше темы гусельной.
Всем хороша изба моя, да не на том месте стоит. Выпирает одним углом на крутой дорожный поворот. Техника нынче в деревне сами знаете какая. Недавно товарищ один на бульдозере из магазина возвращался мимо моей избы. Ну и не рассчитал маленько бульдозерист, зацепил ножом угол. Потом я от угла избы своей и останков не нашел, заделал пролом досками, валунами для страховки от техники угол обложил. Но всякий раз, когда мимо дома громыхает трактор, боязно становится: не дай бог зацепит избу гусеницей или плугом.
Зато стоит выйти за околицу деревни в погожий летний день и… красота перед вами неописуемая, и все вокруг историей дышит. Стоите вы, и всякий раз неожиданно с вершины холма открывается взору вашему дивной красоты долина, наполненная голубизной. Слева внизу, словно в глубоком зеленом ущелье, серебрится узкой лентой Мальское озеро, в прошлом рыбная вотчина монахов Псково-Печорского монастыря. Кажется, что из серебра озера выглядывает на тонкой шее голубой купол колокольни старинного Мальского монастыря. Чуть в стороне виднеются вросшие в землю кресты, но это не кладбище. Это надкупольные кресты древнейшего монастырского храма — Рождественской церкви, что стоит под крутым угором на Мальском ключе, который о языческих еще времен почитался священным. Если спуститься с холма, где мы стоим, чуть ниже, ни одного строения бывшего монастыря не станет видно. Вы можете пройти в нескольких десятках метров от храма и не заметить его. Такое расположение монастыря не раз спасало его от врагов, которые проходили мимо, наступая на Псков, а потом тем же путем возвращались восвояси. Разрушен монастырь был отрядами Стефана Батория, возвращавшимися к Пскову и озлобленными неудачным штурмом Печорской крепости.
С вершины холма можно увидеть рядом с колокольней нескладное белокаменное строение — здание бывшей монастырской трапезной, которое после отстройки монастыря в 1730 году так и не восстанавливалось. На земле псковской сохранилось немало древних каменных построек, но здание Мальской трапезной — единственное в своем роде. Было оно одновременно не только трапезной монахов, но и жилым помещением, и церковью, и небольшой крепостью. Сейчас здание трапезной находится под охраной государства и законсервировано.
Мальской монастырь был упразднен в царствование Екатерины II. С тех пор и до дней сегодняшних называют его Мальской погост.
Если посмотреть с холма, где мы стоим, направо, в сторону Изборска, или Словенска, как назывался в древности Изборск (название Словенск он получил якобы от основателя поселения Словена, сына первого новгородского посадника Гостомысла), то увидим крутой живописный холм, вершина которого украшена белой церковью. Это Труворово городище (Трувор, по летописям, — младший брат Рюрика). Неподалеку от городища есть каменная плита, под которой, по преданию, захоронен варяг, первое упоминание о котором в летописи относится к 862 году. За городищем, ближе к Изборской крепости, — знаменитые Славянские ключи, полюбоваться которыми и опробовать воду их стремится любой турист, путешествующий по земле псковской. Самым же впечатляющим зрелищем является, конечно же, Изборская крепость, древний страж земли русской, могучие стены и башни которой писал на своих картинах Рерих.
Но, кажется, пора возвратиться в деревню и продолжить разговор о Василии Яковлевиче Тютяжове. Забыл сказать, что Василий Яковлевич человек уже немолодой, ему семьдесят пять лет. Но стариком его назвать — язык не поворачивается. Каждое утро, когда и солнце еще не взошло, слышу я сквозь сон скрип велосипеда за стеной. Это Василий Яковлевич помчался уже куда-то по своим делам. О трудолюбии его говорить много нет надобности, достаточно напомнить о скотине и пчелах, которых содержит он в своем хозяйстве. В народе не зря говорят: животину водить — не разиня рот ходить. Пчелиные же домики в саду, когда химия прочно обосновалась не только на колхозных полях, что деревню окружают, но и на приусадебных участках односельчан, — показатель особого хозяйского трудолюбия.
Под стать Василию Яковлевичу и супруга его Екатерина Алексеевна, тетя Катя. У тети Кати забот, учитывая хлопоты с внуками, которыми полнится летом дом ее, ничуть не меньше, чем у мужа. Много трудных лет за плечами у этой дружной супружеской пары. Достаточно сказать, что в годы войны осталась тетя Катя под немцами с тремя малолетними детьми, скиталась с ними по чужим людям. Как выжили, что пережили — ей одной и знать.
Однажды, к удивлению своему, узнал я, что руки Василия Яковлевича не только плуг, топор и вилы держать умеют…
Пришел я в слякотный осенний вечер к Тютяжовым за молоком. Хозяин только что из бани вернулся, сидел за столом распаренный, в старой отутюженной рубахе, держал на коленях странный какой-то инструмент. На столе перед ним картошка в чугуне дымилась, огурцы малосольные в чашке поблескивали, мед в плошке янтарился, на плите в сковороде скворчало что-то. Рядом с хозяином кот дымчатый на табуретке сидел, смотрел телевизор.
— Корова подоена, но Катерина в бане, — пояснил Василий Яковлевич, — пообожди чуток. Чаю хочешь?
Присел я к столу, пригляделся к инструменту, который настраивал хозяин у себя на коленях, и глазам не поверил. Гусли!
— С детства балуюсь, — проговорил Василий Яковлевич, укладывая гусли на стол, — брат старшой приохотил. Летом этим делом заниматься некогда, а зимой и осенью вот… Слушай, поймаешь, чего играю.
Василий Яковлевич прикрыл струны корявыми, узловатыми пальцами, склонился над гуслями и, замерев лицом, заиграл.
Я не сразу понял, что поразило меня в игре гусляра. Конечно же, игра его не отличалась виртуозностью. Немузыкальные пальцы старика бегали по струнам без особого проворства, да и откуда ему взяться, проворству-то? Только спустя некоторое время понял я: поразила меня в игре Василия Яковлевича современная мелодия, которую извлекал он из своего инструмента. Привыкнув слушать на гуслях импровизацию Поветкина, я как-то отошел от мысли, что на гуслях можно играть и нечто присущее веку современному.
— Ну, уловил, что играю? — спросил Василий Яковлевич, прижимая струны ладонями.
— Вроде, «Варяг»…
— Угадал. А теперь послушай нашу, мальскую, старинную…
Однажды, когда я пришел к Тютяжовым, как обычно, за молоком, Василия Яковлевича дома не оказалось. Тетя Катя сказала, что приехала за ним какая-то машина из Пскова, попросили взять с собой инструмент и увезли ее старика на какой-то праздник.
Позднее, уже из журнала «Огонек» (№ 32, август 1983 г.), узнал я, что праздник этот в Пскове был первым областным фестивалем фольклора и назывался «Золотые родники». Открылся он у недавно установленного в Пскове памятника А. С. Пушкину и Арине Родионовне, и Василий Яковлевич Тютяжов на этом первом фестивале фольклора Псковщины был единственным представителем «гусленого художества». А красочную фотографию Василия Яковлевича, на которой запечатлен он в момент игры на гуслях, можно увидеть на последней странице того же номера «Огонька».
Интересно, что в среде исследователей народного музыкального творчества бытовало мнение, что последний гусляр на Псковщине умер в пятидесятых годах нынешнего века.
Опять же забегая вперед, скажу: в последнее время Лабораторией народного музыкального творчества Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, тем же В. И. Поветкиным вновь и вновь «открываются» живые гусляры на новгородской и псковской землях. А недавно в Пыталовском районе Псковщины были обнаружены целые деревни, у жителей которых гусли являются привычным инструментом, передающимся из рода в род, из поколения в поколение.
11
Как-то раз в разговоре с Василием Яковлевичем Тютяжовым упомянул я имя Поветкина.
— А я вроде бы слышал про него, — проговорил Василий Яковлевич, — это который по гуслям мастер, из Новгорода? Интересно бы встретиться с ним, его игру послушать и посмотреть, как играет. Я сам ведь двумя способами играю…
Когда я рассказал Поветкину о деревенском своем соседе-гусляре, Владимир Иванович не заставил себя долго ждать и вскоре приехал в Малы. Я привел новгородского мастера в дом Тютяжовых и познакомил с Екатериной Алексеевной и Василием Яковлевичем. И хотя хозяин дома за последние полвека в разгар рабочего дня за гусли не садился, на этот раз он сделал исключение. Достал инструмент, протер его рукавом пиджака и, с нескрываемым уважением глядя на мастера, поинтересовался:
— Старинную желаете послушать или «Варяга»?
Я тихо прикрыл за собой дверь, не желая мешать своим присутствием игре и беседе гусляру псковскому с новгородским.
Потом я спросил Владимира Ивановича: дала ли ему что-нибудь новое эта встреча со старым гусляром?
— Дала, и очень многое, — ответил Поветкин. — Один примем его игры на гуслях — эстонский, он меня не интересует. А вот другой — игра на избранных струнах, — этим приемом играю я сам. А у меня этот прием родился в процессе изучения и реконструкции древних новгородских гуслей. Вы понимаете, что получается? Игра Василия Яковлевича Тютяжова подтверждает мой путь и мои поиски в воссоздании древних инструментов и игре на них.
12
Рассказ о новгородце Владимире Ивановиче Поветкине хочу закончить двумя официальными документами. Первый документ — письмо ректора Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова В. А. Чернушенко, адресованное первому секретарю Новгородского горкома КПСС В. А. Кондратьеву, начальнику Новгородской археологической экспедиции МГУ В. Л. Янину и сотруднику Новгородской археологической экспедиции МГУ В. И. Поветкину. Второй документ — ответ председателя новгородского горисполкома на письмо ректора консерватории.
Письмо первое.
«Ленинградская консерватория, выполняя задачи, стоящие перед ней как одним из головных художественных вузов страны, на протяжении последних десятилетий активно разрабатывает вопросы изучения и пропаганды народного музыкального творчества областей северной и северо-западной зоны РСФСР.
Одной из ярких страниц в летописи культурной жизни России являются традиции народной инструментальной музыки, ведущие в своих истоках к древнейшим пластам национальной культуры.
Однако в течение многих лет, вплоть до последнего времени, в науке и в самой художественной практике существовал известный пробел, связанный с отсутствием точного знания конструктивных особенностей, сферы художественно-выразительных возможностей и функций большой группы народных инструментов, упоминания о которых встречаются уже в первых русских летописях — легендарных сопелей, гудка, гуслей звончатых.
В настоящее время, благодаря активному научному поиску, достижениям советской фольклористики, с одной стороны, и археологии — с другой, создалась благоприятная ситуация для решения сложнейшей проблемы — научного описания, реконструкции и воссоздания живых «голосов» утраченных музыкальных инструментов.
Нет сомнений в том, что решение этой актуальной проблемы будет иметь исключительно важное значение в деле углубления исторических научных знаний, в деле эстетического и патриотического воспитания советских людей, в расширении возможностей музыкально-педагогической и концертной практики (профессиональной и самодеятельной).
Наша уверенность основана на том, что в результате многолетней работы по археологическому разысканию и реконструкции древних образцов русских музыкальных инструментов (см.: Поветкин В. И. Новгородские гусли и гудки. Опыт комплексного исследования. — В кн.: Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М., Наука, 1982, с. 295—322; статья «Звонкие струны новгородских гуслей» — рукопись того же автора), а также в результате типологического изучения основ музыкальной формы инструментальных наигрышей по музыкально-этнографическим материалам найдены перспективные научно обоснованные методики возрождения достоверного звучания древнерусских инструментов.
Уже стал достоянием общественности факт успешного объединения совместных усилий новгородского мастера-реконструктора В. И. Поветкина и Лаборатории народного музыкального творчества Ленинградской консерватории в направлении исследования опыта воссоздания ранних форм народной инструментальной музыки на современной концертной сцене (см.: «Традиции древнерусской музыкальной культуры», «Музыка русских обрядов и праздников» — Концертные программы абонементов Малого зала им. А. К. Глазунова сезонов 1981—1983 гг.). Перспективы такого сотрудничества затрагивают важные стороны развития действенности форм музыкальной культуры в просветительско-пропагандистской работе.
Ректорат Ленинградской государственной консерватории, Лаборатория народного музыкального творчества, ЛОЛГК, сознавая ответственность за судьбу культурного наследия, его научную и художественную значимость в сфере идеологической работы, обращаются к Вам с просьбой — об организации в Новгороде центра (мастерской-лаборатории) по реконструкции образцов древних музыкальных инструментов. На основе организационно-технического обеспечения деятельности такого центра окажется возможным практическое решение широкого круга неотложных задач научного, художественного, воспитательного характера.
Со своей стороны Ленинградская консерватория готова принять активное участие в разработке музыкально-исторических, теоретических и методических вопросов, связанных с изучением древнерусского инструментария и использованием его в современной практике».
Письмо-ответ.
«Новгородский горисполком поддерживает предложение об организации в Новгороде центра (мастерской-лаборатории) по реконструкции образцов древних музыкальных инструментов и изыскивает возможность выделения соответствующего помещения в 1984 году».
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
МЕДОВЫЕ РОСЫ
Не кричи так жалобно, кукушка,
Над водой, над стужею дорог!
Мать России целой — деревушка,
Может быть, вот этот уголок…
Н. РубцовВНИЗ ПО ЛОВАТИ
1
Как-то раз немолодой начинающий писатель из Новгорода Илья Востров — напарник мой по туристско-рыбацким походам — поведал, что в Холмском районе на берегу Ловати пустует избушка известного ленинградского писателя Глеба Горышина.
«На вид он мужик спокойный, рассудительный, — рассказывал мне Илья, — но если втемяшится ему что в голову — оглоблей не выбьешь. Повел я его в позапрошлом году вниз но Ловати, захотел он те места посмотреть. Дед его когда-то гонял по Ловати барки с дровами. Шли мы с Горышиным от Холма до самого Парфино пешком. Сам знаешь, какая красотища на Ловати весной. Черемуха цветет, берега словно сугробами белыми завалены, соловьи свищут, три заброса спиннингом сделаешь — щука! Перемет поставишь — через два крючка то сом сидит, то щука, то жерех. Угри и те попадаются. И дичи разной навалом, что уток, что тетеревов, что зайцев. Дороги и поля кабанами изрыты. Кто ружьишко держит, кабанов прямо из окна бьют или с чердака. Как увидел Глеб этот земной рай, загорелся. «Хочу, — говорит, — избу в деревне купить, роман здесь буду писать». Сколько ни отговаривал, ни в какую. Купили домишко в деревне Березовка у старухи за триста рублей, старуха в соседнюю деревню к сестре решила переехать, ей что-то за восемьдесят уже было. Место красивое выбрал Глеб, но избе той красная цена полста рублей, а не триста. Пожили в избе с неделю, и затосковал Глеб, обратно в город захотелось. К деревенской жизни тоже привычку надо иметь. Тишина там — в ушах звенит, горожанин с больной головой ходит поначалу, заснуть не может. В деревне здоровому человеку просто необходима физическая работа, тогда и сон хороший будет, и настроение. А Глеб — ему молотобойцем впору работать — с утра до вечера пишет, ночью заснуть не может. Тут еще, как назло, крыса в доме завелась. Ночью светлынь, она, паразитка, сидит на печи, словно кошка, и поглядывает на нас злобно, аж жуть иногда берет. Глеб на ночь кирпичи битые стал припасать, швырялся в крысу, матерился. Потом в одночас собрал рюкзак и говорит: «Зимой сюда приеду роман заканчивать. На лыжах буду кататься, на охоту ходить и обязательно отравы прихвачу, чтобы извести эту нечисть». И еще вторые рамы наказал мне изготовить для его избы, чтобы зимой теплее было. Вон эти рамы, третий год в чулане лежат — двадцать пять рублей за них отдал, а Глеб и глаз сюда не кажет. Слышал я: ездил он недавно в Африку, говорят, и там что-то купил, хижину, наверное, из тростника. Так что если имеешь желание, езжай на Ловать и живи в его избе сколько хочешь, — заключил свой рассказ Илья. — Прихвати только с собой эти проклятые рамы, чтобы они мне глаза не мозолили, и выкоси вокруг избы траву, чтобы не сгорела ненароком от пала».
Предложение Ильи пришлось кстати. Близился очередной отпуск, и мне давно хотелось отдохнуть хотя бы недельку где-нибудь в безлюдье, тиши, на берегу рыбной речки. Одно смущало: нет разрешения на жительство хозяина домика. Вдруг сам нагрянет, а на даче его чужие люди ждут. Но Илья успокоил меня: «Езжай и живи смело. В случае чего, ты от моего имени дачку ремонтировать подрядился: рамы вставить, крышу перекрыть, печь подправить…»
В путешествие на Ловать мы отправились с двенадцатилетним моим сыном Вовкой. Несколько вечеров укладывали и перебирали рыболовные снасти, рассматривали карту-схему Новгородской области, прикидывали так и этак маршрут движения и, наконец, решили: до районного центра Холма добираемся на автомобильном транспорте, а дальше, вниз по Ловати, — на плоту. Где мы возьмем плот, из чего будем строить его, не имея под руками ничего, кроме туристского топорика, я представлял смутно, но Вовка заверил, что, если вблизи реки живут мальчишки, плот у нас будет.
От Луги до Новгорода мы с сыном ехали с комфортом, на лужском экскурсионном автобусе с экскурсантами из дома отдыха «Живой ручей». В Новгороде на вокзале нас уже ждал Илья с громадной вязанкой каких-то деревянных конструкций. Я не сразу сообразил, что это и есть зимние рамы к избушке, в которой мы намеревались пожить, и никак не предполагал, что их будет так много. Мы и так с рюкзаками походили на одногорбых верблюдов, увешанных удочками, спиннингами, подсачками.
— Четыре окна в избе вместе с кухонным, — пояснил Илья, — восемь ставней, дотащите вдвоем как-нибудь.
— Папа, берем рамы, — шепнул Вовка, — они сухие. Мы из них плот сделаем.
Рамы и впрямь пригодились нам впоследствии, но с посадкой на автобус «Новгород — Старая Русса» из-за них вышла заминка. Шофер автобуса — молодой вертлявый парень с пшеничной челкой над нахально-озорными глазами — наотрез отказался принимать в автобус громоздкую нашу поклажу. Сколько ни упрашивал я его, сколько ни умолял найти местечко для рам, шофер с демонстративной любезностью разъяснял мне, что габариты груза не соответствуют норме, и указывал промасленным перстом на инструкцию, висящую в рамке возле кабины. Время отправления автобуса близилось, и нетерпеливые пассажиры приняли сторону водителя.
— Сказано тебе, милок, нельзя — значит, нельзя! — изрекла сдобная толстуха, заполонившая с мешками два передних сиденья. — Нынче за инструкцию строго, с работы снять могут.
— Куды их девать, рамы, ежели некуда, — то ли поддержал толстуху, то ли возразил ей щетинистый мужичок. — Езжать пора…
Пассажиры вдруг разом возбужденно загалдели, требуя отправления автобуса, а шофер, ухмыляясь, посматривал на меня выжидательно. Нагловато-озорные глаза его совершенно явственно требовали: дай рубль и все уладится. Не стану скрывать, я дал бы ему рубль и тем разрешил возникшую проблему, не будь рядом Вовки. Сына своего мы воспитывали в семье только на положительных примерах, это создавало для меня и для него массу трудностей. Я замечал, что сын мой растет эдаким парниковым идеалистом, нетерпимым к любым человеческим слабостям и недостаткам, и это не столько радовало, сколько смущало и тревожило меня. Обостренная Вовкина нетерпимость и «правильность» отталкивали от него мальчишек-сверстников, он не мог понять, отчего это, к примеру, мальчишки с восторгом принимают предложение забраться в чужой сад и смеются над ним, когда он начинает объяснять, что так делать нельзя, это нехорошо, это недостойно честного человека. Порой мне казалось, что в воспитании сына я слишком большой упор делаю на разум, отодвигая чувства на задний план. Забраться в чужой сад действительно нехорошо, но, черт возьми, сам-то я в детстве лазил по чужим садам! И сейчас в глубине души я ничего не имею против, чтобы Вовка хоть разок напроказничал или подрался с кем-нибудь за правое дело. Отчуждение ребят огорчает Вовку, и порой он становится замкнутым, скрытным и даже ядовито-раздражительным.
Вот и сейчас Вовка заметил, как Илья, которому надоели бесплодные переговоры с водителем автобуса, подошел к кабине и что-то сунул в руку шофера, кивнув в нашу сторону головой.
— Папа, что дядя Илья дал шоферу? — настороженно спросил Вовка.
— Деньги.
— Зачем, ведь у нас есть билет?
Ответить я не успел. Водитель автобуса энергично поднялся со своего места, приветливо махнул нам рукой, приглашая заходить, и, повернувшись к пассажирам, громко произнес:
— Граждане, потеснимся! Не бросать же людям рамы!
— Езжать пора… — недовольно пробубнил щетинистый мужичок.
— Заткнись, — повысил голос водитель автобуса, — не то приедешь у меня куда надо.
— Некуда с рамами, некуда! — возразила и толстуха с первого сиденья.
— Помолчи, бабка! Это ты вон того женилу по детскому билету прешь? Смотри у меня…
— А как же ваша инструкция? Нарушаете? — язвительно поинтересовался с заднего сиденья пожилой мужчина.
— Инструкция не догма, а руководство к действию, гражданин, — нимало не смущаясь, разъяснил шофер и добавил: — Между прочим, гражданин в очках, у вас билета еще нет.
— Так дайте мне билет, вот деньги.
— Билеты у нас, гражданин, на конечных остановках берутся в кассах автобусных станций. Так что, если желаете возникать в автобусе, позвольте вам выйти за билетом.
Нахраписто сломив очаги пассажирского сопротивления, шофер распихал наши рамы по разным концам салона, и автобус наконец двинулся в путь.
Илья махнул нам на прощание рукой и, улыбаясь, показал три пальца: дескать, с тебя три рубля за шофера. В ответ я показал ему кукиш. Вовка сидел нахохлясь, всем своим видом осуждая наше с Ильей поведение.
До Старой Руссы автобус домчался без каких-либо приключений за два с небольшим часа. Я чувствовал себя перед сыном неловко и с излишней оживленностью рассказывал ему о местах, по которым мы проезжали. Но только за Шимском, при переезде моста через спокойную величественную Шелонь, по которой проходил в былые времена знаменитый торговый путь «из варяг в греки», Вовка ожил и заулыбался. А когда выскочил наш автобус на высокий холм в деревушке Коростынь, самое, пожалуй, живописное место на всем побережье озера Ильмень, Вовка ахнул от восторга и прошептал: «Море…»
Озеро и впрямь напоминало море. Безбрежное, искрящееся в туманной солнечной дымке, оно было не голубым или изумрудно-зеленым, как Черное море, а светло-молочным, сливающимся с просинью неба. Где-то там, за дальним мысом, впадает в озеро Ловать, по которой намечен наш плотовый маршрут, а еще дальше — устье Мсты, быстрой порожистой землячки Ловати, но с более крутым норовом, по которой мы с Вовкой еще не решаемся путешествовать.
В Старой Руссе мы с Вовкой не стали дожидаться автобуса на Холм, который отправлялся туда только вечером, а, как и советовал нам Илья, на городском автобусе добрались до авиагородка и здесь на шоссе Старая Русса — Холм стали «голосовать» на лесовозы. Первый же «МАЗ» с длинным прицепом, завидев наши поднятые руки, затормозил. Шофер высунулся из кабины, спросил деловито:
— Куда?
— В Холм.
— Залазь.
В кабине лесовоза было просторно, жарко и пыльно. Мы уложили рамы и рюкзаки на заднее сиденье, которое предназначалось, видимо, для отдыха водителя — там лежала серая брезентовая подушка и скатанное байковое одеяло, — расселись на жестком сиденье поудобнее.
Шофер — степенный неторопливый человек средних лет — показался мне поначалу неразговорчивым, но, по мере того как громоздкий лесовоз набирал скорость, водитель оживился, выдавил из смятой пачки сигарету, ловко чиркнул спичку одной рукой, прикурил и, артистично дунув струю дыма в потолок кабины, спросил не поворачивая ко мне головы:
— Писатель будете?
— Газетный работник.
— То-то, я смотрю, у вас все пальцы в чернилах. Изобку в наших краях купили? — Шофер кивнул головой на рамы.
— Купил, приятель, купил.
— Где?
— В деревне Березовке.
— У Ильиной Елизаветы, за триста рублей?
— Точно! — удивился я.
— А у меня баба из соседней деревни взята, из Раковки.
— Из Раковки! Там, мне говорили, старик живет, Карп Иванович. Мы у него денек-другой пожить думаем. Не знаете такого?
— Карп Иваныч… — шофер заулыбался. — Так я же зять его буду, Анциферов Николай! На Верке, дочке его, женат. Вы зачем в Холм едете, вам лучше в поселке Чекуново свернуть и по старой узкоколейке до Ловати километра полтора-два, не больше. А там и до Раковки рукой подать.
— Мы на плоту от Холма хотели.
— На плоту лучше от Чекуново, Холмские пороги сейчас по малой воде вам не пройти.
— А мы там плот найдем? — спросил Вовка.
— Найдете плот, — успокоил шофер. — Там наши лесхозовские трактористы с плотов браконьерят иногда. Химией рыбу травят, паразиты, толом глушат. Да ничего, старик недавно из больницы вернулся, Карп Иваныч, он «химиков» за десять верст к своей изобке не подпускает. Сеткой или снастями какими — лови сколько хочешь, а за химию или тол — с ружья пальнет запросто.
— Он что, болеет, Карп Иванович?
— Ага, радикулитом мучается. Две недели в Старой Руссе отлежал, потом письмо прислал мне: вези домой. Приехал я за ним на этом вот лесовозе, а он на костылях еле ползает. Куда, говорю, тебе на лесовозе, совсем растрясет. Да разве его уговоришь. До самого Чекуново в кабине волком выл, а в поселке я его на трактор перевалил, в Раковку отправил. Как он там один крутится, не знаю. Давай, говорю, перебирайся к нам в поселок, живи, места хватит. Куда там! Зимой, бывает, в самые морозы поживет в поселке месячишко, а потом опять в Раковку. Пчелы у него там, огород. А живи, думаю, если хочется, мне же лучше. Я и с медом всегда, и с картошкой, и рыбки старик подбрасывает. Жить можно.
— Заработок как? — поинтересовался я.
— Сотни четыре выгоняю, а бывает, и поболе. С пассажиров опять же сотняжка в месяц набегает. Жить можно. Сами-то сколько получаете? — поинтересовался шофер.
— Девяносто пять рублей.
Водитель помолчал, энергично поигрывая баранкой, потом выдал из угла рта сочную струю дыма и, переходя на «ты», заметил:
— Зато небось высшее образование имеешь?
— Имею.
— Это так… — неопределенно произнес шофер. — Мозгами завсегда легче шевелить, чем хребтом ворочать.
— А вы пробовали мозгами шевелить? — неожиданно озлился я.
— А ты пробовал целыми днями бревна ворочать да по двенадцать часов баранку крутить без выходных? — вопросом на вопрос ответил шофер.
— Нет, не пробовал.
— А ты попробуй. Потом скажешь, чьи рубли слаще.
Досадуя на себя за то, что втянулся в дурацкий этот спор, я постарался перевести разговор на другую тему:
— Как тут у вас с дорогами вдоль Ловати? Если нам на плоту не удастся, придется пешком. На карте вроде неплохие дороги.
— На карте неплохие, — усмехнулся шофер, — а в натуре — хуже не придумаешь. Одно название, что дорога.
— Да, дороги — это проблема.
— Главная проблема! — охотно подхватил хозяйственную тему водитель. — Вот, говорят, людей в Новгородской области маловато, жилья не хватает, пьют изрядно, а почему? Все от плохих дорог.
— Ну, положим, дороги к пьянству отношения не имеют, — возразил я.
— Не скажите, — вновь переходя на «вы», загорячился шофер, — возьмем меня, к примеру. Лентяем никогда не был, выпиваю — после бани и по праздникам. Жили мы с бабой до недавнего времени в Перегино, я в совхозе шофером работал, а баба моя дояркой. Покуда деревни по Ловати «живые» были, дороги худо-бедно в божеском виде еще поддерживались. Деревенские возле своей деревни мосты всегда подремонтируют, не то без магазинных товаров и без почты сидеть будут. А не стало деревень, дороги вконец захудились. Получишь наряд за сеном ехать в слякотную пору, с центральной усадьбы выберешься — мать честная! Не дорога — смерть машине! Воз сена привезешь — неделю под машиной лежишь. Кому это выгодно: мне? Государству? Вот и бывает так: до первой деревушки доберешься, где старухи еще живут, машину на прикол, а сам к старухам на печку. А бригадиру потом скажешь, что забуксовал, — поди проверь меня! Вот и получается, что плохая дорога меня и от работы отлучает, и пьянству учит, и обману.
— Если государство к каждой деревне дороги асфальтировать станет, оно в трубу вылетит, — неуверенно возразил я.
— К каждой деревне пока не время, — согласился водитель, — а от Перегино до Поддорья давно пора. Вон гляньте, эта дорога — черт ногу сломит, а ведь она на центральную усадьбу совхоза ведет. Восемнадцать километров всего от усадьбы до шоссе Холм — Старая Русса. Если посчитать, сколько в эту дорогу с послевоенных лет денежек вбито, так ее червонцами выстлать можно, позолотить, а не только заасфальтировать. Сам несколько лет на самосвале песок и гравий сюда возил, а что толку? Сколько на ней техники угроблено и сколько еще угробят? Сколько молока в цистернах сбито, ног поломано, да что там говорить! По-государственному это?
Я был вынужден согласиться, что это конечно же не по-государственному.
— Почему я из совхоза ушел? Из-за заработка? Нет, нам с бабой хватало. Корову мы, правда, не держали: зачем корова, когда баба дояркой работает, а вот поросят до восьми пудов каждый год по парочке поднимали. Осенью до трех центнеров клюквы брали, грибов пару бочек для базара засаливали и белых немало засушивали. Про огород уж и не говорю, огород — мелочь, не люблю я в огороде копаться. «Москвича» приобрел «четыреста седьмого», а куда на нем по такой дороге? Я же классный шофер, что для меня главное?
— Машина, — подсказал я.
— Машина — само собой. Машина от моей головы и рук зависит. У меня любая машина ходить будет. Я, если надо, за свои кровные запчасть приобрету и на машину поставлю, не пожалею. Главное для меня — дорога! Чтобы ветер в ушах свистел, а не селезенка екала на ухабах. Потому и ушел из совхоза, и не жалею про то. Теперь другую проблему возьмем, из дорог вытекающую. — Водитель наш вошел во вкус разговора и энергично перекидывал языком погасшую сигарету из одного угла рта в другой. — Излишку пьем! Отчего человек пьет — судить не берусь. Я иногда — от плохих дорог. В моей жизни главное что? Работа. Я по двенадцать часов за баранкой сижу, должен я от своей работы удовлетворение получать, как в книгах пишут? Должен, а как же! Иначе я бы сторожем сидел на дровяном складе по семь часов да клюквой торговать на Урал ездил. Но для полного моего удовлетворения одно условие должно быть — хорошая дорога. Нет дороги, тоска на меня нападает…
— В чем же ваше удовлетворение заключается? — перебил я водителя.
Мой вопрос чем-то задел шофера. Он нахмурился, заиграл желваками скул, вновь перешел на «ты»:
— Думаешь, ежели я за рулем весь день, книжек не читаю, Шекспиров в театрах не смотрю, так у меня и удовлетворения быть не может? По-твоему получается, что все мое удовлетворение жизнью в поллитре заключается?
Я хотел возразить шоферу, что он неправильно меня понял, но промолчал. Водитель наш, по всему видно, мужик был заводной, горячий, с таким лучше помалкивать да слушать. В своих рассуждениях он оперировал крупными категориями, умел привязать к извечным темам малое, вплоть до клюквы. Это всегда интересно и говорит о философском складе ума моего собеседника.
— Давай разберемся, — продолжал шофер, — кто из нас с тобой больше удовлетворения от жизни получает. Возьмем работу. Я шофер, ты газетный работник. Сейчас в отпуске?
— В отпуске.
— Тянет тебя в отпуске в газету?
— Нет, не тянет, — признался я.
— Во! А я в отпуске без руля больной хожу. В середине отпуска на дорогу выхожу, Сереги Васильева «МАЗ» останавливаю, говорю ему: давай за тебя денек покатаюсь. Отработаю смену — полегчало, можно отпуск догуливать. Что из этого заключаем? То, что я свою работу люблю больше, чем ты. Нуждаюсь в ней больше. Важно это в жизни или не важно?
— Важно.
— Теперь книжки возьмем, которые ты читаешь, а я не читаю. Разберемся, беднею я духовно от этого или не беднею. Что есть книжка? В моем понимании — история человеческой жизни, вот что такое книжка. Наполовину своя история, наполовину выдуманная, с приправами разными, ну, там приврать немного, польстить кому надо, подмазать. Так?
— Всякое бывает, книжек много.
— Согласен, бывает всякое. Пускай без вранья историю жизни ты прочитаешь в неделю раз — два. А я эти истории каждый день читаю в рейсах. Это я сегодня такой разговорчивый, а вообще я попутчиков слушать больше люблю. Чтобы про свою жизнь рассказывали. От Старой Руссы да Холма проедешь — считай, новую книжку прочитал, и без приправы всякой. Что получается, кто из нас начитаннее? Ага, еще: ты в театры ходишь, Шекспиров смотришь, а я нет. Тебе чувства театрами волнуют, а мне сама жизнь волнует. У соседа моего Женьки Типанова баба — красавица из красавиц. И хозяйка что надо, не вертихвостка, но скупая на удивление. Все, что зарабатывает Женька и что от хозяйства выручают, на сберкнижку сдает. Женьке иной раз курева купить не было на что, а на свою Любашеньку он дышать боялся. А тут его как-то в командировку отправили в Красный Бор в день получки. Попросил он Ефимова Андрея получку бабе своей передать. Ну, пришел Андрюха к его Любахе, сказал, что мужик в командировку уехал, а потом и намекни смехом: мол, не поцеловала бы меня, красивая, за две сотни, уж больно ты хороша. А та тоже смехом: давай, говорит, выкладывай свои сотни, может, и поцелую. Выложил Андрюха получку мужа ее на стол, а она его чмок в губы. Андрюха — парень молодой, горячий, облапил ее и… под утро только от красавицы вышел. Женька Типанов из командировки приехал, спрашивает бабу: отдал тебе Андрюха деньги? А у той и глаза на лоб. Дознался про все Женька, Андрюхе морду набил всласть, а за бабой своей теперь после каждой получки, как выпьет, с топором бегает. Не шутки шуткует, всерьез с топором бегает, а мужики у него топор отнимают. Театр это или не театр? Шекспир или не Шекспир?
— Шекспир.
— Во! Посмотрел Шекспира, чувства поволновал, могу и посмеяться, комедию посмотреть. Да хоть сейчас в Поддорье зайдем к Вальке Анисимову, посмотришь, как он бабу свою пить отучает. Живот от смеха надорвешь, с другой стороны — грустно. По моему разумению: нет ничего страшнее на свете, чем пьющая баба. Мужик — тот еще может себя придержать. Пьющая баба — конченый человек. Пьющие бабы страшнее атомной войны!
— Каковы же ваши соображения насчет искоренения пьянства? — несколько официально спросил я словоохотливого водителя.
— Соображения имею. А как же! И теоретические соображения имеются, и практические. Теоретические таковы: в этом деле порядок должен быть. У нас главбух леспромхоза недавно в Финляндию ездил, рассказывал: у них спиртное по талонам выдают. Выбрал норму — все! За рулем пьяный попался, будь хоть министр, права отбирают — и в каталажку. А практически я твердо знаю: не пьет начальство — подчиненные меньше пьют. А как же! У нас начальник участка Семенов каждый день с работы на бровях уходит. Может он мне замечание какое сделать? Да я его пошлю знаешь куда! А вот Никита Семенович совсем другое дело. Я его на работе выпившим не видел. Да мне ему в глаза стыдно смотреть, ежели употреблю на работе. Вот и получается: практически этот вопрос надо начинать решать с начальства. Эта задача государства, а моя задача в своей семье пьянь не разводить. Я свою задачу выполняю. У меня как: выпила баба лишнюю рюмку — сразу по зубам. Сына с малых лет предупредил: покуда на моей шее сидишь — ни грамма в рот. Чтобы и сам окреп, и потомство хилым не было…
С лесовоза мы с Вовкой сошли в поселке Чекуново, откуда до Ловати было рукой подать, — приняли совет шофера. Прощаясь, я достал из кармана три рубля и протянул водителю. Шофер принял деньги и уже вдогонку прокричал нам:
— В любую деревню заходи, скажешь: Кольки Анциферова знакомый. Меня тут от Холма до Взвада все знают. И переночуете как надо, и лодка для рыбалки всегда будет, Главное, фамилию не забудь: Анциферов Николай!
Нет, фамилию не забуду. В свое время я познакомился в Литинституте с замечательным парнем, поэтом — шахтером Николаем Анциферовым, который, увы, так рано ушел из жизни. Весельчак, балагур, душа любой компании, Николай Анциферов как никто другой мог опоэтизировать свой нелегкий шахтерский труд. Согнувшись под рюкзаком и вязанкой рам, я невольно, в такт шагам, вспоминал его стихи:
Я работаю, как вельможа, Я работаю только лежа. Не найти работенки краше, Не для каждого эта честь. Это только в забое нашем: Только лежа — ни встать, ни сесть.2
На плоту по несудоходной безлюдной речке в жаркий летний день — что может быть лучше?! Раздевшись до трусов, мы с Вовкой намотали майки на головы и, развалившись на рамах, как в креслах, блаженствовали, полоская ноги в теплой воде. Плот, который нашли мы на берегу реки, связан был из мелких сухих бревен, легко держал двух человек, но был широковат. По такой речке, как Ловать, которая в малую воду вся горбатится камнями, плыть лучше на плоту узком — легче проходить стремнины на порогах. Пока же наш плот, лениво и плавно кружась, двигался, неуправляемый, вниз по реке, выискивая тихие заводи, чтобы приткнуться к берегу, и тогда Вовка длинным березовым шестом вновь выталкивал плот на течение.
Крутые берега Ловати нависали над рекой зеленым шатром. Кое-где зелень сползала с берегов, обнажая гребни из красноватого песка, иссеченного отверстиями гнезд береговых ласточек. Вцепившись обнаженными корнями в берега, размываемые дождями, гудели на ветру сосны, березы, дубы, клены, еще не тронутые красками осени, а здесь, внизу, словно на дне горного ущелья, было тихо и покойно. Уши наши, привыкшие к птичьему гомону, уже не слышали его, и только от крутых рыбьих всплесков в камышах мы с Вовкой вздрагивали и ожидающе-радостно замирали в предчувствии хорошей рыбалки. Все заботы, думы, жизненные огорчения словно бы отодвинулись куда-то далеко-далеко, стали мелкими, неважными, ненужными.
Вовка вытащил из чехла спиннинг и, размахнувшись, сделал первый заброс вдоль стены тростника. Неудача. Блесна плюхнулась в воду в десяти метрах от плота, а спиннинговая катушка вспучилась «бородой» из перепутанной жилки. На полчаса хватит разбирать «бороду». Вовка с досадой дернул удилищем и в тот же миг завопил: «Взяла! Взяла!» В том месте, где упала блесна, вода взбурлила, леска натянулась, но тут же, отпущенная «бородой», дернулась и обвисла.
— Сошла! — Вовка смотрел на меня, готовый заплакать. — Видал, какая щука!
Трясущимися от волнения руками я доставал из чехла свой спиннинг…
Время за рыбалкой летит стремительно и незаметно. На нашем плоту вяло подрагивали три небольшие щуки, когда Вовка проговорил:
— Папа, смотри, деревня!
Я посмотрел туда, куда указывал сын, и сердце мое невольно сжалось, замерло.
Сколько бы ни прошло лет, какие бы красивые города, сверкающие стеклом и сталью, ни возвели на земле люди, тот, чье детство прошло в деревне, не может остаться равнодушным при виде «мертвой» деревни.
С крутого живописного обрыва чернели провалами оконцев полуразвалившиеся избушки, заросшие травой, окруженные одичавшими яблонями. Осевшие соломенные крыши обнажили печные трубы. Казалось, с холма спускаются на водопой неведомые чудища, настороженно вытянув кирпичные длинные шеи.
Река возле деревушки раздалась пошире, берега засветились чистыми песчаными отмелями. Сильное течение подхватило наш плот и, плавно кружа, втолкнуло в тихую заводь, окруженную серебристым ивняком.
Человек! Это было так неожиданно, что я вздрогнул. До человека, сидящего с удочкой на суку поваленного дерева, казалось, можно было дотронуться рукой. Он сидел так тихо и неподвижно, что мы с Вовкой только сейчас увидели его. Это был старик. Приподняв голову, прикрытую помятой кепкой, он внимательно и с интересом смотрел на нас из-под козырька. Узкие плечи его обтягивала серая латаная рубаха, выпущенная поверх лоснящихся армейских галифе, на ногах — кирзовые сапоги.
Я только собрался поздороваться со стариком, но тот опередил меня:
— Здорово, робята!
— Здравствуйте!
— Откуда сами будете?
— Из Луги.
— Из Луги! Как же, знаю! В двадцатом годочке службу там начинал. В артиллерийском полку ездовым. Сами, извиняйте, какой профессией занимаетесь?
— Газетный работник.
— Ага… Писатель, значит.
— Вроде этого.
— У меня писателей знакомых много. В Березовке один сгорел недавно. Теперича другой изобку купил у Елизаветы Ильиной за триста рублей. Как его… Забыл… Вроде как Горький Хлеб зовут…
— Горышин Глеб?
— Верно, он. В прошлом лете он по Ловати в резиновой лодчонке плыл с женой и дочкой. На порогах застрял, водицы зачерпнул в лодчонку, баба его напугалась страсть как. Потом Тимоха Горский их на лошади до Березовки доставил. Еще один часто приезжает из Москвы, лысый такой, в очках. Не знаешь?
— Не знаю.
— Его, говорит, вся заграница печатает, Юркой звать?
Старик был одним из тех людей, которые сразу располагают к себе, которых после первых минут знакомства, кажется, знаешь давным-давно. Морщинистое лицо его с мясистым треугольным носом покрывал ровный здоровый загар, широкий подбородок серебрился щетиной, маленькие светлые глазки помаргивали на нас живо и с любопытством.
— Меня Карпом зовут, — представился он, — Иваныч по батюшке. Эвон на горе моя изобка. Оставайтесь ночлеговать, баньку справим, медком угощу, ушицы сварим…
Мы с Вовкой охотно согласились на предложение гостеприимного старика и, пришпилив плот шестом ко дну, принялись выбрасывать на берег рюкзаки и снасти.
Карп Иванович смотал удочку, вытащил из воды за бечевку садок, в котором трепыхалось десятка два окушков и плотвичек, но с места не двигался. Наконец попросил.
— Робятушки, строньте меня. Радикулит, проклятый, замучил. Как посижу, опосля не встать.
Мы с Вовкой осторожно приподняли старика с бревна, поставили его на ноги.
— На тракторе Ванькином, ествую, начисто растрясло! — бормотал Карп Иванович, прилаживая под мышки старые обшарпанные костыли. — Ну ничево, ничево, баньку ноне справим, попаримся…
Пока поднимались мы по узкой тропинке, петляющей в густом ольшанике, переплетенном диким хмелем, Карп Иванович отдыхал только два раза. Но за это время успел поведать нам о своей жизни от младенческих лет и до самой революции. Рассказывал старик интересно образно, сочным языком, пересыпая рассказ пословицами, поговорками, присказками. Я не сразу приноровился воспринимать его речь и потому первую часть рассказа Карпа Ивановича о жизни воспроизведу своими словами, а дальше видно будет.
3
В деревушке Раковка, где проживал Карп Иванович, дворов было всего… один. Иные — не коренные, пришлые люди — звали Раковку «хутором Карпыча». Сам Карп Иванович слово «хутор» не любил. Раковка деревня — и все тут. Раньше, до революции еще, когда был Карп Иванович молод и гонял по Ловати до Ильмень-озера барки с лесом холмских купцов, Раковка насчитывала дворов двадцать. Перед Отечественной войной четырнадцать дворов было в деревне, а после войны только восемь поднялось. Изо́бок. Избами в здешних местах дворы не зовут, только изо́бка да дом. Изобка — которая победнее, изба иначе, а дом — он и есть дом. Домов и нынче в малых деревнях по Ловати от самого Холма до Ильменя по пальцам перечесть можно. В Раковке домов никогда не бывало, одни изобки. Земли здешние по Ловати небогатые, подзолистые, мелколесьем и болотами иссечены, и прокормиться на них большого труда и старания стоило. Вот и уходили здоровые, крепкие мужики из приловатских деревень на отхожий промысел. Зимой лес заготовляли — пилили, вывозили его на лошаденках к берегам реки и Большой дороге, что с Холма на Старую Руссу тянулась и дальше на Новгород. А по весне, в самую страдную посевную пору, на сплав уходили, оставляя скудную землю на баб и ребятишек. Привыкали мужики к сезонным и случайным заработкам, теряли вкус к земле, баловались, спивались.
Дед Карпа Ивановича, отец его, братья и другие деревенские мужики Раковки в основном на сплаве подрабатывали. По большой воде, которая держится на Ловати с двадцатого обычно апреля и по двадцатое мая, гоняли барки с лесом, овсом и рожью вниз по Ловати до Ильмень-озера. Там перегружали товар на самоходные баржи, и шли баржи дальше — в Новгород и Питер, а мужики обратно в Холм возвращались, чтобы новую барку принять и успеть проскочить по ней по большой воде через коварные Ловатские пороги. В дни большой воды барки шли косяками аж из Великих Лук, но раковские мужики для найма выше Холма не поднимались. В Холме купцов хватало: Шаляпины, Мазепины, Дюргес, Браво, Шапиро — имена эти известны были не только в Холме и Новгороде, но и в самом Питере, где имели купцы свои склады и торговые лавки.
Мужиков одной деревни, такой, как Раковка, для сплава и одной барки не хватало, артель на барку с лесом или дровами требовалась из сорока человек, не считая лоцмана. Раковские мужики объединялись всегда с мужиками из соседних деревень Горки и Осетище. Лоцманом у них ходил дед Карпа Ивановича, Роман Карпов, старик ростом и силой невеликий, но забияка, драчун и бабник. Барки водил он от Холма только до Рябково — сорок верст. В Рябково барку со своими мужиками другому лоцману передавал, сам гнать не решался, не был уверен наверняка, что пройдет Нижнерябковские пороги. Свой же маршрут Роман Карпов знал до каждого подводного камня, мог пройти его с закрытыми глазами и за долгие годы лоцманской работы не разбил на порогах ни одной барки. И сына своего Ивана, и внука Карпа старик сызмальства к сплавному делу приучал. Малолетку Карпа с собой на барку брал на гармошке играть, чтобы веселил мужиков, стоящих целыми днями на дощатых шорах за потесями — тесаными бревнами, веслами-рулями. Таких потесей на барке — на носу две и на корме две. За каждой потесью по десять мужиков.
Летит барка по норовистой вздувшейся Ловати, на поворотах да на стремнинах не зевай! Лоцман зорко по сторонам посматривает и луженым своим горлом команды отдает: «Эй, на шорах! Не дремать! Носовые, вправо три разика… Отложи-и!!! Кормовые, влево два разика… Отло-жи-и!!!» А восьмилетний внук лоцмана Карп в это время на середине барки на плесах сидит и на гармошке играет. Головенка белесая из-за мехов едва видна, а так лихо играет, такие забористые коленца выдает, что мужики за потесями нет-нет и пристукнут о шоры голыми пятками. А когда выходит барка на тихую воду, запоет вдруг гармонь песню раздольную, жалобную, такую, что мужиков за сердце берет и слезы на глаза выжимает. И откуда у мальца талант к песням брался, нельзя было объяснить. Никто Карпа играть на гармошке не обучал. Дедова была гармошка, Роман Карпов пиликал на ней иногда по пьяному настрою. Как-то случайно повесил дед «хромку» на грудь внуку, а тот возьми и запиликай, да и не хуже дедова. А через несколько месяцев уже никто в деревне сравняться с Карпом в игре на гармошке не мог. Где услышит песню какую, частушку, припевку — мигом на гармошке изобразит. Роман Карпов, не баловавший никогда ни сынов своих, ни внуков подарками, подарил семилетнему Карпу гармошку. А через год взял его с собой на сплав веселить мужиков, привыкать к сплавному делу. Карп не только на гармошке играл, но и кашеварить помогал, а когда сходила артель на берег — в магазин за водкой бегал, потом пьяных мужиков подальше от воды откатывал, чтобы не захлебнулись ненароком в Ловати. И так привыкла артель к Карпу и гармошке его, что порешила: выделять Романову внуку из общего артельного котла пять копеек в день. Деньги были не совсем уж и малые. Мужики на шорах целый день потесями ворочали за двадцать пять копеек, и только лоцман получал в день рубль.
С первыми заработанными копейками кончилось Карпово детство. Теперь он исполнял не просьбы, а наказы и требования артельных. Кое-кто из мужиков видел в мальчишке не только помощника на барке, но и нахлебника, которого приходится терпеть из-за деда-лоцмана, и при каждом удобном случае давал ему это понять.
В начале третьей декады мая, когда большая вода на Ловати спадала, артель возвращалась домой. Несколько дней деревни ходили ходуном — гуляли сплавщики, пропивали заработанные у холмских купцов деньги. В один из таких дней Романа Карпова нашли на берегу Ловати мертвым. Холмский лекарь, осматривавший мертвого, пояснил деревенским, что помер Роман Карпов от собственной блевотины, захлебнулся. Кабы на боку лежал или на животе — немало бы еще пожил, крепкий был старик.
После смерти деда многодушной семье Карповых пришлось туго. Ежегодные тридцать «сплавных» рублей Романа Карпова, даже с вычетом «пропойных», являлись основным подспорьем для хозяйства. Теперь же лоцманская семья вынуждена была обходиться копейками, как и семьи всех артельных мужиков-сплавщиков.
В четырнадцать лет Карп Карпов встал на шоры рядом со своим отцом Иваном Карповым и до самой революции ворочал тяжелым тесаным бревном своенравную диковатую Ловать.
4
Изобка Карпа Ивановича — серенькая, приземистая, в три оконца, под шифером — распласталась над Ловатью на пригорке. К реке сползала она двором, что был заодно с изобкой, но крыт соломой, оконцами смотрела на заросшую лебедой и крапивой проезжую дорогу, некогда деревенскую улицу. Изобку окружал ухоженный яблоневый сад, в котором стояло штук десять пчелиных домиков, полиняло-разноцветных. Возле самого двора бугрились грядки с луком и прочей зеленью, сбегали вниз к реке ровные ряды картофельной ботвы. В конце сада виднелась крошечная баня без трубы, с распахнутой настежь прокопченной дверью.
— Папа, почему в деревнях все домики не на речку окнами повернуты? — негромко спросил Вовка. — На речку же красивее вид!
— Ишь ты, глазастый! — фыркнул Карп Иванович. — Вот поживи в деревне годочков несколько, тогда сам сообразишь, почему. На речку мы за годочки долгие вдоволь насмотрелись, на человека смотреть куды интереснее. А человек-то по улице идет, по дороге…
Доковыляв на костылях до изобки, Карп Иванович облегченно присел под окном на завалинку, скомандовал бодро:
— Значит, так, робята: ты, — он ткнул пальцем в Вовку, — воду носи. Эвон в сенях ведро, а ручей вон там, под горкой. Ты, мил человек, — Карп Иванович стрельнул в меня живыми светлыми глазками, — дровишек для баньки потаскай. Подалее ходи, в конец деревни. Ломай осек возле Ольгиной изобки, и заворы там сухонькие имеются.
Сложив рюкзаки и рыбацкие свои принадлежности в полутемных прохладных сенях изобки Карпа Ивановича, мы с сыном принялись за работу. Не знаю, как Вовке, а мне попариться в настоящей деревенской баньке, топящейся по-черному, очень хотелось. Парильщик я был заядлый и понимал в бане толк. С лета запасал всегда десятка два-три двойных веников — наполовину березовых, наполовину дубовых. Доводилось мне наблюдать, как парятся вениками сосновыми и можжевеловыми, пару поддают с пивом, квасом или настойкой эвкалипта. Кстати, с эвкалиптовой настойкой пар, на мой вкус, самый лучший. Дышится легко, свободно, ну как после хорошей грозы в сосновом бору. Знал я также, что топить баню лучше всего сухими березовыми дровами или ольховыми. У себя в городе мы, любители парной бани, сбрасывались иногда по рублю и закупали у кого-нибудь в ближайшей деревне складницу сухих, как порох, березовых дров. Те дрова — сырая осина и сосна, — которые выделял для городской бани горкомхоз, никуда не годились, вернее, для бани не годились. Банщик, растопляя каменку такими дровами, матерился от души и, что главное, поддавал в топку солярки или, как было совсем недавно, подкинул для растопки сухих дощечек от бочонков, в которых хранились на химзаводе ядовитые химикаты. После этой бани нескольких парильщиков увезла «скорая помощь». Короче говоря, парные виды я видывал и в банном деле не был новичком, но то, что показал нам Карп Иванович в своей баньке по-черному, редко кому доводилось не только испытать, но и увидеть.
Груду сухих жердей и кольев, что натаскал я к бане от Ольгиной изобки, Карп Иванович решил оставить про запас и указал на складницу корявых, сучкастых чурбаков, подмигнув многообещающе:
— Яблоневыми истопим баньку. Не пробовал небось яблоневый пар?
Мне и вправду не доводилось бывать в бане, истопленной яблоневыми дровами. Теперь могу с уверенностью сказать: нет ничего лучше яблоневого пара. Что аромат, что дышится — не чета какой-то там эвкалиптовой настойке, дух свой, родной, русский.
— Только водой полок не обдавайте, только не обдавайте! — кричал Карп Иванович с завалины.
Старик сидел скрючившись, обхватив руками костыли, и все его помыслы направлены были, видимо, на целительницу-баньку.
— Карп Иванович, венички какие предпочитаете: березовые, дубовые? — спросил я, перебирая веники, которые успел наломать Вовка.
— Крапивки мне молоденькой нарвите, — простонал старик. — Которая не цвела ешшо. И плат на голову.
Мы с Вовкой долго не могли поверить в то, что старик собирается париться крапивой. Слышал я, что крапивой натирают больные места, но чтобы париться…
Карп Иванович забраковал несколько крапивных веников, которые нарвал ему Вовка, наконец выбрал один из молодой жгучей крапивы, спросил у меня:
— Как у тебя, мил человек, сердце крепкое? Попаришь старика? Главное, чтобы полок и тело водой не обдавать, по-сухому париться. Всю хворь зараз снимает.
Уложив старика в бане на полок, я долго не решался хлестнуть его крапивным веником. Да Карп Иванович и не спешил париться, блаженно постанывал, лежа на раскаленных досках животом вниз, приказывал:
— Поддай чуток! Поддай ешшо самую малость! Вот так, хорошо!
Я черпал из котла полкружки горячей воды и плескал на раскаленные камни. Тугой удар пара распахивал дверь, старик ворчал недовольно:
— Дверь туже прикрывай. Чего жар выпущаешь? Поддай ешшо чуток.
Мы еще не начинали париться, а я уже изнемогал от нестерпимого сухого жара. Пот лился с меня ручьями, старик же лишь слегка порозовел. Фигуре его мог позавидовать и молодой: сухая, мускулистая, с упругой гладкой кожей.
— Ты подь в предбанник, пообожди, покамест я разомлею, — посоветовал Карп Иванович. — Я долго париться люблю, со мной умаешься.
Плюхнув на камни еще полкружки воды, я выскочил в предбанник, задыхаясь. Вовка, сидя на лавке, с немым изумлением рассматривал крапивный веник, все еще не веря, что старик рискнет париться огненной этой травой.
Млел старик долго. Несколько раз по его просьбе я заскакивал в баню и поддавал такого пара, что выскакивал обратно в предбанник согнувшись. Волосы мои потрескивали, казалось, они горят от сухого нестерпимого жара, руки жгло, словно их поливали кипятком.
— Давай, робята, крапивку! — крикнул наконец Карп Иванович. — Согрелся я, пора.
Натянув на руки брезентовые рукавицы, а на голову какой-то несуразный войлочный колпак, я не без содрогания принял от Вовки букет крапивы.
— Хлещи по пояснице, — приказал старик, — не торопко и без оттягу. Давай хлещи!
Я хлестнул. Старик взвыл.
— Что, Карп Иванович, жжет?
— Хлещи!
Я хлестал легонько, «без оттягу», старик выл и дергался. Наконец он перестал дергаться, притих. Большой белый платок, которым наглухо обвязана была его голова, сполз старику на лицо до самого подбородка. Я перестал стегать и с тревогой приподнял платок с лица старика:
— Живой, Карп Иванович?
— Поддай чуток, — прошептал старик, поглядывая на меня тускло.
— Может, хватит?
— Поддай, ествую, тебе говорят…
Когда наконец мы с Вовкой, завернув старика в лоснящееся стеганое одеяло, вынесли его из бани, старик был в полуобморочном состоянии. Я вслух ругал себя за то, что допустил подобное самоистязание, но что оставалось делать? Необходимо было срочно отхаживать гостеприимного хозяина изобки.
Уложив не охающего уже Карпа Ивановича на скрипучую железную кровать, я огляделся. Внутреннее убранство изобки было неприхотливым. Большая русская печь отделяла кухню от просторной горницы с низким потолком, на белом полу рядами лежали чистые половики, две кровати, непокрытый деревянный стол, комод, на котором выделялась рамка с фотографиями, — вот, пожалуй, и все.
— Папа, смотри, боги! — прошептал Вовка, дернув меня за рукав.
— Это иконы, — поправил я сына, запоздало удивляясь тому, что Вовка впервые в своей жизни видит иконы.
— А патрон зачем?
— Это не патрон, это лампадка.
— Нет, патрон.
Я присмотрелся. Действительно, перед темным ликом святого, смотревшего на меня грустными большими глазами, висел колпачок от головки артиллерийского снаряда, из него торчал вместо горелки винтовочный патрон с расплющенным концом. Подобные самодельные светильники, только бо́льших размеров, распространены были в годы войны и в первые послевоенные годы, мне доводилось видеть их в детстве.
— Вовка, надо бы Карпу Ивановичу чаю вскипятить, да и нам перекусить не мешает.
— Не надо чаю, — простонал вдруг старик, приоткрывая глаза. — Эвон в шкафчике настой стоит и рюмка, давай сюды.
Я достал из шкафчика бутылку, заткнутую бумажной пробкой, в которой плескалась темная жидкость.
— Наливай! — приказал Карп Иванович.
Налив жидкости, которая сильно отдавала сивушным духом, в стограммовую граненую стопку, я протянул ее старику.
Карп Иванович выпростал из-под одеяла мускулистую руку с загорелой широкой кистью, принял стопку, пояснил:
— Лекарство домашнее. Двойной перегонки, на травах настоянная и на прополисе. Господи благослови…
Выпив, старик откинулся на подушку, прикрыл глаза.
— Легче вам, Карп Иванович?
— Полегчало. Ног не чую, но в пятку вдарило, — ответил тихо старик не открывая глаз. — Вы, робята, хозяйничайте сами, я ноне негодный. Плиту топите, чай грейте, мед эвон в шкафчике. А завтра мы с тобой, бог даст, — Карп Иванович приоткрыл один глаз и подмигнул, — медовухи спробуем. Не уйдете ешшо завтра-то?
— Не уйдем, — заверил я старика.
— Хозяйничайте, — успокоенно повторил Карп Иванович, — а я сосну.
После этих слов старик на третьем или четвертом вздохе всхрапнул и засвистел носом тонко, с переливами.
Мы с Вовкой принялись хозяйничать в изобке старика.
5
Проснулся я от солнечного луча, скользнувшего по лицу. Не открывая глаз, прикрыл лицо ладонями, прислушался. За окном возле самой стены изобки чвыкала коса, выговаривая по густой, видать, росистой траве незатейливый мотивчик: чвык-чвык!
«Кто бы это траву косит? — подумал я. — Неужто хозяин?»
Взглянул на кровать Карпа Ивановича, она была аккуратно заправлена грубым домотканым покрывалом. Значит, ожил старик, парная баня с крапивным веником и впрямь помогла.
Чвык-чвык, чвык-чвык — с легким металлическим перезвоном напевала коса. В сенях закудахтали куры, вспугнутые кем-то, на задворье задиристо-победно прокричал петух. Солнечное пятно на стене над кроватью Карпа Ивановича стало увеличиваться, расползаться по затененным углам горницы, и вот уже вся она вспыхнула ослепляющим розовым светом. Лики святых на черных закоптелых досках ожили вдруг яркими красками, повеселели, смотрели на меня приветливо.
Чвык-чвык — не умолкала коса, высекая из памяти картины детства, подернутого уже дымкой забвения. Послевоенного детства, строгого, трудового. Чудится мне, будто лежу на чердаке бабушкиной избы на тощей куче сена, а подо мной в сенях, в закутке, где половицы заменены жердями, чтобы не гнили под козой, бабушка доит эту неприхотливую кормилицу — спасительницу многих послевоенных семей. И не коса это чвыкает за стеной, а тугие молочные струи бьются о дно подойника.
От выплывающих из памяти воспоминаний сладковато сжимается что-то в душе. Давняя, детская, забытая почти солнечная радость ожидания наполняет всего; будоражит, волнует, зовет куда-то, словно впереди еще долгая-долгая жизнь, интересная, радостная, светлая — как эта береза, заглянувшая в окно.
Под одеялом заворочался Володька. Я тронул его за острое облупившееся плечо, слегка потряс. Сын приоткрыл заспанные глаза и сонно, непонимающе уставился на меня. Я приложил палец к губам, как бы призывая его к тишине.
— Па, ты что? — встревоженно спросил Вовка.
— Тише. Слушай…
За стеной изобки по-прежнему чвыкала коса, в сенях копошились, разговаривали куры, над распахнутым окном по-соловьиному, трелями, пели скворцы, пчела билась о стекло, гудела сердито, и все это покрывало едва слышное ворчание Ловати в порожистом мелководье.
— Ахти, тошнехонько мне! — раздался вдруг за окном всполошенный крик хозяина изобки. — Ахти, тошнехонько!
По крыльцу прогрохотали сапоги, дверь распахнулась, и в горницу вбежал Карп Иванович. Именно вбежал, а не вошел, сгорбившись, как вчера. Раскрасневшийся, в рубахе навыпуск, он приплясывал, хлопал себя ладонями по животу, по плечам, тряс рубаху, выкрикивая:
— Ахти, тошнехонько! Ахти, тошнехонько!
Мы с Вовкой непонимающе смотрели на старика, пока угрожающий пчелиный гул не заставил нас нырнуть под одеяло. А старик вытряхивал из-под рубахи все новых и новых пчел, и ахал, и рассказ вел:
— Обкашивал я ульи, задел косой за домик, потревожил родимых. Ох, тошнехонько! А они у меня отваром напоены, ох, тошнехонько!
— Зачем отваром? — Вовка удивленно высунул нос из-под одеяла.
— Чтобы злее были, чужих пчел в домик не пускали. Ой, ай, ахти мне!
Потом хозяин сидел на кровати, а я вытаскивал из его молодой мускулистой спины пчелиные жала, изумляясь выносливости Карпа Ивановича. И Вовка смотрел на Карпа Ивановича во все глаза. Старику заметно льстило наше внимание, он постреливал в нас из-под седой челки хитровато-улыбчатыми глазками, журчал напевным говорком:
— Не любят, родимые, когда тревожат их. Ох, не любят! Сами первые не нападают, защищаются только. А уж в защите спуску никому не дают, хоть медведь будь, хоть человек. Самая пользительная божья тварь из всей природы, никому вреда не приносит, только пользу.
— А как вы их отваром поите? — поинтересовался Вовка.
— В сахарный сироп отвару плесну чуток и даю. Страсть какие злющие становятся. Пчелу-вора в своем домике завидят, насмерть зажрут. От всяких чужаков отобьются и в чужие домики летят драться.
— А вас они часто кусают? — вновь задал вопрос Вовка, и по тону его чувствовалось, что он не одобряет спаивания пчел отваром.
— Меня кусай не кусай — не вспухаю. Жало надобно только вытащить. Привычный я к ихним укусам, подход к пчелам знаю. Мед берешь, ни с кем не разговаривай. Луку поел — не подходи. Курево тоже не любят и особливо бабий дух. С бабой переспал, меняй исподнее начисто, иначе зажрут.
От этих слов старика Вовка смущенно насупился, а Карп Иванович продолжал:
— Собаку опять же пчелы но любят, лучше не подходи, А кота не трогают. У меня пчелы справные, я на медку хорошо живу. Двадцать домиков у меня, за лето по четыре ведра меда с каждого беру, по шестьдесят кило, а то и поболее.
— Продаете мед?
— И продаю, и гостинцами вожу. Я зимой люблю по гостям шастать. И в Москву езжу калачей покушать да красного звону послушать. С гостинцем придешь, лучше принимают. Верно, сынок? Гость с гостинцем жданнее?
— Гость, когда человек хороший, интересный, — со скрытой неприязнью в голосе ответил Вовка.
— А ежели интересный да еще с гостинцем? Эвон пчел возьмем. Рой вылетает, с собой мед, хлеб и воск на три дня берут. Их с гостинцами-то во всяком домике примут, они не воры. А без гостинцев поди попробуй!
— Мы не пчелы, а люди, — возразил Вовка упрямо.
— С гостинцами гость, само собой, интереснее, — поспешил заверить я старика, неожиданно раздражаясь на сына. Действительно, несложная вроде задачка: хороший человек с гостинцами и хороший человек без гостинцев? Отвечать надо, а Вовка, пыхтит, дуется, ломает его что-то, коробит.
— Детей много у вас, Карп Иванович?
— А как же, имеются. Две дочки в поселке живут, в леспромхозе, за шоферами замужем. Сын в Новгороде на заводе работает, хорошо живет, богато.
— А хозяйка?
— И хозяйка имеется, только я с ней скоро разведуся. Баба моя без царя в голове. Пятый годок по детям катается, внуков нянчит. Зимой у зятьев в поселке живет, а летом у сына в Новгороде. Про меня и думать забыла. Бросила одного в изобке. Помри я, никто и не узнает. Разведуся с ней, к Насте Горской посватаюсь. Вот помрет мужик ее, Тимоха Горский, дружок мой с детства закадычный, и посватаюсь. Вы мимо деревни Горки плыть будете, зайдите к Насте, спроведайте. Ежели жив еще Тимоха, ничего Насте не говорите, а ежели помер, скажите: сватаюсь. Намеком скажите, пущай привыкает. Хозяйства наши объединим, у нее пчелы тоже справные. Сильные пчелы.
— А что с Настиным мужем?
— С Тимохой-то? А хрен его знает. Пожелтел весь, страсть. Настя в город его к врачам возила на лошади, ко мне заезжали. Обратно ехали, опять же у меня гостевали. Тимоха говорит: желтуха у меня, а Настя шепчет: рак! Я Тимоху спрашиваю: врачи тебе вино пить запретили или как? Нет, говорит, запрету строгого не было. А с едой, спрашиваю, как? И с едой, говорит, без запрету. Ну, думаю, ежели вино и еда без запрету, значит, у Тимохи рак. Вы к Тимохе в Горки загляньте обязательно. Ежели жив еще Тимоха, щуку ему поймайте, живую чтоб. Может, и впрямь у него желтуха, а не рак. При желтухе на живую рыбу смотреть — наипервейшее средство. Всю желчь из человека рыба в себя вбирает. Может, и поживет еще Тимоха. Он страсть как пожить еще хочет. Хоть бы годок ешшо, говорит, пожить, медовой росы глонуть.
— Медовой росы?
— Ага. Не слыхал? А вот сегодня ночью, бог даст, медовые росы падут. По пчелам чувствую и по реке. Хороший взяток у пчел будет. Лето нынче на медовые росы богатое. С медком ноне будем.
— Скотину держите, Карп Иванович?
— Мне скотина теперича без надобности. Покудова была охота, корову держал, поросят, овец даже. А теперича эвон куры да кот. Бывало, ко мне за молоком из поселка ходили, а теперича лесовики в Холм за молоком ездиют. А сами коров держать не хотят. К корове привычка сызмальства нужна. Я любил корову держать. А потом Федька-бригадир, управляющий наш, говорит мне: идет, мол, Карп Иваныч линия, чтобы корову в частном хозяйстве не держать. Так что продавай корову или на мясокомбинат веди. Как же так, ествую, говорю, Федька! Я колхозный пенсионер, кому моя корова мешает? Зятья с дочками и внуками в поселке молоко мое пьют, лесовики чужие, и государству сдаю. Траву в лесу кошу и обочины, ведь все равно пропадает трава. А у меня пенсия двадцать рублей колхозная. Когда совхоз организовывали из колхоза, я первый заявление в совхоз подал, а меня не приняли. Инвалид, говорят, ты, старый уже, иди на пенсию. И двенадцать рублей поначалу положили. А Тимоху Горского приняли, он полгода поработал в совхозе и получает теперича совхозную пенсию тридцать восемь рублей, а я двадцать.
Я вытащил последнее пчелиное жало из спины старика. Карп Иванович опустил рубаху, посмотрел на меня рассеянно, спросил:
— Про что это я рассказ вел? Запамятовал…
— Про корову.
— Да, про корову. Продал я корову. А Федька-бригадир говорит мне потом: идет, Карп Иваныч, новая линия — чтобы корову в частном хозяйстве держать. Сеном, говорит, тебе поможем, а ежели государству молока норму сдашь, комбикормов дадим. А пошел ты, ествую, отвечаю ему, со своей линией. Отвык я от коровы. При корове-то у меня цельное лето кровавые мозоли с рук не сходили и на плече — во! — до сих пор рубец от веревки с сеном. А теперича я все лето рыбку ужу, зимой по гостям шастаю, а захочу — могу и по санаториям. Меня эвон в Старой Руссе дохтор-тарапет бесплатно в санаторию приглашал. Приезжай, говорит, дед, устроим. Меду, говорит, только привези и прополису. Мне теперича корова — давай, не возьму. Отругал я Федьку, а он злопамятный, говорит мне: «Накажу тебя, Карп Иваныч». Да как ты меня, ествую, накажешь, спрашиваю. «А вот посмотришь как», — отвечает. И наказал, паразит. Поутру медовые росы химией полил с самолета. Самолет за озером клевера подкармливал химией, а после сюды летит. Зачем он сюды летит, думаю, а он над медоносным лугом летит. Глядь, а за ним химия столбом. Побежал я в беспамятстве, кулаком самолету махаю, а летчику што, ему как велено. Половину пчел моих тогда Федька загубил. Я на него директору жаловался. Директор Федьке хвост, видать, накрутил. Опосля Федьку в Холме в бане встретил. Сидит на полке́ и зубы скалит на меня. «Чего, — говорит, — Карп Иваныч, на шее-то у тебя висит?» Крест Христовый, отвечаю. «Задавишься ты, Карп Иваныч, — говорит, — на кресте своем от жадности». Дурак всяк, отвечаю, кому мой крест мешает. Жадностью меня попрекаешь, а сам все обои в моей изобке ободрал, деньги чужие искал. Я свои деньги в государственной кассе храню, а не за обоями. Мои деньги все трудовые, все потом политые. «А ты докажи, — Федька говорит, — что я твои обои рвал». Не буду я тебе доказывать, отвечаю. Зачем? И не сказал бы тебе ничего, кабы не хулил ты мой крест. За такие слова вперед меня засохнешь. Наказал бог Федьку. И впрямь сохнуть стал, не ест не пьет. Женка его приходила ко мне, за Федьку прощения просила, за хулу на крест.
— Откуда вы знаете, Карп Иванович, что Федька у вас обои ободрал? — поинтересовался я. — А вдруг не он?
— Он. Я с рыбалки от речки шел, видел, как он из моей изобки выходил. А она запертая была. Я напраслину ни на кого не возведу.
— Простили вы Федьку?
— За обои простил, а за крест пущай бог прощает. Жадный… Я двадцать рублей пенсию получаю, да при деньгах всегда, а от полтораста, да гол как сокол, потому как одно вино на уме. Бутылочки да рюмочки кого хочешь доведут до сумочки. Я на меду живу. Я дочкам, сыну и внукам — всем в завещании отписал, никого не обидел. После моей смерти каждый свою долю получит, а ежели заболею, дети меня к себе возьмут и со вниманием ко мне будут, с заботой. А как же, не пустой в их дом войду.
— Пап, пойдем на речку рыбу ловить, — шепнул Вовка, которому наш разговор, видать, наскучил.
— А ты сходи порыбаль один, — подсказал Карп Иванович, — а мы с твоим тятькой по хозяйству справляться будем. Писатель — он ведь и старое хозяйство должон изучить. Помрем мы, старики, кто подскажет? Молодые-то, они эвон коня запрячь не могут. Верно говорю? — В бесцветных глазках старика поблескивали молочные хитроватые слезинки. — Эвон, глянь, чего это у меня на яблонях висит, знаешь?
Я выглянул в окно. На яблонях, на кустах смородины, крыжовника и черноплодной рябины висели голики.
— Багульник, кажется…
— Верно, багульник, — согласился старик, — а зачем?
— Не знаю.
— От тли. Лучше всякой химии помогает. От багульника дух тяжелый, тля не выносит. Надо тебе это знать, или как?
— Надо.
— Не уедете ешшо сегодня? Я тебе всякого расскажу.
— Не уедем, — заверил я старика.
— А вечерком медовухи спробуем. Я тебе про войну ешшо расскажу. А ты, сынок, порыбаль иди. Эвон удочки стоят у яблони. Лодка у ручья за косой. Только вниз за пороги не спускайся, а то обратно не выгрести. Внук мой Колька, он вечером подъехать должон, так тот все пороги выгребает. Бидон с водой на три ведра от ручья к бане единым махом поднимает. Здоров у меня внук. И вина совсем не пьет. В рот не берет вина.
— А какая тут рыба ловится? — спросил Вовка.
— Теперича я окушков ужу, уклею, подлещиков. А бывало, сомов остями бил. Острогой, значит, — пояснил Кара Иванович, поймав мой вопросительный взгляд. — После войны уже с Тимохой Горским, хошь — верь, хошь — нет, сома на шесть пудов взяли. На луч с Тимохой поехали, эвон рядом, в Михайлову заводь. Плывем с ним на челне, я в «козу» смолья подкладываю, а Тимоха вдруг: «Глянь, Карп, стоит!» Глянул я, говорю: «Дурень, топляк это». — «Какое топляк, — Тимоха шепчет, — хорошенько глянь». Шевельнул я в «козе» смолье, глянул хорошенько — мать честная, ествую! Пудов на шесть сом! Отъехали мы с Тимохой в сторонку, на берег вышли и давай кумекать, как такого борова взять. У нас с собой веревка была из-под смолья. Привязали веревку за муличку к остям, а другой конец к доске. Сели в челн, поплыли. Я с остями на носу сижу, возле «козы», а Тимоха на весле. Подгребаем, стоит! Я размахнулся и пониже головы, в загривок — хрясть! Как вскинулся, как ударил хвостом, нас с Тимохой обоих из челна выворотил. Выбрались на берег, воду из челна выкачали, пошли домой. Наутро поехали искать с колотухой. За три версты нашли, почитай возле самых Осетищ. Я хвать за доску, а он как попрет! Часа полтора челн водил, потом Тимоха его колотухой оглушил. На шесть пудов сом! Не вру. Зайдите по пути к Тимохе Горскому, спросите. Ежели жив ешшо, а по весне живой был, подтвердит. Ровно шесть пудов сом!
— Острогой бить рыбу запрещено, — неодобрительно проговорил Вовка, поднимаясь с кровати. — Это браконьерство.
— Остями ничего, можно, — возразил старик. — У нас по весне весь поселок щуку остями бьет. А вот толом в прошлом годе рыбу глушили в Михайловой заводи, беда! Косяками дохлая рыба по Ловати плыла. Милиция приезжала, выспрашивала, никого не нашла. Ах вас, ествую, думаю, а ешшо милиция! Сам найду баловников. Четверть медовухи взял, в Холм поехал. Всю родню обошел, всех знакомых. От Антипа Фомина узнал, что Нюрки Пахомовой мужик, который посаженный был, из Мурманска в отпуск приехал. В Мурманске в шахте работает, кумекаю, значит, и тол привез оттудова. Допили с Антипом медовуху и к Нюрке Пахомовой пошли. Заходим в дом, а рыбой жареной прет — не продохнуть. Я ейному мужику, Нюркиному, говорю: «Предупреждаю тебя, уважаемый, чтобы рыбу подле моей изобки и в Михайловой заводи не глушил. И по всей Ловати не глушил. В другом месте где — не моя забота, а на Ловати не разрешаю. Не послушаешься, в милицию донесу на тебя. И не в холмскую милицию, а в новгородскую». Испугался Нюркин мужик, аж с лица сменился. «Не я это, — говорит, — дед, не я». — «Знаю кто, — отвечаю, — окромя тебя некому. Ты на шахте работаешь в Мурманске, вот и привез толу. А за тол милиция — ох строго!» Принялся Нюркин мужик меня обхаживать, ублажать. За стол сажал. Я ушел, а Антип остался. До сих пор, слава богу, тихо на Ловати. Давайте, робятушки, завтракать, — неожиданно заключил свой рассказ Карп Иванович. — Косить более не пойду, роса ушла. Как тятька мой говаривал: коси коса, пока роса, — роса долой, и ты домой. Плита на улице у меня растопленная уже, яишенку с лучком сделаем и чайку с медком. Чай у вас имеется? Я индийский чай люблю и, как чага, черный чтобы.
После завтрака Вовка отправился с удочками к реке, а мы со стариком принялись за хозяйственные работы. По совету Карпа Ивановича я вычерпал из банного котла остатки вчерашней воды и полил грядку с луком и огурцами. Старик в это время перебирал рамки в пчелиных домиках, крепил на рамках вощину, подготавливая домики для новых пчелиных семей. Тревожился:
— Не упустить бы рой. Два роя упустил давеча, а один спарил. Эвон мертвые лежат. Радикулит, проклятущий, подвел. Глянь-ко, глянь-ко! — позвал старик. — Как танцует, как задком виляет! Скликает своих за взятком лететь на Дойников луг. Это недалече, за рекой. А эта, глянь, вальс танцует, к Михайловой заводи своих зовет на клевера. Ой, дурная, пропадет! Химией клевера посыпаны. Нет, кажись, на Дойников луг полетели…
Потом распилили мы со стариком несколько сухих трухлявых бревен. Карп Иванович, хоть и держался одной рукой за поясницу, пилу по бревну водил легко и твердо и, по обыкновению, не умолкал:
— Это я изобку Марии Трофимовой на дровишки раскатал. Она, почитай, годков десять как померла уже. Скоро, ествую, всю деревню в печи спалю. Эвон Ольгина изобка да Егора Карася только и остались, да ешшо забор к скотному двору.
Несколько бревен покрепче, посвежее старик откатил в сторону, пояснил:
— Эти на мост пойдут под прогоны. Я все мосты от поселка до Раковки в аккуратности содержу. Может, сын из Новгорода в отпуск приедет, у него машина своя. А Колька, внук, на мопеде своем, ествую, где хочешь без моста пройдет. Ой крутой у меня внук, ой хороший! На тракториста выучился, скоро в армию пойдет, а вина в рот не берет. Лучше, говорит, деда, я лимонада бутылку выпью, чем вина. Я, говорит, деда, в поселке после армии жить не стану. Женюсь, в Раковке дом построю. Потому как красиво здесь и Ловать рядом, рыба. Внук мой способный на спиннинг рыбу ловить.
— Где же он здесь работать будет? — удивился я.
— Работать он в поселке наметился трактористом, а жить — здесь, в Раковке. Лучше, говорит, я каждый день по семь верст туды и обратно делать буду, чем в поселке в болоте жить. И дружок его Серега, и ешшо двое приятелей порешили после армии в Раковке дома построить. Может, и оживет ешшо деревня. Эвон глянь, красота какая вокруг, благодать. Антип-то Фомин, дружок мой, в Руссе на пятом этаже живет с газом, а поросенка в ванне держит, ествую. Колька, внук, говорит мне: мы, деда, с робятами дорогу сюды в Раковку бульдозером разровняем и мосты починим. Я, говорит, деда, «Москвич» куплю и на работу на ем ездить буду. А в выходной день в Руссу поеду или в Новгород в магазины или хошь в музей, а то и в ресторан. Ежели в Раковке осядешь, хоть и в моей изобке пока, помогу тебе на «Москвича», Кольке говорю. Все по-твоему сбудется, ежели три заповеди мои соблюдешь. Первое: по любви женись и жену выбирай не в хороводе, а на огороде. Хорошая жена горшком в дом наносит, чего мужик возом не навозит. Второе, говорю, Колька: вина лучше никогда не пей, вот как ты сейчас. А ежели выпьешь, шутки с ним не шуткуй. Чтобы был ты всегда своей голове хозяин.
— И третья заповедь? — поинтересовался я, заметив, что старик потерял нить рассказа и задумался.
— Третья? — Карп Иванович встрепенулся. — Хочешь есть калачи — не лежи на печи. Перво-наперво: заведи корову. Ноне-то глянь — молочко и по деревне в сапожках щеголяет. Ну старый я, мне теперича молоко без надобности… Без особой надобности, — поправился старик, — а молодым-то с дитем малым как можно без коровы? И молоко всегда парное на столе, и сливки, и сметана, и маслице, и с деньжатами всегда в семье. Трудно с коровой? А ты попробуй, не ленись, может, и не будет трудно. Я, когда корову со двора свел, цельное лето как потерянный ходил, как дурной. Бывало, поднимусь чуть свет, возьму подойник и… как обухом по голове. Стою, ничего не соображаю.
— Что же внук на ваши заповеди ответил? — спросил я, пытаясь направить рассуждения старика в более узкое русло.
— Колька-то? Я, говорит, деда, с тобой во всем согласный. Вино пить не буду, и никто меня не соблазнит на это, корову после армии заведу, а женюсь на Ленке Горской. На внучке дружка моего закадычного Тимохи Горского, стало быть, которая с маткой своей Таськой — Тимохиной дочкой — в Холме живет. Никак нельзя Кольке на Ленке жениться, никак нельзя! — вдруг со страстной убедительностью произнес Карп Иванович. — Закавыка одна имеется…
Старик замолк, глядя на меня испытующе и как бы решая: сказать или не сказать? Потом, таинственно понизив голос, продолжал:
— Ладно, скажу тебе… Ленка-то Горская тоже внучка моя.
— Как же так?! Вы говорили, что она Тимохина внучка, от дочери его Таисии?
— Говорил… Таська и есть моя дочка, про то мы с Тимохой только и знаем, да вот теперича еще ты. Выходит, Ленка моя внучка, ежели Таська дочка, и Кольке никак на ей жениться нельзя.
— Ничего не пойму… И Тимохина дочь, и ваша? — Мне показалось, что старик заговаривается.
— Думаешь, заговариваюсь я? — спросил Карп Иванович, словно прочитав мои мысли. — Не, не заговариваюсь. Вот послушай историйку, какую я тебе расскажу. Про нашу с Тимохой тайну. Тебе, писателю, небось и сгодится, приспособишь ее куды-нибудь. Каких чудес на белом свете не бывает. Слушай.
Тимоха с Настей в тридцатом годе поженились. Год живут — нет детей, два живут — нет детей. «Чего-т, ествую, Тимоха, ты так?» — спрашиваю. «А хрен его знает, Карп, почему», — Тимоха отвечает.
Еще два года проходит — нет ребеночка. Настя дите хочет — страсть! Извелась вся, нервная стала, а опосля наоборот — как колода. Сидит, бывало, под окном на лавочке, а корова недоенная стоит. Тимоха ей: «Настя, подой корову!» Она возьмет в руки подойник, сядет под корову и сидит. Скажет только иной раз: «Тимош, хочу ребеночка».
Перед финской приходит ко мне Тимоха, говорит: «Присмотри, Карп, за хозяйством моим, я Настю в Руссу свожу, к дохтору».
Повез он Настю к дохтору в Руссу, который по женской части. Осмотрел дохтор Настю и говорит Тимохе: «Баба твоя при всех статьях и в самом соку. Ей рожать да рожать! Надобно теперича тебя посмотреть. Скидывай штаны!»
Посмотрел дохтор Тимоху, анализ какой надо взял и говорит: «Твоя вина, что Настя родить не может. Семя у тебя слабое. Лечиться тебе надобно».
А куды Тимохе лечиться ехать, когда он у нас в колхозе кузнец, полное в доме хозяйство у него и баба как колода. Говорит Насте: «Проживем без ребеночка. Живут же люди». А Настя после дохтора как шальная сделалась. Известное дело, мужичий ум говорит — надо, бабий — хочу! Хоть и не сказал тогда дохтор ей про Тимохину слабость, однако, видать, догадалась она. «Уйду, — говорит, — от тебя, Тимош, ребеночка на стороне приживу. Мне без дите жизнь не в радость. Или в Ловать брошусь».
Пришел ко мне Тимоха и говорит: «Выручай, Карп, мне без Насти не жить». Я поначалу смехом и ни в какую, а Тимоха бух мне в ноги и лбом в землю. «Выручай, Карп, ведь ты друг мне!» — «Да как же эдак-то, Тимоха, — говорю. — Ведь это грех». — «Человеку жизню дать — не грех, — Тимоха отвечает. — Это люди придумали, что грех, недобрые люди, завистные, которые под себя только гребут. А которые простые, слыхал, на Севере проживали, дак те всякого гостя со своей женой спать дожили. А дите рождалось — радовались».
Цельный день уламывал меня Тимоха. Ах ты, ествую, думаю, возьму грех на душу, подсоблю дружку своему Тимохе. Спрашиваю его: «Ладно, я согласный, только как с Настей быть, ведь она душа живая и на Севере не живала?» — «С Настей сам все обмозгую, — Тимоха отвечает, — она сама про то знать не будет».
Перед троицей истопил Тимоха баню, намыл Настю, распарил, медовухой напоил — и в кровать. А я, ествую, на сене сижу в хлеву, жду. Слышу, Тимоха голос подает: «Давай, Карп, пора!»…
Уломал я Тимоху, налил мне стопку, выпил я, перекрестился и в изобку к Насте под одеяло…
Выхожу из изобки, Тимоха стоит сам не свой. Губы трясутся, спросить ничего не может. «Все в лучшем виде, Тимош, получилось, — объясняю. — Ежели холостой заряд выйдет, зови ешшо».
Ну, через девять месяцев, как положено, родила Настя девку. Таськой назвали. Настя Тимохина расцвела, как роза, работа в руках горит, муженька едва не на руках носит, день и ночь ублажает.
Подгуляли мы как-то с Тимохой, я и говорю ему: «Дочка у тебя теперича имеется, давай я тебе сына подсоблю сделать».
Вывалил Тимоха на меня глазищи. «Чего такое, — говорит, — ты, Карп, несешь? Никак ты не в своем уме?» — «Будто забыл?» — спрашиваю. А у Тимохи глазы как у сома тухлого сделались, меня аж сомнение взяло. Может, и впрямь, думаю, приснилась мне эта историйка с его Настей, ествую?
До сих пор не признается Тимоха мне, а другого ребеночка Настя его и не родила никогда. Вот и соображай сам. Никак нельзя внуку моему Кольке на Ленке — Таськиной дочке — жениться. Внучка Ленка мне, внучка.
Ествую! Рой вылетел!
6
Наконец-то наступила минута, о которой несколько раз за день упоминал Карп Иванович: сидим за вечерним столом.
— Мы сегодня с тобой эвон сколь делов переделали: рой поселили, домики починили, дровы распилили, гряды два раза полили, картошку окучили (скоро подкапывать буду). Хороша у меня картошка, рассыпчатая, без химии совсем. У меня навоза коровьего накоплено — эвон, целый хлев. Кольке — внуку, ежели и корову не заведет, надолго хватит. Пущай без химии картошку ест. Ой не люблю я химию! И куриного помету у меня много, и овечий навоз ешшо имеется. Овечий — худой навоз, не чета коровьему. А яблоков я осенью собираю сколь! И грибы собираю, и ягоды. А хрену сколь! Из райпо ко мне за хреном специально машину присылают.
Старик порозовел и говорил, говорил, разбирая на столе кусок жареной щуки, которую поймал Вовка, а нашу колбасу деликатно обходил вниманием.
За окном садилось солнце, не доставая уже лучами до потемневшей Ловати, гудели мухи и пчелы, над самоваром ароматно парил старинный пузатый чайник, в который хозяин заложил помимо чая листы смородины и какие-то сушеные корешки.
— Хорошую щуку поймал, молодец! — польстил Карп Иванович Вовке. — Ежели Колька сегодня подъедет, завтра с ним на зорьке рыбалить езжайте. Колька у меня способный щук ловить. Чего-т нет его долго. Ты ешь, ешь мед в сотах, чаем запивай. Не уедете от меня ешшо завтра?
— Завтра денек еще погостим.
— Погостюйте, погостюйте, я работой вас утруждать не стану, — старик явно обрадовался моим словам. — Мы с тобой ешшо пойдем на Ловать рыбу удить. Я люблю на Ловати с удочкой вечерять. Цельную ночь могу просидеть. Подсобишь мне к речке спуститься? Спину ноне опять ломает и грудь жмет. Чего-т Кольки долго нет, может, мопед сломался. Он и без мопеда моментом добежит. Ой крутой у меня внук! Ой хороший!
— Консервы кушайте, Карп Иванович, колбасу вот.
— Мы и так в работе отстаем, а за едой обгоняем, — отозвался старик и впервые за все время притронулся вилкой к нашим припасам. — Вот ты, мил человек, спрашивал меня сегодня: воевал ли я? Воевал! Всю войну Отечественную прошел от Старой Руссы до Берлина. Эвон глянь, на стене карточки мои военные висят и медали. Я тебе про войну много расскажу, может сгодится. Слушай!
7
РАССКАЗЫ КАРПА ИВАНОВИЧА ПРО ВОЙНУ
Сердце у меня хорошее
Я на войне три должности справлял. Поначалу пехотинцем был, потом поваром в транспортной роте, а потом в артиллерии ездовым, в истребительной противотанковой батарее. Пушки у нас «сорокапятки» были. Слыхал, небось? Ствол длинный — жизня короткая. Или «прощай, Родина» их еще прозывали. Но били кучно, прицельно, хорошо били. Наводчиком у нас Ким был, кореец, дак тот из пушки за полверсты расписывался. Хотел все Ким на этом… рейхстаге из пушки расписаться, да утонул в реке Одере.
Сколь разов я раненный был — не счесть. Первый раз меня в ногу осколком садануло под Новгородом, эвон смотри куда. Привезли в госпиталь, ну, думаю, слава богу, отвоевался! Хрен с ней, с ногой, думаю, ествую. Нога не рука, я по хозяйству и на одной ноге справлюсь. А дохтор посмотрел меня и говорит: «Кость целая, через две недели бегать будешь». И впрямь, через месяц выписался, опять на фронт послали. Потом меня под Питером в плечо — во… смотри. Опять кусок мяса выдрало, а кость целехонька. Потом в Польше уже контузило, оглох я на правое ухо. После контузии меня в артиллерию и определили ездовым.
Сердце у меня хорошее. Все операции после ранения без наркозу выносил. Давай, говорю, дохтор, валяй, зашивай, что надо, а я без наркозу потерплю. Потому как наркоз на сердце здорово вредно действует. Один раз принял наркоз — пять лет жизни долой. А сколь разов меня еще ранить могут? И всякий раз наркоз принимай? С хорошим-то сердцем я, бывало, и без табачку вдоволь накуривался. Сам комбат Царев, мы его Царем звали, на что безбоязненный был человек, и тот после обстрелу али бомбежки говорит: «Сверни-ка, Карп, мне цигарку потолще, а то пальцы у меня играют». Ну, Царю из своего табачку сверну закрутку, потому как командир он и папиросы курит. А рядовым мужикам из ихнего табачку сворачиваю. Сверну — табачины не просыплю, прикурю, пару затяжек сделаю, цигарку мужику в зубы и за другую принимаюсь. После какого хошь обстрелу пальцы у меня не дрожали. Потому как хорошее у меня сердце было и я его от наркозу оберегал.
За Одер-реку награда
Ох, ествую, эта Одер-река! Самая памятная за всю войну. Грех большой у меня на душе…
Наша противотанковая батарея тогда в смирновский стрелковый батальон входила. Смирнова Ивана Ивановича батальон, Героя. Два взвода по четыре орудия. В первом взводе заместо «сорокапяток» «ЗИС-2» уже были калибру, кажись, пятьдесят семь. А у нас «сорокапятки» с новым подкалиберным снарядом. Ким тогда у нас уже командиром орудия был, наводчиком Максименко, Фрол Антонов заряжающим, а я и за ездового управлялся, и за снарядного. Потому как расчету нашему полагалось пять человек, а мы вчетвером всегда, а то, бывало, и втроем. Когда на огневую выходим, я моментом лошадей в укрытие, а сам на позицию бегу подсоблять станины раздвинуть, снаряды протираю, к орудию подаю снаряды, а то и заряжающим был. Командиром батареи у нас Царь, Царев, которому я цигарки сворачивал. Ким сказывал мне, что у него, у Царя, руки после обстрелу не от сердца дрожат, а от контузии. Хороший был мужик Царь, крутой. Корректиру огня и без биноклю давал. Козырек у него на фуражке на углы был подрезан. Натянет на лоб фуражку, одним глазом на козырек, другим вперед — и дает орудиям корректиру.
Перед Одером Царь говорит нам: «Задача наша на том берегу плацдарму захватить и хоть зубами его держать до подхода главной подмоги. Лошадей всех к хренам, пушки на руки берем».
Раскатали мы сарай какой-то на бревна, плот смастерили, бочки к нему пустые из-под бензину приспособили, сверху настил из дверей. Пушки на плот закатили, ждем. Под утро — ракета! Царь кричит: «Давай, робята! Пошли!»
Только от берега отгребли — началось! Немцы с того берегу по нам лупят, вода трещит, столбами ходит, люди тонут, кричат. Ох, ествую!
Страх меня взял. Ведь ежели сейчас в воду бултыхнусь, думаю, в сапогах, с автоматом, в скатке — как топор ко дну пойду. Скинул я быстренько скатку, автомат на нее положил, сапоги стянул. Зажмурился, гребу лопатой. Помню, Ким говорит: «Карп, автомат надень, не то он у тебя в воду сковырнется». А за оружие на войне строго было. Да, думаю, автомат надеть надобно, не дай бог потонет.
Только я так подумал, ка-ак жахнет рядом. Плот набок, пушка и весь расчет в воду. Вынырнул я — глядь, никого нету, пузыри одни. Кругом бочки плавают, бревна, да что толку, долго я на бочке просижу: вода — лед чистый, жжет. А лодки, плоты, машины, паромы разные скопом плывут мимо меня. Кричу — никто не берет! Пошел саженками за лодкой одной, догнал, ухватился. Руку руби — не отпущу. Рука у меня, глянь, какая, сильная рука. Так с лодкой на берег и выволокся.
А на берегу — страсть божья! Я такого и под Ельней не видывал. Огонь, дым, смертушка вокруг стоит, спаси и помилуй! Я по берегу босиком бегаю, куда приткнуться, не знаю. Вдруг сам командир батальону Смирнов Иван Иванович на меня бежит. «Почему босиком, где автомат, где орудие, Карпов?» — спрашивает. Он, Смирнов, царство ему небесное, всех по фамилии помнил. Утонули все, отвечаю. «Все утонули, а ты выплыл?! — спрашивает. — Босиком, без оружия по бережку шастаешь. Царев, — кричит, — иди сюды! Расстрелять эту сволочь!» — И побег далее по берегу.
Только Смирнов Иван Иванович отбежал, Царь мне кулаком в ухо, а опосля под дых. «Ко второму орудию, — орет, — заряжающим! И чтоб в сапогах был и с оружием. Хоть у бога своего, — говорит, — проси сапоги!»
Только ко второму орудию подбегаю, ба-бах! Прямое попадание в орудие. Ильюха Козлов, земляк мой из Боровичей, прямо на затворе лежит убитый. А у него сапоги сорок первого размеру, моего. Хотел я с него сапоги стянуть, а не могу. Руки не подымаются. И карабина его найтить не могу, а надобно мне оружие добывать, не то командир батальону Смирнов Иван Иванович дознается, беда будет.
А кругом — ад! Рвется все, горит! Сел я на землю, к Ильюхе Козлову привалился и заплакал в голос, ествую! Впервой за всю войну заплакал. Господи, говорю, дак че ж это такое на земле деется. Ежели нужен, говорю, я тебе, господи, возьми меня к себе. Силов нету земной ад терпеть!
Вдруг мне под ребро сапогом кто-то. Глянул: Царь стоит, комбат. Глаза круглые, бешеные, навел на меня автомат. Ну, думаю, услыхал бог мою молитву, сейчас вознесусь.
«За мной, — говорит, — Карп, в атаку!» Подхватился я за Царем в атаку. Сгрудились все, бежим, орем, в руках у меня лопата, хрен ее знает, откуда взялась. Бегу босиком, ног не чую, вконец окоченели. Стрельба, пальба, дымом заволокло все. Упал я в какуй-то яму, вниз скатился, глядь, а на меня немец глядит! Офицер! Мертвый. Глаза открытые, зубы оскальные, автомат в руках и сидит на дне, а за ремнем гранаты. Ну, думаю, слава тебе, господи, что на мертвяка нарвался, от такого живым бы мне не уйтить. А сапоги на немце знатные, голенища дутые, литые, подметка кожаная. Стянул я с него сапоги.
Стал обувать сапоги, ествую, голенища не лезут! Смотрю, наши обратно бегут. Я сапоги под мышку, в другую руку автомат и назад с нашими подхватился. Прибежали, залегли, Царь кричит: «Окапываться!» А командир батальону Смирнов Иван Иванович, слышу, команду дает: «К атаке готовсь!» А мне сапоги немецкие в голенище не лезут, ествую, хоть плачь. Сержант, он у нас взводным назначен был недавно, запамятовал его фамилию, разрезал мне голенища ножом. Натянул я сапоги на босу ногу, мать честная — меховые! Нога как в теплой печке.
«В атаку!» — команда идет. Побежали вперед, а у меня, ествую, автомат не стреляет, патрона ни одного. Из всей батареи одно орудие стреляет, из второго взводу. Залегли. Глянул я назад, мать честная! Река от берега до берега черным-черна, подмога идет. Тут уж сам командир батальону Смирнов Иван Иванович, слышу, команду дает: «Окапываться!»
Да, ествую, бой был! В том бою Смирнова Ивана Ивановича убило, царство ему небесное. Грех большой на моей душе. Порадовался я тогда его смерти, расстрелу страшился. Ох, большой грех! Всю жизнь его замаливаю, а с души снять не могу. Давит.
Царя, комбата нашего, тогда ранило тяжело — в бедро осколком. Разворотило все — страсть! Кабы в начале войны без ноги — ничего, а в конце — худо. Когда грузили его на лодку, я подсоблял. В сознании был, разговаривал. «Вот, — говорит, — Карп, и не довелось мне Берлин посмотреть». — «Да пропади он пропадом, Берлин этот проклятущий, Вася, — говорю. — Ты поправляйся главное, а после войны ко мне на Ловать в Раковку приезжай, я тебя медом угощу и медовухой. Есть у меня такая думка: пчел завести». — «Ладно, — говорит, — прощай». А о расстреле меня, что Смирнов Иван Иванович приказал, — ни звука. То ли забыл, то ли пожалел меня. Пожалел, наверное. Молоденький был еще совсем Царь-то, почитай, моему Кольке ровесник.
За Одер-реку всю батарею нашу к награде представили, а командиру батальона Смирнову Ивану Ивановичу Героя Советского Союза дали. Посмертно.
Меня тоже наградили медалью. Эвон глянь, «За отвагу», висит на стене. За Одер-реку награда.
8
Солнце уже скрылось за лесом, когда мы с Карпом Ивановичем вышли из его изобки и по узкой извилистой тропке, пробитой в густой траве, спустились к реке, уселись под развесистым кустом ракитника на толстый сук дерева, отполированный стариковыми штанами до блеска. Потемневшая Ловать ворчала на перекатах, горбатилась валунами, искрящимися серебром. Впереди, на светлой песчаной косе, стоял Вовка и помахивал спиннингом.
Карп Иванович размотал удочку, насадил на крючок червя, швырнул его к тростнику. Потом неожиданно насторожился, приложил согнутую ладонь к уху, прислушался. Я тоже прислушался: где-то вдалеке тарахтел мотор.
— Никак Колька мой на мопеде? — проговорил старик, весь уйдя в слух.
Нет, это был не Колька. Из-за песчаной косы показался моторный челн и, ловко лавируя меж камней, приблизился к нам.
— Привет, Карп Иванович! — раздался голос с челна. — Живой еще?
— Здравствуйте! — живо откликнулся старик, приподнимаясь. — Слава богу, живой. А вы кто будете? Из Холма?
Но челн уже протарахтел мимо, и ответа мы не услышали. Невысокая темная волна набежала на берег, шевельнула кусты ракитника и отхлынула назад, засеребрившись.
— Никак Нюрки Пахомовой мужик? — вслух подумал старик. — Это который рыбу толом глушил в Михайловой заводи. В отпуск, видать, из Мурманска приехал. Куды ить он попер на моторе, а?
Давно не доводилось мне видеть такого теплого, недушного и безветренного вечера. Земля парила сладким терпким ароматом, от которого першило в горле и слезились глаза. «Цветочная пыльца», — догадался я. Воздух сгущался и казался теплым парным молоком, но сверху едва ощутимыми волнами уже оседала прохлада.
— Медовые росы пали, — тихо произнес старик, стряхивая с листа крупные росные капли себе на ладонь. — Пчелы нынче дотемна трудиться будут, а завтра чуть свет полетят. Хороший взяток возьмут.
Последние отблески невидимого солнца скользнули по вершине холма, высветлили изобку Карпа Ивановича, и она вдруг молодо сверкнула оконцем. Но тотчас потемнела, ушла в землю, и лишь розовые заросли иван-чая, любителя гарей и пустырей, подковой сжимали ее.
БЕРЕЗОВКА
От Раковки до деревни Березовка плыли мы с Вовкой по Ловати два дня. При желании можно было бы сократить это время, но мы не спешили, отдаваясь воле реки, и только на перекрестках работали шестами. В деревни мы больше не заходили, переночевали на плоту, уложив на рамы надувные матрацы. Дважды нас обогнали туристы на байдарках, шедшие, по их словам, аж из Великих Лук, встречались изредка и лодки с рыбаками. К вечеру второго дня наш плот вошел в тихую заводь, заросшую тростником. На высоком берегу заводи виднелась шиферная крыша с телевизионной мачтой. Это и была деревня Березовка, конечный пункт нашего путешествия.
В отличие от Раковки Карпа Ивановича, в Березовке оказалось несколько «живых» изобок, а одну из них — под шифером, с телевизионной мачтой — можно было, пожалуй, назвать и домом. Дом представлял собой внушительных размеров строение с верандами, под одной крышей, с большим двором. С одной стороны к дому примыкал старинный неогороженный сад, с другой — огород, в котором красовалась свежевырубленная банька. Возле высокого крыльца стоял гусеничный трактор, неподалеку от него блеяла овца и паслась корова, по самый хребет утонувшая в густой сочной траве. Нетрудно было догадаться, что в доме этом живет механизатор, причем трудолюбивый, аккуратный хозяин. Это подтверждали ровные ряды картофельной ботвы, без единой сорной травинки, покрашенные известкой и обкопанные яблони, складницы потемневших колотых дров, уложенные стожком так искусно, что даже вблизи казались стогами сена. Мы с Вовкой зашли в дом и познакомились с хозяином и его семейством. Главу семьи звали Николаем, это был средних лет коренастый мужчина, как я и предполагал — механизатор. Жена его Нина работала почтальоном, разносила почту по близлежащим деревням. Хотя понятие «близлежащие» было весьма относительным. В иной рабочий день почтарка Нина нахаживала до пятидесяти километров. У Николая с Ниной было двое детей — девочки начальных классов, проживали с ними и родители-старики.
Кроме большой семьи механизатора Николая, которая являлась в деревне основной трудовой силой, в Березовке еще в трех изобках проживали люди: две старушки — сестры, дед Василий и чета ленинградских пенсионеров-дачников, унаследовавших изобку от своих умерших родителей. Жители деревушки приняли нас с Вовкой со сдержанной приветливостью. Среди пустующих развалюх указали горышинскую «дачу». Дед Василий посоветовал тотчас же накосить травы, чтобы «пообдуло» ее и завтра могли мы спать на сене. Старик принес ржавую, но острую косу и сам принялся обкашивать нашу изобку.
Внутри горышинская «дача» имела более привлекательный вид, чем снаружи. Стены были обклеены веселыми голубыми обоями, потолок светился глянцевой бумажной белизной, один угол занимала потрескавшаяся русская печь.
Наведя в избе порядок и наскоро перекусив, мы с Вовкой принялись готовиться к основному своему занятию в ближайшие дни — рыбалке. Необходимо было накопать как можно больше червей (для удочек, переметов, подкормки), наловить лягушек (перемет на сомов), нарезать рогаток и кольев для жерлиц, наловить живцов… Короче говоря, на подготовку к ловле у нас ушел оставшийся вечер и весь следующий день. Мы установили в заводи десятка полтора жерлиц и три перемета. Последний перемет устанавливали с плота уже в темноте, торопливо нанизывая на крючки уснувших пескарей, червей, ободранных лягушек. Рыбацкое наше желание в тот момент было скромным: взять назавтра пару щучек и сомика для хорошей ухи, на которую я хотел пригласить тракториста Николая и его супругу. Когда же наутро мы подняли из воды первый перемет, глазам нашим предстала редкостная картина: на каждом втором-третьем крючке сидела щука или небольшой сом, вода кипела от живой бьющейся гирлянды рыб. С этого мгновения мы с сыном жили в какой-то рыбацкой лихорадке, целыми днями пропадая на реке, забывая про еду и сон.
Большую часть пойманной рыбы мы отдавали деревенским, оставляя себе только на уху. В ответ деревенские заваливали нас своими дарами: Николай с Ниной — молоком и медом, старушки сёстры — яйцами и огородной зеленью, дед Василий — картошкой, а чета пенсионеров-дачников любезно разрешала нам брать воду из своего колодца и осыпала нас похвалами и словесными благодарностями. Для нас в деревне Березовка началась райская жизнь, которую я до сих пор вспоминаю как самый беззаботный отпуск.
И вот однажды, когда мы с Вовкой дремали в изобке, пережидая полуденный зной, я открыл глаза и увидел в дверях человека. Он был высокого роста и стоял согнувшись, вытянув длинную сильную шею, внимательно рассматривал нас немигающими, слегка навыкате глазами. Широкий утиный нос, просторный лоб и крупная, чуть отвисшая нижняя губа придавали лицу незнакомца какую-то медлительную квелость, будто спросонья был он, а не мы.
— Приветствую вас!. — бодро произнес я.
Голова на длинной шее покрутилась, помолчала, потом фыркнула и исчезла. И только теперь я узнал пришельца — это был писатель Глеб Горышин, хозяин изобки, в которой блаженствовали мы с сыном, не имея на то официального разрешения владельца. Я поспешил следом за Горышиным с извинениями и объяснениями, чувствуя себя очень и очень неловко. Горышин ничем не высказал своего неудовольствия нашим вторжением в его недвижимую собственность. Сказал, что идет встречать жену с дочкой, которые двигаются к Березовке на подводе. И ушел, опираясь на свежевырезанный можжевеловый посох.
Мы с Вовкой мгновенно собрали рюкзаки, подмели в изобке и стали решать: отправиться дальше по Ловати на плоту или остаться в деревне? Решили остаться. Вовке не хотелось покидать подкормленные рыбные места, кроме того, он нашел где-то железную бочку и задумал соорудить рыбокоптильню, а мне, честно говоря, как человеку пишущему и не избалованному писательским общением, хотелось пожить рядом с писателем, чьи произведения я знал с юношеских лет и которые оказывали на меня определенное влияние.
Освободив горышинскую изобку, мы выбрали себе на краю деревни пустующую развалюху, испросив для проформы у Николая разрешения пожить в ней, на что тракторист лишь махнул рукой — дескать, нашел о чем спрашивать, живи сколько хочешь.
В первые дни пребывания Горышина с семьей в деревне Березовка мы редко встречались с ним. По обыкновению, я поднимался еще затемно, и если Вовка сам не просыпался, то не будил его. По крутой росистой тропе спускался с удочками к Ловати. Отплывал на плоту к середине заводи, бесшумно опускал в темную воду «якорь» — два кирпича, привязанные к веревке; забрасывал донки, поплавочные на леща, поплавочные с живцом на щуку и… Для заядлого рыболова, к коим причисляю и себя, все вокруг исчезает с первым нырком поплавка. Рассвет, туман, голоса просыпающихся птиц, первые солнечные лучи — все, что воспевают поэты и что волнует поэтические натуры простых смертных, истинные рыболовы не замечают. Только потом, когда закипит на вечернем костре уха в котелке, или еще позже, в хмурый зимний день, выплывает откуда-то из тайников памяти тихое летнее утро, разрисованное и озвученное самой Природой, и сладко-радостно защемит сердце, и веселее побежит по жилам кровь, помолодевшая…
На реке же рано утром, когда в руках твоих бьется удилище, до звона натягивается леска и вот-вот лопнет, а из воды вдруг показывается громадный лещ, тут уже не до земных красот. Вот голова леща приподнялась над водой, он глотнул воздух разинутым ртом и тотчас, будто парализованный, прекратил сопротивление, широкобоко распластался на поверхности воды. Вы медленно, не дыша, подводите его все ближе, ближе и уже видите, что крючок зацепился за самый кончик нежной губы леща, и если он сейчас взбунтуется…
В этот момент в прибрежных зарослях раздается ужасный звериный крик, от которого по спине вашей ползут мурашки. Вы уже знаете, что это кричит рассерженный кем-то или чующий опасность лис, но невольно вздрагиваете. Такое впечатление, словно в зарослях душат человека и он в предсмертной тоске зовет на помощь. Но вы стараетесь не обращать на этот вопль никакого внимания, лещ всего в полуметре от вашей протянутой руки. В зарослях началась отчаянная борьба, кто-то нападает, кто-то защищается, лис дикими воплями старается запугать противника. Сейчас хорошо бы подцепить леща подсачком, но вы легкомысленно оставили его в стороне и уже нет времени искать подсачок взглядом. А голой рукой рыбий загривок не удержать (часто попадаются на этом неопытные рыболовы). Остается один верный прием: ввести указательный палец в распахнутый рыбий рот, и тогда лещ ваш. Вы вытягиваете палец, нацеливаетесь, но широкобокий красавец вдруг вяло вильнул хвостом, приподнял жирную крутую спину, глянул на вас удивленно выпуклым глазом. В тот же миг хвост его судорожно взбурлил воду, голова рванулась вниз и… все! Вы даже не почувствовали рывка и подергиваете леску, словно ждете, что она вновь нальется упругой тяжестью.
Наконец осознав случившееся, делаете шумный выдох и торопливо начинаете насаживать на крючок свежего червя. Эта операция, на которую в спокойном состоянии вы тратите одну-две секунды, сейчас не удается вам. В мокрых, дрожащих от возбуждения пальцах червь становится несговорчивым. Почувствовав укол крючка, он начинает изворачиваться, вытягиваться, закручиваться в узлы. Потеряв терпение, вы резко вонзаете крючок в червя, а он вдруг переламывается пополам и падает в воду. Вы выхватываете из банки нового червя, мысленно, а то и вслух успокаиваете себя, уговариваете не торопиться (куда спешить?!), подсмеиваетесь над собой, но пальцы не повинуются вам. Краем глаза примечаете, что поплавок другой удочки медленно, без рывков пошел под воду. Настала минута, когда проверяются ваша рыбацкая выдержка и самообладание. Интуиция и многолетний рыбацкий опыт подсказывают вам: клюет но игривая осторожная плотва, не нахрапистый бесшабашный окунь, которых надо подсекать мгновенно. Так уверенно и спокойно уводит поплавок под воду только крупный лещ. А ему необходимо дать время посмаковать наживку, втянуть ее поглубже в рот. Значит, у вас есть секунды, чтобы наживить-таки крючок, забросить удочку, а уж потом хвататься за другое удилище. Стоит погорячиться, погнаться за двумя зайцами, перепутать лески, и тогда наверняка повторится история с первым лещом. Усилием воли вы заставляете себя отвести взгляд от того места, где скрылся поплавок, и сосредоточиваете все внимание на проклятом червяке, который продолжает остервенело откручиваться от крючка. Вы взяли себя в руки, вы почти спокойны, вот только зубы от нетерпения ноют тупой болью и сводит от напряжения скулы. И вдруг в том месте, где возле щучьего поплавка из пенопласта рябит воду вялый живец-пескарик, раздается мощный крутой всплеск. Жилка, привязанная к плоту, взвизгивает и начинает метаться из стороны в сторону, вспарывая воду. Щука! И тут вы не выдерживаете. С извечной русской надеждой на авось отбрасываете в сторону крючок, хватаете одной рукой удилище, подсекаете леща, другой рукой выбираете снасть, на которой бьется осатаневшая щука. Стараетесь не давать ей слабины, наматываете жилку на руку, на ногу, помогаете подбородком, а то и зубами; а в это время всплыл и распластался перед вами лещ сродни первому, а подсачка вновь нет под рукой… Все дальнейшее — как бог даст, раз на раз не приходится.
Но вот поплавки замерли в неподвижности, утренний клев кончился. Напряжение оставляет вас; с трудом, но отводите наконец взгляд от поплавков. Оглядываетесь по сторонам и с удивлением замечаете, что солнце висит уже высоко над головой и припекает, на поле гудит трактор, а возле берега плещутся, звенят голосами ребятишки. Несколько часов промелькнуло для вас как одно мгновение.
Горышин не был страстным рыболовом, это я безошибочно определил по первому его взмаху спиннингом. За все время жизни в Березовке он не поймал ни одной мало-мальски приличной рыбины, хотя поначалу старался это сделать. Рыбалке, наверное, как и любому другому занятию, в котором хочешь достигнуть настоящего мастерства, необходимо отдаваться самозабвенно. Горышин же, насколько мне удалось его рассмотреть, самозабвенно отдавался только писательству. Впоследствии я не раз убеждался, что не ошибся в первых своих впечатлениях. Даже театр, музыка, искусство интересовали Горышина, как мне кажется, в первую очередь с точки зрения полезности своему писательскому делу. Он непременно встанет и уйдет с любого спектакля или поэтического вечера, если почувствует, что вечер этот не обогащает его писательского мышления, и, заговорив на улице с первым встречным, может пробродить с ним по городу до утра или будет всю ночь бродить один. Горышин, пожалуй, самый читающий писатель из всех знакомых мне писателей. В юности он, например, всерьез занялся изучением английского языка, чтобы в подлиннике читать тогдашнего своего кумира Хемингуэя.
В Березовке наша райская жизнь продолжалась. Близился сентябрь, но погода стояла на удивление теплая, мягкая, без всякого намека на скорую осень. По-прежнему мы с Вовкой заваливали деревенских рыбой, варили, коптили, жарили ее. Помаленьку привык к нашим рыбным дарам и Горышин и все охотнее хлебал уху из жереха. По утрам он подолгу бегал вдоль Ловати, приседал, махал руками. Потом косил траву для коровы тракториста, потом писал, сидя возле окна своей изобки. Жена его Эля, сготовив завтрак на уличной плите, отправлялась с этюдником к Ловати. Дочка Катя подружилась с детьми тракториста и ничем уже не отличалась от деревенских девчонок.
Между тем деревня Березовка доживала последние дни. Началось с того, что тракторист Николай зарезал свою единственную овцу и принес нам с Вовкой громадный шмат баранины.
— С чего вы летом зарезали овцу? — удивился я.
— В Блазнихе школу закрыли, — ответил Николай, — надо перебираться в Холм. Вот выкопаю картошку, поля совхозные приберу и прощай моя деревня… И дед здесь жил, и прадед…
— Как же так, — растерялся я, — а дом, корова?..
— Дом бросить придется, в Холм перетаскивать его накладно. Новый уже присмотрели, деньги есть. Корову продадим, а вот пчел жалко, не знаю, что и делать с ними. Будем теперь в городе как господа жить, молоко в магазине покупать, по восемь часов работать.
На следующий день после нашего разговора с Николаем покинул Березовку старейшина деревни дед Василий. К изобке его подъехал запыленный «ЗИЛ», из кабины выскочили два подвыпивших мужика, один из которых, как я узнал позднее, был сыном деда Василия Петькой, и принялись вытаскивать из изобки немудреные пожитки старика, швырять их в кузов машины. Потом мужики приколотили к окнам изобки но паре досок, подкинули деда Василия в кабину, и, деловито урча, «ЗИЛ» пополз по засохшей колее прочь от деревни. Шофер Петька высовывался из кабины и, белозубо скалясь, кричал что-то почтарке Нине. Дед Василий — седенький, сухонький, весь какой-то прозрачный — отрешенно смотрел прямо перед собой и подпрыгивал на ухабах.
— Зачем старика в город потащил? — неодобрительно проговорила Нина. — Ой, несладкая у деда Василия будет в городе жизнь. Дурной Петька во хмелю, дурной.
Нина оказалась права. Петька обидел отца, но и дед Василий проявил характер — покинул обидчика. За три дня до нашего ухода из Березовки почтарка принесла новость: дед Василий возвращается в деревню! Идет вдоль Ловати, дошел до Раковки, ночует у Карпа Ивановича. На следующий день к вечеру пришла весть — дед Василий дошел до Осетищ, ночует у Марии Петровны. Еще через день, когда мы с Вовкой уже собрали рюкзаки и собирались расстаться с Березовкой, кто-то плывущий на челне по Ловати сообщил, что дед Василий занемог в Горках у Тимохи Горского и просит почтарку Нину сходить в деревню Ракитню к сестре его Надежде, сказать ей, что он у Тимохи Горского, чтобы навестила…
Из Березовки мы с Вовкой уходили в полдень, решили пройти пешком вниз по Ловати и через деревню Блазниху выйти на шоссе Холм — Старая Русса. Через ту самую Блазниху, где закрылась школа, отчего сразу обезлюдели многие близлежащие деревни. Мы прожили в Березовке около месяца, но полюбили ее, и, уходя, я испытывал такое чувство, словно Березовка была моей родной деревней. А каково расставаться с ней тем, кто прожил здесь всю жизнь, родился в ней?
Прощаясь с Горышиным, мы условились с ним встретиться и побродить по Новгородчине вдвоем. Забегая вперед, скажу: мы находили с ним, наездили и наплавали по Новгородчине и Ленинградской области десятки тысяч километров. О некоторых из этих поездок мне хочется рассказать.
В СТАРУЮ РУССУ, К ДОСТОЕВСКОМУ
Несколько раз в году бываем мы с Глебом Горышиным в Доме-музее Достоевского в Старой Руссе. Не потому так часто бываем, что насмотреться не можем на двухэтажное деревянное строение, обшитое досками и выкрашенное в мрачноватый темно-зеленый цвет, а потому, что директором музея там был до недавнего своего ухода на пенсию Георгий Иванович Смирнов, фанатик от Достоевского. Кстати, многие читатели уже знакомы с Георгием Ивановичем по повести Даниила Гранина «Обратный билет».
Лично мне, рядовому знатоку и почитателю таланта Достоевского, вряд ли удалось бы близко сойтись с Георгием Ивановичем, если бы не Глеб Горышин. В свое время, когда создавался Дом-музей Достоевского в Старой Руссе, и вопрос о музее стоял «быть или не быть», два человека — литературовед профессор Борис Иванович Бурсов и ленинградский писатель Глеб Александрович Горышин — выступили в одной из центральных газет со статьей в поддержку старорусского музея Достоевского. С той поры имена профессора Бурсова и писателя Горышина для Георгия Ивановича значат многое.
Долгое время дом-музей для посетителей был закрыт, велись реставрационные работы (вновь открылся музей в год столетия со дня смерти Достоевского). Но экскурсанты — на автобусах и пешие — к музею прибывали почти ежедневно. И не было еще случая, чтобы Георгий Иванович, закрученный реставрационными делами-хлопотами, отказал им во внимании. Правда, внимание это может мгновенно угаснуть, если директор определит, что перед ним зеваки, а не почитатели таланта Федора Михайловича. Тогда в лучшем случае Георгий Иванович перепоручит приехавших одному из своих сотрудников, а сам будет молча обходить зевак стороной и раздраженно фыркать, как кот, и поддергивать локотками свой неизменный черный пиджачок, что является у него признаком наивысшего раздражения. Но если хоть один человек из толпы экскурсантов заинтересует Георгия Ивановича… Однажды мне довелось наблюдать такую сцену. Вдоль забора дома-музея прохаживался человек в светлом костюме и в пыльных кирзовых сапогах, глазел по сторонам. Потом во двор дома-музея прошел, осмотрел все вокруг, баньку общупал и на скамейку под березами присел. Георгий Иванович возле незваного гостя туда-сюда челноком ходит и все чаще пиджачок локтями поддергивает. А незнакомец на директора — ноль внимания, будто во дворе своей дачки сидит, о жизни размышляет. Наконец не выдержал Георгий Иванович, остановился перед пришельцем, спросил резко:
— Вы зачем к нам пришли? Что вы здесь расселись?!
— Я не к вам пришел, — незнакомец отвечает и даже взглядом директора не удостаивает.
— К кому же вы пришли?
— К Федору Михайловичу.
— К Федору Михайловичу? — переспросил Георгий Иванович-другим уже тоном и совсем легонько пиджачок поддернул. — Позвольте узнать: чем привлекает вас Федор Михайлович?
— Ну, хотя бы тем, что оставил миру столько неразрешенных вопросов, — отвечает незнакомец с легкой усмешкой.
Георгий Иванович так и замер с прижатыми к бокам локотками, впился глазами в пришельца совсем по-иному, но продолжал экзаменовать собеседника:
— Позвольте спросить вас, уважаемый, каким словом — одним словом — вы определяете жизнь и творчество Достоевского?
Подумал немного человек, отвечает:
— Гуманизм.
— А двумя словами?
— Великий гуманизм.
Сдернул Георгий Иванович с головы соломенную шляпу, склонился церемонно в полупоклоне, представился:
— Директор Дома-музея Достоевского Смирнов. Прошу, если не возражаете, ко мне в кабинет. Побеседуем с вами о Федоре Михайловиче.
Много чудесных, незабываемых минут и часов провели мы с Глебом Горышиным в Доме-музее Достоевского в Старой Руссе. Даже в глухую морозную полночь, когда, измотанные многосуточными лыжными переходами по Тудору, Кунье или Ловати, мы подъезжали к этому городу на попутном холмском лесовозе, я думаю не об отдыхе, а о тех минутах, что проведем мы в звенящем от тишины доме Достоевского. На нижнем этаже дома в комнате-кабинете директора, где Георгий Иванович в период реставрационных работ днюет и ночует, мы будем пить крепчайший чай, а хозяин музея — худенький, ершистый, остренький, весь какой-то крученый и вывернутый, с запавшими диковатыми глазами — станет неспешно «заводиться» разговором. Говорит в основном он сам, мы с Горышиным больше слушаем. «Разогревается» Георгий Иванович обычно рассказами о делах музейных. Где какую вещицу или вещь, ко времени Федора Михайловича, а то и лично к писателю относящуюся, обнаружил и для музея приобрел. И о каждой такой вещице, будь то подлинный цилиндр Федора Михайловича, или перчатка его, или скатерть, плод середины прошлого века, Георгий Иванович повествует с тончайшими подробностями, мастерски выписывая характеры их нынешних владельцев. Да что там о подлинных вещах Федора Михайловича говорить, возьмем для примера хотя бы забор, что дом-музей окружает. Что интересного можно услышать о заборе, о строительстве его? Обычный дощатый глухой двухметровый забор, выкрашенный под цвет дома. Ну, показал нам Георгий Иванович точное место, где беременная Лизавета Смердящая через забор перелезла и в сад Федора Павловича Карамазова соскочила; и баньку показал, в которой разрешилась Лизавета сыночком, нареченным людьми после смерти ее Павлом Федоровичем Смердяковым. Кажется — все, ничего интересного о заборе и баньке услышать нельзя. Как бы не так! А день сегодняшний? Да узнай Федор Михайлович Достоевский историю строительства современного забора вокруг бывшей его усадьбы, ему этого материала если не на роман, то на повесть сродни «Дядюшкиному сну» вполне хватило бы.
Создание музея и реставрация дома Федора Михайловича — процесс не только сложный, но и длительный. И он потребовал от Георгия Ивановича бескомпромиссности, упорства, решительности, умения не давать воли эмоциям. Эта черта характера — не давать воли эмоциям в сложных ситуациях — у Георгия Ивановича не врожденная, а, по его же словам, фронтовыми годами привитая. Почти всю Отечественную войну прошел он командиром батареи 76-миллиметровых полковых пушек, что наступали (и отступали, конечно же) в боевых порядках пехоты. В наступлении с пушкой проще, а вот когда отступает пехота, побежала, артиллеристам худо. С орудием далеко не убежишь, а бросить пушку нельзя, на это у войны законы строгие. В подобных случаях артиллеристам — занимай круговую оборону, а там как бог даст. Кому повезет, в живых останется, кому не повезет — на войне как на войне. Георгию Ивановичу везло, хотя ранен был не раз — в грудь пулей навылет, осколками два раза касательно, и гангрены имел, и контузию. Но все это под определение «везло» подходит, если учесть, что только в бою на Курской дуге от восьмидесяти человек его батареи в живых осталось шестеро. Но вшестером с двумя искалеченными пушками старший лейтенант Смирнов круговую оборону выдержал, спокойствие сохранил и потому выжил. Иногда чистый случай помогал в живых остаться, как, например, на плацдарме у Западного Буга, бои на котором вспоминает в своих мемуарах маршал Чуйков. Противотанковая батарея Смирнова переправилась тогда через реку благополучно, но вот плоты с лошадьми течением снесло далеко вниз. И осталась батарея на одной ручной тяге. Несколько суток отбивались артиллеристы Смирнова от немецкой пехоты, от танков, а потом на нее «фердинандов» бросили. У «фердинанда» лобовая броня двести миллиметров, полковая 76-миллиметровая пушка ее не берет. Но командир батареи со своими артиллеристами и тут изловчился — приноровился «фердинанда» под брюхо бить, когда тот на бугорок взбирается. У «фердинанда» под брюхом баки с горючим и броня потоньше, самое уязвимое место. Двух «фердинандов» батарея подбила, а третий на наблюдательный пункт командира дивизии двинулся. У батареи Смирнова бронебойные снаряды кончились, одна картечь осталась, а из бункера НП полковник Ерофеев кричит: «Комбат, спасай!» А чем спасать, картечью? Стебанули пушки по «фердинанду» картечью, а тому хоть бы что. Но видать, в «фердинанде» опытные вояки сидели, сразу сообразили, что к чему. Развернулись, пошли батарею утюжить. И вот, не доходя нескольких метров до пушки, за которой комбат Смирнов со своими ребятами стоял, когда он уже и с жизнью распрощался, «фердинанд» вдруг дернулся и остановился. Люки открылись — из них поднятые руки — сдаются немцы! Горючее, оказывается, у «фердинанда» кончилось, пустые баки. Ну разве не счастливый случай?!
За тот бой Георгия Ивановича Смирнова наградили редкостным орденом — Большим английским крестом. Союзники, что на церемонии вручения наград присутствовали, сказали Георгию Ивановичу (то ли в шутку, то ли всерьез), что кавалерам этого ордена в Англии дано право присутствовать на заседаниях парламента.
На заседании английского парламента Георгию Ивановичу побывать не довелось, ни к чему было, зато на своем старорусском городском назаседался вволю.
Но я, кажется, далеко отклоняюсь в сторону от рассказа о восстановлении усадьбы Федора Михайловича.
Только после долгих споров и разбирательств, после вмешательства прессы добился Георгий Иванович, чтобы восстановление дома было передано реставраторам. За дело реставраторы принялись без долгих раздумий. Воссоздали вокруг усадьбы глухой двухметровый забор, какой был при Федоре Михайловиче, срубили на участке баньку (топи и парься), беседку поставили. Особенно много хлопот реставраторам и Георгию Ивановичу доставил дом писателя. Дом этот Федор Михайлович Достоевский приобрел (единственная его недвижимая собственность) благодаря неустанным заботам-хлопотам супруги Анны Григорьевны, сумевшей жесткой экономией во всем разорвать-таки долговую паутину, опутывавшую Достоевского по рукам и ногам со времен смерти брата Михаила. Если бы не Анна Григорьевна, никогда не видать Федору Михайловичу своего домика, всю жизнь скитался бы по чужим квартирам. А каково это писателю, пережившему каторгу и послекаторжную ссылку, не иметь своего угла, крыши над головой. Вон в одном только Петербурге Федор Михайлович сменил двадцать квартир; последняя его, на Кузнечном, если не ошибаюсь, была двадцать первой. По себе знаю, что такое переезды. Не зря в народе говорят: два раза переехать, что один раз погореть. Дом в Старой Руссе Федор Михайлович присмотрел еще в 1872 году, когда приезжал туда погостить к дальнему своему родственнику профессору Владиславлеву. А спустя три года сравнительно дешево купил этот дом с мебелью, с участком земли, дворовыми постройками. Правда, в старорусском доме жил Федор Михайлович с семьей не круглый год, в основном в весенне-летний период. Вот как вспоминает Анна Григорьевна Достоевская о Старой Руссе:
«…Мы очень полюбили Старую Руссу… Но кроме самого города мы полюбили и дачу Гриббе… Дача… стояла… на окраине города близ Коломца, на берегу реки Перерытицы, обсаженной громадными вязами, посадки еще аракчеевских времен… Федор Михайлович считал нашу старорусскую дачу местом своего физического и нравственного… отдохновения».
А вот как описывает в своих «Воспоминаниях» Анна Григорьевна распорядок дня Федора Михайловича в Старой Руссе:
«Наша повседневная жизнь в Старой Руссе была вся распределена по часам, и это строго соблюдалось. Работая по ночам, муж вставал не ранее 11 часов… После полудня Федор Михайлович звал меня в кабинет, чтобы продиктовать то, что он успел написать в течение ночи… Окончив диктовку и позавтракав… Федор Михайлович читал… или писал письма и во всякую погоду в половине четвертого выходил на прогулку по тихим пустынным улицам Руссы… В пять часов садился обедать… В семь часов мы с Федором Михайловичем отправлялись вдвоем на вечернюю прогулку и неизменно заходили на обратном пути в почтовое отделение, где к тому времени успевали разобрать петербургскую почту… К десяти часам во всем доме наступала тишина… Федор Михайлович уходил в свой кабинет читать газеты… Когда било 11 часов… я уходила к себе, все в доме спали, и только мой муж бодрствовал за работой до трех-четырех часов ночи».
В Старой Руссе — городишке с населением всего в семь тысяч человек, славящемся 36 питейными домами, 25 трактирами и 8 винными погребами, Достоевские обрели то, к чему давно стремились, — возможность пожить в глуши, а не на народе, как в Петербурге. Федор Михайлович мог там не только спокойно работать, но и вблизи наблюдать провинциальную жизнь России, а его тяга привязывать изображаемые в своих произведениях события к конкретным местам позволяет тому же Георгию Ивановичу Смирнову утверждать, что только в одном романе «Братья Карамазовы» Достоевским описаны шестнадцать улиц Старой Руссы, многие из которых, кстати, объявлены теперь заповедной зоной дома-музея. Годы жизни Достоевского с семьей в Старой Руссе были для него, на мой взгляд (и прошу прощения за избитые слова), самыми счастливыми. И не только потому, что хорошо ему здесь работалось, что создал он в Руссе «Подростка», часть «Бесов» и «Дневника писателя», «Речь о Пушкине», почти всю главную свою книгу «Братья Карамазовы», но еще потому, что царили в его семье мир, любовь, взаимное уважение. Достаточно прочитать хотя бы его переписку с Анной Григорьевной накануне и в дни Пушкинских торжеств в Москве, чтобы не сомневаться в этом. Трудно представить себе более заботливую и любящую жену и мать, нежели Анна Григорьевна. В своих письмах из Москвы в Старую Руссу Достоевский буквально считал часы и минуты, когда встретится он с семьей. Возможно, что если бы открытие памятника Пушкину отложили еще на несколько дней, Федор Михайлович не выдержал бы и уехал в Старую Руссу. Даже после триумфального выступления на торжестве с «Речью о Пушкине», когда восторженные поклонники буквально разрывали его на части, Федор Михайлович ни о чем ином думать не мог, как о скорейшем возвращении в Руссу.
Но кажется, я вновь отхожу от рассказа о делах реставрационных на доме-музее, углубляясь в личную жизнь Федора Михайловича. Хотя, чтобы полнее понять трудности реставраторов на доме-музее, уместно будет еще одно воспоминание привести — дочери Достоевского. Вот как она описывает старорусский дом, выведенный Федором Михайловичем в романе «Братья Карамазовы» как дом Федора Павловича Карамазова.
«…Маленький домик в немецком вкусе прибалтийских губерний, — домик, полный неожиданных сюрпризов, потайных стенных шкафов, подъемных дверей, ведущих к темным пыльным винтовым лестницам. Все было миниатюрно в этом доме… Закрытая веранда с разноцветными стеклами была нашим единственным удовольствием, а маленький китайский биллиард со своими стеклянными шарами и колокольчиками развлекал нас в длинные дождливые дни, столь частые в наше северное лето».
Вряд ли кто из ныне живущих людей знает дом Достоевского лучше Георгия Ивановича Смирнова. Георгий Иванович родился в Старой Руссе ровно сто лет спустя после рождения Федора Михайловича и первое, что увидел он, когда мать поднесла его к окну, был дом Федора Михайловича Достоевского. Георгий Иванович родился в доме Гайдебурова Павла Александровича (редактора демократического журнала «Неделя»), что до сих пор стоит напротив особняка писателя.
Во время войны Старая Русса была почти полностью разрушена. Когда наши войска выбили немцев из Руссы, в городе от трех тысяч зданий уцелело лишь четыре. Поврежден был и дом Достоевского, а вещи писателя, находившиеся в старорусском краеведческом музее, погибли вместе со всей экспозицией музея.
Вернувшись после войны в родной город, Георгий Иванович Смирнов поспешил, конечно же, на набережную Перерытицы, к дому Федора Михайловича, и стал прикидывать: с чего начать?..
В 1969 году дом Федора Михайловича Достоевского был снова открыт для посетителей и поклонников его таланта. Правда, тогда удалось развернуть в доме лишь небольшую выставку, параллельно велись реставрационные работы, по крохам собирались подлинные вещи Федора Михайловича и все относящееся к периоду его жизни в Старой Руссе.
Рассказывая о деятельности Георгия Ивановича Смирнова по созданию мемориала Достоевского в Старой Руссе, опасаюсь, как бы у читателей не сложилось мнение, будто один Георгий Иванович этот мемориал вынашивал и создавал. Конечно, нет! Подумать так — все равно что подумать, будто и на Курской дуге Георгий Иванович один стоял, и на Западном Буге единолично «фердинандов» останавливал. Многие музеи страны, десятки и сотни людей из Старой Руссы, Новгорода, Ленинграда, Москвы и других городов принимали самое деятельное участие в создании старорусского музея. Но сегодня разговор только о Георгии Ивановиче — самом страстном ревнителе идеи создания музея и самом страстном ее исполнителе. Порой ему приходилось и приходится очень и очень не легко. Не только работать надо, но и от невежд отбиваться, а порой и от явной глупости. Однажды, когда только начал создаваться музей, еще до принятия закона об уголовной ответственности за нарушение научных принципов реставрации, приехало из области в Старую Руссу ответственное лицо по культуре. Осмотрело лицо дом Достоевского, Георгия Ивановича послушало, потом такое изрекло: «Зачем восстанавливать эту рухлядь? Где наша действительность?! Что, мы не можем писателю новый кирпичный дом построить и стилизовать его под старину? Что, у нас кирпича нет?!»
Сейчас подобное выглядит смешным, а тогда Георгию Ивановичу было не до смеха. Решил поехать в Москву, в газету «Правда». Собрался, а денег на дорогу нет. Решил свои книги продать. Набрал вязанку, наклонился, приподнял и… инсульт! Долго в больнице лежал, выжил. Потом добился-таки своего — приехал из «Правды» журналист.
Или вот еще один пример: решил старорусский мэр набережную Перерытицы в бетон одеть, дорогу к Дому-музею Достоевского заасфальтировать. Мэра и понять можно, зарубежные гости в Старую Руссу приезжают, негоже как-то их но пыльным ухабистым улочкам к дому великого писателя возить. Но Георгий Иванович прямо-таки на дыбы встал, чтобы оставили Перерытицу такой, какой была при Достоевском. Всех на ноги поднял — от Старой Руссы до Москвы, а добился своего, победил мэра. До сих пор на набережной сваи бетонные валяются, кое-где и плиты — все, что от идеи мэра осталось.
Не меньше хлопот, чем дом писателя, доставляет Георгию Ивановичу и район с прилегающими к музею улочками, объявленный заповедным. В районе этом жил и работал не только сам Федор Михайлович, но и большинство героев его романа «Братья Карамазовы». Почти все происходящее в романе так или иначе связано топографически точно с местами, что окружают усадьбу писателя. Георгий Иванович потратил немало сил и времени, разыскивая подлинные места, дома, маршруты героев, упомянутых в романе. Слушая Георгия Ивановича, когда ведет он экскурсию по литературно-мемориальному комплексу Достоевского, невольно проникаешься важностью того, что вот это и есть дом Федора Павловича Карамазова, а вот здесь находилось жилище штабс-капитана Снегирева, неподалеку от него камень, с которого Алеша обратился с речью к мальчикам. Вот под этим окном стоял безумный Митя, поджидая Грушеньку, а вон там в лопухах спала Лизавета…
Но, грешным делом, когда рядом нет Георгия Ивановича и я не вижу его фанатично горящего взгляда, не слышу страстных его речей, а один прогуливаюсь по местам, описанным Достоевским, или слушаю другого экскурсовода, закрадываются сомнения… В связи с этим вспоминается интересный эпизод из «Обратного билета» Гранина. Подобные же сомнения смущали иногда и начальника коммунального отдела товарища Л., который никак не желал восстановить мостик, по которому бежал Митя Карамазов. Каждый человек имеет право на сомнения. Товарищ Л. полагал так: если бы сам Достоевский или другой классик ценил этот мостик, бывал на нем — тогда другое дело. Тогда это историческая ценность, а так…
«Чем мог Георгий Иванович, директор едва народившегося музея, воздействовать на городского начальника? Бумаги, докладные? Писал. К ним притерпелись. В конце пути они попадали к Л. с надписями неуверенными, озадаченными: «Надо помочь», «Разберитесь», «Внести в план». У товарища Л. хватало и без того мостка горящих точек. Он не был ни рутинером, ни мракобесом, наоборот, именно потому, что он пекся о городских нуждах, он не хотел тратить скудные коммунальные средства на эту непонятную ему работу, невыигрышную, ненасущную…»
В конце концов Георгий Иванович нашел интересный тактический ход, который заставил товарища Л. восстановить мостик, по которому бежал Митя. Проводя экскурсии, Георгий Иванович заострял внимание экскурсантов на сломанном мостике и на товарище Л., не желающем его восстановить. Возмущение многих экскурсантов было так велико, что товарищ Л. сдался.
Коль сам начальник коммунального хозяйства долго не мог проникнуться важностью созданного в городе литературно-мемориального комплекса, что о жителях говорить, чьи дома в зону комплекса попали. Одни неудобства, ограничения и никаких преимуществ. А когда человеку одни неудобства предлагают, это его, естественно, настораживает и раздражает. Поначалу жители улиц, прилегающих к Дому-музею Достоевского, разобраться не могли — что за зона такая, в которую они попали? Когда же с каждодневной помощью Георгия Ивановича разобрались наконец, стон пошел по району: от директора музея житья нет. Мачту телевизионную повыше возвести не дает, потому как при Федоре Михайловиче телевизоры не водились; кто в зоне автомобиль купил — гараж построить нельзя. Да что там гараж — лопухи вдоль забора выкосить не дает, оберегает их именем Достоевского. Как-то попал Георгий Иванович в больницу, а когда вышел из нее — на одной из заповедных улиц красовался новый дом из белого нарядного кирпича, высился гордо над всеми другими крутой оцинкованной крышей. Георгия Ивановича едва удар не хватил от потрясения. Пошел он к владельцу дома-красавца и говорит: «Как вы изловчились поставить сей замок при гараже в мемориальном комплексе, не имея на то разрешения архитектора города, вам придется объяснить. И не мне объяснить, а прокурору».
Большая тяжба потом была, немало нервных клеток загублено с той и другой стороны, а дом стоит. Не сносить же его, ежели поставлен.
Бывали случаи, когда разгневанные придирками директора музея и разгоряченные домовладельцы из зоны грозили Георгию Ивановичу физической расправой, шли на него врукопашную. Один даже с вилами бросился на него, намереваясь заколоть. Но испугать Георгия Ивановича какими-то вилами?.. Директор музея так и сказал домовладельцу, занесшему над ним вилы: «Мою грудь пробить железом нельзя! Ибо в груди моей не плоть, а дух Достоевского!»
Георгий Иванович не только фанатик от Достоевского, но и очень тонкий психолог и даже где-то чуточку артист. Так мне кажется иногда. Как-то услышал я от него такую фразу: «От меня иногда ждут некоторые чего-то… как от артиста. Что ж, если это пойдет на пользу дела Федора Михайловича, я готов подыграть им».
Близится полночь. Мы втроем сидим в доме Достоевского в кабинете директора музея и пьем крепкий чай, заваренный в трехлитровом электрочайнике. За стеной с воем беснуется мартовская метель, сечет оледенелой снежной крупкой оконные стекла. Хорошо в доме Федора Михайловича, тепло, уютно. Особенно после такого вот похода по Ловати, из которого мы с Горышиным возвращаемся. В общем-то, поход был обычным, ничего особенного, не прихвати нас обоих в пути проклятый радикулит. Вдобавок к этому Глеб на реке провалился под лед, хорошо, место там оказалось неглубоким. Зашли в пустующую деревню обсушиться и переночевать, натопили в брошенном домишке русскую печь от души, сена на печи настелили, легли спать. А ночью сено под нами задымило. Стали сено охапками во двор выбрасывать, оно огнем вспыхнуло. А еще удивляются — отчего это в пустующих деревнях пожары случаются? Кое-как добрались до зимника, по нему вышли на дорогу Холм-Старая Русса. На лыжах идти радикулит не давал, пришлось лыжи в лесу припрятать, с одними палками двигаться. На Большой дороге повезло: лесовоз попутный тотчас подвернулся, и вот мы в Старой Руссе.
Георгий Иванович только-только «разогрелся» рассказом о том, как обнаружил он в Ленинграде у одинокой старушки скатерть середины прошлого века, точь-в-точь такую, какая была, по его сведениям, в доме Достоевского; поведал с подробностями, сколько сил и старанья пришлось на старушку потратить, прежде чем та прониклась благоговением к Федору Михайловичу Достоевскому и уступила скатерть музею подешевле…
Постепенно все материально-бытовое из речи Георгия Ивановича стало исчезать, глаза его потемнели, нос заострился, голос зазвучал глуше, словно из глубины. В рассуждениях директора музея появились такие извечно глобальные категории, как жизнь, смерть, добро, зло; появился Христос, Великий инквизитор, внутренняя связь творчества Достоевского с творчеством Данте, возникали иные параллели, ассоциативные догадки, прозрения, переплетались пути обновления мира и человека, соотношения воли и обстоятельств… Короче, Георгий Иванович углублялся мыслью в творчество своего кумира и его личность. И уже не видел вокруг себя ничего, не замечал. Чтобы с пониманием следить за всеми его философскими рассуждениями, требуется определенная и основательная подготовка по многим специальным вопросам, особенно по религии и ее истории, потому я частенько теряю нить его страстных философских монологов и просто наблюдаю Георгия Ивановича. Это не менее интересно, чем слушать. Подрагивающий от возбуждения, с глазами, невидяще смотрящими откуда-то из глубины, он становится для меня как бы одним из персонажей не написанного Достоевским произведения.
На этот раз Георгию Ивановичу не удалось углубиться в тему. Едва он коснулся Христа и Великого инквизитора, как раздался телефонный звонок. Горышин схватил трубку (у него был заказан телефонный разговор с домом), прокричал громко: «Да, да, это я!» И вдруг по лицу его мы поняли, что произошло нечто очень важное. И не ошиблись.
— У меня родился внук, — негромко произнес Глеб, и невольно углы губ его под утиным носом поползли к ушам. — Да, да, внук…
Понятно, что после такого известия общий настрой наш резко изменился. Темы Достоевского и даже сам великий писатель сразу как-то отодвинулись в сторону, словно бы уступая дорогу. В мир вошла новая человеческая жизнь! Что может быть важнее на земле этого события?! Перед ним пасует и бледнеет даже сама смерть.
Наконец все успокоились, и беседа вошла в новое, более узкое русло — о детях, о женщинах и даже о женах. Я позволил себе перед директором музея дерзость, заявив, что уважаю как личность супругу Достоевского Анну Григорьевну ничуть не меньше, чем Федора Михайловича, а может быть, даже больше. В ответ Георгий Иванович как-то странно посмотрел на меня и поинтересовался:
— Чем же для вас личность Анны Григорьевны столь привлекательна?
— Всем! Преданностью семье, самоотверженностью, верой, умением оградить мужа от мелочных забот, создать ему условия для работы. А как она поднялась со своими «Воспоминаниями» на защиту мужа, когда Федору Михайловичу, уже мертвому, вонзили в спину клевету. Нет, Анна Григорьевна — замечательная женщина!
— Замечательных женщин много, а Федор Михайлович один, — неопределенно ответил Георгий Иванович.
— Таких, как Анна Григорьевна, не много. Она не похожа на других даже в мелочах. Я, грешным делом, частенько ее со своей женой сравниваю. На свою обижаться не могу и не хочу, но представьте, Георгий Иванович, такое: проиграл я получку в азартную игру. Будь моя жена даже ангелом, что она мне в лучшем случае скажет? Чтобы это было в последний раз! А как поступила Анна Григорьевна, когда Федор Михайлович в пух и прах проигрался? Помните? Она только что пошитое пальто свое, о котором несколько лет мечтала, продала, а деньги — мужу на игру. Вот это женщина, вот это характер, вот это психолог!
Метель на улице не утихала, дом гудел от напора ветра, стонал, громыхал крышей. Георгий Иванович, чувствуя, что теряет инициативу беседы, стал пофыркивать, поддергивать локотками пиджачок. Разговор наш принимал оттенок некой легковесности, чего директор музея в доме Федора Михайловича не любил и не допускал. И вдруг до нас донесся едва слышимый бой часов.
Георгий Иванович поднялся из-за стола, поправил галстук, проговорил шепотом:
— Федор Михайлович сел за письменный стол! Пройдемте, посмотрим, как он работает. Но как можно тише.
— Зимой Федор Михайлович в Старой Руссе вроде бы не жил, — сделал я дилетантское замечание.
Директор музея рассерженно фыркнул, схватил с полки большую черную книгу, полистал ее, прочитал вслух:
Я остаюсь на всю зиму (для усиленной работы) в Старой Руссе, но однако же три-четыре раза в зиму буду наезжать в Петербург. Ф. М. Достоевский — В. Ф. Пуцыковичу. 11 августа 1874 г.».
После этих слов Георгий Иванович на цыпочках и не оглядываясь направился к двери. Мы с Горышиным тоже на цыпочках последовали за ним.
Достоевский с семьей, как известно, занимал верхний этаж дома, на первом же этаже были хозяйственные и подсобные помещения. Мы вышли в коридор и по крутой скрипучей лестнице поднялись наверх. Двери всех комнат на этаже были распахнуты, где-то внутри горел свет. Мы бесшумно вошли в первую комнату, Георгий Иванович оглянулся и приложил палец к губам:
— Тсс-с! Дети спят. Не разбудите детей.
На цыпочках мы прошли детскую, спальню Анны Григорьевны, вышли в просторную столовую, где горел свет и мерно тикали маятником старинные напольные часы. А вот и кабинет Федора Михайловича…
Сколько раз водил нас директор по ночному дому Достоевского, и всякий раз, подходя к рабочему кабинету великого писателя, я испытываю странное чувство, которое трудно передать словами. Исходит оно вовсе не от величия писателя и совсем не похоже на волнение. Исходит оно, я совершенно явственно, почти физически ощущаю, от Георгия Ивановича. Когда мы долго и тихо стоим в кабинете Достоевского, на стенах которого играют блики от фонаря, что раскачивается возле дома Гайдебурова, мне начинает казаться, что в углу за столом сидит человек. Я совершенно уверен, что Георгий Иванович тоже видит его, более того — он заставляет меня увидеть сидящего. Это какой-то гипноз! Я начинаю вглядываться в человека за столом, узнаю Федора Михайловича, каким знаю его по фотографиям, и вдруг… Да это же тень Георгия Ивановича! С замирающим сердцем я оглядываюсь и не вижу Георгия Ивановича рядом с собой. Голос его раздается где-то внизу…
ОСИНОВКА
Глеб Горышин всегда ворчит на меня, когда указываю в своих печатных материалах точные места, подлинные названия городков и весей, по которым мы проходим, где бываем. Отчасти он прав. Открыли мы для себя, например, дивный малодоступный уголок на Новгородчине — Рдейский край. Название краю дало озеро Рдейское, на берегу которого находится старый заброшенный монастырь — Рдейский. Вокруг Рдейского озера еще несколько озер поменьше, и все они между собой соединены узкими старинными каналами, прорытыми некогда монахами монастыря. Озера мелкие, торфяные, вода в них летом даже в прохладные дни как парное молоко. Озерную воду для чая заваривать не требуется, по цвету она напоминает крепко заваренный грузинский чай, а по вкусу и того лучше. Рыбы в Рдейских озерах столько, что и ловить неинтересно. Насаживай на крючок червя, забрасывай уду — вытаскивай. Забрасывай — вытаскивай! А не нравится на удочку ловить — пожалуйста, к твоим услугам мережи по берегам озер и каналов лежат, из ивовых прутьев плетенные. Бросил мережу в канал, три-четыре раза палкой по воде стукнул — доставай мережу, вари уху. Рыба в основном окунь и щука, черные, как головешки потухшего костра. Тут же, на берегу Рдейского, избушка срублена для отдыха захожих людей, дровишки сухие для печки, соль. И лодки-долбленки на озерах имеются — пользуйся на здоровье, катайся, наслаждайся земной красотой. От тебя лишь одно требуется — чтобы все, чем пользовался, в сохранности оставил для других людей, которые сюда после тебя придут. Да, я о главной достопримечательности Рдейского края не сказал, о монастыре. Монастыря как такового уже нет, рассыпался, одна церковь монастырская осталась. О рукотворном чуде этом среди топких болот мы слышали немало. Но увиденное превзошло все ожидания. Представьте себе: бредете вы по зыбкому болоту, проваливаясь по пояс, а то и по грудь, час, второй, третий. Потом натыкаетесь на узкий (перешагнуть можно) канал, усаживаетесь в «душегубку», плывете на ней дальше. И вдруг перед вами открывается водный простор, и над черной гладью высится на холме молодая солнечная церковь. Не важная, не чопорная, не торжественная даже, а именно молодая, веселая и словно радуется вашему появлению в здешних краях, зовет отдохнуть к стенам своим, утопающим в сиренево-яблоневом цвету. Увидите вы это чудо на Рдейском озере и невольно шапку сдергиваете перед красой, руками человеческими созданной.
Написал я о Рдейском крае очерк, опубликовали его в газете. И наводнили после моего очерка Рдейские болота туристы и разные дикие люди. О лодках, мережах, избушке уже и не говорю. Над храмом особенно поизмывались. Вдребезги разбили иконостас розового итальянского мрамора в монастырской церкви, расстреляли из ружей чудесные фрески, вырубили окрест церкви кусты и деревья, нажгли костров. Короче — поразмялись. Вот и открывай для читателя потаенные уголки природы.
С другой стороны, подобных пакостников не так уж и много. И как ни изгаляются они над земной красой и творениями рук человеческих, не стоит из-за них менять и кодировать названия мест, скрывать красоту от добрых людей. Вот почему не поворачивается у меня язык назвать деревню Осиновку, о которой рассказать хочу, по-иному, не Осиновкой. Красивее места на Новгородчиие мне видеть не доводилось. Разве что возле деревни Горки на Ловати да еще суворовская Дубиха в Кончанском-Суворовском по красоте с Осиновкой сравниться могут. Но там земная краса взгляду с гор открывается, там словно в небе на крыльях паришь, а в Осиновке — низинка. Вся деревенька — домов с десяток — на зеленой косе пристроилась, что слиянием рек Куньи и Тудора образована. От одной стороны деревенской улицы сады-огороды к Кунье сбегают, от другой — к Тудору. Когда зацветает черемуха, берега речек словно сугробами снежными завалены, словно белопенный вал на деревеньку накатывается. Но особенно красиво это место ранним летним утром, когда Осиновка дремлет еще в легком туманце, а высокие берега Куньи и Тудора уже высвечены солнцем. На берегу Тудора островерхие ели толпятся, а на берегу Куньи белые березы хороводятся. И словно переговариваются друг с дружкой через пенистые буруны, шепчутся о чем-то.
Несколько лет назад забрели мы с Горышиным в Осиновку впервые. Местные старики разрешили нам переночевать в добротном пустующем доме, стоящем на косе возле самого слияния Куньи и Тудора. Хозяин этого дома проживал с семьей в Холме, дом продавался. Утром, проснувшись, мы подошли с Глебом к распахнутому на речку окну и… были потрясены красотой, открывшейся нам. Трудно передать чувства, владевшие мной в те минуты, только я вдруг понял: жить и работать должен здесь, в Осиновке.
Глеб Горышин поддержал мое решение купить дом, но моей семье это решение показалось, мягко говоря, легкомысленным. При очень скромном семейном бюджете покупать дом где-то в глухой деревушке за сотни километров от Луги? Как туда добираться? Что за блажь, что за дурь втемяшилась тебе в голову? Вот далеко не все вопросы, которые я услышал по телефону от жены, когда сообщил ей из Холма о чуде в Осиновке. Но я закусил удила. Каждый мужчина должен, мне кажется, хоть раз в жизни закусить удила, потерять голову от красоты. Ибо чувство это ни с чем не сравнимое, и чтобы понять его, надо испытать.
Получив от супруги решительный отказ поддержать мою идею морально и материально, я тут же разослал телеграммы друзьям-приятелям во все концы Союза с просьбой немедленно выслать деньги на Холм «до востребования», кто сколько сможет. Поскольку голову я потерял не от женской красоты, то в глубине души надеялся: «дурь-блажь» моя в конце концов простится.
Прежде чем отправиться торговать дом, мы постарались кое-что узнать о его хозяине. Осиновские старики нашему решению купить в деревне дом были рады-радешеньки и потому с особым старанием и обстоятельностью выписывали нам сильные и слабые стороны характера Витьки Михайлова — хозяина. Много подробностей узнали мы из Витькиной жизни, но главными были следующие. Дом этот построил отец Виктора, и все детство Витьки прошло в этой деревне. Отец его помер давно, а мать недавно, и дом отошел по наследству к Виктору. Витька Михайлов женился, получил в Холме казенную квартиру и проживает теперь там, работает шофером. А раньше работал егерем. Мужик Витька самостоятельный, охотник и рыбак знатный. Характер имеет твердый, в лесу не уступит дороги и медведю. Но хоть и самостоятельный Витька мужик, да с придурью: если мы ему «не покажемся», он нам дом не продаст. Вернее, такую цену заломит, что шапка с головы упадет. А так ориентировочная цена дома — полторы тысячи рублей.
С этими данными мы и отправились с Горышиным в Холм торговать дом в Осиновке. От Осиновки до Холма несколько часов пешего хода. Вокруг Осиновки речки петляют, и потому приходится подвесные мосты переходить.
Наконец добрались. Хозяин оказался молодым еще парнем и проживал с семьей — женой и двумя дошколятами — в финском домике на берегу Ловати. Внешне он выглядел непримечательно: среднего роста, сухощавый, со спокойным медлительным взглядом, и никак не напоминал человека с характером, который не уступит дорогу и медведю. Принял нас Виктор сдержанно, за стол, правда, пригласил. Хотя я при знакомстве представился как покупатель, то есть был в настоящий момент главное действующее лицо, хозяин дома со мной почти не разговаривал, а вел беседу с Горышиным. Конечно, же про лес, глухариные тока, про уток и вальдшнепов, про собак и многое другое. Я было сунулся в разговор, но скоро понял, что тему эту на должном уровне не потяну, вышел из-за стола и переключился на тихую беседу с женой хозяина — очень молодой и очень милой женщиной. От нее узнал, что Виктор ревниво дорожит домом, где прошло его детство, и хочет, чтобы дом попал в руки хороших людей. Покупателей было уже много, но Виктору они не понравились, и он заламывал за дом громадную цену, деньги им нужны для покупки машины.
Короче говоря, пока Горышин вел с хозяином дола беседу на отвлеченные темы, я полностью выяснил обстановку, и теперь оставалось только ждать: «покажемся» мы молодому парню или «не покажемся». То, что Горышин уже расположил его к себе, сомнений не было; но покупателем-то был я, а мой розовощеко-купеческий видок, когда вижу себя в зеркале, у меня самого не вызывает особой симпатии. Наконец хозяин обратил на меня внимание и перешел к конкретному вопросу о деле. Спросил: «Почему вы хотите купить дом именно в Осиновке? У нас продается много домов в других деревнях, и значительно дешевле». Я ответил, что Осиновка самое красивое место на земле, которое довелось мне видеть в своей жизни, а я в душе, извиняюсь за откровенность, чуть-чуть поэт.
Мой ответ, видимо, «показался» хозяину, и уже более приветливо он задал новый вопрос: «Что вам больше всего понравилось в нашем доме?» Я объяснил ему, что более всего пришлась по сердцу мне русская печь, на которой могут спать несколько человек вытянув ноги, — мечта радикулитчика, и, конечно же, просторная светлая горница в три окна, под которыми сливаются Тудор с Куньей. Когда смотришь в окно — будто на теплоходе плывешь по каменистой бурунистой речке. И еще сказал, что мне очень понравилась банька на пригорке с водопроводом и мотопомпой «Кама», потому как я заядлый парильщик; и еще — подпол в доме, в нем так сухо, чисто и можно ходить в полный рост, а засеки такие аккуратные, что руки чешутся по сельской работе. Ну и, конечно же, очаровали меня разноцветные пчелиные ульи в саду, земля-чернозем на приусадебном участке, по более всего — самовар! Двухведерный медный старинный самовар, из которого так хорошо, наверное, пить в саду чай после парной баньки. С медком, конечно…
Я говорил и невольно ощущал в своих словах некую маниловщину, но говорил искренне, а это было главное.
«Что вы думаете делать, купив дом? Чем заниматься?» Я почувствовал, что этот вопрос хозяина — главный. Чем буду заниматься? Действительно, одно дело — иметь желание пить чай с медком после баньки, другое дело — этот самый медок получить. Для этого надо немало трудиться, это может не всякий. Иначе бы все пили чай с медом. Одно дело — радоваться аккуратным подвальным засекам и восхищаться ухоженной землей, другое дело — трудиться на этой земле, выращивать урожай и заполнять им засеки. Короче, парня интересовало: буду ли я трудиться на земле его родителей, поддерживать все в надлежащем виде или намерен только лежать в гамаке, любоваться природой и пить из самовара чай с магазинными сластями. Так я понял его вопрос. И от того, как отвечу на него, зависела цепа покупки, а следовательно: быть или не быть мне домовладельцем. Но у каждого человека имеется основная, главная профессия, которой он занимается. У меня в жизни было много разных профессий, последнее же мое профессиональное занятие — писательство. Дело это, на мой взгляд, не столько хитрое, сколько трудоемкое, изнуряющее. У меня имеется возможность сравнить этот труд с трудом, к примеру, грузчика. Перед тем как уйти на профессиональную писательскую работу, я несколько лет трудился в заготконторе райпо. Даже в осенне-сдаточный сезон отстоять две смены на вагоне с картошкой — детская забава по сравнению с теми же двумя сменами за письменным столом. В первом случае, возвращаясь домой, я чувствовал, как каждая жилочка моего организма хоть и устало, но играет и поет. Или, по выражению медиков, здоровый организм от физической нагрузки испытывает радость физической усталости. Проведя же десять-двенадцать часов за письменным столом в постоянном эмоционально-умственном напряжении без физических движений, организм испытывает одну лишь усталость, ничто в нем уже не играет и не поет. Работа идет на износ, и невольно задаешь себе вопрос: зачем? Не лучше ли, как все люди?.. Но это уже другие вопросы, к покупке дома не относящиеся. На вопрос же Виктора, чем я буду заниматься в его доме, я ответил: писать. Все остальное — пчелы, огород, сад — потом, после работы. Жить в Осиновке буду с весны до осени, а зимой — в Луге. Наконец я рискнул поинтересоваться: сколько же мне будет стоить это удовольствие? Подумав, хозяин ответил, что продаст мне дом за… тысячу рублей. Со всей домашней обстановкой и утварью, с самоваром, лосиными рогами, со старым патефоном и набором пластинок. И все придомные постройки вместе с банькой тоже мои. Вот только ульи с пчелами продаются отдельно. Но если я всерьез займусь пчелами и научусь обращаться с ними и ухаживать за ними, вопрос о цене на пчел не будет главным.
Все это была такая неслыханная удача-щедрость, что я не сразу поверил в нее. Глянул на Горышина, у того покупательским азартом поблескивали глаза, а точнее — уже горел зуб на «мой» дом.
Приобрести дом в Осиновке нам так и не удалось. Деревушка эта очаровала меня настолько, что я пожелал официально зарегистрировать нашу любовь. Официально оформить покупку. Но не тут-то было. Дом купить я мог, но без земли, которая принадлежала совхозу. Дом должен находиться как бы в подвешенном над землей состоянии, а добираться до него я должен был, наверное, на вертолете.
Напрасно доказывал я председателю Медовского сельсовета, затем председателю Холмского райисполкома, затем и в Новгородском облисполкоме, что покупка мною дома в деревне Осиновка ничего, кроме пользы, совхозу и мне, а следовательно и государству, не принесет. Что деревня эта находится на отшибе в междуречье и совхозной технике туда не добраться, а я как-никак стану поддерживать в рабочем состоянии хоть малый клочок приусадебной земли, веками возделываемый крестьянскими руками. И если нельзя слить эти пустеющие приусадебные участки в единое совхозное поле, то и зарастать им давать нельзя, ибо из клочков этих в масштабе государства набегает большое поле, что именно на это указывается в известном постановлении о Нечерноземье. Я буду не за страх, а за совесть помогать чем могу совхозу — косить, сушить, убирать и даже на тракторе могу — имею права. Красноречие мое и ссылки на постановление не помогли. Везде мне отвечали, что имеется соответствующее решение областных властей, по которому не разрешается использовать земли приусадебных участков лицам, купившим дома. Получался замкнутый круг. Конечно же, можно было и мне поступить так, как делают многие: купить избу-дом и ковыряться в земле, никого не спрашивая. Но тогда придется полностью зависеть от таких мужичков, какой появился в «моем» доме в первый же день нашего пребывания в Осиновке. Он был небрит, помят и с красными глазами. Я так и не понял толком, кто он, то ли пастух совхозный, то ли бригадир. Узнав, что мы решили купить дом в Осиновке, он наше решение одобрил, но тут же прозрачно намекнул, что наша спокойная жизнь будет зависеть от него, потому как он в здешней округе за все ответствен, и мы должны его чувства понимать и соображать, что к чему.
Понятно, что жить в деревне и зависеть от подобных «благодетелей» мне очень и очень не хотелось. Вот почему я настойчиво искал официального решения своей мечты. Однажды ответственный товарищ в облисполкоме проговорил, улыбаясь: почему бы, дескать, писателю не переехать из города в полюбившуюся деревню на постоянное жительство; и к народу, дескать, ближе, и проблема с земельным участком решена. Не стал я спрашивать тогда товарища: почему он считает, что, живя в городе, я нахожусь дальше от народа, чем живя в глухой деревушке? Или почему необходимо менять место жительства, чтобы обрабатывать участок земли, до которого у хозяйства не доходят руки. Ничего такого я не спросил, но про себя задумался…
Когда я объявил дома, что решаю навсегда поселиться в деревне Осиновка, чтобы работать в совхозе и писать, а в оставшееся время возделывать приусадебную землю, разводить пчел, рыбачить, париться и пить по вечерам в саду из самовара чай с медом, жена не только не возмутилась, но даже не удивилась особо. Мое увлечение писательством она никогда не разделяла, и потому все ответственные решения, так или иначе влияющие на мою литработу, я принимал самостоятельно. Так было, например, и тогда, когда ушел я с должности литсотрудника в газете работать грузчиком в заготконтору, а до того были еще более крутые жизненные повороты. В подобных случаях супруге оставалось только ответить — со мной она или наши пути расходятся. Конечно же, с одной стороны, это выглядит жестковато, с другой — писательское бытие, на мой взгляд, требует полной ясности и четкости в ответах на любые вопросы. Что ответила супруга на мое предложение сдать городскую квартиру и удалиться в деревню, догадаться нетрудно. Я же сказал: кто не с нами… — и хлопнул дверью.
Но оказалось, что я вновь поторопился сказать «гоп». Официально поселиться в Осиновке я не мог. Как объяснили мне соответствующие должностные лица, деревни, подобные Осиновке, называются бесперспективными, а селиться в бесперспективных деревнях на постоянное место жительства не разрешается…
Сейчас мне самому трудно поверить, что мог решиться на подобный шаг в возрасте более чем зрелом. Да такова, видимо, власть красоты, ей бывают покорны все возрасты.
Сейчас в Осиновке в нескольких избах теплится еще стариковская жизнь. Остальные все — кто в Холм перебрался, кто на центральную усадьбу совхоза. Конечно же, старую избу-развалюху бывает не жалко и бросить и построить новый добротный дом в людном месте или отдельную квартиру в многоэтажном доме получить, где под боком магазин, школа, детский сад-ясли, прочие блага, о которых в Осиновке и думать не могли. Но землю-то из Осиновки на центральную усадьбу не перенесешь. Вон она, земля-то! В тех избах, над которыми еще дымок курится, черной ухоженной полосой к Тудору и Кунье сбегает, почитай, по полгектара возле каждого двора. А возле брошенных изб уже позарастало все. Не доходят у совхоза руки до этого уголка, не дотянуться ему до Осиновки своей техникой. Выгонят сюда стадо коров на лето, несколько стогов сена на зиму сметают — и вся отдача теперь от Осиновки. Поначалу на брошенных приусадебных участках парники под рассаду устраивались, а теперь и это дело заглохло. Развалились парники, позарастали, как старые траншеи. Через несколько лет извечно ухоженные приусадебные земли Осиновки кустарником затянет, исчезнут последние черные полосы.
А может, не давать им исчезать? Хотя бы с помощью тех же горожан, которые рвутся в деревню, в такие вот красивейшие земные уголки. Может быть, не отбиваться от них надо, а привечать? Подсоблять хозяйствам горожанам, обучать их сельскохозяйственному делу, но и обязать их. Чтобы землю приусадебную, совхозно-колхозную, в порядке содержали, чтобы сенокосом хозяйству помогали, свои проселочные дороги, мосты и мосточки в надлежащем виде содержали, да мало ли еще чего. Горожане — они к любому обучению способные. Многие из деревни вышли, тоскует у них душа по сельскому труду, просят нагрузки дряблые от физического застоя мускулы, жаждет душа сельской красоты. Чтобы поддерживали горожане — дачники, пенсионеры, отпускники, дети и родственники их — называй как знаешь — богатейший приусадебный клин отдаленных умирающих деревень до подхода главных государственно-колхозных сил.
Виктор Михайлов так и не продал свой дом в Осиновке. Но разрешил нам с Горышиным жить в доме когда и сколько захочется и даже выделил отдельный ключ от дверного замка. Несколько лет мы пользуемся гостеприимством приветливого холмовчанина, бывая в Осиновке накоротке раза два-три в году.
ЗА ПЕСНЕЙ
В ту весну я уже думал, что глухаря слушать мы не пойдем. Весь апрель я работал в Комарове в Доме творчества. Горышин изредка наезжал туда на воскресенье с семьей отдохнуть. Год начался для него трудно и хмуро: ушло из жизни несколько близких ему людей, давно и тяжело болела мать, не писалось…
Он бродил по причесанному курортному лесу, спускался к заливу, ладил на прибрежном песке костерок из плавника и сучьев, сбитых морским ветром с сосен. Подолгу смотрел на огонь, на залив, молчал. Потом и вовсе пропал, не появлялся.
Кончился апрель, минули первомайские праздники, пора было расставаться со своей писательской кельей в Комарове, собираться домой в Лугу. И вдруг звонок, в телефонной трубке глухой медлительный голос Глеба: «Боря, послушаем глухаря?»
Через час я был у него в Ленинграде. Горышин встретил меня с рюкзаком за плечами, из которого торчало зачехленное ружье. В руках у него была авоська с апельсинами. «Заедем к матери», — сказал Глеб.
У матери Горышин пробыл недолго, я ждал его в машине. Он вышел из дома матери с серым, постаревшим лицом. Сел за руль, сложил на баранке громадные свои лапищи и словно забыл, зачем сел.
— Куда поедем? — спросил я.
— В Новгородчину.
Тогда я не знал еще, что Новгородчина — родина его матери, а он не знал, что видел мать живой в последний раз.
За три часа мы домчались до Луги. По старой армейской привычке походный рюкзак мой, как в свое время «тревожный» чемодан, всегда собран, и на сборы в любой уголок Союза мне требуется не более десяти — пятнадцати минут. Вот только ружья у меня нет и никогда не было, хотя стреляю я не хуже Горышина. Умение осталось с той еще поры, когда очень важным казалось быть первым — в стрельбе ли, в борьбе ли, в иных молодецких забавах.
Хорошее это дело, машина. Быстро, удобно, никаких дорожных хлопот. Раньше на путь от Ленинграда до Холма через Лугу мы тратили неделю: поезд, автобус, катер, попутки, пеший ход. Теперь же на весь тысячекилометровый колесный путь затрачиваем сутки, на ходьбу до тока — тоже сутки. Но автомобиль, как и всякий комфорт, имеет и свои отрицательные стороны. Езда в индивидуальном автомобиле никогда не порождает той душевной близости и полного взаимопонимания, какое возникает, например, в кузове попутного грузовика. Трясешься ночью под брезентом мокрый, усталый, на ухабах лоб в лоб с приятелем сталкиваешься: и так тебе хорошо, что едешь, а не пешком идешь, что шофера-водителя, подобравшего нас на глухой лесной дороге, обнять хочется. И разговор под брезентом всегда самый искренний, и анекдот самый сочный, и любой юмор на душу ложится…
Конечно же, чтобы поохотиться на глухаря или песню этой древней птицы послушать, не обязательно в другую область за тысячу километров тащиться. Глухариные тока и в нашем Лужском районе пока еще, слава богу, не перевелись. Подчеркиваю: пока! Свыше пятидесяти глухариных токов сейчас в нашем районе, но количество глухарей на них только за последние семь лет снизилось почти вдвое. Главная причина этого не в браконьерах и тем паче не в охотниках, хотя и они свою лепту вносят. Глухарь — птица осторожная, любит глухие, безлюдные места. А где сейчас найти глухое, безлюдное место в районе, до которого от Ленинграда два часа на электричке? Вот и приходится глухарям покидать свои извечные места токовищ. А поскольку птица эта в своих привязанностях консервативная, то, если вырубили люди участок леса, где токовала она и ее предки, к новым местам глухари уже привыкнуть не могут. Сейчас в районе нашем все больше и больше охотничьих угодий под заказники отходит, где охота на глухарей запрещена. Ленинградский областной Совет народных депутатов еще в 1968 году решение вынес, по которому запрещена рубка и подсечка леса в местах глухариных токов, но… Технический прогресс — процесс неотвратимый. Строятся новые поселки и дороги, окультуриваются земли, вырубаются леса. В 1974 году в Лужском районе насчитывалось 2130 глухарей, в 1980 году — 1460. Если снижение поголовья этой древней птицы будет продолжаться такими же темпами, глухарям осталось петь в лужских лесах совсем недолго. Самое бы время, казалось, охотникам подсобить птице, начисто отказаться от охоты на нее, ан нет! Бьют глухаря всласть. Охотники — по лицензиям, браконьеры — без лицензий. Да вон они, охотники, легки на помине!
Мы ехали по шоссе Луга — Новгород. Шоссе это проложено в лесах сравнительно недавно и по-современному — минуя населенные пункты. Тихое шоссе, маломашинное, малолюдное. Но сейчас повсюду на обочинах стояли легковые машины, а рядом — люди с ружьями в руках. Некоторые охотники сидели в машинах, приоткрыв дверцы, держа ружья на коленях, слышалась музыка. Впереди грохнул выстрел, за ним дуплетом еще и еще, потом на шоссе выкатилась черная лохматая собачонка, и Горышин, резко крутанув руль, едва увернулся от нее.
— На кого они охотятся, — спросил я, — на уток, что ли?
— На вальдшнепа, — пояснил Глеб, — на вечерней тяге стоят.
До самого Новгорода — почти девяносто километров — стояли машины на вечерней вальдшнеповой тяге.
— Жуткое дело такая охота, — проговорил Горышин.
— Жуткое.
В «лесных» повестях, рассказах и очерках Глеба Горышина немало метких (авторских) выстрелов, набитой дичи, пойманной рыбы. Может быть, может быть… Во времена его юности. Когда, как пишет Горышин в предисловии к своей книге «Запонь», «ушлые лодейнопольские мужички добывали за весну на токах столько глухарей, что солили их в бочках. В Карелии колхозники сдавали глухарей в счет мясопоставки — килограмм глухарятины за два говядины…»
Над рабочим столом Горышина висит на стене фотография, на которой запечатлен Горышин-охотник с убитым глухарем в руках. Фотоснимок этот Глеб выполнил самолично — с автоспуска. Фотография получилась на редкость интересной, я бы даже назвал ее художественным автофотопортретом писателя. Автофотопортрет этот, на мой взгляд, символичен. Он олицетворяет собой сегодняшние «лесные» заботы и тревоги Горышина-писателя.
На снимке — уголок глухой лесной чащобы. Замшелые пни-кочки плавают в легком предутреннем туманце, старые поваленные деревья прикрылись густым покрывалом из сучьев, литые стволы корабельных сосен тянутся к небу, и сквозь кроны их пробиваются первые солнечные лучи. В центре этого лесного дива стоит высокий простоволосый человек в болотных сапогах с бывалыми мушкетерскими отворотами. На груди человека висит ружье, в руках он держит мертвую птицу и внимательно рассматривает ее. Головка птицы, увенчанная крошечной зубчатой короной, свисает с его ладони, черное крыло веером сбегает по голенищу до самой земли. Поначалу кажется, что охотник просто-напросто любуется своим трофеем. Но нет, у человека на снимке отсутствует поза удачливого охотника, человек задумался, он словно бы забыл, что стоит под объективом фотоаппарата. Во всем его обличье нет еще откровенного сожаления о содеянном, но нет уже и радости от убийства.
Человек на снимке опустил голову. Сосны отшатнулись от него, туман выскользнул из-под ног, и даже солнечные лучи сторонятся его, а тянутся к птице, словно пытаясь поддержать ее крыло, приподнять. Каждый сук, травинка, замшелый коряжистый пень осуждающе смотрят на человека и как бы спрашивают: «Зачем ты это сделал, человек? Ради чего лишаешь красы и жизни природу, обкрадываешь себя? Миллионы вас, людей, никогда не видели и не слышали нашей доброй красавицы певуньи, не наблюдали ее брачных танцев, ее бойцовских турниров. Ради чего ты убил ее? Ради сомнительной радости охотничьего азарта или ради малого куска птичьего мяса? Разве насытишь ты им свою утробу? Почему ты так безжалостен к нам, человек? Почему ты так глуп?!»
Человек на снимке безмолвен. Он стоит среди природы чужой и черный, как высокий обгоревший пень. Только на груди его, на курках ружья — крест солнечного блика. Солнечное светило ставит крест на его оружии, запрещает человеку вход с ним в природу, угрожает ему чернотой.
Удивительный снимок! Я всегда вспоминаю его, когда вижу Горышина с ружьем или читаю его «лесные» книги. За годы, что бродим мы с ним по лесам и болотам, мне еще не довелось увидеть, чтобы он кого-нибудь убил или поймал. По крайней мере, за последние десять лет (утверждаю смело) ни капли птичьей или звериной крови на его совести нет. Когда же я предлагаю ему в напарники знающего заядлого охотника, он хмуро буркает: «Я не люблю заядлых охотников».
Но, как всякий бывалый ходок-ружьеносец, Глеб Горышин может поднапустить у лесного костра немало охотничьего тумана, в котором даже знатоку-специалисту трудно отличить быль от небылицы.
В Холм мы приехали глубокой ночью. Районный городок Холм, расположенный при впадении реки Куньи в Ловать, очень похож ночью на большое село. Но городом он был назван впервые Стефаном Баторием еще в конце шестнадцатого века, когда вернулся Холм по Запольскому миру к Москве. Много раз Холм разрушался и выжигался дотла, страдал от моровой язвы и прочих бед, но вновь прорастал на крутом берегу Ловати. Последнее возрождение этого многострадального городка произошло после Великой Отечественной войны.
Двадцать минут хода по спящим улочкам Холма, и городок остался позади. Небо над лесом светлело, близился рассвет. Неожиданно идущий впереди Горышин остановился, и я едва не наткнулся на его рюкзак.
— Пропала дорога, — проговорил Глеб, оглядываясь по сторонам. — Никак опять заблудились.
Мы принялись искать исчезнувшую тропинку. Подобное произошло с нами прошлой зимой, и на этом же месте. Снежная тропа таинственно исчезла, и мы заблудились в ночном лесу. Долго плавали в темных сугробах, пока наконец не вышли на спасительницу Кунью, которая и вывела нас к Осиновке.
На этот раз тропинка отыскалась быстро, и, перейдя речку по узкому подвесному мосту, мы через час вступили на деревенскую улочку «моей» Осиновки. Все вокруг стало быстро проясняться, высвечивать туманным рассветом покинутые деревенские избы. А вон под угором, где темнеет Кунья, сливаясь с Тудором, и «мой» дом!
Как все же быстро стареют дома без ежедневного хозяйского пригляда! Еще быстрее, чем люди. Совсем недавно этому смолистому красавцу в нарядных белых наличниках, казалось, не будет износу. И вот он уже потемнел, осел, скособочился. А банька и вовсе набок прилегла, трубы нет, котел из двери выглядывает. А земля-то возле дома, земля! Словно и не сбегала она жирной ухоженной полосой к Тудору. Позарастало все вокруг, затянуло безлюдьем.
— Пару часиков вздремнуть требуется, — проговорил Горышин, — иначе до тока сегодня не дойдем.
Мы подошли к дому. Я нащупал в укромном уголке возле двери ключ, висящий на гвозде, и вдруг увидел в окне тень. Что-то звякнуло внутри дома, раздался крепкий мужской голос:
— Что вам надо? Здесь живут.
Мы объяснили голосу, кто мы и зачем пришли, человек в свою очередь пояснил нам:
— Дом этот куплен мною. Я из Ленинграда, из Института метрологии. Все дома в Осиновке куплены нашими, институтскими…
Как ни горько было сознавать, что у нас нет больше пристанища в красивейшем уголке Новгородчины, мы уходили из Осиновки с чувством некоторой надежды. В деревне поселились люди…
Дальнейший наш путь лежал за Тудор, но через него надо было еще переправиться. Ближайший мост находился очень далеко, и мы двинулись по берегу реки искать брод. Летом Тудор — тихая сонная речка, неторопливо журчащая в зарослях ракитника и ольхи, весной Тудор преображается. Поднимается в крутых берегах, кипит, беснуется, покрывается хлопьями белой пены, как загнанная лошадь. Лавиной летят по Тудору вырванные с корнями кусты, деревья, все, что держится на воде, и перебраться через него — проблема. Той весной Тудор был особенно полноводен и шумлив. Брод, где летом переходили мы речку по щиколотку в воде, исчез. Оставался один путь — по тросам. Переправа эта через Тудор доставила нам немало хлопот, заставила поволноваться, и о ней стоит рассказать подробнее.
Кто, когда и зачем натянул два металлических троса через реку — неизвестно. Скорее всего, здесь некогда находился подвесной мост. Мост сгнил, рассыпался, остались два ржавых троса, соединяющие высокие берега Тудора. Тросы натянуты один над другим на расстоянии полутора метров. Так что, двигаясь по нижнему тросу, за второй можно держаться, он скользит по груди. Держать равновесие в таком положении да еще с рюкзаком за спиной трудно. Нижний трос под ногами «играет», а верхний — словно качели, за которые держишься руками. По этому шаткому приспособлению необходимо пройти, прокачаться, прокувыркаться и проползти до противоположного берега метров шестьдесят. Все это на достаточной высоте и над стремительным пенистым потоком.
Горышин первым взобрался на трос и, сделав по нему несколько шагов, вдруг принялся выделывать такие кренделя а пируэты, что я схватился за живот от хохота. Пятясь, Глеб возвратился на прежнее место и, присев на пенек, закурил. Потом проговорил раздумчиво:
— Нда… Голова кружится, видать, вестибулярный аппарат барахлит.
Повторное восшествие Горышина на тросы прошло увереннее. По тросам он начал скользить легко и даже непринужденно. Приседая, вытягивал по тросу ногу в громадном резиновом сапоге, переносил тяжесть тела на эту ногу, подтягивал вторую. Рюкзак на его спине дыбился верблюжьим горбом и, казалось, вот-вот опрокинет его в воду. Но пока Глеб уверенно держал равновесие и даже мурлыкал мотивчик. Мне подумалось, что он без затруднений достигает противоположного берега, как вдруг над серединой реки трос под ногами Горышина дернулся и «заиграл». Теперь было уже не до смеха. Рухни Глеб в воду, ему вряд ли чем можно будет помочь. Выбраться на берег из кипящих бурунов, завалов камней и сучковатых деревьев в полном походном снаряжении просто невозможно. Я метался по берегу, кричал что-то, подсказывал, советовал сбросить рюкзак и ружье, но Горышин не слышал меня. Нижний трос вылетал у него из-под ног, и он повисал на руках. Громадное тело Глеба начинало дергаться, брыкаться, ловить ногами опору. Поймав ногами трос, он начинал выпрямляться на нем и вдруг валился грудью на верхний трос, повисал параллельно речному потоку. Я невольно зажмуривался, а когда открывал глаза, Горышин уже сидел на нижнем тросе верхом, держась руками за верхний, отдыхал… Когда же наконец он достиг желанного берега, у меня от напряжения свело судорогой икры ног. Растерев икры ладонями, я полез вверх к тросам.
Наступала моя очередь «повеселить» товарища…
Переправившись через Тудор, мы решили выспаться, а уж потом продолжить путь. Развели на берегу костер, напились горячего чая и улеглись спать на кучу старого хвороста. Мне показалось, что я только-только закрыл глаза, как Горышин толкнул меня в бок: «Пора!»
Мы двинулись по едва заметной лесной тропинке. Теперь справа от нас остался берег Куньи, а путь наш лежал в направлении к Русскому озеру. Несколько раз в разные года пытались мы самостоятельно добраться до Русского озера, о котором много интересного слышали от старожилов здешних мест и охотников, но сделать этого без проводника не могли. Точной карты у нас не было, а озеро, из которого берет исток река Порусья, таилось в коварно-девственных болотах. На сей раз мы не ставили перед собой задачи дойти до Русского, глухариный ток находился значительно ближе — где-то на стыке трех областей: Новгородской, Псковской, Калининской.
Весь день мы шли глухим болотистым лесом, с трудом отыскивая ориентиры, указанные Виктором еще в прошлом году. К вечеру набитая звериная тропа вывела нас к небольшому озерцу, берега которого были сплошь изрыты кабанами. Вдоль озера тянулась невысокая песчаная гряда; понижаясь, она растворялась в обширном болоте, поросшем сосной и елями, заваленном подмытыми сучкастыми деревьями. Здесь-то и должен был находиться глухариный ток.
Мы принялись обследовать мшистые кочки, густо усыпанные журавлинами — так местные жители зовут сладкую подснежную клюкву, и тотчас же наткнулись на кучки глухариного помета.
— Ток здесь, — уверенно произнес Глеб, — табор будем ставить на косе у озера.
Табор — охотничью стоянку — мы оборудовали быстро. Натаскали сушняка для костра на всю ночь, наломали елового лапника для лежака, натянули над пышным зеленым ложем полиэтиленовую пленку — на случай дождя.
— Солнце садится, пойду на подслух, — проговорил Горышин и взял в руки ружье.
— Не заблудись в болоте. Мне и сигнал подать нечем.
— Костер побольше разведи и супец свари.
Горышин ушел, растаял тихо в вечерних сумерках, которые сгущались над болотом. Я знал, что на заходе солнца глухари прилетают на ток и, рассаживаясь по деревьям, шумно хлопают крыльями. В тихий вечер хлопанье слышно далеко. Остается только запомнить место, где сел глухарь, а на рассвете, когда птица запоет, или по-местному — заиграет, быть тут как тут. На вечернем подслухе случается, что глухарь усаживается неподалеку от осторожного охотника, и тогда охотник должен замереть в том положении, в каком застал его прилет. И так стоять дотемна, пока птица не уснет, а уж потом бесшумно уходить. Глухарь — птица очень чуткая, хотя и подслеповатая малость. Стоит ей заподозрить неладное, и утром она может не запеть, не заиграть. Не знаю почему, но я был убежден: нынче глухариную песню мы не услышим, тем паче не отведаем супца из глухарятины, запоздали. У меня с собой была леска с крючками, можно было попытаться поймать рыбешки в озере на ушицу, но устал. Разводить костер еще рано, а на супец из концентрата достаточно и нескольких минут. Кажется, я задремал, лежа на лапнике, ибо вдруг что-то заставило меня поспешно открыть глаза. Хорошо, что я не двинулся с места, не шелохнулся, иначе никогда в жизни не видать бы мне того чуда. Передо мной на земле стоял глухарь! Тогда я еще не знал, что глухари иной раз не прилетают на ток, а приходят, как домашние петухи. С тем большим изумлением смотрел на птицу, а она — круглым любопытствующим глазом — на меня. Со сложенным хвостом и крыльями глухарь совсем не казался большим, чуть покрупнее обычного петуха. Наглядевшись на меня, глухарь покрутил головой по сторонам, склюнул что-то у себя под лапами и неторопливо, вперевалочку направился в ту сторону, куда ушел и Горышин. Мне сделалось очень весело, и я подумал: хорошо бы к приходу охотника сварить из этого петуха-ходока супец. Вот был бы сюрприз!
Темнело. Я разжег костер, сбегал к озеру за водой, приладил котелок над огнем и стал поджидать товарища. А Глеб все не возвращался. Где он бродит сейчас по болоту и как найдет в ночном незнакомом лесу обратную дорогу к табору, для меня оставалось загадкой. Стоит, наверное, где-нибудь под деревом в той позе, в какой застал его прилет глухаря, — изображает из себя корягу. Он может часами так стоять, пока не стемнеет, потом — и что более удивительно — бесшумно уйти по хворостяным завалам, не потревожив чуткого сна осторожной птицы. А на рассвете, когда глухарь заиграет извечную песню любви и в упоении жизнью забудет про опасность, человека поведет к птице такой же извечный, как и сама любовь, инстинкт охотника и еще что-то, одному ему ведомое.
Совсем близко жутковато простонал, проухал филин. Ему откликнулся с болота тонкий прерывистый голосок — наверное, заяц. Резко и сухо проскрипел дергач, проблеял козодой, у озера стонали соловьи. Где же Горышин, неужто заблудится? Крикнуть бы, да нельзя, рядом ток. Шум может потревожить птиц, и тогда утром мы не услышим песню. А может, Глеб на дерево взобрался, костер высматривает?
Я подбросил в костер сухих сучьев, пламя взметнулось к вершинам елей и вдруг высветило из темноты фигуру идущего человека. Наконец-то!
— Прилета не слыхал, — проговорил Глеб, сбрасывая с плеча ружье, — видать, запоздали мы нынче. Отыграли весну глухари. Может, утром и запоет какой поздний.
Мы похлебали из котелка супа-концентрата и улеглись возле костра на ложе из лапника. Иногда у костра мы не спим всю ночь, ведем разговоры, а иногда, вот как тогда, молчим. Горышин завернулся с головой в дождевик и лежит возле огня коряжистым выворотнем. То ли спит уже, то ли молча ждет рассветного часа. Будить его никогда не требуется, ровно в два часа ночи он поднимется и растворится в лесу.
До рассвета осталось немного. Звезды на небе прояснились, покрупнели, приняли красноватый оттенок, их стало трудно различать с искрами от костра — верный признак приближающегося утра. Все вокруг притихло, затаилось, только костер потрескивал и пошевеливал темноту да соловьи у озера не могли угомониться. Я лежал, затаив дыхание, и, кажется, слышал, как мерно дышит, постукивает подо мною земля. Наступили те самые минуты, ради которых и проделан этот дальний путь. В рассказе «Грибы поздней осени» Глеб Горышин так описывает свое мироощущение у костра ночного табора в лесной глубинке:
«Сна не было ни в одном глазу. Я жил этой ночью, лесом, весной, слушал ночь, дышал ее свежестью, грелся у ее огня, и мысли приходили такие (жаль, не на чем было записать), как в юности. Я думал, какое мне выпало счастье родиться вот в этой стране, где можно вдруг потеряться в лесу и остаться один на один с мирозданием на целую ночь…»
Небо светлело. Звезды и искры играли друг с другом, казалось, что земля мчится, летит куда-то и ты — на ее вершине. Подобное ощущение возникает у меня всегда, когда долго-долго смотришь в предрассветное небо неподалеку от озера с символичным названием Русское. В этих краях берет исток пушкинская Сороть; сливаясь с Великой, омывает она древний псковский край, наполняет Псковское и Чудское озера, разливается далее по земле. Из Русского озера выбегает Порусья, спешит в другую сторону — по Новгородчине, сливается в Старой Руссе с Полистью, их принимает в себя Ловать, седой Ильмень. И далее — по Волхову, Ладоге, Финскому заливу воды Русского озера выходят в океан, омывают весь земной шар…
В ту весну мы так и не услышали возле Русского озера песни глухаря. Весна опередила нас. Домой мы возвращались тем же путем. Шли быстро, почти без привалов. Глеб нервничал, спешил, он как будто предчувствовал беду. В Лугу мы приехали поздно вечером, и я с трудом уговорил Горышина остаться у меня переночевать. Наконец он согласился, но попросил заказать телефонный разговор с домом. Разговор дали неожиданно быстро. Глеб взял трубку, сказал: «Это я…» И вдруг опустил трубку на колени, посмотрел на меня пронзительно-звенящим взглядом, проговорил тихо: «У меня умерла мать».
Похоронили Анну Титовну Горышину, уроженку Новгородчины, великую труженицу, мать и жену, как и положено на Руси. В час грустного поминального застолья каждый сказал о ней доброе слово. Мне особенно запомнились слова пожилого слепого человека — дяди Павла, брата отца Горышина. Собравшиеся слушали его с особым вниманием, по всему чувствовалось, что человек этот имеет особое право сказать об Анне Титовне. Дядя Павел поднялся из-за стола, тяжело и трудно дыша, долго собирался с мыслями, смотрел незрячими глазами куда-то вдаль. Потом вытянул руку, и сын вложил в его пальцы поминальную стопку.
— Перед войной, когда я вышел из тюрьмы, — начал дядя Павел, — я подумал: куда пойти мне? К кому пойти? Я подумал так и пошел к Анне Титовне. Она приняла меня, накормила, уложила спать. Спасибо тебе, Анна Титовна, за все. Со скорым свиданьицем.
Вот и вся дословно запомнившаяся мне поминальная речь слепого, тяжело дышащего человека. И я подумал вдруг: что питает корни творчества Глеба Горышина? Наверное, та земля, по которой только что прошли мы с ним и в которую навсегда ушел самый близкий и дорогой ему человек — мать. Наверное, такие люди, как этот слепой брат его отца, от которого идет поразительное умение Горышина-писателя выразить несколькими будничными словами все очень важное в этом мире: людскую боль, надежду, веру в человека. И еще любовь. Любовь к людям, к земле, к жизни.
ОЧИЩЕНИЕ
Зачем писателю заниматься публицистикой? Зачем разбрасываться? Все эти писательские посты на крупнейших стройках Сибири, Дальнего Востока, Севера — кому они нужны? Читателям? Да. А писателям? В конце концов существуют публицистика и художественное творчество, у них свои особенности, свои законы. Стоит ли писателю хотя бы на время превращаться в журналиста и не принесет ли ему это превращение больше вреда, чем пользы?
Вопросы эти нередко можно слышать в писательской среде (особенно среди молодых писателей). Ответы на них бывают отнюдь не однозначные. Я и сам не раз задавал себе вопрос: зачем писателю, тому же Глебу Горышину, заниматься публицистикой? Сколько времени и сил затратил он, к примеру, на небольшую книжечку «Вид с горы», вышедшую недавно в серии «Писатель и время». Это неторопливый и обстоятельный рассказ о людях совхоза «Красная Балтика» Ломоносовского района, о замечательном сельском труженике агрономе Александре Федоровиче Петрове. Не раз и не два бывал Горышин в совхозе «Красная Балтика» — он ездит туда из года в год, подолгу живет в селе Гостилицы, подолгу слушает рассказы Александра Федоровича о земле, о жизни, наблюдает за его работой. А не в ущерб ли подобная расточительность Горышину-писателю? Не обокрал ли он своих читателей, лишив их возможности насладиться несколькими своими рассказами или повестью, дав взамен публицистическое произведение, очерк? Для Горышина, как и для всякого писателя, наверное, куда интереснее создать собирательный образ того же агронома в художественном произведении, чем документированное жизнеописание конкретной личности. Почему же он занимается этим? Почему с таким упорством и ненасытностью ищет привлекательных людей именно для своего публицистического пера?
Недавно я вдруг нашел четкий ответ на этот вопрос. Нашел, по крайней мере, для себя. Думается, что он как-то относится и к Горышину, и ко всякому иному литератору.
С возрастом начал я замечать за собой, что какой-то душевный очистительный «фильтр» во мне порой не срабатывает. На печень, почки и прочие «очистные» органы не жалуюсь, а вот «душевный фильтр», если можно так выразиться, забарахлил. Нельзя сказать, чтобы раньше совсем уж не обращал я внимания на взгляд косой, слово грубое, анонимку злобную или напраслину какую, на обман, равнодушие. Но как-то быстро очищалась душа от нехорошего осадка. А, ладно, думаю, все мы люди, все мы человеки, не без слабостей и недостатков. Терпимее друг к другу относиться надо. Ведь ежели всю скверну от отрицательных эмоций в себе копить, эдак и в «желтый дом» попасть можно или человеконенавистником стать. Подумаешь так, порассуждаешь с философинкой и очистишься душой. Вновь живешь с хорошим настроением и на людей исподлобья не глядишь.
С годами от отрицательных эмоций все труднее и труднее освобождаться. Не срабатывает «фильтр», не очищает от всевозможной житейской скверны.
И вдруг телефонный звонок Глеба Горышина:
— Боря, познакомился с интересными людьми. Хочешь поехать?
И сразу словно воздуха свежего глотнул. Конечно же хочу! На этот раз в машине рядом с Горышиным сидел невысокий, спортивного вида человек средних лет.
— Виктор Комлев, — представился незнакомец.
Где-то я слышал эту фамилию, но сразу вспомнить не смог. Есть люди, по внешнему виду которых можно угадать многое: профессию, характер и даже мир увлечений. О Викторе Комлеве я подумал так: увлекается футболом, служил на флоте, сейчас тренер по легкой атлетике. Мужик компанейский, надежный. Характер не то чтобы спокойный, а скорее, выдержанный: добрый семьянин, долги возвращает, от жизни никогда не устает.
Как выяснилось позже, я не слишком ошибся. Не угадал только возраст нового знакомого. Выглядел Виктор Комлев лет на десять моложе своих лет. Профессия у него была редкостная, но со спортом связанная — жонглер на проволоке. Виктор действительно увлекался и до сих пор увлекается футболом, всю блокаду провел в Ленинграде и успел повоевать. Закончил войну старшиной на торпедном катере.
Все это я узнал от самого Виктора Комлева, пока мы выбирались на машине из Ленинграда по правому берегу Невы.
И тут я наконец вспомнил, где слышал имя Виктора Комлева. Однажды в разговоре Глеб Горышин упомянул мельком про комсомольский противопожарный полк, действовавший в блокадном Ленинграде. Полк этот отдельными взводами был разбросан по всему городу. Он тушил пожары, нес противопожарную охрану важнейших административных зданий и объектов. Служили в нем, в большинстве своем, комсомольцы, вчерашние ленинградские школьники. Одним из них и был Виктор Комлев, которому в ту пору только-только исполнилось семнадцать лет. В блокадную же зиму Виктор Комлев побывал на лесозаготовках, которые велись в пригородных лесах, зачастую в двух-трех километрах от линии фронта. В ту пору дрова и строевой лес для укреплений нужны были осажденному городу так же, как хлеб и боеприпасы. Работали на лесозаготовках в основном женщины и девушки-подростки. Обессиленные голодом, не державшие прежде в руках пилы и топора, они выполняли работу, которая не всякому здоровому мужчине была по плечу. Понятно, что умение и сноровка пришли к женщинам не сразу, а позже, когда освоили они лесозаготовительное дело и поокрепли на лесном пайке. Пока же осваивали они лесную науку, много их полегло от голода, увечий, артобстрелов. Но уже осенью сорок первого года в осажденный город пошли первые эшелоны с дровами из Всеволожского района, по которому пролегла легендарная Дорога жизни. Лесозаготовительные конторы стали действовать в Борисовой Гриве, Мельничном Ручье, а затем во многих других местах. Осенью же сорок первого года исполком Ленгорсовета принял решение о месячнике по заготовке дров. Каждый ленинградец обязан был заготовить в месяц четыре кубометра дров: два — для предприятия, два — для себя. Выполняя это решение, Виктор Комлев и побывал в ту пору на лесозаготовках, там он увидел работу ленинградских лесорубок…
И вот прошло около трех десятилетий. Из всего пережитого и виденного в жизни особенно запали в память Виктору Комлеву они, блокадные девчонки-лесорубки. Уже много лет Комлев, возвращаясь из гастрольных поездок по стране, разыскивает оставшихся в живых лесорубок, будоражит людскую память.
Вот, пожалуй, и все, что я вспомнил об этом человеке из рассказа Горышина. Да, и еще: доводилось встречать мне в ленинградских газетах обращения Комлева к бывшим блокадным лесозаготовителям — чтобы те откликнулись, дали о себе знать по такому-то адресу…
Видимо, мы ехали на встречу с кем-нибудь из них, откликнувшихся. Иначе зачем было судьбе сводить вместе таких непохожих людей: невысокого, разговорчивого Виктора Комлева, жонглера, и высокого неразговорчивого Глеба Горышина, писателя. Первый много лет разыскивает людей, чей лесной блокадный труд памятен ему даже через треть века после войны; второй много лет создает художественные и документальные произведения о людях, чья судьба так или иначе связана с лесом — суровым лесом военной поры и лесом сегодняшним, нуждающимся в защите. Кому, как не Глебу Горышину, писать о них! Дед его гонял барки, груженные березовым швырком, по Ловати и Поле, по озеру Ильмень, по Волхову — в Питер. Отец его начал свою трудовую лесную жизнь в семнадцать лет помощником лесничего, в двадцать два года стал директором леспромхоза, а в военную пору — управляющим треста «Ленлес». Тем самым управляющим, под чьим прямым началом трудились блокадные лесорубы.
Я не был знаком с отцом Горышина, но имя его слышал. Его помнят лесовики и в нашем Лужском районе — в Оредеже, Осьмине, Луге. Бывая с Глебом Горышиным в разных уголках Новгородчины, Псковщины, Ленинградской области, мне частенько приходилось слышать от пожилых людей обращенный к нему вопрос: «Александр Иванович Горышин не родственником вам доводится?» И когда они, эти люди, узнавали, что перед ними сын Александра Ивановича, мы становились их желанными гостями. Так было, к примеру, совсем недавно в Холмском районе Новгородской области. Лесная тропа вывела нас к поселку лесорубов Чекуново. Зашли мы в дом, оказавшийся домом начальника лесоучастка Синекова Аркадия Васильевича, разговорились, и вскоре последовал вопрос об Александре Ивановиче Горышине…
В предисловии к своей «лесной» книге «Запонь» Глеб Горышин со свойственной ему простотой написал об отце:
«Мой отец, совершив восхождение по служебной лестнице, от дровосека до «короля дров», не удержался на верхней ступеньке. Чего-то ему не хватило — образования или каких-нибудь статей. Тогда я не мог разобраться в моем отце. Отец вернулся на круги своя, в дровосеки. Он работал теперь в леспромхозе, в Лодейном Поле. (Впоследствии совершил еще одно восхождение.)
Насколько я помню, отец мой на всех ступеньках своей — с подъемами и спусками — карьеры грешил безудержностью натуры и еще поистине беспредельной простотой. Он предавался радостям дружества сверх всякой меры: с лесорубами, сплавщиками, заготовителями, снабженцами, рыбаками, охотниками, фанерщиками, пивоварами, закройщиками, плотниками — бог знает с кем он только не дружил, не пировал.
Это свойство характера, такую вот простоту, я унаследовал от отца. Отцу она, может быть, помешала продвинуться выше по лестнице, зато мне помогла. У Омара Хайяма есть строчка-завет: „Дорожи своими друзьями, но пуще дорожи друзьями отца“. Именно отцовы друзья, рыбаки-лесники-сплавщики, и ввели меня, повзрослевшего, кое-что ужо написавшего и жадно ищущего предмета для новых писаний, в свой мир рыбачества, лесорубства, лесосплава и лесоводства. Лесной, речной, озерный, болотный, деревянный, избяной мир стал миром этой книги, а лесники-рыбаки-сплавщики — ее героями…»
Ленинград остался позади, наша легковушка мчалась по слепящему глаза шоссе, только что умытому проливным майским дождем. Навстречу все чаще и чаще попадались тяжелые машины, груженные красным кирпичом. Справа поблескивала Нева, слева в легкой зеленой дымке тянулось мелколесье.
— У кирпичного завода сверните, — проговорил Комлев. — Заедем в Свердловский сельсовет, с Леонтием Кирилловичем поговорим.
Только после беседы с председателем Свердловского сельского Совета Леонтием Кирилловичем Федюковичем для меня наконец полностью прояснилась цель нашей поездки. Предположение мое, что поездка эта связана каким-то образом с лесозаготовками времен войны, подтвердилось. Узнал я следующее.
В августе 1942 года у лесозаготовителей Невского лесопункта был праздничный день. Они не только справились с плановым заданием заготовки и вывозки дров и строевого леса для Ленинграда. Отдельные участки превзошли выработку знаменитых вологодских лесорубов-профессионалов. Виктор Комлев разыскал в архивах кинопленку, на которой запечатлен был Герой Советского Союза летчик Преображенский, вручавший невским лесозаготовителям переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. Торжество это происходило в поселке Ириновка, где до сих пор живут некоторые из них. Из Ириновки женщины-лесорубки разъехались по своим участкам, где их ждал «праздничный обед». Собирались к праздничному котлу и лесорубки участка Южная Самарка. Получали от мастера Раи Никитиной талоны на обед, выстраивались в очередь к полевой кухне, которая стояла под открытым небом. А до линии фронта было всего два километра…
Видимо, немцы кое-что знали. По словам очевидцев, переживших тот артобстрел, второй или третий снаряд лег прямо в котел, а остальные накрыли очередь, барак, баню… Погибло девчонок много. Похоронили их в общей сестринской могиле там же, в Южной Самарке. После войны Южная Самарка исчезла — осталось одно только название. Могила блокадных лесорубок затерялась.
Виктор Комлев решил отыскать могилу и обратился через ленинградские газеты к очевидцам тех далеких событий с просьбой откликнуться. Отозвались многие, в том числе и сестры Ждановские — Анна и Нина, живущие в Островках. Сейчас одна из них — Максимова, другая — Полонейчик. Сестры Ждановские и показали Комлеву место в Южной Самарке, где многие годы назад были похоронены их подруги. Потом была создана официальная комиссия, в которую вошли представители сельского Совета, военкомата, других государственных и общественных организаций. Комиссия, как указано было в акте, «произвела вскрытие захоронения…». Сестры Ждановские не ошиблись.
Мы подъехали к деревне Островки, что раскинулась на крутых уступах правого берега Невы возле Ивановских порогов. В этом месте Неву делит на два неравных рукава небольшой остров, на котором расположен рыборазводный завод и высятся жилые дома. На этом заводе работают и сестры Ждановские. Выйдя из машины, мы спустились к воде. Как попасть на остров? Пожилая женщина, проходившая мимо, посоветовала: «Покричите, с острова пришлют лодку». Мы стали кричать, махать руками, — и впрямь от островного берега отвалила лодка, в которой сидели двое.
— Они, сестры, — проговорил Виктор Комлев, вглядываясь в приближавшуюся лодку, — Анна и Нина.
Обе женщины в лодке были одеты в одинаковые, защитного цвета, брезентовые куртки. Сидевшая на корме женщина, видимо узнав Комлева, помахала нам рукой. Ее сестра гребла, не оглядываясь, короткими, уверенными и мощными гребками. Лодка быстро пересекла протоку и ткнулась носом в береговой песок. Виктор Комлев с прибаутками стал помогать женщинам выбираться из суденышка.
С интересом разглядывал я сестер. Это были те самые настоящие блокадные лесорубки, которые сделали, казалось бы, немыслимое. Откровенно говоря, прежде я никак не мог понять одного: как могли изголодавшиеся девчонки, не державшие прежде в руках топора и пилы, выполнять нормы, которые не всякому здоровому мужику по плечу? Я имел представление о лесном труде — работал в свое время навальщиком на пилораме, имел дело с лесом и в армии, видел (правда, в мирное время) работу вологодских лесозаготовителей. На мой взгляд, невозможно было превзойти выработку потомственных лесовиков. Невозможно, даже с учетом того, что блокадный труд женщин был не просто работой в лесу, а борьбой за жизнь в самом прямом смысле этого слова. Борьбой за свою жизнь, за жизнь своих близких, за жизнь ленинградцев.
И только теперь, глядя на улыбающихся сестер Ждановских, я понял, в чем заблуждался. Нет, чудес на свете, конечно же, не бывает. Те блокадные девчонки, какими я представлял их себе, могли, в лучшем случае, обрубать сучки. Валили же лес, разделывали, на руках выносили двенадцатиметровые бревна по глубокому снегу, а потом грузили их на повозки, машины, платформы такие вот, как Анна и Нина. На удивление сохранил физический труд этих женщин. Среднего роста, по-мужски плотные, по-женски статные, с чистыми, загорелыми лицами, они и сейчас казались молодыми. Их лица не портили морщины, не старило серебро в светлых прядях волос, выбившихся из-под платков. Энергичные, сильные, красивые женщины.
Виктор Комлев, который уже не раз встречался с сестрами, представил нас. До чего же быстро сходится Горышин с такими вот людьми! Подошел к женщинам, приобнял обеих за плечи, ткнулся утиным своим носом в щеку одной, другой, шепнул что-то, те засмеялись — и готово! Словно давным-давно знакомые люди. А ведь с иными Горышин бывает бирюк-бирюком. Случается, познакомишь его с приличным вроде бы человеком, а он на него исподлобья весь вечер зыркает — и ни слова. А если начинает этот не приглянувшийся ему человек серьезный разговор о литературе заводить или прочих высоких материях, Горышин сбивает его высокий настрой каким-нибудь приземленным рассказом. Если и это не помогает, начинает он слышимо мурлыкать какой-нибудь мотивчик, а то и позевывать звучно. Тут уж самый словоохотливый умолкает.
Сестры Ждановские пригласили нас осмотреть рыборазводный завод, где они работают. Мы переправились в лодке через протоку и вышли на остров. Завод занимается разведением лосося. Рыбок выращивают до определенного возраста и веса, затем выпускают в Неву, пополняя таким образом балтийское стадо осетровых. Откровенно говоря, сам завод на меня впечатления не произвел, хотя процесс разведения и выращивания молоди очень интересен. На заводе много ручного труда, теснота. Чего греха таить, серьезного отношения к рыбе у нас (по крайней мере, в озерно-речном бассейне Северо-Запада) еще нет. Мне часто приходится бывать на крупнейших водоемах этого района страны. Совсем недавно побывали мы с Глебом Горышиным в составе экологической экспедиции на Ильмене, встречались и беседовали с рыбаками, директорами рыбзаводов, председателями рыболовецких колхозов, специалистами. Большинство из них сходились во мнении: отношение к рыбе у нас пока — как к дикорастущим. Собираем в основном то, что дает природа, подсобляем рыбе плохо, и работы в этом направлении непочатый край. Но, кажется, я начинаю отвлекаться от основного своего рассказа. Сестры Ждановские знакомили нас не только с производством, но и с людьми, работающими на заводе, со своими друзьями. И если завод нам не слишком приглянулся, то люди приглянулись. Может быть, потому, что находится рыборазводный завод на острове и посторонним вход туда ограничен естественной преградой, рабочая и житейская атмосфера в этом хозяйстве на редкость чистая. Более приветливых и доброжелательных людей мне давно уже не доводилось встречать.
В одном из цехов завода к нам подошел худенький рыжеватый подросток и спросил:
— Вы писатели?
— Да.
— Я пишу стихи, меня зовут Саша. Вы не могли бы послушать мои стихи?
От этой просьбы Горышин переменился в лице (по долгу службы ему приходится прочитывать десятки килограммов стихов) и торопливо указал на меня, добавив, что лучше меня никто в стихах не разбирается.
Мы уединились с Сашей в комнатке общежития, он достал из тумбочки четыре толстые тетради и стал читать. То, что читал Саша, нельзя было назвать стихами. Это был неумело зарифмованный крик детской еще души, сводившийся к таким вот восклицаниям: «Люди зачем вы пьете?! Папа, мама, зачем вы это делаете?! Вы посмотрите на цветы, посмотрите на небо! Сколько красок и сколько света вокруг! Люди, папа, мама, зачем? Не надо пить, люди!»
Я слушал Сашу со сдавленным сердцем. Не надо быть тонким психологом, чтобы понять этого мальчишку, распознать его прошлую жизнь. У меня у самого был пьющий отец…
Саша читал свои стихи около двух часов, я не перебивал его. Только спросил однажды: хорошо ли ему здесь, на острове? Он ответил, что здесь ему нравится. Работа у него интересная, он учится заочно в техникуме, и все относятся к нему очень хорошо. Когда в окно постучал Горышин, давая понять, что нам пора уезжать, Саша спросил:
— Стоит мне писать стихи?
Что я мог ответить пареньку? Конечно же: пиши. Только учись и выбирайся из однотемья. Призываешь людей радоваться солнцу и разноцветью жизни, а сам ограничиваешь свое творческое мироощущение «питейной» темой.
От рыборазводного завода в Островках дальнейший путь наш лежал к Южной Самарке, к лесной могиле блокадных лесорубок. Сестры Ждановские поехать с нами, к сожалению, не могли: рабочий день у них еще продолжался, за рыбной молодью нужен был глаз да глаз.
— Поклонитесь девчонкам от нас, — попросили они на прощание. — В День Победы постараемся навестить их.
— Ждем вас в редакции «Авроры», — напомнил Горышин.
Вместе со Ждановскими пришел проводить нас и Саша. Рядом с крепкими улыбающимися женщинами, от которых так и веяло моральным и физическим здоровьем, Саша выглядел неуверенным и робким подростком. Он только-только вступал в жизнь, пробовал себя в творчестве, и ничто (по себе знаю) не поддержало бы его сейчас так, как напечатанное в журнале первое его стихотворение.
— Может, удастся что-нибудь выбрать из стихов? — тихо спросил Горышин. — Хотя бы на короткую подборку…
Я отрицательно покачал головой. Редко чьи стихи так хотелось мне порекомендовать для печати, но — увы! Свою первую боль от жизни Саша поверял бумаге без всяких правил стихосложения. Его стихи еще не дышали поэзией, они были мертвы. И удастся ли Саше когда-нибудь вдохнуть в них жизнь, кто может знать? Но то, что рядом с ним оставались такие люди, как сестры Ждановские, уже хорошо и очень важно для паренька. Может быть, для него сейчас это важнее всего.
И вот наконец, уже пешим ходом по лесу, мы добрались до Южной Самарии. Небольшая лесная поляна окружена робко зазеленевшими березами. Ничто не напоминает, что здесь когда-то находился поселок, лишь кое-где бугрятся под зеленым ковром фундаменты бывших построек. Виктор Комлев и председатель Свердловского сельсовета Леонтий Кириллович Федюкович, сопровождающий нас в поездке, наперебой рассказывают:
— Вот здесь находился барак, где жили девчонки-лесозаготовители.
— Здесь была баня… Линия фронта проходила в той стороне…
— Это их столовая. Вот здесь стояла кухня, а это, видите, воронки от снарядов.
Только теперь я обратил внимание на то, что вся поляна в ухабах и впадинах — следы воронок. Их было так много, что казалось, будто перед нами плохо вспаханное, заросшее поле.
Мы перешли поляну, пересекли старую заброшенную дорогу, подошли к березе, на которой был сделан затес топором. Повыше него белела дощечка с надписью.
— Здесь, — проговорил кто-то тихо. — Вот это место…
Мы сдернули с голов шапки, постояли, помолчали. Потом Виктор Комлев поднял ржавую лопату, валявшуюся неподалеку, и принялся подправлять едва приметный надмогильный холм. Председатель сельсовета начал вслух прикидывать: как быть с памятником? Где заказать памятник девчонкам, чтобы хорошо и недорого…
Глеб Горышин молча бродил по поляне с непокрытой головой.
И только теперь, стоя у лесной могилы блокадных лесорубок, я вдруг почувствовал, как бешено заработал во мне тот самый замусорившийся было «душевный фильтр». Весь сегодняшний день он усиленно очищался встречами с симпатичными мне людьми. Очищалась душа от всего мелкого, наносного, ненужного. Никогда еще не испытывал я такой боли за павших, такой благодарности к ним, никогда еще не были мне так близки и понятны люди, стоящие рядом со мной и живущие там, за этим весенним лесом, в многомиллионном городе, многострадальнее которого нет (и дай бог, чтобы никогда не было) на всем белом свете.
«…СЛУЧАЛОСЬ НАБЛЮДАТЬ В ЖИЗНИ»
В последнее время в советской литературе (и не только в советской) все чаще звучит термин «художественная публицистика». Именно «великому выдумщику» Льву Николаевичу Толстому принадлежат слова:
«Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-то вымышленного Ивана Ивановича и Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни».
В нашей стране создано немало писательских постов на крупнейших стройках Сибири, Дальнего Востока, Севера… Писатели подолгу живут там, знакомятся с людьми, наблюдают их жизнь и работу, пишут. Но зачастую писательские материалы, идущие с этих постов под рубрикой «художественная публицистика», мало чем отличаются от публицистики нехудожественной, от привычных газетных статей. Многие же писатели вообще не допускают художественную публицистику в свой профессиональный творческий арсенал. И не потому, что чураются они живого общения с живыми (а не с выдуманными в тиши кабинетов Иванами да Марьями) на далеких стройках страны. В конце концов, создать серьезный художественно-собирательный образ нашего современника ничуть не легче, чем написать таковой с натуры. Но художественная публицистика требует от писателя не только высокого профессионального мастерства, мобильности, умения остро чувствовать сегодняшний день и сегодняшнего человека, но и высочайшего художественного такта в своей работе. Ведь «материал», который лопатит своим пером писатель-публицист, не вымышленные персонажи, а живые люди с подлинными именами и фамилиями, с конкретными делами.
Одним из писателей, который последовательно и талантливо работает в трудном жанре художественной публицистики, является, на мой взгляд, ленинградский писатель Глеб Горышин. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать хотя бы его книгу «По тропинкам поля своего». Горышин, который, по меткому замечанию Сергея Воронина, «способен из простой прогулки, при ее описании, создать интересное литературное произведение», исходивший, исколесивший всю страну, установил несколько собственных «литпостов» в местах, ему наиболее дорогих: на ленинградской земле, на Новгородчине, на Алтае, на Кольском полуострове… Среди них особое место в жизни и творчестве этого писателя занимает Алтай. Именно Алтай, куда по собственной просьбе направлен он был работать после окончания Ленинградского университета, стал для Горышина настоящей школой жизни в творческой мастерской. В ту пору на Алтае начиналось освоение целинных земель, и Глеб Горышин, работая корреспондентом в барнаульской молодежной газете, был не просто свидетелем тех больших событий, которые легли затем в основу первой его книги «Хлеб и соль», но участником их. Юрий Казаков так писал о литературном первенце Горышина:
«Есть книги, прочитав которые люди едут на Белое море или на Камчатку, или становятся моряками или охотниками… Авторы таких книг представляются мне людьми, щедрыми на красоту и добро».
А вот как оценивает тот период своей жизни сам Горышин:
«Это был мой первый самостоятельный шаг, первый кирпич в собственной кладке судьбы-биографии. Слава богу, что я его совершил, первый шаг определил весь дальнейший путь…»
От первой книги «Хлеб и соль» до недавней «По тропинкам поля своего» пролегло без малого тридцать лет. Все эти годы ленинградский писатель не порывал связи с Алтаем, с его людьми — своими друзьями.
«Глебушка, мне почему-то очень нужны твои письма, пиши, ради бога!.. Люблю твои письма — длинноногие, нескладные, умные… Люблю твою честную прозу».
Эти три фразы к нему — из писем алтайца Василия Макаровича Шукшина.
Известный советский критик Александр Николаевич Макаров, рецензируя один из горышинских рассказов, писал:
«Редко попадаются рассказы, в которых сквозь обычную жизнь обыкновенных людей так остро и так по-большому просвечивало бы время, наше время, со всеми его особенностями века…»
Слова эти можно отнести и ко всему творчеству Глеба Горышина.
Все чаще в книгах Горышина, в том числе и в «алтайских» его повестях, на смену вымышленным персонажам приходят герои невымышленные, те, кого «случалось наблюдать в жизни». Но конкретные имена и дела тех, о ком рассказывает писатель, доставляют ему, как и многим другим, работающим в жанре художественной публицистики, немало хлопот, неприятностей, а то и чего похуже. Примером тому служит статья под звучным заголовком «Зависть», опубликованная в газете «Алтайская правда» от 4 февраля 1983 года и посвященная двум последним документальным повестям Горышина. Поскольку от подобных «разборов» в местной прессе не застрахованы и работы других писателей, на статье этой стоит остановиться подробнее.
Журнал «Звезда» опубликовал повести Горышина о двух алтайских председателях колхозов — Илье Шумакове и Антоне Афанасьеве. Назывались повести «Легкий полевой обед» и «Ранняя вьюга». Вслед за ними и появилась в «Алтайской правде» статья «Зависть». Одновременно с этим в высшие инстанции Москвы и Ленинграда полетели «гневные» письма с требованием примерно наказать писателя Горышина за… клевету.
В чем же дело?
Автор статьи «Зависть» В. Явинский маловразумительно и противоречиво, но со вседозволяющим задором бичует Горышина за то, что ленинградский писатель «писал портрет И. Я. Шумакова» не в той манере и не теми красками, какими привыкли писать портрет передового председателя колхоза «Россия» в «Алтайской правде». Признавая, что председатель колхоза Шумаков обладал «сложным» характером, автор «Зависти» между тем не допускает и мысли, что Шумаков мог кого-то обидеть, ранить резким или грубым словом. Что в работе своей талантливый председатель допускал «волевые моменты», не любил критики, и в этом отношении председатель соседнего колхоза «Восход» Антон Григорьевич Афанасьев выгодно отличался от своего коллеги. Автора «Зависти» буквально потряс тот факт, что в повестях Горышина два председателя передовых алтайских колхозов не только соревнуются за урожай с хорошим хлеборобским азартом, учатся один у другого, но и спорят между собой, ругаются, а кое в чем и враждуют. Да еще по мелочам!
«У наших современников ссоры должны быть солиднее, масштабнее, если хотите, а может быть и глобальнее, — наставляет автор «Зависти». — Это ли не повод для раскрытия глубинных черт характера настоящего положительного героя советской литературы, по которому мы все тоскуем».
Более того, в горышинских повестях один председатель позволяет себе назвать другого «Илюхой»!
«И вряд ли кто осмелился сказать о нем (о Шумакове. — Б. Р.) так пренебрежительно, как это сделал Горышин: Илюха. Мне могут возразить: так зовет Шумакова другой герой повести — председатель колхоза «Восход» Антон Григорьевич Афанасьев. И тогда я спрошу: а почему же Афанасьев так зовет Шумакова?»
Действительно, трудно понять, почему один председатель колхоза позволяет себе назвать другого председателя-соседа Илюхой, да еще и ссориться с ним немасштабно. По мнению автора «Зависти», такое горышинское вольнодумство никак не способствует созданию в советской литературе настоящего положительного героя, которого он — автор «Зависти» — не просто ждет, о котором «тоскует».
Надо отдать должное В. Явинскому: на протяжении всей своей статьи он не просто демагогически тоскует о положительном герое, но и, оперируя такими понятиями, как «русский характер», «дозволенный и недозволенный прием», дает рекомендации, как этого «настоящего положительного» создавать. Детально указывает, что и где необходимо у Горышина «безжалостно вычеркивать».
«А вот история о взаимоотношениях Шумакова с Михаилом Покрышкиным, которая рассказана буквально так: «Шумаков с Покрышкиным чего-то не поделили, какая-то кошка пробежала между ними. И, пользуясь своей властью над людьми, Илья Шумаков что-то сказал, что-то предпринял, чем-то, может, обидел Покрышкина, тот взял и уехал из Барановки…» У начинающих литераторов такие, с позволения сказать, перлы даже самый неквалифицированный редактор безжалостно вычеркивает. Почему же, спрашивается, дозволено писать так примитивно известному автору множества сочинений?»
Кажется, всё, в своей тоске по положительному герою автор «Зависти» дошел до крайности, далее в адрес Горышина ему остается разразиться лишь площадной бранью, ан нет! Еще один «дозволенный» прием изыскивает, прозрачно намекая: ленинградский писатель оттого, дескать, частит на Алтай и больше любит Афанасьева, чем Шумакова (хотя у Афанасьева только два ордена Ленина, а у Шумакова еще и Золотая Звезда), что у Афанасьева слаще застолье.
«И вот тут-то ловишь себя на мысли: а не потому ли один из председателей — любимый, что он все время ублажает писателя то поездками в заповедные места, где уже накрыт бивачный стол, то парится с ним в мягком пару баньки…»
С такой вот колокольни смотрит В. Явинский на художественную публицистику, таков «критический» диапазон аргументов у автора «Зависти»: от глобальных раздумий о положительном герое в советской литературе, от «повода для раскрытия глубинных черт» характера до замочной скважины в чужой дом.
Под мифическим предлогом «защиты Шумакова» Явинский оскорбляет не только известного советского писателя, но и своего земляка, заслуженного алтайского председателя колхоза Антона Афанасьева. Сколько нескрываемого яда в одной только «безобидной» фразе «Зависти»:
«Не случайно, видно, и любимый герой (!) как-то по-особому стал смотреть на своего восторженного биографа (!)…»
По-купечески распоясавшись, забывая про неписаную журналистскую этику, автор статьи использует в своих «критических аргументах» даже смерть Шумакова, обвиняя писателя — ни много ни мало — в «глумлении над покойным».
Невольно хочется спросить автора «Зависти»: «Полно, да уж читал ли он повести Горышина? Надо поистине не отличать черное от белого, чтобы делать подобные выводы». Автор алтайских повестей Глеб Горышин вместе со всеми горько пережил безвременный уход из жизни талантливого колхозного вожака. Писатель вдумчиво и принципиально вглядывается в будущее передового колхоза «Россия»: как пойдут в нем дела без Шумакова? Ведь такого другого колхоза, как «Россия» при Шумакове, на Алтае еще не было. Недаром значительное место в повести «Ранняя вьюга» отведено автором фигуре главного агронома «России» Меркулова; высокие и стабильные урожаи в колхозе — его немалая заслуга.
Так почему же всего этого «не увидел» в повестях Горышина В. Явинский? Может быть, автор «Зависти» новичок в критике и его, мягко говоря, недобросовестные приемы в работе лишь издержки юношеского пыла? Отнюдь нет, не новичок! В «Алтайской правде» еще от 15 апреля 1973 года была опубликована статья В. Явинского «А времена меняются…» о фильме Шукшина «Печки-лавочки». Статью эту тем более уместно вспомнить, что тогда становится понятным, почему так раздражает Явинского в повестях Горышина казалось бы «нейтральный» по отношению к председателям колхозов материал — о Сростках и Шукшине. Приведу только одну цитату из статьи «А времена меняются…»:
«Хорошо зная наших сельских жителей, можно смело сказать: не такие уж они «деревенские» сейчас, какими их показал Шукшин. И наверное, все дело здесь в том, что он забыл об очень важном обстоятельстве: не меняется Катунь, но меняется Время, меняются Люди села. Коренные изменения в жизни алтайской деревни, в родном его селе, к сожалению, остались незамеченными. Мало, до обидного мало в фильме новых черт и явлений, присущих людям современных колхозов и совхозов, которые могли бы служить примером для зрителей… Почти все в «Печках-лавочках» показано, как уже было сделано Шукшиным в его предыдущих картинах… Жаль, что Шукшин не услышал подлинного голоса сегодняшнего алтайского села».
Вот так: «уже было сделано Шукшиным», а сделано все было, как видно из одной даже цитаты, совсем не так, как хотелось того В. Явинскому. После этого нетрудно понять и раздражение критика В. Явинского. Шукшин, чье творчество он перечеркнул уже более десяти лет назад, который «не услышал подлинного голоса» своего народа, вдруг вопреки желанию критика становится в ряд выдающихся мастеров советской литературы, а «летописец» Горышин позволяет себе писать не только о делах алтайских колхозников, но и напоминать читателям об алтайце Шукшине.
Компетентные организации Москвы и Ленинграда, в которые поступили «гневные» письма на «клеветника» Горышина, внимательно разобрались в этом «деле» и нашли его, мягко говоря, высосанным из пальца. Газета «Советская Россия» в статье «Повесть о двух председателях» от 5 мая 1983 года уже совершенно по-иному оценивает работы Горышина. Но причина появления подобной безответственной статьи в «Алтайской правде» становится ясной только после выступления газеты «Правда», которая в статье «Тайным голосом» от 18 ноября 1983 года анализирует партийную и хозяйственную жизнь в алтайском колхозе имени Шумакова.
Увы, писатель Глеб Горышин во многом оказался прав. Ну хотя бы в главном, когда, говоря в своих повестях о некоторых «волевых» моментах в стиле работы председателя колхоза «Россия», он с большим художественным тактом проводит мысль о том, что опора председателя колхоза в работе и воспитании людей главным образом на свое руководящее «я», пускай даже талантливое и заслуженно-авторитетное, чревата худыми последствиями. Что без каждодневной опоры на коллектив, на ядро этого коллектива, одним талантом руководителя можно достигнуть определенных успехов, но успехи эти не станут постоянными. Что такое отношение к коллективу глушит в людях инициативу, обижает их, подрывает веру в себя и в конечном итоге порождает иждивенческие настроения.
После смерти председателя колхоза «Россия» дела в этом хозяйстве стали хиреть. Талантливого колхозного руководителя, каким был Шумаков, найти не просто, а переименование «России» в колхоз имени Шумакова дел не улучшило. Председателя в колхоз имени Шумакова пригласили со стороны, главный агроном Меркулов вынужден был уйти из колхоза, с новым председателем не сработался. Урожаи зерновых упали. Вот что пишет по этому поводу газета «Правда»:
«Но вот пришел новый председатель, и отлаженный механизм стал давать перебои. Возьмем, к примеру, растениеводство. В нынешнем году здесь собрали на круг по 27,6 центнера колосовых. Рубеж, казалось бы, высокий. Но Змеиногорский район это не Кулунда. Здешнюю зону нередко именуют «сибирской Кубанью». Почвы плодородные, и погода благоприятствует. Урожаи тут получали гораздо выше».
А вот как пошли дела в животноводстве:
«Немало резервов имеется в животноводстве. На развитие этой отрасли колхоз истратил много средств. Построены комплексы — молочный, для выращивания свиней, откорма крупного рогатого скота. Но в этих современных зданиях царит антисанитария. В результате большой падеж скота. В прошлом году из-за болезни животных молочный комплекс практически лишился стада… Недостаточно работает правление колхоза и над вопросом улучшения использования техники. Ослабла борьба за экономию и бережливость, специалисты перестали внимательно считать колхозную копейку… Ослаблено руководство профсоюзной и комсомольской организациями. Не стало слышно голоса народных контролеров, пущена на самотек работа товарищеского суда, добровольной народной дружины…»
Видимо, нет нужды цитировать статью «Правды» дальше. В колхозе ухудшились не только хозяйственные дела, ухудшился микроклимат, а многие неблаговидные дела делались, говоря словами «Правды»,
«на виду у парткома и его секретаря В. Бобровского. И ни разу не поднял партийный комитет голоса против своевластия администратора, против зажима критики и разбазаривания колхозных средств».
Вместо того чтобы прислушаться к голосу ленинградского писателя-публициста и мобилизовать колхозный актив на улучшение дел в хозяйстве, секретарь парткома Бобровский принялся действовать по принципу «лови рыбу — то бишь работай — в мутной воде». Брызги этой мутной воды и выплеснулись на страницах «Алтайской правды» в виде статьи «Зависть», долетели «гневными» письмами до Москвы и Ленинграда.
Надо сказать, что «улов» Бобровского и его покровителей из Змеиногорского района оказался (за счет государства) не так уж и плох. «Правда» пишет:
«Скостили колхозу и план по зерну под видом перевода его в ранг семеноводческих хозяйств. В итоге, имея на четверть больше пашни, чем соседний колхоз «Восход», тут в равных с ним условиях без особого напряжения выполнили два плана сдачи зерна государству. Тогда как в «Восходе» едва справились с одним, но вдвое большим. А это уже влияет на настроение людей в других хозяйствах района».
Перевыполнили в колхозе имени Шумакова и план по производству молока, но после того, что, как пишет «Правда»,
«в районе решили оказать виновным в бесхозяйственности помощь. Причем своеобразную. Чтобы не упали общие показатели, колхозу скорректировали план по молоку в сторону уменьшения. Под предлогом стихийного бедствия».
В чем же причина подобной «доброты» к виновникам бесхозяйственности в колхозе имени Шумакова? Может быть, это попытка «защитить» память о Шумакове (а заодно и себя), чье имя никогда не ассоциировалось с такими понятиями, как «бесхозяйственность» или «корректировка плана в сторону уменьшения»? И этой же цели служит шумная кампания, развязанная против ленинградского писателя Глеба Горышина, который в своих произведениях не лил привычный елей, а по-партийному глубоко, заинтересованно и художественно убедительно оценивал обстановку в этом хозяйстве? Не случайно же коммунисты колхоза имени Шумакова на своем отчетно-выборном собрании отказали в доверии В. Бобровскому, «накатав шаров» любителю аплодисментов за перевыполнение плана «без особого напряжения», инициатору статьи «Зависть» и «гневных» писем по адресу писателя Горышина.
Имя Ильи Яковлевича Шумакова никогда не нуждалось в подобной «защите» ни при жизни, ни после его смерти. Развал дел в хозяйстве не его вина, он ушел из жизни победителем. Имя Шумакова уже сейчас становится на Алтае легендарным. И лучшим памятником Илье Яковлевичу было бы, без сомнения, изменение дел в хозяйстве, носящем его имя. А поправить дела «корректировкой плана», «стихийными бедствиями», «гневными» письмами и даже статьями типа «Зависти» вряд ли возможно.
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
ЗНАКОМСТВО
Много лет назад получил я впервые письмо от ленинградского писателя Сергея Воронина. Письмо это переслали мне из дома в Москву, где я в ту пору находился на очередной сессии заочного отделения Литературного института имени Горького. Письмо было коротким и деловым. Сергей Алексеевич писал, что прочитал мой рассказ «Грузчики» в альманахе «Молодой Ленинград» и рассказ ему понравился. Делал профессиональные замечания по рассказу и в заключение предлагал, если появится в чем нужда, обращаться к нему. Письмо известного и серьезного писателя поразило не только меня, но и моих друзей по студенческому общежитию, которым я, не удержавшись, прочитал письмо вслух. Имя Сергея Воронина в студенческой среде было хорошо известно не только как мастера самого, на мой взгляд, трудного вида литературного жанра — короткого рассказа. Знали его и как писателя, отзывчивого на практическую помощь молодой пишущей братии. Кто-кто, а студенты Литинститута хорошо знают, от кого из писателей можно ждать реальной помощи, от кого лишь словоизвержения. Надо сказать, что заочники Литинститута совсем не похожи на студентов очного отделения. Заочники люди, как правило, уже зрелые, тертые жизнью, с достаточно устоявшимися взглядами и на жизнь, и на литературу. В портфелях и чемоданах заочники привозят в Литинститут на суд творческих семинаров не считанные странички робких рассказов, а зачастую весьма объемные повести или многокилограммовые романы. Что такое написать роман для заочника — рабочего, женатого, детного человека? Это несколько лет беспросветной жизни, когда, возвратившись с работы, он забывает все: жену, детей, элементарный человеческий отдых, когда в его жизни нет ни одного выходного дня, ни одного праздника. Зачем, ради чего подобное добровольное самоистязание — это уже вопрос другой и не о нем сейчас речь. Но коль рассказ, повесть, а тем паче роман написаны, автору, естественно, хочется увидеть свое творение в печатном виде. Вот тут-то многие молодые авторы, в том числе и заочники Литинститута, совершают элементарную ошибку. Вместо того чтобы выносить свои творения на профессиональный суд редакций журналов и издательств, они начинают торкаться в жилетку известных, пробивных, а то и серьезных писателей. Конечно же, мнение серьезного писателя, его рекомендация издательству кое-что для молодого автора значит. Но, чтобы понравиться серьезному писателю, молодому автору необходимо представить на суд старшего коллеги произведение художественным уровнем никак не ниже, чем, скажем, «Тихий Дон». Это во-первых. Во-вторых, необходимо добиться, чтобы серьезный писатель это произведение прочитал. Вот тогда серьезный и даже известный может принять участие. Кому не лестно открыть талант? В остальных же случаях, как сказал поэт: «А мне чужих стихов не надо, мне со своими тяжело». Писателей, в конце концов, и понять можно. У каждого из них своя работа, семья, общественная и государственная деятельность. Каждая минута, может быть, на счету, а тут косяками прут молодые. Да еще с романами или стихами порой лучшими, чем у тебя самого.
И все же, как говорится, мир не без добрых людей. В бытность мою студентом-заочником Литературного института мы, студенты, хорошо знали имена писателей, которые «помогают». Такие писатели были в каждой союзной республике (в Литинституте учатся студенты из всех союзных республик), несколько имен значилось в Российской Федерации.
К тому времени, когда пришло письмо от Сергея Воронина, я уже не был новичком в писательском деле, в издательствах Москвы и Ленинграда готовились к выходу в свет первые мои книжки. Честно говоря, я никогда не любил обращаться за помощью к маститым писателям, предпочитая самостоятельное хождение по редакционным мукам. Выражение «хождение по мукам» отнюдь не является здесь преувеличением, если сказать, что первая моя книжка, при всех положительных рецензиях, прежде чем появиться на свет, вылеживалась в издательстве ровно десять лет. Я не оговорился: десять лет «внимания и чуткости» со стороны редакционных работников к молодому автору — и, пожалуйста, терпеливый автор, держи в руках свой печатный труд, на который затратил всего несколько лет работы. По одному этому факту можно понять, как тронуло меня письмо Сергея Алексеевича Воронина. Потом никогда ни от кого не получал я писем с предложением помощи, да, честно говоря, особенно в такой помощи уже и не нуждался. Как говорится, дорога ложка к обеду. Сергей Воронин оказался для меня в этом роде человеком единственным. Да и не только для меня одного. Немало встречал я писателей, которым помог устоять на нелегком литературном пути Сергей Воронин. Позднее я прочту в его книге «Время итогов» такие строчки:
«Зависти у меня никогда не было. Я даже не знаю, что это за чувство. И наверное, потому все хорошее, что приходилось читать, всегда вызывало у меня не только удовольствие, но даже восторг. И я звал кого-либо, кто находился вблизи, и читал вслух поправившееся место, подчас задыхаясь от слез. Прекрасное меня глубоко трогает».
В тот вечер в нашей комнате студенческого литинститутского общежития Сергей Воронин и его творчество стали главной темой разговора. Для меня выяснилось вдруг, что я почти не знаком с творчеством этого писателя, зная его только по известным повестям «Ненужная слава», «Деревянные пятачки» и нескольким рассказам. А Сергей Воронин еще и романист, драматург, сказочник, юморист…
На следующий день я написал письмо Сергею Воронину, в котором высказал и надежду на личное знакомство. Ответ от писателя пришел быстро на общежитие Литинститута. Сергей Алексеевич приглашал меня к себе в любое удобное для меня время. Прямо с сессии, не заезжая домой, я отправился к Сергею Воронину. Состоялось знакомство, перешедшее в многолетнюю дружбу.
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ЧУДСКОГО
С возрастом плохое настроение, то бишь хандра, стало посещать меня все чаще, как и многих других, наверное, которым за сорок. Проснешься поутру: солнышко светит, птички за окном поют, травка зеленым ковром землю устилает, а на душе муторно, слякотно, словно в хмурый, ненастный день. За что ни возьмешься, все из рук валится. Так и сидишь весь день (благо воскресный) в комнатухе перед телевизором, толчешь в пепельнице окурок за окурком, а сердце твое словно невидимая чья-то злая рука сжимает, давит. И мысли в голове ползают вялые, озябшие, как серые осенние мухи. Назавтра идешь с таким вот настроением на работу.
Не знаю, кто как от хандры спасается, у меня же только один способ есть, много-много раз проверенный. Едва почую приближение ее, собираю рюкзак, удочки и в ближайшую же субботу, прихватив отгулы, отправляюсь в поход. В пеший поход, лыжный, на велосипеде, на поезде, на попутном грузовике или маршрутном автобусе — вид передвижения роли не играет. Главное, ленивую неподвижность свою преодолеть, стронуть себя с места, а там дело пойдет. Путешествую в основном по «Лужскому кольцу», о котором в начале этой книги упоминал. Помните: Новгород, Старая Русса, Псков, Изборск, Печоры, Гдов… Чаще всего туристский маршрут мой в сторону Чудского озера нацелен, к селу Спицино, что лежит на шоссе Псков — Гдов. В районе Спицино шоссе подходит почти вплотную к озеру, и потому среди рыбаков-любителей место это славится хорошими подъездами к озеру. Особенно это важно в снежную зиму и весеннюю распутицу, когда в других местах подходы и подъезды к Чудскому затруднены. Летом, а особенно зимой, в выходные дни Спицино напоминает большой военный лагерь. Задолго до рассвета со всех сторон стекаются в него колонны автомашин с псковскими, ленинградскими, новгородскими номерами. Сотни рыбаков вываливаются из автобусов и грузовиков и, словно саранча, пробираются по бесчисленным снежным тропкам через спицинские огороды к озеру. А утром, когда взойдет солнце и разгонит морозный туманец, все озеро до самого горизонта усеяно черными точками, и даже у бывалого рыбака невольно вырывается стон: «Господи, сколько же вас!..»
Спицино — поселение старое. Курганы древних захоронений разбросаны неподалеку от села в дюнах на берегу Чудского. Читатели «Комсомольской правды», возможно, помнят о случае хищнической раскопки Спицинского кургана, о котором писала газета несколько лет назад. Предприимчивые жулики, выдав себя за археологов, все лето прожили в деревне, раскапывая курган. Что нашли они в нем и что унесли с собой, им одним и знать. Но и того, что подобрали после грабительского раскопа спицинские школьники, хватило на то, чтобы создать в селе народный музей. Кстати, у Сергея Воронина есть рассказ, посвященный Спицинскому народному музею Псковской области, который так и называется: «Народный музей». Писатель около двадцати лет тому назад приобрел в Спицино избу и с тех пор вместе с семьей каждое лето и частично зимой живет и работает в этой деревне. Я знаком со Спицино свыше трех десятков лет. Еще подростком брали меня заядлые лужские рыбаки с собой на Заячий остров, что лежит в Раскопельской заводи, красивейшем месте Чудского озера неподалеку от Спицино. Но по-настоящему полюбил эти места и зачастил в Спицино с тех пор, как познакомился и подружился с Сергеем Алексеевичем Ворониным. Бываю здесь зимой, летом, ранней весной и, конечно же, осенью. Зимой подъезжаю к Спицино с лужскими рыбаками еще затемно, когда деревня спит. Рыбацкая тропа к озеру пробита в снегу возле самого воронинского дома. Если Сергей Алексеевич и неразлучная с ним супруга Мария Григорьевна в Спицино, на калитке и окнах их дома висят таблички с надписью «Не стучать! Все места заняты!». Надпись эту сфантазировали воронинские внуки, отбиваясь от приезжих рыбаков, которые с вечера бродят по деревням ордами, просятся на ночлег. Некоторые спицинские старики и старухи неплохо подрабатывают на таких рыбаках, запуская в избу на ночлег аж до пятнадцати человек. Такса твердая — рубль с человека за ночь, независимо от того, на пуховиках ты спишь или на голом полу. У рыбаков к хозяину лишь одно требование: чтобы в избе было тепло. Проходя в темноте мимо воронинского дома, я, конечно же, никогда не беспокою стуком спящих хозяев. Встречаемся мы с Сергеем Алексеевичем в такие дни, как правило, на Чудском льду. Рыбачит писатель каждодневно, и я хорошо знаю места, где разворачивает свой «парус» Сергей Алексеевич. За такими «парусами» — грубым холстом, набитом на рейки и подвешенном на коловороте, — укрываются от ледяного ветра местные рыболовы, приезжие «паруса» не признают. Сергей Алексеевич выходит на лед, когда солнце уже высоко. Приметив его парус, начинаю «сверлиться» в его сторону. Судя по тому, как порхают над «парусом» рукавицы Сергея Алексеевича, у него клюет плотва. Придвигаюсь все ближе и ближе. Сергей Алексеевич уже слышит меня, он, конечно же, недоволен чужаком, могущим спугнуть клев (а кто в такие моменты бывает доволен?), но я сверлю лунки еще на расстоянии, допускаемом неписаным рыбацким этикетом, и потому рыбак молчит. Наконец ставлю коловорот впритык к воронинским санкам. Сергей Алексеевич сбрасывает с головы капюшон, гневно оборачивается и…
Зимой в спицинском доме Ворониных еще бывает иногда тихо, летом — никогда. Летом — дети, внуки, теперь уже и правнуки, родственники и родственники родственников, семья большая. Когда покупал Сергей Алексеевич в Спицино «дачу», представляла она собой полуразвалившуюся избу да голом прибрежном песке. Многие годы своими руками благоустраивали Сергей Алексеевич и Мария Григорьевна свое деревенское жилище. Сергей Алексеевич — писатель до мозга костей и потому в практических житейских делах беспомощный. Особенно если достать что-то надо (стройматериалы, например), чего в магазине нет. Сделать своими руками он может, а вот из чего сделать? Поначалу деревенские, как и положено, приглядывались к новым людям. Присмотревшись, стали помогать: кто советом, кто доской или старой рамой, кто машиной чернозема к избе. А вот кто всерьез воспротивился писательскому житью в деревне, так это председатель колхоза. Председатели в Спицино менялись часто, а воспротивился тот, который серьезный, который за дело колхозное болел и даже перебрался в Спицино на постоянное жительство. Противился председатель колхоза деревенской жизни не только одного писателя. В разных деревнях колхоза приобрели избенки и копались в земле другие горожане: и заслуженный металлург, и Герой Социалистического Труда, и другие уважаемые люди, хотя и без столь громких званий и наград. Встречаясь с каждым из них, председатель колхоза едва ли не скрипел зубами. За чем бы ни обратился писатель Воронин в правление: дров ли выписать, горбыля, машину ли торфа привезти, — во всем отказ. Договорилась как-то раз супруга писателя с шоферами самостоятельно, привезли торф. А через несколько дней из правления колхоза на имя писателя Воронина счет за торф прислали и строгое предупреждение. Наконец, получил лауреат Государственной премии Сергей Воронин повестку: явиться в правление колхоза по поводу незаконного захвата 1 (одной) сотки колхозной земли. Той самой земли, а точнее — наносного прибрежного песка, на котором умудрилась уже Мария Григорьевна взрастить цветы, клубнику, черноплодную рябину. Когда явился писатель с повесткой по указанному адресу, в правлении собрались уже все «незаконные»: и металлург, и Герой, и остальные пенсионеры-деревнелюбители. Председатель колхоза обратился ко всем собравшимся с речью. С болью и гневом говорил, и резко. Так начал: «Если вы к нам спиной, то и мы к вам спиной…» А закончил свою речь словами: «Раздавим к чертовой матери все ваши заборы, вот только бульдозер наладим». А промеж этих фраз говорил председатель, что трудно колхозу, людей не хватает. Ведь ежели собрать в кулак эдакую силищу, какую представляют собой горожане-пенсионеры и прочие разные писатели, проживающие в деревнях, целое звено бы получилось. И вместо того чтобы бездельничать, в огородах поодиночке забавляться, ударить в страдную пору всем этим звеном, скажем, по сенокосу. Это ли не подмога колхозу?
Первым на упреки председателя колхоза металлург откликнулся, мужчина из себя видный и совсем еще не старый.
— Мы, конечно, не против помощи колхозу, — сказал он, — но по силе-возможности каждого из нас. Лично я, прежде чем «бездельничать и в огороде забавляться», как вы сказали, товарищ председатель, тридцать один год у мартена простоял. За это время в том месте, где стоял я, несколько кладок из огнеупорного кирпича выгорело. А я без замены. Два инфаркта у меня уже было, но если назрела такая острая нужда включить меня в звено на сенокос, включайте…
Следом за металлургом Сергей Алексеевич Воронин поднялся.
— Вы, товарищ председатель, можете, конечно же, поворачиваться к нам передом или задом, — несколько отлично от металлурга начал свою речь писатель, — можете даже раздавить наши заборы и огороды бульдозером, если имеете такое право, не знаю. Но твердо знаю: никто не давал вам права хамить! Никто не давал и никогда не даст вам права вот так разговаривать с людьми, которые старше вас и по возрасту, и по трудовому стажу…
Короче говоря, Сергей Алексеевич завелся, а когда он заведется, остановить его трудно. Выдал председателю колхоза все, что наболело, и более того.
После памятного того собрания отношения писателя Воронина с председателем колхоза начали помаленьку улучшаться. Встретились как-то на деревенской улице, поздоровались, разговорились. Сергей Алексеевич подарил председателю свою новую книгу. Прочел ее председатель, а потом и в дом к писателю пришел. Книга-то, оказывается, о колхозной их жизни написана. Более того, все действующие лица в ней — спицинские! Только под другими именами и фамилиями выведены. Есть о чем поговорить и поспорить.
Я люблю бывать в Спицино в воронинском доме. Многие повести и рассказы Сергея Алексеевича рождались в этой псковской деревушке на моих глазах. Писателю не надо искать своих героев на стороне, выдумывать для них жизни, он живет среди них. Они — герои всех его книг.
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
1
Сергей Алексеевич Воронин сидел в летнем своем деревенском рабочем кабинете, думал. Письменный стол, на котором стояла пишущая машинка и лежал чистый лист бумаги и за которым обдумывал сейчас писатель сюжет своего рассказа, сколочен был им самолично из старого заборного горбыля, а сверху обит фанерой. Стены кабинета за неимением досок обшиты были Сергеем Алексеевичем коробочным картоном. В недалеком прошлом теперешний кабинет являлся обычным хлевом, и Сергей Алексеевич потратил целое лето, переоборудуя коровье жилище под писательское рабочее помещение. Возможно, от сочетания слова «хлев» со словом «писатель» кое-кто и поморщится. Но писатель Воронин прожил большую и сложную жизнь, в которой доводилось ему наблюдать и хлева человеческие. Легкий запах перепревшего коровяка не только не вызывал у него отрицательных эмоций, но и будил воспоминания далекого детства…
В щель над оконной занавеской Сергей Алексеевич видел угол своей баньки, которую приобрел недавно у соседей за пятьдесят рублей. «По-черному» банька, довоенной еще постройки, но переборку и перевозку выдержала хорошо, пришлось только нижние венцы обновить да обшить баньку толем, чтобы ветер в щели не задувал. Хорошо бы, конечно, утеплить баньку тесом, а внутри отделать осиновой доской, как принято в деревне. Пол в кабинете, что под ногами «играет», заменить «тридцаткой», на потолок вагонку пустить и без всякой там краски, чтобы рисунок дерева глаз радовал. Крышу пора обновлять, шифер нужен, фундамент сыплется, мешка бы три цемента. А где взять материал? Да еще писателю. В колхозе? В колхозе каждая доска на счету, колхоз стройматериалы сам днем с огнем ищет. Сунулся было за материалами в Гдов, Псков, и там ничего. Продавцы в магазинах только усмехаются в ответ на наивные писательские вопросы. Почаще и подольше, дескать, в магазинах толкаться надобно, тогда подобных дурацких вопросов задавать не станете. Но ежели в магазинах пропадать, когда же тогда писать, работой своей заниматься? Отбросил однажды писатель Воронин скромность, зашел в Пскове к соответствующему областному начальнику, представился как лауреат Государственной премии, книгу свою начальнику подарил. А когда разговор о трех мешках цемента зашел и двух кубометрах теса, самому неловко стало. Начальник же себя так просто обиженным почел. Ожидал, видимо, от лауреата масштабного разговора о великих стройках страны или, на худой конец, крупнейших в области. О чем ином серьезном: делах международных, например. Посоветовал писателю мягко: «Вы, дорогой Сергей Алексеевич, внимательнее к жизни приглядывайтесь. Соломенных крыш в деревнях теперь не увидите, драночные и те исчезают. Шифер, железо, черепица на смену идут…»
Когда возвращался Сергей Алексеевич из Пскова в Спицино (без стройматериалов, конечно же), посматривал из окна автобуса на деревушки, что на пути встречались, с особым вниманием, словно впервые деревню видел. Прав начальник! В самых захудалых деревеньках крыши под шифером, а то и под оцинкованным железом. Многие дома вагонкой обшиты, покрашены в цвет, глазу приятный, возле каждого дома банька. И заборы вокруг домов встречаются не из горбыля даже, а из добротного тесу, а то и обрезной доски. Не с неба же в самом деле падают стройматериалы на деревни? Но где ему-то, писателю, доску взять? Ему легче повесть написать, чем несколько мешков цемента достать. Из Японии вон недавно запрос пришел, интересуются, что новенького появилось у русского писателя господина Воронина? Греки рассказами интересуются, немцы, поляки, французы… Свои читатели письма шлют. Всем дай новенькое, а рассказы ведь не блины. Третий день вот сидит над листом бумаги, ничего путного выдавить не может. Правда, в какой-то момент наклюнулся было интересный образ, сочное редкостное словцо в памяти всплыло. Тут бы успеть подцепить пером образ, бросить его вчерне на бумагу, а там бы пошла привычная работа, может, и стронулся бы рассказ. Но в самый этот момент за окном (парниковой застекленной рамой, подаренной писателю Петром Бессоновым, соседом) истошно и хрипло заорал, пробуя голос, петушок. Сергей Алексеевич чертыхнулся и бросил ручку на стол. Потом раздраженно толкнул ногой дверь, крикнул:
— Кыш! Кыш, проклятые!
— Гриша, лови! — вопил на улице чей-то незнакомый голосок. — Лови, Гриша! Аут! Ура-а!
— Кончайте галдеть! — заревел Сергей Алексеевич. — Дайте мне работать! Черт знает что такое!
Шум за парниковой рамой поутих, но ненадолго. Да и как умолкнуть голосам в воронинском доме, когда только внуков за окном резвится четверо, и с каждым по два-три деревенских приятеля, две сестры Марии Григорьевны из соседней деревни пришли семьями в гости, дочка с зятем из Ленинграда приехала, племянники тоже подъехать должны.
— Нет, этот содом никогда не кончится! — проговорил Сергей Алексеевич, плотнее затворяя дверь кабинета. — Придется утром часа на два раньше вставать. Тишины мне не дождаться.
Писатель вновь сделал попытку сосредоточиться. Но рассказ не давался. Сюжет рвался и тут и там, характеры героев не прорисовывались, от суконного их языка самому становилось тошно. Галдеж за окном не умолкал.
— Может быть, и хорошо, что голоса вокруг и смех? — вслух подумал Сергей Алексеевич, настраиваясь вдруг на философский лад. — Что бы у нас с Манечкой за жизнь была без этого смеха? Вся-то жизнь на земле нашей грешной ради смеха детского. Только бы плача не было… А петушку горластому осенью первому секир-башка будет. Цыпленка «табака» неплохо из него сделать. Надо ту сковородку с винтовой крышкой, которую в хозяйственном видел, обязательно купить. На постном маслице «табачка» сработать, потом лучок в том же маслице обжарить. И все это под малосольный огурчик, с помидорками…
В этом месте своих размышлений Сергей Алексеевич вспомнил вдруг о Петьке Бессонове, том самом, который подарил ему парниковую раму для кабинета. Вот кто может помочь стронуть рассказ, а то и в иное сюжетное русло его направить.
2
Петр Иванович Бессонов (среди деревенских — просто Петька Бессонов) сидел на крыльце своего дома неподалеку от воронинской избы. Курил. Думал. Широкий щетинистый подбородок Петьки подпирал жилистый кулак, громадный козырек черной кепки типа «аэродром» покоился на его сухом хрящеватом носу. Кепку эту, или кепи, как величал ее Петька, нашел он на обочине шоссе возле деревни. Сдуло, видно, шелоником с головы проезжего кавказца, что гарцуют на «Жигулях» и «Волгах» у Псковского базара. В послевоенные годы Петька Бессонов бросил вызов консервативным вкусам сельчан, первым в деревне надев фетровую шляпу. Теперь он вновь стал законодателем моды — редко в каком деревенском окне не отодвигается занавеска, когда Петька проходит мимо в своем «аэродроме».
Запрокинув голову, Петька из-под козырька кепи смотрел на солнце. Смотрел неотрывно, пристально, не закрывая глаз и злясь на светило. Смотрел, можно сказать, принципиально, потому что не любил закрывать глаза, если его заставляли это делать. Он докуривал папиросу, когда услышал возле своего забора чьи-то шаги. Петька отвел взгляд от солнца, сморгнул с глаз искрящую рябь и увидел над забором голову, прикрытую старой армейской фуражкой. Это был Илья Яковлевич, один из немногих в деревне людей, которых даже он, Петька Бессонов, величал по имени-отчеству. Лично-подсобное хозяйство Ильи Яковлевича служило примером того, чего может достигнуть трудолюбием колхозный пенсионер в материальных своих устремлениях. Вдвоем с женой, которую в деревне звали просто Таськой и которая была много моложе мужа, держали они двух коров, бычка, телку, трех поросят, овец, кур, не считая образцового сада-огорода. Илья Яковлевич легко мог приобрести сотню-другую лошадиных сил (что он и сделал, подарив дочке к свадьбе новенького «Москвича»). В свое время отец Петьки Бессонова, погибший с продотрядом под Гдовом, раскулачивал деревенских богатеев, не имеющих и доли того, что имеет сейчас Илья Яковлевич. Но то было иное время, и Петька, конечно же, понимал разницу между кулаком и трудолюбивым колхозником. Петька сам с послевоенных лет и пока не выросли дети держал в хозяйстве скотину, хорошо знал цену ей и ту мороку, которую она доставляет. Но дети выросли, разлетелись, и когда услышали они с женой Татьяной по радио, что корова теперь в личном хозяйстве колхозника излишняя обуза, что молоко, мясо, масло удобнее и проще покупать в деревенском магазине, Петр Бессонов от коровы отрекся. Не потому отрекся, что поверил в обещанную скатерть-самобранку, а потому, что представился удобный случай. Много раз намечал он избавиться от коровы, особенно когда тяжело заболела Татьяна и сено приходилось раздобывать всеми правдами и неправдами. Да все решимости не хватало. Цепко держала его извечная крестьянская привычка к скотине, голодные послевоенные годы не шли еще из головы. И когда объявили по радио о молочно-мясных берегах в деревне, понял вдруг Петр Бессонов ясно: годы те, которых боялся он, не вернутся уже никогда. Конечно же, если войны не будет. Чуть лучше жить, чуть хуже, не все ли равно. Главное, чтобы не вернулось времечко, которое испытал, о котором от родителей своих слышал. И свел Петр корову со двора. Потом он никогда не жалел, что избавился от скотины, хотя жизнь поначалу казалась ему не только легкой, но и пустой. Сейчас Петька Бессонов, колхозный пенсионер-первогодок, только бы усмехнулся в ответ, предложи ему кто корову, хоть задарма. Вот почему он никогда не завидовал материальному благополучию Ильи Яковлевича. Тем более что всем благополучием в доме Ильи Яковлевича заправляла Таська. Сам же хозяин мог приобрести в магазине «Москвича», но не мог того, на что нацелен был сейчас он, Петька Бессонов. И уважал Петька Илью Яковлевича, и по имени-отчеству величал не за то вовсе, что сумел тот «с горкой» наполнить чашу дома своего. А за то, прежде всего, что, при всем своем беспродыхном трудолюбии, при всей своей боязни горластой жены Таськи, Илья Яковлевич никогда не чурался общения с человеком, находил время для этого общения. Сколько они порассказали баек с Ильей Яковлевичем из своей и колхозной жизни тому же Воронину. Не только Россия, вся Европа читает…
Голова Ильи Яковлевича, между тем, продолжала деловито скакать по забору, не поворачиваясь к Петьке лицом.
— Здоров, Илья Яковлевич! — окликнул Петька голову. — В магазин?
— Слава богу, здоров! — отозвалась голова. — За солью.
— А если еще чего? — спросил Петька.
— А где возьмешь? — с привычной уклончивостью отозвалась голова, замедляя ход.
— Думать надо, — пояснил Петька и выразительно кивнул головой в сторону воронинского дома.
— Не пройдет, — возразила голова, — Сережа пишет. Да и Мария Григорьевна не в настроении, петух под машину попал.
— Не в этом дело, — Петька поморщился, — мысль в принципе. Подход к делу обмозговать требуется. У тебя что, гости приехали?
— Ага. Зять с дочкой из Пскова и приятель с ним.
— Это хорошо, когда гости…
— Куды там… Ты мою Анастасию знаешь, ее ничем не проймешь…
— Это верно, твоя Таська что собака на сене…
— А что делать? — виновато проговорил Илья Яковлевич, и голова его, прикрытая армейской фуражкой, покатилась назад, к калитке.
— Серега Воронин зятя твоего в лицо знает?
— Вроде нет.
— Приятель зятя солидный вид имеет? Работает где?
— Вместе с Федькой и работают, в автохозяйстве слесарями, — пояснил Илья Яковлевич, присаживаясь рядом с Петькой на крыльцо.
— Слесарь — это хорошо, — одобрил Петька, — но лучше бы зять твой или приятель на лесоторговой базе работали. Ну, на «нет» и суда нет. Значит, так, Илья Яковлевич! Теперь слушай меня внимательно…
3
Не шел рассказ… Сергей Алексеевич попытался переключиться на пьесу об академике Павлове, над которой начал недавно работать, но и пьеса не пошла. Полный писательский «штиль».
Во дворе вновь бессовестно загалдели, и по голосам Сергей Алексеевич догадался: с рыбалки вернулся зять Анатолий, художник. Писатель отдернул с окна занавеску и увидел, как зять вываливает из корзины на стол килограмма два мелочи, которую сам он и в лодку-то никогда не допускает. Вокруг трепыхающейся мелочи восторженно прыгала толпа, зять улыбался победителем. «Черт возьми, — фыркнул Сергей Алексеевич, начиная злиться, — умеют эти художники пыль в глаза дунуть! Я в субботу целую корзину килограммовых горбачей наломал, никто лишний раз глазом не моргнул. А тут полсотни «хунвейбинов» в корзине, и уже на рыбацком пьедестале стоит».
Сергей Алексеевич поднялся из-за стола, раздраженно распахнул дверь и… увидел Петьку Бессонова, спешащего по задворью в сторону дома Ильи Яковлевича.
— Петя, здравствуй! — крикнул Сергей Алексеевич с порога.
— Здоров, Сережа! — откликнулся Петька не останавливаясь.
— Зашел бы поболтать, — предложил писатель.
— Некогда, — отказался Петька, — к Илье Яковлевичу бегу. Нужные люди к нему приехали.
— Что за люди? — насторожился Сергей Алексеевич.
— Один на лесоторговой базе в Пскове работает, заведующим вроде. А другой у него шофером на грузовой. Хочу попробовать фанеры им заказать и шиферу. Надо веранду подновить, может, дачников к тому лету пущу.
— Стой, Петя, погоди! — крикнул Сергей Алексеевич, но Петька в ответ лишь нетерпеливо и озабоченно махнул рукой.
Теперь уже Сергей Алексеевич и не пытался приниматься за рассказ. Это надо же какое сочетание у него под боком: заведующий лесоторговым складом и шофер! Ведь ежели по-человечески поговорить с людьми, книжку им подарить, неужели откажут? Всего-то ничего надо: пару кубов вагонки, листов двадцать шиферу, фанеры тоже бы неплохо. Ведь за свои же деньги прошу, и чтобы все по закону. Выпиши, как полагается, материалы, машину выпиши и привези. Ведь можно это, наверное, как-то сделать?
Сергей Алексеевич, спасаясь от шума, завернул за угол дома и присел в сквере под окном на скамейку. И вновь увидел Петьку Бессонова, идущего уже по шоссе.
— Что, Петя? — крикнул Сергей Алексеевич. — Как там у Яковлевича обстановка?
— В магазин иду, — сурово пояснил Петька. — В принципе дело уже решено, но закрепить надо.
— Слушай, Петр… Да подойди ты, черт возьми, ближе! — рассердился писатель. — Тебя что, минута устроит!
— Чего ругаешься, Сережа? — спросил Петька, подходя. — Чего нервничаешь?
— Можешь ты меня с этими людьми познакомить?
— С каким людьми? — не понял Петька.
— С этими, которые к Илье Яковлевичу приехали. Ну, пригласи меня к нему, представь…
— Как я тебя в чужой дом приглашу, Сережа? — возразил Петька. — Я сам у Яковлевича без приглашения.
— Придумай что-нибудь, — попросил Сергей Алексеевич. — Сам знаешь, тебе на меня обижаться не за что.
— А я и не обижаюсь. Ладно, так сделаем… — Петька на мгновение задумался. — Пригласим-ка мы с Ильей Яковлевичем их к тебе. Распишем, что известный писатель, лауреат, может, и согласятся. А?
— Хорошо бы, Петя.
— Ладно, сделаю. А ты подготовь все, чтобы соответствовало.
4
На следующий день писатель Воронин проснулся рано. Общее самочувствие было неплохим, и что главное, ощущал Сергей Алексеевич хороший настрой на работу. Беззвучно одевшись (рыбацкая привычка), писатель вышел во двор. В доме все спали, лишь хриплые петушиные вопли нарушали тишину, да на помойке галдели чайки. Сергей Алексеевич набросил на плечи куртку и неторопливо направился по песчаным дюнам, поросшим ивняком, к озеру. Для него стало уже привычкой побродить по берегу Чудского перед работой хотя бы полчаса.
Солнце только-только показалось из-за леса, над озером стояла легкая туманная дымка. В двухстах метрах от берега вода сливалась с небом, но горизонт четко прорисовывали черные точки рыбацких лодок, стоящих на якорях. Берег озера был пустынным, но в дюнах возле красной туристической палатки какой-то «дикарь» ходил голый на руках, а за палаткой позванивал колокольчик и слышался голос пастуха, покрикивающий на коров.
— Никак Илья Яковлевич? — вслух подумал Сергей Алексеевич, прислушиваясь к пастушьему голосу.
Писатель сбросил с ног тапочки, закатал брюки до колен и, войдя в теплую еще воду, неторопливо двинулся вдоль берега навстречу стаду. Пастухом и впрямь оказался Илья Яковлевич.
— Здравствуй, Илья Яковлевич! — первым окликнул писатель старика. — В поле сегодня?
— Слава богу, здоровы все, Сереженька! — отозвался Илья Яковлевич, приближаясь. — В поле. Моя очередь пасти.
— Может, голову надо поправить, Илья Яковлевич? — предложил писатель.
— Спасибо, Сереженька, не требуется. Тятька мой, царство ему небесное, так говаривал: «Пока не опохмеляешься, ты мужик, начал опохмеляться — пьяница». Хороший тебе вчера сюжет Петька подбросил…
— Какой сюжет?
— Ну, с «нужными-то людьми». Таська моя и та обсмеялась. Ты не расстраивайся, Сереженька, хорошо ведь посидели вечерок. О жизни нашей прошлой небось вдоволь наслушался. А Петька, я тебе скажу, не только языком трепать может. Он после войны от меня колхоз принимал, так его и сейчас еще кое-кто добрым словом вспоминает.
— Значит, эти вчера… Не с базы? — растерянно спросил Сергей Алексеевич.
— Какая база, Сереженька! То зять мой был Федька, а Николай — приятель его из Пскова…
Илья Яковлевич продолжал говорить, но Сергей Алексеевич уже не слушал его. Ай да Петька! Вновь провел их с Марией Григорьевной. Ну, Петя!..
— Я Петьку заместо себя коров пасти хотел нанять, — продолжал Илья Яковлевич, — мне картошку окучивать приспело. Так отказался, черт! Запрягай, говорит, Илья Яковлевич, своего «Москвича» и дуй за коровами сам. А я лишний часок посплю.
— Ну, мне пора! — проговорил Сергей Алексеевич, перебивая старика. — Пойду работать.
— Давай работай, — согласился Илья Яковлевич. — Петька велел передать вчера: если увидишь утром Серегу, говорит, скажи ему, что забегу вечерком рассказ послушать. Чтобы обязательно «Нужные люди» назывался, говорит. Вперед Европы прослушаю рассказ, говорит!
КУСТ
До войны на спицинском побережье Чудского озера стояла могучая сосновая роща. Во времена оккупации немцы, опасаясь партизан, вырубали лес вдоль дороги Псков — Гдов. Пострадала и спицинская роща. Деревья, что уцелели после войны, срубили сами же деревенские, надо было строиться, а возить лес издалека было не на чем да и некому, мужиков в деревне почти не осталось. Потом на дрова и пни выкорчевали, вконец оголив берег. И сразу под ветром зашевелились прибрежные пески. Вздыбились, поползли песчаными волнами на деревню. Каждый в одиночку отбивался от них, ограждая свой приусадебный участок кустами, глухим дощатым забором. Но песок наступал, выжидал коварно, и стоило какой-нибудь спицинской избе постоять год-два без хозяина, как ухоженный годами участок возле нее становился мертвым. В послевоенные годы спицинское побережье озера напоминало кусок унылой пустыни и вряд ли очаровало своей красотой писателя Воронина.
Сейчас уже и спицинские старожилы плохо помнят человека, решившего украсить побережье черной ольхой. Молва сохранила только его имя: Захаров. Говорят, что был он родственником (племянником) того самого Захарова, имя которого носит спицинский колхоз. Черная ольха, посаженная на побережье Захаровым, прижилась, разрослась вдоль ручьев, стекающих к озеру, украсила деревню живописными зелеными полосами и рощами. Под прикрытием зеленых полос подвижные песчаные дюны схватывала растительность, останавливала, задерживала наступление песка на деревню…
От воронинского дома до уреза Чудской воды метров двести-триста песчаных дюн. Ольха Захарова в стороне, место голое, если не считать одинокого ивового куста. Куст этот прижился на самом гребне вздыбленного песка, разросся, похорошел, украшает пейзаж воронинского задворья. Особенно красив он тихим теплым вечером, когда за разлапистые ветви его хватается последними лучами солнце, тонущее в водах Чудского. Не раз штормовые ветра озера пытались сорвать его со своего берега, отбросить, но куст мертвой хваткой вцепился в песок, держался уже лет десять, хотя корни его от постоянного напряжения оголились и потрескались, вылезли из песка едва ли не на метр.
И вот однажды писатель Воронин увидел, как по берегу озера катится трактор с поджатой экскаваторной лапой. Подкатив к красавцу кусту, трактор остановился, вытянул лапу с ковшом и, сердито заурчав, принялся копать. Взволнованный Сергей Алексеевич поспешил к месту непонятного действа. После первых его бессвязных восклицаний: «Как!», «Почему?!», «Зачем здесь?!» — тракторист буркнул:
— Песок нужен.
Теперь уже писатель вполне вразумительно принялся корить тракториста и объяснять, что копать где придется нехорошо и даже нельзя. На что тракторист, играя рычагами, отвечал:
— Своя земля, колхозная. Че хотим, то и делаем.
На этот аргумент писатель выдвинул целый ряд серьезных возражений, в том числе упомянул и закон об окружающей среде, и даже попытался запугать тракториста уголовной ответственностью. И конечно же, грозил карами, которые падут на его голову от колхозного руководства. Когда же и это не проняло тракториста, Сергей Алексеевич принялся по-дружески, а потом и слезно умолять тракториста переехать деревенскую улицу-дорогу и копать песок в карьере, где его всегда и копают. И даже намекать стал строптивому, что ежели когда у того возникнет желание, но не будет возможности, то он отнесется к его нужде с полным пониманием. Но то ли не понял тракторист слишком уж тонкие намеки писателя, то ли не поверил в них, только продолжал подкапываться под куст, приговаривая:
— Еще чего… Наша земля, своя. Че хотим, то и делаем.
Отчаявшись, Сергей Алексеевич поспешил к соседу своему Петру Бессонову. Взмолился:
— Выручай, Петя! Губят куст! Никак не вразумить тракториста.
— Сейчас мы его вразумим, — успокоил писателя Петя и принялся выбирать из груды жердей подходящую. — Айда!
Разговор Петра Бессонова писатель Воронин наблюдал я слушал со стороны.
— Ты что, паразит, тут делаешь? — спросил Петр, поднимая жердь. — Ты хочешь, чтобы песок мой огород засыпал?.. — И далее в речи Петра уловить можно было только три печатных слова: бог, мать и печенка. Но тракторист его понял. Поджал трактор железную лапу, по которой Петр для острастки хрястнул жердиной, и покатился за деревню, в карьер.
— Спасибо, Петя, — душевно поблагодарил Сергей Алексеевич соседа, — спас куст.
— Чего там, Сережа, — скромно отозвался Петька, и добавил раздумчиво: — Обещал, говоришь, ему, а он не понял? Странно…
РАМЫ
Решили Сергей Алексеевич с Марией Григорьевной и зимой в Спицино жить. Тишина, снежный покой, зимняя рыбалка на льду Чудского озера. Никаких тебе стрессов, никакой городской трясучки. Пиши, рыбаль, топи печку. Для житья в деревне зимой что прежде всего требуется? Конечно же вторые рамы для избы. А где взять рамы?
— Кольке Никифорову закажите, — подсказала соседка, — ежели когда протрезвеет, тогда сделает. Хорошим мастером был.
Вызнал Сергей Алексеевич Кольки Никифорова отчество (в деревне всяк друг дружку коротко кличут, но писатель — будь добр называй по имени-отчеству, иначе могут и обидеться), встретил как-то Никифорова на улице, говорит:
— Слышал я от деревенских, Николай Фомич, что вы знатный столяр. Зимние рамы хочу вам заказать. Возьметесь?
— Двадцать пять рублей.
— Хорошо, Николай Фомич, и, если можно, сделайте, пожалуйста, побыстрее.
— Деньги сразу.
— Хорошо, пойдемте. Заодно мерку с рам снимете.
Снял Николай Никифоров размеры с рам воронинской избы, двадцать пять рублей принял. Ушел.
Неделя проходит — нет рам. Две недели проходит — нет рам. Через месяц Мария Григорьевна не выдержала, отправилась к мастеру выяснять судьбу заказа.
— Не видишь, приболевший я, — нелюбезно встретил Никифоров Марию Григорьевну. — Выздоровею — сам принесу рамы.
Минуло лето, осень уже о зиме напоминает, отправился к Никифорову Сергей Алексеевич.
— Приболевши я, — объяснил мастер, — как полегчает, возьмусь…
На четвертый год очередная встреча заказчиков со столяром состоялась. При этой встрече и я присутствовал. Вышли мы втроем: Сергей Алексеевич, Мария Григорьевна и я из автобуса в Спицино. На остановке Никифоров стоит. Трезвешенький. Поздоровался с нами Николай первым.
— Как наши рамы, Николай Фомич? — Мария Григорьевна спрашивает. — Подвигается дело?
Передернулось спекшееся лицо у Никифорова, вроде как в улыбке. Отвечает хрипло:
— Терпеливые вы люди, Воронины. На удивление. Не подводило б здоровьице, и впрямь сработал вам рамы. Были б деньги, должок возвернул.
Сказал так и отвернулся. Больше разговаривать не пожелал.
Через несколько дней Николай Никифоров умер.
СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
Писатель Воронин встретился случайно на деревенской улице с председателем колхоза. Поздоровались. Разговорились.
Неподалеку от них сидели на свежеошкуренных бревнах Петька Бессонов с Ильей Яковлевичем. Курили. Наблюдали беседующих. Только что прошел крупный «грибной» дождик, прибивший пыль, поднятую деревенским стадом. Бревенчатые избы в лиловом закате розово светились, земля парила.
— Я бывал во многих странах и так скажу, — продолжал писатель разговор с председателем, — положительный сельскохозяйственный опыт нам не мешает перенимать. Конечно же применительно к нашим условиям. Возьмем Венгрию. Такая, к примеру, деталь у них в животноводстве. Желает член кооператива выращивать в личном своем хозяйстве поросят. Пожалуйста, напиши заявление, поросят привезут тебе на дом. И корма тоже. Все бесплатно. Но когда вырастишь свиней, одного отдай в кооператив, одного продай, одного возьми себе. За точность этой пропорции не ручаюсь, даю лишь схему. Почему бы нам не перенять этот опыт венгерских товарищей? Пускай экономисты вашего хозяйства подсчитают, как лучше, чтобы государству выгодно и колхозникам не в убыток.
— Здесь вы ломитесь в открытую дверь, Сергей Алексеевич. Нечто подобное практикуется уже во многих районах Украины и в других местах. В нашем же колхозе этот эксперимент упрется прежде всего в корма.
— Если бы только в корма, — возразил писатель, — а разве сможете вы обеспечить всех желающих своими поросятами? Да еще качественными поросятами? Даже если они имеются, колхозники предпочитают платить не три рубля за килограмм живого веса, а значительно переплачивать, простаивать ночи на базарах, лишь бы заполучить поросенка из Прибалтики. Сам видел, как одна старуха на базаре добрый десяток машин с поросятами перерыла, все искала поросенка с морщинкой на лбу. Уверяю вас: в скором времени все больше и больше людей станут искать эту поросячью морщинку. Сейчас не только городу, но и селу уже дай качество.
Петька Бессонов, внимательно слушавший разговор писателя с председателем колхоза, спихнул языком окурок с губы, приподнял указательным пальцем козырек своего «аэродрома» и, не поворачивая головы, что-то тихо сказал Илье Яковлевичу. Илья Яковлевич встрепенулся, коротко хохотнул, надернул козырек фуражки на глаза. Возразил вполголоса:
— Не попадут.
— А вот посмотрим.
Беседа писателя с председателем колхоза продолжалась.
— Вы содержите в колхозе штатных экономистов. Какую такую работу опытный экономист может выполнить в течение всего года? Графики чертить и зарплату получать? Накладно для государства. Возьмем для примера Штаты. У них фермер держать в своем хозяйстве экономиста не может себе позволить. Но экономика — наука, а без науки сейчас сельского хозяйства нет. И далеко не каждый фермер силен в этой науке. Как быть? А приглашают экономиста из города. Да, да, приглашают за соответствующую плату, как мы приглашаем сейчас адвоката для ведения своих дел. Такой экономист или группа экономистов быстро и качественно сделают все расчеты хозяйства и на их основе представят соответствующие рекомендации хозяину. Быстро потому, что нет резона тянуть время, время для них, как говорится, деньги. Качественно потому, что от качества работы экономиста зависит и спрос на него, как и на хорошего адвоката. Кстати, американские экономисты подсчитали, что наиболее удобна и выгодна в экономическом отношении молочная ферма на восемьдесят — сто голов. Мы же предпочитаем многосотенные и даже тысячные комплексы.
— Для фермеров, может быть, и выгодно, — возразил председатель. — Лично я — сторонник комплексов. На них можно сосредоточить специалистов, новейшее оборудование, колхозную технику. К тому же крупные комплексы значительно экономят активные земли. Представьте себе, что вместо комплекса на тысячу двести голов мы разбросаем по разным местам двенадцать — пятнадцать ферм. Да нам и сеять будет негде. Что же касается экономистов, то здесь всегда есть над чем подумать, хотя фермерское хозяйство с колхозным трудно сравнимы.
— Сейчас войдут, — тихо проговорил Петька, не спуская глаз с беседующих.
— Промахнутся! — Илья Яковлевич ожидающе хохотнул.
— В любом спорном вопросе лучше всего, на мой взгляд, придерживаться золотой середины, — продолжал писатель. — Я не против крупных комплексов, согласен даже, что корова прежде всего биологический молочный агрегат на службе человека. Перерабатывай корма и давай молоко, всякие там прогулки по свежему воздуху — лирика. Но беда в том, что проектировать и строить молочные комплексы мы научились, а вот обеспечивать их бесперебойно кормами… А что такое перебой с кормами на крупном комплексе хотя бы на несколько дней, вам лучше знать. Мне доводилось видеть комплексы, где вместо расчетных тысячи двухсот голов влачат существование три-четыре сотни отощавших «агрегатов». Их даже вывести некуда, потому что вокруг культурные поля, крупный комплекс пастбищ для «агрегатов» не предусматривает. Как тут не вспомнить о ферме на сотню-другую голов с выгонами, культурными пастбищами…
— Теперь не выберутся, — проговорил Петька со сдержанным охотничьим азартом в голосе, — гляди, воткнулись в треугольник.
— Могут перешагнуть, — высказал опасение Илья Яковлевич, не переставая похохатывать.
— Не перешагнут, мелко топчутся.
— Обратимся к Франции, — писатель входил во вкус разговора, — на чем зиждется ее сельское хозяйство? Такая, к примеру, отрасль, как виноградарство. Четкость и ответственность — вот ее киты. Виноград с картошкой сравнивать трудно, но все же. Мы с вами порой собранную картошку с поля вывезти и в бурт свалить не успеваем. И не потому, что техники или людей не хватает. А потому, что отсутствует согласованность транспортников с полеводами, нет неотвратимой материальной ответственности (о моральной пока не говорим) за судьбу и сбережение качества продукции. Во Франции виноградари заключили, к примеру, с транспортной конторой договор на вывозку винограда. Виноград — культура нежная, несколько лишних часов после сбора — и качество его резко падает. Но ежели виноградарь заключил договор на вывозку, он не волнуется. Главное для него теперь доставить виноград в корзинах, согласно договору, к автомагистрали такого-то числа к девяти ноль-ноль. Сгрузил корзины с виноградом на обочине дороги — и поехал домой. Теперь пускай голова болит у транспортников, он свой пункт договора выполнил. В случае чего, получит свое за виноград сполна. И транспортники, уверяю вас, не допустят порчи продукции, иначе им придется раскошеливаться. А вот вы, уважаемый председатель колхоза, не сочтите за обиду вопрос: хоть раз в жизни заплатили рубль штрафа из своего кармана за порчу колхозной продукции?
— Удивляюсь я иногда вам, писателям, — в голосе председателя колхоза появилось едва заметное раздражение, — в любом вопросе, в котором иногда и специалисту разобраться трудно, а порой и невозможно, вы тут как тут. Советы даете, поучения. И основной ваш аргумент в любом споре…
— …здравый смысл, — подсказал писатель, перебивая председателя. — Это, пожалуй, основной аргумент любого мыслящего человека, а не только писателя. Здравый смысл!
— Никак проскочили, — с сожалением проговорил Илья Яковлевич, — прощаются…
Петька Бессонов не ответил. Достал из-за уха папиросу, чиркнул спичкой, глубоко затянулся. Подпер щетинистый подбородок жилистым кулаком, другой кулак воткнул в бок. Стряхнул козырек кепи на нос.
Распрощавшись с председателем колхоза, Сергей Алексеевич подсел на бревна к весельчакам. Спросил:
— Чего ржете, мужики?
— Да вот смотрим, Сереженька…
— Что смотрите?
— Войдете вы с председателем или не войдете.
— Куда?
— В кучу, — пояснил Петька, сплевывая. — Эвон вас коровы-то обложили, что те мины противотанковые.
— А мы, Петенька, кучки эти давно приметили.
СВОЛОЧНАЯ ИСТОРИЯ
История эта произошла в соседнем колхозе. Прямо надо сказать, неприглядная история. Удивительно, как порой трудовые люди, ничем в жизни себя не запятнавшие, превращаются вдруг в сволочных людей. И превращение это происходит не в какой-нибудь критической ситуации, когда, как говорится, «быть или не быть», а в самых заурядных житейских передрягах. Судите сами.
Колхозный шофер Иван Григорьевич Герасимов и грузчик Геннадий Федорович Федоров — люди сравнительно уже немолодые, трудолюбивые, семейные, не скандалисты, — везли на специально оборудованном колхозном грузовике телят на мясокомбинат. Сидели рядом в кабине, курили, разговаривали. День стоял солнечный, тихий, шоссе Псков — Гдов было пустынным. Неожиданно, подпрыгнув на колдобине, автомобиль резко вильнул в сторону. Иван Герасимов пытался выровнять машину, но она не слушалась руля, а когда бросил он ногу на педаль тормоза, было уже поздно: тяжелый грузовик летел под откос…
В результате аварии пострадал грузчик Геннадий Федоров. В бессознательном состоянии его отправили в больницу на попутной машине. Пострадали колхозные телята, грузовик. Шофер же, как это часто бывает, не получил и царапины. Вовремя подоспела к месту аварии колхозная машина с заведующим гаражом. Телят удалось прирезать и сдать на мясокомбинат, машину отремонтировали в колхозной автомастерской, а вот Геннадий Федоров… Геннадий Федоров стал инвалидом. Когда вышел он из больницы, то правая рука его почти не двигалась, ходил и говорил он с трудом, заикался.
Самое же удивительное произошло позднее, когда пришел Геннадий Федоров с помощью жены на медицинскую комиссию для оформления соответствующей пенсии. Без лишних слов выложили перед ним акт, подписанный шофером Иваном Герасимовым, колхозным завгаром и автомехаником. В акте черным по белому значилось, что грузчик Геннадий Федорович Федоров, будучи пьяным, вывалился на ходу из кабины автомобиля, в результате чего и пострадал. Таким образом, вопрос о предоставлении Геннадию Федорову пенсии по инвалидности в результате несчастного случая сам собой отпадал. Более того, подписавшие акт пригрозили Федорову, что, если он будет продолжать искать правду, ему придется платить и за телят, и за ремонт грузовика. Авария, мол, произошла по его вине, шофер пытался удержать его, пьяного, в кабине и потому на мгновение выпустил руль из рук…
Тягаться со сволочными людьми в одиночку и здоровому-то человеку трудно. Геннадий Федоров к тому же обладал характером, не выносящим тяжб. Сунулся туда-сюда, акта словами не перешибить, да и слова-то произносил он теперь с трудом. И махнул Геннадий Федоров на все рукой.
Письмо от жены Геннадия Федоровича Федорова пришло на имя писателя Сергея Воронина в Спицино. Супруга бывшего колхозного грузчика писала:
«Уважаемый Сергей Алексеевич! Я школьная учительница, давняя читательница Ваших книг. Книги Ваши привлекают меня прежде всего своей правдивостью. Иногда мне кажется, что истории, о которых Вы пишете, рассказывала Вам я из своей жизни, из жизни близких или знакомых мне людей. Правда, в иных случаях концы моих повестей значительно грустнее Ваших… Одну такую историю, которую придумала жизнь для моего мужа, я хочу Вам поведать. Беде нашей помочь никто уже не сможет, но, возможно, исповедь моя заинтересует Вас и Вы попытаетесь улучшить конец этой грустной истории…»
Писатель Воронин откликнулся на письмо. Детально разобрался в истории беды семьи Федоровых, помог разобраться в ней многим должностным лицам, начиная от областной прокуратуры и кончая ответственными колхозными лицами. Писатель сумел расшевелить многих, кто хорошо знал Геннадия Федорова и которых еще не клевал жареный петух. Люди вдруг искренне заудивлялись, как мог такой приличный человек и хороший работник, как Гена Федоров, напиться в рабочее время до поросячьего визга и вывалиться из кабины грузовика. Были найдены свидетели — городские рабочие-косцы, видевшие момент аварии. Нашлись люди, слышавшие, как перед тем злополучным выездом шофер Иван Герасимов вслух сокрушался рулевым управлением своей машины, материл завгара и автомеханика за то, что не могут достать нормальную рулевую тягу. Да и сам Герасимов, когда прижали его фактами, долго не запирался. Признался, что подписать фиктивный акт уговорили его завгар с механиком — боялись ответственности за то, что выпустили в рейс неисправную машину. А его припугнули тем, что придется платить за ремонт разбитого грузовика…
В то лето Сергей Воронин не написал в Спицине того, что мог бы написать, что задумывал. Но Сергей Алексеевич не жалеет об этом, хотя писателю никогда не наверстать работой потерянное время. Да разве и можно назвать это время потерянным?
МУЖЧИНА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Сергей Алексеевич решил утеплить свою избу, обшить вагонкой. Самолично обшить, собственными своими руками и без всякой сторонней подсказки. Прикинул на листе бумаги дощатый рисунок обшивки так и эдак, выбрал что повеселее, с «бегунком» — одним из немногих рисунков, которыми позволяли себя украшать древние псковские храмы-воины. Доски, гвозди, пила, топор, уровень есть, рано поутру писатель приступил к работе.
Часа полтора пилил и стучал Сергей Алексеевич, прежде чем появился рядом сосед Петька Бессонов, заинтригованный ранним стуком в воронинском доме. Позевывая, смотрел он из-под козырька «аэродрома» на писателя, орудующего топором, молча осмысливал увиденное. Впервые видел Петька, как пишущий сосед его принялся за подобное ответственное дело, не посоветовавшись с ним, не заручившись его моральной и физической поддержкой. Это Петра Бессонова обидело. После долгого и укоризненного молчания он изрек:
— Ни хрена у тебя не выйдет.
— Поглядим, Петя, поглядим… — миролюбиво возразил Сергей Алексеевич.
Ушел Петька, появился Илья Яковлевич. Сказал ласково:
— Не за свое ты дело взялся, Сереженька. Думаешь, дом обшить, что два пальца обмочить? Это ж цельная плотницкая наука — дом утеплить и украсить. Кликнул бы меня на подмогу или посоветовался хотя бы. За совет-то денег не берем. А так у тебя гармонь получится, а не обивка…
— Гармонь так гармонь, — перебил Сергей Алексеевич, раздражаясь, — зато своя гармонь. Могу я что-нибудь своими руками сделать и без подсказки!
Весь день, и второй, и третий, подходили деревенские к дому Воронина, смотрели на его работу, давали советы, сомневались, удивлялись: почему взялся сам, неужто обеднял на плотника? Сергей Алексеевич чвыкал ножовкой, стучал молотком, подсказки, подначки, насмешки и прочее терпел, не заводился. Доконала его своими советами баба Дуня из соседней деревни. Та самая баба Дуня, которой за девяносто, изба которой толем укутана и наполовину уже в землю вросла, а крыша протекает. Из-за крыши своей и появляется каждый год в Спицино баба Дуня, в правление колхоза ковыляет за подмогой. Со стороны фигура старухи букву «Г» напоминает — сухое тело ее в плюшевой душегрейке до поясницы над землей стелется, а подпирает его возле самого подбородка окостеневшая можжевеловая клюка. Всех детей бабы Дуни война вырезала, никого из близких на белом свете не осталось, один колхоз. Душевно встречают бабу Дуню в правлении, ни в чем отказа нет. Иной председатель колхоза (ой-ой сколько их сменилось на бабы Дунином веку) чуть ли не тотчас кровельщика кликнет, на трактор посадит, прикажет во что бы то ни стало пробиться к бабы Дуниной деревне, найти ее избу и залатать крышу. Да все не доходят руки, то бишь колеса, до ее избы. Техника сейчас в колхозе такая — одно тракторное колесо в два раза выше бабы Дуниной избы. С такой техники углядеть ее гнилую толевую крышу трудно, с такой техники великие дела и даже свершения видятся, а не крыши. Баба Дуня обещанного год ждет, а потом вновь в поход отправляется.
Вот эта-то самая неугомонная старуха, которая вновь добралась до Спицино со своим кровельным вопросом, и явилась последней каплей в чаше терпения писателя Воронина. Сергей Алексеевич обрабатывал уже угол избы (самая ответственная и сложная в обшивочном деле операция), когда возле калитки проросла баба Дуня. Опираясь на клюку двумя ладонями, задрала голову в черном платке, крикнула:
— Куды ж ты внакладку-то делаешь! Накосяк надоть, накосяк колоти! Эко дурная голова!
И тут Сергей Алексеевич не выдержал.
— Пошли вы все со своими советами!.. — заревел он, распаляясь. — Сам знаю, что делать и как делать! Сам разберусь, едри вас всех в корень!..
— Тоже правильно говоришь, — согласилась вдруг баба Дуня, — мужчине характер в деле иметь надоть. Надоть иметь!
— Верно, Сережа! — поддержал Воронина Петька Бессонов, курящий неподалеку на бревне. — Крой всех, работай сам. Мне и то заплели мозги своими советами. Вполне прилично у тебя получается.
— Прилично! — фыркнула на Петьку почтарка, раскрывая на боку пудовую сумку. — Да вам, мужикам от топора, не облицевать так дом, как Сергей Алексеевич-то облицевал. Смотреть любо!
Подходили деревенские к дому Воронина, смотрели работу, одобряли. Баба Дуня, возвращаясь уже из правления колхоза, остановила кого-то из спицинских, указала острым подбородком на помолодевший воронинский дом, прошамкала:
— А этоть-то ваш… писатель… Мужчина самостоятельный.
В КЯРОВО
В деревню Кярово отправились мы втроем: Сергей Алексеевич Воронин, ленинградский писатель и литературовед Леонард Иванович Емельянов, гостивший в Спицино у своего друга и коллеги, и я. От деревни Спицино до деревни Кярово километров около тридцати. Если смотреть карту-схему Псковской области (ту, которую смотрели мы, отправляясь в это недалекое путешествие), то деревня Кярово расположена от шоссе Гдов — Сланцы по левую сторону дороги. На самом же деле деревня эта лежит вправо от большака. Ошибка на карте-схеме стоила нам нескольких часов бесполезных поисков Кярово на Гдовском побережье Чудского озера. В прибрежных деревнях ни о деревне Кярово, ни о человеке, могилу которого мы разыскивали, никто ничего вразумительного сказать не мог. Но стоило нам вновь выбраться на большак и обратиться к «правосторонним» жителям, как дорога к нужной деревне была нам указана.
В тот год весна была дождливой, а лето выдалось на редкость жарким. Полевая дорога к деревне Кярово, иссеченная глубокими тракторными колеями, окаменела и для нашего «Москвича» стала непроходимой. Оставив автомобиль на обочине шоссе, мы двинулись к деревне пешком.
Только на Псковщине равнинные мелколесные пейзажи да еще, пожалуй, приильменские новгородские места так резко меняются под яркими лучами солнца. Серые и однообразные в пасмурные дни, под солнцем они преображаются мгновенно. Позолоченные сверху, высветленные со всех сторон кучевыми облаками, подсвеченные изнутри березовым тонколесьем, они становятся изумрудно-прозрачными, наполняются небесной голубизной, птичьим звоном, гомоном и стуком. Проселки и тропинки наливаются янтарной желтизной и влекут, притягивают к себе путника, зовут шагать по ним без устали, обещая взамен что-то новое, неизведанное, радостное.
С таким вот безоблачным, ожидающе-радостным, как в детстве, настроением шагал я за своими спутниками в места, где жил и где похоронен человек, который был симпатичен мне с самого раннего детства, с того дня, когда прочитал я впервые осмысленно «Войну и мир» Толстого. Помните главу «Совет в Филях»? В просторной избе мужика Андрея Савостьянова собрались генералы и офицеры русской армии во главе с Кутузовым. Совет в высшей степени секретный, от решения его, возможно, зависит судьба России. Все посторонние лица удалены, мужики и бабы теснятся через сени в черной избе. И только шестилетняя внучка хозяина избы Малаша таращится с печки на важных генералов. Генералы закованы в ордена, серебро, золото; они говорят о Москве, о судьбе России, о последней капле крови и последнем солдате. Смешно даже помыслить, чтобы взгляд кого-нибудь из них в этот момент мог задержаться на Малашке. И вдруг один из генералов — с «твердым, красивым и добрым лицом» — поймал Малашкин взгляд, улыбнулся ей хитроватой улыбкой и подмигнул ободряюще. Дескать, не дрейфь, Малашка, все с Россией будет хорошо. Читая затем страницы романа, посвященные герою Отечественной войны генералу Петру Петровичу Коновницыну, я, честно говоря, как-то плохо воспринимал прочитанное. После совета в Филях генерал Коновницын был настолько уже близок и понятен мне, что в его воинском умении, мужестве и выдержке я нисколько не сомневался. И потому всякое добавочное авторское дополнение и разъяснение по этому вопросу казалось мне излишним, и к сложившемуся в моем сознании образу генерала Коновницына мало что добавляли такие вот строчки:
«На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем-то другим. В душе его было глубокое, невысказанное убеждение, что все будет хорошо; но что этому верить не надо, и тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы».
Или такие:
«Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сражения был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Дохтуров, одною из тех незаметных шестерен, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины».
Мало что добавляли к образу «моего» Коновницына и строки из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов»:
Хвала тебе, славян любовь, Наш Коновницын смелый! Ничто ему толпы врагов, Ничто мечи и стрелы… Себя забыл… одним врагам Готовит истребленье: Пример и ратным и вождям И смелым удивленье.После прочтения сцены военного совета в Филях генерал Коновницын стал интересовать меня более всего с точки зрения фактического материала: где участвовал, чем командовал, что сделал? Его семья? Может быть, и читателям интересно будет вспомнить некоторые факты из жизни Петра Петровича Коновницына. К началу Отечественной войны 1812 года генерал Коновницын командовал 3-й пехотной дивизией. Той самой дивизией, солдаты и офицеры которой изумляли французов своей стойкостью в боях под Смоленском. Когда же Смоленск был оставлен, генерал Коновницын по приказу М. И. Кутузова возглавлял арьергард отступающей русской армии. Маршал Мюрат всеми силами старался опрокинуть арьергард, заставить русских побежать, не дать русской армии закрепиться перед Москвой. Но отряды генерала Коновницына нарушили честолюбивые планы Мюрата. Они не только выдержали натиск передовых французских отрядов, но и позволили русской армии закрепиться у Бородина, развернуть свои боевые порядки для решительной битвы.
В Бородинском сражении генерал Коновницын возглавлял оборону Семеновских флешей, контратаковал своей дивизией позиции французского маршала Нея. В разгар боя, когда был смертельно ранен командующий 2-й армией Багратион, Коновницын принял на себя командование армией и возглавлял ее до приезда нового командующего — Дохтурова.
После того как Наполеон решил покинуть сожженную и разграбленную его солдатами Москву, чтобы двинуться к южным, не разоренным войной губерниям, на его пути вновь встали полки дивизии генерала Коновницына. В самый ответственный и напряженный момент боя под Малоярославцем, когда город переходил из рук в руки, Кутузов бросил туда дивизии Коновницына и Раевского. И французы не смогли прорваться к югу, вынуждены были повернуть на старую голодную дорогу к разрушенному Смоленску. А это уже явилось началом гибели французской армии в России.
Нет, не случайно именно этот человек с «твердым, красивым и добрым лицом» на военном совете в Филях отыскал Малашин взгляд. Мне кажется, эпизод этот — тот случай, когда литературно-художественный домысел писателя полностью совпадает с реальной жизненной правдой. Трудно представить себе, чтобы человек, подобный Коновницыну, мог в тот момент равнодушно скользить взглядом по крестьянскому лицу. Коновницын был не просто смелым, мужественным человеком, он обладал еще и трезвым аналитическим умом, умел мыслить стратегически (это подтверждает и тот факт, что генерал Коновницын являлся сторонником кутузовского плана: оставить Москву, чтобы сохранить армию). И конечно же Коновницын хорошо понимал, что в конечном итоге судьба России решается не здесь, на военном совете в Филях, а решаться она будет на полях России, и не генералами. Не случайно, наверное, дети Петра Петровича Коновницына стали позднее участниками декабристского движения…
Впереди показалась деревня. Справа от дороги-улицы стоял новый сруб избы, на котором два плотника устанавливали стропила. Мы подошли поближе к плотникам, Сергей Алексеевич крикнул:
— Здравствуйте!
— Здоров будь! — вяло ответили плотники.
— Что за деревня, мужики?
— Кярово.
— А где здесь Покровская церковь? В которой Коновницын похоронен?
— За деревней. Прямо идите.
Мы двинулись по деревенский улице, прижимаясь к заборам, так как центр улицы был изуродован колесно-гусеничными колеями еще больше, чем полевая дорога. Нетрудно представить себе эту деревенскую улицу в осеннюю слякотную пору. А впрочем, деревня Кярово ничем почти не отличалась от обычных псковских деревушек, лежащих в стороне от большака. Домишки самые разномастные — от крепких, крытых шифером, с телевизионными антеннами на крышах, до серых замшелых изб, вросших оконцами в землю.: Возле одной такой неказистой избенки сидел на дощечке-лавочке старичок. Он был в валенках и в древней латаной душегрейке.
— Здравствуйте! — дружно поздоровались мы со старцем.
— Здравствуйте! — четко ответил старик чистым и ясным голосом и сморгнул с глаз молочную жидкость, согнал ее к носу в слезинки. — Здравствуйте!
Сергей Алексеевич представился деревенскому, назвал нас с Леонардом Ивановичем, спросил:
— Скажите, пожалуйста, дедушка, где похоронен Коновницын? Герой Отечественной войны двенадцатого года. Вы слышали о таком?
— Петра Петровича знаем, — ответил старик все тем же чистым тихим голосом с хорошей дикцией.
— Так где же он похоронен? Говорили, в деревенской церкви, а церкви не видно.
— Туда идите, — старичок указал рукой в сторону ольховых зарослей, в которых скрывалась дорога, уходящая из деревни. — Только церковь сейчас закрыта, — добавил он. — Священник у нас теперь приходящий. Из Пскова.
— Неужели нельзя попасть в церковь?! — всполошился Сергей Алексеевич. — Может быть, у кого деревенских имеется ключ?
— Не знаю, может быть, — тихо ответил старик, и глаза его вновь заволокло молоком. — Священник у нас теперь молодой, приходящий, ключ при себе держит.
— А вы, дедушка, кем раньше работали? В колхозе? — поинтересовался «Леонард Иванович.
— Нет, я священником Кяровской церкви был. До прошлого года. Теперь стар стал, болею. Припадки у меня и ноги слабы.
— Священником?! Коновницынской церкви!
— Да, тридцать два года священником. А батюшка мой в этой церкви сорок лет с лишним священником был. Молебен служил еще к столетию Отечественной…
Слушая старика, я обратил внимание на его «светскую» речь, даже упоминая батюшку своего, он не добавил привычного в таких случаях «царство ему небесное».
— Скажите, пожалуйста, — поинтересовался я, — вы и до войны были священником?
— Нет, до войны я был учителем. Преподавал в школе физику и химию. В сорок втором году попал в немецкий концлагерь.
— Сохранился ли коновницынский корень? — спросил Сергей Алексеевич. — Или никого из его рода уже не осталось? По крайней мере, тех, кто поддерживает связь со здешними местами? Если не ошибаюсь, у Петра Петровича было два сына и дочь.
— Корни остались, как же, — старик заморгал красными безресничными веками. — Сейчас вот почтальона жду, Мария Ивановна из Москвы таблетки обещала прислать от припадков. Очень хорошо таблетки ее мне помогают. Мария Ивановна — это по линии дочери Петра Петровича Коновницына Елизаветы Петровны, в замужестве Нарышкиной…
Сергей Алексеевич с Леонардом Ивановичем вновь двинулись в путь, я же продолжал разговаривать со стариком. В ту пору я работал над серией очерков о людях Псковского края, и бывший священник Кяровской церкви, поддерживающий связь с потомками коновницынского рода, был для меня, скажем прямо, находкой. Наконец мы условились со стариком, что на обратном пути я обязательно загляну к нему и мы продолжим нашу беседу. Решив так, я поспешил вдогонку за спутниками.
Попасть в церковь, где похоронен Петр Петрович Коновницын с женой Анной Ивановной, нам в тот раз так и не удалось. Как и предупреждал старый священник, двери оказались запертыми. Стояла церковь от деревни в стороне, вокруг никаких построек, ни одной живой души. Мы обошли ее со всех сторон, осмотрели, побродили по кладбищу среди замшелых могил, на крестах и камнях которых можно было еще разобрать надписи: Коновницын, Коновницына… Это были потомки Петра Петровича. Обидно было уходить отсюда так и не увидев могилу его самого. Я отыскал в кустах какие-то старые ящики, подтащил их к оконцу, и мы с Леонардом Ивановичем соорудили из них нечто похожее на лестницу. По очереди взбираясь на это шаткое сооружение, мы заглянули внутрь. Там, в полумраке, слева от алтаря светлели на полу две каменные плиты с надписями. Это и были могилы Петра Петровича Коновницына и супруги его Анны Ивановны.
Несколько часов гуляли мы по коновницынским местам. Никаких построек (кроме церкви) от генеральского имения не сохранилось. Но по заросшему иван-чаем фундаменту бывшего барского дома, но живописным лужайкам возле него, которые умудрялись до сих пор не сдаться наступающим лавинам неистребимой ольхи, по старым живым дубам и высохшим вязам можно было как-то представить себе обстановку того далекого времени…
Назад к большаку возвращались мы через Кярово уже вечером. Солнце висело над лесом, жара спала, но нас донимали теперь лосиные мухи, самая что ни есть гнусная живность в болотистом псковском мелколесье. И с открытых участков тела снять эту плоскую прилипистую муху непросто, когда же она набивается в волосы, за шиворот, да еще тучами… Говоря честно, желание мое вновь встретиться с бывшим священником Кяровской церкви сильно поубавилось. Причиной тому была жара, усталость, проклятые мухи.
Уже на подходе к знакомой избе решил я, что вести беседу с интересным человеком в спешке не имеет смысла. «Извинюсь перед стариком и попрошу перенести наш разговор до следующей встречи, — подумал я. — Приеду в Кярово через недельку-две, один приеду. Вот тогда и поговорим». Это надо же: с потомками Елизаветы Петровны Коновницыной, в замужестве Нарышкиной, держит старик связь! Той самой Елизаветы Петровны, которая добровольно отправилась за своим мужем — полковником Тарутинского полка Михаилом Михайловичем Нарышкиным, приговоренным за участие в декабрьском восстании к восьми годам каторги и вечному поселению в Сибири. Не читая, подписала эта русская женщина документ, по которому отрекалась она навечно от всех земных благ, превращалась из дворянки в жену ссыльного каторжника. Да, дочь Петра Петровича Коновницына оказалась именно той женщиной, при упоминании имени которой нам, мужчинам, следует снимать шляпы.
На знакомой лавочке старика не оказалось. Сергей Алексеевич с Леонардом Ивановичем присели перекурить, я поспешил в избу.
Старик, видимо, жил один. От его жилища у меня по сей день сохранилось такое впечатление: тихо, сухо и пахнет травами. Когда я вошел в горницу, хозяин лежал на кровати под образами. Увидев меня, он с усилием приподнялся на локте и сел, не касаясь валенками пола. Я хотел тотчас извиниться и сказать, что беседа наша откладывается, что мы слишком подзадержались в коновницынских местах и теперь нам необходимо успеть еще на одно важное и неотложное мероприятие, но… Ждал старик меня, это я уже наметанным профессиональным взглядом определил. Он смотрел на меня с каким-то безропотным внутренним ожиданием, с каким могут смотреть только беспомощные, не избалованные жизнью и людским вниманием старики. И я понял, что уходить сразу от него никак нельзя.
— Нагулялись в ваших местах вволю, — бодро проговорил я, присаживаясь к столу, на котором лежал толстый альбом в старом коричневом переплете. Альбом этот принял я поначалу за Библию. — Красивые места, — продолжал я, — только лосиные мухи замучили.
Старик не отвечал, смотрел на меня молочными глазами, моргал.
— Вы один живете?
— Один.
— Кто-нибудь из родных в деревне у вас имеется?
— Уже никого нет.
— Как же вы… питаетесь? Кто в магазин ходит?
— Так… — неопределенно ответил старик и сморгнул с глаз молоко. — Женщина одна приходит, помогает. Да что-то нет ее третий день.
— Третий день? Да, не балуют вас вниманием деревенские, — заметил я.
— Не балуют, — тихо отозвался старик. — Наверное, чем-то я не угодил.
— А преемник ваш? Новый священник? Бывает у вас, помогает чем?
— Бывает. Помогает. Вот луку недавно мне принес, — старик кивнул на связку репчатого лука, висящую на стене среди сухих пучков разнотравья.
— Значит, своим преемником довольны?
— Молодой еще… Табличку с церкви снял.
— Какую табличку?
— У меня повешена была с писанием, что в храме сем прах героя Отечественной войны Петра Петровича Коновницына и супруги его Анны Ивановны покоится.
— Зачем же он снял табличку?
— Сказал, что нарушение…
— Значит, вы с потомками Коновницына связь поддерживаете?
— Поддерживаю. О Петре Петровиче и его близких материалы собираю. Вот посмотрите, если интересуетесь, — и старик указал на альбом, лежащий на столе.
Я придвинул к себе альбом со словами: «А я думал, что Библия у вас».
— Библию у меня украли.
— Украли? Кто?
— Студенты. Два дня жили у меня. Сказали, что присланы из Пскова в деревню специально, чтобы старикам помогать. Дров напилили мне, накололи, воды наносили, забор вон подправили. А потом Библию украли и три иконы. «Божьей матерью» бабушку еще мою родители на замужество благословляли. И ее украли.
— Боря! — донесся с улицы голос Сергея Алексеевича. — Мы пошли. Догоняй!
— Идите, я сейчас! — крикнул я в форточку.
Не знаю, что ожидал увидеть я в старом альбоме, но то, что увидел, меня несколько разочаровало. Серые от времени страницы его были сплошь заклеены газетными вырезками. Все материалы касались только одной фамилии: Коновницыны. Большая часть материалов — о Петре Петровиче, дочери его, сыновьях-декабристах. Вырезки из центральных газет и журналов, из газет Пскова, Новгорода, Гдова. Под каждой заметкой, статьей, очерком аккуратная надпись чернилами: название издания, число, месяц и год. Альбом начат в первые послевоенные годы и заполнен почти полностью. Ничего нового о Коновницыне и потомках его в материалах этих я не находил, за исключением одного: Петр Петрович после Отечественной войны был не только военным министром и, позднее, начальником военно-учебных заведений, но и директором Царскосельского лицея.
— Все сами собирали? — спросил я.
— Сам, — ответил старик.
Я листал альбом, бегло просматривая вырезки. Сколько же надо иметь в сердце сыновней любви к семье Коновницына, чтобы с такой настойчивой последовательностью годами и десятилетиями собирать по крупицам все, к ней относящееся! Собирать и хранить до самых последних дней своих, когда глаза уже застилает молочный туман, когда отказали ноги, когда третий день никто не заглядывает в избу…
Увы, я так и не услышал историю жизни старого кяровского священника. Слушать его походя, второпях, поглядывая на окно? Я так и не решился на это. Извинился, объяснил хозяину дома все как есть и попросил разрешения приехать к нему в самое ближайшее время.
— Приезжайте, — тихо и четко ответил старик, сморгнув молоко с глаз, и мне показалось вдруг, что он улыбнулся. — Буду ждать.
Спутников своих догнал я на краю деревни. Сергей Алексеевич и Леонард Иванович разговаривали с плотниками, которые успели уже установить стропила на срубе и теперь курили внизу, сидя на бревнах. Выбрав момент, я поинтересовался у одного из плотников — приземистого квадратного здоровяка со склеротическим румянцем на щеках: что за человек этот старик, бывший кяровский священник, и почему у деревенских такое к нему отношение — никто по нескольку дней не заглядывает в его избу?
— А… припадочный, — ответил плотник и сплюнул.
Больше вопросов задавать я не стал.
Вновь побывать в Кярово мне удалось лишь на следующий год осенью. Увы, старика уже не было в живых. Кто-то из деревенских сказал мне, что похоронили старика на прицерковном кладбище неподалеку от церковной стены, за которой покоится прах Петра Петровича Коновницына и супруги его Анны Ивановны. Я сходил на кладбище, но отыскать могилу старика не смог. Обильно выпавшие дожди подняли на кладбище густой осенний травостой, и он успел сравнять свежий могильный холм с остальными. А свежепокрашенного креста среди изъеденных ржавчиной не увидел.
ЯКОРЬ
Сергею Воронину приехал в Спицино московский кинорежиссер обговорить киносценарий по воронинскому рассказу и погостить. Режиссер был молодой и крупный. Крупный — в смысле здоровый мужик. Обговорили писатель с режиссером свои дела, отобедали, и пожелал москвич выйти на лодке в Чудское озеро порыбачить. Рыбачить так рыбачить, такому гостю Сергей Алексеевич еще больше рад. Собрались быстро, благо черви для рыбалки всегда под рукой, летом под окном баньки в ящике с землей живут, зимой — в том же ящике в подвале дома. Сергей Алексеевич мужчина не из щуплых, однако ж плащ его, который он на зимней рыбалке поверх тулупа надевает, режиссер на себя с трудом напялил. Сапог резиновых для москвича подобрать, конечно же, не удалось. Натянул он на свои модные индийские штиблеты воронинские «бахилы» — старые армейские химчулки, которые приспосабливают любители подледного лова носить на валенках. На одно плечо режиссера Сергей Алексеевич корзину для рыбы повесил с уложенным в нее якорным концом, на другое — мешок с рыбацко-лодочными принадлежностями; взвалил на широченную спину гостя пудовый кованый якорь — подарок спицинского кузнеца деда Володи, покойника; и, наконец, набросил на крутую шею режиссера красно-белый спасательный круг. Проговорил:
— Весла, удочки, подсачки — на углу сарая. Забирай и дуй к озеру. Остальное хозяйство сам прихвачу.
Погрузились писатель с режиссером в лодку, а на озере «шелоник — на море разбойник» играет. Тот самый юго-западный ветер, о котором профессиональные рыбаки говорят, что, когда задувает шелоник, на нем можно и от берега отбежать, и на том же самом ветру к берегу вернуться.
— Грести умеешь? — спрашивает писатель режиссера.
— Умею, — отвечает гость (а чего москвич не умеет?) и сдувает с бровей пот, никак не может отойти после двухсотметрового перехода от воронинской избы к озеру.
— Садись на весла, а я пока переметом займусь, — Сергей Алексеевич командует.
Отвалила лодка от берега, пробилась сквозь пенистый прибой, на чистую волну вышла.
— Видишь на горке ель? — Писатель вытянул руку. — За ней труба? А за трубой в лесу вышка? Держи все это в створе, к Раскопельским камням пойдем. Шестьдесят гребков в минуту, и через два часа сорок минут будем на месте. Главное, створ не теряй и темп выдерживай. Ну, с богом!
Минут пятнадцать режиссер створ и темп выдерживал, а потом сник. Нос лодки принялся рыскать из стороны в сторону, а то и вовсе заворачивать назад. Весла в руках москвича стали заплетаться, принялись выворачивать ему плечи. А озорник-шелоник тут как тут. Поднатужился, поднажал на волну, и перепрыгнула она через низкий борт воронинской лодки. И сразу отяжелела лодка, остановилась, закачалась под напором шелоника угрожающе.
— Давай-ка ты, парень, на корму, — скомандовал Сергей Алексеевич, — и бери черпак. Еще столько заберем, и будем купаться. Вода сейчас холодная, до берега в одежке не доплывем. Так что, ежели жить хочется, черпаком шустри.
Сел Сергей Алексеевич на весла, выровнялась лодка, пошла как по струне. Режиссер на корме тоже вошел в рабочий ритм, откачивает воду хорошо, черпака в руках не углядеть. За работой и разговорами два с половиной часа пролетели незаметно. Пришли на место. Огляделся Сергей Алексеевич и поцокал досадливо языком.
— Видишь, чайки где? — режиссера спрашивает. — Снетка берут. А где снеток, там и крупный окунь, он снетком кормится. Минут сорок еще хода, надо поднажать.
Поднажал Сергей Алексеевич, вплотную к галдящей ораве чаек подошел. Говорит тихо:
— Теперь работаем в темпе! Снеток двигается, не упустить бы место. Давай на нос, готовь якорь. А я удочки разберу.
Перебрался режиссер на нос лодки, ухватился за якорь. На носу — как на качелях. То берег едва различимый появится, то вода вокруг да небо с чайками. Ветер свищет, брызги глаза слепят, стошнило мужика. Не до рыбалки уже, а что делать? Не проситься же назад.
— Готов якорь? — Сергей Алексеевич бодро спрашивает, не поворачивая головы к режиссеру, и азартно подрабатывает веслом, держит лодку против волны.
— Сейчас… — бормочет режиссер.
— Готов?!
— Ага…
— Отдать якорь!
— Чего? — переспрашивает режиссер.
— Бросай якорь, говорю! Место проскочим.
— Сейчас брошу… — Режиссер взвалил якорь на грудь, изготовился…
— Что ты делаешь! — завопил писатель, поворачиваясь. — Стой! Стой!
Но было уже поздно. Режиссер, поднатужившись, остервенело швырнул голый якорь за борт. С таким усердием швырнул, что сам едва из лодки не вылетел.
— Что ты наделал, паразит? — со слезами в голосе проговорил Сергей Алексеевич. — Что наделал!
— А что… Вы же сами… — робко возразил гость.
— Веревку-то почему не привязал? Утопил якорь! Такой якорь! Деда Володи память…
— Да-а, — виновато протянул режиссер, — как-то из головы все вон… Редко бываю на воде.
На автобусную остановку провожать кинорежиссера Сергей Алексеевич Воронин не пошел. Распрощались возле избы. Про неудачную рыбалку и утопленный якорь писатель, конечно же, больше не вспоминал, о делах серьезных говорили. Но когда скрылся автобус с режиссером за поворотом, подумал вслух:
— Нет, парень, с тобой мы, видно, не сработаемся…
И не сработались. Не получился фильм по воронинскому рассказу у молодого кинорежиссера. Не сумел он увязать в нем концы с концами, а может, забыл что-то привязать. В воронинских рассказах к тому же не только концы увязывать надо, но и судьбы людские, сердца человеческие. А это не каждому дано.
ЕСТЬ В РОССИИ…
1
Однажды в начале лета в доме моем раздался телефонный звонок. Взяв трубку, услышал я голос товарища своего, ленинградского поэта Антонина Чистякова:
— Обращаюсь к тебе от имени Федора Александровича Абрамова с просьбой, — проговорил Антонин, поздоровавшись. — Не можешь ли ты покатать нас с Федором Александровичем на своем «Москвиче» по Лужскому району и Новгородчине? Недельку хотя бы. Понимаешь, задумали мы с ним написать в соавторстве неторопливый очерк о землях Нечерноземья, а если получится, то и серию очерков, — пояснил Антонин. — Название для первого очерка, которое и тему его определяет, уже имеется: «Пашня живая и мертвая». Темы других очерков обсудим в пути. Федор Александрович предлагает еще что-нибудь о красоте написать.
— О какой красоте? — не понял я.
— Ну, вообще… Которая человека окружает или окружать должна, которая настрой ему хороший создает, жить помогает веселее, с радостью. Но об этом позже. Как ты в принципе к просьбе Абрамова и моей относишься? Мне кажется, что такая поездка и для тебя небезынтересной будет. Строгого маршрута мы не выбираем, будем ориентироваться по обстановке и по настроению, но конечная цель пути — моя деревня Жуково в Боровичском районе, ты ее знаешь. В очерке отталкиваться начнем от угора, на котором изба прародителей моих стоит. Ну так как? Выкроишь недельку?
— Недельку, пожалуй, смогу.
— Тогда договорились. Приезжаем с Абрамовым в Лугу в следующий понедельник.
2
С писателем Абрамовым познакомился я в доме творчества «Комарово». В ту пору учился я заочно в Литературном институте, и комиссия по работе с молодыми авторами при Ленинградской писательской организации нет-нет да и подбрасывала заочникам литинститутовцам бесплатные путевки (только зимой) в писательский дом. В «Комарово» соседом моим оказался невысокого роста человек, коренастый, заметно прихрамывающий, с неприветливым выражением лица. Даже сталкиваясь с ним в коридорных дверях, я не решался кивнуть ему или поздороваться — так холодно и отчужденно смотрели на меня из-под крутых надбровных дуг затененные, без блеска, глаза. Упрямо вздернутый подбородок и жесткая линия губ придавали лицу моего соседа выражение какой-то прокурорской строгости. Однажды за завтраком хмурый сосед подошел к нашему столику и, обращаясь ко мне, спросил:
— То само, юноша, это вы живете рядом со мной?
— Я.
— Могли бы вы, юноша («юноша» у него звучало примерно как «козел»), не стучать машинкой спозаранку?
— Могу конечно. — Я растерялся от неожиданного вопроса. — А когда можно стучать?
— Ну, то само, хотя бы с восьми часов.
— Хорошо.
— Капризничает классик, — произнес чей-то голос, едва сосед мой отошел от стола, — видать, роман застопорился. Он сейчас над третьей книгой работает.
— Кто это? — спросил я.
— Федор Абрамов, — последовал ответ.
По вечерам в доме творчества писатели играли в бильярд. В просторной комнате с высоким потолком стояло два бильярдных стола. Писатели, как правило, предпочитали играть на малом столе, большой пустовал. После ужина я заходил в бильярдную комнату и, пристроившись на стуле где-нибудь в укромном уголке, наблюдал за игрой. Вернее, за играющими. Одним из завсегдатаев бильярдной был Федор Александрович Абрамов. В свое время мне доводилось увлекаться игрой на бильярде, и тогда, наблюдая игру необщительного своего соседа, я с уверенностью определил: Абрамов далеко не мастер бильярдной игры, хотя большинство партий у своих партнеров выигрывает. Кий писатель держал неумело, плотно зажав его в кулаке, словно топорище плотницкого топора. И прицеливался по шару опять же не как стрелок по принципу «прицел — мушка», а как-то сбоку, словно намечал на бревне линию стеса. По шару не бил, а легонько тюкал. И оттого шары у него в лузу не «ложились», как принято говорить у бильярдистов, а мягко падали без всякого эффекта. Казалось даже, что соседу моему просто-напросто везет и в лузу заходят случайные шары.
Как-то раз заглянув в бильярдную комнату, я увидел Абрамова, в одиночестве гоняющего шары по зеленому сукну стола.
— То само, юноша, партию? — предложил Федор Александрович.
— Можно.
Очень быстро я повел в счете, и скоро сосед проигрывал мне пять «сухих» шаров. Федор Александрович нахмурился, помрачнел, принялся подолгу размышлять над каждым шаром, хромать вокруг стола круг за кругом. По всему было видно, что самолюбие писателя всерьез задето. Размочив наконец счет, он повеселел, пробормотал удовлетворенно: «Знаем мы, то само, как вы в шашки не играете». И тут же вкатил в лузу второй шар. Затем принялся играть с большей еще осторожностью, избегая всяких рискованных ударов, после которых могла возникнуть для меня «подставка». Такая манера игры стала выводить меня из равновесия, я все чаще и чаще промахивался и с трудом сдерживался, чтобы не спросить: «Федор Александрович, уж не корову ли вы проигрываете?» А Федор Александрович, не меняя тактики игры, понемногу догонял меня, приговаривая: «Знаем мы, то само, как вы в шашки не играете…»
Понемногу я пообвык в доме творчества, втянулся в работу. Сидел целыми днями взаперти в писательской келье, стучал на машинке. Памятуя просьбу соседа, печатать начинал ровно в восемь часов утра. В это время Абрамов выходил на улицу делать зарядку. Из окна номера я видел, как он в старомодном лыжном костюме неумело разминается в заслеженном саду: размахивает руками, наклоняется, приседает. Потом тяжело, грузно припадая на ногу, бежит по наезженной дороге в сосновый бор. Видел я его и уходящим в лес на лыжах или возвращающимся из леса. У меня создалось впечатление, что Абрамов занимается активными физическими упражнениями отнюдь не из любви к спорту, а скорее из необходимости разогнать застоявшуюся кровь. Когда сосед мой пишет, я не знал. Стука пишущей машинки за стеной не слышал ни разу. При встрече Федор Абрамов по-прежнему смотрел на меня хмуро, на приветствие отвечал едва заметным кивком головы, но все чаще предлагал сразиться с ним на бильярде. Играл я с ним всегда в полную силу, никаких поблажек в игре партнеру своему не давал (даже кий мы выбирали жребием), но словесное общение писателя со мной в процессе игры не шло дальше одной его фразы: «Знаем мы, то само, как вы в шашки не играете». Только раз Федор Александрович вдруг поинтересовался:
— В Ленинграде живете?
— Нет, в Луге.
— Как сюда, в дом творчества, попали?
— От комиссии по работе с молодыми авторами. В Литинституте учусь заочно, вот предложили поехать…
Писатель уколол меня быстрым взглядом, как бы прикидывая мою «молодость», спросил:
— Работаете где?
— В заготконторе сейчас работаю. Грузчиком.
— Грузчиком? — с едва проклюнувшимся интересом переспросил писатель. — Живете не в Ленинграде, учитесь в Литинституте, работаете грузчиком. О! Может, и пишете еще? — по лицу Федора Александровича скользнула едва уловимая усмешка.
— Пишу.
— И что, всю жизнь работаете в заготконторе?
— Да нет, третий год. Военное училище кончал, в армии долго служил, в газете работал.
После этих слов писатель окончательно потерял ко мне интерес и, сдавая партию, молчал, поигрывая желваками скул.
Кончался срок моего пребывания в писательской келье. Покидая дом творчества, я столкнулся в вестибюле с Федором Абрамовым.
— До свидания, Федор Александрович, — попрощался я, — уезжаю.
— Уже? — удивился писатель. — С кем же я теперь в бильярд играть буду? Ну, то само, счастливо, — проговорил он с неожиданной приветливостью в голосе и вдруг спросил: — Антонин Чистяков ваш приятель?
— Мой товарищ.
— Давно его знаете?
— Несколько лет.
— Что можете сказать о нем?
— Что сказать? — не понял я.
— Ну, то само, порядочный он мужик? Элементарно?
— Порядочный. По крайней мере, я его знаю только таким.
— Счастливо! — повторил Федор Александрович и, резко повернувшись, захромал по лестнице наверх.
3
Когда я пишу эти строки, ни Федора Абрамова, ни Антонина Чистякова, увы, уже нет в живых. И если трагическую гибель Антонина Чистякова перенес я как личную утрату близкого человека, то смерть Федора Александровича Абрамова ударила в сердце опустошающе, как невозвратимая утрата для всей русской писательской культуры. Такую боль я испытывал только после смерти Николая Рубцова, Василия Шукшина, Владимира Высоцкого.
В отличие от прозаика Федора Абрамова, имя ленинградского поэта Антонина Чистякова не пользовалось столь широкой известностью. Многие читатели впервые познакомились с Чистяковым, прочитав остропублицистические очерки «Пашня живая и мертвая», «От этих весей Русь пошла…» — все, что успели Федор Абрамов и Антонин Чистяков сделать совместно в публицистике. Вот почему, прежде чем продолжить рассказ о встрече с писателями на лужской земле, хочу я коротко познакомить читателей с Антонином Чистяковым.
Антонин Федорович Чистяков был всего на пять лет младше Федора Александровича Абрамова. Родился он в деревне Сушилово Боровичского района Новгородчины. В деревне Жуково, что в полукилометре от Кончанского-Суворовского и куда намечен наш писательский маршрут, проживала его мать Дарья Степановна. В 1931 году, когда Антонину исполнилось шесть лет, Дарья Степановна умерла. Отец ушел на заработки, оставив малолетнего сына на попечение родственников. Мне довелось немало поколесить по Новгородчине с Антонином Чистяковым, не раз бывал я в его крошечной избенке в деревне Жуково, заночевывали мы с ним и у его старых теток в Боровичах. Помню, его тетя Ната рассказывала о том, как выжил Антонин в те трудные годы. Он приходил на нетвердых еще ножках в дом одной из своих теток, в котором и без него хватало голодных детских ртов, и жил в этом доме два-три месяца. Потом уходил к другой тетке. Его никогда не выгоняли, не намекали на «пора», он всегда уходил сам. Он знал уже, когда надо уходить. Тетя Ната говорила, что именно эта недетская проницательность и понимание жизни ребенком Антонином поражали в ту пору всех ее сестер.
И еще запомнился мне один эпизод из биографии Антонина Чистякова, услышанный от тети Наты. Позднее я слышал о нем от многих родственников Антонина. Это произошло в начале сорок третьего года, накануне прорыва блокады Ленинграда. Семнадцатилетний рядовой Антонин Чистяков, призванный в армию со школьной скамьи, совершив лыжный марш в строю новобранцев по Ладожскому озеру, входил в заснеженный малолюдный Ленинград. И вдруг из встречной колонны изможденных людей кто-то крикнул: «Антонин!» Это был Павел Ефимов, двоюродный брат Чистякова, один из тех его братьев, мать которого привечала Антонина в своем доме в детстве. Не пришедший еще в себя от лыжного перехода, ослепший от света ладожских прожекторов, Антонин Чистяков все же узнал брата. Успел на ходу развязать мешок и бросил в руки Павла буханку хлеба — весь свой многодневный блокадный «НЗ». Потом Павел Ефимов говорил, что та буханка Антонина спасла ему жизнь.
После войны Антонин Чистяков закончил Новгородский педагогический институт, работал учителем в Боровичах и Тосно. Затем окончил филологический факультет Ленинградского университета, работал в калининской газете «Смена», в «Новгородской правде». В Ленинграде стал жить постоянно с 1969 года.
В разные годы у Антонина Чистякова вышли в свет девять сборников стихов. Первый сборник — «Край мой Новгородский» — появился в 1955 году. Последний — «Твердыни» — вышел в Москве уже посмертно. Что можно сказать о стихах Чистякова? Да и можно ли вообще что-то говорить о стихах? Стихи надо читать. Кому-то они лягут на душу и сердце, кому-то не лягут, на то они и стихи. Доводилось мне видеть плачущих женщин в цехах лужской трикотажной фабрики, где частенько выступал Чистяков и читал свою «Мать», видел я и зевающих студентов на занятиях литературного объединения в Ленинградском университете, где Антонин читал те же стихи.
Мое знакомство с Антонином Чистяковым состоялось в Москве в Литературном институте имени Горького на первой — установочной — сессии заочного отделения, где училась и его жена Наталья. По характеру Антонин Чистяков был исключительно спокойный, выдержанный и тактичный человек. И молчаливый. С ним хорошо было в дороге. Он не мешал разговорами, не мешал наблюдать, размышлять, любоваться. Лишь одна черта в его характере иногда раздражала меня: безответность. С одинаковой бессловесной безответностью сносил он и замечания хмельного швейцара, и брюзжание литературного критика, и нравоучения собственной жены. На любое проявление неудовольствия, направленное против него, Антонин Федорович отвечал всегда философским прерывистым вздохом: «О-хо-хо, хо-хо!»
4
В Литературном институте многие свои контрольные и курсовые работы по современной литературе выполнял я по произведениям Федора Абрамова. Творчество этого писателя знал — не побоюсь слова — превосходно. Порой мне казалось, что детство мое прошло не в деревушке Раковичи, что в десяти километрах от Луги, а в деревне Пекашино на берегу красавицы Пинеги. Бывая в своей деревне, я иногда путаю знакомых с детства мужиков и баб с абрамовскими братьями и сестрами. Так похожи мои деревенские и судьбы их на героев абрамовских романов и повестей.
Помнится, написал я и отослал в Литинститут контрольную работу по абрамовской «Пелагее». О «Пелагее» тогда в газетах и журналах появлялось немало статей и рецензий. Многие из них меня не удовлетворяли. Сводились они в основном к тому, что Пелагея едва ли не напрасно прожила свою жизнь — без любви, без радости, приспосабливаясь и угодничая перед такими людьми, как малограмотный ревизор Петр Иванович, который, однако ж, умеет любому задать науку, как задал Пелагее, — насчитать пять тысяч рублей недостачи или не насчитать. Что вся жизнь Пелагеи была подчинена накопительству, тряпкам, которые дочь ее Алька после материной смерти разбазарила за два дня. И в результате, мол, закономерный финал: всеми покинутая Пелагея умирает в пустом доме.
Ох как не согласен я был с подобной односторонней трактовкой сложного образа Пелагеи. Да я ли один?
Как-то в городской нашей лужской библиотеке состоялась читательская конференция по абрамовской «Пелагее». Присутствовал на этой конференции и профессиональный критик из Ленинграда — румяная пухленькая дамочка лет тридцати пяти, вся в белых кружевных оборочках. И при ней здоровенный неопределенных лет товарищ присутствовал, чем-то похожий на нашего заготконторского конюха — возчика Петю Квашню, то ли муж ее, то ли приятель, то ли тоже критик. Много разных мнений по повести Абрамова «Пелагея» высказано было на той конференции читателями и критиком. Критик особенно на Пелагею наскакивала, все простить ей не могла, что та из колхоза на пекарню сбежала. Что ради куска хлеба честь свою женскую в грязь втоптала, мужнюю любовь предала, морально-нравственно себя опустошила.
После выступления критика поднялся из конференц-читательских рядов пожилой мужчина и принялся так говорить:
— Как мы знаем, товарищи, одной из главных задач нашей литературы является: отразить, запечатлеть время, в котором мы живем, нашу действительность. Каждый писатель стремится выполнить эту задачу, но не каждому удается сделать это по разным причинам. Одному таланта не хватает, другому — гражданской и писательской смелости, третий просто-напросто жизни не знает, а порой и знать ее не хочет. Федор Абрамов, на мой взгляд, тот самый писатель, по произведениям которого потомки наши нелегкое и сложное время наше изучать будут, людей его. Тех самых людей, которые войну мировую вынесли и послевоенные годы.
Образ Пелагеи считаю большой удачей автора. Абрамовская Пелагея не ходячий запрограммированный робот, лишенный каких-либо недостатков, а живой человек. Понятно, что война и голодные послевоенные годы, когда на руках у нее зачах первенец, не могли не отметить Пелагею своей печаткой. Хлеб для нее стал символом жизни, благополучия и счастья ее детей. Но символом не только для живота, а и духовным, приносящим радость и удовлетворение. Вот почему, на мой взгляд, так стремилась Пелагея к пекарне, где работать было совсем не легче, чем колхозной дояркой. Ради этой мечты и допустила она до своего тела Олешу-рабочкома. Подчеркиваю: до тела, но не до души, как уверяет здесь молодой критик. Для Пелагеи Олеша был просто грязью, которую она ежедневно месила утром и вечером голыми ногами. И она изгнала эту грязь из своего тела в бане двумя вениками.
Молодой критик уверяет нас, что тяга к хлебу лишила Пелагею всех радостей жизни. Прошу прощения, но и здесь не согласен. Самые светлые минуты Пелагеиной жизни связаны именно с пекарней, с трудом, хотя этот труд возле раскаленной печи, когда даже кирпичи сгорают от жара, отобрал от нее здоровье и саму жизнь. Помните, как там: Пелагея шла в пекарню как на праздник, с музыкой в душе. А как радовалась она, когда удавались хлеба, как гордилась своим трудом!
Или вспомним другой эпизод, когда Пелагея две недели днем и ночью подряд выхаживала больного мужа (дай бог каждому такую жену), а потом пришла на пекарню и как бы заново почуяла хлебный дух. Ведь она плакала от радости и, прошу прощения за избитое слово, от счастья. А как иначе назвать эти слезы, этот порыв души? Не многие из нас, сидящих здесь, могут похвастаться, что плакали подобными слезами. Как можно утверждать после этого, что Пелагея прожила жизнь без радости. Она умела радоваться и удачным хлебам, и красоте своей дочери Альки, и красоте природы. Позвольте прочитать вам несколько строчек из повести.
Мужчина достал из кармана очки, пристроил их на носу и, взяв в руки журнал, принялся неторопливо, с чувством читать:
— «Река встретила Пелагею ласково, по-матерински. Оводов уже не было — отошла пора. Зато ласточек-береговушек было полно. Низко, над самой водой, резвились, посвистывая.
Остановившись на утоптанной тропке возле травяного увала, Пелагея с удовольствием наблюдала за их игрой, потом торопливо потрусила к спуску: у нее появилось какое-то озорное, совсем не по возрасту желание сбросить с ног ботинки и побродить в теплой воде возле берега, подошвами голых ног поласкать песчаный накат у дресвяного мыска».
Книголюб кончил читать, приподнял очки и оглядел собравшихся маленькими светло-детскими глазками, как бы спрашивая: «Кто еще решится утверждать после этого, что Пелагея не радовалась жизни?»
— Вы делаете упор на положительные черты характера Пелагеи, — возразила критик. — Давайте поговорим об отрицательных. Мне кажется, автор не случайно показал столь грустный финал человеческой жизни: смерть в одиночестве. Это символично. Пелагея прошла по жизни своей узкой тропкой, сторонясь людей, украдкой таская с пекарни помои для поросенка, приспосабливаясь к мелким людишкам и обстоятельствам. К чему стремилась она? К накопительству. Даже дочь Алька не принимала ее такой и оставила мать.
— Эх, милая девушка, — вздохнул читатель. — Финал человеческой жизни, как вы выразились, увы, всегда грустен. Ее, костлявую с косой, человек встречает всегда в одиночестве. Вот у меня прекрасные дети, внуки уже, друзья, но когда я слышу «ее» стук в дверь, а этот стук я слышал уже дважды, я одинок. Поверьте мне. Давайте же не акцентировать внимания на этих грустных минутах, которые определены природой каждому. Ведь мы же с вами оптимисты, жизнелюбы, какой была и Пелагея…
Потом книголюб много еще хорошего говорил о Пелагее. О том, как постепенно оттаивала, отходила душа ее от голодных послевоенных лет и как с удивлением открывала она для себя новый мир, в котором человек не единым хлебом живет. Как даже бравый офицер-красавец, так душевно называвший ее «мамашей» и обманувший затем Альку, не смог отпугнуть ее от людей, и решила Пелагея вернуться на колхозную ферму к подругам-дояркам, от которых ушла много лет назад. Но слишком поздно. Выгорающие кирпичи заменялись ежегодно, а Пелагея стояла возле раскаленной печи два десятка лет бессменно.
— Твоя Пелагея тоже хороша, — выкрикнул кто-то из зала, — нечего из нее святую делать! Знаем! У нас в деревне после войны тоже была такая. В военном городке на пекарне работала. Всю деревню в кулаке держала, мироедка. И хоть бы кто слово поперек сказал.
— Повар с голоду не помирает, — вздохнул старушечий голосок. — А в брюхе загложет, так и ухо заложит…
После выхода новой абрамовской повести «Алька», продолжения «Пелагеи», по которой я также делал контрольную работу, образ Пелагеи значительно прояснился. Оставила Пелагея свой след на земле, в памяти людской оставила. Простили ей люди ворованные помои для поросенка, забыли про них. А тропу к пекарне, которую двадцать лет натаптывала Пелагея, нарекли Паладьиной межой. И вот уже приезжают из города в деревню любопытные ученые люди, интересуются: почему «Паладьина межа»? Кто такая была Паладья, чем знаменита?
И в памяти дочери своей Альки мать-Пелагея след-борозду оставила, свое зерно заронила. Как бы ни металась по свету Алька, как бы ни ломала ее судьба, я, как читатель, верю, что Пелагеево зерно в душе Альки прорастет, даст корни, которые помогут Альке тверже стоять на земле.
5
Федора Абрамова и Антонина Чистякова встретил я на перроне Лужского вокзала рано утром. Оба были налегке, с одними портфелями в руках, оба невысокие, коренастые и, несмотря на поразительную несхожесть характеров, в чем-то очень похожие друг на друга.
Федор Александрович Абрамов, на мой взгляд, приехал в Лугу в неважнецком настроении. Выйдя из вагона и поздоровавшись, он сразу заворчал на Чистякова:
— То само, Антонин, говорил тебе: не надо рано ехать. Зачем рано приехали? Какая нужда была рвать ночь?
— О-хо-хо, хо-хо, — ответил Антонин позевывая.
— То само, Борис, что предлагаешь делать? — спросил меня Абрамов.
— Предлагаю уху, Федор Александрович, а там видно будет.
— А ты, Антонин?
— Уха — это хорошо, — сказал Антонин.
Уха писателям понравилась.
— Значит, такую программу предлагаю, — проговорил Федор Александрович, поднимаясь из-за стола. — Сейчас едем по этому вот адресу, — Абрамов протянул мне бумажку, на которой написано было название улицы, номер дома и квартиры. — Знаешь, где это?
— Это недалеко. В новом районе у реки.
— Там моя школьная учительница живет. Хочу проведать. Потом, то само, поедем… Ну, куда поедем, потом и решим.
Здесь надо сразу сказать, что в путешествии, которое совершили мы по Новгородчине и отчасти по Лужскому району, партнерами мы были неравноправными. Командовал парадом Федор Абрамов. Антонин Чистяков был у него вроде как на подхвате, я шоферил. Федор Александрович без излишних с нами советов выбирал маршруты поездок, места остановок и ночлега. Он беседовал с людьми, он задавал вопросы ответственным лицам, проверял документы, он платил. Платил в самом прямом смысле этого слова. Платил за наши обеды в придорожных столовых, за продукты, которые покупали мы в магазине, и даже за бензин. Насчет бензина я было попытался возразить, но Федор Александрович решительно пресек мои возражения, заключив: «У меня, то само, много денег, Борис. Много денег». Я, конечно же, знал, что у кого много денег, тот никогда об этом не говорит, но спорить с Федором Александровичем по этому вопросу было бесполезно. Он всегда и за все расплачивался только сам.
Первый наш выезд оказался для Федора Александровича, на мой взгляд, не совсем удачным. Хотя, возможно, я и ошибаюсь.
Когда мы подъехали к дому, в котором жила его школьная учительница, мне показалось, что Федор Александрович немного волнуется. Про учительницу свою он ничего нам с Антонином не рассказывал, сказал только, что не видел ее с довоенных своих школьных лет. Едва «Москвич» наш остановился у нужного подъезда, Абрамов проговорил, обращаясь ко мне (Антонин в это время дремал на заднем сиденье):
— То само, Борис, проводи меня до ее дверей. Если она дома, подождите меня в машине. Через полчаса выйду.
— На заправку бы надо съездить, Федор Александрович. За полчаса мы с Антонином управимся.
— Хорошо, заправляйтесь. Пошли.
Мы поднялись с Абрамовым на четвертый или пятый этаж. Нажимая кнопку звонка, Федор Александрович уже откровенно волновался, это я совершенно четко определил по его лицу.
Видимо, у писателя с учительницей все же была предварительная договоренность о встрече. Абрамову долго не пришлось объяснять хозяйке, кто он и зачем пришел. Распахнулась дверь, и я увидел седую, статную и совсем еще не старую (как ожидал увидеть) женщину.
— Я — Федор Абрамов, — представился писатель.
Женщина молча прижала руки к груди и отступила в глубь прихожей, пропуская гостя. Я прикрыл за Федором Александровичем дверь.
Садясь за руль, я посмотрел на часы. Было девять часов тридцать минут. Только бы на заправочной не было очереди…
Без трех минут десять мы с Антонином Чистяковым вернулись с заправочной станции и вновь встали возле подъезда, поджидая Абрамова. Прошло пять минут, десять, пятнадцать, Федор Александрович не появлялся. И вдруг мы увидели его хромающим по улице откуда-то со стороны реки. Он подошел к машине красный от гнева и плюхнулся на сиденье рядом со мной со словами:
— То само, это бардак! Полчаса ищу вас по всему городу! Так работать нельзя. Ничего у нас с вами, то само, не получится.
Федор Александрович завелся не на шутку. Никаких объяснений слушать не хотел, гневался и на меня, и на Антонина, на что Чистяков отвечал своим обычным: «О-хо-хо, хо-хо!»
Мы уже ехали по городу, а Федор Александрович все не унимался, возмущался, распаляя себя все больше и больше. Я остановил машину, выключил мотор. Повернувшись к Абрамову, спросил:
— У вас все, Федор Александрович? Тогда выслушайте, пожалуйста, меня. С таким настроением и в такой атмосфере нам действительно ехать никуда нельзя. И вина в этом, извините, ваша. Вы дали нам на заправку тридцать минут, мы уложились в это время, какие у вас могут быть претензии? В чем наша вина? В том, что вы заблудились, или в том, что у вас неважнецкое настроение? Ничем не обоснованные ваши капризы мне просто-напросто непонятны. И, в конце концов, в лакеи к вам я не нанимался…
Я говорил, Абрамов внимательно меня слушал. Нахмуренные брови его разглаживались, приподнимались, глаза вдруг засветились усмешливо. Мне подумалось даже: уж не разыгрывает ли Федор Александрович нас с Антонином брюзжанием?
— Антонин, — Абрамов повернулся к Чистякову, — я, то само, вправду обещал через, полчаса вернуться?
— О-хо-хо, хо-хо! — вздохнул Антонин. — Всегда ты, Федор, не по делу заводишься. Голова ажно болит.
— Ну, голова-то у тебя знамо дело отчего болит. А ты, Борис, то само, не сердись. Выходит, я виноватый перед вами. Ты, когда я ворчу, не обращай внимания. У меня плохой характер. Ой, плохой характер! Знаешь что, Борис, покажи-ка ты нам с Антонином в своем городе то, что сам захочешь показать. А после обеда поедем в район. Хочу хорошую молочную ферму посмотреть.
— Хорошо, Федор Александрович, едемте.
— Куда? — спросил Антонин.
— На Лужский абразивный завод, бывший «Красный тигель». В заводской музей.
Мне показалось, что при этих словах моих Федор Александрович слегка поморщился. Но промолчал.
6
Главу эту начинаю я исходя из того, что читатель прочитал в книге очерк «Красный тигель». Иначе многое для него непонятным будет. Что за абразивный завод, какие такие еще тигли выпускает и зачем? Кто такой Иосиф Каспржик? И другие недоуменные вопросы могут возникнуть.
Конечно же, с моей стороны предложить Федору Абрамову посетить заводской музей (Чистяков бывал в этом музее прежде) было делом рискованным. Приехать из города музеев Ленинграда, чтобы попасть в музей заводской? Тем более человеку и писателю, тяготеющему к природе и сельской теме в своем творчестве? От одного этого предложения настроение Федора Александровича могло испортиться вконец.
Здесь я сделаю небольшое отступление. Сразу и без обиняков скажу: самым интересным в музее Лужского абразивного завода является общественный директор музея Сергей Арсентьевич Николаев. И, приглашая писателей в заводской музей, я надеялся заинтересовать Абрамова не столько экспонатами и даже историей завода, сколько личностью Сергея Арсентьевича, старейшего мастера тигельного производства. Лично я знаю Сергея Арсентьевича Николаева с детских еще лет. В послевоенные годы мы, школьники, приходили экскурсиями на «Красный тигель» и слушали его рассказы о заводе. Рассказы эти вели и другие работники завода, имена которых запомнились мне на всю жизнь: Ипатов, Галушко, Снигирев. Все они позднее и стали основателями заводского музея. Но интереснее всех и увлекательнее о заводе и людях его рассказывал нам Сергей Арсентьевич. Работать на «Красном тигле» начал он еще в двадцать седьмом году, подручным у Иосифа Каспржика. Старый мастер не сразу открыл свои тигельные секреты новой власти и потому очень не любил любопытных глаз, когда работал. Весы, на которых взвешивал Иосиф Каспржик компоненты будущих тиглей, прикрывали со всех сторон фанерные щитки, чтобы не видно было гирь. И стоило его подручному Сергею Николаеву заглянуть за оградительные щитки, как он тут же получал от мастера увесистый щелчок по лбу.
Особенно любили мы, мальчишки, слушать рассказ Сергея Арсентьевича о том, как ловили они в тигельном цеху вредителя. Замечать стали с некоторых пор, что при обжиге тигли вспучиваются в разных местах бугорками. А во время плавки металла в таких тиглях они давали вдруг течь. Стали на заводе думать: отчего такое происходит? И к такому выводу пришли: вредительство. Решили за сырыми заготовками тиглей установить круглосуточное наблюдение. Пробили в стене дырку и в эту дырку стали наблюдать. И вот однажды такую картину видят. Вышел из формовочного цеха человек, закурил, огляделся, а потом — в сырой тигель сунул обгорелую спичку и конец ее осторожненько тигельной массой замазал. Нетрудно представить, что с таким тиглем далее произойдет. Станут в нем плавить металл, спичка выгорит. Схватили вредителя.
И еще любили мы слушать рассказ Сергея Арсентьевича о том, как прекратил свое существование в Ленинграде, не выдержав конкуренции с лужскими тиглями, концессионный завод Моргана.
В заключение своих рассказов Сергей Арсентьевич выделял всегда самым внимательным слушателям по паре досок от бочек из-под графита. Доски эти славились у мальчишек как отличный материал для самодельных лыж. Половина лужских послевоенных мальчишек, в том числе и я, каталась на «николаевских» лыжах.
Позднее нас сдружил с Сергеем Арсентьевичем лес. Мастер знал «лесной секрет», который я не мог выпытать у него много лет. Не выходя в лес, Сергей Арсентьевич всегда знал: там-то пошли лисички, там-то вышел слой белых, там-то появился белый груздь. Это «там-то» находилось порой за добрую сотню верст от города. Приходилось в час ночи садиться на псковский поезд, в три часа ночи выходить на разъезде и еще ровно три часа в темноте шагать по невидимой тропе. А потом ставь корзину на землю и укладывай в нее белые грибы. Бери столько, сколько сможешь донести до разъезда. И ни разу у нас с Сергеем Арсентьевичем не было грибной осечки. На все мои мольбы открыть свой «лесной секрет» мастер лишь посмеивался. И только тогда, когда работал уже я фотокорреспондентом в лужской газете и подарил Сергею Арсентьевичу для музея газетный архив (диван фотопленок, которые редактор приказал выбросить), мастер открыл мне «лесной секрет». Пришли мы с ним на базар, подошли к дощатым лоткам, на которых продавали «дары леса» грибники и ягодники. Говорит: «Видишь, вон тот рыжий с деревянной ногой? Гаврилов Петр. Его зять у нас на заводе формовщиком работал, а теперь лесником на Липовых горах. Так что, ежели Гаврилов на базаре с белыми грибами появился, на Липовые горы поспешай. Гавриловы всей семьей белые только на Липовых горах берут. А вон высокая старуха в белом платке. Макаровна. Она на Марусиной даче живет. Ежели ее с рыжиками или груздями на базаре увидел, дуй с корзиной на Марусину дачу. Ну а ежели волнушек «царских» захотел, за тем вон толстяком следи. Он волнушку по берегу Луги аж возле Осмино берет. До революции осминскую волнушку к царскому двору поставляли. Целые деревни только волнушку заготовляли. Чтобы грибок к грибку и не больше каждый двухкопеечной монеты…»
Выйдя на пенсию, Сергей Арсентьевич Николаев многие годы уже является общественным директором заводского музея. Как о директоре музея сказать о нем коротко можно так: музейного дела фанатик. Вся его сегодняшняя жизнь заключена в музейных делах-хлопотах. Музей хотя и заводской, но по тематике представленных в нем экспозиций давно перешагнул заводские границы, историю города и района своим вниманием охватил. Даже дверей у музея две: одна на городскую улицу выходит — заходи любой желающий, другая выведет прямо в заводские цеха тигельного участка. И рабочий от станка в обеденный перерыв даже заглянуть в музей может, и сторонний экскурсант с улицы. Если учесть, что в музее частенько различные заводские собрания и семинары проводятся, посвящение в рабочий класс и другие мероприятия, а с улицы идут в музей экскурсанты-одиночки и организованные группы с других заводов и фабрик, домов отдыха и городских школ, то станут в какой-то мере понятными дела-заботы общественного директора музея. Всех приходящих встретить надо, всем показать все, рассказать и самому кое-что послушать. К вечеру прибрать все в музее, подмести пол, а то и вымыть, а года-то уже не те. Отличительной чертой Сергея Арсентьевича, как общественного директора музея, и то является, что он, как говорят порой газетчики, «держит руку на пульсе времени». Рабочий день свой строит так, что непременно выкроит из него время побывать в заводских цехах, особенно в своем родном тигельном. И потому в курсе всех рабочих дел — и хороших, и плохих. На рабочем или партийном собрании поднимется и в присутствии директора завода примерно так скажет: «Помните, товарищи, послевоенного директора завода Блинова Александра Николаевича? Или главного инженера Гайдовского? Помыслить невозможно, чтобы в бытность их такое на заводе могло произойти, какое недавно в формовочном цехе произошло. Вся ночная смена простояла, сжатого воздуха к формовочным прессам не подали. А почему? Компрессорщик дядя Вася, видите ли, в компрессорной закрылся и заснул, и дверь выломать не удалось в компрессорную. Наутро дядю Васю пожурили, так он с расстройства пошел в магазин, вместо сдачи лотерейный билет взял и «Запорожца» выиграл. Сами знаете, товарищи, не анекдот вам рассказываю, смеяться не надо. В бытность Блинова Александра Николаевича, ежели что не ладится на заводе, Александр Николаевич — койку в цех и не уйдет с завода, пока дело не наладит. А теперь скажите: видели вы хоть раз нашего нынешного директора в цехе в ночную смену? Чтобы подошел он к человеку, поинтересовался, что и как? Почему сейчас компрессорщику дяде Васе сходят с рук преступления, за которые в бытность Блинова Александра Николаевича он пошел бы под суд? Да потому, в первую очередь, что директор наш сам частенько по заводу с налитыми глазами бродит…»
Сидит директор завода, слушает, помалкивает. А что возразить? Николаев тем и отличается, что у него каждое произнесенное слово в любой момент может быть подтверждено документально или свидетелями. До сих пор у всех в памяти свежа схватка общественного директора заводского музея с лихими административными головами, которые решили «слегка» подправить историю завода. Сейчас уже трудно сказать, кому конкретно первому пришла в голову мысль приурочить год рождения Лужского тигельного завода к послереволюционному возрождению. Дескать, все, что было в Луге тигельного до революции, не считать, а отсчет заводской истории начать так, чтобы в ближайшее время круглый юбилей получился — 50 лет. Да под такой юбилей единственному в стране тигельному заводу (если с умом к делу подойти) большие возможности могут открыться. Юбилейные торжества, награды, премии, статьи в печати — это все мелочи. Под такой юбилей и план (частенько не выполняемый) можно попытаться скорректировать в ту сторону, чтобы сверкнуть.
Первым против фальсификации истории завода поднялся общественный директор заводского музея Сергей Арсентьевич Николаев. Пришел к директору и начал выкладывать на стол документы, начиная с такого вот, краткость которого позволяет привести его здесь полностью:
«От 8 ноября 1906 года. Свидетельство.
Крестьянину Родомской губернии Иосифу Каспржику о разрешении открыть действия мастерской для выработки графитно-глиняных горшков в городе Луге в 148 квартале.
Санкт-Петербург. Губернатор Зиновьев».
Печать и соответствующие подписи — все на месте.
Отстоял Сергей Арсентьевич историю «Красного тигля», но уже не без поддержки горкома и районной нашей газеты.
А в скором времени и юбилей самого Сергея Арсентьевича Николаева подошел, старейшего тигельщика «Красного тигля», первого секретаря комсомольской организации завода, о передовой бригаде которого писали в свое время многие ленинградские газеты. Как же отметила администрация завода юбилей своего ветерана? У меня под руками приказ директора завода (того самого). Вот такое «теплое» послание получил юбиляр:
«За определенные заслуги (!) перед коллективом завода и в связи с 70-летием работника завода т. Николаева Сергея Арсентьевича занести в заводскую книгу Почета. Основание: ходатайство тигельного участка, согласие партбюро и заводского комитета профсоюза».
О Лужском абразивном заводе и заводском ветеране Сергее Арсентьевиче Николаеве можно говорить до бесконечности, и потому следует вернуться к рассказу о посещении заводского музея писателями Абрамовым и Чистяковым.
Когда мы подъехали к дверям музея, я успел уже кое-что рассказать гостям о Сергее Арсентьевиче, о музее. Абрамова в моем рассказе более всего заинтересовал тот факт, что многие работники завода, жители Луги и других городов находят по фотографиям и документам музея своих близких, с которыми их разлучили войны Отечественная, гражданская и о судьбе которых им ничего не было известно. Сергей Арсентьевич ворошит свою незаурядную память и горы документов, чтобы помочь людям узнать о судьбе своих родных и близких, а если возможно, то и встретиться. Такие встречи в заводском музее не редкость.
— То само, Борис, это интересно, что ты рассказываешь, — произнес Федор Александрович, вылезая из машины. — То само, сейчас поглядим…
В очень удачный момент, на мой взгляд, попали мы в заводской музей. По расписанию до открытия музея оставалось еще полчаса, но двери его были распахнуты настежь. Сергей Арсентьевич Николаев — среднего роста, сухой, жилистый, в очках — подправлял лопатой громадную кучу глины на ухоженном музейном полу. Рядом у стены стоял старый гончарный станок, за которым сидел гончар Павел Владимирович Аверьянов. Вернее, не сидел — работал. Павел Владимирович — старик лет под восемьдесят — был последним из знаменитого гончарного рода Аверьяновых, хорошо известного в нашем городе и районе. Я знал гончара как приятеля Сергея Арсентьевича, которого общественный директор частенько увлекает на дела-затеи в своем музее. Старый гончар на редкость для своих лет жизнерадостный и компанейский человек, один из тех, на кого приятно смотреть во время работы. Шутки, присказки, анекдоты сыплются из него, как искры из абразивного круга. Когда мы вошли в дверь, Павел Владимирович громадными корявыми лапищами разминал на гончарном круге шмат сырой глины и что-то рассказывал своему приятелю. Я не успел еще разобрать слов гончара, а Федор Александрович уже выхватил из кармана записную книжку…
Увидев гостей, директор музея отбросил лопату и, как всегда забыв поздороваться, схватил меня за руку и потащил к дощатым стеллажам, на которых стояли сырые еще глиняные горшки, кувшины, кринки.
— Вот смотрите, что мы с Павлом Владимировичем за сегодня только сделали, — зачастил он, обращаясь уже и к писателям. — Этот гончарный станок Аверьяновы заводу полвека назад еще подарили, когда мы тигли осваивали. На нем наши формовщики и начинали тигли изготовлять. Потом станок в музее осел, а теперь, видите, снова в деле. Директор завода говорит, что тигельщикам никакого ширпотреба не освоить. Конечно не освоить, если мозгой не шевелить. А это разве не ширпотреб?! У нас же на участке обжигательные печи — мечта гончарная! Мы эти горшки под цветную глазурь пустим, покупатели с руками оторвут. Кто от такой красоты откажется? Павел Владимирович берется человек пять этому делу обучить. Да он сам еще все магазины в городе этими горшками завалит, ему только глину подавай!
Абрамов подошел к стеллажам и заинтересованно стал рассматривать старинного фасона опарник. Рассматривал его долго, потом повернулся к гончару и с уважительностью в голосе произнес, напирая на «о»:
— Хорошая работа. Очень хорошая работа.
— Писатель из Ленинграда Федор Абрамов, — представил я гостя. — А это Антонин Чистяков, вам уже знакомый.
— Писатели?! — ахнул Сергей Арсентьевич и схватил Абрамова за руку. — Да мы вам сейчас такое покажем…
Четыре часа провел Федор Александрович Абрамов в заводском музее. Исписал всю свою записную книжку. На улице стояла жара, и в помещении музея было душно. Сергей Арсентьевич вцепился в Абрамова как клещ и не отпускал, увлекая все новыми и новыми своими рассказами…
Прощаясь, Федор Александрович сделал в книге отзывов заводского музея запись. Уже работая над этим очерком, я нашел ту запись Абрамова в книге отзывов на странице 140. Вот она:
«Восхищен музеем, восхищен неподдельным, удивительным энтузиазмом С. А. Николаева. На таких, как Сергей Арсентьевич, Земля Русская держится! Издревле держится и поныне. Федор Абрамов».
7
Долго не мог я решить: какую ферму в районе показать гостям? Федор Александрович сказал: «Хорошую ферму». Но что значит «хорошую»? Хорошую по надоям или хорошую по оборудованию, по условиям труда? У нас в районе и так бывало, что вдоволь оснащенная механизмами молочная ферма отставала по надоям от фермы старой, необорудованной. Яркий пример тому Затрубическая ферма совхоза «Волошовский». Доярки этой фермы на скотном дворе с прогнившей крышей получали от своих коров по пять с лишним тысяч килограммов молока в год, утирая нос дояркам на оснащенных по последнему слову техники молочных комплексах.
После некоторого размышления решил я показать гостям не столько хорошую ферму, сколько человека на ферме. И выбор свой остановил на ферме Бор совхоза имени Дзержинского, что недалеко от Луги. На ферме этой работает знаменитая на весь район доярка Алексеева, делегат партийного съезда, орденоносец и всяческих иных наград кавалер.
В бытность фотокорреспондентом получались у меня с фамилиями доярки Алексеевой и напарницы ее всяческие казусы. У фотокорреспондента ошибок в работе бывает в общем-то не больше, чем у литсотрудников. Но если литсотрудник допустил в своем материале ошибку, перепутал фамилию человека или цифру, это не так уж заметно. Другое дело фотокорреспондент. Помню, указал я как-то под снимком передового механизатора-звеньевого, что собрал тот с каждого гектара картофельного поля по 25 центнеров (вместо 25 тонн) картошки. Попадись подобная ошибка в газетной статье, умные люди на нее и внимания не обратят, явная опечатка. Но когда на вас с газетной полосы смотрит плакатно-улыбающаяся физиономия и вы читаете, что этот жизнерадостный здоровяк вырастил и собрал по 25 центнеров картошки с гектара…
С дояркой Алексеевой у меня и того хуже получился казус. Помню, она тогда еще на центральной ферме работала и только-только замуж вышла, сменила девичью свою фамилию на фамилию Алексеева. Подлетел я к ферме на редакционном газике, лучших доярок фермы сфотографировал по-быстрому, записал в блокнот основные данные для газеты — кто сколько доит, кто с кем соревнуется — и назад в редакцию. И на следующий уже день фотография доярки Алексеевой в газете красовалась. А под ней мною сделанная информация, сообщающая читателям, что молодая трудолюбивая доярка Алексеева со своей не менее трудолюбивой подругой-напарницей (фамилия напарницы) вышли на ферме победителями в соцсоревновании по надоям молока от своей группы коров за пастбищный период времени. Подпись как подпись, ничем особенно от иных подписей под снимками не отличающаяся, да вместо фамилии напарницы Алексеевой указал я ошибочно… девичью фамилию той же Алексеевой. Как фамилия ее девичья в блокнот мой попала, до сих пор не пойму.
К ферме Бор подъехали мы незадолго до вечерней дойки.
— То само, Борис, ты нас на хорошую ферму привез? — подозрительно спросил Федор Александрович, оглядываясь по сторонам. — Я, то само, недавно в Америке был, ферм много видел…
Ферма — это не музей, и наше появление на ней ни у доярок, ни у заведующей восторга не вызвало. Доярка Алексеева, увидев меня, настороженно-сдержанно улыбнулась, и я из-за спины Абрамова сделал ей рукой успокаивающий жест, чтобы не нервничала. Дескать, не фотографировать на ферму приехал, а просто навестить-проведать. Хотя в газете давно уже я не работал, воспринимали меня знакомые, особенно на селе, не иначе как «фотографа из газеты».
Не получилась у нас на ферме хорошая встреча, доверительного разговора с людьми не вышло. Да и с какой стати пойдут люди на доверительно-душевную с нами беседу? Приехали праздные мужики перед самой дойкой, смотрят, разузнают, и не комиссия вроде. Как приехали, так и уедут.
Мы сидели в комнате отдыха, и Федор Александрович расспрашивал женщин о работе, о зарплате, о семье. Заведующая отвечала ему деловито, четко, с улыбкой. Доярка Алексеева отвечала вежливо, но уже без улыбки. Потом пошли смотреть коров.
Здесь, мне кажется, Абрамов впервые искренне удивился. Нас рассматривали коровы породистые, вальяжно-степенные и, что и поразило писателей, необычайно чистые. Ни одной «лепешки» или сухого катыша не увидели мы на их боках, лишь у всех по щиколотку чернели ноги от торфяной подстилки. Словно был это не совхозный скотный двор, а выставочный коровий павильон.
— Как вы, то само, умудряетесь их в такой чистоте содержать? — спросил Абрамов заведующую. — У вас что, скотников много, доярок?
— Какое, много, — заведующая усмехнулась. — А доярок у нас всего две.
— Как, две? — не понял Федор Александрович. — На весь двор две?
— Две. Вот, Катя Алексеева и напарница ее. Зато посмотрите, какие женщины-то! — вдруг игриво взбрыкнула заведующая.
— Нет, вы серьезно? — Федор Александрович недоверчиво переводил взгляд с заведующей на доярку Алексееву.
— Коровы чистые потому, что на подстилку они у нас не ложатся, а спят на этих вот площадках, — пояснила заведующая. — Нехитрое вроде приспособление, а коровы — сами видите… Это мужики наши придумали.
Тут только обратили мы внимание на сухие дощатые площадки возле кормушек, возвышающиеся над торфяной подстилкой на несколько сантиметров.
— Неужели коровы только на эти щиты ложатся? — впервые удивился и Чистяков. — В грязь, говорите, не ляжет?
— Никогда. Сами поначалу не верили, а теперь вот…
— Две доярки на всех этих коров? — не мог успокоиться Федор Александрович. — Так это, дорогие женщины, героизм. Нет, то само, я серьезно: героизм! Я труд на ферме знаю хорошо, это очень тяжелая работа. Это, то само, в четыре часа подъем и на весь день…
Федор Александрович принялся сочувственно восхищаться трудом женщин, но те слушали его со сдержанными улыбками. Мне показалось даже, что писатель и женщины не понимают друг друга.
— А мне нравится на ферме и что людей мало, — мягко возразила писателю доярка. — Мы сами себе хозяева, а театр — вон телевизор, между дойками иной раз и поглядим.
Федор Александрович вдруг разволновался, стал говорить о великой труженице села, словно перед ним сидела одна из тех женщин — усталая, голодная, больная, потерявшая на войне и сына, и мужа, но находящая в себе силы работать и кормить страну. Та труженица, которой Федор Абрамов неустанно воздвигал памятник своим литературным трудом и писательским талантом. Но сейчас перед ним сидела не просто доярка, а труженица, которая достигла в своем деле вершин такого мастерства, что труд стал приносить ей моральное удовлетворение, ее труд стал творчеством. Я познакомил Федора Абрамова не просто с дояркой Алексеевой, а с дояркой завтрашнего дня. Увы, даже такой проницательный и опытный «инженер человеческих душ», как Федор Абрамов, подходил к Екатерине Алексеевой без индивидуальной мерки, со своим привычным аршином. И потому контакта не получалось.
— Ой, гости дорогие, извините, — всполошилась вдруг заведующая, — у нас дойка!
Наконец-то Федор Абрамов и Антонин Чистяков увидели то, что больше всего хотелось мне показать им на этой ферме: работу доярки Кати Алексеевой. Вернее, доярку Алексееву в работе. Описывать ее не имеет смысла, работу Алексеевой надо видеть. У доярки рассчитаны не только движения, но и каждый взгляд, каждое слово. Именно слово и взгляд — потому что обслуживает она живые существа, у каждого из которых тоже свой взгляд на доярку, свое настроение, свой норов. И не потрафь доярка коровьему норову, не улови настроение буренки, она неизбежно потеряет на ней молоко и время. А счет времени идет на секунды. Я не оговорился, именно на секунды. Вакуумные доильные аппараты с такой скоростью высасывают из вымени коровы молоко, что зазевайся доярка или замешкайся на мгновение, корова потом и дотронуться до вымени не даст.
Федор Абрамов на работу доярки Алексеевой смотрел долго, неотрывно, молча. Наконец негромко проговорил:
— Поехали.
Мы ушли не попрощавшись, на ферме все были заняты своим делом. Федор Александрович продолжал молчать и в машине. И только когда мы выехали на шоссе, произнес раздумчиво:
— То само, интересная ферма…
Ночевать в Луге Абрамов не захотел.
— В Новгород еще засветло долетим, — проговорил он утвердительно. — Переночуем у Ежова. Мы с ним на одном фронте воевали. А завтра с утра, то само, по Новгородчине…
8
Поездка наша по Новгородчине мало чем напоминала туристическую прогулку, каждый «рабочий» день уплотнен был Абрамовым безжалостно. Иной раз некогда было и пообедать. Чем лично для меня интересны оказались те дни, чем запомнились? Встречами и беседами с людьми — колхозниками, рабочими, рыбаками? Пожалуй, нет, с людьми этими общался я каждодневно и до той поездки. Может быть, самыми интересными были места, по которым мы проезжали, где бывали, хозяйственные проблемы? Нет. Во всех тех местах Новгородчины бывал я и прежде не раз, хозяйственные проблемы также были не новы. Более того, не являясь специалистом сельского хозяйства, я всегда старался подходить к проблемам земли осторожно, тем паче не давать своих конкретных печатных советов исконным земледельцам. Самым же интересным, что осталось у меня в памяти от путешествия с писателями Абрамовым и Чистяковым, был… писатель Абрамов.
Сидя за рулем «Москвича» рядом с Абрамовым, я задавал себе иногда вопрос: «С чего это Федора Александровича потянуло на публицистику?» По отношению к Чистякову, в прошлом журналисту, такой вопрос не возникал, но Абрамов? Федор Александрович активно работал в художественной прозе и находился в том возрасте, когда писатель, по моему мнению, уже не может позволить себе разбрасываться месяцами побочной работы. А что очерки «Пашня живая и мертвая» и «От этих весей Русь пошла…» только по обилию перелопаченного в нем материала отняли немало писательских сил и времени, ни у кого, мне кажется, сомнений не вызывает. Ответ на свой вопрос нашел позднее.
В моей записной книжке сохранились дневниковые записи той поездки. Вот, для примера, первый наш новгородский день:
1. Встречались в обкоме КПСС с заведующим сектором печати, радио и телевидения. Затем беседовали с секретарем обкома В. А. Цалпаном.
2. Посетили музей северного деревянного зодчества «Витославлицы».
3. Знакомились с новыми жилыми районами Новгорода. Увидев блочные дома, Абрамов проговорил: «То само, в Ленинграде итальянская делегация гостила. Показали им новостройки, то само, говорят: теперь, мол, только начинаем понимать, какая богатая ваша страна. Позволяете себе строить дома, рассчитанные меньше чем на сто лет».
4. Осмотрели Новгородский кремль. Мы с Чистяковым не смогли поименно перечислить все фигуры на памятнике Тысячелетию России Микешина, чем Абрамова рассердили.
5. Побывали в колхозе «Искра», беседовали с председателем колхоза Героем Социалистического Труда Н. М. Андриановым, с колхозниками и специалистами хозяйства. Дорога к центральной усадьбе «Искры» недавно заасфальтирована, возле здания правления колхоза чистота, цветы, аккуратная доска Почета. Рядом скульптура доярки в сапогах, выливающей молоко из подойника в бидон. Фигура скульптурной доярки плотна, костиста, но полна женственности и по-своему грациозна. Абрамов осмотрелся, проговорил: «Здесь Советскую власть уважают». И, кивнув на скульптуру, одобрительно добавил (по адресу скульптора, наверное): «А то понаставят вместо доярок, то само, балерин…»
Когда распрощались мы с председателем колхоза и расселись в «Москвиче», Абрамов раскрыл записную книжку (которая почти всегда была у него в руках), проговорил, записывая: «Как это, то само, Андрианов сказал: «После работы волоку себя домой за шиворот»? А?! Ну, кто из вас, писатели, сможет образнее сказать про усталость?»
6. Побывали в совхозе «Ташкентский». Осмотрели поля, стройку центральной усадьбы хозяйства, которую ведут ташкентцы, точнее узбеки, приехавшие работать из своей республики на новгородскую землю. Разговаривали с ташкентцами. Затем долго беседовали с председателем исполкома Лесновского сельского Совета Виктором Константиновичем Зеновым и секретарем сельсовета Ниной Павловной Махиной. Более всего Абрамова поразило «стройное место», выбранное для центральной усадьбы совхоза. Осушенное болото, вокруг до самого горизонта ни деревца, ни кустика. Летом пыль, земля под ногами, как камень. Весной и осенью непролазная грязь. Более неприглядного места в районе искать — не найдешь. Недаром место это в недавнем прошлом носило название Грязная Харчевня. Теперь название: Лесная.
7. По предложению Абрамова навестили семью новгородского писателя Леонида Воробьева. Вместе со вдовой писателя Велей Дмитриевной съездили на кладбище, возложили цветы на могилу этого талантливого и рано ушедшего из жизни писателя.
8. Вечером из дома новгородского писателя и друга моего Александра Васильевича Ежова отправились (по предложению и приглашению Абрамова) в ресторан «Садко». Ехать в это заведение за рулем я воспротивился, сказав, что шофер тоже человек. Порешили ехать на «Запорожце» Ежова. Александр Васильевич инвалид войны (на Невском «пятачке» ему оторвало ногу выше колена), и на соблазны застолья он уже не поддается. В ресторан, однако, нас не пустили. Возле столиков нас перехватил белокурый молодец в расписной рубахе, подпоясанной кушаком, в сапогах, весь «а ля рюс», пояснил: «Не обслуживаем! Иностранная делегация». Ежов, балансируя возле молодца на костылях, принялся уговаривать его, шептать, что перед ним писатели, что сам Абрамов здесь… «Иностранная делегация, — поигрывая плечами, отвечал молодец. — Не обслуживаем». Настроение Федора Александровича мгновенно упало. «Поехали домой», — буркнул он и, круто повернувшись, захромал к выходу. В кабине он повернулся к Ежову и мрачно проговорил: «То само, Саша, почему вы все такие?.. Ведь у тебя в руках, то само, был костыль…»
В доме Ежова за столом, когда наполнены были бокалы и хозяин принялся говорить тост в честь гостей, Абрамов, все еще мрачный, перебил его вопросом: «То само, какой сегодня день? То само, вспомните-ко?»
Первой ответила Анна Евсеевна, супруга Ежова. Она словно ждала этот вопрос: «Двадцать второе июня!»
9
На второй день нашего пребывания в Новгороде Федор Абрамов неожиданно спросил:
— То само, Борис, в музее Достоевского в Старой Руссе бывал?
— Бывал.
— Надо съездить.
Из Новгорода в Старую Руссу нам удалось выбраться только к вечеру. Погода пока баловала нас, вечер выдался тихим, теплым и не душным. Впервые в машине я не видел в руках Абрамова блокнота. Он опустил ветровое стекло, расстегнул рубаху и, откинувшись на сиденье, прикрыл глаза. Парной ветер гудел в кабине, на заднем сиденье, вопреки обыкновению, разговорился Антонин, комментируя все интересное на нашем пути, хотя по дороге этой Новгород — Шимск вчера мы проезжали дважды.
— То само, Антонин, не зуди, — попросил Абрамов, не открывая глаз.
Когда подъезжали мы к поселку Лесная (Грязная Харчевня), Абрамов открыл глаза, приподнял голову, спросил:
— «Ташкентский»?
— Да.
— То само, Борис, что испытываешь, когда проезжаешь это место?
— Стараюсь проскочить его на скорости.
— А людям здесь жить… До Ильменя отсюда сколько километров?
— Четыре.
— Четыре километра дороги… И берег красивейшего озера. Простор, вода, рыба. Пускай те же дома, но не в болоте, а у воды в зелени. И парус в окне. Праздники на воде, как у Андрианова в «Искре». Четыре километра дороги… Ну, то само, трудяга за день наломается, ему лишь бы до постели добрести, а дети? Разве можно детям без общения с природой? Четыре километра дороги… А «стройное место» это под пашню пустить. Я недавно, то само, в Америке был. Такие земли, как эта, там под придорожные канавы уже не пускают. Трубы вместо канав укладывают, землей засыпают их и сеют. Должны мы, то само, лет на сто хотя бы вперед смотреть?
— Должны.
Здесь я позволю себе сделать отступление, перенестись на несколько лет вперед, в тот день, когда пишутся эти строки. На столе у меня два номера ежегодников Союза писателей СССР «Шаги», за 1979 и 1982 годы. В данном случае сборники эти интересны тем, что в первом опубликован очерк Ибрагима Рахима «Хошар на полях братства», во втором — очерк Федора Абрамова и Антонина Чистякова «От этих весей Русь пошла…». И в том и в другом речь идет и о совхозе «Ташкентский». Все три писателя недолго и примерно в одно и то же время наблюдали строительство нового на Новгородчине хозяйства, но как по-разному они пишут и оценивают увиденное.
Вот несколько выдержек из очерка Ибрагима Рахима:
«Что такое «хошар»? Любой мальчуган у нас в Узбекистане скажет вам не задумываясь: как «что такое»?! Это праздник. Это стройка. Такая стройка, которая всегда праздник. Хошар — это когда строить выходят все, весь кишлак!..
Здесь, дома, вся республика будет следить: как там наши, с честью ли выполняют свою интернациональную, миссию? В добрый путь, товарищи!..
— Я понял, что очень правильно поступил, решив поработать здесь, на этой земле, — сказал Мухаммадиев.
— Почему? — допытывался я.
Мухаммадиев объяснил обстоятельно.
На всю жизнь, оказывается, запомнилась ему встреча. Как принимали их здесь новгородцы. С цветами. С музыкой. И с доверием…
— Как же с выполнением, с буднями, с ходом конкретной, плановой работы? — спросил я у Мухаммадиева.
— А мы поедем с вами на место, — сказал он. — Прямо в новгородский кишлак. Все увидите сами.
Мы ехали с управляющим интернациональным трестом «Узбекновгородводстрой» в совхоз «Ташкентский». По обе стороны дороги на Псков на обширной площади раскинулся этот совхоз. Вернее, центральная усадьба и поселок. Жилая зона, как здесь говорят. Кишлак. Пахотный клин совхоза превысит десять тысяч гектаров. Плюс службы, коммуникации.
Болота. Мелколесье. Пласты торфа… Над всем мощный всесильный рокот моторов. Тракторы, бульдозеры, экскаваторы…»
Что ж, очерки пишутся и так. Но стоит перейти на трезвый деловой тон, поговорить с людьми и заглянуть в документы, как картина меняется. Вот что пишут о той же стройке Абрамов и Чистяков:
«Провалы с этой узбекской стройкой на Новгородчине стали притчей во языцех на всех совещаниях и в местной печати. За первые два года план по строительно-монтажным работам выполнен всего на тридцать семь процентов. За первый год убыток составил шестьсот шесть тысяч рублей. За второй — еще больше. Качество работ — ниже критики. Один из корпусов, подведенный под крышу, нуждается чуть ли не в капитальной перестройке. Но никто не осмеливается сказать — кто же виноват в этом? Где корни провалов?..
Представить, как это происходило, нетрудно. Бросили клич: «На помощь Нечерноземью!» — объявили кампанию, понимая ее так: вали комар да муха, лишь бы числом побольше, и навербовали в этом числе десятки мастеров-энтузиастов и сотни случайных халтурщиков, рвачей и даже спекулянтов, которых немало и у нас.
Вот что говорят сами узбеки, ответственные за ход работ:
— Придет иной наш земляк за тысячу километров, тюбетейку снимет, поклонится: «Не ругай, кирпич класть я — совсем худой!..»
Что толкает таких южан к нам на север? А вот что! Сохраняется полностью ставка по прежней работе, начисляется к прежней ставке еще ставка по новой специальности, к этим двум ставкам плюсуется еще полставки разъездных. Итого — две с половиной ставки, чего, как утверждают в бухгалтерии, и не снилось такому работнику на своей теплой родине.
А иной ловкач, говорят старожилы, деньги домой не везет, а накупает в Новгороде фарфора и увозит с собой, впереди ждет тройная спекулятивная сумма.
Польза или вред от такого посланца? Ответ ясен. Более того, рядом с ним работает местный парень и получает в два с половиной раза меньше при большем объеме работы и лучшем качестве.
Какая уж тут нравственная атмосфера!
Да если бы создали такие условия новгородской молодежи, работы эти не на 37 процентов были Вы выполнены, а на 137, ребята не обивали бы пороги в отделе кадров где-то за пределами Новгородчины…
Ежегодно село теряет около четырех тысяч тружеников, выбывающих за пределы области…
А ведь началось все с того, что одним росчерком пера (тут уже не вилами по воде) было утверждено строительство административно-культурного центра нового совхоза… на болоте.
Слышим упрек: поздно об этом, чего после драки кулаками махать?
Нет, не поздно: страда сельского переустройства — в самом начале, и эта стройка — не последняя».
Но вернемся к нашему путешествию.
До самого Шимска оба мои пассажира дремали. Проезжая по мосту через Шелонь, я хотел разбудить Абрамова, но потом передумал. Оставалось недалеко и до села Коростынь, где до сих пор сохранился путевой дворец Екатерины Второй, а уж императрице и путевой «домишко» в худом месте не поставят…
В Коростыни, не советуясь с пассажирами, свернул я с дороги, спустился с холма пониже, к березовой рощице, и выключил мотор.
— То само, почему стоим? — проворчал Абрамов, открывая глаза. И замер.
Перед нами, за частоколом высвеченных заходящим солнцем берез, лежало Ильмень-озеро. Внизу, под угором, куда не дотягивались уже солнечные лучи, оно отсвечивало зеркальной гладью, чуть дальше — светилось серебром, а на горизонте розовело, сливаясь с багряными кучевыми облаками. В полукилометре от берега, чуть слышно постукивая моторами, шли рыбацкие соймы.
Федор Александрович долго сидел не шевелясь, смотрел в ветровое стекло кабины, молчал. Потом повернул голову ко мне, произнес тихо:
— Ну, Борис, то само, спасибо…
Мы вышли из машины. Федор Александрович, ничего не говоря, захромал от нас с Антонином в сторону. Долго бродил в березовой рощице один, потом по крутому каменистому склону спустился к воде. Крикнул:
— Антонин! Борис! Надо искупаться.
Прихватив фотоаппарат, мы с Чистяковым двинулись по узкой тропке вниз к озеру. В это время Федор Александрович уже фыркал, плескался в воде. Мы с Антонином последовали его примеру.
После купания, когда плясал Федор Александрович на каменистом берегу, вытряхивая из ушей воду, принялся я ловить его видоискателем фотоаппарата. И только тогда увидел на ноге Абрамова две страшные вмятины.
— Это у него пулями навылет, — тихо пояснил Антонин.
В Старой Руссе мы сразу же завернули к Дому-музею Достоевского. Хотя музей находился на реставрации и был для посетителей закрыт, я надеялся, что директор музея Георгий Иванович Смирнов по старой дружбе примет нас. Директора, однако, в музее мы не застали. Время было позднее, и дом Достоевского оказался на запоре. Оставив своих спутников на берегу Перерытицы, я поспешил к Георгию Ивановичу домой.
Здесь мне придется вновь сделать оговорку: рассказ о встрече писателей с директором Дома-музея Достоевского Смирновым поведу исходя из того, что читатель ознакомился уже с очерком «В Старую Руссу, к Достоевскому». Это позволит мне, говоря о Георгии Ивановиче Смирнове, во многом не повторяться.
Георгий Иванович проживал один в маленькой однокомнатной квартире на третьем этаже. Квартира его никогда не запиралась, даже тогда, когда хозяин ее отлучался из города на несколько дней. Правда, однажды Георгию Ивановичу пришлось все же поплатиться за эту свою привычку, обворовали. Унесли немало нужных ему и ценных книг, и с тех пор Георгий Иванович нет-нет да и поворачивал ключ в дверях своей квартиры, опасаясь, видимо, за самое ценное, что оставалось у него в доме: записи своих размышлений о личности Федора Михайловича Достоевского и его творчестве. Записи эти Георгий Иванович вел много лет, кое-что из них читал и нам с Горышиным, слушать их было любопытно. Как рассказывал нам Георгий Иванович, работал он над «Размышлениями» и по ночам, просыпаясь всякий раз ровно в час ночи. К этому времени в голове его уже «созревали» нужные мысли, ему оставалось только проснуться и записать их на бумагу. На эту ночную работу уходило у него, как правило, ровно час времени. В два часа ночи Георгий Иванович вновь засыпал. Понятно, что «размышлял» Георгий Иванович о личности и творчестве любимого писателя не только во сне, но всякий раз с вечера на ночной час «настраивался»…
Когда я толкнул незапертую дверь и вошел в комнату Георгия Ивановича, в которой стоял обычный холостяцкий кавардак, хозяин лежал уже в кровати под одеялом и широко раскрытыми диковатыми глазами смотрел в потолок, наверное, «настраивался».
Я поздоровался.
Георгий Иванович перевел на меня взгляд, помедлил чуть-чуть и, не отвечая на приветствие, спросил:
— Борис Алексеевич, вы хорошо знаете «Мастера и Маргариту»?
— Читал, Георгий Иванович.
— Не находите ли вы в этой вещи некоторую внутреннюю связь с «Братьями Карамазовыми»? В последнее время меня очень увлек этот роман Булгакова.
— Георгий Иванович, мы приехали…
— А где же Глеб Александрович?
— На этот раз без Горышина. Со мной писатели Абрамов и Чистяков.
Мне показалось, что фамилии писателей особого впечатления на Георгия Ивановича не произвели. Хозяин дома был явно разочарован и подниматься с кровати не спешил. Я принялся объяснять Георгию Ивановичу, что Федор Абрамов очень серьезный писатель, лауреат Государственной премии СССР, что он человек со своим характером, в прошлом — раненый фронтовик и так далее. Но только после того как я сказал, что Федор Абрамов в свое время возглавлял кафедру литературы в Ленинградском университете, а Глеб Горышин учился у него и до сего времени считает Федора Александровича своим учителем, хозяин дома отбросил в сторону одеяло и принялся одеваться. Однако полным душевным расположением к гостям-писателям Георгий Иванович, видимо, так и не проникся. Когда спускались мы с ним по лестничным маршам, пофыркивал директор Дома-музея Достоевского и со скрытым бойцовским задором поддергивал локотками свой неизменный черный пиджачок.
Скажу сразу: встречи, на какую надеялся, того впечатления от посещения Дома-музея Достоевского, которое оставалось всякий раз у меня прежде, в тот раз не получилось.
Церемонно поздоровавшись с писателями, Георгий Иванович отпер заборную калитку и с ледяной любезностью пригласил всех войти. Во дворе он тотчас принял позу экскурсовода и, по обыкновению, некоторое время пристально смотрел на незваных экскурсантов, как бы пытаясь сразу же подчинить их своей воле. Чистяков взгляда директора музея не выдержал, снял очки, стушевался. Абрамов выдержал. Несколько мгновений они стояли друг перед другом, сцепившись взглядами. Георгий Иванович сверлил Абрамова пронзительными диковатыми глазами, как бы спрашивая: сейчас посмотрим, зачем вам понадобился Федор Михайлович Достоевский? «Ну-ну, давай покажи и расскажи нам такое, чего мы не знаем», — казалось, отвечал тяжелый немигающий взгляд Абрамова, и нижняя губа писателя скептически отвисала.
Наверное, эта внутренняя ершистость Федора Абрамова и вывела директора музея из равновесия. Желая, видимо, перед строптивым экскурсантом сразу взять «быка за рога», Георгий Иванович без обычного словесного «разогрева» копнул творчество Федора Михайловича так глубоко (до соотношения воли и обстоятельств, до внутренней связи творчества Достоевского с творчеством Данте), что увяз в нем. И принялся под беспощадным молчанием Абрамова неуклюже выбираться на поверхность, ко времени покупки Федором Михайловичем и Анной Григорьевной дачи Гриббе в Старой Руссе.
— То само, могли бы доски получше построгать, — неожиданно перебил директора музея Абрамов и осуждающе похлопал ладонью по плохо струганной обшивке дома.
— О-хо-хо, хо-хо! — вздохом поддержал Чистяков Абрамова.
Директор музея, не любящий, когда его перебивают, не выносящий критических замечаний в адрес своего детища, привыкший к тому, что всякому его слову экскурсанты безропотно и благоговейно внимают, от подобной дерзости онемел. Долго молчал, жевал губами, поддергивал локотками свой черный пиджачок. Затем с прежней ледяной любезностью пригласил гостей следовать дальше.
После осмотра двора и бани, после нескольких нигилистических вздохов Чистякова и сурово хозяйских абрамовских: «То само, зачем это? То само, почему так сделали?» — Георгий Иванович уже с трудом сдерживался. Когда поднимались мы по узкой скрипучей лестнице на второй этаж дома, Георгий Иванович задышал мне в ухо зловещим шепотом:
— Борис Алексеевич, кого вы сюда привезли?..
Как мог, успокаивал я кипящего директора музея, но тайная надежда моя переночевать с писателями в доме Достоевского таяла…
Перелом наступил в кабинете великого писателя. Первым в кабинет вошел Георгий Иванович, за ним Абрамов, следом мы с Чистяковым. Директор музея, стоя возле дверей, склонил голову и тоном, который, казалось, заставит вас не только шапку сдернуть с головы, но и сами волосы, произнес:
— Рабочий кабинет Федора Михайловича Достоевского.
Федор Абрамов, не обращая на директора никакого внимания, молча обошел кабинет, осмотрел все до мелочей, потом выглянул в окно и, повернувшись к Георгию Ивановичу, что-то сказал. Или спросил, я плохо слышал, вернее, не понял. Что-то насчет Оптиной пустыни и Льва Толстого. (Как известно, после трагичного ухода Льва Николаевича Толстого из Ясной Поляны на столе его осталась лежать раскрытая книга — роман Достоевского «Братья Карамазовы».) Что ответил Георгий Иванович Абрамову — не помню, а на момент тот обратил внимание только потому, что после вопроса Абрамова директор музея так и замер с прижатыми к бокам локотками, так весь и напружинился. И с этого момента перестал кипеть от абрамовских: «То само, зачем это? То само, почему так сделали?» А когда спускались мы по лестнице вниз, Георгий Иванович зашептал мне в ухо уже совсем иным тоном:
— Я сразу почувствовал, Борис Алексеевич, что ваш Абрамов непростая штучка…
Чести переночевать в доме Достоевского мы все же удостоились. Но вечер и ночь, проведенные под крышей этого дома в тот раз, не оставили в моей памяти приятного воспоминания. Это был обычный ночлег. Ночь выдалась душной, Абрамов перед сном проглотил таблетку. Антонин Чистяков с Георгием Ивановичем соревновались в храпе, и, помнится, меня очень удивила ночная просьба Абрамова:
— То само, Борис, не спишь?
— Не сплю.
— Не в службу, а в дружбу: останови часы. Мешают.
Самым поразительным было то, что хода этих часов прежде я не слышал вовсе.
10
Необычайно просто и быстро сходился Федор Абрамов с незнакомыми людьми, умел создать непринужденную атмосферу для беседы. Особенно меня поражало его уменье «разговорить» самого нелюдимого и мрачно настроенного человека.
Вот мы втроем входим в ремонтные мастерские колхоза «Урожай». В углу цеха сидят несколько ремонтников, курят.
— Здравствуйте! — говорит Абрамов. — Мы писатели из Ленинграда. Это… — он представляет нас с Чистяковым, — я — Федор Абрамов. Мы пишем о селе. Хотим с вами, то само, посоветоваться…
Подсаживаемся к ремонтникам, и сразу от Абрамова конкретные вопросы. Главная тема разговора, как правило, одна: как поднять сельское хозяйство, сделать свое жилище и жизнь красивой? Масштаб вопросов — от приусадебного участка до земель России.
— Вот я недавно, то само, в Америке был, — говорит Абрамов, — у них этот вопрос так поставлен… А у нас на Севере такое не пойдет. Может, на Новгородчине сгодится, как думаете?
— А чего нам думать, — подает вдруг голос розовощекий здоровяк, — это у начальства пускай болит голова…
Таких собеседников Абрамов сразу брал в штыки:
— А вы что, не русский? У вас что, душа за Россию не болит? Вы что, свое мнение высказать боитесь? Да я сам из деревни… — И «заводил» такого человека порой на очень интересный разговор.
Первое время меня удивляли длительные беседы Абрамова с людьми, которые, на мой взгляд, ничего нового ему сказать не могли. Которые не только в колхозном или государственном — в своем хозяйстве с дюжиной кур разобраться не могут. Причем вопросы им Федор Александрович задавал самые неожиданные, а порой и несуразные. Ответы на эти вопросы заносил в свою записную книжку далеко не все. Из любопытства я принялся записывать те же ответы, что и Абрамов, и вдруг понял, что заглянул в творческую лабораторию писателя. Абрамова интересовало не «что» ответят, а «как» ответят. Вот некоторые фразы, которые записал Абрамов в беседах с самыми разными людьми в одном только селе Бронницы и которые я продублировал в своей записной книжке:
«Телевизор всех нас сделал единоличниками».
«Укрупнение — беда, хозяйства стали неуправляемые».
«Ездил вымолачивать стройматериалы».
«Я — работяга. Меня премией воспитывай!»
«До войны колхозники от картошки отказывались, а теперь на трудодень картошечки дай каждому».
«Я в городе благоустроен. А картошку, молоко и мясо от стариков своих вожу из деревни. У меня продовольственной проблемы нет».
«На проезжей дороге и трава не растет».
«А я за всю войну ни разу не вспотел».
«Природа упирается».
«Я иду по росе, ноги босы мочу, я такой же, как все, я девчонку хочу» (строчки переписаны с забора. — Б. Р.).
«Ребенок родится — тянет руками к себе».
«Аисты перед голодным годом птенцов не выводят».
На наших глазах писатель Абрамов заготовлял для своих художественных произведений «языковой материал». Он черпал его из неиссякаемого, мудрого и красочного источника народного разговорного языка. Все дни нашего путешествия Федор Александрович не выпускал из рук записной книжки. Все дни рядом с ним я чувствовал себя бездельником.
11
Поначалу, желая быть для Федора Абрамова спутником не скучным, рассказывал я ему всевозможные истории, что знал, что пережил, выскребая из тайников памяти самые забавные жизненные эпизоды.
— То само, Борис, это интересно, что ты говоришь, — поощрительно гудел Федор Александрович, играя ручкой в блокноте, — очень интересно…
Я как-то туго и долго соображал: что же это такое? Федор Александрович припрятывает в свой блокнот «мой» материал. И с какой стати я выкладываю писателю то, о чем сам думаю написать или пишу? Эдак за несколько дней я останусь гол как сокол, Федор Александрович оберет меня до нитки.
С другой стороны, в ответ на мои откровения Абрамов тоже не скупился на занимательные истории. Записывать их на глазах писателя я не решался, но кое-что отложил в памяти «про запас». Однако, перебирая перед сном в памяти абрамовский «запас», не мог отделаться от ощущения, что где-то это читал и слышал. Стал припоминать и… Так это же Федор Александрович пересказывает свои ранние рассказы! И даже кое-что из недавно вышедшей своей книги «Дом». Ай да Федор Александрович!
И я решил отплатить писателю той же монетой.
На следующий день, сидя за рулем, я принялся пересказывать свои когда-либо опубликованные рассказы, притчи из повестей, всяческие присказки и байки.
Федор Александрович стал записывать, но вскоре его что-то насторожило.
— Да это готовый рассказ, — проговорил он, подозрительно зыркнув на меня глазом, — почему сам не напишешь?
— Давно написан этот рассказ, Федор Александрович. И напечатан, — непринужденно ответил я.
Абрамов долго смотрел на меня испытующе, потом насупился и молча уставился в ветровое стекло.
— Федор Александрович, — проговорил я через некоторое время, — вы нам с Антонином третий день пересказываете свои рассказы и «Дом», который я совсем недавно читал. Мы же не обижаемся…
12
Как работают писатели в соавторстве? Те же Абрамов с Чистяковым? Мне кажется, заглянуть в подобную творческую мастерскую всегда интересно.
Соавторство Абрамова и Чистякова в публицистике, помнится, кое у кого вызывало недоумение. Дескать, два таких разных человека… Но Абрамов и Чистяков, работая в соавторстве, неплохо, мне кажется, дополняли один другого. Связывало их много общего (оба вышли из деревни, с детства познали труд на земле, юность обоих пала на войну, да и послевоенная их жизнь была во многом схожей), а вот разнились они в публицистике прежде всего тем (опять же на мой взгляд), что, если Антонин Чистяков, выражаясь термином военным, мыслил тактически, то Федор Абрамов — стратегически. Поднимая в первом своем очерке проблему живой и мертвой пашни на Новгородчине, писатели отталкивались от Дарьиного бугра у деревушки Жуково, что в полукилометре от Кончанского-Суворова. Если сказать, что Жуково — родина матери Чистякова, в Жуково прошло его детство, в этой деревне жил он каждое лето до последнего своего дня, то станет понятным детальное знание им тех двух гектаров пашни, которые на его глазах из пашни живой превратились в пашню мертвую.
«По словам старожилов, пуще всего берегли здесь пашню от воды и ветра. Чтобы в засуху не сдуло в болото легкие крупицы земли с семенами, посев прикатывали деревянными вальками. А чтобы он не вымок, свежий посев бороздовали: по стоку воды пропахивали более глубокие борозды. После обильного таяния снега или сильного ливня все питательные вещества отфильтровывались, избыток воды — уже совершенно чистой — не застаивался на ниве, быстро уходил по глубоким бороздам в болото. Благодаря этой древней микромелиорации удобрения оставались под корешками всходов, не вымывались и не утекали в трясины, поле быстро высыхало и дышало во все свои легкие…
Когда-то пашня на Дарьином бугре была намного выше и не было на его хребте каменного гребня, разделяющего ныне запущенную пашню с действующей, не было по бокам полосы обрывов. Можно подумать, что здесь поработал древний ледник. Нет, потрудились здесь не ледяные скандинавские бивни, а местные трактористы. Пахали все в свал да в свал, вот и спустили вниз к болоту верхний, унавоженный веками пласт. Не случайно на межевых трехметровых кручах трава в два раза выше, чем под ними, на заливном приболотном лугу. Сама же пашня исхудала, остатние ее хлебородные комочки просели в подпочвенный мертвяк, и жизнь в них едва теплилась. Теплилась, пока не прикатил сюда пахарь из соседнего села и не пришпорил все 75 лошадиных сил. Тяжелые плуги глубоко врезались в талую плоть зяби и вывернули пашню наизнанку. Родящий слой был похоронен под пластами чистейшей бледно-розовой глины, поднятой со дна, погребен под гравием и увесистым булыжником исподней породы. Семена были брошены на гибель. Затвердела земля под солнцем, стала глуха и неприступна, как кирпичная стена…»
Антонин Чистяков хорошо знал детали проблем, которые поднимали они с Абрамовым в своих очерках. Федор Абрамов, суммируя и обобщая эти детали, четко формулировал саму проблему, поднимая ее от масштаба Дарьиного бугра до масштаба Российского Нечерноземья.
Особенно наглядно метод их работы можно проследить на очерке «От этих весей Русь пошла…». Помнится, увидели мы на прилавке киоска в Валдае буклет «По Валдаю». На одной открытке изображено было село Яжелбицы — многоэтажные здания на живописном склоне зеленого холма. Мы едем в Яжелбицы. Позднее Абрамов и Чистяков напишут:
«Село это — древнее. Славилось оно красотой, а природа еще краше. Зеленые ступени буйного разнолесья и анфилады высоких цветущих луговин, поднимающихся к небу, вдохновляли и живописцев, и музыкантов, и поэтов. А в последние два десятилетия над всем этим природным великолепием вырос, перечеркнув пейзаж, серый каменный нарыв пятиэтажных жилых коробок. Поставленные в один ряд, они уродуют весь этот вид «русской Швейцарии», как справедливо величают туристы валдайский край, бывшую Деревскую пятину новгородской земли. Дома эти даже близнецами назвать нельзя: мать близнецов различает, а эти корпуса сам их родитель, Сельстрой, друг от друга не отличит. И это уродство называют «перспективным» сельским центром, удостоенным, как шедевр, цветной открытки в буклете „По Валдаю“».
Вот это, грубо говоря, мысль Чистякова. А далее, развивая его мысль, идет масштабный Абрамов:
«Вглядимся пристальней в настоящее. По всей русской земле идет гигантская перестройка. Какие черты приобретет она спустя полвека? Ведь в такой перестройке деревни мы запросто утратим ее привычный национальный облик.
А угроза, подчеркиваем, прямая угроза сегодня этому есть. Эта угроза — в жилых коробках, подобных яжелбицким. Говоря об этом, мы хотим одного, чтобы на русской земле вырастал человек, который усвоит все лучшее в национальной культуре, все, что создали предки за тысячелетие.
Подчеркиваем, в капитальной перестройке села спешка и кампанейщина могут привести к самому страшному запустению — к духовному. В наши дни закладывается новая деревня, которая определит лицо русской земли не на годы, а на столетия…»
Так как же работали Абрамов и Чистяков в соавторстве, как писали? Опять же мне доводилось слышать разговоры, что писал очерки один Чистяков, а Федор Абрамов, мол, лишь прочитывал их и кое-что поправлял. Иные, наоборот, утверждали, что, знаючи твердый характер Федора Александровича, можно предположить: в очерках высказаны мысли одного Абрамова, а Чистяков, дескать, лишь письменно оформлял их.
Все это не совсем так.
Оба очерка действительно писал от начала и до конца Антонин Чистяков. Но хотелось бы мне иметь такого напарника в работе, каким был Федор Абрамов. Все те проблемы, которые поднимали соавторы в своих публицистических работах, Федор Абрамов формулировал и развивал вслух на моих глазах. Делал это он четко, образно, глубоко, иногда, правда, с излишним пафосом. Чистякову оставалось тут же, порой на ходу, записывать слова Абрамова. Когда он этого не делал — ленился, надеялся на себя, — тогда Федор Александрович сердился на Антонина всерьез. Позже Абрамов перечитывал все написанное Чистяковым, многие места перечеркивал и бранился. Но сказать, что в работе этой Абрамову удалось полностью подчинить своей воле напарника и навязать ему только свое понимание проблем, никак нельзя. Чистяков был крепкий орешек, умел молча или с привычным своим вздохом отстаивать собственное мнение, и тот факт, что ему удалось в очерках так щедро перемежать затрагиваемые проблемы своими стихами, говорит сам за себя.
Не могу с уверенностью утверждать, кто вложил больше труда в совместную публицистическую работу — Абрамов или Чистяков? Федор Александрович считал, видимо, что значительно больше поработал Антонин. Всю свою часть гонорара за очерки он перевел на имя Чистякова.
13
— То само, Борис, почта близко? Надо заехать. Чуть не забыл дать телеграмму…
Я повернул машину к почте. Федор Александрович продолжал, неожиданно потеплев лицом:
— У моих ребят из Театрального на Моховой сегодня памятный день. Показывают в Москве свою дипломную работу — сцены из Шекспира и из моих «Братьев и сестер». Хорошие ребята!
— Это те, которые к тебе в Верколу приезжали? — спросил Чистяков.
— Да. Они тогда, то само, «Братьев и сестер» готовили. Это их дипломный спектакль. — По лицу Федора Александровича было видно, что тема разговора доставляет ему удовольствие. — Всем курсом ко мне в деревню приехали — двадцать человек с преподавателем. То само, среди героев своего спектакля пожили на Пинеге. На сенокос ходили, с бабами беседовали, первый раз в жизни увидели, как дерево рубят.
— Где ты их разместил в своей Верколе? — спросил Чистяков.
— В монастыре жили, в школе. Хорошие ребята! Всем по двадцать — двадцать одному году. Одному двадцать пять. Один женат, одна разводится. Все — настоящие артисты. Очень мы подружились. Чистые ребята, талантливые. Сами и поэты, и песенники, и гармонисты. А как, то само, народные поют! Хороший дипломный спектакль создали. Искренний! После Москвы решили всем курсом ехать работать в Сибирь…
На почте, когда составлял Абрамов телеграмму ребятам, я попросил его:
— Федор Александрович, разрешите переписать текст вашей телеграммы?
— Зачем тебе? — удивился Абрамов.
— Не зря же катаюсь с вами, Федор Александрович. Вы с Антонином вон российские проблемы ворочаете. А я хоть о поездке нашей когда-нибудь напишу. Вот и пригодится телеграмма.
Телеграмма и впрямь пригодилась. Вот она:
«Москва. Пушечная, 9. Центральный дом работников искусств. Кацману и Додину. Дорогие мои ребята. Езжу и шлепаю по Новгородчине, по древним русским городам и весям, а душой и сердцем с вами. Поздравляю вас с выходом в большую жизнь, в светлый и яростный мир искусств. Будьте всегда мужественны и верны своей клятве. Помните: искусство принадлежит только одержимым. Только тем, кто ради него готов на любые жертвы. Спасибо вам за радость общения, за молодость бескомпромиссную, которая всегда воспламеняла и вдохновляла меня. Не бойтесь жизни. Вперед на штурм жизни и сцены. Верю в вас, люблю вас, Ваш брат-отец Федор Абрамов».
14
Последний день своего путешествия с ленинградскими писателями по земле новгородской провели мы в деревне Жуково, где у Антонина Чистякова была изба. День этот Абрамов объявил выходным. Накануне вечером вышли втроем на лодке в озеро, и мы с Антонином бросили возле тростника небольшую сетку в надежде сварить назавтра уху.
— Да вы браконьеры, — ворчал Абрамов, — то само, попадешь с вами в историю.
Наутро, когда мы с Абрамовым еще спали, Антонин сбегал на озеро и притащил ведро лещей, улов выдался на славу.
— Да ты опытный браконьер, Антонин, — ворчал Абрамов, с удовольствием укладывая лещей в самодельную коптильню, сооруженную Чистяковым возле избы.
Я принялся готовить уху.
День тот выдался теплым, солнечным, как и все дни нашего путешествия. Несколько раз на землю рушился проливной «грибной» дождь. Травяная лужайка возле антониновой избы превратилась в хрустально-зеленую лужу. После ухи Федор Александрович, закатав брюки до колен, в расстегнутой рубахе навыпуск бродил по луже прихрамывая и блаженно ухал. Антонин копошился в огороде, полол заросшие грядки.
Наступала пора прощаться. Уезжать не хотелось, но дни, которые удалось мне выкроить для этой поездки, кончились. Назавтра Абрамов и Чистяков продолжат свое путешествие по Новгородчине уже без меня.
— То само, Борис, спасибо, что покатал, — гудел Федор Александрович, пожимая мне на прощание руку, — ты мне понравился. Уху хорошую варишь, окрошку, машину водишь уверенно, но, главное, прическа твоя вызывает у меня доверие…
Разве можно было предположить тогда, что в недалеком будущем получу от Абрамова его книгу с надписью: «…в память о поездке с бедным Антонином». В холодный осенний день на озере, которое так приветливо встретило нас, разыграется трагедия. Антонин Чистяков исчезнет, а лодка его будет найдена перевернутой кверху дном. На киле лодки будет лежать его кепка и записная книжка. Таков обычай у рыбаков. Когда нет уже сил держаться в ледяной воде, но сохранил самообладание — оставлять примету. Чтобы знали, где погиб. Тело Чистякова будет обнаружено только весной, спустя много месяцев после его исчезновения.
Уже после смерти и самого Федора Александровича Абрамова узнал я случайно от тещи Чистякова Анны Ивановны, что в те трудные дни их семье помог материально Федор Абрамов. Лично ей передал из своих сбережений деньги для малолетних детей Чистякова.
15
В записной книжке, которую я вел во время поездки по Новгородчине с Абрамовым и Чистяковым, накопилось немало абрамовских словечек, высказываний, фраз, которые чем-то показались мне тогда интересными. В этой главе хочу представить некоторые фразы, услышанные мной от Федора Александровича Абрамова. Думается, что и эти крохотные «штрихи к портрету» помогают полнее раскрыть образ этого человека.
«В народе — разноцветные камушки, из них писателю надо воздвигнуть красоту».
«Северяне — народ светолюбивый».
«Теперь бюрократ не тот… Теперь бюрократ маскируется, боится прослыть консерватором».
В коровнике. «Кабинеты для начальства, а коровы стиснуты».
«Искренне берут беды на свои плечи».
На кладбище (о могильных оградах). «Безликие люди, один выдумал, ему подражают».
«Как живет Россия, в чем ее боль и беды?»
«…Идея усвоения опыта народного, а то изобретаем велосипед».
«Травный редкостой — свежо сказано. А то привыкли: разнотравье».
«Пока человек не будет на земле творцом…»
«Раз мне выпало счастье остаться живым, я должен работать и за себя, и за них».
«Я люблю простор из окна и чтобы без кустов. У нас на севере говорят: окно закрыл куст — дом пуст».
«Писатель должен подниматься над моралью холопства и чинопочитания».
«Самое важное — люди, с которыми ты беседовал».
«У меня сердце болью прострелено за старух».
«С асфальта России не увидишь».

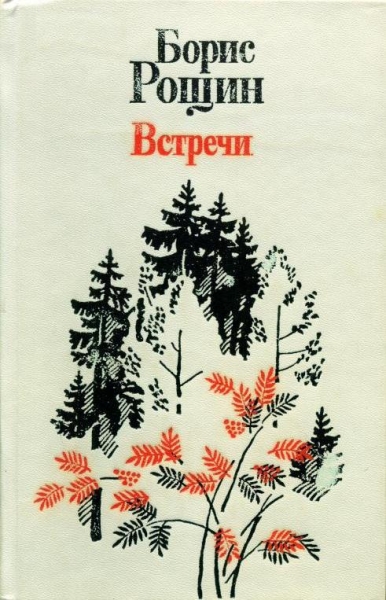

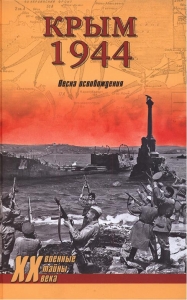

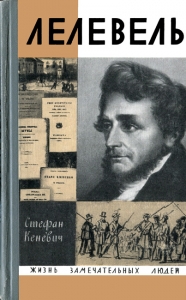
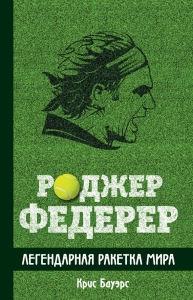
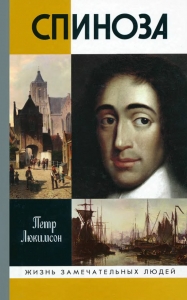
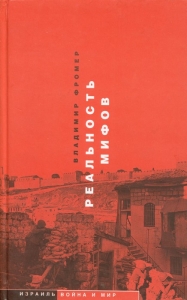

Комментарии к книге «Встречи», Борис Алексеевич Рощин
Всего 0 комментариев