Геннадий Алексеев Неизвестный Алексеев. Неизданная проза Геннадия Алексеева (сборник)
© Алексеев Г. И. (наследники), 2014
© «Геликон Плюс», макет, 2014.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес, 2014
Геннадий Иванович Алексеев
День его рождения был в самом расцвете белых ночей – 18 июня. Обычно в этот день собирались одни и те же друзья Геннадия Ивановича, многие из которых встречались между собою только на этих днях рождения, – несколько литераторов и архитекторов, один физик (он курил трубку) и одна женщина-театровед из музея Шаляпина.
Обстановка на этих праздниках была поначалу несколько чопорной. Собираясь, говорили об искусстве и политике, затем хозяин приглашал: «Господа, прошу к столу». Он употреблял это слово, с натугой входящее в наш обиход в девяностых годах, еще тогда – в семидесятых, и странным образом оно не казалось фальшивым или напыщенным в его устах. Он вообще выглядел, говорил, вел себя, как русский интеллигент конца прошлого – начала нынешнего веков, эпохи модерна, блестящим профессиональным знатоком которой он был. Пили изысканные вина, произносили витиеватые тосты, ухаживали за дамами, слушали новые стихи хозяина… Короче говоря, чувствовали себя в литературном салоне и непонятно в каком времени, ибо за окнами была застойная брежневская эпоха, в которой каждый из присутствующих находил свой способ существования, а за столом царило Искусство. Непременный тост хозяина звучал так: «За святое Искусство, господа!»
Это был андеграунд особого рода, отличный от андеграунда котельных и рок-тусовок. Скажем так, респектабельный андеграунд, ибо за столом сидели кандидаты наук, искусствоведения, члены Союза писателей, зарабатывающие невеликие, но вполне сносные деньги своим профессиональным трудом. Сам Алексеев служил доцентом в Инженерно-строительном институте и читал курс «Всемирная история искусств».
Андеграундом этих людей делало их нежелание продавать творчество. Они продавали только профессионализм. Скажем, литератор зарабатывал деньги литературным трудом, но как автор сценариев научно-популярного кино, большинство же его прозаических сочинений лежало в столе. Другой вовсе не печатался, но был профессиональным строителем или программистом. Но они не переставали делать попыток пробиться в мир признанной литературы, правда, не любой ценой, а их собратья в котельных были более последовательны и такие попытки прекратили, довольствуясь самиздатом.
Геннадий Алексеев начал печататься как поэт после сорока, имея несметное число написанных стихотворений. Мы и познакомились, благодаря его стихам, которые я отметил в сборнике «День поэзии» за 1972 год. Очень неожиданные были стихи для того времени.
Позвонили. Я открыл дверь и увидел глазастого, лохматого, мокрого от дождя Демона. – Михаил Юрьевич Лермонтов здесь живет? – спросил он. – Нет, – сказал я, — вы ошиблись квартирой. – Простите! – сказал он и ушел, волоча по ступеням свои гигантские, черные, мокрые от дождя крылья. На лестнице запахло звездами.Эти и подобные им совершенно невинные в политическом смысле, но считавшиеся модернистскими стихи в ту пору напечатать было почти невозможно, Первая книга Алексеева вышла в 1976 году, когда «молодому» автору было сорок два года, да и вышла она, благодаря поддержке М. А. Дудина.
Что же отпугивало редакторов в этих стихах?
Во-первых, верлибр. Алексеев писал почти исключительно верлибром, хотя в юные годы пробовал и умел писать в рифму и правильным метром. Мне кажется, что ему удалось то, что не удавалось многим поэтам, пробовавшим ввести верлибр в русский стихотворный обиход. Алексеев создал органичную по отношению к русскому языку систему верлибра – единственную в своем роде. Кто читал много его стихов, понимает, о чем идет речь. Это особый язык, особая интонация, повторы, ритмика – все вместе это давало совершенно удивительный результат.
Во-вторых, ирония и абсурд в соединении с глубочайшим, библейским пессимизмом стихов. Это было посерьезнее верлибра.
В-третьих, несомненное противостояние, которое обнаруживалось в каждой строчке стихов – противостояние художественное, личное, историческое, политическое.
Он писал много. В день по два, по три стихотворения. Может быть, столько не нужно. Но он не ждал вдохновения, а просто работал. Написав стихотворение на машинке, правил его от руки и перепечатывал набело на той же машинке. После чего стихотворение исчезало в нужной папке с тем, чтобы появиться в конце года в итоговом сборнике, которые автор сам перепечатывал и переплетал.
Геннадий Иванович был редчайшим аккуратистом. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не мог обнаружить на его письменном столе следов какого-нибудь беспорядка. Будто предвидя свою скоропостижную смерть, он вел дела так, чтобы в любую минуту можно было подвести черту. Рукописи, фотографии, картины, слайды, дневники содержались в величайшем порядке. Поэтому и успевал много сделать, что никогда не торопился и никогда ничего не искал. Все было на своем месте.
Он был эстетом во всем. Причем его эстетизм не раздражал, как обычно, когда предмет эстетического восхищения стараются отмыть, отскрести от всего «грязного», сделать полностью рафинированным. Алексеев обнаруживал красоту в самом обыденном, он делал объектом эстетического исследования самые простые и даже вульгарные вещи и явления.
Каждый вечер на нашей лестнице собиралась компания молодых людей. Они пили водку, мочились на стенку и хохотали над человечеством. Каждое утро, когда я шел на работу, на лестнице валялись бутылки и пахло мочой. Как-то я сказал молодым людям: Пейте на здоровье свою водку, но не стоит мочиться на стенку — это некрасиво, а над человечеством надо не смеяться, а плакать. С тех пор на нашей лестнице молодые люди пьют водку, навзрыд плачут над человечеством и изнемогают от желания помочиться на стенку. Изнемогают, но не мочатся.Картины Алексеева, которыми была увешана вся его двухкомнатная квартира на Наличной, тоже представляют собой, как и стихи, законченный художественный мир со своими отработанными композиционными приемами, живописной техникой, сюжетами.
Их отличает геометрическая правильность построения с центрально-симметрической, как правило, композицией, в которой есть некий необъяснимый магнетизм. На эти картины смотришь долго, как на медитативный объект, не пытаясь объяснять себе тайну этого притяжения. Написанные в простой и недолговечной технике (темпера, картон), они излучают свет, что особенно хорошо видно в условиях недостаточной освещенности, когда ступенчатые градации цвета сливаются в непрерывный, плавный переход от тени к свету.
Впрочем, рассказывать о картинах еще более неблагодарное занятие, чем рассказывать о стихах.
Несмотря на разносторонние интересы, Геннадий Иванович был весьма цельной натурой с очень продуманными эстетическими взглядами. Например, он считал традиционный русский рифмованный стих устаревшим морально и не случайно избрал верлибр, полагая за ним будущее русского стихосложения. В качестве доказательства приводил западную поэзию. Здесь мы с ним расходились во взглядах, хотя, повторяю, верлибр Алексеева представлялся мне чрезвычайно удачным опытом именно для русского языка. Вообще он предпочитал и прекрасно знал авангардные формы литературы и живописи, при этом будучи знатоком античности, Ренессанса и всего классического наследия, которое он преподносил студентам в своем курсе.
В последние годы жизни Алексеева мы стали видеться с ним реже, он, как мне кажется, ушел в себя, стал мрачнее обычного, сразу как-то постарел. Я думаю, кроме болезни сердца, его чрезвычайно травмировало невнимание к нему критики. Выходили книжки, были регулярные публикации в журналах, но серьезная критика практически молчала об Алексееве, не замечая или не желая понять его новаторства. Читатели, впрочем, понимали лучше. У Геннадия Ивановича сразу образовался сравнительно узкий, но преданный круг горячих поклонников и поклонниц. Это несколько поднимало ему настроение, однако он продолжал считать себя безвестным и недооцененным поэтом. Так, в сущности, и было.
Его судьба чрезвычайно схожа с судьбой другого русского поэта – Иннокентия Анненского. То же спокойное с виду, размеренное и академичное внешнее существование. Тот же недооцененный современниками, но ясный потомкам значительный вклад в русскую поэзию. Тот же интерес к античности. Та же, увы, болезнь сердца, приведшая обоих к преждевременному и скоропостижному концу в одинаковом возрасте – 54 года.
Проза Алексеева продолжает его стихи. Она так же лапидарна, ритмична, лишена украшений, действенна. Дневник Алексеева, который он вел регулярно и выдержки из которого мне часто зачитывал – это прекрасная проза с чрезвычайно точными и тонкими суждениями о литературе и нравах, это достоверный документ о покинувшей нас эпохе семидесятых-восьмидесятых годов. Он ждет своего опубликования, как и многие стихи, оставшиеся в столе, как и картины Алексеева, как его рисунки и книга о русском архитектурном модерне.
Квартира, в которую он переехал с семьей незадолго до смерти, имела несчастливый номер – 13. В ней он и умер в один миг, придя вечером с филармонического концерта и зайдя в кухню согреть чаю. Это случилось в марте 1987 года. Похоронили Геннадия Ивановича на Охтинском, там же, где похоронена героиня его поэмы «Жар-птица». На похоронах было множество его студентов, коллег и читателей.
В один печальный туманный вечер до меня дошло, что я не бессмертен, что я непременно умру в одно прекрасное ясное утро. От этой мысли не подскочил, как ужаленный злющей осой, не вскрикнул, как укушенный бешеным псом, не взвыл, как ошпаренный крутым кипятком, но, признаться, я отчаянно загрустил от этой внезапно пронзившей меня мысли в тот невыносимо печальный и на редкость туманный вечер. Погрустив, я лег спать и проснулся прекрасным ясным утром. Летали галки, дымили трубы, грохотали грузовики. «Может быть, я все же бессмертен? — подумал я. — Всякое бывает».Александр Житинский,
1996 г.
От издателя
Издание этого тома было давно задумано А. Н. Житинским. Ранее он уже опубликовал роман Геннадия Ивановича Алексеева «Зеленые берега» (1996) и книгу его избранных стихотворений (2006). Житинский любил и высоко ценил творчество своего друга и мечтал как можно более полно донести его до читателя. Справедливости ради надо сказать, что не смотря на малое количество публикаций, Г. И. Алексеев не забыт, круг его почитателей был хоть и не очень широк, но абсолютно предан и верен ему, а за последние четверть века только вырос.
Огромная работа по подготовке текстов, оцифровке фотографий Алексеева и его архива была бы невозможна без помощи наследников Геннадия Ивановича – его жены Майи и дочери Анны – и одного из его ближайших друзей, архитектора Александра Товбина.
По понятным причинам из дневников при публикации извлечены отдельные личные записи.
Роман «Конец света», над которым Алексеев работал последние годы, дописан, но работа над ним была еще далека от завершения. Поэтому мы взяли на себя смелость представить роман читателям с последними внесенными правками и незначительной редактурой. Надеемся, что наше вмешательство в текст было минимальным и предельно бережным.
Дневники
1958
14.12
Сегодня морозно. Ходили гулять. Долго шли по набережной. У пирса стоят заиндевелые шхуны. Ниже моста Шмидта Нева не замерзла – плывет «сало». От воды подымается пар. Курятся дымки камбузов на кораблях. Встретили женщину с двумя мальчиками – все на лыжах: Мама учит детей правильному шагу. Перешли Неву, на Мойке пришли к дому Блока. Постояли, помолчали. На небольшой доске из белого мрамора написано черными буквами: «Здесь в 1912–1921 годах жил и 6 августа 1921 года умер Александр Блок». Хорошо, что так просто: Александр Блок. В квартире его кто-то живет – на окнах тюлевые занавески.
20.12
Идет звучащий снег. Собственно, это не снег, а замерзший дождь. Нечто вроде града, но не град. Он издает приятный мелодичный звук – не то звон, не то шелест.
25.12
Ремарк, «Три товарища».
Есть некий поезд, несущийся в неизвестность. Каждый бежит по платформе, стараясь ухватиться за поручень и вскочить на подножку, но обрывается и падает. А поезд уходит. Жизнь – это бег, короткий бег по платформе.
1959
1.1
Новый год встретили у Ж. Весело не было. Часа три я спорил со скульптором О. об искусстве. Глупый был спор.
17.1
Перечитал De Profundis Уайльда.
Христос – родоначальник романтического искусства. Мир – театр. Верующий – актер, всю жизнь играющий роль в возвышенной драме.
У Толстого в «Живом трупе» Федя Протасов говорит про свои отношения с женой, что не было игры в их жизни. Без игры нельзя. Без игры очень трудно.
24.1
Пришел человек, которого зовут Лева М. Пришел и наговорил мне совершенно чудовищных комплиментов. Сказал, что меня знает вся московская интеллигенция, – предпринимаются решительные шаги и отчаянные попытки. Я слушал его, разинув рот. Потом я провожал его на вокзале. Он был пьян. Когда поезд тронулся, он обнял меня, вскочил на ступеньку вагона и как-то странно захохотал. Мне стало не по себе.
Был в редакции «Звезды». Решетов сказал, что мои стихи ему понравились и он предложит их редколлегии.
6.3
Редколлегия «Звезды» отвергла мои стихи. Нужны «новые темы».
29.3
Читаю «Жана Баруа» Дю Гара. Книга входит в меня, как острый гвоздь в сухую сосну.
Надо чаще слушать хорошую музыку.
31.5
У Всеволода Александровича просидел часа три. Говорили о поэзии, живописи. В моих стихах он нашел такие тонкости, о которых я и не подозревал. Дал мне книжку Анненского и статьи по теории стихосложения.
5.6
Вчера на работе ухитрился написать восемь шестистиший. Приехал домой и обнаружил на своем столе пакет из «Невы». В пакете мои рукописи и записка от Кустова: «Неживая поэзия… надуманные эксперименты… несовременно (!)».
20.6
Ездил в Петяярви ловить рыбу. Мой «заповедник» так же дик и безлюден.
Рыбная ловля – это те редкие часы, когда не чувствуешь себя дураком в этом мире.
Мне стукнуло двадцать семь.
28.6
Второй раз был у В. А. Рождественского. Он сказал, что Маяковский поэт средний, а я опоздал родиться – надо было раньше лет на пятьдесят.
5.7
Был у Рождественского в третий раз. Он опять хвалил меня, а на прощанье сунул мне в руку исписанный листок – резюме. Я прочел: «Крупицы истинной поэзии рассеяны, рассыпаны среди изобилия случайного, необязательного, камерно-личного… Талантливый дилетантизм, подступы к своей, значительной теме? Или – по Лермонтову – “мысли тленной раздраженье»”? Ответит лишь время».
10.7
На берегу залива.
Ребятишки ловят окуней. Вдали – краны порта, белые корабли с красными полосами на трубах. Пахнет морем. Из громкоговорителя второй концерт Рахманинова. Я неисправимо сентиментален.
Люблю ли я детей? И что это значит – любить детей? Детей, а не взрослых? Я отношусь к детям, как вообще к людям: люблю умных, красивых, добрых, не люблю капризных, злых, глупых. Сюсюканье с детьми мне противно.
14.7
Одиночество меня выручает. На людях я вяну, глупею.
28.7
Депрессия. Я снова стал маленьким-маленьким. Мысли все какие-то детские, простенькие. И никаких желаний.
Уезжаем в Москву. Дальше – Крым.
6.10
Парк – мое прибежище. Лучше всего осенью, когда на аллеях ни души и по радио хорошая музыка.
Прочел «Петербург» Андрея Белого. Очень пряно, очень густо. Этим кормились, видимо, многие. Линия Гоголя – Достоевского.
Начал сразу четыре поэмы. Но дело идет туго.
23.10
У Понизовского читал стихи Виктор Соснора. Интересно пишет. Сделал вольный перевод «Слова». Был при усах, в черном, военного образца, кителе. Говорят – он граф. Работает электриком на заводе.
26.11
Юродство в крови у каждого русского. Стоит немного выпить – и пошло. Есть юродствующие и в трезвом виде. Чаще всего встречаются пророки. Они и сами верят в свои пророчества.
2.12
Какой-то страшный декабрь начался.
Еду в трамвае. Вскакивает на площадку человек. Я вздрагиваю: сейчас убьет! Почему? Зачем? Не знаю.
Иду пустынной улицей. Впереди кто-то стоит. Так себе стоит, мало ли почему. Но я уверен, что он меня ждет, и в кармане у него – нож.
28.12
Из Москвы прислали письмо и подстрочники персидских поэтов. Предложение работать.
Работаю.
У Толстого: человек обязан быть счастлив. Смешно. Узники Освенцима старались изо всех сил, но оставались несчастными. На улицах, на самых видных местах поставят щиты с гигантскими плакатами: суровое лицо старца с насупленными бровями, палец, уставленный в прохожего, и вопрос: что ты сделал, чтобы стать счастливым? По воскресеньям будут устраивать облавы на несчастных. Каждый несчастный – социально опасный элемент.
Луиза Маршалл – маленькая хромая женщина с хорошим лицом. Здорово пела де Фалью.
1960
25.1
В филармонии люблю смотреть на хрустальные подвески люстр. Они горят разноцветными огнями. Голубой – утро, зеленый – летний день, фиолетовый – зимние сумерки. И все это в какой-то неведомой стране, в том краю, куда мы всю жизнь стремимся и не можем попасть.
4.3
Начало весны. Самое начало. Собственно, весны еще нет, она еще где-то рядом, но от нее исходит сияние. Дни стоят морозные, туманные, вроде бы зимние, но что-то в них новое, какое-то ожидание. И сладко, сладко так сосет под ложечкой.
Шел по Лесному проспекту. Солнце садилось за железнодорожную насыпь. Промчалась электричка. Она была почти пустая. Солнце прыгало в окнах вагонов.
Боюсь слушать музыку. Она приводит меня в болезненное состояние. Кажется, что весь плавишься и течешь куда-то жаркой мягкой массой.
4.4
Сон.
Все что-то подразумевалось, что-то ждал я, предчувствовал. Потом вижу – стою на набережной. Впереди дома, крыши. И вдруг там, над крышами, возникла огромная светящаяся Богоматерь с младенцем. Я вроде бы знал, что она появится, но люди не верили. И я говорю им: глядите, глядите! А вы не верили! И жутко так и очень значительно все это. А потом был я с каким-то человеком, и он что-то просил у меня. Я сделал то, что он хотел, но он меня предал. И доказательство предательства его зарыто в песке на берегу моря. Собрались люди к этому месту. Я крикнул: «Здесь!» – и топнул ногой о песок, будто от этого все зависело. Но так тяжко, так невыносимо горько стало мне, что я проснулся.
22.4
Перечитывал Бунина. «В ночном море», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Руся» – все это вещи колдовские, необъяснимые. Особенно – «Возвращение в Рим». Всего полторы странички, и в них вся философия, все мучения человеческие, все величие мира.
24.4
Увидел ее издали. Она зашла в магазин. Я стал ждать. Она вышла, прошла совсем рядом и кивнула мне.
Мне кажется, что знал я ее всегда, с раннего-раннего детства. Будто была она мне сестра, а потом стала моей любовницей и женой. А потом – умерла. Это тень ее я встречаю иногда на улицах. Сама она где-то там, наверху. Мы с ней еще встретимся.
30.6
Вспоминаю нашу жизнь в Крыму – массандровский парк (старые кипарисы, толстые змеи на дорожках), вид с нашего балкона на ночную Ялту (огни кораблей на рейде, огонь маяка, неон реклам), поездка на катере во Фрунзенское (разговор с матросом рыболовного траулера), прогулка пешком от Массандры до Никитского сада (обелиск на месте расстрела ялтинских евреев).
12.7
Нужно ли писать? Что значит – писать для себя? Не значит ли это то же самое, что и вообще не писать?
29.8
Поступаю в аспирантуру, сдаю экзамены. Одна из моих конкуренток – Алла П. Искусствоведка. Работает в музее города.
5.9
Ездили на пароходе на остров Валаам. Скиты в запустении. Все изломано, истоптано. В монастыре живут инвалиды. Нищета, грязь. Лес захламлен – всюду валяются битые бутылки и ржавые банки из-под консервов. А так – очень живописный остров.
9.9
В трамвае едут две женщины, одна красивая, изящно одетая, другая некрасивая, одетая кое-как. Некрасивая все рассматривает красивую, а та только мельком на нее взглянула и отвернулась. Выходить им обеим на одной остановке. Красивая встала, и все увидели, что сзади к ее платью прилепилась какая-то бумажка. Некрасивая подошла и сняла эту бумажку. Красивая ничего не заметила.
22.9
Писал акварели в Михайловке. Потом пешком пошел в Петергоф. Бродил по Александрии, по Нижнему парку (перспективы аллей, синие тени на желтом песке, безлюдье). Возвращался домой на пароходе. Какие-то иностранцы все время щелкали фотоаппаратами, залив был совершенно гладкий. На горизонте торчал высокий плавучий кран, над ним висела розовая тонкая петля – след реактивного самолета. Солнце садилось за темные зубцы прибрежных лесов. Города не было видно, он был закрыт сплошной завесой дыма. Потом сквозь дым стали просачиваться желтые огни. В сумерках белели паруса яхт. Буксиры с цветными огнями по бортам, сопя, толкали носами баржи. Когда причалили, уже совсем стемнело. Но на западе небо еще было розовым.
23.9
Поэт Г-кий (У Понизовского).
Читал с подвывом, закрыв глаза. Стихи были в основном сатирические, смешные. Потом пел под гитару песни – свои и Окуджавы. Потом рассуждал о поэзии (нет, ребята, нечего себя обманывать, поэтов нынче нет! Ни одного!) и ругал Соснору (искусственный, насквозь искусственный!). Известных поэтов называл запросто Вовками, Петьками и т. п. Хлебникова назвал Витькой (!), Павла Васильева величал «умнягой». Стихи свои он читал по записной книжке. Я заметил, что они переписаны тщательно, ровненько, почему-то красными чернилами. Перед уходом он надел очки, и оказалось, что у него вполне интеллигентное лицо.
10.10
Вчера были у нас гости: академик живописи Соколов (из Кукрыниксов), М. Е. и Е. М. Академик довольно прост и приятен лицом (толстощек, голубоглаз). Работы мои ему понравились. Сказал, что рано или поздно я приду к реализму, что Рерих – плохой живописец, а в Париже много зданий с острыми углами. М. Е. и Е. М. откровенно дремали. Сегодня утром по телефону М. Е. совершенно серьезно заявил мне, что он, как работник в области точных наук, тоже тяготеет к реализму.
13.10
Отнес стихи Шефнеру. Дома его не было. Я отдал папку женщине, открывшей дверь.
Шел по Троицкому мосту, по набережной, потом по Мойке. Вода была черная и гладкая, как застывший битум.
Человек я городской, но когда думаю о счастъе, вижу летний утренний лес, пронизанный косыми лучами солнца. Наверное, был я когда-то зверем или лесной птицей.
23.10
Пишу «Иванушку». Во мне открылись некие, скрытые дотоле родники. Пишется легко, сладко.
20.11
Приснилось, будто я прикинулся мертвым. Положили меня в гроб и принесли на кладбище, к церкви (будут отпевать). Мне страшно – вдруг и впрямь умер! Ж. знает, что я живой, и стоит спокойно, а все остальные плачут. Но им меня не жалко – притворяются.
1961
9.2
Пять дней жил в Таллине. Делал наброски. Шатался с Ж. по кабакам. Кабаки в Таллине отличные.
Звонила Грудинина. Предложила мне сделать книжку. Сказала, что надо написать еще пять-шесть стишков на «гражданскую тему».
Прислали корректуру переводов. Первая в моей жизни корректура.
24.3
Отец в больнице. Инфаркт.
Звонила Грудинина. Сказала, что сборник прошел редколлегию.
26.3
В воскресенье ездили на автобусе в Новгород. Город изменился к худшему. Новые здания слишком высоки и громоздки.
Мечтаю о Крыме.
Крым – это ворота в рай, в тот рай, откуда восходит солнце и куда уходят корабли.
31.3
Провожали Майку в аэропорт. Выла метель, но временами проглядывало солнце. Белый длинный самолет с жутким воем пронесся по аэродрому и исчез в снеговой туче. В нем была сила, которая, казалось, уже не подчинялась человеку.
12.4
Вокруг земли летает космический корабль. В нем сидит русский офицер. В газетах и по радио – сплошной восторг и ликование. Дети пишут на стенах домов: «Ура, Гагарин!»
13.4
Был в Петропавловке. Алла показала мне чердак собора. Огромные арки, контрфорсы… Потом пошли к пушке, которая стреляет в полдень. Оказалось, что пушек две – вторая запасная, на случай, если первая даст осечку. Вернулись в собор. Алла куда-то ненадолго ушла. Музей уже был закрыт. Я один бродил среди могил русских императоров. В окна били желтые лучи вечернего солнца.
23.4
Поэтический вечер в доме культуры. Запомнились стихи Шнейдермана («Флейта – девочка из симфонического оркестра»), Рубцова, Кушнера, Сергеевой. Соснора читал «Цыганку», «Краснодар», «Легенду о Марине», «Легенду о кактусе». Во втором отделении читал Шефнер. Приняли его довольно холодно.
Когда все кончилось, я подошел к нему. Говорили о книжке. Он сказал, что ее надо подавать прямо в издательство.
30.4
Пришли гости, принесли кубинский ром. Я читал «Лестницы», «Стеньку» и «Околесицу». Читал и плакал. Кубинский ром действует расслабляюще.
10.5
Мир мягок и студенист, его не за что ухватить. Я не уверен, что он еще способен существовать.
Через месяц кончится мой двадцать девятый. Я приближаюсь к тридцати. Все твердят мне: неси свой крест и веруй!
13.5
Майка сказала: «Я знаю, как ты одинок, с каждым годом это заметнее».
28.5
Пытаюсь писать стихи о войне. Не выходит.
Ходил к морю. Не Черное, а все же море. Синее. И шумит. И белые корабли на синем.
3.6
Уругвайский архитектор – коммунист. Возил его на Пискаревское кладбище (я и сам был там впервые). Осмотрели павильоны при входе. На стенах фотографии блокадного города: трупы, развалины, пожары. Я говорил, переводчица переводила. Уругваец слушал очень внимательно, переспрашивал.
Пошли по главной аллее между братских могил. Играла траурная музыка. Громкоговорители подхватывали ее один у другого и несли за нами. Подошли к мемориальной стене, постояли.
В машине продолжался разговор о войне и блокаде. Шофер рассказывал о том, как зимой 42-го он возил на кладбище трупы из больничного морга. Пятитонку наваливали c верхом. Были женщины, дети – все почерневшие, страшные. Я попросил переводчицу все подробно перевести.
Мы ехали по шумному летнему проспекту. Мчались машины, шли веселые, здоровые люди.
Шофер продолжал: «…Стоит женщина и держит за ноги труп ребенка, поставив его на голову, стоит и разговаривает со своей знакомой… Шла девушка, не очень худая… упала… через полчаса проходил мимо – у трупа вырезали груди и ягодицы…»
Сеньор архитектор как-то сник.
15.6
Ездил в Разлив к Грудининой. Когда вышел из электрички, собиралась гроза. Гигантские торжественные облака стояли над морем. Н. И. встретила меня приветливо, стала угощать чаем. С ней на даче живут восьмилетняя дочь и собака. Собаку купили на собачьем рынке. Хозяин сказал: «Не продам – удавлю!» Поэтому и купили. А потом оказалось, что собака породистая, что-то вроде сибирской лайки.
Говорили о том, для кого писать и как понимать стихи. Н. И. во время войны была разведчицей, потом редактором флотской газеты. Ее муж – видный инженер.
Я читал из «Трамвайных стихов», из «Лестниц», из «Ваньки» и всего «Стеньку». «Стенька» ее пронял, предложила показать его Решетову, дописав предварительно еще одну главу (вот Вознесенский дописал же конец к «Мастерам»! А без этого конца не напечатали бы!). Провожала меня до станции. Лайка бежала впереди.
19.6
Три часа шел по маленькой речке, ничего не поймал. К полуночи вышел к большой. Хотелось спать. Сумерки опустились и стало холодно. Поужинал бутербродами, запивая их речной водой. Сделал зарядку, чтобы согреться.
По реке полз туман, строил какие-то белые фигуры. Они колебались, как привидения.
Сел на бревно у моста, подпер голову руками, но сон не приходил. Река шумела. Изредка из общего шума вырывались отдельные звуки – не то бульканье, не то журчанье. Куковала кукушка. Какая-то ночная птица пронеслась над самой водой, отчаянно крича, будто просила о помощи. Постепенно стало светлеть.
К мосту подошел человек с рюкзаком за плечами. Остановился, поглядел на воду, приблизился ко мне и стал делать руками какие-то знаки. Он был немой.
Потом он вытащил из кармана спичечный коробок, раскрыл его и поднес к моему лицу. В коробке были светлячки. Штук пять. Он сделал неловкое движение, коробок упал на песок, светлячки высыпались. Мы стали их собирать. Я хотел взять рукой, но немой отодвинул мою руку и стал подцеплять светляков спичками. Я понял, что они могут погаснуть, если взять рукой.
Немой спрятал коробок, улыбнулся мне, закурил, постоял немного и пошел дальше. Река шумела.
Я надел свой рюкзак, взял удочку и полез в прибрежные кусты.
Начал, как всегда, у старой финской мельницы. Прошел первый перекат – ни одной поклевки. Стало скучно. Захотелось домой.
В конце переката, где течение стихает, забросил в яму – там иногда брали крупные окуни. Вдруг рядом плеснула большая рыбина. Эге! – подумал я и подпустил червяка к этому месту. Снова раздался плеск, и я увидел золотой бок крупной форели. Дернул – и ощутил на лесе ее тяжесть, но в тот же миг она сорвалась. Торопясь, дрожащими руками насадил свежего червяка и снова закинул. Опять всплеск. Удочка согнулась дугой. Форель рванулась вбок, поперек течения, потом выпрыгнула из воды, и я увидел ее всю, эту красотку, все ее тело с отчаянно растопыренными плавниками. Мне стало ее жалко, но дело уже было сделано. Я опустил в воду сачок и стал подтягивать рыбу поближе. Она упиралась, ей не хотелось умирать. Я подвел ее совсем близко и стал прижимать к осоке. Я видел ее спину, видел, как двигаются ее жабры. Она была моя, я победил ее. Я чувствовал себя Стариком Хемингуэя.
– Сейчас, лапушка, – говорил я ей, – сейчас, погоди минутку! И вдруг леса резко ослабла. Я дернул и увидел пустой крючок. Сердце мое колотилось. Я чуть не плакал.
Было три часа утра, всходило солнце. Птицы орали на все голоса. Туман разрывался на куски и таял.
К восьми часам я поймал четырех небольших хариусов. Вылез на берег, разделся, развесил на ветках портянки и сел на камень. В пяти метрах от меня к воде вышла белка. Повертелась, взглянула в мою сторону и, не торопясь, ушла в кусты.
Больше я ничего не поймал.
11.7
Я мучаюсь, а зря. Только сейчас кончилось мое затянувшееся школярство и начинается самое интересное.
17.7
Привел в порядок свои поэмы. Появилась мысль о новой. Это будет поэма о любви. Джульетта умирает в блокадном Ленинграде. Ромео несет ее тело по пустынному мертвому городу. Это должно быть очень строго и возвышенно. Это должно быть на одном дыхании.
30.7
Историю искусств нам читал Александр Александрович Починков. Это был старичок в старомодном пенсне с жидкой козлиной бородкой и серым пушком на голом желтом черепе. Одевался он неопрятно и был до смешного рассеян. Лекции его нам нравились, хотя и были несколько сумбурными: Сан Саныч, не стесняясь, пропускал те разделы, которые не любил, зато подолгу разглагольствовал о вещах второстепенных, но его интересовавших. При каждом удобном случае он вспоминал о своем путешествии по Европе, которое он успел совершить еще до революции. Он был холост. Его жилище состояло из двух комнат в коммунальной, некогда целиком ему принадлежавшей квартире. В большой комнате помещалась его библиотека, в маленькой помещался он сам. Библиотека была солидная – 5 тысяч томов. Старые гнилые полки ломались, но А. А. боялся пригласить рабочих, потому что они могли что-нибудь украсть. И все же А. А. обокрали. Его сосед по квартире подобрал ключ к двери большой комнаты и частенько стал приходить домой выпивши. А. А. ничего не замечал, пока не увидел в одном из букинистических магазинов несколько ценнейших книг из своего собрания. Книги ему отдали (они были меченные).
В маленькой комнате стоял большой старинный буфет резного дерева. В нем хранилась богатейшая коллекция граммофонных пластинок с записями классической музыки. Снаружи буфет был уставлен множеством безделушек, купленных во время знаменитого путешествия по Европе. На всем лежал толстый слой пыли, но А. А. не приглашал уборщицу, потому что она могла поставить безделушки не на то место. Он терпеть не мог никаких перемен.
По вечерам к А. А. приходили студенты и он устраивал «концерты» симфонической и камерной музыки или рассказывал о своем путешествии по Европе.
А. А. был профессором Академии художеств, главным хранителем академического музея, и до глубокой старости преподавал биологию в одной из средних школ. Когда-то он окончил биологическое отделение Петербургского университета. Став искусствоведом, он не разлюбил биологию.
Весной 1951 года А. А. перестал читать нам свои лекции. Оказалось, что они не соответствуют марксистскому пониманию искусства. Несколько раньше по такой же причине он лишился места учителя биологии.
Перед смертью Александр Александрович Починков завещал свою библиотеку Академии художеств. Куда делись пластинки, я не знаю.
2.8
Вспоминаю.
Она защищала диплом в конце июня, кажется, 24-го. Я пришел в институт, чтобы поздравить. Она была веселая, счастливая и красивая. Мы поехали в ЦПКиО и долго шатались по аллеям. Потом валялись на траве, и мне очень хотелось поцеловать ее, но я не решался.
Павловский парк. Она сняла босоножки и идет босиком. Я иду сзади. Среди ромашек мелькают ее голые ноги. У меня кружится голова от запаха ромашек и от мелькания этих ног. У пруда раздеваемся. Она снимает платье, снимает его через голову, как все женщины. Я вижу ее тело, ее трусики и бюстгальтер (кажется, черные с красной каемкой). Загораем. Она лежит рядом, такая женщина – женщина. На носу у нее зеленый листик. Я наклоняюсь над ее лицом. Она быстро, как-то совсем по-деревенски закрывает рот ладонью.
Приморское шоссе в Солнечном. На ней яркое летнее платье. В волосах – цветок шиповника. Все прохожие пялят на нее глаза. (Не помню, какого фасона было платье. Тогда ведь были совсем другие моды.)
Парк в Михайловке. Накрапывает дождь. Мы сидим на полянке, накрывшись одним плащом. Рядом шумит море. Пахнет водорослями. Мы немножко устали от любви, но нам весело. Потом босиком по лужам бежим на автобусную остановку. Поскользнувшись, она смешно падает. Долго хохочем. Я оттираю ее юбку мокрой травой. «А, черт с ней! – говорит она. – Все равно я вся мокрая!» В Стрельне пересаживаемся на трамвай и приезжаем к Казанскому собору. В кафе, что было на углу Екатерининского канала и Невского, заказываем множество еды. Ее мокрые волосы завились кольцами.
Александрия. Берег, руины дворца. Длинная каменная гряда уходит в залив. Мы на самом конце гряды. Она сидит у меня на коленях. Мутные волны разбиваются о камни. Пасмурно. На горизонте паруса яхт. О чем мы говорили тогда? Кажется, о смерти. Она сказала: «Когда-нибудь, через много лет, когда меня уже не будет (она уверена, что долго не проживет), ты придешь на эти камни, увидишь эти волны, услышишь этих чаек и вспомнишь, как мы здесь целовались, а я на том свете почувствую это и заплачу от радости».
Балтийский вокзал. Она стоит в дверях электрички. Ее фигура четко выделяется на светлом прямоугольнике.
– Милый, приезжай! – говорит она. – Я не могу без тебя!
Электричка трогается.
Михайловский сад. Сидим на скамейке. Подходит молодая цыганка: Ах, какая парочка! Ах, какие оба хорошие! Красивые! Дай бог вам счастья!
Борисово. Прихожу на почту, и мне вручают письмо, первое в моей жизни письмо от женщины – моей любовницы. Сажусь на пригорке среди молодых сосенок, дрожащими руками разрываю конверт: «Мне кажется, что десять лет прошло, как я с тобой рассталась…»
Звоню. Открывает ее тетка. Прохожу по коридору, вхожу в комнату. Она лежит в постели, закинув голые руки за голову, смотрит на меня и улыбается. «Господи! – думаю я. – Как она хороша! И эта женщина меня любит!»
Звоню. Дверь открывается. Она стоит на пороге в новом, облегающем фигуру платье, тщательно причесанная, с накрашенными губами и ресницами. Идем в ее комнату и там тихонько целуемся, стараясь не испортить ее прическу. Потом она вытирает носовым платком губную помаду с моего испачканного лица, и мы идем в столовую ужинать. Ее отец наливает мне водку – одну рюмку, вторую, третью. Я храбро пью и закусываю жирной тресковой печенью. «Запивай боржомом, – говорит ее отец, – это лучшая закуска, никогда не опьянеешь». Я запиваю боржомом, но это не очень помогает. «Слушай, – говорит мне ее отец, – брось ты эту волынку! Женитесь, и дело с концом! Свадьбу сыграем. Ты еще студент, но это не страшно, мы вам помогать будем. Проживете, ничего с вами не случится». – «Что ты несешь, Володя? – говорит ее мать. – Как тебе не совестно? Нe слушайте, Гена, этого пьяного дурака!» Потом мы беседуем с ее отцом о политике. «Мы их в два счета расколотим! – говорит он. – Они ж не умеют воевать! Они в атаку на джипах ездили! Смешно! Мы им покажем, что такое война!»
Звонят. Я открываю. Входит она. Красивая, румяная, в коричневом пальто с отделкой из рыжего меха. (Это пальто ей очень к лицу.) Идем в мою комнату. Она прижимается ко мне, еще холодная, пахнущая снегом.
Она больна, но уже выздоравливает. Я сижу рядом с постелью. По комнате на трехколесном велосипеде ездит ее сын. «Сашенька, – говорит она сыну, – иди покатайся в прихожей, там лучше кататься!» Саша уезжает в прихожую. Она тянется ко мне из постели и обнимает за шею теплой мягкой рукой. Бретелька сорочки сползает с ее плеча. Саша снова въезжает в комнату на своем велосипеде. Она прячется под одеяло. «Саша, – говорит она, – я же тебе русским языком сказала: катайся в прихожей!» – «Я не хочу в прихожей, – отвечает Саша, – я хочу здесь!» – «Вот противный ребенок!» – говорит она.
Фойе Филармонии. Я держу ее под руку. Она в длинном черном шелковом платье. Я сам попросил ее надеть это платье. Все на нее смотрят. Я горд. После концерта идем по Невскому, заходим в парадную какого-то дома, подымаемся по лестнице, останавливаемся на площадке. Она расстегивает свою шубку, и я обнимаю эту роскошную женщину в длинном вечернем платье. Ее мокрые от снега ресницы холодят мне щеку.
Лес у санатория «Сосновый бор». Негустой березняк. Она лежит на траве. Солнечные зайчики прыгают по ее загорелому телу. Один прыгнул на лицо. Она зажмурилась и прикрыла глаза рукой, ладонью вверх. Я открываю штопором бутылку портвейна. Рядом на газете колбаса, булка, банка рыбных консервов. «Завтрак на траве, – говорю я, – как у Мане!» – «Ага, – говорит она, – только ты тоже голый». – «Могу надеть трусы!» – говорю я. «Пожалуй, я тоже надену платье, – говорит она, – а то здесь мухи какие-то кусачие». Она садится и надевает на голое тело платье, надевает его через голову, как все женщины, Мы пьем вино прямо из горлышка и закусываем бутербродами с колбасой. Потом она провожает меня. Мы прощаемся на дороге. Она плачет. «Не плачь, – говорю я, – вернусь через два месяца!» – Ах, милый, – всхлипывает она, – я умру, я не выживу! Ведь целых два месяца!» – «Глупости какие!» – говорю я и последний раз целую ее в соленые от слез губы. Быстро иду по дороге, но не выдерживаю и оборачиваюсь. Она стоит и машет мне рукой. Через минуту я опять оглядываюсь. Она стоит, все машет. Потом дорога круто поворачивает, и она исчезает.
Прошло семь лет. Иногда я встречаю ее. Мы киваем друг другу, не останавливаясь. Она растолстела. Ее знаменитая талия исчезла, и, видимо, навсегда. Но лицо мало изменилось. И голос все тот же, так же нечетко произносит она букву «л», и это по-прежнему придает ее речи какую-то особую женственность. Иногда я встречаю ее с сыном. Он уже большой мальчик.
7.8
Москва. Российские несуразности. На Красной площади приезжие крестьяне пьют воду из крана для поливки мостовой (рядом автоматы с газировкой). Тут же на тротуаре завтракают – на асфальте разостлана тряпочка, на тряпочке еда. Над городом гром репродукторов – очередной космонавт.
Курский вокзал. Спят вповалку, обнимая чемоданы и узлы. Плачут дети. Духота. Пол усыпан грязной бумагой и арбузными коржами.
8.8
Во Владимир приехал в час ночи. В гостинице мест не было. Спал в коридоре на диване (нянечка пожалела). Снились какие-то омерзительные сны с покойниками. Утром проснулся, выглянул в окно: крыши, церковь, дальше – река, луга, лес. Получил место в номере. Ходил по городу. Из городского парка, с обрыва, открывается грандиозный вид на Клязьму. Русь. Раздолье. Жители окают. Троллейбусы ходят стаями по 3–4 штуки, потом пауза на полчаса. Владимирское зодчество суховато – Византия, даже Армения. Но резьба по камню великолепна.
Калека на улице – безногий и безрукий, на тележке с колесиками. Одна культяпка у него все же осталась. К ней приделана деревяшка с металлическим штырем. Калека отталкивается этим штырем и едет.
9.8
Спустился вниз, по мосту перешел Клязьму и долго глядел на город. Надо всем золотые купола Успенского собора. Еще выше – белые округлые облака. Рерих. Пo склону лепятся деревянные домишки с палисадничками, с рябинами у заборов.
Во Владимире множество тощих кошек с крысиными хвостами.
10.8
Показывал город студентам. Были в Реставрационных мастерских. Варганов – очень знающий и очень симпатичный дядька. Рассказал кучу всяких разностей про архитектуру и так, по поводу. В Суздале, в Спас-Евфимиевском монастыре, содержались немецкие генералы, сдавшиеся под Сталинградом. Они не работали, просто жили. Паулюс ходил при всех орденах.
Сижу над Клязьмой. Далеко-далеко на том берегу кто-то скачет на лошади. Лошадь машет хвостом. Ветер стих. На горизонте остановились многобашенные облака. Сквозь них пробиваются желтые солнечные лучи. Внизу проходит товарный поезд. Прямо посередине реки бегают мальчишки, вода им по колено. Видно, что они кричат и хохочут, но не слышно – слишком далеко.
Мой сосед по номеру – лысый полковник. Мы с ним не разговариваем. На нашем этаже живут лилипуты – они приехали на гастроли с цирковой труппой. У них тонкие, верещащие голоса. По вечерам они прилежно сидят в «холле» у телевизора.
11.8
Шоссе идет среди полей. Скирды. Трактора. Деревни. В каждой деревне – церковь. В поле зрения попадает сразу штук пять таких церквей: деревни стоят густо. В одном месте церкви сбились плотной кучей – это Суздаль. Через 15 минут автобус въезжает в город и церкви обступают его со всех сторон. Бегаю по городу и жадно, торопясь, фотографирую, будто Суздаль может убежать от меня.
Встретил Гусеву. Она очень мне обрадовалась, хотя в институте мы с ней даже не здоровались. Живет в архиерейских палатах рядом с музеем в келье со сводами. В Суздале работает уже четыре года. «Тоскливо бывает зимой и осенью, – говорит она, – а летом ничего».
Деревянную церковь, что стоит рядом со Спасо-Преображенским монастырем, перетащили в Суздаль из дальней деревни. Когда ее стали собирать, кто-то сообщил в обком, что строят храм. Последовал приказ – сборку прекратить! И прекратили. Начались жалобы, просьбы, разъяснения. Приехала комиссия. Наконец разобрались, что к чему.
12.8
Пасмурно. Мелкий дождичек. По скошенному лугу идем к Покрову на Нерли. Рядом с храмом проходит линия высоковольтных передач. Старые развесистые ивы. Церковь широкой белой полосой отражается в воде.
Вечером пошел рисовать. На тихой улочке окружили ребятишки. Чумазые, белобрысые. Все окают.
– Глянь-ка, сколько карандашов! Раз, два, три – двадцать четыре! Дядь, дай карандашик! У тебя много.
Идут девчонки, едят мороженое, кричат издали:
– Сорок один!
– Почему, – спрашиваю, – так кричат?
– Сорок один – ем один! Это чтобы не выпросили мороженое. Дядь, а дядь, дай карандаши!
– Не могу. Самому надо. Приезжайте ко мне – дома у меня много карандашей. Всем хватит.
– А где ты живешь?
– В Ленинграде.
– В Ленингра-а-аде! А как ты сюда приехал?
– На поезде.
– На каком?
– На обыкновенном.
– А где он?
– На вокзале.
– А где вокзал?
– Тут, рядом.
– А большой поезд-то был?
– Порядочный.
– Дядь, дай карандашик, самый маленький!
Подошел мальчик лет шести с совершенно грязной физиономией.
– Ты чего такой? – спрашивает мальчик постарше.
– Мороженое ел.
– Мороженое-то белое, а ты черный! – потом, обращаясь ко мне: – Это Васька, он всегда у всех мороженое выпрашивает и ест.
Васька с гордостью заявляет:
– Я уже шесть раз мороженое ел! Во! И даже ночью один раз!
Третий мальчишка, совсем маленький, тянет тоненько:
– Дурак ты, Васька. Рази ж ночью мороженое едят? Ночью мороженого не видно.
– Сам дурак! Я мороженое всегда вижу, даже ночью. Я как кошка!
– Дядь, а чего ты так плохо рисуешь?
– Еще не научился.
– А-а-а! Ну учись, учись!
Пошел в парк. Впереди шли двое парней и девушка с желтыми, высоко взбитыми волосами. Она шла гордо, ни на кого не глядя, чуть-чуть покачивая бедрами. Местная красавица.
Снова сижу над Клязьмой. Заходит солнце. Внизу гудят электровозы. По радио объявляют: «Внимание! Внимание! Сейчас на танцплощадке начнется вечер веселой шутки и аттракционов!»
Огромное облако висит над заклязменскими лесами. Оно лиловое. Один кончик ярко-оранжевый, он освещен закатным солнцем.
– А сейчас танцуем дамский фокстрот! – вещает репродуктор.
Оранжевый кончик потух. По Клязьме идет катер. Он тащит за собой длинные усы разрезанной воды. Большой стаей летят грачи. Дохнуло осенью.
– Будьте веселыми! Активно участвуйте в наших аттракционах!
Солнце село. Катер уже идет обратно. Московский поезд подходит к вокзалу.
13.8
Крестьяне на автостанции. Все низкорослые, кривоногие. Одеты во что-то серое, бесформенное. Женщин можно отличитъ только по юбкам и платкам на голове. На лицах одинаковое выражение тупого равнодушия. Были ли они – Ильи Муромцы и Василисы Прекрасные?
Снял номер в Суздальской гостинице. Роскошь! Двуспальная кровать, трюмо, диван, обитый красным плюшем! Даже умывальник есть! Правда, электричество и водопровод работают с перебоями. Администраторша посоветовала запастись водой, пока она еще идет. В моем окне штук пять церквей и дальняя деревня на холме. Пожить бы здесь с месяц, пописать стишки.
Вышел на площадь. На ступенях гостиницы сидит пожилая женщина в черном плюшевом пиджаке и старых кирзовых сапогах. Лицо у нее темное, иконописное. Белый платок образует как бы нимб вокруг ее лица. Она ест огурцы с хлебом.
14.8
Ночью шел дождь. Весь Суздаль погрузился в грязь. Я принял холодный душ (теплой воды здесь не бывает), и напала на меня какая-то сонливость. Не заболеть бы!
15.8
Заболел-таки. Ломит поясницу, болят суставы. Озноб. Температура, видно, большая, но градусника нет – нечем измерить. Всю ночь перед глазами вращались церкви. Не то сон, не то бред. Церкви перемещались, собирались в кучи, и было в них что-то загадочное. Я все хотел поймать хоть одну, но не мог. И мучился.
Пришел в чайную, стал в очередь. Через пять минут все поплыло перед глазами, затошнило. Опираясь о стенку, вышел на улицу. Постоял. Вернулся. Снова то же самое. Еле добрел до гостиницы.
Лежу, болею. Размышляю, благо делать нечего. Вспомнил свой спор с M. Е. Наука изучает существующий мир. Искусство создает новый мир. Наука – анализ. Искусство – синтез. Искусство человечнее науки. Марсиане, если они существуют, откроют те же законы природы, что и мы. Но у них не может быть своего Достоевского и своего Бетховена.
В гостинице живет некое высокопоставленное лицо мужского пола – не то художник, не то кинорежиссер. Лицо ходит с красоткой лет сорока (кокетливый кок на затылке). У них множество путеводителей и справочников. Подойдя к церкви, они долго роются в своих книжках и потом вслух читают друг другу соответствующий текст. Вчера они пришли в чайную. В чайной самообслуживание, в кассу стояла большая очередь. Они уселись за столик, вызвали заведующего и потребовали, чтобы их обслужили в индивидуальном порядке.
16.8
В чайной какой-то старикашка норовил пролезть без очереди. Очередь волновалась и протестовала. Старикашка ругался и кричал кому-то противным тонким голосом: «Не вводи меня во грех! Не вводи!» Потом мы сидели с ним за одним столиком. Он был седенький, с тощей бороденкой, с маленькими слезящимися глазками. На нем было старое выгоревшее пальто с оторванным хлястиком. Ворот был расстегнут – виднелась серая грязная рубаха и сморщенная кожа на груди. Съев свои блины, он отер рукавом рот, вытащил из кармана маленькую деревянную коробочку, раскрыл ее, взял двумя пальцами щепоть какого-то порошка и засунул ее в ноздрю. Судя по всему, он нюхал табак. Но чихания не последовало. Он сидел тихо и прямо, уставившись в одну точку, и что-то бормотал.
– Ты чего, отец? – спросил я его.
– Вот когда я в Москве жил, – заскрипел он, – там была еда не такая, хорошая еда была. Я ведь пол-Москвы отстроил, да. А ты кем был-то?
– Каменщиком был, родимый, каменщиком, да. Ну я пойду.
Он натянул на голову старенькую бесформенную кепчонку и поднял с полу сетку, в которой был такой же старенький комнатный репродуктор.
– Ну, прощай, родимый, прощай!
Ходили в Кидекшу. Храм Бориса и Глеба на зеленом пригорке. Ленивая Нерль. Луга. На лугах – стада. Вдали – лес. И все те же пышные округлые облака, подрумяненные вечерним солнцем.
17.8
Встал в 6 утра, купил билет на автобус, прошелся вдоль Каменки. Роса. Пaр над водой. Рыбаки. Гуси. Петухи кричат. Солнце еще невысоко – церкви розовые.
18.8
Ярославль. Общежитие, в котором я живу, рядом с церковью Николы Мокрого. Утром с путеводителем бродил по городу. Спасо-Преображенский монастырь только что отреставрирован. Кругом асфальт, указатели, чистота и порядок. По набережной Которосли вышел к Волге. Торжественная минута (до этого я видел Волгу только из окна вагона). Берег высокий. Внизу пляж с зелеными фанерными грибами. На пляже ни души – пасмурно и прохладно. Вдали силуэты церквей – это Коровники.
Паром. Забавно глядеть, как осторожно въезжают на палубу грузовики, разворачиваются и становятся рядком, стараясь занять поменьше места. Шоферы переговариваются из своих кабин. Въезжает подвода с бревнами. Бревна вдруг расползаются и сыпятся на пристань. Возница засуетился, забегал, стал звать на помощь. А сзади напирают – длинная очередь машин и телег. Ругань, крики. Наконец собрали бревна, погрузили. Телега тронулась, но колеса зацепились за край парома, и бревна снова рассыпались. Ругань стала громче. Возница весь бледный, на лбу капли пота. Зачем-то бьет лошадь вожжой, – она же не виноватa! Наконец телега отъезжает в сторону и дает дорогу другим.
Капитан парома со скучающим видом наблюдал за этой сценой со своего капитанского мостика. На противоположном берегу видна вторая длинная очередь подвод и грузовиков. В Ярославле есть только железнодорожный мост через Волгу. А город порядочный – 400 тысяч жителей.
19.8
Местный хранитель древностей – Митрофанов. Он показал нам фрески. Рассказал:
– В один из провинциальных музеев явились трое молодых людей, показали документы и сказали, что забирают все иконы в Москву для реставрации и изучения. Навалили иконами целый грузовик и уехали. И тотчас в музей пришла телеграмма, где говорилось, что молодые люди – злоумышленники, а документы поддельные. Началась погоня, преступники решили замести следы. Они остановились в лесу, сложили иконы в кучу, облили их бензином и сожгли. Там были иконы ХIII – ХV веков. Как оказалось, молодые люди были искусствоведы и действительно работали в одном из художественных заведений Москвы.
Когда пришли к Николе Надеину, вместе с нами в церковь проскользнули двое парнишек лет по шестнадцати. Они стали рыскать по всем углам. Потом один из них подошел ко мне и шепнул доверительно, видимо, принимая меня за студента:
– Ты скажи девчонкам – тут мумии есть! Во! – и он показал мне большой палец.
– Какие мумии? Где?
– Обыкновенные. Вон там! Хочешь, покажу?
Митрофанов кончил рассказывать о фресках и повел нас в низкий придел. Там была дверь в какое-то другое помещение. На двери висел замок, но она была приоткрыта. Из нее вышел второй паренек.
– Ты чегo тут? – спросил Митрофанов озабоченно.
– Да вот, мумии…
– А кто открыл дверь?
– Не знаю. Была открыта.
Парнишка боком, боком – и исчез. Я оглянулся – того, первого, тоже уже не было.
– Это ваши? – спросил меня Митрофанов.
– Нет, не наши.
– Что же вы мне сразу-то не сказали!
Он изменился в лице. Мы вопросительно на него уставились.
– Пойдемте, – сказал он, – всё равно уж теперь!
Вошли в таинственную дверь. На полу лежало что-то громоздкое, накрытое брезентом. Митрофанов отбросил брезент. Мы увидели три стеклянных ящика. В ящиках лежали высохшие коричневые мумии без одежды, точь-в-точь как египетские в Эрмитаже.
– Это князья Федор, Михаил и Ярослав, – объявил Митрофанов, – святые мощи. Церковники зa ними охотятся, и мы перевозим их из одного места в другое – прячем. Если попы разнюхают, где они спрятаны, то истребуют их выдачи. Теперь вот опять надо подыскивать новое убежище. Мальчишки знают – узнает весь город.
Оказалось, что до революции эти мощи находились в Спасо-Преображенском монастыре. Богомольцы стекались к ним со всей России. Уничтожить же их нельзя – рано или поздно это откроется и будет повод для возмущения верующих.
Мне стало жутковато: своды древней церкви, решетки на окнах, полумрак и высохшие мертвецы, которых так старательно прячут. А вдруг эти мощи и впрямь обладают чудодейственной силой? Жили-были бог весть когда какие-то князья, все их современники сгнили без остатка, кости их рассыпались в прах. А эти трое и сейчае еще вроде бы живы: кому-то они нужны, кто-то их ищет, кто-то их прячет, кто-то их боится.
20.8
Поездка на пароходе в Тутаев.
Погода переменчивая – то дождь, то солнце. Зато над Волгой разнообразнейшие облака. Они все время меняются в цвете: лиловеют, синеют, желтеют. По берегам деревни, стада черно-белых коров на лугах (почему-то одни черно-белые!), трубы заводов, пристани, деревянные лестницы, подымающиеся от пристаней в гору, церкви – в большинстве полуразвалившиеся, с покосившимися главами, с торчащими ребрами стропил. Сама Волга тоже меняет окраску, как хамелеон, – от зеленого до темно-лилового. И леса на горизонте то светлеют, то становятся почти черными, когда на них падает тень от облаков.
Когда приплыли к Тутаеву, дождь полил как из ведра. Целый час сидели на пристани. Потом по скользкой глинистой тропинке пошли вверх, в город.
В этом месте оба берега высокие. Тутаев расположился на двух берегах. Множество церквей. Они стоят очень живописно, спускаясь по склону к Волге. Почти все они полуразрушены.
Город застроен одноэтажными, в большинстве деревянными домишками, в центре – площадь с намеком на булыжное мощение. Посреди площади монумент вождю. Он обсажен цветами. Цветы так буйно разрослись, что закрыли фигуру почти до пояса. Тут же на углу – ресторан. Около него двое пьяных – один лежит, другой стоит над ним, держась за стенку.
Другая площадь – базарная. Она поросла свежей зеленой травкой. На ней ни души. Две козы щиплют травку. (Базар бывает по утрам.) Рядом – белая чистенькая церквушка – действующая.
По Волге мимо Тутаева несется «Ракета» на подводных крыльях со скоростью 79 километров в час. Видение из другого мира. Тутаев остался в ХVII веке. Вернее, остался бы, если хоть церкви были бы в порядке. А так он вне времени и пространства. Призрак. Правда, на другом берегу, за собором, торчит труба какого-то заводика, но что проку? От неё только дым. А когда-то это был богатый купеческий город – недаром здесь так много церквей. На пристани висит плакат: БЛАГОУСТРОИМ РОДНОЙ ТУТАЕВ! Он висит уже давно – выцвел.
23.8
Ростов Великий. Сказочный ростовский кремль. Пожалуй, даже слишком белый, слишком свежий. Его только что восстановили после разрушений, которые причинил ураган – явление весьма редкое в этих местах. Этот ураган сорвал все крыши, все верхи крепостных башен и храмов. Но нет худа без добра. Теперь кремль восстановлен в первоначальном виде, таким, каким он был в ХVII веке. Если бы не ураган, архитекторы не получили бы столько денег на реставрацию.
Фрески. «Страшный суд» в Спасе на Сенях. Ничего подобного еще не видел. Грандиозно.
Вид кремля с озера. Oзеpо гнилое, болотистое. Берега низкие, сырые. Множество лодок. Старый колесный пароход, который давно уже не плавает, а стоит на приколе.
Живем с В. В. вдвоем в большой общежитской комнате. В. В. вооружен до зубов всякими орудиями для художества. Каждый день он пишет акварели. Вечером мы их обсуждаем. В. В. Очень добродушен и общителен. Увидел, что я читаю Каменского: вы любите стихи? Все рассказывает мне про Старую Руссу. Это его родина. Отец его был главным архитектором Старой Руссы. До революции у них была квартира из восьми комнат.
– Ах, как мы жили! Как жили! Я, знаете ли, не боюсь это говорить. Мой отец ведь не буржуй какой-нибудь был, а русский провинциальный интеллигент. Я горжусь им. Он немало сделал для страны. После революции он работал на Волховстрое и на других стройках. А образования высшего, между прочим, не имел. Taк, знаете, самородок. Мне до него далеко. Ах, как мы жили! Как жили!
В. В. хочет сачкануть – уехать на два дня раньше в свою Старую Руссу на сборище земляков по поводу какой-то там годовщины.
– Посоветуйте, как мне быть? – спрашивает он меня.
– Поезжайте! Плюньте на все и поезжайте!
– Но могут быть неприятности!
– Ну и что же? Зато вы будете среди друзей, у себя на родине!
– Вы думаете – ехать?
– Да, конечно!
– Ну так и порешим. Еду!
Через полчаса опять:
– Но как мне быть с билетами? Ведь их не оплатят!
– Оплатят минимум, не все, но минимум! – заявляю я авторитетно.
– Вы думаете?
– Да, я в этом уверен!
– Ну ладно. Поеду.
Еще через полчаса:
– Нет, вы мне все-таки посоветуйте – как мне лучше ехать?
Хожу по стенам кремля, делаю наброски.
24.8
Борисоглебский монастырь. Опушка леса. Речка с запрудой. Надвратные церкви. В крепостной стене – магазины.
20.10
Закончил «Жар-птицу». Весь день не в своей тарелке. Тяжелая голова. Будто пьян. Очень хочется кому-нибудь прочесть. Майка боится «Жар-птицы».
В какой-то степени эго шаг назад, но шаг вполне честный.
9.11
Андрей К. и Таня Х. Андрей хвалил мои поэмы, Таня ругала мою живопись. Все сошлись на том, что в поэзии я сильнее. Андрей покорил нас своим обаянием, но на Майкином дне рождения учинил дебош и исчез бесследно.
20.11
В Капелле слушали Моцарта и Бетховена. Захотелось написать поэму об Афродите, о женской красоте, которая вечно мучает нас и манит.
Про «Жар-птицу» говорят, что в ней есть нечто античное (Орфей спускается в аид за своей Эвридикой).
24.11
Винокуров написал отрицательную рецензию на мою книгу. Я утвержден кандидатом в члены литобъединения при издательстве «Советский писатель». Предлагают подать на конкурс 10 стихотворений.
6.12
Во время блокады в квартире нашли труп. На груди под одеждой была баночка с золотой рыбкой. Человек согревал ее своим телом. Он умер, а рыбка выжила.
…
1962
17.1
Чердак Исаакиевского собора. Какие-то марсианские конструкции. Множество лестниц и переходов. Бездонные черные пропасти. Фантастика.
Одинаково плохо читать стихи тем, кто их не понимает совершенно, и тем, кто их слишком хорошо понимает. Первые, зная, что находятся в лесу, не могут отличить елку от осины. Вторые видят елки и осины, но не видят леса.
21.1
Показывал свои работы выставкому молодежной выставки. Приняли семь штук. Было много народу – всем нравилось. Уже потом, когда мы с Майкой связывали подрамники, подходили люди и просили показать. Говорили – красиво.
11.3
Вышла «Персидская лирика». Маленький тираж – сразу разошелся. В «Звезде» напечатали мой перевод из Шогенца.
Неделю жил в Москве. Теперь пишу запоем. Вроде бы есть успехи.
Музей этнографии. Отдел – «Русские». Лапти, соха, сани, прялки, дудки, жалейки… Сердце щемит. Зов предков.
Пишут, что Китеж – это Кидекша близ Суздаля, и ничего больше. Пусть так. Однако Китеж останется Китежем.
Читал о Гогене. Живописец из меня не выйдет.
И снова весна.
17.3
Ночь. Из приемника – меланхолический джаз. Женщина поет по-французски. Женщина поет в Париже. В Париже рано ложатся спать, но многие не спят ночами. Машины двумя потоками несутся по Елисейским полям, огибают арку на площади Звезды. В машинах тот же джаз. Только что прошел дождь. Неон реклам отражается в мокром асфальте. Машины мчатся по разноцветному неону. Где-то в предместье хозяин закрывает свое бистро, выпроваживая засидевшегося пьяницу. Из открытой двери доносится тот же джаз.
Увижу ли я Париж?
Сегодня запущен спутник весом в пять тонн.
Можно ничего не делать, просто жить – так все интересно. Можно быть просто свидетелем.
Можно найти счастье, например, в еде. Раньше я не обращал на еду внимания, а теперь стараюсь есть и пить вкусно. Тоже ведь радость.
Я бы мог стать хорошим поваром, я знаю толк в этом деле. Еще я мог бы стать переплетчиком. Быть может, это и есть мое призвание.
Г. говорит: главное – освободиться от тщеславия, в этом и есть счастье. Он освободился и счастлив.
Еще – хорошо вспоминать детство. Начать издалека и вспоминать все по порядку.
6.4
Весна распустила хвост. Я, как и следует быть, занемог. Особенно вечера меня мучают, после заката солнца – это зеленое небо с первой звездой. Обязательно есть первая звезда, самая первая.
Прилетели птицы. Вышел как-то во двор – пела одна, чисто-чисто так. И чего ее в город занесло? Будто в лесу места мало.
Фантастическую литературу мне читать опасно – всякий раз немного схожу с ума, и позвоночник ломить начинает.
В Москву летел на ТУ-104. Первый раз. Забавно выглядит земля с высоты восьми километров. Петли дорог на снегу. Машины на шоссе. Поезд. Людей не видно вовсе.
Свистопляска столичных впечатлений.
Мастерская Тани Х. Экзотика Масловки. Белый пудель художника Никонова. Смерть художника Китайки. День рождения Г. (читал «Осенние страсти» – не поняли). Дочь репрессированного художника Виноградова просит дать жилплощадь (Виноградов расписывал агитпоезда). Ночная Москва. Вокзалы.
Пишу «Афродиту», но весна мешает.
19.5
Напротив нашего дома стоит высокая железная труба. Из нее все время валит черный дым. Если лечь на тахту, в окне видно только небо, труба и этот дым. Он старается заполнить собой белый квадрат неба в окне, но это ему не удается. Часами могу лежать на тахте и смотреть на этот дым.
Закончил «Девятую поэму». Это тот же дым в окне, десятое донкихотство.
Рассматривал фотографии росписей Владимирского собора в Киеве. Красиво до слащавости, а волнует. Особенно нестеровский Глеб – женственный хрупкий юноша с трогательно торчащими соломенными волосами.
И вообще – Нестеров: «Дмитрий – царевич убиенный», «Великий постриг», «Видение отроку Варфоломею» – все это пронимает меня до печенок.
Если бы я родился лет 60 назад, я был бы очень религиозным человеком.
17.10
Пора самоубийц. Сумеречные дни. Наледи на тротуарах. Печатаю летние фотографии.
Обрывки летних впечатлений.
Киев.
Труханов остров.
Рыбаки. Катера. Мальчишки. К пристани подошла девушка с желтыми волосами. Вымыла ноги, надела туфли, надела темные очки, одернула юбку. Стоит, облокотясь о поручень, смотрит на воду. Женщина купает мальчика. Мальчик капризничает. У женщины красивые бедра. Заходит солнце. Днепр розовый.
Вечерняя толпа на Крещатике. Много негров и красивых девушек. Все говорят по-русски. Даже «г» твердое, северное.
Владимирский собор, фрески. Сначала ошеломляет. Потом начинаешь разбираться, что к чему. Все сохранилось. Немцы собор не тронули, наши – тоже.
Москва.
«Литературный вечер» у Н. Прочел «Стеньку». Один из слушателей говорит: «Но ведь это не соответствует исторической правде!»
Владимир.
Гостиница. Очередь к администратору. Пожилой женщине не дают место, она колхозница, у нее нет паспорта. «Куда же я денусь»?» – говорит женщина. «Ничего не знаю! – говорит администратор. – У нас инструкция».
Суздаль.
Овес у Покровского монастыря. По тропинке идем к воротам – Алла, Наташа и я. За белыми стенами Покровского красные – Спас-Евфимиевского. Белые округлые облака на синем небе. В речке Каменке брязгаются белоголовые ребятишки. На берегу пасется белая лошадь. Белое, красное, зеленое и синее.
Дорога из Суздаля в Кидекшу. Пьяный парень едет на лошади. Он то и дело засыпает. Лошадь еле бредет. «Н-н-но!» – говорит парень, просыпаясь, и засыпaeт снова. Дорога пустынна. Ветер. Пыль.
Беседа со старушкой-аборигенкой. «Ноне-то хорошо стало. Церкви чинят. Даже кресты золотят – слава те господи. А раньше, бывало, комсомольцы из церкви иконы вытащат, свалят в кучу и подожгут! А церкви на кирпич разбирали. Ноне-то куда как хорошо стало».
Москва.
Встреча космонавтов. Центр города оцеплен – ни пройти, ни проехать. Милиция, дружинники, заслоны из грузовиков. Разъяренная женщина кидается на милиционера: «Да какое вы имеете право! Я здесь живу! У меня дома ребенок один остался! Какое вы имеете право!» Над городом летают вертолеты и разбрасывают листовки. Ходят люди с цветами. Одни идут к центру, другие из центра – ничего не разберешь. Ветер метет листовки по тротуару.
Донской монастырь. Остатки разрушенных памятников архитектуры. Архитектурное кладбище. Рядом – кладбище человеческое.
Феодосия.
Шесть часов утра. Восход солнца над морем. Рыбаки на пристани. Утренние улицы. Рынок.
Коктебель.
Могила Волошина. Самая красивая могила, которую я когда-либо видел. Маленький холмик выложен коктебельскими камушками – халцедонами, агатами, яшмой. Никакой надписи нет. А внизу и дальше – море, фантастически синее, в оправе из рыжих коктебельских холмов. И зубцы Кара-Дага. На этом месте могли бы похоронить самого Господа Бога.
Старый Крым.
Дом Александра Грина. Вещи Александра Грина. Жена Александра Грина – Инна Николаевна. Сказала, что фильм «Алые паруса» ужасен, что Вертинская ничего не может. Еще сказала, что Борисов в «Волшебнике из Гель-Гью» исказил и опошлил образ ее мужа. «Александр Степанович очень рассердился бы, прочитав эту книгу!» Я сделал запись в книге отзывов. Пошли к могиле. Кладбище полузаброшенное, заросшее чертополохом. Над прахом Грина растет дикая слива. Памятник жалкий, из бетона, покрашенного белой краской. В бетон вделан фарфоровый медальон с портретом. Если встать рядом с памятником, то вдали виден маленький кусочек моря. С фарфорового медальона Грин смотрит на этот кусочек…
18.10
Город мне осточертел, и все же я пишу о нем. Н. торопит – надо делать перевод, а я пишу о нем, об этом каменном чудище. Снег растаял, но зима под боком, ненавистная зима, которая неизвестно чем кончится.
20.10
У Женьки пили крепчайший чай со сгущеным молоком. Разговоры были похоронные. Исполнилось два года со дня смерти Вассы Зиновьевны. Вся жизнь ее была жертвой, самоотречением ради детей, которых она любила болезненной, исступленной любовью.
«Солярис» Лема. Лем – гениальный фантаст.
23.10
Получил в поликлинике рентгеновский снимок – таз, позвоночник, ребра. Жутковато смотреть на свой скелет. Но камней в почках не видно. Дай-то бог!
Женька приволок котенка. Черный. Белый нос, белый живот, белые кончики лап – все симметрично. Тут же ко всем стульям привязали веревочки с бумажками, появились многочисленные блюдца с молоком и прочей едой. Майка в восторге. Котенка назвали Филькой.
25.10
Конфликт на Кубе. Пахнет жареным. Отчаянная телеграмма Рассела. Даже уже не страшно. Детей жалко. А впрочем, так оно и лучше – лучше умереть ребенком. Но надо встретить это чисто выбритым и в свежей рубашке.
9.11
Подарили мне крест медный, с эмалью. У меди сладковатый мерзкий запах – напоминает запах трупа. Боюсь брать крест в руки – руки тоже начинают пахнуть.
3.12
Бесцельные, безалаберные дни в Москве. Все говорят о Солженицыне. В Гослите видел обложку отдельного издания его повести. Левушка и Коля В. рассказывали о лагерной жизни. Они хохотали, а мне было страшно. Наташа уговаривала меня послать «Жар-птицу» Твардовскому.
Правлю корректуру «Собрания редкостей».
6.12
Сжечь все старое, сжечь и забыть о нем. Раздавить в себе эту жалость. И покончить с эклектикой. Найти себя или заняться другим делом.
10.12
Началась конференция молодых литераторов. На собрании выступил престарелый писатель Давиденко, из репрессированных (просидел 15 лет). Он сказал: «Самым оскорбительным для нас было то, что нас не пускали на фронт… Современная молодежь в основном здорова, но есть молодые люди, живущие как бы в чаду. Надо бороться с такими явлениями. Желаю вам ленинского оптимизма!»
Наш семинар ведут Торопыгин, Давыдов и Рубашкин.
11.12
Сегодня на семинаре разбирали меня («Жар-птица» и шестистишия). «Птица» произвела впечатление. Пришли Глеб Семенов, Куклин – слушали. Семенов: «Это, конечно, не гениально, но может быть». Куклин: «Вы смакуете ужасы, это суперпессимизм, он не лучше супероптимизма». Давыдову понравилось безо всяких «но». Торопыгину вообще не понравилось, зато ему понравились шестистишия. Потом Рубашкин привел Павловского, и тот долго шептал мне в уголке комплименты. Сказал, что поедет в Москву и там многим покажет.
12.12
Конференция закончилась. Меня рекомендовал в «Звезду» и для выступлений. На литературном вечере я читал «Птицу».
16.12
Читал в кафе поэтов на Полтавской. Приняли неплохо.
17.12
В «Молодом Ленинграде» взяли десяток шестистиший. Грудинина за глаза ругает «Жар-птицу» и меня, говорит: пусть пишет, как Евтушенко! (?)
24.12
Читал в кафе «Улыбка». Приняли холодно.
Потом сидел за столиком, смотрел и слушал. Новое поколение. А я ни тут, ни там. И стихи мои ни тут – ни там.
Лем, несомненно, великий фантаст.
Что есть фантазия? Фантазия и творчество. Является ли истинно фантастическая литература художественной? Художественность самой фантазии или литературная художественность? Подумать.
27.12
Прочел наконец «Ивана Денисовича». В литературном смысле это не показалось мне интересным.
1963
8.2
Я не верю в Христа но он мне нравится.
Содержание настоящей современной поэзии сводится лишь к нескольким горьким истинам. Все остальное – вариации.
Изящные девичьи фигурки на снежном фоне. Их беспомощная красота умиляет и раздражает.
10.2
Гуляли на взморье. Майка на лыжах, я пешком. Солнце. Белая пустыня залива. Черные фигурки людей. Гул города вдалеке. Над городом серый пласт дыма. Со стадиона на Крестовском доносится музыка.
Смирение – благо. Гордыню надо подавлять.
13.2
Морозные солнечные дни. Весна света.
За стеною играют на рояле. Подавляю гордыню.
15.3. 15.2
Вышел сборник «И снова зовет вдохновенье» (названьице-то каково!). В сборнике напечатан мой «Турок» – все, что осталось от тридцати стишков. Зато «Турок» самый идейный.
Метод элементарно прост. Приносишь стихи. Говорят: все это прекрасно, нам нравится, но дайте что-нибудь идейное, иначе не пройдет. Даешь идейное (стыдно, а что делать?). Говорят: теперь все в порядке! Выходит книжка, волнуясь, листаешь ее и видишь, что там только идейное и напечатано – остальных стихов нет и в помине. Звонишь в редакцию, спрашиваешь: как же так? «Да так уж получилось, – отвечают, – объем сборника, знаете ли, сократили… А почему вы недовольны? Это же ваши стихи!»
29.3. 29.2
Рассказы Солженицына. Большая литература. И очень русская. «Матренин двор» – шедевр. Ни убавить, ни прибавить Что-то от Бунина, но и свое.
3.3
Вечер в Доме ученых. Перед танцами – стихи. Слушали плохо. В задних рядах хихикали. Галя разозлилась и высказала свое возмущение. Организатор вечера тоже разозлился. «Вы не Маяковские, – сказал он, – если вас плохо слушают, значит у вас плохие стихи!»
9.3
Поэтический вечер в кафе Института молекулярной химии. Я читал «Трамвайные стихи». Потом пили портвейн и заедали его мороженым. Все официантки были с высшим образованием.
19.3
Почему Древний Египет так волнует меня?
В глубине души, в самой глубине, я верю, что после смерти будет что-то, обязательно будет.
А. сказала: «Ты слишком тщеславен, оттого и мучаешься». <…>
23.3
В Доме писателей пошел в уборную и никак не мог выйти. Почему-то был уверен, что дверь открывается на себя (?), а ручки не было. Нашел какую-то палочку, пробовал подцепить дверь снизу и сбоку, но ничего не получалось. Час был поздний, и никто не входил. Меня охватил какой-то мистический ужас. Все было как во сне. «Как же другие-то выходили? – думал я. – Что за чертовщина?» Наконец пришел Леня Буланов (они с Галей уже полчаса ждали меня в буфете). Он был очень удивлен. И правда – почему я ни разу не попробовал толкнуть дверь?
5.4
От Дома писателей шел по набережной. Было время после заката – туманные декадентские сумерки с голубыми мостами и шпилями, с тихой водой и мягким гулом далеких трамваев.
Платонов смотрит на мир глазами умного ребенка, который все замечает, но никак не может понять, почему мир так жесток и неуютен. В его трагизме есть нечто инфантильное, он из тех детей, которые рисовали смешных зайцев и котят на стенах освенцимских бараков. Отсюда этот потрясающий по своему эффекту синтез пафоса и юмора: «Он говорил с просветленным лицом среди тишины ослепительно страшной природы… И горе в них прекратилось от потери сознания».
9.4
У кассы Лениздата стояла длинная очередь. «Небось каждый получит кучу денег!» – думал я. Мне было стыдно стоять вместе с ними за своими жалкими грошами. Когда кассирша протянула мне ведомость, я увидел, что гонорары были совсем ничтожные – 3, 6, 10 рублей, были даже по рублю. Я удивился и возгордился – мой гонорар был самый большой!
Итак, девятого апреля тысяча девятьсот шестьдесят третьего года в возрасте тридцати лет и десяти месяцев я получил первый гонорар за свои стихи. День был теплый, весенний, не очень яркий. Природа пребывала в спокойствии.
Гаражи владельцев автомашин – убогие кособокие сараи, обитые ржавым железом. В одном из них мой отец «ласкает» свой «москвич». Подходят какие-то люди с помятыми лицами, предлагают запасные детали. Отец торгуется с ними, ругается, потом отказывается. «Значит, не надо!» – говорят люди и уходят. Отец заботливо укутывает «москвич» тряпками и закрывает ворота гаража.
11.4
Ванная испортилась – пошел в баню (три года не был в бане!). На обратном пути пил пиво у ларька. Лениво матерившиеся мужички в засаленных ватниках, собака с тремя одинаковыми бежевыми щенками, гревшаяся на солнышке, пивная пена, падавшая в грязь, – все было прекрасно.
После эмигрантских стихов Саши Черного как-то по-новому смотрю на город. Мои шестистишия выкинули из «Молодого ленинградца» за «мелкотемье». Дело с «Жар-птицей» откладывается до осени.
«Латерна Магика». Почти прекрасно. Но кино забивает театр. Аплодисменты были жидкие – для среднего зрителя это слишком сложно.
15.4
Сон.
Пришел в какую-то столовую. Здесь работает ОНА. Я ищу ее. Прохожу один зал, другой, третий. Шторы на окнах, современная мебель. Пожилая женщина говорит мне, что ее нет. Иду к выходу, оглядываюсь и вижу, что ОНА бежит ко мне, опрокидывая стулья. Лицо у нее знакомое, но не помню, где я ее видел. Она подбегает, запыхавшись, и целует меня при всех. Она блондинка, с короткими волосами, невысокого роста, в розовом узком платье. Я тащу ее за руку к лестнице, которая ведет куда-то наверх, где мы будем одни. Лестница крутая, винтовая. Мы подымаемся по ней, прижимаясь друг к другу. Я целую ее лицо, изнемогая от нежности и желания. Но меня будит телефонный звонок. Я не хочу просыпаться, я сопротивляюсь. «Как глупо! – кричу я кому-то. – Как жестоко! Дайте досмотреть сон!»
29.4
То, что я пишу сейчас, идет от «Солнца», которое было написано еще в 57-м году. Тогда это было случайностью.
30.4
Вчера были у нас гости – Ира А. Дима Г., Коля К. и Виктор Голявкин. Витя подвыпил и разговорился. Высказывания были такие: «Я – крепкий русский гениальный писатель. Это железно. Все эти Евтушенки, Вознесенские и прочие от меня пошли. Я начал раньше всех. Я самый левый и самый настоящий». Ирка стала обвинять гения в зазнайстве, но он хладнокровно парировал эти нападки. Потом Дима читал стихи – свои и классиков. Потом Дима сказал что он, Дима, тоже гений. Майка засмеялась. Он обиделся. Потом Дима назвал меня дилетантом, и я тоже обиделся. Словом, было не скучно.
Сегодня утром в том же составе (кроме Ирки и Майки) пили водку у Коли К. Тема разговора была прежней – о гениальности, о профессионализме и дилетантстве. Голявкин сказал, что все написанное он печатает и не желает писать ничего, что могут не напечатать.
5.5
Майка сказала мне: «Я на тебя надеялась. Ты очень талантлив, но ты ничего не добьешься».
И вся ситуация вдруг стала отчетливой: 30 лет, 100 рублей в месяц, какие-то стишки, какие-то рисунки, над которыми вздыхают приятели, и никаких перспектив.
У Майки неприятности на работе. Она не умеет и не хочет работать. Она из тех женщин, которые вообще не должны работать. Но я не могу содержать ее.
16.5
Приятно преподавать архитектуру. Приятно открывать студентам азбучные истины, которые кажутся им неожиданными и вызывают удивление. Приятно обнаруживать в них самого себя, каким ты был лет 10–12 назад. Приятно, когда тебя слушают и верят тебе.
Вчера в Америке запущен спутник с космонавтом Гордоном Купером. Он должен сделать 22 витка вокруг Земли.
Второй квартет Бородина. Моя юность. Первый курс института. Первые посещения Филармонии. Увлечение музыкой, книги о Бетховене и Бахе. Витя П. в своей комнатушке. Обои, отстающие от стены. Споры о современном искусстве.
Музыка все так же волнует меня, даже больше, чем раньше, но теперь я уделяю ей меньше времени. Да и вкусы изменились.
18.5
Был на даче. Свежая, яркая зелень берез. Запах леса. Птичьи голоса. Кукушка.
Вечером полная тишина. Безветрие. Шум далекой электрички. Тихий дождь утром.
Ходили с отцом на речку. Форель клюет плохо. Возвращались в сумерках. Трактор на поле. Брошенный дом у пруда. Силуэты одиноких деревьев. Черные ели у дороги.
Железнодорожная платформа. Рядом – бывшие финские укрепления: осыпавшиеся траншеи, гранитные надолбы, колючая проволока, остатки взорванного дота. Идет товарный поезд. Его тащит грязный, деловитый паровоз. Один шаг – и все кончено. Представил себе свой обезображенный труп – стало противно.
Поезд проходит. На площадке последнего вагона стоят два железнодорожника, о чем-то беседуют. Они быстро удаляются от меня по прямой, становятся все меньше и меньше. Паровоз гудит весело и нахально, чувствуется, что гудеть ему не обязательно, что он делает это из озорства, от избытка энергии.
Леса уходят вдаль волнами. На гребнях волн отчетливо видны зубцы елей и сосен, поближе – зеленые, подальше – синие. Птицы поют изощренно.
Приехал домой, вытащил из ящика газету. Передовица – «Выше революционную бдительность!»…
Терминология и интонации тридцатых годов! Быть может, история и впрямь – круги на воде? Одинаковые, на одинаковом расстоянии один от другого, они расходятся все дальше и дальше. На их месте возникают новые. И так без конца.
21.5
Осталось перевести 228 бейтов «Ушшак-Наме». Переведено уже больше четырехсот. Титанический и до смешного неблагодарный труд.
23.5
Галя читала мои стихи С. Орлову. Говорит, что он хохотал, прослушав «Притчу о гениальности».
Запахи поздней весны. Первые грозы. Тютчев.
Все ругают Евтушенко. Половина сегодняшнего номера «Комсомольской правды» отдана возмущенным читателям – 1200 писем!
25.5
Ещё одна ссора. Тяжко. Майка еще беспомощнее меня, каждый день говорит о своей красоте, о том, как мужчины пускают слюни. А потом плачет: «Я ничего не умею! Я дура!» И еще: «Тебе на меня наплевать! Ты занят только собой!»
Уповаю на экзистенциализм. «Эти философы придумали болезненного, страдающего от душевных мук субъекта». Уж коли они меня придумали, придется мне помучиться. Не будем обижать столь изобретательных философов.
Вечером пришел Г. с женой. Был пьян. Нес всякую чушь, выкомаривался.
Психология. Когда обнаруживаешь дурное в человеке – противно. Но в глубине, где-то в самой глубине души – удовлетворение: приятно сознавать, что ты лучше, что ты вообще хороший. Впрочем, это, наверное, не у всех.
26.5
Богостроительство. Говорю себе: я очень хороший человек! И верю в это. «Верую, ибо нелепо». На практике эта вера должна проявляться таким образом:
Приходит ко мне Г. и заявляет: ты дилетант, ты плохой поэт и вовсе не художник! А я, Г. – гений!
Я ему отвечаю: нет брат Г.! Шалишь! Я не дилетант, я самый настоящий гений и вообще – один из лучших людей на свете (уж я-то знаю, мне виднее!). А ты, разумеется, не гений. Ты просто Г. Тебе пора это понять.
Г. посрамлен. Я наслаждаюсь приятной уверенностью в себе.
Интеллектуальность современной поэзии. Мысль-образ. Хватит играть в слова – мы уже не маленькие. Будем играть в умные игры.
27.5
Сентиментализм ХVIII века – антипод жестокого ницшеанства двадцатого. Дидро плакал перед картинами Грёза. А Маринетти прославлял «агрессивное движение, оплеуху и кулак».
Есть поэты слезливые, есть жестокие, есть гуманные. Надсон был слезлив, Павел Васильев – жесток, Блок – гуманен. Есенин – русская душа, в нем все вместе, все перепуталось. А Блок все же немного немец, немного сакс. Гуманизм его сродни гетевскому.
30.5
«Хиросима». Маруки Ири и Маруки Тосико. Где кончается искусство? Ужасы в искусстве. Их правомерность. Искусство или тема? Моя «Жар-птица».
Работа над диссертацией успокаивает нервы. Но нормальная, здоровая жизнь кажется мне ненастоящей. Вероятно, экзистенциалисты правы: только в конфликте с жизнью ощущаем мы всю ее глубину и живем в полную силу. Чтобы быть человеком и тем более поэтом, надо быть мучеником.
Но как быть со «светлыми гениями»? Моцарт, Рафаэль, Пушкин, Бернс!
Так ли уж светлы были их души?
По радио 2-й фортепианный концерт Рахманинова.
Некий идеальный, гармонический мир существует. Иногда нас пускают туда, но не надолго. Он все время где-то над нами.
2.6
Говорят – искусство зашло в тупик. Но наивысший расцвет – всегда тупик, ибо дальше только спад и новые, враждебные веяния. Живопись мечется между натурализмом и поп-артом. Архитектура перестает быть искусством, пожираемая техникой. Литература не может выплыть из потока сознания. Театр вернулся к средневековому балагану.
Ну и что?
Прилетят марсиане и принесут новое искусство.
4.6
Не могу привыкнуть к словам «плакаться» и «играться», хотя они уже узаконены литературно. Еще в автобусах водители объявляют: «Граждане, незамедлительно оплачивайте ЗА проезд!» А вот к «кто крайний?» я уже привык к сожалению. Речения обывательских окраин захлестывают русский язык. Блатной жаргон тоже утвердился повсеместно: пацан, кореш, щухер и т. д. Мужская половина городского простонародья разговаривает преимущественно на таком жаргоне вперемежку с матом. Есть еще молодежно-студенческий жаргон, прославленный В. Аксеновым. На хорошем, нормальном русском языке теперь как-то стесняются разговаривать, а многие – и писать…
5.6
Культ силы. Впервые я познакомился с ним в Фергане в 42-м году. Среди мальчишек существовала иерархия. Каждый занимал в ней место в зависимости от своей физической силы и умения драться. Слабый должен был беспрекословно подчиняться сильному, быть его рабом. Для определения степени силы, ловкости и жестокости все мальчишки «стыкались» между собой. У меня ничего не выходило, потому что я не мог драться без злобы, и разозлиться без причины тоже не мог. Но меня спасали мои «таланты» и знания. Я не был рабом, даже пользовался уважением. Забавно, что лет до восемнадцати я считал, что этот культ – нечто противоестественное, некая аномалия. «Это все от войны! – думал я. – Вот наладится мирная жизнь, и человечество заживет по законам добра и справедливости».
6.6
Сегодня написал 6 стихотворений. Потом бродил по городу. По Фонтанке дошел до Калинкина моста, затем по Екатерининскому каналу вышел на Неву (любимые Блоком места). По Неве плыла дохлая собака. Собралась толпа – думали, что утопленник. Разошлись разочарованные. А собаку жаль. (Кажется, это седьмое стихотворение – самое маленькое!)
7.6
Лето у нас такое короткое, но только летом и живешь-то по-настоящему.
Гулял на Смоленском кладбище. Здесь уже давно не хоронят. Все заросло кустарником, поют птицы.
Литераторское кладбище. Как заброшенный парк. Высокие старые деревья смыкаются кронами. Внизу полумрак. Покосившиеся памятники с латинскими и готическими надписями. Мужички пьют водочку, расположившись на травке среди надгробий.
Братское кладбище (блокадное). Братская могила профессоров Академии художеств. Среди них – Билибин.
9.6
Читаю Казакова. Хороший рассказ «Трали-вали». А «Звон брегета» – плохой. Вообще – это литература прошлого века.
10.6
Бродячие темы в советской поэзии.
О Родине. Что, мол, есть красивые края и страны, а свое русское, серенькое, родное все равно лучше.
О своей собственной искренности и честной простоте. Пусть-де другие изощряются, а я буду так, как умею.
О Пушкине. С благоговением и умилением и как о своем предтече.
О настоящей жизни. Что не к лицу поэту сидеть в кабинете и загорать в Сочи, что надо ехать ему в Сибирь, идти в леса и горы и хлебнуть горюшка.
О настоящей женской красоте. Ни к чему женщине всякие там украшения и наряды. Должна она ходить, так сказать, в натуральном виде.
Еще есть бродячие слова: девчонка, звенящий, мечта, зори, бедовый, боевой, огневой, раздумья и т. д. Особенно «раздумий» много. И прилагательное – «раздумчивый» (не «задумчивый», отнюдь!)
12.6
Приехал на дачу, готовлю себе обед. Слышно, как падают шишки с сосен. Временами набегает ветер, и тогда они падают градом. Ощущение полной свободы и отрешенности от мира.
13.6
Лес. Каждый год я открываю в нем новое.
Дорога. Сначала березняк с редкими соснами. Потом чистая ель – внизу зеленый красивый мох. Потом смешанный лес – береза, осина, ольха, сосна, изредка рябина. Потом молодой густой сосняк. Все по-своему хорошо.
Прорубают просеки. Всюду валяются неубранные ветки. Кусты по обочинам дороги смяты машиной. Над «моей» елкой «подшутили» – подожгли смолу внизу, у корня. Кора с одного боку обуглилась.
14.6
Спал долго и сладко. Проснулся, открыл дверь. И снова лес, снова птицы и этот немыслимый лесной запах.
Временами, когда еду в полупустом вагоне электрички, мною овладевает странное, тревожное чувство. Кажется, будто что-то должно случиться, будто лес предчувствует это и деревья в ужасе несутся куда-то назад, назад.
Денег нет. Сколько помню себя – денег всегда не было. Бывало, скажешь маме: Мам, в магазине пароход игрушечный продается, большой, двухтрубный и совсем недорогой! И ответ был всегда один и тот же: «Денег нет! Подожди немножко, потом купим».
Дожил до тридцати, а денег все нет.
Почему у птиц яркая окраска? Цветы яркие, чтобы привлекать насекомых, которые их опыляют. А зачем у птиц? И к тому же у мелких беззащитных птах? Хищники все сepые.
15.6
Каждый литератор считает своим долгом публично объясниться Пушкину в любви. Культ Пушкина имеет официальный государственный характер. Говорят: «Пишите, как Пушкин, – просто и хорошо!» И все пишут почти как Пушкин. Просто и не очень хорошо.
17.6
Гадя Н. привела к нам жену Межелайтиса с двумя подругами. Они сидели у нас с 6 до 11 вечера. Потом я их провожал, «демонстрировал» им белую ночь. Они приглашали меня в Литву, в Вильнюс. Там все как-то проще и легче. Всех печатают, всех выставляют.
Межелайтиса, однако, 5 лет не печатали, хотели даже посадить. В Литве считают, что ему зря дали Ленинскую премию (представляла eго Москва).
27.6
Пять дней бегал пo Москве и фотографировал всяческую архитектуру. Читал свои переводы на вечере современной персидской поэзии.
Показывал последние стихи Наташе К. и Левушке М. Не поняли. Я обиделся. А чего, собственно, обижаться-то!
Столица быстро утомляет.
1.7
Три дня жил на даче. В грозу бегал по лужам, как в детстве. Туристы рубят лес. С каждым годом их больше, а деревьев – меньше.
Родители и Майка приехали на машине, привезли с собой Фильку. Он ползал по земле на брюхе, делал какие-то нелепые прыжки, перестал узнавать своих. Мама сказала, что от обилия впечатлений он может рехнуться, и унесла его в дом.
3.7
Критик М-ский сказал Гале И.: «Вы молодежь, вам это внове, а мы уже привыкли. Такое было уже много раз. Ничего страшного».
Мерзкое ощущение полной беззащитности.
Петербургские дома. Петербургские квартиры. Петербургские дворы.
Раскольников жил на Вознесенском проспекте (теперь пр. Майорова).
Что такое политика?
Из крана торопливо капает вода. Часы. Все утыкается во время.
Время и теория относительности.
Какой-то художник изобразил пространство в виде чаши. Он пришел к этому математическим путем, но не без помощи интуиции.
Куда же идет искусство?
Статья Левы М. о кибернетике. Рано или поздно должно возникнуть общество механизмов, которое будет развиваться совершенно самостоятельно.
Лем.
Я борюсь только зa свою совесть. С чистой совестью приятно жить, и умереть – тоже приятно.
«Мрак существует, но нельзя способствовать его распространению».
10.7
Живу на даче. Идут дожди. Птицы уже не поют.
Сегодня всю ночь снился длиннейший сон. У него была сложная композиция со вставными новеллами, как в старинном романе. Одна из новелл:
Я иду с каким-то человеком, он ругает евреев. Сзади идет дядя Миша – парикмахер, приятель покойного дяди Феди. Он окликает меня и спрашивает – неужели я тоже антисемит? Мне стыдно, я оправдываюсь. Тут подходят люди в грязной рабочей одежде. Один из них кричит дяде Мише: «Ну что, жид!» Я хватаю его за рукав, но он вырывается и убегает. Я бегу за ним, и на душе у меня подлое чувство облегчения: дядя Миша уже далеко и мне не нужно больше его защищать.
12.7
С отцом на «москвиче». Искали речку, на которой 18 лет тому назад я ловил хариусов.
Леса. Быстрые речушки с красной водой. Заросли цветущего Иван-чая. Остатки финских хуторов – фундаменты из гранитных глыб, полуразвалившиеся сараи.
Озеро. Вечер. Тихая вода. Лесистые мысы, уходящие к горизонту. Тишина. Слышно, как на другом берегу переговариваются рыбаки. Озеро напоминает широкую реку средней полосы России.
Шоссе. Лось в кустах у обочины. Увидев машину, шарахнулся в сторону, но далеко не убежал – остановился на полянке. Девочка лет тринадцати, в узких брючках. Едет на велосипеде. В руке у нее жестяная банка из-под консервов, к которой приделана веревочка. Девочка то и дело останавливается, кладет велосипед на песок и лезет вверх по откосу. Она собирает землянику.
13.7
Вдоль линии финских укреплений растут старые темные ели. Кругом сосны, а здесь ели. Они как бы подчеркивают особый, зловещий смысл этих длинных, зигзагообразных ям и бесконечного ряда огромных гранитных камней с острыми, рваными краями. Финскую войну теперь стараются не вспоминать, будто ее и не было. А надолбы как новенькие. Даже мох на них не растет.
19.7
Юбилей Маяковского. Невозможно представить его семидесятилетним стариком.
Выспренние юбилейные речи. «У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока».
Умер Асеев. Будто ждал он этого юбилея, ждал и терпел.
27.7
Лес. Сижу на камне. По дороге, мелькая за деревьями, идут туристы с транзисторным приемником. Голос по радио: Вагнер. Вступление и рассказ Лоэнгрина из оперы «Лоэнгрин». Голос движется по лесу. Потом движется музыка.
Рядом со мной воронка диаметром метров восемь и глубиной метра два. Видимо, от крупной авиабомбы. Чуть подальше – зигзаг осыпавшихся траншей.
Вышел на дорогу. Еще одна группа туристов. С ведрами, с гитарами, с рюкзаками. Один из них сказал, кивнув на меня: «Смотрите, с книжечкой! Что-то сочиняет!»
У дороги вторая воронка, такая же. От первой до нее метров 150. Это называется «рассеивание».
2.8
Магия пропаганды. Когда уверенным, громким голосом говорят откровенную чепуху, невольно начинаешь сомневаться: а не правда ли это? А не дурак ли я?
3.8
Памятник Дзержинскому первоначально делала Мухина. На эскизе Железный Феликс стоял с огромным мечом. Были замечания, что эскиз несколько выпячивает карательный характер ЧК и не говорит о воспитательной роли этой организации. На нынешнем памятнике Дзержинский вовсе безоружен – осталась одна «воспитательная роль».
В связи с китайский конфликтом борьба с проникновением буржуазной идеологии как-то ушла на второй план.
При «культе личности» был еще един культ – «культ мученичества». Люди погибали за веру с именем Сталина на устах.
4.8
Раньше человек с оружием противостоял другому человеку с оружием. Теперь оружие вообще противостоит человеку вообще. Раньше пацифизм не всегда был уместен. Теперь он – непременное условие существования.
5.8
Электричка на Сосново. Две девушки лет по восемнадцати везут в корзинке котенка, то вытаскивают его, то запихивают снова. Девушки хорошенькие. Вышли в Орехове. Стояли на платформе, смеялись, что-то делая опять со своим котенком. Поезд тронулся. Они проплыли мимо, глядя на меня в окно.
Но с кошками не всегда все обстоит благополучно. Как-то ехал в автобусе. Рядом сидела женщина с авоськой. Из авоськи вылез совсем юный котенок, черный с белым носом. Женщина гладила его, говорила ласковые слова и вдруг сказала мне со вздохом: «Вот, везу его в поликлинику, усыплять. Сынишку на все лето в лагерь отправила, котенок весь день один в комнате. Куда его денешь?»
Мне стало мучительно жалко этого котенка. Он был такой веселый и ничего не подозревал.
Вечер. Наш участок в тени, а другая сторона озера ярко освещена. Как в театре. Над головой дятел долбит сосну. Запах цветов.
Самое раннее «цветочное» воспоминание.
В 37-м году летом отец вез меня из Хабаровска в Ленинград. Где-то в Забайкалье поезд остановился среди поля (закрыли семафор). Поле было синим от ирисов. Пассажиры высыпали из вагонов и стали жадно рвать цветы.
Ночь. Огромная оранжевая луна. Над озером туман. Он подымается вверх столбами. Луна попала в такой столб и стала совсем красной.
8.8
Литература и «воровская романтика». «Вор» Леонова, «Один год» Ю. Германа. Последний зачитывается до дыр.
Каждый хулиган считает себя сверхчеловеком. Забавно, что в лагерях уголовники называли политических фашистами. Немцы с успехом использовали наших блатных для самой грязной работы.
9.8
Я повис в воздухе. Даже небольшой ветерок может унести меня бог знает куда. До тех пор, пока не расстанусь с мыслью, что я поэт, покоя мне не будет. В последние два месяца я часто забывал об этой своей болезни, и было легче.
По радио мужской голос поет: Кuss mich noch mal!.. Есть ведь еще красивые женщины и прочие приятные вещи.
10.8
Конференция писателей Европы.
Роскошная по форме, злая, нелогичная речь Леонова.
«Когда же автору не под силу или страшновато вступать в этот грозный диалог с большим, израненным в бою либо усталым посла трудового дня читателем, он прячется от него в так называемые башни из слоновой кости…»
Обскурантизм чистейшей воды.
14.8
Блок умер от тоски и недоедания.
Есенин, Маяковский и Цветаева покончили с собой.
Гумилев, Павел Васильев, Борис Корнилов, Бабель, Артем Веселый, Хармс, Введенский, Олейников – были расстреляны.
Кедрин и Клюев погибли «при загадочных обстоятельствах». Мандельштам умер в лагере.
Заболоцкий много лет провел на каторге
Александр Грин и Андрей Платонов влачили полуголодное существование и умерли всеми забытые.
Зощенко, Ахматову, Олешу, Булгакова много лет не печатали.
Бунин, Леонид Андреев, Ремизов, Пильняк, Замятин, Бальмонт, Вячеслав Иванов, Кузмин, Ходасевич, Давид Бурлюк умерли на чужбине.
25.8
Вильнюс. Костел Святой Анны. Вечер. Розовые блики на стене. В приделе кто-то играет на фисгармонии. У алтаря на коленях стоит женщина.
Юродивый – парень лет двадцати в клетчатой рубахе. Мнет в руках кепку. Взгляд напряженно-выжидательный. Майка сказала: «Пойдём скорее! Я боюсь!»
29.8
Улица, ведущая к кладбищу. Роскошные новенькие особняки современной архитектуры. У каждого – гараж. Около особняков никого не видно, ни детей, ни взрослых. Но видно, что в них живут.
30.8
Никакого формализма в искусстве, разумеется, нет и быть не может. Если речь идет о форме, то этим уже подразумевается содержание. Форма, существующая сама по себе, – абсурд. Все дело в том, какое содержание. И какова степень условности.
31.8
Приехал домой. На столе письмо из «Нового Мира»: «А. Т. Твардовский прочел Вашу поэму и высказался против ее опубликования».
Так даже лучше. Ясность.
Перечитал последние свои стихи, кажется, я все же схватил лису за хвост.
8.9
Вчера в одиночестве напился и плакал. Сказать: пропадай все пропадом!
И слышать, как кругом говорят: такой способный, и губит себя!
Маразм.
11.9
Похолодало. Пришла «рыжая стерва». Будет опять мучить меня.
Одиночество должно быть чистым и прозрачным.
17.9
Огромные очереди за хлебом. Паника. Раскупили всю крупу, макароны и прочее. В учреждениях проводят разъяснительные собрания. Неурожай. Но должны же быть государственные запасы! Ведь на этот случай они и делаются.
23.9
Мао Цзэдун сказал, что третья мировая война вряд ли уничтожит половину человечества, «но не так плохо было бы и половину».
А были Ду Фу, Ли Бо, Конфуций. Впрочем, у немцев тоже было немало.
Предстоит «война с саламандрами».
2.10
Перечитываю «Гаргантюа». В предисловии сплошные перлы. «В конечном эпизоде романа в ответ на вопрос талемитов Божественная бутылка отвечает: “Тринк!” – “Пей!” Но не о вине идет здесь, разумеется, речь, что бы ни пытались доказывать буржуазные реакционные литературоведы. Великий писатель призывает своих потомков и последователей пить из великого источника Природы и Науки и смело идти все дальше и дальше по пути знаний к светлому, счастливому будущему».
<…>
8.10
Дешевое золото осени.
9.10
Два полюса литературной борьбы – «Новый мир» и «Октябрь». Кочетов Твардовского или Твардовский Кочетова?
16.10
Умерла Эдит Пиаф. Ее похоронили рядом с Шопеном. Страстный и трагический голос. Нечто подобное я слышал только однажды – на похоронах Майкиной бабки. В пустой гулкой синагоге пел кантор. Пел о жизни и смерти. О чем-то просил, кому-то угрожал. Было жутко и торжественно. На облезлой штукатурке купола лежал желтый блик тусклого осеннего солнца. Когда кантор кончил, блик погас. Гроб закрыли и понесли по грязной дорожке вглубь кладбища. Нахальные нищие приставали к провожающим.
17.10
Рылся в старых журналах, выискивал цветные фотографии для диссертации. В одном из номеров «Китая» нашел вкладку. В 1960 году в связи с приездом на Тайвань Эйзенхауэра китайцы обстреляли близлежащие острова. Вкладка посвящена этому событию. «Произведенный обстрел является выражением презрения и пренебрежения, которые питает великий китайский народ к бумажному тигру – США… Стреляй яростно, стреляй без перерыва! Пусть дрожит “демон чумы” Эйзенхауер!..» Когда крыса перебегает дорогу все кричат: «Бей ее!»
Злые и глупые дети.
Фотографии напоминают кадры гитлеровской кинохроники: тысячи одинаковых людей, стоящих ровными рядами на огромных площадях, – одинаково поднятые руки, одинаково орущие рты. Эпидемия тоталитаризма блуждает по планете.
18.10
Безденежье угнетает. Пытался продать книги – не взяли. Стоял в очереди и нервничал: возьмут или не возьмут?
Будто от этой трешки я разбогател бы.
25.10
Привыкаю к роли неудачника. Противоестественно быть живым трупом. Трупы должны гнить и давать соки для новой жизни.
Диссертация мешает писать стихи.
28.10
Профессор Пилявский вынуждал меня подписаться на «Правду»: «Вы подписались на иностранные журналы, и не подписались на “Правду”! Что подумают в парткоме! Вы же аспирант! Вы же будете защищать диссертацию!»
Примитивный политический шантаж.
2.11
Дневник – та же машина времени. Но она работает только в одну сторону – к прошлому, грустная машина.
16.11
Какая это сладкая мука, когда сознание борется со сном! Особенно утром. То просыпаешься, то снова проваливаешься куда-то в потусторонний мир.
С моря дует сильнейший ветер. Он пронизывает наш дом насквозь. Воет в трубах вентиляции, в форточке, в щелях дверей.
21.11
Тучи в окне летят в разные стороны – верхние на меня, нижние вбок. Крупный снег и ветер. И вдруг – солнце.
Сколько покойников живет в каждом из нас! Когда мы умираем, их хоронят вместе с нами, хотя, быть может, они еще живы. Быть может, они даже будут приходить на кладбище и класть цветы на собственную могилу.
Майка сказала, что у меня своеобразный ум – не широкий, но глубокий, нечто вроде колодца.
24.11
Беспечные, насвистывающие и напевающие люди раздражают меня.
Закончил перевод Закани.
28.11
Позвонил начальник Особого отдела: «Зайдите сейчас же! Надо выправить ваши документы!»
Пришел. Начальник не один, с ним некто в штатском.
– Познакомьтесь, пожалуйста!
– Рад познакомиться! Николай Николаевич! – незнакомец улыбается и протягивает мне удостоверение сотрудника КГБ.
Два часа Николай Николаевич демонстрировал передо мной повадки сотни раз виденного в кино заурядного детектива. Начал ласково и издалека. Через полчаса выяснилось, что его интересуют те две француженки – аспирантки московского университета, которые приходили к нам полтора года тому назад. С ними были две девушки и парень, выдававший себя за художника-абстракциониста.
– Мы все знаем, но хотелось бы выяснить некоторые подробности. Вы не помните, как звали тех двух девушек?
– Нет, не помню. Прошло много времени, и я ни разу с тех пор их не видел.
– Та-а-а-ак!
Пауза. Николай Николаевич смотрит на меня пронзительным взором. Потом вдруг приближает свое лицо к моему и говорит быстро и громко:
– Одну из девушек звали Люся?
– Да, кажется, Люся. Точно не помню.
Николай Николаевич разочарованно откидывается в кресле.
– Не-е-ет! Вы со мной не откровенны! Вы что-то скрываете! Вы не хотите нам помочь!
Два раза за время разговора звонил телефон.
– Да, да, сейчас кончаю! – многозначительно говорил в трубку Николай Николаевич и поглядывал на меня.
– Я вас не понимаю! Вы молодой специалист и с самого начала портите себе карьеру. Глупо! Вам, наверное, захочется поехать за границу, вам даже нужно будет поехать за границу с научными целями, но мы не сможем вас пустить! Глупо!
– Помилуйте! Я же ничего от вас не скрываю! Но ведь действительно – прошло уже полтора года!
– Ну ладно. Если еще что-нибудь вспомните, позвоните мне.
12.12
Стужа.
С тех пор как я прочел «Ивана Денисовича», я стал бояться зимы. Мысль о романе.
Сны и явь. Он – почти я. Она может быть иностранкой. Его друзья, его враги. Искусство, литература. Век. Его недоумение, его марсианство. Его смерть.
Раскрыл Блока.
Как сладко и светло и больно, Мой голубой, далекий брат!Октябрь 1906 года.
Стужа.
22.12
Написал три стихотворения. Доволен собой. Хорошо быть довольным собой.
С удовольствием перечитал книжечку Кушнера.
Сегодня за окном весь день крупный косой снег.
25.12
Ночью шел по набережной от Литейного моста до Академии художеств. На колокольне Петропавловского собора часы пробили два. Было странное чувство – будто остался я в городе совсем один, и он, город, теперь принадлежит только мне. Bсe эти дворцы, колонны, фонари – всё мое. Мне крупно повезло – я выиграл этот город по лотерее.
29.12
Человек с мокрыми красными губами. Он называет меня по имени и отчеству, а я даже не знаю его фамилии.
Ласково так улыбается и смотрит внимательно.
31.12
На улице слякоть, снег почти растаял. Будет ли этот год новым?
Сегодня ночью на кухне вдруг оборвалась полка с посудой. Bсe проснулись от страшного грохота. Потом мне приснилось, что рядом с Майкой возникло какое-то черное, скользкое непонятное существо. Я закричал и проснулся.
По радио поют дети:
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла…
Двадцать пять лет тому назад я пел то же самое.
1964
1.1
Проснулись рано и пошли гулять. Город пуст. На взморье ни души. Лед весь изломан и стоит дыбом. Вороны летают стаей и непрерывно, надсадно кричат. Серое сумеречное утро.
2.1
Bсe говорят о Бродском. Ходят слухи, что Ахматова и Эренбург ходили в ЦК.
4.1
Закончил «Афродиту». Не уверен, что вышло.
Майка сказала, что сегодня я кричал во сне: «Караул! Спасите!»
Мы долго смеялись. А не так уж смешно. Кошмары снятся почти каждую ночь.
«Добро и зло» в мировой литературе.
Фольклор. Античность. Шекспир. Гюго. Диккенс. Достоевский. Ницше. Андрей Платонов. Солженицын.
Служить добру или стать над добром и злом?
Христианство и проблема добра и зла.
Апокалипсис – торжество зла, но после вечное царство добра. Добро как символ жизни и зло – как смерть.
Добро – условие существования человечества.
Абсолютность добра и зла. Где критерий абсолютности?
Вечное коромысло.
Жадность мешает мне работать. Стараюсь не проронить ни крошки и пихаю в поэмы все что попало, всякий мусор. Потом начинаю чистку. От этого низкий КПД.
Интересно следить за женщинами. Как много и часто попусту думают они о мужчинах! И за что им такое наказанье?
5.1
Прослушал записанную «Афродиту». Вроде бы неплохо, а почему – сам не понимаю.
Сегодня снилось, что еду в трамвае, а на мне длинный черный плащ и черная плоская шляпа с плюмажем, как у Александра Первого.
Говорят, что каждую ночь человек видит четыре сна, но запоминает только последний.
6.1
С годами мое чувство Петербурга становится острее. Четыре часа ходил по городу.
Фиолетовый закат. Трубы и кресты антенн. Перспективы темных улиц. Мосты. Решетки. Фантастические нагромождения домов. Тусклые лампочки в грязных и таинственных подъездах.
В столовке, что на углу Садовой и Крюкова канала, пил пиво. Когда-то это был, видимо, третьеразрядный кабак. Таким он и остался под вывеской столовой. Пьяные мужики сидят в пальто и в шапках. Водку разливают под столом, на столе для маскировки стоят бутылки с лимонадом. На стене объявление: «КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ распивать принесенные с собой спиртные напитки».
7.1
Еще одна столовая. На Московском проспекте.
Обедает семья. Отец – низкорослый, с круглым лицом и маленькими злыми глазками, небритый, в сапогах бутылками. Мать – рыхлая женщина неопределенных лет, плохо причесанная, в каком-то нелепом длинном балахоне, в валенках с галошами. Два мальчика. Одному лет 15 – он, видимо, школьник. Другой, постарше, в форме курсанта военного училища. Он сидит в шинели на краешке стула и не ест. На лице выражение почтительности и застенчивости. Почтительности к родителям и застенчивости перед чужими, что родители его такие неказистые, бедные и так выделяются среди городских.
На полу стоит дешевенький картонный чемодан, рядом с ним какие-то узелки, свертки. Родные приехали навестить сына в городе. Сын будет офицером, выбьется в люди. Он не ест, потому что все равно его ждет ужин в училище – зачем же деньги зря тратить?
За стол они сели не сразу. Долго, не раздеваясь, стояли в нерешительности у стойки, шептались. Наверное, еда казалась им слишком дорогой.
Едят медленно, тщательно, по-крестьянски.
17.1
Таисия Николаевна сказала, что в жизни надо быть немного артистом. Так легче.
Вечер встречи с редколлегией журнала «Знамя». К. Симонов, С. Щипачев, В. Кожевников, А. Вознесенский и еще несколько поменьше. Зал Кировского дворца культуры был переполнен, стояли в проходах.
Симонов читал старые стихи, Щипачев – новые, о молодежи, и весьма либеральные, – волновался и был очень трогателен. Но все пришли, разумеется, ради Вознесенского. Кумир держался просто, был просто одет (свитер, серый пиджачок) и выглядел совсем мальчишкой. Читал уверенно, артистически повышая и понижая голос. Налегал почему-то на «а» – ПА-А-А-пробуйте, ПА-А-А-донок, БА-А-льшой. Буря восторга, крики «браво». Споры в публике. Не давали уйти со сцены. Кожевников что-то говорил в микрофон, умолял, но его не слушали. Наконец Кожевников крикнул, что вечер закрыт. Несколько литераторов так и не успели выступить. Уходя со сцены, Вознесенский подошел к микрофону и сказал: «Спасибо». На это последовал новый взрыв энтузиазма.
Две старушки, сидевшие передо мной, ожесточенно хлопали Симонову. Когда читал Вознесенский, они пожимали плечами и вопросительно глядели друг на друга.
22.1
Из каталога институтской выставки Горлит изъял мою картинку, которая называлась «Московский пейзаж». За то, что на переднем плане была изображена церковь. Рядом с нею был нарисован новый современный дом, на заднем плане торчали строительные краны, но это не помогло.
Юмор – единственное средство успокоения.
24.1
В Казанском соборе стал фотографировать роспись. Подошла служительница музея и сказала, что фотографировать нельзя. Разозленный, отправился к директору, сунул ему свою бумажку.
– А почему, собственно, нельзя?
– Потому что кое-кто может сфотографировать экспонаты для того, чтобы использовать их в целях религиозной пропаганды! Вы что думаете, тут дураки сидят? Все не так-то просто!
Говорят, что обком получает множество писем в защиту Бродского. А Бродскому не так уж плохо. Скандал – начало славы.
Бунинская грусть.
Бунин – это конец. Конец эпохи литературной и исторической. Грусть прощания и воспоминаний. Грусть возвышенная и изощренно-сладостная. Грусть, доведенная до предельной степени совершенства.
Все чаще ловлю себя на мысли, что по складу ума и души я человек ХIХ века и мои попытки быть современным просто смешны.
31.1
Мужицкая, прянично-навозная литература 20-х годов была своеобразной реакцией на утонченную дворянскую литературу XIX века. Рухнула запруда, хлынул мутный, мощный поток. Есенин, Артем Веселый, Павел Васильев. Всё брали нутром, талантом от земли. Традиции их не тяготили, потому что они не знали их. Но они создали свои традиции. Теперь трудятся их эпигоны.
И вечная тема – крепкий народ и хлипкая интеллигенция.
Критики тщатся развенчать «святую троицу» – Кафку, Джойса, Пруста. Рядовому читателю совершенно непонятно, из-за чего разгорелся сыр-бор, потому что он не имеет возможности познакомиться с творениями этих злых гениев – книги их не издавались десятилетиями и стали библиографическими редкостями. На Западе же советской критикой никто не интересуется.
Т. Мотылева в «Иностранной литературе» с явным наслаждением цитирует большие куски из «Улисса», но отцом современной литературы она называет, разумеется, Горького.
«Отказ от познания подлинной реальности, подмена ее игрой писательского воображения обедняет и губит искусство романа». Бедная Т. Мотылева.
Статья А. Гладкова о Платонове.
Неверно, что позднее у Платонова – самое лучшее. Постоянная травля сделала свое дело. Чтобы хоть немного печататься, он портил свой стиль, сглаживал его.
Его обвиняли в «оглуплении», «искажении жизни», «злорадном глумлении», «бессмысленном кривлянии», «злопыхательстве», «злонамеренном юродстве». Дивно.
И все же это, наверное, лучше, чем быть вообще вне литературы.
1.2
Несчастная диссертация вылезает из меня туго, как жилистое мясо из ржавой, тупой мясорубки.
В 30-х годах выселяли колхозников «чернодосочных» районов. Чего только не делалось в 30-х годах!
Надо чаще слушать хорошую музыку – Баха, Моцарта, Стравинского.
2.2
«Судьба Блока. Материалы о Блоке и символизме».
«…Газетчики глумились над ним как над спятившим с ума декадентом. Из близких (кроме жены и всепонимающей матери) никто не воспринимал его лирику. Но он не сделал ни одной уступки…
Ал. Ал. был, как всегда, далек от личных счетов. Он и не подозревал, что казался своим друзьям “непереносным, обидным, намеренно унижающим”…
У Блока в душе не было ничего, кроме все более и более растущего огромного “нет”…
Необыкновенно точный и аккуратный, безупречный в своих манерах и жизни, гордо-вежливый… он был для людей, близко его знавших, самым растревоженным, измученным и, в сущности, уже безумным человеком…»
Несчастные мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву…
Вчера ночью и утром – стыд за себя, за лень, за мое невежество в том числе. Еще не поздно изучать языки…
Правду, исчезнувшую из русской жизни, возвращать – наше дело…
В снах часто, что и в жизни: кто-то нападает, преследует, я отбиваюсь, мне страшно. Что это за страх?
Ненавидящая любовь – это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней…
Блок принял революцию, как спасение от «буржуазной сволочи», но буржуазию он ненавидел как дворянин и интеллигент. И еще он принял революцию, как долгожданную катастрофу, которую желал и проповедовал страстно так много лет. Он принял ее, как очистительный смерч, как искупление. Здесь было и сладкое чувство мести кому-то за что-то, как у детей: «Ну и пусть! Ну и ладно!» Здесь была и легкость предельной безнадежности: «Пропадай все пропадом!»
Надо уверовать в свою миссию и делать свое дело. Иначе – гибель.
3.2.
Часто снится одно и то же кладбище где-то в Петергофе или в Стрельне. Как тамошние парки, оно взбирается на пригорок, и я всякий раз стою на этом пригорке у ограды и смотрю вниз. Зелень деревьев густая, но в ней просвет, и в просвете виден залив, серый, бесцветный.
Вариациям князя Мышкина в русской литературе нет числа. Например, Фарбер у В. Некрасова. В кино Смоктуновский играет его именно так.
В бешеных ритмах современных танцев есть что-то апокалиптическое. Веселье на грани безумия.
«Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой!»
Тот искуситель, «черт» карамазовский, спрашивает меня: а что если гордость твоя – яд и погибель? Если не в мир, а в зеркало глядишь ты – стукнуть легонько, и оно вдребезги? Если не крест несешь ты и не на Голгофу? Если бессмертие, которого ты возжаждал, вовсе не там? Если сел ты в тот автобус, да не в ту сторону едешь, и из гордости же спросить не хочешь – в ту ли?
И я отвечаю черту: и славно! Дождемся осени – цыплят наконец сосчитают. А если некому и некого будет считать, то там, где-то там, за гордыню меня не осудят.
Но черт не все вопросы задал. Хитрый. Еще много бесед предстоит мне с рогатым, ох, много!
4.2
Ю. Будто где-то я ее раньше видел.
«Хорошо вам, поэтам: написал и положил в ящик стола. А каково нам, режиссерам! Дома же с родственниками не поставишь спектакль!»
5.2
Ленинградский «День поэзии». 1964 год.
Будто писал кто-то один, кто-то двуполый и до странности скучно думающий.
Ю. рассказала об Ахматовой. Анна Андреевна простодушно хвастается тем, что ее опять стали печатать.
– Вот, поглядите, «Новый мир» вспомнил обо мне! А вы видели мои стихи в «Дне поэзии»?
Кокетничает. Любит эффектно одеваться. Тщательно пудрится, когда ждет гостей.
– Вы знаете, это стихотворение Бродский посвятил мне!
Странно, невероятно, что Анна Ахматова еще жива, еще пишет. Когда-то, бог знает когда, были Ивановские среды «на башне», была «Бродячая собака», был «Привал комедиантов». Все это уже давно отошло в область легенд. А эта женщина с патрицианским профилем живет где-то рядом, в трех-четырех километрах от меня.
6.2
Все стихи мои и поэмы – один крик.
Лишь бы с ума не сойти, вот что.
7.2
По ночам частые приступы «возвышенных чувств».
Бесконечный спор о Солженицыне. Тома критических статей. Лязг мечей и крики злобы. И каждый видит то, что ему хочется. Ивана Денисовича разрывают на части, топчут ногами, водружают на пьедестал. Его выдвинули на премию и страсти накаляются.
13.2
Сегодня туман и красное солнце, как в «Жар-птице». Стою и наблюдаю, как течет моя жизнь. Половина ее уже вытекла, это наверняка. Но, быть может, осталось уже лишь на донышке – не вижу, темно там, откуда она вытекает.
Наша лестница превратилась в приют для неких несчастных молодых людей, которым больше негде встречаться. Площадки усеяны огрызками и корками. На измызганных подоконниках стоят водочные бутылки. После выпивки юноши развлекаются – бросают горящие спички в потолок. Спички прилипают к штукатурке и оставляют на ней большие черные пятна.
14.2
К вопросу о кошках и о добре и зле.
В автобусе девушка везет к ветеринару котенка. Некие злые молодцы напоили его этиловым спиртом, чтобы проверить, можно пить этот спирт или нельзя. Котенка три дня рвет. Девушка отпросилась с работы, потому что лечебница для животных работает только днем, и котенок-то не ее, а общественный. Он в учреждении живет, в том самом, где бывает этиловый спирт.
«Ненавижу страдальцев!» – говорил Горький. И слыл гуманистом. Он же написал: «Если враг не сдается, его уничтожают».
– Ненавижу этого страдающего котенка! – сказал бы Алексей Максимович. – Мало ли бегает по улицам здоровых, веселых котов!
– Ненавижу злых молодцев, которые хлещут этиловый спирт! – говорю я. – С моей точки зрения, они имеют меньше прав на жизнь, чем этот котенок, который никому не делает зла. Жестокий человек хуже животного, хуже даже злобного животного, потому что животное не сознает своей злобы, а человек сознает и наслаждается ею.
А «враг» – слово сомнительное. Враг – это твой античеловек, тот, кого ты должен убить. Но еще неизвестно, что лучше – убить или быть убитым.
Опять Толстой. И Ганди.
Да нет же, я тоже злой. И способен убить. Тех пьяниц, отравивших котенка, я, ей-богу, убил бы!
15.2
Одному инженеру снятся странные сны. Один сон на целую неделю. Потом перерыв – и опять. Будто живет он на неизвестной планете среди неизвестных существ, похожих на людей. Жители планеты разговаривают с инженером на незнакомом языке, который, как ни странно, ему понятен. Все сны хорошо запоминаются, но инженер от них очень устает. Врачи установили, что он в здравом уме.
18.2
Ужасающая моя непрактичность. Черт дернул меня взяться за диссертацию о синтезе!
Ночью записывал какие-то обрывки, не стихи, а лишь фрагменты стихов, которые возникали во мне сами собою. Утром прочел – не так уж интересно, но есть кое-что.
Боюсь, что не выдержу и покончу с собой, боюсь смерти. Боюсь писать. Боюсь, что пропадет желание писать. Боюсь сидеть дома. Боюсь ходить по улицам. Боюсь телефонных звонков. Боюсь, когда долго никто не звонит. Боюсь своей боязни. Боюсь того дня, когда уже не будет страшно.
25.2
Полковники. Разные голоса, разная манера улыбаться и двигать руками. Полковники явно живые. Но они абсурдны. Их не может быть.
Театр абсурдных полковников. Их бессмысленные монологи доставляют им удовольствие. Они шутят, они потирают руки.
Килотонны. Мегатонны. Предупреждающий удар. Район поражения. Внезапность нападения. Рентгены. Токсины. Чумные блохи. Боевой дух.
Не будет продолжения. Умирали и знали, что кто-то остается, что остается чья-то память, быть может, и благодарность. Теперь смерть будет абсолютным концом.
27.2
Я был глуп и стеснялся себя, хотел быть каким-то другим. Я был младенцем. Теперь я уже подросток. Скоро стану взрослым.
2.3
Пушкинские парки. Тишина и какой-то особенно белый снег. Руины гвардейских казарм. Арматура – как прутья деревьев. Стены церкви исписаны похабными надписями. Среди надписей остатки мозаики – широко раскрытые, страдальческие глаза богоматери.
4.3
Белла Ахмадулина (в ресторане «Астории»).
Замысловатая прическа. Нарисованные глаза. Моднейшие туфли. В фигуре что-то детское – талии почти нет, но тело тонкое. И красивые ноги.
С нею некто седой, лет пятидесяти.
5.3
Можно бороться за правду в искусстве и за правду самого искусства. «Новый мир» делает первое, но второе важнее.
Солженицын – все же стилизатор, талантливый, как Жолтовский, например. Сама его манера письма как бы говорит: так было, так будет. А это неправда. Раньше такого не было. И впредь такого тоже не будет. Будет иначе.
6.3
Проснулся ночью, и мне показалось, что я лежу под черным небом, на котором только одна звезда. Но это был блик на потолке – лунный свет пробился сквозь штору.
С пристрастием перечитал «Плевок» и «Прогулку». Все-таки кое-что я умею.
11.3
В гостях у Мочалова и Слепаковой.
Мои последние стихи им понравились. «Это путь для белого стиха», – сказал Лева. После спорили о «хаосе», о способах его преодоления и о пресловутом долге художника. Нонна больше молчала и как бы посмеивалась про себя. Пили сухое вино и потом пиво. На закуску были креветки. «Ты пьян, Лева, – сказала Нонна, – у тебя красные пятна под глазами – это верный признак!»
Мочалов пишет книги об искусстве. Слепакова занимается переводами. Слухи о ее красоте несколько преувеличены.
– Все-таки надо печататься, обязательно надо печататься! – сказал Лева на прощанье.
Каждое утро, когда я еще лежу в постели, Филимоныч прыгает на кровать и тыкается мокрым носом мне в щеку, издавая при этом нежнейшие бархатистые звуки. Потом он ложится мне на грудь и некоторое время дремлет. Егo нос так близко от моего лица, что я ощущаю легкий ветерок его дыхания. Когда открываю глаза, вижу перед собой гигантскую кошачью морду с толстенными усищами – она закрывает весь потолок.
Вдруг появилось чувство самодовольства. Будто я уже добился, чего хотел, и все в порядке. А чего я хотел?
Агония зимы. Солнце светит вовсю, пробивая нашу квартиру насквозь, а на окнах белые пушистые травы – мороз. С крыш сбрасывают снег. Он падает с глухим тяжким стуком. Будто стрельба идет в городе.
13.3
Видимо, путь не во внешнем усложнении, не в декорировании стиха, а в максимальном его оголении. Раньше стихи могли быть игрой созвучий, набором «самовитых» слов. Теперь они должны быть игрой ума. Мысль – тонкая, разветвленная, слоистая, вибрирующая, – вот основа. При строгом, простом словаре. Незачем выдумывать новые слова, надо оживить старые.
Все жаждут взглянуть на мир сверху, но можно получить удовольствие, глядя на него изнутри.
17.3
По Неве плывут редкие льдины. Широкий оранжевый столб от вечернего солнца уходит в воду.
Написал еще один стих о египетском ребенке. Написал и растрогался.
19.3
Ратуют за содержание в поэзии, ругают изящную «бессодержательность». Но неизящная бессодержательность еще хуже, и такой множество, куда больше, чем изящной, – ее бы и ругали.
24.3
Начиная с раннего Средневековья в Европе происходило накопление культурных ценностей. В середине двадцатого века началось их уничтожение. Запылали города и рухнули древние соборы. Ничто не возместит эти потери.
25.3
Написал «Белую кошку». Долго мучился над приемом, а он оказался очень простым. Перечень, и в конце – узел. Стихотворение напоминает по форме веник – расходящиеся ветки с одного конца стянуты веревкой.
Оказалось много отходов. Но это хорошо. Раньше я из стихов делал поэмы, теперь – наоборот.
1.4
Теплое пасмурное утро. Почему-то разволновался. Всплыли какие-то смутные воспоминания. В них была такая же теплая пасмурность, такие же лужи и грязный, талый снег.
10.4
Трудно сохранять достоинство. Но увлечение мелочами позволяет забывать о нем.
Китайцы наглеют. Произошел великий раскол, история сделала ход конем.
А я наклеиваю фотографии.
11.4
Скандал в Эрмитаже.
Устроили полулегальную выставку четырех «левых». Директора сняли. Кого-то исключили из партии, кого-то будут судить «товарищеским судом».
А. была в запасниках Русского музея. Там множество полотен Кандинского, Малевича, Филонова. Служащие запуганы. Фотографировать ничего нельзя, записывать ничего нельзя.
Искусство, оказывается, так могущественно!
3.5
Андрей Битов на глазах становится знаменитостью. Когда-то Борис Понизовский сказал: «Битов будет хорошим советским писателем!» – так оно и выходит.
8.5
«Гамлет» Козинцева. Всё в Смоктуновском. Он родился Гамлетом. Но Эйзенштейн сделал бы «Гамлета» получше.
Текст в переводе Пастернака, – его имя в титрах. Своего рода публичная реабилитация.
15.5
Похоронили Тоню.
Удручающая повторяемость. То же Охтинское кладбище, тот же гроб из сырых сосновых досок, покрашенный розовой краской, та же ленивая сонная лошадь, запряженная в грязную телегу, те же лужи на кладбищенской дороге.
Женщина с грубым крестьянским лицом и щербатым ртом. Командует: «Ставьте сюда! Разверните! Ногами вперед! Ногами вперед!» На панихиде в церкви держала свечку и крестилась истово. Когда телега тронулась, стала хватать всех за руки: «Подайте, Христа ради! Я же и цветы подносила, и крышку направляла!»
Поминки. Bсe пьют, жрут и не думают о покойнице.
Вечером – гости. Мочалов и Слепакова.
Нонна тискала Филимоныча, читала стихи и пела песни. Мочалов тоже читал, но меньше. Потом был разговор о современном искусстве. Наши взгляды разошлись. Жаль.
20.5
Выборг. Музей города. Весь он размещается в одном небольшом зале. Рядом с залом маленькая комнатушка. Здесь за двумя сдвинутыми вместе столами лицом друг к другу сидят директор музея и его секретарша. Директор – отставной военный, глупый человек. Секретарша – красивая девушка с губами Софи Лорен, коричневый свитер плотно обтягивает ее тонкую талию и высокую грудь. Секретаршу зовут Светлана.
Брожу по городу и размышляю: такая девушка не может быть свободной, быть может, она даже замужем.
Покупаю два билета в кино и возвращаюсь в музей. Директора нет. Светлана читает книгу. Она сразу соглашается – я должен ждать ее у входа в кинотеатр.
Фильм посредственный, с потугами на современность. Светлана иронизирует, я тоже. Полное взаимопонимание.
После кино гуляем по городу. Я спрашиваю ее: «Как мне вас звать? Светлана? Света? Может быть – Сюзи? Что вам больше нравится?» – «Последнее», – отвечает она. Итак – Сюзи. Кроме всего прочего, у нее красивые глаза – серо-коричневые, чуть-чуть звериные, диковатые. Вообще в ее лице есть что-то простонародное, и ей это идет.
Она живет в высоком финском доме рядом с портом. Прощаясь, я поцеловал ей руку. Она смутилась и покраснела.
Возвращаясь в гостиницу, я думал все о том же: такая девушка, и совершенно свободна! Странно, право.
28.5
Лес. Деревья-красавцы и деревья-уроды. Береза обвивает сосну, льнет к ней всем телом. (Любовь деревьев похожа на человеческую.) Сломанные ветром елки, лежа на земле, продолжают жить, тянутся ветвями вверх, к свету.
На улицах вдруг появилось множество красивых женщин. С голыми руками и шеями, в коротких, обтягивающих зады юбках. Знать, лето уже началось.
30.5.
Девушка-работница шпаклюет цоколь дома на площади Ломоносова. На ней грязные, измазанные известкой, но модные брючки. Волосы не покрыты. Изящная прическа сделана с большим искусством и, видимо, тщательно оберегается. Когда девушка нагибается, на затылке видны многочисленные шпильки и заколки, поддерживающие это сооружение. Все прохожие заглядываются, и девушке это приятно.
4.6
У набережной в мелкой воде стоит лосиха. Толпа зевак. Останавливаются машины. Лосиха стоит совершенно неподвижно, как бронзовая, – смотрит на толпу. К ней пытаются подплыть на лодке. Она отходит в сторону, высоко подымая ноги и показывая широкие копыта. Снова застывает.
По городу ходят люди с охапками сирени и черемухи. После дождя сладко пахнет землей и молодой травой.
7.6
Костя К-инский. «Нет поэта, кроме Бродского, и я, Константин К-инский, пророк его на земле!»
Помешан на стихах, прекрасная память (без запинки прочел большой кусок из моих «Осенних страстей»). Последние мои стихи ему не понравились, сказал – холодные.
24 года. Нечесаная шевелюра. Светлые, полубезумные глаза. Третий раз женат. Последняя жена ужа пыталась покончить с собой.
Рядом с ним я выгляжу добропорядочным обывателем.
13.6
Два типа «выходцев из народа». Одни выходят и признаются, что вышли, – становятся интеллигентами. Другие тоже выходят, но не признаются в этом и ломают комедию. Есть еще не «выходцы», но заигрывающие, вроде Ильи З.
Не терплю общества литераторов. У меня начисто отсутствует инстинкт стадности. Предпочитаю компанию елок и берез.
14.6
В три часа ночи ехали на такси по городу. Ярко освещенные солнцем, почти дневные улицы были совершенно пусты. Будто город внезапно вымер, но все осталось на своих местах. Выжили только дворники, и они, как ни в чем не бывало, подметают тротуары.
20.6
Приснился пухлый розовый младенец с седой стариковской бородой. Было чувство любопытства и отвращения.
24.6
Выборгский музей. Сюзи в черном узком платье, рот накрашен, глаза подведены, волосы перехвачены шелковой черной лентой. Она разговаривает по телефону, в голосе ее игра, она загадочно и многозначительно улыбается.
Приходит служитель музея и просит ее напечатать несколько подписей к фотографиям – в музее расширяют экспозицию. «Не буду я ничего печатать! – капризничает Сюзи. – Не хочу! Нaдoeлo!»
Однако печатает. Я ей помогаю – обрезаю бумагу ножницами. «Вы сегодня вечером свободны?» – «Да, но только до половины восьмого».
Ресторан выборгского вокзала. На столе коньяк, шампанское и конфеты. Подходит официантка, и Сюзи долго разговаривает с нею о каких-то своих делах, разговаривает полунамеками, как с хорошей знакомой. Ровно в половине восьмого Сюзи уходит. Я сижу один и пью коньяк с шампанским. Потом иду в гостиницу и заваливаюсь спать.
Ночью проснулся от каких-то жутких звуков. Их издавал сосед по номеру. Никогда еще я не слышал столь художественного и трагического храпа.
Встал рано и долго ходил по утреннему городу, пришел к дому Сюзи. Была половина девятого – в это время Сюзи должна идти на работу. Сел на скамеечку, стал ждать. Прождал целый час – Сюзи не появилась.
Пришел в музей. Директора нет, Сюзи сидит на своем месте и печатает на машинке. «Каким образом вы здесь оказались?» – «Я ночевала у подруги!» – «Бросьте печатать, пойдемте погуляем!»
Сюзи послушна. Идем гулять.
Проходим мимо парфюмерного магазина. «Хочу пудру!» – говорит Сюзи. «Какую пудру?» – «Немецкую, в этом магазине продается».
Заходим в магазин, и я покупаю ей пудру.
Сидим на вокзале и ждем поезда. «Я пойду в туалет, мне хочется покурить», – говорит Сюзи. «А здесь разве нельзя?» – «Здесь неудобно, я стесняюсь курить на людях». – «Чего стесняться-то?» – «Да так, знаете, увидит кто-нибудь из знакомых…» – «Ну и что?» – «У нас провинция, у нас не любят, когда девушки курят».
Прощаемся на перроне. Я целую ее в губы. Она не сопротивляется.
Поезд трогается. Я машу ей рукой.
Поезд набирает скорость. Я смотрю на нее в открытое окно. Она стоит на перроне одна – высокая, стройная, рыжеволосая девушка двадцати одного года от роду. Месяц назад я не знал, что она существует.
29.6
Утром пищу стихи и с отвращением думаю о предстоящих служебных делах. Днем эти дела засасывают меня, и я забываю о стихах. И так все время: вверх – вниз, вверх – вниз. Качели.
6.7
Приехал в Выборг со студентами. Пришел в музей – на месте Сюзи сидит незнакомая девушка. «Простите, а где же Светлана?» – «Она уволилась, но иногда она еще приходит сюда».
Сюзи встретил во дворе. На сей раз платье было синее (с рыжими волосами очень недурно).
– Почему вы уволились?
– Уезжаю.
– Куда?
– Неважно.
– Я надеюсь, что сегодня вечером вы совершенно свободны.
– Нет, не совершенно, только до восьми часов.
– Неужели вы не подарите мне хоть один вечер целиком?!
– Подарю. Только не этот.
– Ну завтрашний, например!
– Завтра я вообще занята.
– Чем же, если не секрет, вы будете заняты?
– Я буду кататься на лодке. Меня пригласили.
– Но может быть, вы откажетесь?
– Не могу. Неудобно.
Да восьми часов сидела со мной в ресторане и курила сигареты, которые я привез ей из Ленинграда. Я вдруг заметил, что у нее очень худые кисти рук.
– Ужасные руки, правда? – сказала Сюзи. – Они всегда такие были, не знаю почему.
7.7
Лежу на кровати в своем номере и думаю о Сюзи. Она где-то с кем-то катается на лодке. Черт знает что!
Сажусь за стол и пишу ей письмо. Иду на почту и отдаю письмо девушке, которая выдает письма до востребования. Потом хожу по улицам и всматриваюсь в проходящих женщин – в каждой мне кажется Сюзи.
Опять высокий финский дом у порта. Поднимаюсь по лестнице, нахожу квартиру 33, звоню. За дверью долго бренчат ключи. Наконец дверь открывается. Женщина лет сорока с простоватым, но приятным лицом. Похожа на Сюзи.
– Здравствуйте! Я к Светлане. Она дома?
– Нет.
– А вы не скажете, когда она придет?
– Нe знаю. Ничего не знаю.
– Разве Светлана не живет уже здесь?
– Да почти не живет. Вчера вот приходила.
– Вы ее мать?
– Да.
– Это правда, что она уволилась из музея?
– Не знаю. Она мне ничего не говорила. Может быть, и уволилась!
Пауза. Она стоит в дверях и с любопытством меня разглядывает. Потом говорит со вздохом:
– Светлана пошла по плохой дорожке. Никого не слушает. Делает, что хочет. В музее ее недавно разбирали на собрании…
– А что она натворила?
– Да так. Плохо относилась к сотрудникам. И за аморальное поведение… Вы, наверное, Алексеев?
– Да.
– Я читала ваше письмо и хотела написать вам. Плохо у нас со Светланой. Дома не ночует. Мы не знаем, где она, с кем она. Сегодня вот моя мама ходила, узнавала. Живет она с каким-то военным…
– Живет, а замуж не выходит?
– Да, замуж не выходит.
– А этот военный, наверное, женат? У него дети есть?
– Не знаю. Адрес только знаю. Хотите, я его вам дам? Сходите туда.
Я записываю адрес. Опять пауза.
– Простите, что я вас побеспокоил! Но Светлана ведет себя очень странно. Мне ничего не оставалось…
– Ну чего уж там! Заходите, я буду рада!
Выхожу на улицу. По гранитной лестнице подымаюсь на холм. Солнце садится за крыши домов. Пароходные дымы рвет ветер.
– И прекрасно! Какое право имею я на жизнь этой девчонки? Зачем я ей? Так – «приятно поговорить с умным человеком»!
8.7
С утра занимался служебными делами, вместе со студентами добывал деревянные рейки, необходимые для обмеров.
Деревообрабатывающий комбинат. Директор в обеденный перерыв удит рыбу (озеро рядом). Подбираюсь к директору, перескакивая с камня на камень, и сую ему бумажку, полученную в горисполкоме. Он кладет ее на колено, подписывает и, не сказав ни слова, продолжает удить рыбу. Возвращаюсь на комбинат и отдаю бумажку главному инженеру. «Главный» – молодой человек сугубо интеллигентной наружности. Очень любезен – польстило, что «архитекторы из Ленинграда».
Сюзи встретил, подходя к музею.
– Зачем вы это сделали? – спросила она, зло сощурив глаза.
– Сюзи, хватит валять дурака! – сказал я, тоже разозлившись. – Если я вам не нужен, скажите прямо, а если нужен – извольте, я пробуду в Выборге еще две недели.
– Но меня в Выборге не будет! – сказала Сюзи.
– Значит, я вам не нужен.
– Я этого не говорила, просто мне необходимо уехать.
Идем на почту, и Сюзи получает мое письмо. Она читает, а я слежу за выражением ее лица. Прочитав, она некоторое время смотрит куда-то вдаль. Потом глубоко и жалобно вздыхает.
Договариваемся встретиться завтра вечером. Я пытаюсь поцеловать ей руку, но она испуганно отдергивает ее.
– Что с вами, Сюзи?
Сюзи молчит, глядя в сторону. Уголки ее рта чуть подрагивают.
9.7
Она пришла, опоздав минут на 20. В том же синем платье, в пальто нараспашку. На голове капроновый платочек, белый с крупными синими горохами. Концы его обмотаны вокруг шеи. Этот по-крестъянски повязанный платочек очень подходит к ее звериным глазам. Сюзи в сельском стиле.
Я фотографировал ее в городском саду около библиотеки Аалто. Позировала она с удовольствием.
– Сюзи, поверните голову налево! Сюзи, посмотрите на меня! Сюзи, не будьте букой, улыбнитесь!
Сюзи послушна.
Сидим в ресторане гостиницы. На столе все то же шампанское с коньяком (Сюзи обожает эту смесь). Она говорит, я слушаю. Она на редкость откровенна.
Родилась она на фронте. Отца нет. После школы работала машинисткой на Сетевязальной фабрике. Потом перешла в музей. Мать ее не любит, она мать – тоже. «Мы чужие люди. Она обыкновенная мещанка. Бесится. Все женщины бесятся в 45 лет. Завидует, что я молодая. Они с бабушкой жить мне не дают – требуют, чтобы я приходила домой в 5 часов!» Матъ пожаловалась директору музея. Устроили собрание, стали спрашивать у Сюзи, почему она не ночует дома. Она сказала: не ваше дело! Не имеете права вмешиваться в личную жизнь!
Ее возлюбленный очень любит своего ребенка. А то бы он давно на ней женился. И она не настаивает: действительно – у ребенка должен быть отец. Но теперь из-за всей этой истории ей приходится уезжать (тяжкий вздох).
Далее – об искусстве. Сюзи очень любит театр, но в Выборге нет ни одного, и она от этого просто страдает. Кино она тоже любит. (Очень понравился фильм «Как быть любимой», но публика вела себя ужасно, хотелось уйти!)
Берем еще бутылку вина. Пьем за брови Сюзи, за глаза, за ноздри, за рот, за зубы Сюзи – они у нее ровные и белые – где теперь найдешь такие зубы?
– Про волосы-то забыли? Они у меня не ахти какие, но всё же!
Пьем за волосы Сюзи, за уши и так далее.
– Хочу в Москву! – она с чувством. – Очень хочу в Москву! Алексеев должен вывести Сюзи в свет!
Обсуждаем, как это сделать.
– Вам надо учиться, Сюзи, – говорю я, – поступайте в вуз!
Сюзи явно не хочется учиться.
– Хочу быть нaтypщицeй! – говорит она. – Сколько платят натурщицам?
– Голым – рубль в час.
– Мало! За пять я бы постояла. Но меня все равно не возьмут – слишком худая, все кости торчат. И грудь у меня великовата. Когда одета – ничего, даже красиво. А так она отвисает. Такую грудь рисовать неинтересно… Хочу иностранную сигарету!
– Ну какую, например?
– Кемел!
– Таких здесь не бывает.
– Все равно хочу!
В ресторане начинаются танцы. Среди танцующих женщина в зеленых брюках. Сюзи смотрит на нее и презрительно дергает губами – она бы никогда не пришла в ресторан в зеленых брюках! Она знает, как вести себя в обществе!
– Скажите, Сюзи, – спрашиваю я, – если бы я был свободен, вы бы вышли за меня замуж?
– Вышла бы!
Ресторан закрывается. Гардеробщик сам приносит ее пальто. Выходим нa улицу. У входа в гостиницу стоят какие-то люди.
– Идите, – говорит мне Сюзи, – я вас догоню.
Иду вперед, останавливаюсь на углу, жду. Проходит минут десять. Возвращаюсь. Сюзи целуется с каким-то парнем. Подхожу к ним вплотную. Они меня не замечают.
– Вы что-то долго, Сюзи! – говорю я.
Сюзи оборачивается:
– Простите! Я только прощусь с ним!
– Извините, пожалуйста, – говорит парень, – но я ее очень давно знаю. Я хочу с ней проститься.
Подходят еще двое, один в штатском, другой – пехотный капитан. Оба пьяные. Хватают парня за руки, оттаскивают его от Сюзи. Капитан орет мне:
– Чего стоишь? Твою девку у тебя на глазах уводят, а ты стоишь! Где твое мужское самолюбие? Эх, дать бы тебе!
Он хватает меня за грудь. Я отталкиваю его и ухожу.
12.7
Приехал в Питер. Печатаю фотографии.
В тускло-красном свете на бумаге возникает лицо Сюзи. Надменное, хмурое, хитрое, улыбающееся. Снизу, в профиль, сверху, анфас.
Сюзи в платочке и Сюзи без платочка. Сюзи, смотрящая в сторону, и Сюзи, уставившаяся прямо на меня.
Снова Выборг. Снова дом у порта. Ее мать дома. Она приглашает зайти. Вхожу, осматриваюсь. Горки подушек на кровати, ковер с оленями, кружевные салфеточки на диване, искусственные цветы в дешевых стеклянных вазочках.
– Светлана уехала?
– Да, вчера вечером… Счастье искать отправилась. Плохо ей здесь было. Мать ее заставляла работать, а она не хотела. Красивой жизни хотела. Учиться тоже не желала. У нее ведь школа не кончена – за десятый класс она не сдала. Поступила в вечернюю школу, да ушла через полгода. Мальчики, танцульки – так и пошло. На Сетевязальной фабрике не ужилась, потому что плохо работала. В музее – тоже. Никого знать не хочет, все у нее плохие. На собрании с ней разговаривают, а она отворачивается. Мать она и за человека не считает. А что я ей плохого сделала? Не позволяла мужиков в дом водить?
– А как она думала дальше-то жить?
– Да как! Замуж выйти и иметь любовника! Любовника она уже завела, а вот мужа еще не успела! Найдет дурака какого-нибудь. Мало ли дураков-то!
– Вы ей говорили, что я приходил?
– Да. Но она не призналась. Не знаю, говорит, никакого Алексеева! Не знаю, и все!
– Да, странно.
– Вот именно! Врет она на каждом шагу. Изовралась вся. Всем врет!
Пауза.
– Мне пора, – вздыхаю я, – пойду уж. Всего вам хорошего!
В дверях она останавливается и снова жалуется на дочь. Но говорит она спокойным голосом. И будто ей даже приятно, что дочь у нее такая пропащая.
– В Волгоград поехала. Taм, говорят, много высоких красивых мальчиков. Пусть едет!
Вечером с Л. пили вино в номере. Пьяные отправились гулять. Поднялись на крепостную башню, по наружной лестнице залезли на купол: внизу были светлые пятна воды и огни города, в воде отражалось оранжевое небо. Было совсем не страшно смотреть вниз.
Когда ложились спать, Л. сказал:
– Да, совсем забыл! В пятницу вечером тебе звонила какая-то девушка. Я ответил, что ты уехал и спросил, что передать. «Ничего, – сказала она, – теперь уже ничего не нужно передавать», и положила трубку.
13.7
Не могу ходить по городу.
Смешно. Вздорная, испорченная девчонка – а вот поди ж ты!
14.7
Тихий, пасмурный день. Теплый сонный дождичек.
И опять фотографии Сюзи. Я смотрю ей в лицо, но она меня не видит. Она никогда меня не видела. Она смотрела не на меня, а сквозь. За моей спиной ей мерещились сверкающая лаком машина, рестораны, море коньяку с шампанским и горы американских сигарет.
Впрочем, ей нравились мои письма. Это несомненно.
15.7
Последний аккорд. Разговор с Евгенией Васильевной – сотрудницей музея. О ней Сюзи говорила хорошее.
– Светлана поступила к нам год назад. Через месяц пришла с плачем какая-то женщина – ее сын несколько дней не ночевал дома, а перед этим его часто видели со Светланой. Потом Светланы несколько дней не было на работе – она делала аборт. Потом в музей пришел милиционер и потребовал, чтобы Светлана встала на учет как больная венерической болезнью (три месяца она ходила в диспансер). Потом пришла Светланина бабка и сказала, что за ней нужно присматривать – она часто не ночует дома и вообще плохо ведет себя. Потом пришли какие-то девушки и удивлялись: кого вы приняли! Она же сущая хулиганка – пьет водку, курит, ругается матом! Наконец устроили собрание. На него пригласили мать и бабку. Мать сказала, что за пачку сигарет и рюмку водки Светлана отдается каждому встречному. Светлана заявила, что у нее есть любовник, а замуж она не хочет, потому что это мещанство. Директор уволил ее и сказал, что если она не уедет сама, он добьется, чтобы ее выселили.
– Но в чем же дело? Почему она такая? Она ведь не глупа, читает книги… Я бы сказал, что она интеллигентна!
– Видите ли, она воспитывалась в дурной семье. Отца нет. Мать водила в дом мужчин, жила для себя и на дочь не обращала внимания. Светлана много знает и обо всем имеет свое мнение. Она умнее и образованнее своих подруг. Нельзя сказать, что ее испортила среда, она сама себя испортила. От какого-то отчаянья. Она озлоблена на всех, на весь мир – всё презирает. Ласкают ее только мужчины, вот она к ним и льнет. Она мне говорила: «Противно! Все парни твердят одно и то же – у тебя красивые глаза! У тебя красивая фигура! – надоело!» Я ей: «Светлана, тебе надо влюбиться по-настоящему!» А она: «Не могу! Мне никто не нравится!» Ее мать – плохая женщина. Как могла она при всех, на собрании, сказать такое о родной дочери! Может быть, и хорошо, что Светлана уехала.
Новый музейный стенд. Подписи под экспонатами те самые, которые печатала Сюзи. Время от времени она клала подбородок на каретку и, шевеля губами, читала написанный от руки текст. Иногда она вздыхала, как вздыхают дети после плача – в два придыхания. И подбородок ее трогательно вздрагивал.
16.7
Солнце садится. У окон гостиницы носятся стрижи. Снизу, из ресторана, доносится разухабистая и нестройная музыка. Включил радио – хоронят Мориса Topeзa.
Надо написать письмо. Тщательно написать, чтобы она все поняла. Может быть, еще можно что-нибудь сделать. Пропадет девка.
22.7
На Невском в нарядной, оживленной толпе среди хорошеньких голоногих девушек бредет маленькая, изогнутая в три погибели старушонка. Толпа обтекает ее, как река обтекает остров.
Надо настроить себя на большую поэму. На главную, пора уже.
23.7
Вдвоем с отцом достраиваем дом – обшиваем каркас вагонкой. Когда забиваешь гвоздь в бревно, оно поет, звенит, как камертон. Сначала звук низкий, потом все выше и выше.
Доски чистые, желтые. На солнце они сверкают, как латунь.
24.7
Во сне я целовал руки какой-то незнакомке в меховом пальто «под леопарда». Потом появилась Майка – и я вдруг почувствовал, что она мне дороже и нужнее всех женщин.
Интеллигентские нежности. После часа физической работы на ладонях вздуваются пузыри. После трех часов пузыри лопаются, и обнажается красное, свежее мясо.
30.7
В молодости Пабло Неруда писал хорошие стихи. В зрелые годы им овладела гигантомания. Его поэмы невероятно многословны, тяжеловесны и скучны. Все та же «установка на великую литературу».
Вторая мировая война и искусство. Неужели и впрямь, для того чтобы создавать духовные ценности, человечество время от времени должно низвергаться в такие мрачные пропасти?
Из разговора Гали Н. по телефону: «Организму не свойственно, когда его режут».
1.8
Бёлль. «Глазами клоуна». Утомляют рассуждения о католицизме. Ганс Шнир искусственен, хотя и искусно сделан.
Афоризм: «Если наш век заслуживает какого-либо названия, то его надо назвать веком проституции».
Написал семь стихотворений о Сюзи.
2.8
Поезд Ленинград – Феодосия.
Проводники – молодые, нагловато-вежливые парни. Вечером они отдыхают от культуры: из их купе доносится спокойный витиеватый мат.
Или это я где-то вычитал, или сам придумал: человечество делится на тех, которые смотрят в окно, когда едут в поезде, и тех, которые не смотрят; последних большинство.
Россия и Азия. Татарщина. Национальная замкнутость. Петр и прорыв на запад. Сталин вернул нас востоку. Так мы и болтаемся все время между Европой и Азией.
Хорошо стоять у открытого окна, когда поезд под дождем идет через лес.
3.8
Рано утром – Вязьма. Гудки маневренных тепловозов, голос диспетчера из громкоговорителя.
Пошли смешанные леса. Двухскатные кровли сменились четырехскатными. После Брянска совсем украинский пейзаж. Чем дальше к югу, тем больше гусей и уток, хотя воды все меньше. Птица кишит в каждой луже.
Блаженство – лежать на верхней полке и смотреть через открытую дверь в окно коридора. Засыпать, просыпаться, снова засыпать и снова просыпаться. И видеть все тот же узор полей, скирды, заросшие кустарником, овраги и белые сёла вдалеке.
4.8
Крым. Степь. Поля до горизонта. На горизонте синеют горы. Подъезжаем к Севастополю. Меловые срезы гор. Пещеры. Туннели. Наконец вокзал. По длинной лестнице подымаемся в город. Главная улица – «сталинский ампир». Руины собора. В соборе похоронены великие адмиралы. В бухте вода мутная, желтовато-зеленая. Военные корабли. Вечером – Херсонес. Развалины византийского храма. Волны бьются в его основание. Рядом на мысу – большой колокол на двух массивных столбах. Майка сидит на обломке мраморной капители и что-то поет – мне не слышно что: море шумит. Море занято своим делом и не обращает на нас внимания. Оно прекрасно.
У древней крепостной стены ждем автобус. Подошли две собаки, посмотрели на нас и ушли. Три женщины – совсем девочка лет шестнадцати, постарше – лет двадцати и пожилая – лет пятидесяти. Молодые дурачатся, поют, хохочут. Пожилая любуется ими. Темнеет. Море шумит.
Почему так волнует все античное здесь, в Крыму? Прародина нашей культуры. Всё европейское у нас от Греции. Через Византию. А то жили бы мы с медведями в лесах и питались бы клюквой. Князь Владимир взял Корсунь. Ходили и к Царьграду. Но Кирилл и Мефодий были греческие монахи.
5.8
В Севастополе нет спасения от туристов. У каждого памятника фотографируются. Задние стоят, передние сидят на корточках. У всех напряженные, каменные лица. Сфотографировались – и бегом дальше.
Одна из туристок сказала, поглядев на мою бороду: «Людоед какой-то!»
Черный жучок с оторванной лапкой пытается переползти широкую асфальтированную аллею. Ползти ему трудно, его заносит вбок. Он обречен – его растопчут. Но ползет, надеется.
Дорога на Ялту. Въезжаем в горы. Через каждый километр столб с табличкой: «Охота только по особому разрешению». Кому дают это разрешение?
Байдарские ворота. Синяя стена моря. Вверху она сливается с небом. Ощущение полета. Внизу, в невероятной глубине, полоса берега с белыми домиками. Белая церковь на скале.
К Симеизу шоссе идет на большой высоте. Над ним нависают голые зловещие скалы. Море внизу, и его очень много. По нему ползут катера.
6.8
Утром один гулял по Симеизу.
Запахи. Деревья и камни. Камни и море. Деревья, дома и горы. Дорога и деревья. Сотни комбинаций.
Кромка прибоя, сверкающая на солнце. Далекий белый пароход. Местами кипарисы стоят сплошной стеной. Зеленая вода у «Дивы». Лестницы, ведущие куда-то вниз и куда-то вверх. Подпорные стены из серого камня.
Первое купание. Сложный комплекс знакомых ощущений. Томительное наслаждение. Сравнить не с чем.
Кто-то убил морского кота. Сбежался весь пляж. Стоят, ахают. Кот весь в колючках – этакое страшилище. В глубине моря, кроме рыб, никто не видел его безобразия, а теперь его вытащили на посмешище – дергают за хвост, щупают колючки.
Разговор хозяек.
– Сказали – на две недели, а уехали через день!
– А у меня еще хуже! Каждый день стирали, гладили моим утюгом, шили на моей машинке и ночью сидели до трех – электричество жгли. Еле дождалась, когда уехали!
Ночь. Млечный путь погружается в море. На севере мы забываем, что есть звезды.
7.8
В морской воде тело кажется совершенно белым, полупрозрачным. Интересно плавать с маской и наблюдать за ныряльщиками. Когда они погружаются, их не видно – белый столб из пузырей. Движения у плавающих тоже забавны, особенно у женщин.
Запах гальки на берегу.
Воробьи в столовой прыгают по тарелкам, склевывают остатки пищи, дерутся, кричат. Воробьиха кормит великовозрастного птенца. Он с нее ростом, но потолще. Нахально разевает клюв. К столам не летит – сидит на перилах ограды и ждет. Маменькин сынок.
Строгие вертикали кипарисов придают пейзажу некий геометризм.
9.8
Купание с маской среди камней. Подводные ущелья и гроты. Водоросли разных оттенков – от синего до красного. Стаи мелких рыбешек. На дне рыбы покрупнее – завидя пловца, они стараются скрыться.
Хорошенькая и кокетливая девушка на пляже. Кокетливо ходит, кокетливо сидит, кокетливо разговаривает и кокетливо молчит. Кокетство ей идет.
Вечерний пляж. Пусто. У самой воды на стуле сидит старик с седой бородой. Он читает газету.
Шум прибоя.
Пароход, идущий к Севастополю, освещен вечерним солнцем. Но у нас уже сумерки – горы заслоняют солнце.
10.8
У кипарисов много общего с морем – та же вневременность, то же величие. Кипарисы напоминают о вечности, недаром их сажают на кладбищах. Кипарисы молчаливы, они не шумят и не шелестят под ветром. Они обтекаемы. Их форма законченна и монументальна, как у египетских обелисков.
Хорошо, когда кипарисы стоят ровной плотной стеной. Хорошо, когда на вершине голого рыжего холма стоит один острый черный кипарис. Великолепны старые кипарисы с толстыми, разветвленными и побелевшими от времени стволами.
На берегу Понта читаю Светония. Пути к власти и способы ее удержания – теоретическое пособие для начинающих диктаторов. Трогательные подробности: «Бескорыстия он не обнаружил ни на военных, ни на гражданских должностях… Впоследствии народ воздвиг на форуме колонну из цельного нумидийского мрамора, около двадцати футов вышины с надписью «Отцу отечества».
Волны Понта бьются о скалы с поразительным упорством. Двадцать веков – как один день. Может быть, ничего и не было вовсе? Было только море.
Проплыл вокруг «Дивы». Был момент, когда скала закрыла берег – пляж и людей. Остались море и отвесная каменная стена. Стало страшно. Настоящее одиночество – вещь неприятная.
Природа иногда показывает нам волчьи зубы, хотя мы уже привыкли считать ее ручной.
Крымские татары основали свою столицу вдалеке от моря. Море пугало их. К тому же они не были мореплавателями. Что чувствовал Колумб спустя месяц после отплытия? Потерпевших кораблекрушение часто находят безумными. Лем в «Солярисе» неспроста сделал море живым существом, непостижимым и бесконечно чуждым человеку.
11.8
Цвет моря при свежем ветре. У берега – охра, далее – светлый изумруд, потом чистый кобальт и на горизонте – ультрамарин.
Очередь в столовой. В основном – московская и ленинградская интеллигенция. С Украины народ попроще – им тут близко и недорого. Раздражает мягкое «г». Интонации украинской речи довольно однообразны. Растягивание гласных кажется манерным. Женственный язык. Все украинки ужасно тараторят. У всех украинцев толстые черные брови, хотя волосы бывают и светлыми.
Несмотря на постоянное присутствие модно одетой столичной публики, местные жители одеваются так же, как в любой украинской или русской деревне. Кастовость? Или сила инерции?
12.8
Ночью несколько раз просыпался и слушал, как шумит море. С веранды был виден пароход. Как яркий большой светляк, он полз по черной стене в сторону Ялты.
Черный лебедь в алупкинском парке. Перья его похожи на лепестки георгина. Небрежно, с чувством собственного величия, он подбирает кусочки печенья.
13.8
Группа поэтов, вылезших на свет божий в середине и конце 30-х годов, – как хилый осинничек на месте вырубленной корабельной рощи. Сейчас они ходят в мэтрах. Поучают, усмехаются, пишут мемуары.
Поэзия – здание, которое вечно строится. Каждый последующий кладет свой кирпич на кирпич предыдущего. Но для этого надо обладать соответствующим ростом. Те, которым не дотянуться, кладут свои кирпичики рядом, искусственно утолщая стену. Это ненужный расход материалов. В наш век толстые стены – вообще анахронизм.
14.8
Сон.
Пришли к могиле Тони. Могила совсем неглубокая, тело едва присыпано землей, и земля колышется. «Смотрите! – говорю. – Тоня живая! Ее живую похоронили!»
Тут Тоня встает и отряхивается от земли. Она девочка лет двенадцати, но меня это не смущает. Я беру ее за руку, веду и говорю всем встречным: «Это Тоня! Правда, удивительно? Она очень помолодела там, на кладбище!»
И все удивляются.
Потом я ловил рыбу в Америке, в узкой неглубокой речке с красной водой. Ловил на донку и поймал крупного подлещика. В Америку я попал как-то случайно, и меня все время беспокоило, что я незаконно ловлю рыбу в Америке.
Проснулся и долго приходил в себя. Некоторое время сон был сильнее яви – он стоял перед глазами. Потом краски пожухли, детали смазались.
Хорошо бы изобрести фиксаж для снов, чтобы они не забывались. Впрочем, врачи говорят, что помнить сны вредно – перегрузка для мозга.
Много прекраснейших, редких снов пропало у меня безвозвратно.
Авангардистская поэзия Западной Германии. Слово-фетиш. Графика стиха (смешение искусств).
Все это, быть может, нужно пройти по дороге куда-то. Но куда?
Тезис: «Современный поэт идет не от мысли к форме, а от формы к мысли и чувству».
Не всегда, но верно.
15.8
Луна. Лунный след на море. Красные огни рыболовного катера.
Искал на небе Полярную звезду. Нашел и обрадовался.
16.8
Майка сказала мне: «Хемингуэй работал каждый день и чувствовал себя неспокойно, если день был бесплодным, а ты обленился».
С восемнадцати до тридцати лет я был совсем как Хемингуэй. А теперь ясно, что это необязательно, Высшее удовольствие – работать для себя: пиши, что хочешь, как хочешь и сколько хочешь. Не хочешь – не пиши.
Майка верит, что меня будут когда-нибудь печатать.
И все же – будем работать. Потому что надо. НАДО!
17.8
Прощание с подводным царством. Осторожная и игривая креветка. Мудрые крабы в расщелинах. Большой невозмутимый морской ерш. Какая-то красная рыбка с полосатыми плавниками.
Забавы с прибоем. В воде все превращаются в младенцев. Визг и хохот. Мальчонка лет четырех с надувным поясом. Прибой играет им, как мячиком. Мальчонка не боится – смеется.
Последняя очередь в столовой, – сегодня она на редкость длинная. Охотимся за подносами, потом – за чистыми стаканами. Здесь нужны ловкость и нахальство. Слюнтяи обречены на голодную смерть.
К нам повадился ходить хозяйский котенок. Он совсем тощий (все кошки в Крыму тощие – их не принято кормить). Купили колбасы и накормили его до отвала. Бедняга потрясен такой щедростью и просто изнемогает от благодарности.
Вдруг выяснилось, что он не хозяйский, а так – ничей, приблудный. Жалко его. Уедем, и он снова будет голодать.
18.8
Проснулся рано. Лежал и думал о Блоке. Эталон поэта, данный однажды, чтобы знали, с чем сравнивать.
В самолете – как у зубного врача. То же кресло. Та же беспомощность и ожидание чего-то неприятного. Стюардессы в роли дантисток: Пристегните ремни! Не курите! Не вставайте!
Соседи играют в карты. Есть такая порода людей, которые во всех видах транспорта обязательно играют в карты. Или в домино. Даже в автобусе, когда ехали в Симферополь, – играли. Играли, не обращая никакого внимания на красоты природы и на тряску. Эти милые люди приехали в Крым откуда-нибудь из Свердловска, из Хабаровска или Магадана, чтобы перекинуться в картишки.
– Внимание! Мы летим на высоте 9000 метров! Скорость – 850 километров в час! Температура воздуха за бортом – минус 25 градусов! Пролетаем Харьков!
В окне видны облака, освещенные луной. Мы значительно выше.
Внуково. Ослепительно белые тела самолетов, вырванные из мрака прожекторами.
Лефортово. Высоченный, совсем взрослый Марк в длинном халате. Рассказывает новости: Айхенвальд пишет сейчас прекрасные стихи, Самойлов – тоже, а Коржавин пишет ерунду – исписался.
19.8
Проснулся и не сразу понял, где нахожусь. Подошел к окну: туманное, но солнечное утро, дворники подметают тротуары. Москва.
Огляделся. На стенах комнаты несколько портретов Е. М. в добротной ученической манере. Рука академика живописи Соколова.
Едем в центр. Вот Пушкин. Стоит, понурясь. Преклоняюсь, но без любви. Он чувствует мою холодность и не лезет мне в душу.
Вечер. Сидим на скамеечке у входа во Дворец пионеров. Вдали силуэт университета. Нечто фантастическое, древнеиндийское, невероятно-огромное и нечеловеческое.
Прослушав мои последние стихи, В. сказал: Не шаг, а прыжок вперед.
Браво, Алексеев!
20.8
Читал у Левушки М. Как всегда, он не мог найти слов. Остальные – тоже (плюс действие алкоголя).
22.8
Троице-Сергиевская лавра. Перед собором старушки в черных и белых платочках – все с бидончиками для святой воды.
В углу у трапезной – проходная. В будке за стеклом инок в скуфейке. Перед ним телефон. Видимо – патриаршие покои.
Идет священник. К нему подбегают женщины, о чем-то просят. Священник улыбается, разводит руками и идет дальше. Женщины семенят за ним.
Обрывок разговора: Потом гляжу – выносят чашу, иностранцев выводят на середину и причащают…
Музей лавры. Покровы, пелены, плащаницы, потиры, братины, дискосы, митры, оклады икон. Сапфиры, топазы, аметисты, жемчуг, бирюза, червонное золото. На окнах толстенные решетки. «Седелки» зорко поглядывают на посетителей.
Дорога на Переяславль. Вечерний туман в низинах. Пьяные деревни (все избы покосились).
Переяславская гостиница. Роскошный номер с одной полутораспальной кроватью, со шкафом и с графином воды на столе.
– Забронированный! – с гордостью сказала администраторша, открывая дверь.
Вечерняя прогулка по городу. Грязь, лужи, матерная ругань. Кажется – все мужское население перепилось, хотя и не праздник. Впрочем – суббота. В городском саду играет оркестр.
23.8
Данилов монастырь. Трапезная в порядке – покрыта тесом, побелена. Остальное – почти руины. На стене надпись: НЕ ПОДХОДИТЬ! РАЗРУШАЕТСЯ! В руинах ютится автобаза. Под горкой у пруда – свалка. Валяются надгробия из полированного гранита. Тучи галок вьются над главами.
Горицкий монастырь. Узорчатый кирпич изумительной надвратной церкви. Остатки монастырского сада. Музей. В музее святые мощи из Данилова монастыря. Тут же акт о вскрытии раки в 1919 году. Акт свидетельствует, что мощи отнюдь не святые.
Личные вещи Шаляпина из его усадьбы, реквизированной в 1918 году. На фотографии Шаляпин в лаптях и в косоворотке.
Сидим на холме перед монастырем. Внизу озеро. На прибрежном лугу стадо коров. Издалека доносится прелюд Рахманинова (радио). Безветренно. Пасмурно. Безлюдно. Вдали за озером идет дождь.
Никитский монастырь. Тоже руины. Но строят леса – будут восстанавливать. Рядом с монастырем гигантский макет Москвы – дома в рост человека. Здесь снимают «Войну и мир».
24.8
Ростов Великий. Встали с петухами, пошли к кремлю. Кресты и подзоры ослепительно сверкали. Сквозь массивную решетку ворот было солнце. Обошли вокруг, вошли внутрь, вышли и еще раз обошли вокруг – вздыхали и ахали.
В столовой нарасхват белые булочки. Крестьянки с бидонами и мешками (приехали на рынок) брали по 10–12 штук.
Яковлевский монастырь. Классицизм, петровское барокко. Внутрь не попасть – колючая проволока, солдат с автоматом. Ржавые ребра ободранных глав. На карнизах растут кусты.
Борисоглебский монастырь. Ходим по стенам. В амбразурах лесные дали, поля. Изразцы на фасадах церквей: фантастические звери, всадники, диковинные цветы.
В чайной на полу, загораживая вход, лежит пьяный человек. Его перешагивают. Перешагнули и мы. Когда, пообедав, вышли, пьяный валялся уже на улице – никто не обращал на него внимания.
У южных ворот монастыря – «городской сад». В центре его – гипсовый Ленин, покрашенный серебряной краской. Другой Ленин, чуть поменьше, но тоже серебряный – в садике у автобусной станции. Наконец, третий, опять-таки серебряный, но бюст – в центре самого монастыря.
25.8
Дорога на Ярославль. Автобус набит до отказа. Напрягаю мускулы рук и ног, чтобы удержаться в стоячем положении. Из-за убогих избенок выныривают вдруг фантастические, нездешние башни нефтеперегонного завода.
Умные марсиане захватили страну ленивых, темных людей. То ли марсиане не подпускают туземцев к своей технике, то ли техника и вся марсианская цивилизация туземцев вовсе не интересуют, но они живут себе по старинке в жалких деревянных избушках рядом с этими чудесами из алюминия и нержавеющей стали.
Ярославская художественная галерея. Надпись под картиной: «Неизвестный художник. Портрет неизвестного». Изумительная Корсунская богоматерь: огромный, тщательно выписанный лик с глазами, в которые страшно смотреть, и маленькая, прильнувшая к щеке матери, головка Иисуса.
Волга. Соответствующие эмоции соответствующей длительности и интенсивности. Хотя и не в первый раз ее вижу.
– Волга! Да-а-а, Волга! Неужто Волга?
Церковь Ильи Пророка. Фрески. Иконостас. Все вместе изумляет, подавляет, бросает в дрожь и успокаивает. Низ в полумраке, свет падает на столбы и на верхнюю часть стен. Своды тоже в тени. Зато роспись в куполах и на барабанах сияет как бы внутренним светом, отрываясь и улетая в поднебесье. И оттуда, с небес, грозно глядит Христос.
Церковь в Толчкове. Лес глав с луковицами. Колокольня-девушка (очень уж стройна и мила). Старушка-сторожиха: «Купола-то все золотые были, я помню. А теперь вот только пять. На остальные золота не хватило. Пропили небось. Да и то слава богу – церковь как новая!»
Пешком идем в Коровники. По немощеным пыльным улочкам бродят утки, куры, собаки и кошки. Иоанна Златоуста реставрируют, но не очень ретиво – деревянные леса уже совсем потемнели. Фотографирую. Подходит пьяный парень и спрашивает, почему церковные росписи, когда их замазывают, снова проступают сквозь известку. Рассказываю ему о фреске. Парень слушает, кивает головой. Произносит разнообразные междометия.
Обычная вечерняя неприкаянность в провинциальном городе. Остается только кино.
Путешествия по России утомительны. Много однообразно-неприятного: вечно переполненный транспорт, недостаток гостиниц, дурные дороги, неучтивость жителей.
Приблизительно так писали иностранцы, посещавшие страну в XVIII веке.
Для меня путешествия обременительны необходимостью почти все время быть на людях.
26.8
Садимся на старый смешной пароходик и плывем к Толгскому монастырю. Он стоит на берегу и издалека белеет стенами. Пароходик плывет медленно, и медленно растут эти стены с башнями и главы церквей над ними.
Сей памятник под охраной не состоит и существует сам по себе. Однако он выжил и даже неплохо сохранился. Его приспособили под жилье. Живут даже в крепостных башнях, расширив амбразуры и превратив их в окна. К монастырю примыкает колония для малолетних преступников, и все монастырские жители работают в этой колонии.
Монастырский собор велик и строен, со многими галереями и пристройками. Стекол в окнах нет. Снаружи видны остатки росписей XVII века. Стены собора в толстых трещинах.
Из ворот монастыря видна Волга и высокий правый берег с березовой рощей. Другие ворота выводят в поле: пыльный проселок, несколько старых ив у обочины и синий лес вдалеке.
День неяркий. Солнце за неплотными облаками. Волга гладкая, светлая. Кое-где мерцает рябь. На горизонте растворяется в дымке прозрачный железнодорожный мост.
Вспомнил ежа. Собственно, это был еще не взрослый еж, а ежонок. Вечером, накануне отъезда из Симеиза, сидели на скамеечке в парке. Ежонок, не торопясь, прошел мимо нас по аллее. Я взял его в руки, поднес к фонарю и разглядел. На вид он был обыкновенным, но появление его показалось мне странным. Конечно, это был не ежонок, он только притворялся ежонком.
29.8
Ночная Москва.
Около Энергетического института стоит автобус – студенты собрались за грибами. Корзинки всех сортов и размеров. На углу – скучающий негр. Руки засунуты в карманы. Ему хочется развлечься, но лень ехать в центр. Да и поздно.
Пустой эскалатор метро. Внизу на платформе две парочки в обнимку, третья спряталась в нише. Поезда долго нет – ночью поезда неторопливы.
Опять пустой эскалатор. Опять парочки в тех же позах.
Совершенно пустой ярко освещенный подземный переход. Странно – столько света для меня одного!
На улице Горького все прохожие – иностранцы. Москвичи уже спят.
Несколько машин у перекрестка ждут зеленый свет. Но никто не пересекает им дорогу. Светофор работает автоматически.
Двое пьяных, согнувшись, пристально разглядывают витрину винного магазина.
Фонари горят вполсвета. Ярко светятся изнутри автоматы газированной воды, образуя два редких пунктира по обеим сторонам улицы.
Свернул за угол. Еще парочка. Он целует ей шею. Она откинулась назад, глаза закрыты. Пахнуло сладкими пряными духами.
30.8
С. сказал: Алексееву не хватает только одного – красивой трагической биографии.
Разговор с А. О «ленинградской» и «московской» школах в нынешней поэзии (типичными представителями первой А. считает Бродского, Горбовского и меня, второй – Коржавина, Самойлова и себя), о вреде поклонения факту и правомерности мифотворчества, о том, что надо идти от мироощущения к предметному его выражению, а не наоборот. Читал ему свое последнее. Он слушал напряженно и был взволнован.
Неловко, когда тебя хвалят в глаза.
Устал от Москвы. Хорошо, что живу в Питере. В столице я бы измызгался, затаскался. Первопрестольная полезна мне в малых дозах.
6.9
Снова дача. Срубили сосну, что росла у самого крыльца. Срез пня сразу покрылся смолой. Будто кровь выступила. Загубили живую душу.
Филимоныч растолстел и зазнался. Ужасно стал важный.
8.9
Времена меняются. Когда-то на табличках в скверах писали: «Ходить по газонам строго воспрещается!» или «По газонам не ходить! За нарушение – штраф!» А теперь пишут: «Просим по газонам не ходить».
С величайшим наслаждением перечитал «Родину электрификации». У Платонова детская свежесть языка, как чудо. А слова все старые.
9.9
Касса в гастрономе. Кассирша сидит высоко, и лица ее в окошечке не видно. Видна хорошая высокая грудь в шерстяной, плотно облегающей кофточке. Грудь подрагивает, шевелится. Грудь говорит приятным низким голосом: Ваших три рубля! Не найдется ли у вас копеечка? Платите, следующий!
10.9
Гейне мне близок. Ирония и сюжетность, парадоксы, вульгаризмы, трагическое в комическом и комическое в трагическом.
Днем не могу сидеть дома. Все кажется – там, на улицах, на набережных происходит нечто ужасно важное, что нельзя пропустить.
Волки всегда пожирали агнцев. Волки пожирают агнцев. Волки будут пожирать агнцев. Но всех никогда не съедят. А если съедят – сами передохнут с голоду.
Эти рассуждения не помогают. Я не могу глядеть на волка, перегрызающего горло агнцу. Мне хочется убить волка.
Стараюсь писать для себя. Но все выходит будто напоказ. Сегодня содержательный день. Думаю, вспоминаю, сопоставляю, оцениваю. Сегодня я высоко.
Пора искать новые тропы. Вечная борьба с инерцией.
11.9
Все больше и больше я становлюсь похожим на мечтателя из «Белых ночей». Пассивность моя неизлечима.
Созерцаю закаты, облака – безоблачные закаты и закатные облака, – созерцаю отражение рекламы в мокром асфальте и красивых женщин в автобусах. Я выбрал роль созерцателя. Так легче. Но не так уж и легко. Все эти мучения с совестью осточертели.
Будет еще тысяча прекрасных закатов с облаками и без них. Будет еще десять, двадцать, тридцать апрелей и не меньшее количество ноябрей. Но количество не перейдет в качество. Из состояния равномерного движения меня могут вывести только какие-то особые выдумки фортуны, а она у меня не отличается изобретательностью.
16.9
Гитлеровские сборища всегда были великолепно организованы. Это впечатляло. Это доводило рядового немца до сладких возвышенных слез, до верноподданнического исступления.
Пишу дневник, ловлю время решетом. Будто потом можно будет, перелистав тетрадки, снова прожить эти годы.
Только сейчас я начинаю понимать, что такое – искусство, как оно делается.
Этикетка тройного одеколона осталась такой же, какой она была в 80-х годах, быть может, даже до революции. Глядя на эти завитушки в стиле «модерн», я вспоминаю детство, вспоминаю старые петербургские квартиры, полутемные комнаты с высокими потолками, с громоздкими шкафами и буфетами, с каминами и картинами Клевера в тяжелых золоченых рамах. Меня тянет назад, в тот совсем другой город середины тридцатых годов, не потерявший еще запаха начала века. Я выхожу на улицу, сажусь в автобус и еду куда-нибудь на Петроградскую сторону, на Каменноостровский проспект. Захожу в старые парадные, подымаюсь по лестницам и любуюсь остатками витражей в стиле «модерн».
21.9
Всякие попытки заменить «гуманизм вообще» гуманизмом для кого-то ведут к преступлениям и к оправданию их. Всякая теория, всякая идеология, основывающаяся на отказе от общечеловеческих представлений о человечности, так или иначе оправдывает насилие и служит ему.
23.9
Туманный день. Дворцовая набережная.
Вдруг – оглушительный выстрел. Оттуда, из тумана. И сразу – громкий бой часов. Потом – гимн. Колокола играют его медленно, неуверенно, будто припоминая мелодию. Призрачный гимн из тумана.
Вдали – гудящий мост. Силуэт его виден, но машины, идущие по нему, незаметны. Будто гудит сам мост.
Первые костры осени. Липы только еще загораются, но клены уже неделю полыхают оранжевым пламенем.
Можно писать стихи только осенью и только про осень, и сказать все. Потому что осень – это не только то, что есть, но и то, что было и что будет. У осени есть опыт весны и лета. И она понимает, что такое зима. Пушкин не зря любил осень. А осень знала, с кем имеет дело, и была с ним откровенна.
День неестественно тихий. Михайловский сад будто опущен в банку со спиртом – ни один листик не шевелится.
У Зимнего дворца идет высокая стройная женщина с красивым гордым профилем и роскошными рыжими волосами. На тротуаре играют мальчишки, им лет по десяти. Один из них подбегает к женщине и громко спрашивает: «А вы не Екатерина Вторая?» Его приятели хохочут. Женщина делает вид, что ничего не слышала. Всё вместе – великолепно. (Непридуманное стихотворение.)
Внимательно и с удовольствием перечитал «Неумолчную поэзию» Элюара.
Вода в канале неподвижна. Она гнилая. Кажется, что она уже настолько засорена всякой мерзостью, что потеряла способность двигаться.
Вдруг из-под моста выныривает милицейский катер. Он разрезает эту тухлую воду, вспенивает ее и бросает на каменные стены набережной. Волны бьются о гранит с глухим злобным стуком. Волны подбрасывают вверх мусор, будто канал, пробудившись, хочет очиститься, будто он вспомнил о своем достоинстве, о том, что он сродни океану. Но это ненадолго. Вода успокаивается. Ее поверхность снова покрывают белесые разводы плесени со сгустками нечистот. Зловоние усиливается.
В конце своей автобиографии я мог бы написать: жизнь всегда была для меня процессом болезненным, потому что я относился к ней слишком серьезно, гораздо серьезнее, чем она заслуживает.
26.9
Юрий Домбровский. «Хранитель древностей». Хорошая сюрреалистическая литература. Пожалуй, лучшее из написанного о 37-м годе. Кафка превращал действительность в сон, а Домбровскому ничего не надо превращать. Действительность 37-го года страшнее любого сна. Алогичность самой реальности выглядит здесь как художественный прием.
Конец повести – тяжкий кошмар, когда хочешь проснуться и не можешь, когда кричишь – и не слышишь своего крика. Ощущение полнейшей беззащитности перед огромной темной силой, надвигающейся неотвратимо.
Все люди-то спят,
Все звери-то спят…
Отдай, старуха, мою лапу.
5.10
Лермонтовский юбилей.
Как умудрился этот чернявый юнкер с усиками стать великим поэтом?
Испытываю панический страх перед всякими канцеляриями, перед секретаршами директоров с их бесчисленными телефонами, перед бухгалтериями и главными бухгалтерами, перед всеми людьми, которые удостоены права подписывать бумажки и с которыми должно быть предельно вежливым, чтобы не отказались подписать.
Мои темы, как планеты вокруг солнца, вращаются вокруг «бренности бытия». Я прилип к экзистенциализму, как банный лист к заднице.
В автобус вошла девушка в туфлях на «шпильках». На один каблук накололся желтый кленовый лист. Девушка не замечает, и хорошо. Придет домой – рассмеется.
Сад отдыха. В павильоне Росси стоит гроб, заваленный цветами. Ходят люди с красными повязками на рукавах. У входа толпится человек двадцать. Тихо разговаривают об усопшем. Я не знаю, кто он.
Падают листья. Рядом шумит Невский.
7.10
В столовой, что на углу Садовой и Вознесенского проспекта, работала пятнадцати-четырнадцатилетняя девочка, тощенькая, с длинными ногами и жиденькими косицами. Она убирала со столов посуду.
Теперь она уже сидит за кассой. Подрисованные глаза, заграничная кофта, уверенный голос, уверенные движения чистых белых рук.
Девочка сделала карьеру.
9.10
Женя М., я и Женин сосед Вася Ходорка.
Вася выпивши. Через каждые пять минут он просит извинения и прочувствованно жмет нам с Женей руки. Через каждые десять минут в комнату входит его жена с немецким догом. Она просит Васю не срамиться, уйти и не мешать. Вася нарочито громко орет на жену и выставляет ее вместе с догом за дверь.
Вася показывает мне свою трудовую книжку – ее он всегда носит с собой, чтобы жена не знала, какая у него зарплата. Потом он уходит, но скоро возвращается и предлагает нам с Женей «раздавить полбанки». Мы отказываемся. Он еще раз предлагает, мы еще раз отказываемся.
– О, Гена! Прости меня! – говорит Вася с театральным пафосом, – Прости меня, Гена! Мне обидно! У тебя будет такое впечатление, что Ходорка пьяница. А Ходорка не пьяница! Ходорка – хороший парень! Женя, скажи ему, правда ведь, я – хороший парень? Прости меня, о, Гена! Гуд бай, Джонни! Гуд бай! Экскюз ми!
Вася знает несколько английских слов – его научил Женя.
Вася – литейщик. Окончил 6 классов. В юности был карманным вором. Несколько раз сидел. Теперь честно зарабатывает свой хлеб.
Когда мы с Женей вышли в прихожую, Вася стоял в дверях своей комнаты. Он смотрел куда-то вдаль, и на его лице не было никакого выражения. Шагнув ко мне, он покачнулся и упал навзничь. Вышла Васина жена и сказала: «Не подымайте, пусть полежит!»
Уходя, я обернулся: Вася лежал неподвижно, над ним сидел немецкий дог.
15.10
У отца второй инфаркт. Его опять положили в больницу.
16.10
Хрущев отстранен. «В связи с преклонным возрастом и ухудшением здоровья».
Что день грядущий нам готовит?
Китайцы взорвали первую атомную бомбу.
18.10
Иногда, когда со стен старых домов отваливаются куски старой штукатурки, на свет божий вдруг вылезают надписи с того света: «Гофман. Торговля аптечными товарами», «Бакалейный магазин братьев Носовых» и тому подобное. Тогда становится очевидным, что история – не миф и этот город действительно назывался когда-то Петербургом.
19.10
Начало путешествия.
Старый седой шофер говорит о Хрущеве:
– Сколько денег спустил! Мы работали, а он по заграницам разъезжал. Каждый день приемы – завтраки, обеды, ужины. По телевизору показывали – чего только на столе нет! Ну ужинали бы себе там потихоньку, а то ведь еще нарочно показывают! Зачем? Попробовал бы он пожить на сто двадцать рублей! Кабы я был председателем совета министров, я бы себе больше двухсот в месяц не платил, ей-богу!
– А на выпивку?
– Я бы подхалтуривал помаленьку!
Смеемся.
Остановились у железнодорожного переезда – закрыт шлагбаум.
– Как это раньше строили? – сказал Женька. – Вот, например, эту насыпь? Тачками ведь землю возили! Сколько же надо было возить?
– Не тачками, а на телегах, – сказал шофер. – Знаешь, сколько лошадей было в городе? Тыщи! И какие! У Сорокина битюги мясо возили. Все в сбруе с кистями до земли. Не битюги – слоны! Раньше любую тяжесть лошади брали. Иные тянули тонн до пяти. А одна не утянет, так несколько запрягали. Видел я однажды – везли колокол для колокольни Иоанна Предтечи, что на Обводном. Десять пар цугом. И один возчик. По всему городу. Красота! А теперь лошадей почти нет – какие уж тут лошади!
Сидим в Ту. Посадка окончена, ждем взлета. Неподалеку сидит пожилая, бедно одетая женщина с потертой сумкой из искусственной кожи. Она робко озирается по сторонам, потом говорит, ни к кому не обращаясь: «Я в Душанбе. Далеко. Первый раз на самолете-то, – смущенно улыбаясь. – Из деревни я. К невестке еду. В Душанбе».
Все наперебой объясняют ей, что будет дальше: как самолет будет разворачиваться, как он будет взлетать и что может случиться в дороге (о пакетике из плотной бумаги). Она внимательно слушает, кивает головой, вздыхает.
Наконец взлетаем. Женщина сидит неподвижно и напряженно смотрит в одну точку. Ей предлагают взглянуть в окно.
– Ой, боюсь я! – отказывается она. – Не буду глядеть! Страшно!
Набираем высоту, врезаемся в облака, пронизываем их и забираемся выше. Облака сверху – как холмистая белая пустыня. Кое-где над ней возвышаются округлые белые башни. Перед иллюминатором – крыло. Оно совершенно неподвижно, на нем ничто не дрожит. Трудно представить, что мы несемся со скоростью 900 километров в час. Лишь иногда конец крыла чуть-чуть покачивается.
Пожилая женщина уже смотрит в окно. В ее тусклых глазах нет ни страха, ни удивления. Ей не любопытно. Она сосет конфету и бережно прижимает к груди свою сумку.
20.10
Раннее утро. Ташкентский аэропорт. Горьковатый запах пыли и сожженной солнцем травы. Узбеки в чалмах и тюбетейках, киргизы в лисьих шапках. Пирамидальные тополя. Синие горы на горизонте. Я возвращаюсь в свое отрочество.
Едем в город.
Пыльная серая зелень. Одноэтажные белые дома. Арыки с мутной водой.
Оперный театр. Нас пускают внутрь и показывают интерьеры (для ленинградцев открыты все двери). Изумительная резьба по ганчу. Архитектура середины прошлого века. (Строительство театра закончено после войны.)
Три часа дня. Аэропорт Навои (маленький белый домик на краю большого рыжего поля). Блеклое выгоревшее небо. Первозданная тишина Азии.
21.10
Показываем эскизы высокому начальству.
Директор комбината Зарапетян – восточный мужчина царственного облика. Он здесь самый главный – вроде эмира бухарского. Он здесь владыка. Органов советской власти в Навои еще нет (новый город-то).
Выслушиваем августейшую критику. Но в общем эскизы принимаются.
22.10
Утром к гостинице подъезжает маленький грузовичок. Залезаем в кузов и едем. Ехать холодно. Ветер свистит в ушах.
Останавливаемся в старом городе у продовольственной лавочки. Покупаем вермут и пьем его тут же, расположившись на пыльных ящиках. Перед нами неподвижно стоит подросток-узбек в халате и в тюбетейке. Он молча внимательно нас разглядывает.
Едем дальше.
Пустыня. Вдалеке – горы. Среди пустыни стоит портал со стрельчатой аркой. Рядом большой купол, до половины засыпанный песком. Это все, что осталось от знаменитого караван-сарая Рабат-аль-Малик, построенного в двенадцатом веке. Еще до войны здесь стояли высокие стены. Их уже нет.
Оазис. Тутовые деревья. Хлопковые поля. Задумчивые ишаки под деревьями. Останавливаемся и спрашиваем у старика-узбека о дороге на Хазару. Узбек со всеми здоровается за руку и говорит: «Салам!» Мы по очереди отвечаем: «Салам!»
Хазара. Мавзолей. XIII век. Несколько куполов. Никаких украшений. Внутри – только узорчатая кирпичная кладка. Кирпичи плоские, желтые. Неподалеку от Мавзолея – могила местного святого. Небольшой купол и стрельчатая ниша. На длинном шесте болтается белая тряпица – знак святого места. Тут же колодец. Я наклоняюсь над ним, и ремешок фотоаппарата соскальзывает с моего плеча. Гулкий всплеск глубоко внизу.
Раздеваюсь, обвязываюсь веревкой, и меня спускают в колодец. Ногами, спиной и локтями упираюсь в стенки. Достигаю воды, Она холодная. Опускаюсь в воду до пояса, потом до подбородка, но дна все нет. Погружаюсь с головой и ногой подцепляю ремешок аппарата. Меня вытаскивают. Отжимаю трусы и бегаю, чтобы согреться. Шофер нашего грузовичка говорит, что я герой. Если бы увидели местные жители, они убили бы меня за осквернение святыни.
Едем дальше.
Пересаживаемся на маршрутный автобус.
Опять бесконечные хлопковые поля с тутовыми деревьями.
Длинная очередь машин с хлопком у приемного пункта.
Наконец – Бухара.
Узкие улочки с глинобитными домами без окон. Женщины в ослепительно ярких разноцветных платьях. Бородатые узбеки в синих и белых (вернее, серых) чалмах на маленьких, покорно семенящих ишачках. Перекресток нескольких улиц, перекрытый большим куполом. Под куполом множество мелких лавчонок. Продают всё – от пряников до мотоциклов.
Мечеть Калям. Минарет тринадцатого века. Зеленый глазурованный купол. На куполе гнездо аиста. Великолепный двор с аркадами. Он приспособлен для торгового склада: ящики, автомобили, мотоциклы. Маленькая рыжая кошка без задней ноги. Подошла и, мурлыкая, стала тереться о мою щиколотку. Снаружи у стен мечети – базар. Горы дынь и арбузов. Ишаки на привязи. Арбы с гигантскими колесами.
Старинный бассейн в тени деревьев.
Ночное шоссе. Ослепляющий свет фар встречных машин. Вырываемые из мрака деревья.
Черная пустыня под звездным небом. Далекие огни на горизонте. Они медленно приближаются.
23.10
Нас провожают человек десять. В буфете сдвигаем три столика вместе. Появляются зеленые бутылки с «московской». Водка теплая, противная. Закуска – знаменитый жареный усач – необычайно вкусная рыба.
Пьяные крики и тосты. Наши вещи тащат к самолету. Последние объятия и рукопожатия.
Взлетаем. Внизу узор дорог и арыков.
Милая стюардесса Тамара. Мы влюблены в Тамару все эти полтора часа.
В Ташкенте пересаживаемся на Ил-18.
Снова в воздухе. Высота – 7 километров. Самолет трясется мелкой дрожью. В окне крупные звезды.
Просыпаюсь от голоса стюардессы: «Внимание! Самолет идет на посадку. Просим не курить и пристегнуть ремни. Посадка будет произведена в аэропорту Домодедово».
Полночь. Ждем автобус. Перед зданием аэропорта шоферы такси от скуки бьют двух пьяных. Бьют не очень зло, вполсилы, с хохотом.
Приходит милиционер, хватает пьяных за руки и ведет их куда-то по пустынной площади. Милиционер тщедушный, низкорослый, а пьяные – дюжие парни, но они не сопротивляются власти.
25.10
Читал у А. Возник спор. Вторглись в философию, дошли до высот. То и дело хватали мою книжку и читали куски для иллюстраций. Я не спорил, наблюдал.
Познакомился с Юрой Д. Он очень симпатичен. И умница.
«Русское кафе» на Мясницкой. Пусто. Играет музыка. Окна запотели – улицы не видно. Выпил стакан вина – стало тепло и весело. Стало ясно, что все не напрасно, что все именно так и должно быть. У швейцара роскошная черная борода. Его зовут Сергей Иванович. Подавая мне пальто, он сказал: «Сегодня вы первый! Счастливым будете!»
Кафе «Марс» на улице Горького. У входа – милиционер и две дружинницы с красными повязками на рукавах. Заведующая в белом халате прохаживается между столиками и внимательно следит за посетителями. Идет борьба с распитием приносимого с собой спиртного.
И вдруг – бунт. Посетители возмутились. Толпа окружила милиционера, дружинниц и заведующую: безобразие! Оскорбление человеческого достоинства! Мы не арестанты!
Одна из дружинниц, деликатная на вид девица, сказала басом: «Жрали бы водку дома и дрыхли с женами! А здесь общественное место!»
Спор с П. о сущности счастья.
– Я – счастливый человек! – заявляет П. и объясняет, почему он счастливый.
– А у меня жизнь не удалась! – заявляю я и объясняю, почему не удалась.
В конце спора мы пришли к выводу, что оба счастливы: П. – своим счастьем, а я – своим несчастьем.
27.10
У С. Сегодня ровно 15 лет, как он был арестован. Он помнит тот день до мельчайших подробностей. Он смотрит на часы и говорит, что с ним было в этот час 27 октября 1949 года.
О моих стихах С. сказал: «Это настоящее, хотя лет восемь тому назад я бы так не думал».
В пустом автобусе едем с Женькой в Шереметьево. Пустой ночной аэропорт. В самолете тоже пусто (неудобный поздний рейс).
Элегантная, надменная стюардесса произносит стереотипные фразы. Взвывают моторы. Сигнальные огни за окном мелькают все быстрее и быстрее. Опять внизу ночная Москва. Через минуту она превращается в россыпь далеких тусклых звезд. Через пять минут она исчезает. Под крылом появляется серп луны. Включаю лампу и читаю воспоминания Эренбурга о Нюрнбергском процессе.
Крыло за окном иногда немного опускается, и луна подскакивает вверх. Стюардесса разносит бокалы с минеральной водой.
«Прежде были в ходу слова “совесть”, “добро”, “человеколюбие”. Потом они всюду вышли из обихода».
Я смотрю на рыжие, тщательно уложенные волосы стюардессы, и мне хочется, чтобы самолет не приземлялся, чтобы он улетел куда-нибудь подальше, чтобы произошла ошибка и нас унесло бы ко всем чертям – к звездам, к туманностям, в пустоту и холод, унесло бы вместе с этой девкой в голубом костюме, в голубых чулках и голубых туфлях – леший с ней! Лишь бы не приземляться!
Самолет делает круг над Ленинградом. В отличие от Москвы, огни располагаются здесь по прямым линиям. Эти лучи перекрещиваются, соединяются в пучки и длинными стрелами уходят в темноту.
Снова красные сигнальные огни. Толчок. Торможение. Голос стюардессы: «Наш самолет приземлился в ленинградском аэропорту! Температура воздуха плюс восемь градусов. Прошу не вставать до полной остановки!»
29.10
Художники рисуют портреты вождей по специально утвержденным фотографиям. Никаких отступлений от эталона не допускается. За портрет маслом размером один метр на полтора платят 200 рублей.
Все портреты Хрущева исчезли. Имя его в печати и по радио не упоминается. Нет и не было никакого Хрущева. Был сон, мираж, галлюцинация. Хрущев развеялся, как дым.
Профессор Пилявский ездил в Ташкент на защиту диссертации. Защиту отложили, потому что в диссертации были выдержки из речей Хрущева.
И нет в народе никакого недоумения, никакого ропота. С равнодушием и покорностью подчинился он новым властителям.
Говорят, однако, что в ночь переворота на улицах столицы появились танки.
4.11
Солнце и ветер. Вода на заливе почти черная с частыми белыми барашками волн. Чистый четкий горизонт.
Обеденный перерыв – час. На час я погружаюсь в фантасмагорию Петербурга. Мойка, Фонтанка, Крюков канал. Чугунные решетки, мосты, брандмауэры, крыши, заваленные дровами дворы, пронзительные сквозняки в подворотнях.
Стою на Измайловском и разглядываю проезжающие мимо такси. Солнце низкое, и внутренность каждой машины хорошо освещена.
Парочка на заднем сиденье. Она красивая, лет тридцати, с ярким ртом. Он хлыщеватый, с черными усиками и бачками. Она положила голову ему на плечо.
Трое мужчин, видимо, выпивши. Двое помоложе – сзади, а пожилой с бородой – рядом с шофером. У всех красные лица. Хохочут. Бородатый сидит боком, положив руку на спинку сиденья.
Один сзади. Спит, уронив голову на грудь.
Три девицы с волосами разного цвета. Курят. Шофер преклонных лет. Хмурится. Девицы ему явно не нравятся.
5.11
Извечное убожество русской провинции. Провинцию видно за версту, провинцией несет за три версты.
Издали поэмы Мартынова в Новосибирске. Паршивая газетная бумага, слепой мелкий шрифт, неровная бедная печать.
А Новосибирск – столица Сибири.
6.11
Город украшают к празднику.
Л. В. сказала: «Не знают, кого вешать! Вешают одних космонавтов! Везде: голубок – космонавт, голубок – космонавт. Никакого правительства я не разглядела».
Женя М., Галя Н., я, Вася Ходорка и немецкий дог. Дог не пес, а псица. Зовут его (ее) – Манон.
Вася читает Есенина. Читает с чувством. Есенин ему очень нравится.
– Вася, скажи нам что-нибудь о жизни, – просит Женя.
– О, Джонни! – говорит Вася. – Зачем говорить о жизни? Ясное дело – жизнь хреновая!
Меня провожают Женя, Галя и Манон. Идет снег. Первый снег. Манон в восторге.
7.11
На душе тяжко, гадко. Весь я какой-то липкий, пакостный.
Снилось начало войны.
Я и еще кто-то на пыльном чердаке. Ждем, когда нам привезут оружие и противогазы. Началась газовая атака. Все зажимают руками рты и глаза. Из-под груды старого хлама я вытаскиваю какой-то допотопный противогаз, напяливаю маску на лицо и усиленно дышу. Вдруг замечаю – на конце гофрированной трубки ничего нет. Меня пронизывает страх, и я просыпаюсь.
Меня тянет к балалаечно-гармонной, истерично-веселой, пьяно-разухабистой Руси. Чтобы во весь дух скакали тройки, чтобы неистовствовали скоморохи, чтобы румяные девки орали частушки, визжали и трясли грудями в угарном плясе.
Довести веселье до абсурда, превратить его в кошмар. И чтобы где-то в сторонке тонко и жалостно играла жалейка, чтобы голос ее в самом конце, когда вдруг смолкнет весь этот гам и визг, еще звучал одиноко и отрешенно.
13.11
Еще сон.
Живу в общежитии. Портфель мой рыжий стоит между тумбочкой и кроватью. Пришли какие-то парни и потащили меня в соседнюю комнату. А там безобразие – там все голые. Девицы в соблазнительных позах – улыбаются, манят. Одна подошла близко. Мне и противно, и любопытно. И вижу я за плечом девицы в окне – двор, и во двор въезжает красная пожарная машина с пожарниками. Я отталкиваю девицу и бросаюсь к двери, но поздно – пожарники врываются в комнату, и начинается расправа. Кого-то в углу мучают, требуют, чтобы он все рассказал. Как мучают, не видно, но что-то там страшное на полу – то ли кровь, то ли мозги. Меня держат за руки, но я вырываюсь, бегу в свою комнату, раскрываю портфель, выхватываю оттуда пачку своих стихов и пытаюсь выбросить их в окно. Листочки рассыпаются по полу, и я понимаю, что все погибло…
Пиво приятно пить на улице у ларька. Чтобы на кружке была шапка пены, чтобы можно было ее сдуть на землю и пить маленькими глотками, наблюдая за прохожими, за машинами, поглядывая на облака и на клубы дыма, извергаемые трубами соседней фабрики.
Новая книжка Вознесенского. Умение ходить по лезвию ножа. Правда, лезвие не очень острое.
Но я и по такому не прошел бы. Порезался бы.
Нечаянно наступил на ногу студенту-негру. Он громко вскрикнул, и в глазах его мелькнул животный страх. Будто его собрались линчевать.
17.11
Еще сон. Вещий.
Выхожу на кухню. Майка сидит за столом – завтракает. Шторы раздвинуты, и видно, что небо кровавое – тяжелая багровая туча висит над домами.
– Видишь – кровь! – говорит Майка. – На улице ужасно холодно. В очередях стоят мертвецы, стоят, будто живые – к земле примерзли. Теперь нам конец. Допрыгались!
«Почему же туча не замерзла? – подумал я. – Или это такой красный снег? Интересно!»
А вечером отца увезли в больницу.
19.11
Документальный фильм «Суд народов». Сделан в 46-м, доделан в 63-м.
Эренбург прав. Эти люди не могли совершить столь грандиозные преступления. Они были слишком заурядны. Но незаурядные люди тоже не могли бы.
Что это? Проявление жестокого биологического закона? Искупление прошлых грехов? Плата за будущее благоденствие? Или просто хулиганский плевок истории в лицо человечеству?
Неоновая реклама колышется в черной глубине Мойки. Над ней круги от редких капель дождя.
23.11
Сонливость поздней осени сменилась резвостью молоденькой зимы. Морозец. На Неве уже лед. Машины мелодично звякнули в кармане.
Сел в трамвай, поехал, куда глаза глядят.
Вышел. Подошел к пивному ларьку. Продавщица откупоривала пивную бочку – попросила помочь. Помог. Выпил кружку теплого пива. В голову полезли теплые, уютные пивные мысли.
Новые ботинки на снегу выглядят ужасно черными, Всю жизнь стеснялся ходить в новом – казалось, что все на меня смотрят и усмехаются.
Снег идет хороший, лохматый.
29.11
Вдруг вспомнили обо мне в Доме писателей – прислали приглашение на поэтический вечер.
30.11
Завидую оптимизму Гали Н.
– Я бы им показала кузькину мать! Они бы у меня побегали!
Лежит веселая – болеет. Рассказала, как не поняли Горбовского в Горном институте.
– Разве это студенты? Кретины!
Эта осень – юбилейная. 10 лет моей «литературной деятельности». Все началось в октябре пятьдесят четвертого. В конце пятьдесят седьмого у меня уже что-то вытанцовывалось.
1.12
Церковь на Сенной площади погибла. Пытались спасти. Писали письма. Но напрасно.
В ночь, когда ее взрывали, пришла депеша из Москвы – не взрывать! Конверт вскрыли только утром.
Красивая была церковь. В ней венчался Достоевский.
4.12
Одиночество тоже требует таланта. Редко кому удается быть по-настоящему одиноким, утонченно, изысканно одиноким.
Романсы Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова вызывают во мне видения золотого века. Все чисто, возвышенно, светло. Даже грусть в них не печалит.
7.12
Фашизм был движением низов. Его идеология питалась звериными инстинктами толпы. Культ силы – это религия ничтожеств.
«Таракан, догадавшись, что ему не найти другого корма, начал кусать человека». И началась «эпоха воинствующей глупости».
Есть мрачный пессимизм и веселый оптимизм. Но есть веселый пессимизм и мрачный оптимизм.
Хочется писать наивные восторженные стихи о природе и о любви.
Самое смешное, что по натуре я отнюдь не созерцатель, я лишь хочу убедить себя в этом.
Читаю мемуары Эренбурга. Он ничего не принимал всерьез. Он жил. Как в театре. Часто шли страшные пьесы. Теперь он вспоминает об игре актеров.
Г. сказал мне: «Твои стихи – твое личное дело, а Вознесенский даже поэмой “Лонжюмо” утверждает добро».
Маниакальное желание заглянуть в замочную скважину той комнаты, где история хранит свои тайны.
Великий парадокс демократии: в ее утробе всегда есть эмбрион тирании. И так было во все времена.
12.12
Сон.
В храме Василия Блаженного все росписи заклеены обоями. Священник служит обедню, а перед ним на паркетном полу танцуют разные «бывшие» люди – царские офицеры, чиновники, аристократы, купцы. У всех усталый, потрепанный вид – погоны потускнели, фраки помяты и засалены, манишки грязные. Танцуют они с удовольствием. Танец какой-то старинный, мне неизвестный. Кто-то говорит: «Отводят душу! Каждую неделю тут собираются и вспоминают прошлое. Жалко их. Тоже ведь люди!»
16.12
А. М. представил мне иракского студента, который, не закончив первого курса, уехал на родину и вернулся через два года. Холеное лицо, черные тонкие усики, белоснежная нейлоновая рубашка, модный вязаный жилет, золотые запонки, золотая булавка в галстуке, золотой перстень на пальце.
Придя домой, я посмотрел на себя в зеркало.
Несвежая рубашка с потертым воротничком и с бахромой по краю манжет, плохо выбритая шея, мятые брюки с пузырями на коленях, старые, обтоптанные в автобусе туфли.
Где-нибудь в Багдаде на улице тот студент сунул бы мне мелочь в ладошку.
Говорят, что он ездил в Ирак расстреливать коммунистов.
19.12
Внешняя гладкость моего существования умилительна.
<…>
21.12
В первые месяцы войны коменданты колымских лагерей по собственной инициативе расстреливали заключенных. Этим они хотели доказать себе и прочим, что участвуют в общей битве.
А по фронтам метался на самолете военный трибунал, приговаривавший к расстрелу генералов, дивизии которых крошились под гусеницами немецких танков. Генералов перестреляли немало.
25.12
Пантомимы Марселя Марсо похожи на мои стихи. Те же истоки, та же природа эстетики.
От подчеркнуто частного, курьезного, к безграничным обобщениям. И конечно, символика.
29.12
Покупка фотоаппарата. Комплекс всяческих ощущений. Нетерпение. Предвкушение удовольствия. Разочарование (при неудачных поисках в магазинах). Радость находки. Опасение (вдруг неисправен!). И, наконец, радость обладания.
Аппарат красивый, блестящий. Его приятно держать в руках и поглаживать.
30.12
Опять человек с мокрыми красными губами. Позвал меня в деканат и сделал выговор:
– Вы демонстративно не являетесь, когда вас вызывают на партком! (В голосе его звенел металл.) Демонстративно!
Предпраздничная суета на улицах. Тащат елки. Тащат бутылки в сетках.
Сегодня хоронили студента, который упал в пролет лестницы с седьмого этажа (выпил и стал валять дурака). В институте аврал. Ректора ругают в обкоме. Ректор ругает своих подчиненных. А никто, собственно, не виноват. Просто несчастный случай.
1965
2.1
Зимний лес. Графика зимних пейзажей. Тишина и шорохи. В пять уже стемнело. Гуляли по лесу с фонариком. Небо светится каким-то внутренним светом (луна за облаками).
Вчера, слушая Д., я снова думал о своей промежуточности. Мне повезло.
Спокойствие, презрение к мелочам, и никаких уступок. Покончить с желанием нравиться. Быть собой, и только. Научиться жить без надежды.
3.1
Ночью долго не могли заснуть. Я лежал на спине и держал на груди транзистор. В его маленьком теле возникали таинственные звуки. Планета говорила и пела на разных языках.
О Маяковском (обрывки ночных мыслей). Всю жизнь он старался удержаться на волне, охотился за популярностью. Вся жизнь его была саморекламой. Сколько безвкусицы в его эстрадном юморе, в этом острословии по пустякам! Сколько сил потратил он на создание нелепого гибрида поэта и балаганного зазывалы! Сколько хороших вещей он мог бы еще написать, если бы не эти бессмысленные издержки производства!
6.1
И. Н. Пунина вернулась из Италии. Она сопровождала Ахматову. В облике И. Н. появилось что-то новое, некая «печать заграницы». Анне Андреевне вручили премию «Этна Таормина».
8.1
Приехал к П. Спит, сжавшись калачиком. На столе пустая коньячная бутылка. В мастерской холодно, сумеречно.
Написал записку: «Приходил. Привет!» И ушел.
На площади долго смотрел, как убирают снег. Страшные машины глотают его, ритмично двигая чудовищными челюстями.
9.1
И все же Россию всегда спасали ее пространства, ее морозы и бездорожье.
Кутузов все понимал, но Наполеона победил не он.
Гитлер поздно начал. Если бы он начал в мае, неизвестно, чем бы это кончилось.
15.1
Р. спросил у Н. – не спивается ли Алексеев?
– Вроде бы еще нет, – ответила Н.
Я редко прихожу в редакцию к Р. Но каждый раз немного выпивши. В трезвом виде мне почему-то не хочется идти в редакцию.
19.1
Написаны горы книг, где авторы, побуждаемые добрыми намерениями, говорят полуправду. Романы, стихи, книги об искусстве, об истории и т. п. Выработалась своеобразная манера, некое подобие эзопова языка. Потрачена масса времени, сил, изобретательности на эту иносказательность и недосказанность. У Бурова, например, длиннейшие и эффектнейшие рассуждения о вреде академизма, о его мертвенности, нелепости и антихудожественности. И будто бы даже конструктивизм тут виновен – слишком-де был современен! А дело выеденного яйца не стоит. Правду можно было сказать в одной фразе. Для полуправды потребовалось написать книгу.
20.1
Мир Академии художеств. Академические коридоры. Академические лестницы. Академические уборные и изразцовые печи с вазами по углам. Бородатые парни в свитерах. Девушки в черных чулках – курят. Не просто современные, но индивидуально современные – у каждой есть во внешности нечто специально изобретенное: необычно подстриженная челка, яркий шарф на плечах, особый цвет губной помады…
В академии экзамены. Студенты томятся в коридорах у дверей аудиторий, судорожно листают книги. По углам плачут в промокшие платочки провалившиеся студентки.
Кафе в подвальчике напротив моста Шмидта. Окно на уровне земли. Видны животы проходящих машин. Интересно смотреть; как автобусы взбираются на горб моста и исчезают за ним, будто проваливаются в преисподнюю.
22.1
Первый раз приснилась Сюзи. Она замужем за военным. Остепенилась. У нее мальчик лет четырех, кудрявый, светловолосый, голубоглазый.
Стихи должны быть такими же голыми, как нынешняя архитектура. Конструкция их должна четко читаться. И никаких украшений. Поэзия мысли плюс поэзия рациональной конструкции, и все.
25.1
Новые стихи Евтушенко в «Знамени». Ужасно длинные. Главная тема – самобичевание.
27.1
Искусство всегда страдало от персонификации. Прекрасная вещь, созданная неизвестным, ценится меньше, чем неудача, подписанная знаменитостью. Картины «неизвестных авторов» заполняют провинциальные музеи. Но среди них попадаются шедевры.
29.1
«Проблема дураков» становится актуальной. Сытый, но не слишком умный молодой человек бесится – в утонченно-интеллектуальном веке ему предоставлена роль статиста, это его раздражает, он рвется на передний план и бьет посуду.
Пропасть между интеллектуалами и массой будет все расширяться. Кто знает, чем это кончится?
Атеизм – признак старости человечества. Все крупнейшие деяния людей в той или иной степени связаны с религиозным чувством. Древнеегипетская живопись, готическая архитектура, крестовые походы, французская революция, русский раскол – великое искусство, блистательные войны, страстная самоотверженность.
Скепсис бесплоден.
Атеизм толпы ужасен. Но какого бога можно ей предложить? Мао Цзэдуна? Рядом с Христом и Магометом он как-то не смотрится.
Фанатизм толпы тоже ужасен. Китайцы дичают на глазах.
2.2
Временами я наполняюсь отвращением, как ведро – помоями, отвращением к своей комнате, к книгам на полке, к культуре, к истории, к будущему, к людям и к самому себе. Помои надо вынести, надо выплеснуть их в помойную яму, но мне противно браться за поганое ведро, и оно долго стоит и смердит.
Но временами же встречаешь на улице девушку лет восемнадцати в скромненьком пальтишке с дешевеньким мехом. Стоит она у витрины и разглядывает какой-нибудь лифчик с кружевами. В лице у нее такой интерес, такое увлечение, что становится завидно и удивительно, становится ясно, что все можно начать сначала, с лифчика – еще не поздно.
Эрмитаж.
Две девочки лет по пятнадцати в зале Ван Дейка.
– Смотри – что больше всего освещено на портрете?
– Лицо.
– Вот именно!
Группа иностранцев неизвестной национальности фотографируется на лестнице Кленце. Вспышка магния – и пошли дальше.
Плодовитость Рубенса удручает.
«Снятие с креста». У Магдалины роскошные золотые волосы, изумительное атласное платье. А на тухлого, синего спасителя и глядеть не хочется.
С равным успехом Рубенс мог писать одни натюрморты. С его полотен стекает жир, они пропитаны сытым самодовольством. Наверное, он любил поесть. Впрочем, он был человек светский и сдерживался на людях. Это было для него сущим мучением. Дома он выгонял слугу, запирался и жрал в свое удовольствие – свинину, курятину, куропаток, рыбу, омаров, зайцев – все то, что рисовал Снейдерс.
Якоб Дюк – «Веселое общество». Кукольные фигурки в нелепых позах, и в углу, на краю стола, изумительный крошечный натюрморт: бокал из толстого дымчатого хрусталя на белой смятой салфетке.
Снейдерс сделал натюрморт монументальным. «Малые голландцы» были скромнее и простодушнее. С каким наслаждением, высунув язык, время от времени прищуриваясь и откидываясь назад, художник выписывал тонюсенькой кисточкой муху, ползущую по румяному яблоку! Муха изображена в натуральную величину. На ее крылышках видны все прожилки, на лапках заметны ворсинки. Если взять лупу, можно, наверное, разглядеть и другие подробности. После египетских рельефов это кажется детским баловством или шизофренией – манией натурализма.
В пейзаже голландский натурализм оказывается несостоятельным. Живописцы вырисовывали на деревьях все листики, но деревья получались не живые – условные. Нам эта условность нравится, голландцев же она, наверное, не удовлетворяла, но они боялись обобщений и упорно рисовали листики. Живыми деревья стали только у Коро.
У Строцци («Исцеление Товита») ангел рыжий и краснощекий, а крылья у него белые, как положено. Было бы здорово, если бы Строцци сделал ангелу рябенькие крылья, веснушчатые.
Истинно религиозным было искусство Средневековья. В живописи зрелого Ренессанса более или менее натурально одетые актеры разыгрывают сцены из священного писания. Актеры очень красивы, они великолепно держатся, у них прекрасная мимика, но смысл спектакля часто ускользает от зрителя.
«Похищение Европы» Альбани. Бык на вид очень благовоспитанный, морда у него добрая и безобидная. Никого он, конечно, не похищал. Европа сама взобралась к нему на спину – захотелось ей прокатиться. Она удобно устроилась, выставив голые коленки ровно на столько, на сколько нужно.
У Кантарини мадонна совсем простушка. А младенец породистый и очень важный. Царственным отрепетированным жестом он благословляет святого Франциска.
Святая Екатерина и святая Цецилия Карло Долчи – пикантные томные красотки с темными кругами под глазами и волнительными завитками русых волос на висках. Пальчики у них точеные, выхоленные.
Гарофало – «Брак в Кане Галилейской». На переднем плане на полу сидит ангелочек и угощает грушей пса. Пес смотрит на него с презрением – на кой леший ему эта груша! Вся картина напоминает современные любительские фотографии: гости повернули головы в сторону фотографа и сидят смирно; никто не ест, все ждут, когда эта церемония окончится. Только ангелочек на полу делает вид, что ему наплевать, а на самом деле тоже кокетничает и позирует со своей собакой. Он ведь знает, что собаки не любят груш.
На офорте Рембрандта Адам и Ева жалкие, старые, обрюзгшие. А змей великолепен – когтист, чешуйчат и хорошо откормлен.
Рембрандтовский Христос выглядит совсем убогим. Он уродлив – у него короткие ноги, большая голова. Он смахивает на юродивого с церковной паперти.
«Крещение Христа» – резная кость XV века. Христос стоит по пояс в воде, которая изображена волнистыми линиями, из-под воды, снизу, высовываются ступни его ног. Наивная и вместе с тем гениальная условность.
6.2
Часто снится, что хожу по людным улицам нагишом. Мне очень стыдно, но одеться почему-то нельзя.
Хочется написать второй вариант «Стеньки». Совсем в ином духе. Нечто мифическое, насквозь выдуманное.
9.2
Заболел. С утра лежу в постели. Ломит поясницу и суставы. Кровь стучит в ушах. Температура – 39 градусов.
Болеть так же приятно, как ехать в поезде дальнего следования. Чувство полнейшей безответственности. Можно ничего не делать, даже не думать ни о чем. Блаженство.
12.2
Все мои литературные знакомства оказались тупиками. Ни одно не помогло мне выплыть на поверхность. Да и вряд ли они могли мне помочь.
Иногда очень трудно настроиться на творческий лад. Часами маешься. Слоняешься по комнате, хватаешься за книги, перечитываешь давно написанное, и вдруг какая-то строчка, какое-то слово чиркнет, как спичка, и загорается зеленый пламень вдохновенья – у меня он всегда зеленый.
15.2
Апостольство духа – вот смысл жизни.
16.2
Впервые прочел стихи Александра Чака. Он близок мне необычайно.
Длинная строка – завидная находка. До этого я не додумался. Крупные же вещи менее удачны. Я прав – свободный стих не терпит длиннот.
Вообще – ВСЕ ПРАВИЛЬНО! Качать Александра Чака!
Фильм «Председатель» по рассказу Ю. Нагибина. Жестокий соцреализм.
Колхозами должны руководить Трубниковы. Но где их столько найдешь?
17.2
Врач Ж. Сказала мне: Ни в коем случае не давайте свои стихи психиатрам! Они упекут вас в сумасшедший дом!
18.2
Д. сказал:
– Когда я впервые слушал тебя, я злился. Я не мог понять, как такой человек может писать такие стихи. Их должен был писать истерзанный жизнью юродивый с трясущейся головой и безумным взглядом.
В конце концов моя судьба спохватится и исправит свою ошибку: я и впрямь стану юродивым с трясущейся головой. Уже семь или восемь лет мой ужас «при дверях».
Мое томление духа – не следствие биографии. У меня нет личных счетов с жизнью. Она относится ко мне сносно. Несчастным меня делают мой интеллект и моя совесть. И этим я могу гордиться.
20.2
Все развитие культуры с XV века шло под знаменем ренессанса гуманистических традиций античности. Личность вырывалась из-под гнета религии и государства.
Двадцатый век стал веком контрренессанса.
Человек, раскрепощенный в процессе многовековой борьбы со всеми видами тирании, с поразительной быстротой был снова закрепощен и нашел в этом закрепощении какую-то особую, извращенную усладу.
На чем же держится гуманизм? И где истоки фанатизма?
Для того чтобы идея овладела массами, она должна быть очень соблазнительной, она должна заглушить голос разума.
Соблазнительность христианства – в гарантии вечной жизни за гробом. Перед этим любая логика бессильна.
Соблазнительность нацизма – в чувстве национального превосходства. Чувство превосходства – одна из услад, не менее острая, чем плотская любовь.
Соблазны приводят толпу в клетку. Клетка тщательно запирается, и нужны великие жертвы, чтобы ее открыть.
Почему именно наш век стал веком контрренессанса?
Моральное старение цивилизации? Перенаселенность планеты? Техницизм?
Что это? Тяжелый воспалительный процесс? Или последняя стадия рака?
28.2
Двери распахнулись, и ужас вошел.
Отец умер на даче в воскресенье в 6 часов вечера.
За обедом он выпил водки. Потом лег отдохнуть. Спал крепко и спокойно. Когда стало смеркаться, он вышел во двор, чтобы наколоть дров.
Мама понесла охапку поленьев в кухню.
Когда она вернулась, отец неподвижно сидел на крыльце, прислонившись спиной к стене. Глаза его смотрели куда-то вверх, на вершины сосен. По щекам скатились две слезы.
Мама взяла его под мышки, волоком затащила в дом и положила на полу. На кровать она положить его не смогла – не хватило сил.
Кругом не было ни души. Из соседних дач все уже уехали. До станции три километра. Дорога занесена снегом, и машины по ней не ходят.
В 9 часов мама позвонила мне из Соснова.
Электричка была совершенно пустая (пустая!). Какие-то парни проходили время от времени по вагону, громко разговаривая и смеясь. В углу шепталась парочка. За окном проносились темные заснеженные леса.
В Сосново я приехал уже после полуночи. Тщетно пытались мы с мамой добыть трактор. Заспанные голоса разных начальников и заместителей начальников в телефонной трубке отвечали отказом: «Не могу… нет… все в ремонте… слишком поздно… завтра…»
В больнице я наорал на дежурного врача. На «скорой помощи» доехали по шоссе до нашей станции. Дальше шли пешком. Впереди шла мама с фонариком, за ней – врачиха, потом я. Снег скрипел оглушительно. Небо было звездное. Вылез роскошный сказочный месяц – стало светло. Елки отбрасывали длинные синие тени. Ночной лес был прекрасен и равнодушен ко всему на свете.
В 4 часа ночи мы подошли к даче. Я взял у мамы фонарик. Дверь была не заперта. Я толкнул ее и вошел.
Отец лежал на полу. Лежал ровно, вытянув руки по швам. Пальцы рук были растопырены, как у пластмассовой куклы. Лицо было желтым и неподвижным. Весь он был какой-то ненастоящий и ужасно беспомощный.
Мама заплакала.
– Я могу сделать укол, – сказала врачиха, – но это бесполезно.
Через полчаса пошли обратно.
Снег скрипел еще оглушительнее. Мороз крепчал. Звезды казались невероятно крупными. Луна забралась уже высоко, и тени от елок стали короче.
Остаток ночи провели в приемном покое больницы. Утром я раздобыл трактор.
Мотор промерз и не заводился больше часа. Тракторист Коля разогревал его паяльником.
Наконец тронулись. Проехали метров двести и остановились. Коля вылез из кабины и стал молотком подколачивать оси, которые соединяют звенья гусениц. При езде эти оси постепенно вылезали, потому что все шпонки были срезаны – старый трактор. В дальнейшем так мы и колотили эти оси через каждые 10–15 минут езды.
Во дворе больницы нашли розвальни и прицепили их к трактору. На розвальни положили носилки. Они были из морга – весь брезент в каких-то жирных пятнах, кое-где прилипли клочки волос. На носилки бросили охапку сена, Я уселся на сено. Мама залезла в кабинку.
Ехали по лесу. Дорогу можно было различить только по расступающимся соснам. Трактор делал в снегу глубокую траншею с крутыми краями. Сияло солнце. Небо было синим. Иногда сани опрокидывались, и я валился в снег.
Подъехали к речке – мост был разобран. Повернули обратно и двинулись кружным путем через поселок. Мальчишки все норовили сесть сзади на розвальни и прокатиться. Они кричали и смеялись нам вслед.
Свернули в поле. Дорога потерялась. Ехали по целине с холма на холм. Иногда трактор буксовал – снег был слишком глубок. Опять въехали в лес и очутились у того же разобранного моста, только с другой стороны реки. Отсюда оставалось ехать еще шесть или семь километров.
Добрались до дачи уже под вечер.
Отца завернули в одеяло и потом еще в какую-то тряпку с узорами. Тряпку зашили, чтобы было понадежнее. Получилось нечто напоминающее египетский саркофаг. Этот саркофаг был ужасно тяжелым. Когда мы с Колей тащили его на носилках к трактору, у меня подгибались колени и пришлось несколько раз остановиться.
Саркофаг привязали к розвальням.
Мы с Колей выпили «маленькую». Отец взял их две.
Обратно ехали по другой дороге. Через час стемнело и выяснилось, что у трактора испорчены фары. С трудом находили дорогу в темноте. Месяц еще не вышел, и звезд не было видно – появились облака. Я стоял над отцом, расставив ноги, и балансировал, стараясь, чтобы сани не опрокинулись. Но они все же два раза перевернулись, и отец падал на меня, вдавливая меня в снег.
В одном месте дорога оказалась перерезанной глубокой канавой. Еле-еле перебрались на другую сторону. У саней сломался полоз, и их стало заносить вбок. Ехать стало труднее. Саркофаг все время съезжал. То и дело останавливались и поправляли его.
Забыли вовремя подколоть оси. Одна гусеница разорвалась и плашмя легла на снег. Чинили целый час. Коля оказался молодцом.
К больнице подъехали около полуночи, Саркофаг поставили на стол в прозекторской. Он был весь запорошен снегом.
Последняя электричка уже ушла. До утра сидели с мамой на вокзале.
Вернулись домой и стали звонить всем родственникам.
Весь день в квартире плакали и причитали женщины.
Магазин похоронных принадлежностей на Владимирском проспекте. Окна плотно задрапированы. Входишь и останавливаешься, пораженный: гробы стоят штабелями, громоздятся до потолка. А снаружи у магазина такой невинный вид.
Хоронили в четверг.
В гробу отец выглядел важным, надменным и совсем уже не похожим.
В институте была гражданская панихида. Произносили стереотипные речи.
«Спи спокойно, дорогой товарищ!»
Народу было много. На лицах людей было любопытство. Женщины шептались сзади:
– А где же сын?
– Вон, вон, в клетчатом пальто! Спокойный стоит, не плачет!
У могилы гроб открыли. Я взял расческу и зачем-то причесал отцу волосы – они немного растрепались.
Пришли деловитые могильщики. Разложили веревки. Поплевали на руки.
– Давай! Левее, левее! Заноси сюда! Так, так – пошел!
Гроб с глухим стуком ударился о мерзлую землю.
Когда дело было сделано, я подошел к могильщикам и сунул старшему десятку.
– Обидели вы нас! – сказал старшой. – Земля-то мерзлая, долбить пришлось.
Я добавил пятерку.
Потом были поминки. Как все поминки. Впрочем, очень пьяных почему-то не было.
1.3
Теперь, когда прошла нервная суета первых дней, неожиданность и непоправимость случившегося приобрели особую монументальность и заслонили все.
Надо объединить в сознании живого, смеющегося, бранящегося, стучащего молотком отца с той большой и странно тяжелой куклой. Надо, но невозможно. И это не дает покоя.
2.3
Вася Ходорка покончил с собой.
Суд постановил выселить его за непрерывное пьянство и хулиганство из квартиры. Вася выпил бутылку уксуса и долго мучился. «Пятки горят! – сказал он Гале, когда она пришла к нему в комнату. – Огнем горят! Прощай, Галя, прощай! Гуд бай!»
Вдова Васина плачет, но вообще-то рада. Вася причинял ей много беспокойства: неоднократно бил и всячески запугивал – грозился убить до смерти.
Последние месяцы перед смертью Василий Андреевич пил ужасно. До белой горячки дошел. Хотел продать Манон. Собаку прятали у знакомых.
Был он великим мастером на выдумки и всякие мистификации. Был он философом, часто рассуждал о смысле жизни, и в этих его рассуждениях, несмотря на их детскую наивность, была какая-то странная, пугавшая меня глубина и значительность.
Есенина он читал прекрасно.
Жил он и умер почти как Есенин.
Он был одними из самых колоритных людей, которых я встретил на свете.
Гуд бай, Вася! Гуд бай!
Ненадолго.
Предназначенное расставанье Обещает встречу впереди.ТАМ мы с тобой еще выпьем и поговорим о жизни. Благо делать ТАМ все равно будет нечего.
7.3
С. Наровчатов добровольно взял на себя тяжкое, но благородное бремя наставника юных, то и дело спотыкающихся стихотворцев. С. Наровчатов знает, как надо писать и что надо писать.
А вот Блок не знал. И ждал конца света.
10.3
Комната в первом этаже незнакомого дома. Неуютно и пусто – похоже, что это общежитие.
На кровати спит Сюзи. Она лежит одетая на одеяле, спиной ко мне. Кто-то обидел ее. Она долго плакала, уткнувшись в подушку, – так и заснула.
Мне ее ужасно жалко. Я сажусь рядом на одеяло. Она просыпается. Она рада мне. Она прижимается ко мне. Я хочу ее, и она мне отдается.
Но тотчас входят какие-то люди. Сюзи вскакивает и убегает. В окне за стеклом появляется ее лицо. Она плачет, она что-то говорит, но я не слышу. И я знаю, что уже никогда не увижу ее. Никогда.
Проснулся и подумал: как странно! Во сне она стала моей. А наяву не хотела.
12.3
Смерть отца, как вспышка магния, осветила всю реальность моего тупика, осветила белую гладкую стену, перед которой стою я уже давно, к которой безуспешно пытаюсь привыкнуть.
13.3
Зазвенел телефон. Майка взяла трубку.
– А кто его спрашивает? Иван Николаевич умер… 21 февраля… инфаркт… пожалуйста.
Вспомнил, как мы надевали на ноги отца войлочные ботинки. Мама сказала: «Ему будет холодно!»
И мы надели на твердые негнущиеся ступни войлочные ботинки, в которых он всегда ездил на дачу.
Ему еще долго будут звонить. Где-то для кого-то он еще жив, не все еще знают.
Великая инерция жизни.
В трамваях висят плакаты ОРУДа:
«Граждане! Не забывайте, что транспорт нельзя остановить мгновенно».
14.3
Весь я умещаюсь в «Туфельнике» Ремизова. «Туфельника» мне не переплюнуть.
Я стал «главой семьи». Надо достраивать дачу, которая мне не нужна. Надо зарабатывать деньги и быть мужчиной.
16.3
Пар подымается вверх и окутывает город легким туманом. В тумане косые лучи солнца кажутся плотными и осязаемыми. Там, где асфальт уже высох, девчонки играют в классы.
Вполне традиционная весна. Новшеств не наблюдается.
21.3
Во дворе часто встречаю старуху в черном. Черный платок на голове, черное длинное пальто, черные боты.
Встречаю ее всегда на одном и том же месте. Она медленно идет по тротуару, поддерживая под подбородком края поднятого воротника. Нижняя часть ее лица не видна. Лоб закрыт платком. Видны глаза – совсем почти белые, пустые глаза.
Страшная старуха.
Мои стихи отчуждаются от меня. Часто мне кажется, что они возникли сами по себе, без моего участия, возникли давно – еще в детстве я их где-то читал и слышал.
Три грации – свобода, одиночество, смерть.
Идет очень медленный, тихий снег. Робкая контратака зимы.
25.3
Сижу в библиотеке Института Азии и просматриваю верстку Закани. Приятно видеть свое сочинительство напечатанным типографским способом.
За окном серая Нева с белыми редкими льдинами и Петропавловка со свежим золотом шпиля. Читальный зал пуст.
Приходит Б. и ведет меня в свой кабинет. Проходим одну комнату, вторую, третью, четвертую… Двери открываются и закрываются. В комнатах ни души.
Выхожу на набережную. Идет мокрый снег. У крыльца беседуют две женщины:
– Пришла на кухню и вижу – ее табуретка спокойненько стоит у моей стены! Я ей говорю: убери свою паршивую табуретку, не то я вышвырну ее в окно! А она мне: Не имеешь права! Это не твоя стена, а общественная! Ах вот как, говорю, общественная?..
Наука и искусство, которые, как казалось, всегда шли рядом, становятся непримиримыми антагонистами. Фантастическое, катастрофически ускоряющееся развитие техники грозит тысячами опасностей, которые невозможно предугадать. Солдат, никогда не читавший Шекспира и выключающий радио, когда играют Бетховена, превосходно справляется с обязанностями ракетчика. Он крутит свои рукоятки, нажимает на рычаги и ждет последней команды. Он горд своим могуществом, своей причастностью к этой тупой и бездушной силе стали и плутония. Он – в главной роли. Остальные – статисты.
31.3
Опять приснилась Сюзи. Будто проснулся, и она лежит рядом со мной в постели. У нее накрашенный рот, напудренные щеки, но голова совсем голая – без волос.
– Не узнаете? – говорит она. – Это я для того, чтобы поступить в институт, без волос я выгляжу скромнее. Некоторые даже принимают меня за парня. Я нарочно похудела, чтобы ничего не было заметно.
Она откидывает одеяло, и я вижу, что тело у нее совсем худенькое и груди маленькие, как у девочки.
Тут же в комнате сидит Майка. Она причесывается – собирается на работу.
Пока я спал, Сюзи приехала из Выборга. Ей негде остановиться. Она пришла к нам, и Майка благородно уступила ей свое место в постели.
Почта. У окошечка, где принимают заказные письма, стоит человек в лохматой шапке и тихо смеется спокойным самодовольным смехом. В зале никого больше нет, только я и он. И он, не переставая, тихо смеется.
7.4
«Процесс» Кафки. Гениально, как Евангелие.
13.4
Ездили на дачу. В лесу снег еще не тает. Только у корней сосен и вокруг камней – темные проталины.
Около дома четкий, глубокий лосиный след. Лось перемахнул через нашу ограду и прошел наискось по соседнему участку.
К ручью не пройти. Набили ведро снегом и поставили его на огонь. Вода получилась чистая, но безвкусная, пресная.
Маяковский написал:
Крепи у мира на горле Пролетариата Пальцы.Жутковато. И зачем пролетариату душить мир – ведь пролетариат хочет его осчастливить!
14.4
Вторая книга Сосноры. Красивая, как новогодняя елка: бусы, шары, конфеты, свечи.
Елку любят дети. А поэзия – женщина. Как ни изящно она одета, нам хочется увидеть ее обнаженной.
Впрочем, декоративность имеет права на существование.
Филимоныч развалился передо мной на столе, обняв будильник лапами.
Гул ночного самолета, делающего круг над городом. Шум воды в канализационной трубе. Стук двери лифта. Гудение лифта. Снова стук двери. Под окном пьяная компания поет нестройным хором:
Эх, е-эхали цы-ыга-не Эх, да с я-арма-ки до-омой, Эх, домой!Пропели один куплет и смолкли. Дальше не знают слов.
Филимоныч перевернулся на другой бок, сладко потянулся, поглядел на меня одним глазом и снова заснул.
19.4
Прочитав мои последние стихи, С. сказал: «Раньше был кочан капусты, а теперь осталась одна кочерыжка».
Прекрасное название для моей книги, которая никогда не будет издана, – «Кочерыжка»!
20.4
Под кремлевской стеной в Александровском саду сидят на скамейке несколько парней и девчонок. Они пьют вино. Передают бутылку друг другу и пьют прямо из горлышка. Один парень стоит, растопырив полы плаща, – прикрывает.
24.4
В Таллине с венгерскими студентами.
Приехали рано утром. «Подождите, товарищ, – сказала мне администраторша, – я должна принять группу иностранцев».
– Так ведь я сопровождаю эту группу!
– Ах, простите, пожалуйста, простите! Ваш паспорт!
Экскурсия. Наш гид – архитектор из Управления по охране памятников архитектуры. Ему приятно водить нас по городу. Он очень старается.
Все эстонцы очень любят иностранцев.
Бар гостиницы. Барменша русская и очень разбитная.
– Все берут кофе! Кофе да кофе! Надоело! Пили бы ликеры!
Я беру рюмку «Старого Таллина» и медленно тяну вкусную, густую жидкость. Действительно, ликер – прекрасная вещь! Почему-то у нас ликеры не популярны. Даже среди интеллигенции. Разумеется – ликер нельзя пить стаканами. Но рюмки у нас не в почете. Слишком деликатная это штучка – рюмка. Чуть нажмешь – она и захрустела. Есть любители пить прямо из горлышка. Они испытывают при этом почти половое наслаждение.
«Веселие Руси есть пити». Спиваемся помаленьку.
26.4
Исподволь, незаметно для себя, пишу поэму об отце. Для того чтобы она вырвалась из меня, нужна целая серия «одиноких восторженных состояний».
4.5
Письмо из Выборга. Оно тщательно, аккуратно переписано – ни одной помарки. Подчеркнуто сухой, независимый тон. Стиль Сюзи.
9.5
Двадцать лет, как кончилась война.
По улицам бродят ветераны, увешанные медалями и орденами. Во всех ресторанах, кафе и столовых пьют, сдвинув столики. Вспоминают, плачут, кричат, целуются.
Двадцать лет, а в памяти все так свежо. Хотя и был я отроком несмышленым.
10.5
Вспомнил. В Москве с С. ехали в гости и везли розу. Она была куплена вместе с горшком и завернута в бумагу. Стебель был длинный и сверток получился высоким и узким. Вверху из бумаги выглядывала роза. Казалось, что она стала на цыпочки, чтобы высунуться из свертка. (Женское любопытство.)
Ювелирный магазин. Красивая продавщица посмотрела на меня и отвернулась, надменно поджав губы.
Почему развелось так много красивых продавщиц?
14.5
Критика никогда не влияла на литературу. Она существовала около.
Критика – всего лишь литература о литературе. Если она хороша, она имеет самостоятельную ценность.
15.5
Начинаются белые ночи.
Светлая, будто светящаяся, тихая вода. Неподвижные, сонные, длинные облака на горизонте. В их неподвижности есть какое-то томление, какая-то скованность и обреченность. Экзистенциалистский пейзаж.
Природа гибнет.
На берегу Байкала строят заводы. Каспий и Севан мелеют на глазах – их умерщвляют электростанции. Зверей в лесах и рыбы в реках становится все меньше.
Только воробьи приспособились к цивилизации. Их спасает беспринципность.
В аэропорту встречаю маму – она возвращается с курорта. Прибыл самолет из Адлера. Все пассажиры с букетами цветов. Идет снег. Он падает на розы и пионы, которые еще утром росли на теплой земле у теплого моря.
Запоздалый снег. Зима отдает долги. Или перевыполняет норму, – ей хочется, чтобы ее фотография висела на Доске почета.
23.5
В 37-м году у Д. расстреляли отца. Сам он 8 лет просидел в лагерях. Когда он вернулся домой, его мать, измученная свалившимися на нее невзгодами, показала на тома сочинений Сталина и сказала: «Только это поддерживало меня в трудные года. Если бы не он, я давно сошла бы с ума».
27.5
Жду автобус на обочине шоссе. В траве у моих ног – цветок. Не знаю названия – кажется, маргаритка. Лепестки сверху белые, а снизу нежно-фиолетовые.
– Здравствуй, маргаритка, чудо мироздания!
В автобусе вместе со мной садится человек в грязной старой шинели и помятой кепке. У него породистый профиль, седые баки и неестественно яркий румянец на обрюзгших щеках. Типичный разорившийся помещик – бунинский персонаж.
Сюжет.
Последний отпрыск древнего дворянского рода – спившийся, истерзанный жизнью человек – доживает дни в своей родовой усадьбе. Здесь теперь сельскохозяйственное училище. Старик работает при нем дворником. Мальчишки-ученики издеваются над ним. Вечерами он бродит по запущенному парку среди дряхлых, умирающих деревьев и предается воспоминаниям. Над парком то и дело проносятся реактивные самолеты – недалеко аэродром.
3.6
Во дворе (вижу из окна) большой рыжий кот совершает утренний моцион. Он прогуливается между кустиков, что-то нюхает на земле и вдруг стремительно бежит куда-то, но тотчас останавливается, как вкопанный. Потом он делает прыжок – будто что-то ловит, и опять идет не торопясь, видимо, очень довольный собой, весной, этим солнечным утром и вообще всем на свете. Счастливый кот.
Представителей так называемых национальных литератур очень балуют. Где-нибудь в Якутии или в Осетии любая посредственность может рассчитывать на лавры писателя. При переводе на русский его произведения напишут заново, ибо иначе печатать их невозможно. На съездах, конференциях и прочих сборищах литераторов он будет сидеть рядом с настоящими писателями. Он будет пропивать свои гонорары в лучших ресторанах Москвы. У него будет сытая, лоснящаяся от жира физиономия, и у себя на родине он будет недосягаем и величав, как небожитель, хотя почти никто там, на родине, не читает его книг по той простой причине, что чтение еще не стало национальной традицией.
Пропаганда может сожрать все – деньги, мораль, здравый смысл. Средства пропаганды стали столь могущественными, что противиться ей почти невозможно. Создаются грандиозные фантомы. Огромная масса средних людей, неспособная мыслить критически, живет в мире иллюзий, верит несуществующим авторитетам и поклоняется мнимым святым. Если завтра во всех газетах, по радио и по телевидению объявят о втором пришествии Христа – все поверят.
При желании сейчас можно мистифицировать человечество по любому поводу. С помощью одной только пропаганды можно довести его до одичания.
С жадностью читаю всяческие мемуары, автобиографические записки, дневники. Будто здесь можно найти какие-то ответы или хотя бы намеки на них.
Майка уезжает в Польшу. Сборы начались месяц тому назад. Шьется какое-то особенное платье. Куплены туфли, шляпа. Варшава, Краков и Гданьск будут у ног моей жены. Несчастные поляки. Впрочем, я и сам чуточку поляк, чуточку несчастный поляк.
В «Новом мире» окончание мемуаров Эренбурга. Он не сказал в них и десятой доли того, что мог бы сказать.
Что это? Потребность сказать хоть что-то в предчувствии конца? Стремление оправдаться? Или просто тщеславие? Какие имена! Какие события! И везде и со всеми он, Илья Григорьевич Эренбург – неудавшийся поэт, рано исписавшийся прозаик и выдающийся публицист Сталинской эпохи!
5.6
Странно, но я никогда не оставался совсем без читателя. Мои поклонники и поклонницы сменяли друг друга, но всегда кто-то был. Сейчас мой читатель – Д. Один-единственный, но зато настоящий читатель.
Господь испытывает меня. Но он понимает, что совсем без читателя я не выживу. И он держит меня на прожиточном минимуме. Чего ему от меня надо?
Беременная кошка в буфете у Тучкова моста. Несмотря на свою брюхатость и замызганность, она изящна. Движения ее грациозны и трогательно женственны, как у всех кошек.
Петербург сегодняшний – уникален. Вряд ли в мире можно найти еще такой большой город, столь хорошо сохранивший лицо начала нашего века.
Хорошо и плохо. Хорошо, что город не испортили, но плохо, что он законсервирован, как монстр в банке со спиртом.
Строят в основном на окраинах, и эта новая застройка столь резко отличается от старой, что кажется, будто это уже совсем другой город.
8.6
Сартр кокетничает своими симпатиями к марксизму. Его философия изящна – она напоминает фигурное катание на льду. Впрочем, мне ли судить о Сартре?
11.6
Спиной ко мне сидит молодая женщина. Ее волосы собраны в узел на затылке, но короткие мягкие пряди выбились из прически и упали на белую шею. Эта шея, эти пушистые волоски на ней, эти нежные, розовые уши с полупрозрачными мочками – все это так женственно, так красиво и… так напоминает что-то уже виденное, родное, женское, что слезы выступают на глазах. Женщина почувствовала, что на нее смотрят, и обернулась. Лицо у нее миловидное, но глупое, кукольное.
Сзади женщины часто бывают прекрасны.
17.6
Береза создана для ветра. В тихую погоду она печальна. На ветру она превращается в зеленое знамя.
Почему насекомые с таким упорством бьются о стекло?
На чердаке большой и умный на вид шмель так отчаянно стукался головой, так гневно гудел, что мне пришлось открыть окно и выпустить его. Второй шмель лежал, скорчившись, на подоконнике без признаков жизни. Его поза говорила о предсмертных муках. Ужасная смерть – видеть лес, небо, цветы, других, свободных шмелей и умирать от голода и жажды!
Нашел записную книжку отца. В нее вложена открытка – моя открытка, посланная ему и маме из Москвы в августе прошлого года.
Мы часто философствуем о смерти, но простое человеческое ощущение неминуемости смерти навещает нас редко. В противном случае мы не смогли бы нести свое бремя, не смогли бы идти к той черте, которая где-то уже проведена и ждет нас.
Дуэт кукушек. Одна где-то близко, вторая подальше. Получается у них очень недурно – спелись.
Кукушки придают лесу таинственность. Кукование всегда с эхом, поэтому трудно понять, где птица, кажется, что это голос самого леса.
Лес без кукушек – не лес.
Включил приемник. Сначала веселый джаз. Потом сообщения из-за рубежа. В Бамберге (ФРГ) на памятниках еврейского кладбища кто-то намалевал свастики и надписи: «Шесть миллионов евреев – слишком мало!» Возмущенные жители города устроили митинг. Кладбище охраняется полицией.
18.6
Мой день рождения.
Я родился в 6 часов утра в родильном доме на углу 14-й линии и Большого проспекта Васильевского острова.
День 18 июня ничем особым не примечателен. Впрочем, в 1936 году в этот день умер Горький.
23.6
Весь день дул сильный ветер. Я лежал на «поляне дольменов» и слушал шум леса. Закрыв глаза, пытался представить себе, что лежу на берегу моря. Мешали сосновые шишки – они то и дело с громким стуком падали на землю.
Под вечер ветер стих и стал накрапывать мелкий дождик. Лес за озером затянуло туманом.
Собирал валуны в сосняке за дорогой. Почти под каждым камнем был муравейник. Муравьи бесстрашно бросались на мои руки и лезли вверх по моим лодыжкам. Мне было стыдно, что я разрушаю их жилища. Они специально рыли норы под камнями, надеясь на их защиту, но камни принесли им несчастье.
Смерть Андрея Болконского в «Войне и мире» – классический этюд на тему бренности бытия. Глубоко мыслящая и тонко чувствующая личность, сознающая свою смертность и жаждущая жить, перестает существовать, исчезает, куда-то уходит, растворяется в пространстве, во времени, в материи. Толстой примиряет читателя с «бренностью». Смерть у него мудрая, светлая и непобедимая.
Тургенева смерть печалит, но не пугает. Она у него сладостная, томительная.
Леонида Андреева смерть ужасает, мучает своей непостижимой жестокостью и нелепостью. Он мечется в поисках спасения, в поисках лазейки. Разумеется, не находит и приходит в отчаянье.
Бунин понимает, что борьба бесполезна и выхода нет, но не может сдержаться, не может не выразить свое отвращение и удивление смертью.
У Андрея Платонова смерть простая, крестьянская, суровая. О ней не говорят, но все знают, что она есть, что она обязательно навестит каждого, и тут уж ничего не поделаешь.
У Хемингуэя такая же смерть.
25.6
Юрий Олеша написал за меня эту фразу: «Во сне я иногда вижу свое пребывание в Европе, которого никогда не было».
Блок с удовольствием возился в своем Шахматове. Что-то перестраивал, покупал мебель, хлопотал.
Мужички разграбили и сожгли усадьбу Блока. Сейчас даже трудно найти то место, где стоял дом.
Большая жаба в задумчивости сидит на песчаной дорожке. Сажусь на корточки и разглядываю ее. Она застыла, кажется, что не дышит. Травинкой щекочу ей бок. Она тяжело прыгает в траву. С соседнего участка доносится женский голос:
– Света! Марш домой! Спать пора!
Одиннадцать часов вечера, и совершенно светло. Здесь, на даче, ночи какие-то особенно белые, вызывающе, неприлично белые.
В Москве состоялось торжественное заседание по поводу столетия со дня рождения Менделя.
Несчастный Лысенко. В таких случаях люди, не потерявшие остатка совести, пускают себе пулю в лоб. Так поступил Фадеев.
27.6
Провожал маму и теток на вокзал. Возвращаясь, остановился под высокой старой осиной и поднял голову. Листва была редкая, ее узор четко рисовался на фоне зеленого вечернего неба. Вдруг понял – сегодняшний день уже навсегда, навеки прошел. Что я сделал сегодня? Что должен был сделать?
И, как всегда в таких случаях, по спине пробежал холодок от ощущения тока времени.
Иногда моя честность (литературная честность) кажется мне какой-то неприличной, по-детски навязчивой. И впрямь, не один же я такой все понимающий! Но другие не тычут всем в лицо своей честностью. Резать правду-матку в глаза – это от невоспитанности. Люди предпочитают питаться полуправдой. Правда – как уксусная эссенция. Ее нельзя пить, не разбавив водой.
28.6
Лес велик. Но когда живешь в нем, привыкаешь к близким деревьям. Остальные деревья – фон, вообще деревья, у этих же есть свое лицо, свои приметы, свой характер.
Пошел за водой к ручью. Тропинка знакомая, и все деревья по сторонам тоже знакомые. Там, на повороте, знаю я, растет молоденькая рябина чуть повыше меня ростом.
Подхожу к повороту – рябины нет. Она срублена и лежит тут же, в траве.
На дрова она не годится, на шалаш – тоже, потому что листва у нее не густая. Погубили ее просто так, играя, наслаждаясь рубкой. Проходя мимо, кто-то взмахнул рукой, этак небрежно, легко взмахнул рукой с топором, и моя знакомая, которой еще бы жить да жить, отправилась в свой древесный рай. (Впрочем, рай, наверное, один, и души деревьев вечно живут вместе с праведными человеческими душами. Попросту говоря, праведники в раю гуляют в райских лесах и садах.)
Быть может, рябину срубила та самая девушка с ведром, которая так зло крикнула тогда: «Огородились тут, как помещики!» Но она и не виновата – слишком тщательно в ней растили ненависть к эксплуататорам и слишком небрежно – любовь ко всему живому. И где ж ей знать, что рябина – моя хорошая знакомая, что мы с ней каждый день здоровались, а иногда и беседовали. Для этой девушки моя рябина – безликий лес.
Для Гитлера человечество было как такой безликий лес. И он говорил: рубите! Всю ответственность я беру на себя!
Но сам не рубил.
Быть может, поработав денек у печей крематория в Майданеке, он рехнулся бы.
Солнце и ветер. И конечно, возлюбленные мои облака. Красиво, когда на белое округлое облако наползает продолговатое, узкое, ультрамариново-лиловое (оно в тени и потому темное). Вдали белые вершины облаков розовеют, у них цвет топленого молока.
Самое красивое и самое величественное в мире – горы, море, звездное ночное небо, вечерние закаты и облака.
Горы – это архитектура, иногда скульптура. А облака – музыка, нечто невещественное, текучее, вечно меняющееся, исчезающее и возникающее вновь.
Рельсы со шпалами волнуют своей вязью с какими-то неведомыми далями. В них есть нечто манящее, и вместе с тем они намекают на какой-то запрет, на вечное наше бессилие перед бесконечным пространством.
Железная дорога, делающая близкий поворот и ускользающая из поля зрения, всегда загадочна. Она сулит неожиданности. Это особенно чувствуешь, когда ждешь поезда. Напряженно глядишь в ту точку, где исчезают уходящие вбок рельсы, и томишься. Кажется, что там должен появиться уже не паровоз, не обтекаемая голова электрички с глазами у рта, а нечто более значительное и незнакомое.
Садясь в троллейбус, уступаю дорогу двум женщинам. Вслед за ними, отпихивая меня локтем, в дверь лезет мужчина с авоськой. Я брезгливо отстраняюсь, уступая дорогу и ему. За спиной слышу хриплый голос другого мужчины: «Давай, давай побыстрее! Чего стоишь, ворон считаешь?»
Все это, будучи переведено в плоскость символики, удивительно точно характеризует мои взаимоотношения с миром.
По шумному, освещенному солнцем проспекту, мимо разноцветной яркой толпы едут открытые грузовики с солдатами. Целая колонна в одинаковых грязно-зеленых гимнастерках. Вдруг вспоминаешь – есть то, что называется армией. Есть миллионы здоровых молодых людей, которые носят одинаковые гимнастерки, одинаковые пилотки и сапоги и ровным счетом ничего не создают. Миллионы здоровых молодых людей годами занимаются игрой, которая почему-то называется службой. Они ходят строем, поют песни, стреляют в тире и ездят на хороших новых машинах по хорошим, специально для этого построенным дорогам.
29.6
Если когда-нибудь я буду писать мемуары, там будет такое место.
В середине 60-х годов по Невскому проспекту ходил человек в очках, в не по росту коротких, стершихся на коленях вельветовых брюках, в поношенном сером в клеточку пиджаке и с большим брюхатым портфелем под мышкой. Портфель был без ручки, и носить его можно было только так.
Это был самый умный в мире человек. Во всяком случае, умнее его я никого не встречал. Его звали Юра Д. В то время ему было около сорока лет. Вернее, его возраст находился где-то в промежутке между 35 и 40 годами. Молодость свою он провел в лагере, куда был заточен восемнадцатилетним. Разумеется за «чрезвычайно опасную антигосударственную деятельность».
Как это часто бывает, Юрина внешность не давала повода подозревать его в преступном прошлом. Он был круглолиц, невысок и имел сугубо интеллигентную расплывчатую фигуру. Вообще он был ярким образчиком того сорта мужчин, который менее всего волнует хорошеньких легкомысленных девушек.
Он был гибрид – в нем текла немецкая, русская, еврейская и еще какая-то кровь. Он был сирота – его отца расстреляли в 37-м. Он был женат. Он был непьющий и стеснялся этого своего порока. Он был ученый.
До того как я его встретил, слово «ученый» звучало для меня как-то абстрактно, плоско. Юра его оживил. Он был ученый в формальном смысле, ибо состоял в аспирантуре и писал диссертацию, но главное, он был ученым по существу, в том самом изначальном смысле, который имел в виду Пушкин, написавший известные всем русским детям строки:
У лукоморья дуб зеленый, Златая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом.Юра Д. был этим самым ученым котом. Он все знал. Во всяком случае, он знал настолько больше меня, что было просто смешно. Он знал поэзию и прозу, философию, историю, математику, физику, знал, что делается в мире, в стране, в городе. Кроме того, он знал еще множество интересных людей и множество интересных историй из их жизни. У него была прекрасная память. Он хорошо говорил. Он был обаятелен. Он понравился мне с первого взгляда.
Это был не только самый умный, но и самый хороший человек на свете, как Эйнштейн. Он был добр, смел, честен, благороден, и, что особенно мне в нем нравилось, он не был нытиком – просидев 8 лет, он ходил по Невскому в рваных ботинках, писал диссертацию и ни на что не жаловался. Он все понимал, но не все любил, кое-что он ненавидел. Он не был оптимистом, но и пессимистом я его не назвал бы. Он был настоящим мужчиной, но хорошенькие легкомысленные девушки по глупости об этом не догадывались.
Юре нравились мои стихи. Пожалуй, даже очень нравились. Это мне льстило. Это меня спасало.
В ту пору я был одинок. Почти все мои связи с литературным миром как-то сами собой порвались. Я влез в пресловутую башню из слоновой кости и сидел там, не высовывая носа. В башне было неудобно, тесно, хотелось на волю. Но я сидел. Потому что не мог иначе. Д. заглянул в окошечко башни и сказал, приглаживая ладонью лохматые полуседые волосы: «О! Извини меня, ради бога! Кажется, я заставил тебя ждать!» – так он всегда говорил, появляясь на пороге нашей квартиры. И всегда при этом приглаживал ладонью волосы – он никогда их не причесывал. «Еще года два посиди в башне, – сказал мне Юра, – а там видно будет». – «Два – это еще не так страшно», – подумал я, и мне стало легче.
Юра Д. был ангелом, ниспосланным мне во спасение, ангелом в очках и в не по росту коротких, вытершихся на коленках вельветовых брюках. Заимствуя у себя самого, я мог бы добавить: Юра Д. был лучшим из всех, которые мне встречались.
21.7
Как это ни пошло звучит, но от меня ушла жена. Собрала вещички и ушла. Может быть, ненадолго, может быть, навсегда.
22.7
«Завтрак у Тиффани» Трумэна Капоте.
Холли – вылитая Сюзи. В ее устах грубый жаргон звучит как музыка:
«– А, гадство, – сказала она и загасила окурок».
Интересно, любит ли Сюзи кошек?
23.7
Муравьиный путь через дорогу. Муравьи, наверное, знают, что по дороге ходят люди, а иногда даже проезжают машины. Конечно, они это знают, не такие уж они дураки. И все же они проложили свой путь через дорогу, потому что им так надо. Они жертвуют жизнью ради своей великой муравьиной цели. Великая цель скрыта там, за дорогой, в густом ельнике. Муравьи самоотверженно идут к ней по своей тропе, обходя трупы раздавленных соплеменников, не глядя по сторонам, не задерживаясь ни на миг, одинаково рыжие, одинаково сознательные и одинаково выносливые.
25.7
Основа этики – своего рода торговый обмен: не делай пакостей другим, если не хочешь, чтобы их делали тебе. Все остальное – история.
27.7
У причала стоит белый теплоход. На его палубе хорошо одетые иностранцы играют в гольф. У трапа – пограничник. Ему скучно. Он болтает с матросами.
Сегодня вечером белый теплоход уйдет в море. Стокгольм, Копенгаген, Гамбург, Лондон…
Сажусь в троллейбус и еду в центр. Выхожу на Невском. По Мойке дохожу до Дворцовой площади и замираю: красиво! Тысячу раз видел, но не могу привыкнуть. Господи, как красиво! Какой город! Какое счастье, что я живу в нем!
2.8
Есенин – поэт нэпа. Отчаянное его хулиганство – от сознания бессилия перед надвигающейся ночью. Его крестьянская душа мучилась в предчувствии грядущих российских ужасов.
Судьба Есенина символична. Судьба его стихов еще символичнее.
В том учебнике советской литературы, по которому я учился в школе, Есенину была посвящена одна неполная страничка. Теперь его ставят рядом с Маяковским.
В середине пятидесятых годов, когда Есенин был «реабилитирован», на всех вечерах самодеятельности читали его стихи. Обязательно «Матери», обязательно «Собаке Качалова».
Эпигоны растащили Есенина по лоскутку. Их было и есть тьма, начиная с Садофьева и кончая Тряпкиным.
Есенина поют под гитару на вечеринках и без гитары – после вечеринки, на улице, пьяными голосами, вперемежку с блатными песнями.
В старом «Огоньке» нашел прекрасную его фотографию. Лицо чистое, нежное, почти девичье. И в углу рта – трубка.
Сельский отрок, соблазненный городскими забавами. Лель развращенный. («А парни подпоили Леля и уложили с бабой спать».)
4.8
Женские ноги выразительны. Есть застенчивые, есть развязные. Встречаются ноги с хитрецой. Есть веселые ноги, есть томно-меланхоличные.
Люблю ходить по улицам и наблюдать за женскими ногами.
Приснился Лев Толстой. Он высокий, тощий, как Бернард Шоу. У него маленькая головка с модной женской прической. Волосы крашеные, соломенного цвета.
Толстой благосклонно относится к моим стихам и покровительствует мне. Я горд. Мне лестно ходить рядом с Толстым. Но отец (он появился внезапно) говорит мне:
– Слушай, странный какой-то этот твой Толстой! На портретах он совсем другой. Почему у него женская голова? Не привидение ли это?
«И впрямь привидение!» – думаю я, и вдруг вспоминаю, что отец тоже умер.
5.8
Сегодня я триумфатор. Вышел наконец Закани.
Шел по Невскому и увидел в руках прохожего книжицу со знакомыми иллюстрациями. Бросился в ближайший книжный магазин и купил 4 штуки.
Желтенькая бумажная обложка. Смешные людишки в чалмах и в туфлях с лихо загнутыми носками. Предисловие Н.
Какое счастье! Люди на моих глазах берут в руки мою книгу и читают мои стихи (да простит мне старик Закани!). Где-то в Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму люди раскрывают книжку в желтенькой бумажной обложке и пробегают глазами по моим строчкам!
Какое сладкое счастье!
9.8
Запах грибов. Есть миллионы разных запахов, но – запах грибов!
О нем забываешь. Зимой, весной о нем не вспоминаешь. И вдруг в начале августа на обочине дороги замечаешь сыроежку. Осторожно раздвинув мох, срываешь ее, подносишь к лицу, и в ноздри ударяет этот таинственнейший, ни на что не похожий запах.
Чего только в нем нет! Детство, первая любовь, какие-то давние, забытые солнечные и пасмурные дни, леса, лесные дороги, заросли папоротника, зеленые ковры мхов, сырые овраги, сухие, прогретые солнцем склоны холмов с редкими высокими соснами, и еще, еще…
Большая муравьиная дорога шла, извиваясь, между елками. В одном ее конце был муравейник, до другого конца я не дошел – длинная была дорога. Муравьи шли по ней густо, натыкаясь друг на друга, перелезая сухие веточки и завалы из еловых игл. Некоторые что-то тащили. Я вгляделся: один тащил щепочку (зачем он тащил ее издалека, эту обыкновенную на вид щепочку? Таких было множество и около муравейника), другой тащил какую-то маленькую белую пластинку – видимо, кусочек цветочного лепестка, третий тащил мертвого своего товарища – наверное, где-то там, в конце дороги, произошла катастрофа: упала с дерева сухая ветка и убила нескольких муравьев. Но у большинства не было никакой ноши. Бог знает, зачем они сновали по большой дороге туда и обратно.
10.8
Вечером сидели у костра (жгли старые пни). Когда костер догорал, в нем образовывались огненные пещеры. Стены их светились таинственным багровым светом. Временами этот свет становился синим или зеленым. От этого зрелища было трудно оторвать глаза – оно завораживало. Я ощущал себя огнепоклонником, жителем бронзового века.
14.8
Пришла Майка. Сказала:
– Ты зашел в тупик! Ты перепеваешь себя! Неужели ты не видишь, что перепеваешь себя? Я не вернусь к тебе, даже если очень попросишь! Не надейся!
Однако уходить медлила.
16.8
Утром на почте получил гонорар.
Пересчитайте! – сказала почтмейстерша. Я стал пересчитывать. Люди, стоявшие в очереди, не спускали глаз с этой толстой пачки десятирублевок. Быть может, никто из них ни разу не держал в руках столько денег.
Я шел по улице и чувствовал, как оттопырен карман моего пиджака. Во рту у меня было сухо. «Господи, – думал я, – что делают деньги с человеком!»
Подошел к пивному ларьку, сунул в окошечко мелочь и тотчас отдернул руку:
– Господи, зачем мне это паршивое пиво? Я же могу пить шампанское!
21.8
Полгода, как умер отец. Утром купил цветы на рынке и поехал на кладбище.
Накрапывал дождичек. Голуби ровными рядами сидели на карнизах кладбищенской церкви. Дорожки были безлюдны. На могилах тут и там алели бегонии и георгины. Лето нынче сырое, и цветы растут буйно. Они сочные, мясистые, бесстыдно-плотские.
Недалеко от нашего «семейного склепа» этой же зимой появилась новая могила. Тогда, в феврале, она вся была завалена цветами, и непонятно было, кто похоронен. Теперь осталось лишь несколько венков. Подошел, стал читать надписи на лентах: «Лучшей фигуристке Танечке от…» «Дорогой, бесценной нашей девочке, так безвременно и трагично…»
Попытался представить себе эту Танечку.
Тоненькая девчонка со светлыми, коротко подстриженными волосами. Бегала на коньках, кружилась, прыгала на льду. Сулили ей чемпионство, славу. И вот – бетонный поребрик, крашенная масляной краской решетка, венки…
А мне удалось дожить до тридцати трех.
Как она завидует мне, бедная незнакомая Танечка, там, в своем узком девчоночьем гробу в двух метрах от моих остроносых ботинок!
Когда-нибудь мы с ней встретимся, и она мне скажет:
– Знаете, я просто плакала от зависти, честное слово! Вы стояли перед моей могилой такой живой, такой счастливый, довольный своим успехом, своей книжкой, деньгами, которые можно истратить на что угодно. А я не успела. Мне не повезло. Ах, как мне не повезло! Зачем? Почему? За что? Я же не сделала ничего плохого! Я хорошо училась. Я могла стать знаменитой. Все говорили, что я могла стать выдающейся фигуристкой, что у меня все данные… Нет, вы просто представить себе не можете, как я тогда вам завидовала!
26.8
По радио выступает вьетнамец:
– Борьба вьетнамского народа – это его великая историческая миссия!
Жестокий, истерический голос.
О, эта миссия! Непременно историческая и непременно великая! О, эти жестокие голоса миссионеров! Сколько их было! Сколько их будет? О, эта борьба! Вечная борьба! («Покой нам только снится».)
Дача. Ночь. Горит «летучая мышь». Вокруг нее кружатся мотыльки. Стрекочет сверчок. И идет борьба. Идет своим чередом.
Каждый борец должен быть уверен в том, что он выполняет великую историческую миссию, иначе грош ему цена. Со стороны это выглядит иногда смешно. Но только со стороны. Надо быть борцом и не надо быть в стороне.
А я из старых досок строю сарай. И мне это занятие нравится. Видимо, это и есть моя великая миссия. Помру, а сарай останется, и человечество будет мне благодарно.
29.8
У входа на Смоленское кладбище висит странное объявление: «Кладбище открыто с 6 утра до 9 вечера. После 9 все входы закрываются и спускаются собаки».
Зачем покойников охранять с собаками? Кому они нужны?
Вошел и очутился в ином мире.
Буйная зелень. Остатки поверженных памятников, ржавое железо склепов. Посреди заросшей травой дорожки валяется надгробный камень из черного гранита. На нем два четких, не тронутых временем слова: «Былому другу». И все – ни имени, ни фамилии, ни даты.
У церкви на специально огороженной площадке голубовато-серая шевелящаяся масса голубиных хвостов. Все голуби клюют крупу, и хвосты у них задраны вверх – голов не видно.
На скамейке – старушки в белых платочках. Проходя мимо, слышу обрывок какого-то старушечьего рассказа:
– …Простите меня, дорогие братья, – живу я лениво, неразумно, нерадиво…
К кафе-мороженое, что у моста Шмидта, подкатил автобус с иностранными туристами. С любопытством оглядываясь по сторонам, иностранцы спускаются в этот подвальчик. Начинаются долгие объяснения с буфетчицей с помощью жестов, мимики и исковерканных русских слов.
– Чаю нет! – кричит буфетчица (ей кажется, что чем громче, тем понятнее). – Нет чаю! Кофе есть! Черный кофе! И с молоком! Натуральный кофе с молоком! Кофе! А чаю нет!
Туристы мнутся. Некоторые берут мороженое.
Пожилая и довольно просто одетая женщина взяла стакан яблочного сока и слоеную булочку. Притронувшись губами к краю стакана, не сделав, как мне показалось, даже глотка, она брезгливо отодвинула стакан в сторону.
Я вдруг разозлился.
«Ах ты, старая мымра! – думал я. – Зажралась в своей Европе! Мне иногда и на газировку не хватает мелочи, а она не хочет пить яблочный сок! Ах ты… буржуйская образина!»
Иностранка лениво отщипывала маленькие кусочки от слоеной булочки. Булочка тоже не пробудила в ней аппетита.
Подошла старушка в белом переднике, которая собирала со столиков грязную посуду. Иностранка сделала знак рукой – можете, мол, это убрать. Старушка унесла на подносе непочатый стакан яблочного сока и почти целую слоеную булочку.
В «Новом мире» статья Твардовского о Бунине. Попытка с помощью классика оправдать собственные литературные пристрастия, а заодно и позицию журнала.
Надоевшее вранье о том, что в эмиграции Бунин деградировал как писатель. Именно ностальгия сделала Бунина Буниным. За границей он написал свои лучшие вещи.
В атласе мира, выпущенном у нас в 1940 году, на территории Польши написано: «Область государственных интересов Германии». Австрия обозначена как немецкая провинция. Вместо Чехословакии – Богемия и Моравия (и в скобках – «протекторат»). Сталин официально признал право Гитлера на захват Европы.
30.8
Великий Ужас окружал мое детство, мое отрочество, мою юность. Окружал, но не касался меня. И я не знал о нем почти ничего, так же как и миллионы других людей, живших рядом.
Но некие невидимые флюиды неведомой мне трагедии каким-то образом оседали в моем существе. Мне было дано свыше подсознательно ощущать творимое вокруг меня зло. И это ощущение сформировало мою душу, стало неизменной темой моих «высших переживаний».
Отсюда моя тревога и вечный страх – что будет за поворотом? Кто притаился там, за углом?
Теперь я знаю, кто притаился, Я стою в сторонке, но мне видны все девять кругов Дантова Ада. Со мной нет Вергилия. А черти мерзко хохочут и издают похабные звуки.
2.9
Пришел сентябрь, и я из вольного плотника и прожигателя жизни превратился в номенклатурное лицо. Кто-то ниже меня – таких мало. Кто-то выше – таких много. Декан подчеркнуто вежливо, отвратительно вежливо пожимает мне руку, и я чувствую, что это мне не безразлично.
6.9
Прочел «Исповедь» Толстого. В 33 года я прочел «Исповедь» Толстого. Раньше мне нельзя было это читать, а теперь можно, теперь я созрел.
Так оно и есть: все мучения мои с «бренностью» – не от ущербности, а, наоборот, от полноты ощущения жизни.
Но не верю я, что любой мужичонка из Тульской губернии глубже понимает жизнь, чем Сократ и Шопенгауэр.
А с иронией жить легче.
Ирония – как алкоголь. Она создает иллюзию вооруженности, когда ты совершенно беззащитен, иллюзию тепла, когда ты погибаешь от стужи.
Толстовское богоискательство мне понятно. Толстовское «опрощенство» мне претит. Опроститься нельзя. Если уж ты не прост, простым не станешь. И это тоже от Бога – быть сложным. Надо иметь мужество и силы, чтобы нести этот крест.
9.9
О вреде и пользе не в меру развитого воображения.
Во рту у меня, на десне, была ссадина. Она долго не заживала. Образовалась язвочка. Больно было жевать, больно было от горячего и холодного, от соли и от перца, от кислого и от сладкого. Каждый день я рассматривал язвочку в зеркале и почти убедил себя, что это рак.
Воображение мое разыгралось. Я уже видел свои похороны (интересно, кто будет идти за гробом?), видел камень на своей могиле и надпись на этом камне. Я уже слышал, что говорят обо мне после смерти разные знакомые люди, друзья и недруги.
Две недели я умирал от рака. Но язвочка вдруг зажила. С того света я вернулся на этот. Умирать было приятно, воскресать – еще приятнее. Из-за этого моя жизнь как бы удваивается и утраивается. Иногда я даже забываю – было ли это со мной на самом деле или это лишь плод моего воображения. И неизвестно, что важнее – истинная моя жизнь или воображаемая.
10.9
Только что из Парижа. Я успел побывать в нем, пока Майка причесывалась в ванной. Хотел встать вместе с ней и вдруг мгновенно заснул. И очутился в Париже вместе с Л.
Вроде бы у нас с Л. командировка. Ходим мы с ним по Парижу и никак не можем найти площадь Оперы. Туда-сюда – исчезла площадь.
«Вот черт! – думаю я. – Куда же она делась? Как назло, когда надо, ее нет на месте!»
Потом выяснилось, что я потерял фотоаппарат.
– Что же нам теперь делать? – спрашиваю я Л. – Ведь без фотографий никто не поверит, что мы были в Париже!
– Да, дело плохо, – говорит Л. – Впрочем, есть выход! Накупим кучу всяких путеводителей, и нам наверняка поверят!
– Это идея! – говорю я, и мы идем покупать путеводители.
Народец в Париже какой-то серенький, не парижский. Люди висят на трамвайных подножках, стоят в очередях у магазинов.
– Все как у нас! – говорю я Л. – Даже приятно!
А может быть, мы не можем найти Оперу!
«Вдруг и правда не Париж?» – думаю я, и мне становится тоскливо.
Днем поехал в институт, встретил там Л. и сказал ему:
– Давай лучше умолчим, что мы были в Париже. Вдруг это действительно был не он? Стыда не оберешься.
Л., конечно, ничего не понял и даже испугался. Я рассказал ему сон, и мы долго смеялись.
13.9
Город кишит красивыми девушками, хорошо одетыми, хорошо причесанными девушками с холеными белыми руками, со стройными ногами в прозрачных гладких чулках.
Давеча шел по Гаванской. Накрапывал дождичек. Навстречу мне, прикрываясь одним зонтом, шли две очень хорошенькие, веселые такие, милые. И вдруг их обогнала вовсе уж красавица – прямо с обложки журнала «Фильм»!
23.9
Давно известно, что правда обладает тем странным свойством, что она всегда торжествует. Рано или поздно, но торжествует. Сколько бы ни было крови, грязи, лжи и садизма, правда каким-то образом всплывает на поверхность. И каждый раз все с удивлением и с удовольствием говорят:
– Да, правда – это правда, от нее никуда не денешься!
Но для евреев, которых расстреливали в Бабьем Яре и в разных прочих оврагах и ямах, такое отношение к правде было бы не совсем приемлемым. Правда повернулась к ним задом. Им досталась лишь самая жестокая неправда. Их тела сгнили. Их кости перемешались. И какое им дело до того, что фашизм был разгромлен!
28.9
В 8 утра, когда я еще лежал в постели, раздался телефонный звонок. Низкий женский голос произнес:
– Здравствуйте, Геннадий Иванович! Не узнаете? Это одна ваша знакомая девушка из Выборга… Я опоздала на утренний поезд и решила вам позвонить.
Мы встретились с ней у Финляндского вокзала. Она оказалась блондинкой. Еще больше похудела – запястья стали совсем тонкими, почти прозрачными.
Стояли на набережной. Ветер шевелил ее волосы. Иногда он бросал их ей на лицо, и тогда я видел только рот в бледно-розовой помаде и сверкающий белок глаза. Чайки летали низко. Некоторые садились на воду и тотчас взлетали снова. Она сказала:
– Тут холодно, я замерзла!
Сели на скамейку в сквере. Она открыла сумочку, вынула пачку сигарет, закурила.
– Ваши фотографии всем нравятся. Я приносила их в редакцию, – она работает теперь в редакции газеты. – Сказали, что вам надо работать фотокорреспондентом. Правда, у меня их уже растащили – почти ничего не осталось. А я выхожу замуж.
– Кто же этот счастливчик?
– Так, никто. Простой инженер. Но я, впрочем, не совсем еще решила.
– Когда решите, пригласите на свадьбу?
– Да, конечно. Я провела отпуск в Молдавии. Ела фрукты, загорала. У меня был хороший загар, я была красивая, когда приехала. Сейчас уже не то.
И впрямь, цвет лица у нее был тусклый, сероватый. Такой всегда бывает, когда сходит загар.
– А не рано ли вам, Сюзи, замуж?
– Я тоже думаю – не рано ли? Мне ведь в этом году исполнится только двадцать три! Но все говорят, что пора.
– Почему вы не позвонили вчера?
– Да так, почему-то не хотелось.
– Что же вы делали вечером?
– В ресторане была. Мы ходили в «Кавказский».
– Отчего же ваши ухажеры не водят вас в театры? Все в рестораны и в рестораны. Вы же любите театр!
– Такие вот ухажеры попадаются.
– А вы заведите других!
Сюзи улыбается своей роскошной улыбкой, обнажая ровные белые зубы.
– Долго вы были в Волгограде?
– Месяца полтора. Волгоград мне не понравился. Скучно там, хуже, чем в Выборге. Мне Киев понравился. Я пробыла в нем один день, когда возвращалась из Молдавии. Красивый город. Но Ленинград все равно лучше!
– Вот видите! Вы так любите Ленинград – и не хотите учиться! Получайте аттестат и поступайте на отделение журналистики. У вас же есть производственный стаж, вы же в редакции работаете! Станете журналисткой, будете ездить за границу, будете носить моднейшие платья и кататься в шикарных машинах!
Сюзи опять улыбается во весь рот.
– Я хочу пива! – говорит она.
Заходим в ресторан вокзала. Она снимает свой коричневый плащик и кладет его на стул рядом с собой. На ней светло-серая шерстяная кофточка с темно-серым стоячим воротничком. Стало еще заметнее, как она похудела: плечи еще больше заострились, бедра стали у2же.
Пиво она пьет с удовольствием, держа бокал двумя руками, как это делают дети.
Выходим на перрон. Она идет впереди, и я любуюсь ее походкой. О, эта походка Сюзи! В ней презрение ко всему миру! В ней вызов всему человечеству!
Прощаемся на площадке электрички.
– Напишите мне! – говорит она.
– Да, обязательно напишу! – отвечаю я и целую ее изможденную ладонь.
4.10
Перечитываю Достоевского.
Гениально, до безнадежности. Просто руки опускаются.
7.10
Сон. Лазаю по каким-то горам вроде крымских. Потом срываюсь с обрыва и падаю в бездну. Земля далеко внизу, и падать мне долго. Я лечу и думаю: «Теперь уже ничего не поделаешь, теперь действительно все кончено, и ничто от меня уже не зависит».
Под окном идут детсадовские ребятишки. Я их не вижу, но слышу. Какофония детских голосов. Некоторые голоса на миг вырываются из общего шума и после снова ныряют в него. Все перекрывает голос воспитательницы:
– Не растягивайтесь! Идите плотнее!
Гомон стихает. Дети прошли.
Подхожу к окну. Дождь кончился. В лужах плавают желтые листья. Серое небо светлеет, и становятся заметными отдельные облака. Но ненадолго. Снова все оттенки растворяются в сером. Серое побеждает, оно знает, что пришло его время. Октябрь.
7.10
Я не тщеславен, но самолюбив. Самому-то мне почести не нужны вовсе, а перед людьми как-то стыдно: Вот, думают, какой он неудачник! Все что-то делает, и никакого толку!
Кабы я знал, что люди на меня внимания не обращают, жил бы я тихо и счастливо.
В гастрономе случился скандал. Одна женщина сказала кассирше:
– Не перепутайте, пожалуйста – двести колбасы, триста сыра, кило говядины и кило слив.
Это «не перепутайте» кассиршу ужасно задело. Она закричала:
– Не учите меня! Без вас знаю, как работать! Ишь нашлась, еще нотации читает!
Женщина сказала что-то в свое оправдание, после чего кассирша совсем озверела. Стекла звенели от ее крика.
Очередь притихла.
В конце ее, в самом хвосте, стоял индус в синей чалме. В его глазах удивление сменялось страхом, а страх – удивлением. Он, видимо, ничего не понимал.
Толстый сборник Мартынова «Первородство». Хорошие стихи пишет Мартынов.
Фидель Кастро официально объявил о переименовании своей партии в коммунистическую.
«Наша партия будет воспитывать массы! Поймите это хорошо: наша партия! Никакая другая партия, а именно наша!»
9.10
Ехал в электричке по осенним лесам. За окнами мелькали желтые, нелепо нарядные березы. Капли дождя наискось ползли по стеклу.
Когда вышел на платформу, сумерки уже сгустились. Холодный ветер раскачивал сосны.
Пришел на дачу. Включил транзистор, нашел подходящую музыку (кажется, это был Гайдн), разжег печку и стал жечь старые рукописи. Как-то так получалось, что у каждого листа последним сгорал тот угол (нижний правый), где стояла дата. Сгорали годы и месяцы: март 1957, февраль 1958, июнь 1959…
Сначала буквы и цифры из темно-синих делались ярко-зелеными, потом на них наползала коричневая пелена, и лист свертывался в трубку.
Сгорали пять лет моей жизни. Некоторые частично, некоторые целиком. Сгорели под музыку Гайдна, в лесу, темной осенней ночью.
10.10
Утром все золото леса засверкало. Какие-то лучи сами собой возникали в березовых кронах и, выходя наружу, скрещивались с лучами солнца. Но это не было побоищем, это было встречей дружеской, быть может, даже любовной. И получалось единственное в своем роде сияние – не слепящее, но мягкое и даже печальное.
К полудню солнце скрылось. Но ветра не было. И вдруг в воздухе закружились белые мухи. Их становилось все больше и больше. Повалил настоящий, серьезный густой снег.
Все перемешалось – лето, осень и зима. Трава была еще зеленой, кусты – тоже, цвели еще последние астры, и на все это падал снег.
Я взял транзистор и спустился к озеру. Берега стали неузнаваемы. На белом фоне четко чернели ели вперемежку с апельсинными пятнами берез. Вода была удивительно прозрачна. По радио – Скрябин.
Было так, будто это и все. Лучше ждать уже нечего – можно и помереть.
15.10
Редакция газеты «Смена» в Доме прессы на Фонтанке. Ищу Германа Гоппе, заглядываю в комнаты. В комнатах с современной мебелью, с красивыми цветными телефонами за столами сидят современного вида хорошо одетые и хорошо подстриженные молодые люди. Делать им, видно, нечего, они просто так сидят, болтают с девицами, крутят в пальцах карандаши и авторучки.
Гоппе ведет заседание литкружка.
Молодой человек с холеным гладким лицом читает свои стихи. Потом все высказываются.
Гоппе говорит со знакомыми интонациями:
– Ты, Валя, по-моему перегнул… Может быть, Юра что-нибудь скажет? Ты меня, Володя, прости, но, по моему, это пыльные стишки! На кой черт тебе вся эта стилизация?
Возник спор.
Валя с гладким лицом сказал:
– То, что стихи не запоминаются, ни о чем не говорит. Возьмите томик Лорки – останется ли у вас в голове хоть один стих?
– Ну простите! – цепляется тут же Валин оппонент. – Лорка – это, знаете ли…
Мы уединяемся с Гоппе на диване в коридоре. Гоппе говорит:
– Вы талантливый человек… Думаю, что это напечатают, – речь идет о «Жар-птице». – В поэме есть один недостаток – слишком это общо, слишком вне времени, такая история могла произойти и 500 лет назад, – ах, как это мне льстит! Я просто таю от этого комплимента! – Вообще всё не напечатают, надо сокращать, я вот тут кое-что наметил…
22.10
Самолюбие спасает меня от малодушных поступков, помогает оставаться самим собой. Да здравствует мое самолюбие!
26.10
В вестибюле института толпой стоят женщины в белых халатах. У некоторых сумки с красными крестиками, у некоторых – носилки. Узнаю знакомые лица – секретарши, лаборантки, библиотекарши. Они шутят, смеются – им неловко на людях играть в детскую игру.
Помню, перед войной такие же вот женщины в халатах и с носилками так же смущенно смеялись и перешучивались.
Иногда невыносимо страшно. Но все же дух захватывает от любопытства. Время свистит в ушах.
28.10
Отнес «Жар-птицу» Гоппе. Переделка ему понравилась. Он даже как-то оживился, разволновался, прочитав новый, сокращенный вариант. И мне было приятно, что ему понравилось. Я даже забыл, что «Птица» ощипана, мною же ощипана.
1.11
Традиции в искусстве – вещь серьезная и заслуживающая уважения. Но чаще всего о них разглагольствуют бездарности. Им без традиций никак нельзя. Без традиций они просто воры: стянут у кого-нибудь нечто давно уже проверенное и всеми одобренное, стянут и выдают за свое. А тех, кто не воры, они называют кривляками – не хотят-де, мол, воровать, гордые слишком!
Существует мнение: если ты написал нечто стоящее, ты не имеешь права не печататься, ты должен пробиться к читателю любой ценой – это твой человеческий и писательский долг.
При этом со странной легкостью на плечи автора возлагаются тяжкие обязанности распространителя собственных творений. Но не достаточно ли того, что он их творит?
Оказывается, чтобы быть поэтом, мало иметь талант к стихосложению, надо быть еще пронырой, хитрецом, должно уметь улыбаться кому следует, слушать чей-то кромешный вздор, терпеть чье-то покровительственное похлопывание по плечу.
2.11
Есть модные «кондовые» словечки, от которых меня рвет. Никто не пишет теперь – своеобразный, неистощимый, но – своеобычный, неизбывный. Психоз какой-то.
11.11
Сижу на профсоюзной конференции и читаю «Носорога» Ионеско. Речь председателя месткома вплетается в текст пьесы. Эффектно.
14.11
Утром побежал на угол Гаванской и Шкиперки к газетному киоску. Сунул голову в окошечко:
– «Смена» есть?
– Уже вся продана.
– Вы не знаете – она с приложением?
– Нет, никакого приложения я не заметила. Там поэма какая-то напечатана, маленькая поэма. А приложения нет.
– А вы не помните, как называется поэма?
– Не помню, но я сейчас посмотрю. Я оставила себе одну газету. Я всегда оставляю, когда есть стихи.
Продавщица роется под прилавком, вытаскивает «Смену» и разворачивает ее. В глаза мне ударяет жирный черный заголовок – «Жар-птица». Над ним буквами поменьше – Геннадий Алексеев.
– Послушайте, – говорю я, – а вы не дадите мне свою газету на полчасика? Она мне очень нужна! Я, видите ли, и есть этот самый Алексеев.
Продавщица смотрит на меня недоверчиво.
– Ну ладно, берите. Только по-честному! Через полчаса принесите!
Хватаю газету и на ходу читаю предисловие Гоппе:
«Геннадий Алексеев долго и увлеченно работал над поэмой… С глубоким волнением рассказывает он о людях, сумевших в страшные дни своей жизни сохранить самые светлые, самые высокие человеческие чувства…»
Потом меня осеняет. Я бегу к другому киоску, что на углу Гаванской и Наличного переулка. Там лежит целая кипа нераспроданной «Смены».
23.11
Пригласили меня на литературный вечер. С Майкой и Эммой приехал в Дом культуры имени Горького.
Вошли в зал. Над эстрадой висит плакат: ВЕЧЕР ТУРИСТСКОЙ ПЕСНИ.
«Какого черта! – думаю я с тоской. – У меня нет никаких туристских песен! У меня нет гитары! Чего им от меня нужно?»
Публика прибывает. По радио объявляют: «Внимание! Геннадия Алексеева просят подойти к эстраде! Повторяем – Геннадия Алексеева просят подойти к эстраде!»
Я подхожу к эстраде.
– Вы Алексеев? – спрашивают меня. – Вы прочтете что-нибудь?
– Видите ли, – мямлю я, – в принципе я не против, но мне кажется, что мои стихи не подойдут к теме вашего вечера, у вас же туристские песни…
– Да это так, для рекламы! У нас будут и песни, и стихи. Мы пригласили Гаврилова, Агеева, Слепакову, вас, Окуджаву. Окуджавы, правда, не будет – он уехал в Москву.
– Ну ладно, – говорю я, – только пустите меня где-нибудь в конце первого отделения.
Концерт начинается. Разные молодые люди поют под гитару песни Визбора, Клячкина, Галича, Окуджавы. Какие-то неизвестные мне поэты читают стихи. Им дружно аплодируют.
Я выхожу в фойе и листаю свою книжечку. Что читать? О, господи! Угораздило же меня сюда припереться! Зачем? Кому это нужно?
Закладываю страницы бумажками. С книжкой в руке стою в дверях зала, жду.
Наконец объявляют: «Сейчас прочтет стихи поэт Геннадий Алексеев!»
Во мне что-то екает, и я становлюсь абсолютно спокойным. Выхожу на сцену, поправляю микрофон и говорю:
– Товарищи, я прошу у вас извинения. Во-первых, за то, что мои стихи будут несколько странными, и, во-вторых, за то, что я их не помню – у меня плохая память. Я буду читать из этой толстой книжки.
По залу проползает смешок. Это меня подбадривает: контакт вроде бы уже есть.
– «Смирение»! – объявляю я.
Десять лет он любил одну женщину, а она где-то далеко-далеко спала с другим мужчиной.В зале раздается смех.
Десять лет он думал — что же самое лучшее в его любви?Смех нарастает.
И наконец догадался: самое лучшее то, что его возлюбленная где-то далеко-далеко спит с другим мужчиной.Весь зал хохочет. «Какой ужас! – думаю я. – Неужели это и впрямь так смешно?»
И ему стало хорошо! —кричу я в микрофон.
Весь зал буквально изнемогает от хохота. «Пусть смеются, – думаю я, – в конце концов, это лучше, чем жидкие хлопки».
Однажды он изрядно выпил и пытался повеситься.Взрыв хохота. Аплодисменты.
Все были удивлены.
Тишина. Ждут, что будет дальше. Наконец сообразили – это конец. Опять смех и аплодисменты.
Потом я прочел «Сонет Петрарки», «Стихи о человечестве», «О пользе вязания», «Гобелен». Реакция зала была такая же. По тому, как запаздывали аплодисменты, я понял, что люди недоумевали – что это? Стихи – не стихи, но в общем забавно! Но поэты, сидевшие слева от сцены, не смеялись. Они аплодировали серьезно, подчеркнуто старательно. Они одобряли, они понимали, что это не шуточки.
После «Гобелена» ко мне подошел чернявый молодой человек с прилизанными волосами и сказал негромко:
– Если вы и дальше будете читать такие двусмысленные стихи, то лучше не надо!
Я не опешил, не разозлился. Все происходившее было так нелепо, что и это показалось мне вполне естественным. Но самолюбие мое сработало почти автоматически.
– Вот тут говорят, что я читаю двусмысленные стихи! – объявил я в микрофон. – Так что я больше не буду.
В зале начался шум. С задних рядов что-то кричали. Кто-то топал ногами. Я спустился со сцены и, не задерживаясь, вышел из зала. Майка и Эмма шли за мной.
Когда мы уже одевались внизу, в гардеробе, ко мне подошли двое парней – из устроителей вечера.
– Геннадий, извините, пожалуйста, что так получилось! Нам очень неловко. Мы вас пригласили, и тут такая история. Зря вы обиделись. Он же ни фига не понимает! Он же дурак! Вы знаете, что сейчас творится в зале! Ей-богу, простите нас!
– Ладно, ребята, – сказал я, – вы тут ни при чем. На вас я не обижаюсь.
Мы вышли, взяли такси, купили по дороге водку и закуску и, приехав к нам, выпили по случаю моего первого литературного скандала. Девчонки долго ахали, вспоминая подробности.
– Ты очень хорошо держался! – сказала Эмма. – А на Майке лица не было, я думала, что она в обморок упадет!
30.11
Чем дальше, тем труднее пишется. Приходится то и дело оглядываться – не повторяюсь ли? И все равно часто повторяюсь.
1.12
Позвонила Галя Н. и сказала, что есть возможность выступить по телевидению.
– У меня нет таких стихов, которые можно было бы прочесть по телевидению, – сказал я Гале.
– А ты напиши их! – ответила Галя. – Еще есть время.
– Стоит ли? – усомнился я. – Ведь такие стихи я мог бы написать и 5 лет тому назад.
– Ну и что же! – сказала Галя. – Лучше поздно, чем никогда Надо пробиться любой ценой, а там будешь делать то, что тебе хочется.
– Любой ценой! – подумал я. – Давно-давно твердят мне об этом разные хорошие люди, которые меня очень жалеют. «Если бы мы были на твоем месте! – говорят мне они. – Если бы мы были на твоем месте, мы бы уж не зевали! Нам бы твои возможности!» И мне даже как-то стыдно перед ними: людям так хочется пробиться, но нет у них возможностей, а у меня есть, да я не хочу пробиваться!
5.12
Грызня в литературном мире всегда удивляла меня. Казалось бы, чего делить? Все трудятся на одной ниве, все хотят людям добра. Так нет же – все друг другу завидуют, все друг друга подсиживают, и каждый рад чужой неудаче.
Вот А. А. Прокофьев, например, не может жить на одной планете с А. А. Вознесенским. Тесно ему, душно ему, тошно ему! Как же это так получается? Ругали-ругали этого прощелыгу, поносили-поносили, и – хлоп! – он оказался в Париже! Он – молокосос, кривляка, формалист отпетый, он, а не хороший честный, исконно русский поэт и лауреат разных премий. Черт-те что!
10.12
Фильм Крамера «Нюрнбергский процесс».
Что же выше – родина или человечность? Родина или истина? Родина или совесть?
Если родина требует, чтобы человек перестал быть человеком, она перестает быть родиной. Преступна мать, развращающая своего ребенка.
12.12
Ирина Николаевна Пунина пригласила нас на просмотр диапозитивов, которые она сделала во время путешествия с Ахматовой по Европе. Показывала Лондон, Париж, Вену, Рим, Сицилию. Кое-где на диапозитивах была и Анна Андреевна, грузная, очень постаревшая, мало похожая на свои знаменитые портреты. От той, прежней Ахматовой остался только патрицианский нос с горбинкой.
В комнате Ирины Николаевны висит подлинник Шагала – квадратное полотно размером приблизительно метр на метр, на нем два профиля, мужской и женский. Густо-зеленые, черные и коричневые тона.
Великая русская поэтесса живет на улице Ленина (бывшая Широкая) в доме, построенном в 54-55-м годах в стиле «сталинского ампира». Лестница довольно обшарпанная. Около двери квартиры на стене надписи карандашом: «Приду вечером. Не застал», «Позвоню завтра» и тому подобное. Прихожая мрачная, длинная, неуютная. В конце ее – полка с книгами.
В квартире живет какой-то зверь, то ли кошка, то ли собака. Когда мы сидели в комнате И. Н., в прихожей кто-то разговаривал с этим зверем. Кажется, его зовут Леша. Мы его так и не увидели.
18.12
В День Конституции, 5 декабря, в столице у памятника Пушкину было некое подобие демонстрации в знак протеста против ареста двух писателей – Синявского и Даниэля. Они обвиняются в том, что печатали свои творения за границей.
Демонстранты быстро рассеялись под натиском милиции и дружинников. Кое-кого схватили, но вскоре же и выпустили, записав фамилии, адреса и прочее.
20.12
«Вожди оппозиции» – Вознесенский и Евтушенко представлены к Ленинской премии.
1966
1.1
Магические цифры – 66 и 33. (Мне 33 года.) К добру или к худу?
Последние слова Нерона были:
«Живу я гнусно, позорно – не к лицу Нерону, не к лицу – нужно быть разумным в такое время – ну же, мужайся!»
Вот Светоний – один из гениальнейших писателей мира – до сих пор не понят и не признан по-настоящему.
А я десять лет пишу стихи и считаю себя неудачником.
2.1
Весь город занесен снегом. Вьюга мечется по улицам. Она заблудилась, она не может выбраться из этого лабиринта.
У Светония: «Тит родился в третий день январских календ, в год, памятный гибелью Гая, в бедном домишке близ Септизония, в темной маленькой комнатке: она еще цела и ее можно видеть».
Она еще цела и ее можно видеть! Светоний говорит это мне! Светоний, живший 18 веков тому назад, говорит это мне вот так, запросто!
– Хотите, я провожу вас? – говорит он мне. – Вы бывали когда-нибудь в Септизонии? Это же совсем близко, туда ходит электричка. С Витебского вокзала. Потом еще 20 минут на автобусе…
4.1
Были у нас Ю. и М. Я хвалил Вознесенского.
– Что вы! – сказала М. – У него же за душой ничего нет! И вообще, все эти Евтушенки, Ахмадулины, Вознесенские – мыльные пузыри. Одни их физиономии чего стоят! У них же лица великих поэтов! Мерзость какая! Вы вот совсем на поэта не похожи, и это очень хорошо.
«Чего же тут хорошего?» – подумал я.
«Встречи поэтов с читателями» – безнравственны. Поэт должен встречаться с читателем тет-а-тет, когда читатель листает его книгу.
Поэтические концерты развращают и публику и поэтов. Публика жаждет развлечений, публике любопытно глядеть на живого поэта – она чувствует себя как в зверинце, как в цирке. А поэт жаждет аплодисментов и боится не угодить публике, поэт публично проституирует.
Шел по лестнице. На батарее сидит худющая, грязная кошка, сидит и смотрит на меня напряженно-выжидательно – что буду делать? Пройду мимо? Или прогоню ее с батареи, а то и ударю? Чего хорошего ей ждать от меня?
9.1
Можно ли изгнать литературу из литературы? Нужно ли?
Литературу уже изгнали из живописи, из музыки. Ее изгоняют из театра и кинематографа. Но стоит ли изгонять ее из поэзии и прозы?
Левые на Западе говорят – стоит! К черту эту литературу! Надоела она! Опостылела! Идет игра в слова. Игра, и не больше.
Игра – вещь приятная. Но тоскливо думать, что все на свете – лишь игра. Неужто и впрямь ничего нельзя принимать всерьез? Даже смерть?
Неужто Освенцим и Колыма – это тоже игра? Неужто отец мой умер в шутку? Неужто играл он тогда с нами, когда мы несли его тело на носилках к трактору?
12.1
Первые дни года тяжкие, сумеречные. Мороз стоит сильный. Дни короткие. Стужа и мрак.
Устал я, невыносимо устал от своей дурацкой несчастной жизни.
14.1
В «Известиях» статья о Даниэле и Синявском.
«Отщепенцы, предатели, выродки… Нет ничего святого».
Жаргон 37-го года.
Жутковато.
15.1
Сон с чудом. Чудо – это огромная красная рыба, больше кита. Она лежит на опушке леса, раскрыв огромный рот. Через рот можно проникнуть внутрь рыбы – там всякие комнаты, коридоры, закоулки. Самое примечательное, что рыба живая, хотя и искусственная. Ее изобрела женщина-ученый с восточного типа лицом. Она рассказывает посетителям о том, как устроено ее изобретение. Но никто почему-то не спрашивает, зачем эта рыба нужна. Все знают: раз такая здоровая рыба сделана, значит, в этом есть необходимость. Не будут же ни с того ни с сего делать такое чудище!
А я знаю, что эта рыба совершенно никчемная, но молчу – робею.
И все-таки временами оно приходит ко мне – это ощущение непомерной огромности мира, видимого, слышимого, осязаемого мною мира, несмотря ни на что, принадлежащего мне мира.
18.1
Отвез Майку в больницу. Ее при мне переодели. В длинном халате и больших валенках она выглядела очень жалобно.
Новый сборник Андрея Платонова. Вслед за титульным листом – большая фотография автора.
Некрасивое, простецкое русское лицо – этакий работяга, слесарь или водопроводчик, – и видно, что жизнь работягу не баловала. Но в глазах такое всепонимание, такая спокойная, умная уверенность в своей правоте, что хоть пиши с него образ.
Когда-нибудь поставят памятник великомученикам литературы российской. И будут на камне все святые имена.
«Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад смутного отчаянья и терпеливой грусти».
«Коммунизм – не власть, а святая обязанность». «Века мы мучаем друг друга – значит, надо разойтись и кончить историю».
18.1
Был у Майки в больнице.
Больные лежат в коридорах. Войны нет, эпидемии – тоже, но люди лежат в коридорах. Им еще повезло – они все же попали в больницу. Многие месяцами дожидаются своей очереди.
Майке повезло особо: в тот день, когда ее приняли, в одной из палат умерла женщина. Майку положили на место покойницы.
У входа в Майкину палату в коридоре лежит седенькая, интеллигентного вида старушка. На ее маленьком иссохшем лице живыми остались одни глаза, большие черные блестящие глаза. Они смотрят в одну точку, находящуюся где-то на стене. Глаза наполнены покорной усталой тоской. Такие глаза бывают у лошадей, которых часто и попусту бьют.
Мимо старушкиной койки проходят сестры, посетители, ходячие больные. Глаза ничего не замечают. Они видят только самое главное, сконцентрировавшееся в этой одной-единственной точке на покрашенной масляной краской стене.
Кто она – эта старушка с интеллигентным лицом? Где ее дети и внуки? Почему умирает она здесь одна, никому не нужная, в этом плохо освещенном больничном коридоре на виду у равнодушных сестер и чужих родственников?
В «Известиях» печатают гневные письма советских людей, возмущенных гнусным предательством Даниэля и Синявского. Термин «перевертыши» народу очень понравился. Народ любит сочные слова («стиляга», «тунеядец», «абстракционист» и так далее). Народ требует расправы над предателями.
Все идет по избитой, давно примелькавшейся схеме. Так было в 37-м, в 49-м, в 53-м, в 57-м (Пастернак), в 62-м (абстракционисты). История не способна придумать что-либо оригинальное. Впрочем, в России она всегда страдала некоторой ленцой.
Не пора ли в самом деле «разойтись и кончить историю»?
Умер академик Королев, дважды герой, трижды лауреат. Никто раньше не слыхал об этом академике. Он жил и работал в глубочайшем секрете – он изобретал космические корабли и спутники. Теперь его рассекретили и похоронили у кремлевской стены.
Интересно, что он думал о мире, этот академик? Что он думал о жизни и «человеческом естестве»?
Впрочем, он, наверное, был всегда ужасно занят, у него не было досуга, чтобы размышлять о таких отвлеченных вещах. Он изобретал конкретные ракеты и самым конкретным образом запускал их в совершенно конкретный космос. И урну с его прахом замуровали во вполне конкретную крепостную стену.
Жизнь моя, как Большой проспект Васильевского острова, упирается в светлую пустоту неба над морем. Светла пустота днем, ночью же это тьма кромешная.
Но искусство все-таки существует.
Майка в своей больнице лежит красивая, румяная, с челкой… А рядом, за стенкой, эта старушка с остановившимися глазами. Вот тебе и вся правда жизни. Этакий фокус-покус.
Но если фокусники будут рассказывать, как получаются их фокусы, станет неинтересно. Да, станет неинтересно жить. А так – интересно.
Не будем же раньше времени уходить из цирка, благо за билет недешево плачено. В последнем действии всегда гвоздь программы – дрессированные звери, грандиозный иллюзион или отчаянные воздушные гимнасты.
24.1
Вернули «Жар-птицу» из «Юности»:
«Ваша поэма редакцию не заинтересовала». Подписано – Н. Злотников.
28.1
Когда я пришел в редакцию «Смены», «поэтическая пятница» подходила к концу. Вместе с Гоппе остались трое молодых людей.
– Вот тут есть стихи, – сказал Герман Борисович, – давайте обсудим.
Я прочел «Египетского ребенка», «О пользе вязания» и «Еще о вечности». Молодые люди стали высказываться.
Первый сказал, что стихи старомодны по мироощущению и ему не нравятся.
Второй сказал, что это не стихи, а нечто среднее между прозой и стихами – интересные мысли, интересно поданные.
Третий стал объяснять мне, что поэзия – дело серьезное, что нельзя подходить к ней вот так, с кондачка, что такие, с позволения сказать, стихи может писать всякий.
– Слово за вами! – сказал я Гоппе.
– Мне эти стихи не нравятся! – сказал он. – Если хотите, я могу предложить их редакции, но уверен, что они не пройдут. И вообще я должен сказать, что вы ведете себя вызывающе, по-барски. Я вовсе не обязан опекать ваши стихи! Вам идут навстречу, вам оказывают внимание, а вы гримасы строите, когда вас критикуют! Не будьте так самонадеянны! Вот тут четыре человека вам говорят, что это не стихи, а вы упорствуете!
Я растерялся. Я еще был полон благодарности этому человеку за «Жар-птицу». Я не знал, что делать.
Молодые поэты торжествующе улыбались.
Я попрощался и ушел. Оборвалась еще одна ниточка, связывавшая меня с «профессиональной литературой».
29.1
Некие тайные могущественные силы, властвующие над моей жизнью, следят за каждым моим шагом. Едва появляется у меня надежда – нажимается какая-то кнопка, и надежды как не бывало.
Идет некий жестокий эксперимент. Меня проверяют на выносливость – долго ли я смогу существовать в безнадежном состоянии. Я вроде котла, в котором нагнетается пар. Давление все время растет. Требуется выяснить, при каком давлении котел взорвется. Быть может, в последний момент откроют клапан и пар со свистом вырвется наружу. А может быть, и не откроют.
3.2
Спор о Боге.
– Бог не открывается мне, – сказал С. – Может быть, он есть, но я его не ощущаю. А раз не ощущаю, значит, для меня его нет. Люди живут, потому что не знают, как там, за гробом. Все ведь может быть. Если со смертью все кончается, это еще полбеды. А что, если там-то и начинается самое страшное?
Я сказал, что ужасы нашего века как бы отвлекли людей от их извечного, главного ужаса – от мысли о неминуемой, непременной смерти каждого. И потому эти ужасы, быть может, даны были людям во спасение.
– А ваши стихи, между прочим, богоборческие! – сказал С. – Вы, как Иван Карамазов, не можете простить Богу страданий младенцев!
– Да, не могу, – согласился я.
12.2
Суд над литераторами продолжается.
Синявский сказал, что он любит Россию, – публика захохотала. Ах, какая смешливая у нас публика!
В трамвае в уголке стояла парочка. Парень льнул к девушке, норовил тихонько поцеловать в шею, в висок, в щеку. Девушка слегка отстранялась, но ей было приятно, ей было хорошо с этим парнем.
Весна близко.
Причины моих томлений.
Раньше.
Ничего не сделано. Годы идут. И что должен я совершить?
Теперь.
Кое-что сделано. Но то ли это? Поиски доказательств, что это то.
14.2
Со смертью отца во мне что-то оборвалось – какая-то тоненькая, но ужасно нужная ниточка, на которой держалось нечто важное.
Быть может, это была последняя подсознательная надежда на конечную справедливость жизни, надежда, которую я старался не замечать в себе, но которая, однако, теплилась.
Раньше смерть была чужой и далекой. А тут она вдруг стала совсем домашней, этакой родственницей, вроде тетки, которую не любишь, но которую приходится все же чмокать в щеку, когда она приходит в гости.
15.2
Ночь. Рядом в кресле спит Филимоныч. В своей комнате спит мама. А дальше – в городе и еще дальше – в прочих городах и селениях спит великий русский народ. Никто не мешает моему счастью, счастью бодрствовать, когда все спят без задних ног.
До сих пор я не знал, как спасительна, как отрадна бывает ночь без сна.
17.2
Рассказец Солженицына «Захар Калита». Этакое славянофильство кокетливое: «Руки-ноги у него здоровы удались, а еще рубаха была привольно расстегнута…»
А так рассказец ничего себе, правильный вполне. Памятники истории нашей беречь надобно. А народ темен, и нет для него ничего святого.
22.2
В некоем доме собралось респектабельное общество. Всем тревожно. Все чего-то ждут.
Среди гостей – женщина в черном платье. Ей лет тридцать пять. У нее тонкое благородное лицо и скорбный взгляд.
Начинаются танцы. Женщина в черном приглашает меня на вальс. Я неважно танцую вальс, но стараюсь изо всех сил.
Потом гости начинают расходиться. Все уходят тихо и даже не прощаясь. У всех совершенно обреченный вид.
– Проводите меня, – говорит мне черная женщина.
Мы выходим из дому на широкую пустынную площадь и сворачиваем на узкую, незнакомого вида улицу. Дома здесь одноэтажные, с палисадниками, тротуар деревянный, дощатый.
– Подождите! – говорит женщина, останавливаясь, и жадно, с каким-то отчаяньем целует меня в губы.
Мы идет дальше. Смеркается. Никто не попадается нам навстречу. В домах не светится ни одно окно. Улица мертва.
– Кто вы? – спрашиваю я свою спутницу. Она молчит.
– Скажите же, ради бога, кто вы? Кто ваш муж? – умоляю я. Почему-то я уверен, что ее муж – очень значительная личность. Но женщина в черном упорно молчит.
Мы идем по деревянным мосткам. Кругом полнейшая тишина. Уже совсем стемнело.
– Вы знаете, – говорит вдруг женщина, – мой муж убил Хемингуэя. Мне не хочется верить, но это так.
И все исчезает.
Я лежу в постели в своей комнате. На потолке светлые полосы (свет фонаря на улице пробивается сквозь шторы). Я лежу и кончиком языка облизываю губы – на них еще остался вкус ее губной помады.
Кто она? Нам суждено было встретиться один раз, да и то во сне. Я проснулся, а она осталась там одна, на этой темной глухой улице неведомого города. Я так и не узнал, кто ее муж, так и не узнал, кто убил Хемингуэя.
23.2
Иногда мне кажется, что мои стихи и впрямь есть некая высшая реальность, недоступная непосвященным, но существующая.
Года два тому назад написал я о смерти, которую встретил в гостях и которая спутала меня с кем-то другим, отчего тот другой человек помер, а я остался жив.
Майке в больнице одна женщина рассказала, что видела свою смерть. Однажды ночью она проснулась от какого-то прикосновения к своим волосам – перед ней стояла самая настоящая смерть, худющая, серая, в каких-то лохмотьях и с косой. Женщина вскрикнула, и смерть исчезла. А через пять минут в соседней палате умер мужчина, умер неожиданно – все думали, что он выздоровеет. Смерть испугалась крика женщины, а потом разозлилась и в отместку убила этого мужчину. А может быть, мужчина и должен был умереть – смерть приходила за двоими сразу. Но с женщиной номер у нее не вышел.
В «Жар-птице» у меня тоже смерть во плоти. Впрочем, там, может быть, и не сама смерть, самой ей было везде не управиться. Она за приличную плату (за буханку хлеба) наняла дворничиху, и та делала то, что положено.
6.3
Умерла Анна Ахматова.
Это случилось в доме отдыха под Москвой. Похороны 10– го. Ходят слухи, что ее будут отпевать в Никольском соборе.
8.3
В «Известиях» на последней странице в подвале небольшой некролог Твардовского. В «Литературке» – полоса.
Все пишут о «трудной, но завидной участи» и о «пушкинских традициях». Паустовский написал: «Я счастлив, что жил в одно время с ней».
9.3
Вечером позвонила Н. и сказала, что гроб с телом поставили в Никольском соборе.
Войдя в собор, я огляделся. Ничто не говорило о том, что здесь находится прах великой русской поэтессы.
Свернул налево. Я протиснулся внутрь и увидел гроб, обставленный с боков еловыми венками. Бородатые юноши, взявшись за руки, сдерживали публику, но толпа не очень напирала. Люди медленно двигались по кругу, задние привставали на цыпочки, чтобы лучше видеть.
Через минуту я очутился у изголовья покойницы.
Живой я ее никогда не видел. Но я ощущал ее присутствие в этом городе, в этом мире. И вот она лежит передо мной мертвая и доступная, очень непохожая на себя, на свои портреты и фотографии. Я нагибаюсь и целую ее в холодный каменный висок.
Гроб закрыли. «Она должна отдохнуть, завтра у нее трудный день», – сказала служительница собора, поправляя венки.
Народ разошелся. Осталось несколько человек.
У входа в собор кто-то уговаривал другую служительницу не закрывать на ночь дверь, потому что должен прийти скульптор, чтобы снять посмертную маску.
– Не могу! Ничего не знаю! Не имею права! – твердила женщина.
– Это ваш долг! – говорили ей. – Ваш святой долг!
Кто-то рассказывал, что было в Москве.
Анна Андреевна гостила в столице, когда у нее случился сердечный приступ. Она долго лежала в больнице (в палате на четырех человек) и стала выздоравливать. Потом она жила в доме отдыха в Домодедове. Здесь от второго приступа она и умерла. Три дня ее тело пролежало в морге больницы Склифосовского, никого к нему не подпускали. Какие-то студенты собирались каждый день под окнами морга, но двери открыли лишь за три часа до отлета самолета. Во дворе больницы устроили небольшую гражданскую панихиду. Выступали Тарковский, Лев Озеров и еще кто-то. Из знаменитостей были Евтушенко и Вознесенский. «Классики» не явились.
10.3
Пришел в собор около полудня. Народу было уже много. У гроба в центре зала люди стояли плотно и неподвижно. По краям же все время происходило какое-то движение: кто-то пробирался вперед, надеясь найти место поудобнее, кто-то возвращался, убедившись, что все лучшие места уже заняты.
Еще шла обедня. Пел хор. Я стоял у стены рядом с В. – он прилетел из Москвы специально на панихиду. Взгляд выхватывал отдельные куски картины: ярко-красные красивые губы женщины, черный старушечий платок, рыжую бороду парня – поэта, где-то когда-то виденного, позолоченный завиток на окладе иконы, серебряную лампаду на толстой цепи, светлый прямоугольник двери, в котором медленно падал крупный снег…
Обедня кончилась. Зажглись люстры. Началась панихида.
Голос священника был приятен, интеллигентен. Голоса дьячков были гнусавы.
– …Новопреставленной рабы божией А-а-нны-ы!
Народ прибывал. В толпе возникали волны и водовороты. Было душно. Сладко и дурно пахло ладаном.
– …В царстве праведных да утвердит ее Господь и да воздаст ей вечное успокое-е-е-ние!
Панихида кончилась. Началось прощание.
Я пробрался вперед и увидел голову покойницы с бумажным венчиком на лбу. Рядом с ней возникали и исчезали лица прощавшихся. Некоторые глядели внимательно, как бы стараясь запомнить черты усопшей, иные же как-то смущенно скользили глазами по ее лицу и тотчас отводили их вбок. Кое-кто наклонялся и целовал покойницу в лоб.
У гроба лицом ко мне стояла Аня, заплаканная, измученная, в темном, сбившемся на затылок платке. С другой стороны стояли Лев Гумилев, его жена и еще какие-то люди.
Началась давка. Задние напирали на передних. Кто-то кричал:
– Тише, товарищи! Не напирайте! Все успеете! Назад! Два шага назад! Не напирайте, будьте сознательными!
Над толпой появилась крышка гроба. Со всех сторон закричали:
– Не закрывайте! Дайте проститься! Не смейте закрывать!
Кто-то уговаривал:
– Товарищи! Прощание с покойной будет в Доме писателей, поезжайте туда! Там будет гражданская панихида!
Из толпы раздался громкий отчетливый голос:
– Гражданская панихида здесь!
И снова была давка. Рядом со мной женщина, побледнев и закрыв глаза, прислонилась к колонне. Кого-то оттаскивали под руки в сторону.
Началась панихида над другими покойниками в боковом нефе. Снова хор и голос священника, но все это уже издали. Потом издали же стук молотка и истерический женский вопль.
Народ шел мимо гроба около часу. Говорят, что в соборе было более двух тысяч человек.
Мы с Д. выходили последними. На полу валялись пуговицы, разбитое зеркальце, ручка от женской сумки, скомканный носовой платок, раздавленные цветы.
К нам подошла пожилая, бедно одетая женщина:
– Кого же это отпевали-то? Сроду еще в церкви столько народу не видывала.
– Писательницу отпевали, – сказал Д., – знаменитую русскую поэтессу.
– А как звали-то ее?
– Анна Ахматова.
– Не слыхала такую. Неужто знаменитая? Да и верно – кабы не знаменитая, разве пришло бы народу такое множество! А она что – верующая была? Писателей-то и начальство всякое теперь в церквах не отпевают – так хоронят…
12.3
Автобусная остановка в Зеленогорске. На остановке человек десять. Все стоят тихо, ждут.
Внезапно один из стоящих мужчин бьет одну из стоящих женщин провизионной сумкой по голове. Тишина нарушается. Женщина кричит и плачет. Мужчина норовит ударить ее еще раз, но ему мешают. Нельзя, говорят ему, бить женщину!
– Я вот вам дам – нельзя! – вопит мужчина, угрожающе размахивая своей провизионной сумкой.
В этот момент пострадавшая, изловчившись, бьет мужчину кулаком по щеке. Мужчина кидается на нее, но поскальзывается и падает навзничь, смешно задрав ноги.
Дальше драка идет с переменным успехом, постепенно затихая. Становится ясно, что это муж и жена, что оба они пьяны и дерутся с удовольствием. Им уже не мешают.
Когда подходит автобус, муж заботливо натягивает на голову жены сбившийся платок, а жена нахлобучивает на лоб мужу лохматую шапку. И оба, торопясь, лезут в машину.
13.3
Высокий мрачный брандмауэр. На самом верху одно-единственное оконце. По ночам в нем горит розовый свет.
Будто огромная крепостная башня.
Средневековье. Мрак кругом. Злые глупые рыцари в нелепых латах. Инквизиция. Фанатизм. А в башне, отгородясь от мира, живет добрый мудрец.
По ночам рыцари спят, устав за день от лат и от злобы, а мудрец не спит, думает.
Может быть, он не один. Может быть, он живет в башне с красавицей дочкой, такой же доброй, как он, такой же чуждой Средневековью.
Может быть, у них еще есть кот. Да, пожалуй, без кота им не обойтись. Когда я днем прохожу мимо брандмауэра, я всегда задираю голову, стараясь разглядеть кота на окне – все коты сидят на окнах, должен и он сидеть. Но его что-то не видно.
15.3
Воспоминания Анастасии Цветаевой.
Взахлеб. Навзрыд.
Русь та, прежняя. Жизнь – та, прежняя. Интеллигенция та, прежняя – совестливые, благородные, образованные, утонченные люди – языки, литература, музыка, чувство природы, чувство отечества…
16.3
Выставка Серебряковой в Русском. Вроде бы иллюстрации к мемуарам Цветаевой.
Женщины с тонкими, продолговатыми, одухотворенными лицами. Овальные подбородки. Нежные розовые губы. Глаза как спелые вишни после дождя. Ниспадающие пряди длинных прямых волос. Белые алебастровые локти.
Вокруг этих женщин чистый, прозрачный утренний воздух. За их спинами в открытых окнах – светлые дали с полями и деревьями. Перед ними флаконы с духами, черепаховые гребни, какие-то трогательные женские безделушки, цветы в вазах…
Жизнь вечна, прекрасна, непобедима…
Бедная русская интеллигенция.
Нестеров – великий пейзажист.
Тоненькие эти березки, маленькие сосенки и осинки, на которых каждая иголочка, каждый листик виден, всю эту беспомощность и застенчивость детей-деревьев, все это тихое умиление растений перед солнцем, перед жизнью никто так по-русски не понял, как он.
Есть здесь что-то от Достоевского. Все детское, беззащитное и наивное – символ изначальной святости жизни, безгрешности ее. Это добро «без кулаков», но добро могучее.
17.3
Лицо нестеровского Сергия стоит перед глазами.
Приступ отчаянной нежности к России.
Место дуэли Пушкина. Обелиск из розового гранита среди прозрачных зимних деревьев. Рядом железная дорога. Чуть подальше – новый жилой район, девятиэтажные башенные дома. Над ними торчит шпиль телевизионной мачты.
Трудно представить, что когда-то это было укромное безлюдное место, где можно было спокойно стреляться в свое удовольствие.
22.3
Комендант Освенцима Рудольф Гесс был повешен в Освенциме.
Он учил своих детей честности и трудолюбию. Он любил свою семью, любил животных. В глубине души он сомневался: разве есть необходимость в уничтожении сотен тысяч женщин и детей?
И все спрашивают: откуда это взялось? Как могло это случиться? Как могли мы это допустить? Где мы были тогда?
Где я был тогда? Что делал?
Я был мальчишкой и занимался своими мальчишечьими делами.
Но в 49-м и в 53-м я уже не был мальчишкой. Когда началось «Дело врачей», у меня не было сомнений – да, враги, да, замышляли, да, готовы были на все. Когда умер Сталин, я плакал. Да, плакал.
23.3
Учредили государственные премии РСФСР за шедевры в области литературы и искусства.
«К рассмотрению принимаются произведения… содействующие коммунистическому воспитанию трудящихся, отвечающие принципам социалистического реализма».
Напечатали мой автореферат. Пришел за ним в редакцию – не дают. Главлит, говорят, должен разрешить выпуск в свет.
Взял три книжечки, пришел в Дом книги, поднялся на третий этаж. Нигде нет надписи «Главлит», зато на каждой двери табличка: «Посторонним вход строго запрещен».
В одной из комнат за стеклянной перегородкой сидят женщина и мужчина. Женщина так себе, а мужчина красивый, холеный, бородатый. К ним-то мне и надо. Но они заняты, они разговаривают со стариком. Старик кричит:
– Формалисты! Бездушные формалисты! Меня, старого человека, заставляете по десять раз бегать туда и обратно!
А они ему отвечают (и как отвечают! С какими царственными интонациями!):
– Все равно вы будете делать то, что мы потребуем! Мы не шутим! Если мы требуем, значит, так надо! И вы нам свои законы не устанавливайте! Ясно? Вот так!
Старик умолкает, вытирает плешь платком и уходит.
Две книжицы у меня забирают, а третью возвращают, поставив на обложке печать с номером.
Возвращаюсь в типографию, и мне вручают 125 экземпляров моего творения. Тираж – 175, но 50 экземпляров типография сама рассылает в разные инстанции – в Книжную палату, в Обком, в Комитет по печати, и еще в какой-то комитет, и еще в какой-то, и еще…
Десятки номенклатурных граждан прочтут по обязанности мой опус, внесут его в картотеки, в каталоги, поставив на нем сложные шифры и номера. А спустя несколько лет эти же или другие граждане по обязанности же перечитают его и поставят штамп «проверено». Спустя же еще несколько лет опять перечитают и опять поставят штамп «проверено».
И много лет мой автореферат будет жить своей собственной жизнью, без меня – я ничем уже не смогу ему помочь.
1.4
В речи на съезде партии писатель Шолохов выразил сожаление, что писателей Даниэля и Синявского судили по закону, а не попросту «руководствуясь революционным правосознанием». «Гуманизм – это отнюдь не слюнтяйство», – сказал он.
9.4
В этом году все христиане празднуют Пасху в одно время.
Был ли Христос еще жив, когда солдат проткнул его копьем?
Народ кричал: «Варавву! Варавву!»
Народ, как всегда, был непрозорлив. Впрочем, кричали подкупленные первосвященниками. Кричали громко. И народу казалось, что это кричит он сам.
27.4
Сегодня я защитил свою диссертацию.
Народу было много. Сзади стояли и сидели на столах. Выступление мое, против ожидания, оказалось сносным. Оппоненты как-то скромно, будто бы с сожалением, прочли свои не слишком восторженные отзывы. Я столь же скромно ответил на их замечания. Из 14 бюллетеней 13 были «за» и один – недействителен.
Потом были поздравления, объятия, цветы. Студенты первого курса подарили мне книгу. Очень был тронут.
1.5
Сижу у телевизора. Показывают военный парад на Красной площади. Ракеты, ракеты, ракеты… Генералы в чешуе орденов и снова – ракеты, ракеты, ракеты… С каждым годом они становятся все толще, все длиннее, все ужаснее.
На каждого смертного из живущих на этой планете уже припасено 80 тонн тринитротолуола. Но этого мало. Надо, чтобы на каждого было по одной ракете. А лучше, если по две. Тогда уже нечего будет бояться.
Пошел в магазин. У прилавка винного отдела кто-то жалкий, дурно одетый, униженно просит продавщицу продать ему «маленькую».
– Никаких маленьких! – говорит продавщица строгим голосом. – Сказано же: до двух часов водку не продаем! Такое постановление. Пока не кончится демонстрация, никакой водки тебе не будет! Потерпи!
Человечек заискивающе улыбается, хихикает, но от прилавка не отходит.
– Иди, иди! – говорит продавщица. – Не мешай работать! Сказано тебе – такое постановление!
Сюжет.
В старой заброшенной церкви скульптор лепит гигантскую статую. Статуя так велика, что ее голова упирается в купол, а протянутая рука внутри не помещается и торчит из окна. Люди смотрят на церковь с торчащей рукой и удивляются. Старушки крестятся.
Наконец статуя готова. Чтобы ее освободить, церковь начинают разбирать. Статуя вылупляется из церкви, как цыпленок из яйца. Старушки крестятся.
Церковь исчезла. Вместо нее стоит статуя, возникшая в ее чреве. Старушки приходят к ней молиться.
Милиция разгоняет их. «Это же не церковь! – говорят старушкам. – Церкви больше нет! Это статуя великого человека!»
Но старушки упорны. Тайно по ночам они приходят к статуе и страстно молятся.
И происходит чудо – статуя постепенно превращается в церковь. Голова делается куполом, внутри туловища возникает большой зал со сводами, на сводах появляются старые фрески.
Только рука все еще торчит вбок, напоминая о таинственном превращении.
Городские власти дают указание – церковь взорвать!
Солдаты со взрывчаткой подходят к церкви и вдруг видят, что рука грозит им гигантским пальцем. Они бросают свои ящики и в ужасе разбегаются.
12.5
Вчера в Ташкенте опять было землетрясение. Есть разрушения.
Сегодня вечером начинается мое новое путешествие в Среднюю Азию. В Ташкенте я буду завтра в 6 утра.
13.5
В самолете все спят. Только стюардесса-бедняжка сидит на скамеечке в хвосте у гардероба и не спит. Не читает, просто сидит и смотрит в одну точку. Стандартная блондинка в синем костюме. Но лицо у нее хорошее.
Самолет летит вглубь Азии. Я дремлю. Мне что-то снится. Просыпаюсь и забываю, что снилось, За окнами брезжит рассвет. Небо быстро светлеет. Появляется солнце. Внутренность самолета освещается фантастическим красным светом. Я протягиваю руку к окну, и она становится кроваво-красной.
Солнце подымается. Оно освещает огромную пустыню плотных серых облаков под нами. Облака постепенно тают, под ними открывается другая пустыня – коричневая, холмистая; нигде не видно ни зелени, ни домов, ни дорог.
Подлетаем к Ташкенту. Самолет снижается. Хорошо видны кварталы города с новыми домами, машины на дорогах. Разрушений не видно.
В аэропорту – никаких следов бедствия. Народу немного, паники нет. Все постройки целы.
На площади перед аэропортом узбеки продают цветы – огромные букеты роз, красных, розовых, чайных. Продают дешево, почти даром отдают.
Глядим, нюхаем, ахаем. Хочется купить, но что мы будем с ними делать? Кому их подарим?
Садимся в автобус и едем в город. По мере приближения к центру следы землетрясения становятся заметными. Появляются дома со зловещими трещинами по всему фасаду. У некоторых часть наружных стен вывалилась на тротуар, и видны комнаты с люстрами, с кроватями и шкафами. Около домов стоят палатки. Но народ на улицах выглядит как обычно – никакого трагизма на лицах, никакого беспорядка в одежде. Городской транспорт работает нормально. В открытых кафе красивые девушки-узбечки едят мороженое. В чайханах и шашлычных сидят старые узбеки в чалмах. И всюду продают розы. Никогда в жизни не видел столько роз! На рынке они лежат гигантскими грудами, горами! Всех сортов, всех оттенков! Нежнейшие, только что срезанные, с каплями росы на лепестках, с тончайшим сказочным ароматом!
Я покупаю одну большую, чайную, и ежеминутно подношу ее к лицу, любуюсь ею, нюхаю ее, пробую на вкус ее лепестки. С ума сойти – какая красавица!
Подземные толчки были самыми сильными в районе центрального сквера, но Оперный театр пострадал мало, а гостиница и новый универмаг вовсе не пострадали. Зато рядом целый квартал одноэтажных глинобитных домов разрушился почти полностью. Бульдозеры сносят остатки строений и расчищают завалы.
Учреждения переселились в большие военные палатки с окнами. Магазины торгуют с лотков прямо на тротуаре. Торговля идет бойко.
В аэропорт возвращаемся в полдень.
Под озверевшим солнцем тащим свои пакеты по асфальтированному полю к самолету. Усаживаемся, и я мгновенно проваливаюсь в небытие.
Просыпаюсь, смотрю в окно и вижу под собой мутно-желтую реку, текущую по коричневой земле. Это Зеравшан.
Земля летит на нас. Она конопатая. Она все ближе и ближе. Уже видно, что конопатины – это кустики колючки. В последний миг колючка исчезает, и мы садимся на полосу голой желтой земли.
Подруливаем к знакомому белому сарайчику и останавливаемся.
Выходим.
Жара. Тишина. Пустыня. На горизонте невысокие синие горы.
14.5
Мечеть в старом городе. Большие серые ящерицы ползают по стенам. Внутри полумрак. На полу толстый слой чистой серой пыли.
У стен мечети старое кладбище. Оно все заросло большими кустами колючки – надгробий почти не видно.
Мальчик на облезлом большеголовом ишаке.
15.5
Ночь. Вокзал города Навои. На скамейках спят люди. Густой мужской храп. Между скамейками прохаживается милиционер.
В скверике под деревьями расположилось узбекское семейство: отец с черным закоптелым лицом, в залатанном пиджаке и в сапогах с галошами, мать в длинном грязно-красном платье, из-под которого торчат шальвары, шестеро ребятишек разного роста. Все сидят тихо, почти не двигаясь. Над ними, среди листвы акаций, – узкий кривой месяц.
Утро. На троллейбусе подъезжаем к самаркандскому базару. Я жадно смотрю в окно. Мелькнул какой-то синий купол, потом стрельчатая арка…
Входим в ворота базара и останавливаемся, разинув рты.
Узбеки в разноцветных халатах, в чалмах и тюбетейках. Узбечки в ярких платках и платьях. Ишаки, лошади, грузовики. Горы всякой снеди на лотках – лук, редиска, морковь, огурцы, клубника, черешня. Тут же жарят шашлыки. Тут же, сидя на коврах, пьют чай. И все это на фоне грандиозных развалин мечети Биби-Ханым, у стен которой и расположился рынок.
Зеленные ряды, фруктовые ряды, овощные ряды, мясные ряды, лепешечные ряды (лепешки со сложным узором из теста, в середине обязательно цифры – 1966). Отдельно продают живность – кур, гусей, индеек, кроликов, птиц в клетках.
Гуси сидят спокойно, глядят на народ и не гогочут.
Огромный красный с золотом петух привязан веревкой за ногу. Он стоит, гордо выпятив грудь, полный презрения к людям и животным.
Парень в тюбетейке купил двух куриц и привязал их за ноги к седлу велосипеда. Куры висят вниз головой и не шевелятся, будто мертвые.
Шум, гам. Из репродукторов узбекская музыка. Жара.
Идем осматривать Биби-Ханым. Вместе с нами во двор мечети входит группа немцев-туристов. Озираются, щелкают фотоаппаратами.
Развалины величественны.
Задрав головы, смотрим на разорванную арку гигантского портала. В проломе купола летают стрижи. Майолика ослепительно сверкает на солнце.
Регистан.
Даже слишком красиво.
Раньше – книги, кино, живопись, музыка. И вот – своими глазами. Синяя глазурь на синем небе. Очень синяя глазурь на не очень синем небе. Небо явно проигрывает.
Три медресе на одной площади. Площадь выложена камнем. Посередине несколько небольших пирамидальных деревьев (туя). Три гигантских стрельчатых арки смотрят друг на друга и на эти деревья.
Шах-и-Зинда.
Вовсе сказка. Мавзолеи взбираются на холм. Между ними узкая улица.
Идем по улице. Синие глазурованные порталы. За ними прохладный полумрак, сталактитовые своды, изысканный орнамент росписей, надгробия из резного камня.
Перелезаем кирпичный забор, выходим на кладбище, заросшее неизменной колючкой, и смотрим на мавзолеи издали: куча куполов на рыжем, выжженном солнцем холме. Вдали синим силуэтом руины Биби-Ханым и минареты Регистана.
Снова рынок. Мастерские ремесленников. Кузнецы, плотники, жестянщики, медники, гончары. Работают медленно, но красиво.
Полчаса смотрели, как кузнец выковывал лезвие топора. Он делал это так же, как его предки лет 300 тому назад. Он делал это долго. Такой топор, наверное, дорого стоит. В магазине неподалеку навалена гора дешевых топоров заводского изготовления. И однако же он ковал, ковал, не торопясь, уверенный в том, что его работа кому-то нужна. Мы глядели, как работает кузнец, и нам хотелось купить этот топор. Он казался нам произведением высокого искусства, он был дьявольски красив, этот обыкновенный в общем-то топор, чуть более узкий, чем обычно, с неровной кованой поверхностью, но острый, как нож. Ж. подержал его в руке и, вздохнув, положил на прилавок.
– Купил бы, – сказал он, – да тяжелый, лень везти пять тысяч верст.
Мы пошли и всё оглядывались. Издалека топор казался невыносимо красивым, от него нельзя было оторвать глаз.
Медники делали кувшины с длинными горлами – кумганы.
Плотники делали детские люльки особой конструкции, приспособленные для подвешивания к потолку.
В ларьках продавали восточные сласти – халву разных сортов, какое-то неведомое нам печенье, вареный сахар.
Пришли в чайхану. Я заказал чайник зеленого чая.
Чайханщик взял пустой чайник, бросил туда щепоть сухого чая, налил кипятку и поставил чайник на горячую плиту. Через минуту чай был готов.
Чайханщик взял со стола три грязные пиалы, поболтал ими в тазу с водой и протянул их мне. Грязная вода ручейками стекала по стенкам на донышки пиал и собиралась там в серые лужицы. Не моргнув, я забрал пиалы, забрал чайник и пошел к нашему столу.
Мы ели только что купленную на базаре крупную редиску, откусывая и выплевывая хвостики. Мы пили мутно-зеленый чай. Кругом кипел самаркандский базар. Оглушительно играла азиатская музыка.
Чай попахивал рыбой и был похож на суп. Но нам нравилось.
Потом – старый город. Идем к Гур-Эмиру. Купол его то появляется впереди, то ныряет за глинобитные стены. Он все ближе и ближе. Вот наконец последний поворот, и это чудо зодчества предстало перед нами, освещенное низким вечерним солнцем.
Перед мавзолеем высокий стройный портал с узкой аркой. Он ведет во двор, в глубине которого второй портал, и над ним – он, этот синий, гофрированный, знаменитый, тысячекратно описанный и воспетый, лучший купол мусульманского мира – жемчужина Азии, ослепляющая своей красотой всех неверных и правоверных, единственный в своем роде купол, на который небо старается не глядеть вот уже 500 лет, потому что, взглянув на него, оно тут же треснет от зависти, – ни с чем не сравнимый божественный купол, под которым покоится прах кровожаднейшего из азиатских владык.
Заплатили по гривеннику и вошли в святилище.
Пусто, сумрачно, прохладно. В центре зала несколько надгробий из мрамора и нефрита. Одно из них – Тамерлана.
По лестнице спустились в подвал. Здесь в том же порядке стоят другие надгробия. Под ними-то и лежат останки самаркандских властителей. Верхние надгробия лишь обозначают места, под которыми находятся нижние – настоящие.
Постояли. Помолчали.
Откуда-то подуло легким ветерком, и опять воздух стал недвижим.
Битвы, походы, казни, грабежи, пожары, величие, власть, могущество, кровь, пепел, вероломство, жестокость, жадность – пять столетий, как легкий сквозняк. Остались лишь кости под глыбами мрамора.
Нет, неправда. Остался Регистан. Остались Биби-Ханым и Шах-и-Зинда. Остался Самарканд. Осталось искусство. Только оно.
Поезд идет на запад. Мы сидим в вагоне-ресторане и пьем теплую, противную минеральную воду. Поезд идет резво. Через два часа – Навои.
16.5
О Нурате нам говорили все.
– Съездите в Нурату! Обязательно надо съездить! Не пожалеете!
– Как! Вы еще не были в Нурате? Просто смешно!
– Нурата – это вещь! Вот увидите!
Что мы знали о Нурате сегодня утром, когда брали билеты на автобус?
Мы знали, что Нурата – маленький, но очень старинный узбекский город, расположенный за горной цепью, в двух часах езды от Навои-Кермине. Городок этот сохранился в первозданном виде со времен Средневековья. Он знаменит своим святилищем – местом паломничества мусульман всей Средней Азии (возможно – гипербола). В святилище есть бассейн, в котором плавают священные черные рыбы, которых нельзя есть.
Нурата был последним оплотом басмачества на территории бывшего Бухарского эмирата. Он держался до середины 30-х годов. Отсюда басмачи делали набеги на соседние районы.
О Нурате ходят легенды.
Одна из них.
Отряд буденновцев, первый ворвавшийся в непокорный город, изрубил в капусту всех, кто попался на глаза. Потом конники выловили священную рыбу из священного бассейна, зажарили ее и устроили пиршество. К утру почти все победители были мертвы. Они не знали, что священная рыба несъедобна. Там же, на городском кладбище, их и похоронили.
И вот мы влезаем в маленький запыленный автобус, битком набитый аборигенами в роскошных национальных костюмах. На наших местах (места нумерованные) сидят узбечки с многочисленными сумками и мешками. Мы показываем билеты шоферу. Шофер – он тоже узбек, но в европейской одежде – что-то говорит женщинам по-узбекски, мы поняли только слово «закон», произнесенное по-русски. Узбечки встали, забрали свои мешки и сели на другие места. В последнюю минуту перед отъездом в автобус полезли безбилетники. Они просительно смотрели на шофера, и тот великодушно кивал им, разрешая. Безбилетники расположились в проходе, они сели на свои мешки и прямо на пол.
– Вы в Нурату? – спросил нас шофер. – А чего вам там надо?
– Интересуемся местными достопримечательностями, – ответили, – хотим взглянуть на святые места.
– О, – сказал шофер, – это хорошо! В Нурате есть что посмотреть, Нурата – интересный город!
Автобус тронулся.
Долго ехали по зеравшанскому оазису. На хлопковых полях, как причудливые абстрактные скульптуры, стояли наголо остриженные тутовые деревья (каждую весну их так остригают). Этот довольно мрачный пейзаж оживляли яркие платья работавших на полях женщин (мужчины на полях работают только трактористами или поливальщиками). Проехали мост через Зеравшан. Оазис кончился. Началась сухая, поросшая колючкой степь, сначала ровная, потом холмистая. Холмы становились все выше и выше.
Автобус ехал медленно. Дорога шла на подъем. Пласты каменной породы, стоявшие вертикально, вылезали из холмов ровными параллельными грядами, Холмы напоминали гигантских доисторических чудовищ с зубчатыми черными гребнями на хребтах (каменная порода была черная, блестящая, похожая на руду какого-то металла). Миновали перевал и покатились вниз. Шофер все время тормозил и давал длинные гудки на поворотах. Дорога была никудышная. Машину трясло, как в лихорадке. У меня клацали зубы, я даже прикусил кончик языка.
Спустились в долину. До горизонта зеленели посевы.
– Как поливают все эти поля? – спросил я у шофера.
– Никак! – ответил он. – Вырастет так вырастет, а не вырастет – пустят скот, он все сожрет. Но иногда вырастает кое-что.
Автобус остановился у преграждавшего дорогу шлагбаума. Из стоявшей на обочине деревянной будки появился милиционер. Шофер сказал, что всем надо выйти и обязательно пройти по опилкам, насыпанным у шлагбаума, – это дезинфекция от эпидемии ящура. Мы вышли и прошли, тщательно топая, по опилкам. Они были бурые от дезинфицирующего раствора. Автобус тоже проехал по опилкам. Мы заняли свои места и поехали дальше.
Дорога пересекала долину по прямой. В конце этой линейки виднелось нечто похожее на кишлак.
Кишлак приближался, стали видны развалины какой-то большой постройки, видимо, крепости.
Въехали в кишлак и остановились.
– Стоим пять минут! – объявил водитель по-русски и по-узбекски. Потом, обращаясь к нам: – Пойдемте, я покажу вам, тут рыба есть!
– Уже рыба! – удивились мы
Рядом с чайханой в тени деревьев мы увидели бетонный бассейн с чистой зеленой водой. Вода вытекала в узкий арык. В бассейне и в арыке плавали довольно большие рыбы с черными спинами.
– Это хорошая вода, помогает от многих болезней! – сказал шофер.
Мы купили лепешку, раскрошили ее и стали кормить рыб. Они с жадностью набрасывались на крошки, выпрыгивали из воды, норовя схватить их на лету. Они столпились под нами в воде, толкались боками, пихались плавниками и, наверное, ругались между собой, ссорясь из-за крошек, но ругани мы не слышали.
Ко мне подошел пожилой узбек в халате, подпоясанный ярким платком.
– Эту рыбу нельзя трогать, это святая рыба. И есть ее нельзя: кто съест, тот умрет! Эту рыбу нельзя трогать!
– Ага, – сказал я, – все ясно – святая рыба!
– Эту рыбу нельзя трогать! – сказал узбек еще раз, почему-то раздражаясь.
– Понимаю – нельзя, – сказал я. – Действительно, раз она святая, так зачем ее трогать? Мы вот покормим ее и уйдем. А вы не знаете, как называется эта рыба?
– Никак не называется! Просто рыба, и все! Святая рыба!
– Ага, понятно! Просто рыба! Это даже хорошо. Это звучит гордо, так же как «человек»!
– Это не человек, это рыба! – возмутился узбек. – Ты что, не видишь? Это святая рыба, и человек ее есть не может!
– Да, конечно, – согласился я, – это рыба, а не человек, я и сам это вижу. Хотя чем-то эта рыба напоминает человека, наверное, жадностью и нахальством.
– Зачем ты так плохо говоришь о святой рыбе?! – вскричал узбек. – Это нехорошо! Святая рыба не нахальная! Ты сам нахальный – приехал к святой рыбе и говоришь такое!
– Да, конечно, – вздохнул я, – святой рыбе можно простить нахальство.
Едем дальше. Снова поля, неизвестно как орошаемые, потому что арыков не видно. Снова невысокая гряда холмов с выходами скальной породы. Но здесь скалы не острые, а как бы оплавленные, с мягкими округлыми вмятинами. Эти скалы похожи на огромные черепа. Наверное, это черепа тех самых чудовищ, которых мы видели перед этим.
Пейзаж становился все таинственнее. Когда скалы раздвигались, справа виднелась большая гора со зловещими острыми зубцами. Мы приближались к Нурате.
Холмы кончились, и мы сразу оказались в большом кишлаке, на первый взгляд ничем не примечательном.
– Нурата! – объявил шофер.
Долго едем мимо кладбища. Никаких надгробий, никаких памятников не видно. Просто холмики. На некоторых лежат два-три небольших камушка. Такой маленький городок – и такое большое кладбище! «Интересно, где похоронены те буденновцы, которые отравились рыбой? – думаю я. – Уж не под этими ли камушками они, сердешные, и лежат?»
Потом едем по чистой глиняной улице: глинистая земля, глиняные глухие заборы, глиняные стены низких домов без окон. Ишак, привязанный к столбу, тоже явно глиняный, он неподвижен, и шерсть у него цвета глины.
Останавливаемся около чайханы. Вылезаем. Наш гид-шофер ведет нас к святилищу. Оно тут же, рядом, у подножия высокого холма с остатками древней крепости.
Два мавзолея. Один небольшой, с деревянным айваном, второй побольше – с несколькими куполами. Рядом с ними бассейн, выложенный рваным камнем. Вода в нем совершенно прозрачная. В воде рыбы с черными спинами. Их множество – тысячи, быть может, десятки тысяч. «Странно, – думаю я, – как они все могут жить в этом небольшом бассейне? Чем они питаются? Или их кормят? Сколько же надо корма, чтобы прокормить стольких рыб?»
Из бассейна вытекает широкий арык, в самом же бассейне вода берется «из земли», как объяснил наш гид. Это и есть святое место – ни с того ни с сего из земли вытекает речка с чистейшей холодной водой. Такое встретишь не часто. Кругом сухая степь, пустыня, голые бесплодные, раскаленные солнцем скалы, и вдруг – вода! И разве сама вода не свята в этих местах? Не бесценна? А тут она течет и течет, не иссякая, даже в самые жаркие месяцы ее не становится меньше. Ясное дело – святой источник.
В арыке рыба тоже кишит. В одном месте над ним растет тутовое дерево. Под деревом рыба стоит стеной, сплошной черной массой.
– Чего это они? – спросил я у шофера.
– А вот потряси дерево – увидишь! – ответил тот.
Мы с Ж. потрясли – спелые ягоды полетели в воду. Вода вскипела. Рыбины кинулись на ягоды. Воды просто не стало видно – была бурлящая черная с золотыми проблесками живая рыбья масса. Ягоды были мгновенно проглочены, и рыбы успокоились, застыв на одном месте в тени тутовника. Только приглядевшись, можно было заметить, что это не черное дно арыка, а плотная масса рыбьих спин с шевелящимися плавниками.
Все это производило странное, жутковатое впечатление. «Похоже на сон, – подумал я, – даже очень».
К бассейну пришла экскурсия школьников. Все дети в красивых национальных костюмах. Учитель в брюках и пиджаке, но с традиционной узбекской тюбетейкой на затылке. Он что-то долго рассказывал. Дети смирно слушали.
К нам подошли два мальчика.
– Эту рыбу действительно нельзя есть? – спросил у них Ж.
– Да не, можно, только не разрешают, – ответил один из мальчиков на чистейшем русском языке.
Насмотревшись на рыб, мы с О. полезли на холм к крепости. Ж. пошел в чайхану заказывать обед.
Взобравшись на вершину, я опять увидел ту зловещую зубчатую гору. Она была близко. Она возвышалась над крепостью и над городом, грандиозная, подавляющая своим мрачным величием и неприступностью.
У развалин крепостных стен нашли много черепков, глиняных и фарфоровых. Тут же валялись куски белого мрамора.
– Дело пахнет археологией! – сказала О. И исчезла.
Я крикнул, она не отозвалась. «Что за чертовщина!» – подумал я и стал заглядывать за каждый выступ, в каждую ямку. Но О. нигде не было.
Я стал орать истошным голосом, сложив ладони рупором. Жители ближних домов выходили во дворы и смотрели на меня – сверху мне все было видно. Я бегал по холму среди руин на виду у всего города и орал, как полоумный. Пот резал мне глаза, затекал в открытый рот. Но О. не отзывалась, она пропала бесследно. «Да, конечно, это сон, – думал я, – теперь одна задача – проснуться!»
И тут я увидел О. Она спокойно стояла внизу у подножия холма и смотрела на меня из-под руки.
– Неужели вы не слышали, как я кричал? – спросил я ее, запыхавшись. – Весь город слышал!
– Нет, ничего не слышала! – ответила О.
– А вообще-то вы хорошо слышите? Уши у вас в порядке?
– Да, вполне в порядке.
– Очень странно!
– Да, действительно странно! – сказала О., и мы пошли обедать.
В чайхане-столовой была идеальная чистота. У входа висел рукомойник. Рядом на гвоздике – белоснежное полотенце. На столиках вазочки с бумажными салфетками, и ни одной мухи. «Странно, – подумал я опять, – Азия – и ни одной мухи!»
Шофер уже давно ждал нас – мы были его главные пассажиры и на обратный маршрут, главные и единственные. Из Нураты никто не хотел уезжать.
Около автобуса вертелся грязно одетый хромой узбек неопределенного возраста.
– Ах, хороший девушка! – сказал он, глядя на О., и чмокнул губами. – Слушай, давай меняться, – это уже обращаясь ко мне, – я тебе один святой рыба, а ты мне – один девушка!
Глаза его были вытаращены. Один глаз слегка подмигнул.
«Шутник или сумасшедший?» – подумал я с беспокойством.
– Давай, а? Один маленький рыба на один девушка!
– На маленькую рыбу я не согласен, – сказал я, – давай большую!
– Большой нельзя! И мне, и тебе будет нехорошо! А маленький аллах не заметит! – Ты будешь много кормить маленький рыба, и он станет большой, как твой девушка!
– Долго кормить надо! – сказал я. – Нет, я не согласен.
– Жалко! Ай, жалко! Такой хороший девушка! Красивый! Давай на два маленький рыба! Аллах простит!
Мы сели в автобус. Хромой еще что-то говорил, делал руками знаки.
Тронулись.
Опять кладбище. Потом холмы с черепами. Потом поля, которые никак не орошаются, и холмы-чудовища. И все время слева (теперь уже слева) неподвижно, не удаляясь и не приближаясь, стояла таинственная зубчатая гора. Она была грозна и неотступна, как рок. Казалось, она молча следила за нами сквозь прикрытые каменные веки.
17.5
Вечером в гостях у Н.
У него ежик. Серенький, большеухий и длинноногий. Бегает вдоль стен. Его черный нос нервно подергивается.
Пришел знакомый Н. – прораб. Стал рассказывать о заключенных.
Им платят половину заработка, но выдают лишь по 5 рублей в месяц на мелкие расходы. Остальные деньги они получают после освобождения.
Некоторые работают хорошо, с удовольствием, некоторые же (уголовники-рецидивисты) не работают совсем. Деньги выписывают на бригаду. Те, кто работают, обеспечивают себя и бездельников.
В Навои все лагеря строгого режима. Зона огорожена высоким сплошным дощатым забором с колючей проволокой по верху. На углах вышки, в них солдаты с автоматами. За забором полоса распаханной земли, потом еще ограда с колючей проволокой. И, однако, побеги случаются. И не всех беглецов вылавливают.
Незадолго до нашего приезда бежало человек десять – сделали подкоп под ограждением. Троих не поймали. Говорят, что им удалось пробраться за границу.
Был случай – двое заключенных замуровались в подвале строящегося дома. Заранее запаслись водой и пищей и замуровались. Охрана сбилась с ног, но найти их не смогла. Тогда зону закрыли – все зеки оставались на стройке несколько дней. Замуровавшиеся не выдержали и размуровались, – у них кончилась вода.
18.5
Пировали в чайхане на базаре старого города. Ели шашлык, заедали его редиской, луком и маринованными патиссонами, запивали сухим вином и зеленым чаем. В чайхане в этот час было пусто. Чайханщик – красивый старик с орлиным профилем – сам сидел на помосте, застланном коврами, и тянул чай из большой фарфоровой пиалы.
Потом мы прощались с мечетью. Выяснилось, что она не просто мечеть, а ханака – приют для странствующих дервишей. Это было когда-то крупнейшее заведение такого рода в Средней Азии.
Возвращаясь домой, проходили мимо «зоны». Как раз окончился рабочий день (заключенные работают по 8 часов). Из ворот вышло около десятка солдат с автоматами. Один вел на поводке немецкую овчарку.
Солдаты стали полукругом, держа автоматы наперевес. Группами по пять человек стали выходить зеки – они строились в колонну. Когда все вышли, солдаты окружили колонну со всех сторон, и она двинулась.
Все заключенные были в куртках и штанах грязно-синего цвета. На головах такого же цвета кепки.
Эта плотная грязно-синяя масса медленно пересекала пустырь перед гостиницей. Тут же по пустырю ходили обыкновенные вольные люди – парни в бобочках и узких брюках, девушки в ярких платьях с голыми руками и ногами. Они не обращали на заключенных никакого внимания. Какая-то женщина с авоськой прошла между зеками и конвойными. Солдаты, казалось, не заметили ее.
В Навои к зекам привыкли – они построили этот город на краю пустыни.
На одном из девятиэтажных домов, который еще не закончен и находится в зоне, висит большой плакат: «Слава советским строителям!».
В сквере у кинотеатра висит еще один плакат, написанный стихами:
Идейное искусство нужно нам.
Сметем с дороги формалистический хлам!
И нарисовано: скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница» надвигается на уродливую, перекореженную Венеру, которая держит в руке книгу. На книге надпись – «Треугольная груша».
Плакат выцвел. Он висит здесь, наверное, с 62-го года.
Вечером у Н. разговаривал с девушками-медичками. Они закончили Самаркандский медицинский институт и направлены в Навои по распределению. Работают первый год.
Город им нравится, он чище и благоустроеннее, чем Самарканд, но жить в нем скучновато. Нет даже приличной библиотеки. Только кино и танцульки.
Коренные жители-узбеки, как ни странно, с большим уважением относятся к молоденьким русским врачихам и вполне доверяют современной медицине. Это везде, даже в самых глухих кишлаках.
Попробовал поговорить о поэзии. Девушки назвали несколько имен неизвестных мне самаркандских поэтов, которые здесь популярны. Но вообще они обожают Евтушенко, особенно любовную его лирику.
Девушки из интеллигентных семей.
Год назад мы были такие пай-девочки, а теперь водку пьем! Ужасно!
19.5
Аэродром Навои. Вдалеке на фоне гор идет длинный железнодорожный состав. Он раздвоился, стал двухэтажным (мираж). Навстречу ему ползет другой состав – он раздваивается на наших глазах. Звука не слышно. Поезда кажутся бесплотными тенями, самопроизвольно, таинственно возникшими в пустыне.
Слышен гул самолета. Он нарастает.
В конце летного поля возникает облако рыжей пыли. Облако медленно приближается, поворачивает, останавливается, некоторое время стоит неподвижно. Гул стихает. Облако рассеивается, и мы видим сверкающий алюминием Ил-14.
Снова Ташкент.
От Алайского базара идем к улице Навои. Этот район сильно пострадал. Почти все дома вышли из строя. Люди переселились в палатки. Около палаток бегают ребятишки, тут же собаки, кошки. Часть имущества осталась в комнатах, и днем туда заходят, но спят только в палатках.
Доходим до старого города. Он совершенно цел. Волна землетрясения его миновала.
На пригорке стоит свеженькое, только что из реставрации, медресе Кукельдаш, построенное в XVI веке. За ним начинаются узенькие улочки с глиняными дувалами. Кое-где в дувалах деревянные резные двери. Над дувалами торчат телевизионные антенны.
Садимся в самолет. Пассажиров мало. А в Навои нам говорили, что улететь из Ташкента невозможно: после последних подземных толчков население панически бежит из города.
Взлетаем и летим на северо-запад.
Через час пролетаем Аральское море. В воде гигантский красный столб – отражение вечернего солнца.
Потом пилот объявляет в микрофон: «Справа по борту – река Урал!»
Урал вьется узкой змейкой по рыжей пустой равнине.
На земле уже сумерки, а нам солнце еще светит, оно бьет прямо в иллюминаторы оранжевыми горизонтальными лучами.
Пилот объявляет: «Внимание! Пролетаем Волгу! Великая русская река Волга берет начало на Валдайской возвышенности между Москвой и Ленинградом и впадает в Каспийское море. Это важнейшая водная артерия европейской части Союза. Сейчас на Волге паводок, вы видите, как широко она разлилась, затопив свою пойму!»
Глядим вниз. Действительно – Волга здорово разлилась. На ней множество островов разной формы. Даже с такой высоты она производит внушительное впечатление.
Появились облака. Они ниже нас. Они освещены сбоку низким солнцем и невероятно эффектны. Они не похожи ни на что. Совершенно фантастическое зрелище.
Мне кажется, что мы путешествует по карте: вот Сыр-Дарья, вот Аральское море, вот Урал, а вот и Волга. Прошло всего лишь три часа полета.
Земля под нами уже зеленая. Видны светлые ленты рек, какие-то города и городишки. Кое-где уже горят огни.
Пилот объявляет: «Внимание! Подлетаем к столице нашей родины Москве! Самолет совершит посадку в аэропорту Домодедово».
Перед нами стеклянное здание Домодедовского аэропорта. Вокруг аэродрома – березовый лес. Пахнет влажной весенней землей, свежей зеленью и еще чем-то. Родные русские запахи.
2.6
Временами вопрос «что делать?» надолго уходит в тень и стоит тихо, не шевелясь. Кажется, что он уже помер там, в тени, или кто-то подменил его восковой куклой. Но после он делает шаг вперед, и на него падает луч солнца. И снова он стоит передо мной в полной своей красе, в полном своем безобразии, опротивевший мне до рвоты.
Молодое лето. Еще совсем новое. К нему еще не привыкли – оно как праздник. Приятно летом жить на свете.
Давеча сидели с Ж. в Летнем саду, пили пиво. Рядом стояла знаменитая решетка. И Летний дворец Петра Великого стоял тут же. И текла Нева. А из Невы вытекала Фонтанка. Кроме того, было тепло, светло и безветренно.
Мой вопрос, совсем забытый, стоял за стволом старой липы. Я его не видел, но знал – он там. Вообще-то надо было вытащить его из-за дерева, усадить за стол и угостить пивом, но я сомневался – вдруг это ему не понравится? Может быть, он и пива-то не пьет? Так он и стоял, бедный, в сторонке.
Потом у Марсова поля встретили мы очень самостоятельного черного кота. Он спокойно шел в толпе прохожих по тротуару. Не бежал, опасливо озираясь, как это делают все коты, когда попадают на шумную улицу, а шел, не торопясь, с чувством собственного достоинства.
Кот стал переходить улицу. Было много машин, но они шли не очень быстро. Любой другой кот прошмыгнул бы между ними. Но этот стоял вместе с пешеходами на углу и ждал.
Перейдя на другую сторону, он, так же не торопясь, пошел по тротуару вдоль Мраморного дворца. Его внимание привлекла детская коляска. Молоденькая мамаша стояла тут же и беседовала с подружкой. Кот встал на задние лапы и заглянул в коляску. Он смотрел на младенца с явным интересом – кончик хвоста у него чуть подрагивал. Потом он потерся боком о мамашину ногу и пошел дальше. Совершенно черный, без единого пятнышка кот с совершенно круглыми желтыми глазами. Ведьмовский кот. Недаром он был так уверен в себе.
Давеча же в Доме архитектора предавались мы с Майкой культурному архитектурному отдыху. Один симпатичный юноша пел нам под гитару старинные русские романсы. Ловко пел, умеючи. Пожилые архитекторы умилялись: такой молодой, такой современный – и так хорошо поет старинные романсы!
После были танцы под джаз, и Майка так плясала твист, что все глядели на нее, выпучив глаза. Но от такого усердия ей стало дурно, и я еле довез ее до дому.
А в «Литературке» ругают «Молодой Ленинград», хорошо ругают, с пристрастием.
«Стоит сорвать с вахтинских рассказов, с ефимовской повести изящную упаковку, стоит забыть о Толстом, Бабеле, Хемингуэе…»
И правда! Давайте забудем о Толстом, Бабеле, Хемингуэе! И о Стендале, Чехове, Достоевском, Бунине – тоже! Ну их всех к лешему! И сорвем изящную упаковку с литературы – сразу все увидят, что она не изящная! Сразу все поймут, что она никому не нужна, что все это сплошная белиберда!
Браво, «Литературная газета»! Браво, критик Сидоров! Браво и бис! Ура!
И еще: вызвали меня в военкомат и вклеили в мой военный билет мобилизационное предписание.
Через 8 часов после начала войны должен я явиться к некоему детскому садику, имея при себе вещмешок, ложку и кружку. ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ явиться по этому адресу, должен прибыть я в другое место, расположенное далеко за городом.
Тут тебе лето, Летний сад, черный кот и смешная «Литературная газета», а тут тебе – натуральный конец света. Не литературный, не метафорический, а самый реальный, уже учтенный в миллионах бумажек, в сотнях циркуляров и предписаний.
И предстану я пред господом с вещмешком, с ложкой и с кружкой. И с этим мобилизационным предписанием. А там, на Земле, уже ничего не будет – ни Парижа, ни Нью-Йорка, ни Летнего сада, ни кошек, ни женщин, ни стихов – ни черта.
Встану я – руки по швам – и гаркну:
– Младший инженер-лейтенант запаса Алексеев по вашему, Господи, приказанию, явился!
– Как стоишь! – скажет Господь. – Выше подбородок, убери живот! Распустили вас там, внизу! Я с вами цацкаться не буду!
3.6
Моя беда – косноязычие. Я никудышный собеседник, молчун, скучный, серый тип. Общение с интеллектуалами для меня сущая мука. Сижу и думаю, что бы сказать этакое умное. И всегда я не в курсе – плохо знаю кино, джаз. Даже литературу современную плохо знаю и говорить о ней не умею. Слушаю, как говорят другие, и удивляюсь: откуда они все знают? И завидую. И огорчаюсь.
Люблю компании, где никто не умничает, где просто пьют водку, смеются и говорят всякие глупости.
12.6
Сегодня воскресенье. И солнце. Решили погулять на свежем воздухе.
Приехали в Приморский парк на Крестовском и ужаснулись.
Травы не было видно. Голые тела лежали сплошь – под всеми кустами, среди цветов на газонах, вдоль всех дорожек и аллей. По аллеям бродили толпы раздетого народа. Людей в парке были многие тысячи.
Старухи с жирными дряблыми телами в безобразных розовых панталонах, пожилые отцы семейств в длинных черных трусах и в соломенных шляпах, вовсе голые малые дети обоего пола, молодые красотки в модных купальниках «бикини» и в черных очках, парни в шортах. Транзисторы, фотоаппараты, киноаппараты, бутылки, консервные банки, зонтики, шезлонги, надувные матрацы, детские коляски… Шум, гам. Транзисторы оглушают невероятной какофонией из джаза и популярных советских песен. К аттракционам не подступиться. Крутятся карусели, мелькают качели, серебряные самолетики делают мертвые петли, тележки с грохотом несутся с «американских гор». Женский визг, хохот, крики.
Ах, как весело! Ах, как хорошо!
Народ развлекается. Народ отдыхает. Народ дышит свежим воздухом.
17.6
Птицы не хотят уступать лес дачникам.
Одна птаха свила гнездо в нашем недостроенном сарае – прямо у входа, на дровах. В гнезде пять серых пятнистых яичек. Когда я вхожу в сарай, птица улетает, но если не вхожу, если только стою у входа, она сидит в гнезде, выставив голову и хвост; мне ее хорошо снаружи видно.
Что-то долго она сидит на своих яйцах. А потом ведь еще и птенцов будет выращивать. Длинная история. Придется с сараем подождать – после дострою.
В нынешнем моем восприятии природы есть нечто скорбное. Пришел, мол, и уйду, а ты, любезная моему сердцу природа, останешься навеки.
А раньше, в шестнадцать, в восемнадцать, в двадцать лет, соприкасаясь с ней, я думал о своем бессмертии, ибо уверен был, что не умру никогда. Да, даже в двадцать. Умом знал, что смертен, а сердцем не верил.
Тогда, в 52-м, в Петровском, когда открылась мне вдруг вся красота лесов, лесных опушек, лесных дорог и тропинок, лесных речек и озер, – как тогда был я счастлив!
Прошло с тех пор 14 лет.
Завтра мне исполнится 34.
18.6
Солнце мягкое, сквозь облака. И очень тихо. Ни одна травинка не колышется.
Пошел в лес за корягами.
Едва вошел в ближний ельник, меня атаковали полчища комаров. Обмахивание веткой не помогало. Эти твари жалили мне спину сквозь рубаху, впивались в ноги, не обращая внимания на носки. Я бросился бежать. Они – за мной, но несколько поотстали. Я перешел на шаг, и они снова настигли меня. И зверствовали пуще прежнего.
Пока я выворачивал из земли корень сосны, они облепили меня всего. Они сладострастно приникли к моему телу и пили мою кровь. Взвалив корень на плечи, я позорно бежал из леса. За моей спиной слышалось грозное гудение. Они были вне себя от ярости: я ускользнул недоеденный, полный вкусной красной крови!
«Сволочи! – думал я. – У меня же сегодня день рождения! Разве можно пить кровь из человека, когда у него день рождения! Совсем осатанели!»
Искупался и поехал в город. Вечером смотрели «Назначение» в постановке «Современника».
Все та же вечная тема о дураках. Смысл пьесы: умным нельзя сидеть в тени, умные должны быть энергичны, должны быть уверены в себе, должны занимать то место, которого они заслуживают; все беды от того, что глупые нахальны, а умные скромны. Как только умные займут свое место, все образуется. Все зависит, оказывается, только от них самих, от умных. Они добровольно посадили себе на шею дураков и терпят.
Потом у нас были гости. Спорили о Солженицыне.
П. сказал, что я Солженицыну завидую: его печатают, он известен. Я обиделся, ушел из комнаты, хлопнув дверью, но в душе было сомнение: а что если П. прав?
21.6
В нашем саду распустился мак. Огромный, ослепительно красный цветок. Внутри же он черный. И белые тычинки.
Стою перед ним, любуюсь и удивляюсь. Зачем, кому нужна была бы эта красотища, не будь человека?
Тонкие, нежные лепестки шевелятся под ветром, как пламя. Протянул руку, дотронулся до них кончиками пальцев – не жжется. Холодный огонь.
Прилетел шмель, залез в середину цветка и стал там копошиться, не обращая на меня никакого внимания. Конечно, это не мой, это его цветок.
Хочется писать, но не пишется. Не екнуло еще под ложечкой. Жду, когда екнет.
Хочется писать все о том же – о жестоком и ласковом мире, о горькой и счастливой моей жизни в нем и о страшной смерти, которая валяется где-то пьяная, хвост набок.
28.6
Проснулся от шума дождя. Открыл дверь – шум вошел в дом. Лежал и слушал его. Засыпал, просыпался и снова засыпал. Дождь шел все утро. Он так разошелся, что стала протекать крыша. По дорожкам неслись бурные реки – казалось, они снесут наш дом в озеро.
Когда дождь унялся, я пошел в сарай и заглянул в гнездо – там было пятеро птенцов. Наконец-то! А я думал, что эта птица так ничего и не высидит.
10.7
Сон.
В сумерках мы с Ж. ждем машину. Наши рюкзаки стоят в пыли на дороге. «Машина скоро придет, – думаю я, – надо оттащить рюкзаки на обочину».
Беру свой рюкзак и ищу глазами рюкзак Ж., но не нахожу.
«Наверное, он уже оттащил его», – думаю я.
Подходит Ж.
– Что же ты, – говорит он с обидой в голосе, – свой рюкзак взял, а мой оставил! О себе только думаешь! Друг называется!
Тут я замечаю его рюкзак, он такой же серый, как пыль на дороге, и в сумерках почти не заметен.
– Прости, – говорю я, – сейчас сумерки, а твой рюкзак серый, и я его не заметил.
– Ах, ты его не заметил? – говорит Ж. – Ты только себя замечаешь!
И он бьет меня кулаком под дых. Боль и обида прожигают меня насквозь.
Просыпаюсь. Наяву тоже сумерки. В сумерках я вижу свой плащ, висящий на гвозде, вбитом в дверь. Некоторое время я не узнаю его.
«Что это такое? – думаю я. – Вроде бы кто-то стоит… Ах да! Это же мой плащ!
Снова засыпаю. Во сне мой плащ говорит мне:
– Я тебе служу верой и правдой, я спасаю тебя от дождя, а ты даже не узнаешь меня! О себе только и думаешь, эгоист несчастный!
12.7
В «Молодой гвардии» книга Ильи Глазунова «Дорога к тебе». Ужасающее славянофильство.
Владимирская богоматерь – лучше Сикстинской мадонны, Дионисий лучше Джотто, и так далее. Тот же комплекс, что и у вчерашнего нашего гида в Каунасе.
И стиль зело сладостный:
«Фанфарные, сияющие радостью, напевные аккорды цветовых созвучий… поднимаешь с трепетом глаза и замираешь».
13.7
Проблема русского хамства сложна. О ней можно написать тома. И когда-нибудь их напишут.
Есенин был основоположником поэзии русского хамства. К счастью, он сделал и еще кое-что. Но многие его ученики унаследовали именно эту грань многогранного творчества учителя, которая была непосредственно связана с манерой его поведения на людях и с его сугубо личной жизнью.
В Европе человек темный уважает свет. У нас же темные люди склонны думать, что свет – штука лишняя и даже вредная. Они любят свою неотесанность, они обожают свой кулак, свои бицепсы, свои звериные повадки и глубоко уверены в том, что культура – это выдумка ханжей и хлюпиков (ведь без культуры-то хлюпик не проживет, те, кто посильнее, мигом свернут ему шею!). Свои взгляды они выражают со свойственным им прямодушием.
Обладая феноменальным талантом, Есенин доказал недоказуемое. Он доказал, что поэту необязательно быть цивилизованным человеком и тем более интеллектуалом.
И тысячи молодых людей с незаконченным средним образованием, сплевывая сквозь зубы и матерясь, уверенной походкой двинулись на Парнас.
Хоть я и покойник, любопытство меня не покинуло. Одним глазом незаметно слежу я за тем, что делается вокруг. Иногда, когда плохо видно, я даже приподымаю голову и выглядываю из гроба. И надо сказать – интересно. Приятно смотреть на живых людей. Но если заметят – засмеют: «Какой же ты, – скажут, – покойник! Хитришь, брат!»
Улица, на которой стоит наше общежитие, очень гулкая. Когда внизу проезжает машина, моя комната наполняется грохотом.
Ночью у входа под липами подолгу шепчутся парочки. Мне кажется, что шепчут мне в уши. Но я ничего не понимаю – шепчут по-литовски.
Купил «Авиаэтюды» Межелайтиса. Очень красивая, большая книга. Переводы Слуцкого, Корнилова, Сосноры, Окуджавы, Мартынова, Самойлова – прекрасный букет. Очень многозначительная книга.
Читаю я ее и огорчаюсь: все люди, как люди, а я – белая ворона. Не перекраситься ли в обычный, серый вороний цвет?
20.7
Поезд Вильнюс – Ленинград. Сосед по купе спрашивает меня:
– Что вы думаете о бразильцах?
– М-м-м-м, – говорю я, – собственно… мои мысли не оригинальны.
– Ну а все-таки?
– Я думаю, что бразильцы молодцы! – выпаливаю я.
– Вы мне голову не морочьте! – говорит сосед строго. – Скажите прямо: по-вашему, у них есть шансы?
– Не то чтобы шансы, но что-то вроде этого у них, несомненно, имеется.
– А что вы скажете на это? – и сосед протягивает мне газету. В газете написано, что бразильская сборная проиграла венгерским футболистам, что это неслыханно, что последствия этого события трудно даже предугадать.
– Собственно, я так и знал, что они проиграют венграм, – говорю я с апломбом. – Их звезда уже закатилась, это ясно.
– Но ведь Пеле не играл! – кричит мой сосед.
– Ну и что! – кричу я. – Подумаешь, Пеле! Молокосос! Что он может? Рекламный мальчик!
– Это Пеле-то рекламный мальчик? – спрашивает меня сосед со зловещей ухмылкой. – Это Пеле-то молокосос?!
– Конечно! – говорю я не слишком уверенно. – И вообще я считаю, что чемпионами будут португальцы!
– Это португальцы-то будут чемпионами? – говорит сосед и смотрит на меня кровожадным взглядом.
На всякий случай я иду занимать очередь в туалет.
Виктор Шкловский написал бы так:
«В мире существуют закаты. Они бывают великолепны. Их может видеть всякий – они общественная собственность.
Обыватель их не замечает. Обывателю плевать на закаты. Он обожает футбол».
29.7
Вышел новый закон против хулиганов. На основе «ленинского принципа неотвратимости наказания». Оказывается, был и такой принцип.
Выдвинута задача «полного искоренения преступности в стране». «Впервые в истории».
Пен-клуб официально осудил Союз писателей СССР в связи с делом Синявского и Даниэля. Артур Миллер выразил свое сожаление и недоумение.
В Москву за разъяснениями приезжал представитель Пен-клуба Карвер. Ему посоветовали отказаться от предвзятости. Ему разъяснили, что в Советском Союзе с писателями обращаются по-свойски и посторонних это не должно волновать.
Карвер и уехал, несолоно хлебавши.
3.8
Подлетаю к Кенигсбергу. Внизу мелькают черепичные крыши. Зеленые поля перерезаны длинными рядами деревьев. Эти ряды пересекаются, образуя как бы сетку, наложенную на ландшафт. «Странно», – думаю я. Мне кажется, что я прибываю на Марс.
Вот она, Германия – загадочная страна Гете и Гиммлера!
Садимся на военном аэродроме – аэропорта здесь нет.
До города час езды на автобусе. Едем.
Шоссе с двух сторон обсажено деревьями. Шоссе хорошее, но узкое – деревья не позволяют его расширить. Пересекаем другое шоссе – оно тоже обсажено деревьями. Вот откуда те длинные ряды деревьев! Это дороги. Их много. И они сделаны давным-давно – деревья-то старые, вековые. Вот она, Европа, с ее знаменитыми дорогами!
Пейзаж по сторонам напоминает парк: зеленые лужайки, живописные купы развесистых деревьев. Кое-где – каменные домики с красными черепичными крышами. Деревень нет.
Домиков становится больше. Начинаются пригороды. Домики увеличиваются, появляются четырех-пятиэтажные дома, но тоже с острыми черепичными кровлями. Дома стоят среди деревьев.
Автобус останавливается на площади у памятника Ленину.
Сажусь на трамвай и еду дальше.
Вторая площадь. Посередине ее большой пьедестал из красного гранита, но статуи нет. И надпись сбита. Далее – гигантский пустырь. На краю его, на пригорке грандиозная руина крепости – видимо королевского замка (Кенигсберг – королевская гора). Чуть подалее, в низине около канала, развалины готического собора и еще какого-то внушительного сооружения в стиле «ренессанс». Вдали на окраинах пустыря еще несколько руин.
Это все, что осталось от старого Кенигсберга, от самой древней центральной его части. Когда-то она выглядела приблизительно так же, как центр Таллина.
Столица прусского королевства, богатый купеческий город, стоявший века, превратился в пустырь, заросший чертополохом.
«По воле одного маньяка… неизмеримые страдания… груды развалин…»
Ложь. Психоз овладел всей нацией. Кенигсберг держался до последнего и пал незадолго до падения Берлина, когда Германия уже перестала существовать. Исступленная ярость овладела и осаждавшими, и оборонявшимися. Потом, когда все было кончено, среди дымящихся развалин собирали трупы русских и немцев. Русских похоронили в центре города и позже воздвигли над братской могилой большой обелиск. Немцев неизвестно где похоронили.
Королевский замок горел: серый камень, которым облицованы стены, оплавился. Железобетонное перекрытие висит на прутьях арматуры. Тут же, рядом с руиной, стоят танки Т-34, на их башнях белой краской написаны лозунги: «За родину!», «На Берлин!». По танкам ползают ребятишки. Около танков стоят юпитеры. Снимают фильм о войне. Только в Калининграде можно найти теперь такие выразительные развалины.
Подхожу к остаткам собора.
Даже в таком виде готика изумляет и подавляет.
Интерьер грандиозен. Уцелели хоры с красивой винтовой лестницей, выложенной из кирпича, ряды арок центрального нефа, ренессансный алтарь из камня. Своды всех трех нефов рухнули. Пол усыпан обломками. Среди обломков куски статуй.
Снаружи в стены вмурованы каменные надгробные доски с надписями и гербами. Некоторые – прекрасной работы.
В алтарной части к наружной стене пристроен портик с квадратными колоннами. Между колонн – цепи. За колоннами крупные черные буквы: Immanuil Kant. Чуть пониже – маленькая досочка с надписью по-русски: «Могила Канта охраняется государством».
Дорога от собора идет как бы по оврагу. Уровень земли на пустыре значительно выше уровня дороги. Видимо, кирпич разрушенных домов не вывозили, а просто разровняли. Потом сверху выросла трава. Город похоронен там, где он стоял.
4.8
Живем с Майкой в Ниде, в добротном деревянном доме, крытом черепицей.
Ходили к дюнам. Они огромные, желтые. У их подножия рощица карликовых сосен. Сосны чуть выше человеческого роста, но растут так густо, что пройти по такому лесу невозможно. На земле только мох, травы нет.
Взобрались на первую дюну, постояли наверху.
Вокруг один песок – ни одного кустика, ни одной травки. Как в пустыне. Вдали – вода залива. И еще – небо. Первозданный пейзаж. Перед такой природой человек ощущает себя совершенно лишним.
8.8
Мой пессимизм.
Есть ли хоть крупицы утверждения в моем кредо?
Полно!
Утверждаю человеческое в человеке. Утверждаю совесть, добро, красоту и бессмертие через добро и красоту.
Боюсь конца света?
Да, боюсь. Но его должно бояться. Бесстрашие здесь подобно самоубийству. Надо, чтобы была тревога, надо, чтобы кто-то не спал ночью.
Блок был тысячу раз прав: не пессимизм, а трагическое восприятие действительности. Страдать страданиями мира, болеть его болезнями – это ли не высокое призвание?
Пока живу, вопреки разуму верю в торжество добра и стараюсь делать добро, как умею.
9.8
Майка читает воспоминания Шкловского о разных литераторах и удивляется: всех он знал! Со всеми был знаком!
Я сказал:
– У писателей есть странная привычка держаться кучкой. И вечно между ними какие-то интриги, споры, любовь, вражда. Потом, под старость, все пишут друг о друге воспоминания. Смешно! В общей массе человечества писатели составляют ничтожную долю процента, и, однако, они быстро находят себе подобных. Под это даже подводится теоретический базис: общение-де необходимо для взаимного творческого обогащения, для учебы; литератор должен дышать воздухом литературы, должен плавать в литературном аквариуме и питаться литературными червяками.
Сказал и подумал:
«Это я оттого, что у меня нет никаких литературных знакомств, оттого, что я один. И рад бы, да не выходит».
Над Нидой воет ревун.
Утром было солнечно. Потом набежали тучи, залив затянуло туманом, пошел дождь.
И завыл ревун. В его монотонных, равномерно повторяющихся стонах есть что-то жуткое, тоскливое до мурашек на теле. Под такую музыку приятно, наверное, пустить пулю в лоб.
14.8
На заливе соревнования яхтсменов. Яхты одна за другой выходят на рейд. На горизонте множество парусов. Их треугольники все время движутся, сходятся вместе, расходятся, наклоняются, выпрямляются, растут, приближаясь, и снова уменьшаются, почти скрываясь за горизонтом.
Танец парусов. Бесшумный плавный танец. Для себя, для моря, для неба.
15.8
Сижу на берегу и думаю о Пушкине.
Его канонизировали. Его поставили на такой высокий пьедестал, что он стал почти не виден.
Кричат: любите Пушкина! Учитесь у Пушкина! Не уходите от Пушкина! Не троньте Пушкина!
Привлекает его оптимизм.
Глядите, говорят, в мрачные годы царизма поэт был весел и жизнелюбив! Его ссылали, его травили, а он не хныкал, а он не жаловался! Берите пример с Пушкина! Вас будут ссылать (или ссылали), вас будут травить (или травили), а вы не поддавайтесь унынию! Смейтесь, как Пушкин! Любите женщин, как Пушкин! Презирайте рок, как Пушкин!
А Пушкин, конечно, не виноват. Жилось ему неплохо. Век был тихий, уютный.
17.8
Приехали в Ригу, бродим по городу.
Рига застроена удивительно добротными домами. Все улицы выглядят как наш Каменноостровский проспект. Одноэтажных и двухэтажных домишек совсем нет даже в старом городе. Судя по стилю и датам на фасадах, большинство зданий было воздвигнуто за какие-то 20 лет в самом начале нашего века. Мелькают цифры: 1902, 1905, 1909, 1916… В эти же годы интенсивно застраивались Петербург, Москва, Киев. Какой был размах строительства! И какое качество!
Домский собор.
Орган. Витражи. Надгробные плиты на полу. Монастырский двор с галереей. Мрачное величие Средневековья.
Ливонский орден. Битва на Чудском озере. Войны Ивана Грозного. Войны Петра. Борьба за Балтику.
Люди уважают самоубийц. Кем была Мэрилин Монро до того, как наложила на себя руки? А теперь вокруг этого имени трагический ореол.
Смотрели с Майкой американскую кинокомедию «В джазе одни девушки». В главной роли – Монро.
Полтора часа здорового смеха перед сном. Приятно ощущать себя веселым, бодрым, бесстрашно-легкомысленным – этаким праздничным воздушным шариком мутно-розового цвета.
А она отравилась.
22.8
Псков.
Пришли с Майкой в гостиницу. Я спросил у администратора безнадежным голосом:
– Может быть, найдется что-нибудь для двоих?
– Найдется, – ответил администратор.
– Найдется? – переспросил я, не веря своим ушам.
– Да, да, найдется! – повторил администратор. – Вот вам бланки – заполняйте.
«Нет добра без худа, – подумал я, – теперь жди неприятностей».
И верно. Едва вышли мы в город, оставив свои вещички в гостинице, как пошел проливной дождь. И не остановился до вечера.
Весь день мы дремали на своих кроватях в двухместном номере под шум псковского дождя.
23.8
Вдоль стены Окольного города вышли к Великой. На берегу стоит Покровская башня – большая, толстая. Особенно хороша она внутри: огромный пустой круглый зал, в стенах на разной высоте дыры амбразур. Похоже на интерьер церкви в Роншане.
За башней – живописнейшая церковь Покрова. Вернее – две церкви, сросшиеся боками, как сиамские близнецы. Посередке – звонница. Перед церковью врыт в землю старый каменный крест с полустершейся славянской вязью.
По ту сторону реки, прямехонько напротив, белеет Мирожский монастырь. Под берегом множество лодок. На воде – круги от дождя. Он все идет.
Встретили Н. Она очень нам обрадовалась, привела в Реставрационные мастерские. Потом сели на ЗИС-110 и поехали к С. ЗИС-110 когда-то возил обкомовское начальство, но по старости списан и отдан Реставрационным мастерским. Он действительно дряхл и разваливается на ходу.
Проехав метров 10, останавливаемся. Шофер Миша – типичный одесский брюнет с кокетливыми бачками и усиками – обходит машину кругом, нагибается, выпрямляется, постукивает по ней пальцами и говорит небрежно:
– Колесо немного отвинтилось!
Минут 20 привинчиваем колесо. Н. то и дело выскакивает из машины и спрашивает:
– Ну как, Миша? Ну что? Скоро, Миша?
Наконец едем дальше. Переезжаем мост и останавливаемся у церкви Успения «с пароменья».
Мастерская С. находится в звоннице. Над дверью два черепа – лошадиный и коровий, чуть пониже – подкова. На стенах висят толстые ржавые цепи, старинные кованые светильники. Тут же большая, в натуральную величину, копия фрески из Снетогорского монастыря. На столах стоят старые медные самовары и чайники.
Сам С. тоже неплох – бородат, дороден, степенен.
Пришли еще гости – некий московский журналист с женой. Появились зеленые бутылки «московской», огурцы и колбаса. После первого тоста журналист стал очень разговорчив, у С. тоже развязался язык.
Однажды ночью С. разбудили: приехал очень важный английский архитектор и требует, чтобы гидом у него был самый знающий человек. Делать нечего – С. становится гидом. Английский архитектор осматривает псковские древности, ахает, таращит глаза, обалдевает, благодарит С. и уезжает к себе в Англию.
Но оказалось, что вышла ошибка, никакой это был не архитектор, а вовсе даже скотовод, но любитель искусства и очень богатый.
Через месяц получил С. из Лондона пакет со множеством английских марок разных цветов – на всех марках та же самая королева Елизавета. В пакете брошюрки дешевенькие об архитектуре и вырезанные из журналов цветные картинки с разными греческими храмами. На обратной стороне каждой картинки надпись от руки – какой храм и в каком веке построен. Пусть, мол, бородатый русский архитектор просвещается – есть и такая архитектура.
Рассказал еще С. о том, как был в гостях у Илюши Глазунова. Ждал он хозяина до двух ночи. Тот прибежал, запыхавшись:
– Прости, – говорит, – задержался на официальном приеме! Очень я тебя хотел видеть! Премного наслышан, как ты там, в Пскове!
У подлеца-Илюши, между прочим, богатейшая коллекция икон.
Потом Н. рассказала о том, как в Михайловское приезжал Соснора, как он там напился почти до бесчувствия, как потом читал стихи и тамошние фанатички-пушкинистки ужасались и негодовали: разве можно такое писать? Позор! Разве можно такое читать в Михайловском? Кощунство! Разве можно поэту так напиваться? Безобразие!
Потом все сели в автобус и поехали на Снятную гору смотреть фрески. В соборе С. сказал:
– Это самобытно! Это национально! Это ни на что не похоже!
Я не стерпел и заявил, что это обычная Византия, хотя и здорово.
С. обиделся и пошел с журналистом купаться. Был уже вечер. Вечер дождливого холодного дня. С. и журналист плавали в холодной воде. С. – из удали, журналист – из самолюбия.
Я же не купался и стоял на горе. Из гордости.
24.8
Едем в Печоры. Автобус полон. Он останавливается у каждой деревни, и в него все лезут и лезут. Но не выходит никто. Непонятно, как все эти люди умещаются в таком маленьком автобусе.
В Печорах на площади увидели мы приличные конструктивистские домики 30-х годов. Удивились, но тут же вспомнили, что это уже Эстония.
Шлепая по лужам, идем к монастырю.
Входим в ворота и… оказываемся на сцене театра. Идет опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Архитектура какая-то ненастоящая. Все ярко-ярко раскрашено. На синих куполах – золотые звезды. На барабанах глав нарисованы окна. И сами формы храмов утрированы до неестественности. Так все живописно, так нарочито небрежно, инфантильно – прямо эскиз Рериха или Кустодиева!
Ходят монахи. Говорят обычными голосами, безо всякой елейности. Вышел настоятель в бархатной скуфейке, разговаривает с двумя рабочими:
– Да есть там толстая фанера! Говорю же вам – есть! Сам видел!
С группой экскурсантов, русских и эстонцев, идем в пещеры. При входе инок с желтым нездоровым лицом и жидкой бороденкой сует каждому стеариновую свечу. Зажигаем свечи от лампады и вступаем под низкие своды.
По длинному коридору медленно идем вглубь земли. Далеко впереди и сзади колышутся огоньки свечей. В стены вделаны вплотную одна к другой каменные и керамические плиты с надписями: «Преставился раб божий Евфимий Сергеев», «Преставился раб божий инок Алексий», «Представился раб божий иеромонах Варавва»…
Издали глухой голос экскурсовода:
– Здесь, в этих подземельях, похоронено десять тысяч человек…
Подходим к темному отверстию в стене. Около него табличка: «Братская могила. Усопших 400 человек». По очереди заглядываем в дыру, засовывая туда свечу. Подошла моя очередь. Сначала во мраке я ничего не разобрал – свеча светила слабо, но потом пригляделся. За дырой оказалось довольно просторное помещение, вырытое в песчанике. Оно было доверху набито гробами. Гробы были простые, дощатые, безо всяких украшений, и стояли вкривь и вкось друг на друге.
Пошли дальше. Кое-где были могилы побогаче, с досками из черного полированного гранита. Около них горели лампады и свечи. Старушки-богомолки, крестясь, соскребали ногтями песок со стен и собирали его в платочки. У одной из могил старик-горбун причитал нараспев тонким женским голосом. Потом смолк и долгим поцелуем поцеловал надгробную плиту.
Тени ползали по стенам. Растопленный парафин падал мне на пальцы.
Вышли на волю. У дверей инок с желтым лицом отвечал на вопросы любопытствующих:
– Истлевают, не сразу, но истлевают. А вот гробы не гниют, нет. Гробы как новые… Открыли гроб, а из него пламя, всех так и опалило… Монахов человек с тысячу будет, а остальные – разный народ, но не простой: бояре, дворяне, купцы, начальство всякое. Раньше богатые большие деньги монастырю жертвовали, чтобы похоронили их в пещерах… Каждый день, когда служба, поминают всех, в пещерах погребенных.
25.8
Вокзал. Подают «экспресс» Псков – Ленинград. Вагоны все разные – с бору по сосенке. Нам достался совсем старый, дореволюционный, воняющий краской (есть такая особая, железнодорожная краска). Народу много. Народ простецкий – с мешками, с корзинами. Шум, крик, детский рев.
Уселись, поехали.
Проехали километров 5, остановились и стояли полчаса. Снова поехали. Не торопясь, помаленьку, давая дорогу скорым, поджидая встречные на разъездах.
Езда в древнерусском стиле. Но доехали.
26.8
Дача. Лес.
Счастливый лес. Осины, елки, сосны – все они счастливы и наперебой кричат мне о своем счастье. Кричат по простоте душевной, от радости, а не от хвастовства.
5.9
Они стоят на трамвайной остановке. Я жду, когда откроется булочная, и наблюдаю за ними.
У девушки длинные стройные ноги, и ростом она чуть повыше, но все равно – это она: ее нос, ее глаза, ее волосы, ее жесты.
Парень широковат в плечах, но все равно – это я. Уж себя-то я сразу узнаю.
Они стоят и держатся за руки. Там у них, на трамвайной остановке, сентябрь 1953 года, а у меня, рядом с булочной, сентябрь 1966-го.
Я смотрю на них и чуть не плачу: она так хороша, а у него все впереди. Он может еще чего-то не сделать, но может зато сделать и больше.
В том, как она стоит, в ее движениях чувствуется сладкая усталость. Все утро они целовались в его комнате, и теперь он провожает ее.
Я смотрю на них и чуть не плачу. Нас разделяют улица и 13 лет жизни.
В трамвай с передней площадки входят мужчина и женщина. Мужчина в соломенной шляпе, в широких брюках и в узком длинном пиджаке с прямыми плечами. Женщина в длинном бесформенном летнем пальто и в босоножках. Обоим лет по сорок пять. Мужчина хромает, в руке у него палка.
Одно место рядом со входом свободно. Но хромой не садится, а идет вглубь вагона и становится у одного из занятых кресел. С минуту он молчит, потом говорит громко:
– Может, вы все-таки освободите место? Вы что, не видите, что я инвалид?
– Да вон же, у двери, свободное место! – отвечают ему.
– Ну и что! – говорит он. – Я имею право на любое место! Я защищал родину на фронте! Я…
Начинается перебранка.
– Не бравируйте своей ногой! – кричат инвалиду. – Те, кто защищали родину, этим не кичатся!
– На фронтовиков нападаете, сопляки! – орет инвалид. – Я вас от фашистов защищал, а вы мне даже место не хотите уступить!
– Вы позорите фронтовиков! Вы просто хам! – кричат инвалиду.
– Фронтовиков оскорбляете, сволочи! – вопит инвалид.
– Коля, Коля, успокойся, – просит женщина в длинном пальто и теребит инвалида за рукав.
– Не успокоюсь! Я им, гадам…
11.9
Шел с Майкой на станцию и злился, что она заставила провожать себя. Со злостью попрощался и зашагал к даче по темному ночному лесу.
Иногда мне кажется, что свобода моя близка, что уже падает с плеч многолетняя тяжесть, и буду я веселым, как все люди, буду жить долго и хорошо.
Сон.
Пришел ко мне Бог. Большой, светящийся, но без бороды и усов – бритый. Пришел и спрашивает:
– Зачем пишешь?
Я ему отвечаю:
– Подозреваю себя в гениальности!
Бог хохочет. Хохочет все пуще и пуще, хохочет взахлеб, со стонами, трясясь всем телом, хохочет пять минут, десять, двадцать. Потом падает навзничь и лежит неподвижно, продолжая смеяться, но все тише и тише. Наконец замолкает.
«Готов! – думаю я. – Что же теперь будет?»
Оглядываюсь. Вокруг молча стоит толпа. Все смотрят на меня исподлобья. Раздается чей-то голос:
– Чего ждете?
Толпа медленно надвигается на меня.
«Каюк! – думаю я. – Бога они мне не простят, не умеют они жить без Бога!
У Эрмитажа встретил П. Разговаривали полтора часа. Вернее, разговаривал П., а я слушал, кивал головой и иногда довольно ловко вставлял слова, пользуясь секундными паузами в его речи.
Он говорил о своей теории современного кино, о кинетическом искусстве, о графической поэзии, об абсурдистском театре, о Мэрилин Монро, о своей жене, о своем сыне, о своих принципах воспитания детей и еще бог знает о чем. И обо всем хорошо.
– Я знаю, – сказал он, – ко мне многие относятся иронически. У меня нет «произведений» в общепринятом смысле этого слова. Но меня это мало волнует. Совсем необязательно выдавать какую-то художественную продукцию. Для меня искусство – прежде всего процесс, такой же как процесс самой жизни. Можно жить творчеством и быть творцом, не закрепляя творческий акт в конкретном, доступном восприятию творении. Можно быть художником для себя.
Сейчас П. снимает любительский фильм, в котором главную роль играет его жена («она оказалась очень своеобразной актрисой!»), снимает в соответствии со своей теорией.
Обещали напечатать его статьи о театре в Чехословакии. Приглашали его на международный симпозиум по теории современного театра. Но вообще он живет сейчас замкнуто, почти ни с кем не общается. Знаменитости к нему не ходят, и он не сожалеет об этом.
Проводил П. до автобусной остановки и пошел в Худфонд. В одной из комнат сидели «президент» и Л. Л. разглагольствовал:
– Вчера был у меня американец, художник Рефрижье. «Скажите, – говорит, – где можно купить монографию о вашем творчестве?» Что мог я ему сказать? Смешно! Выпросил у меня одну работу – неудобно было не дать. Сказал, что наши художники живут, как буржуи, и он просто удивлен. Там, на Западе, в Америке художники нищенствуют. Процветают лишь «сливки» – ничтожный процент, знаменитости. Остальные ютятся в подвалах и рисуют на мостовых. Таких домов, как наш на Песочной, там нигде нет. Нигде государство не заботится о художниках.
– Вот-вот, – сказал «президент», – а мы всё жалуемся. Дают квартиру из двух комнат – обида! Нужна, видите ли, трехкомнатная!
– Рефрижье сказал, что советская живопись очень понравилась бы среднему американцу, – продолжал Л. – Средний американец не любит абстрактное искусство. Его, Рефрижье, в Америке снобы не считают художником, потому что он реалист. Еще он сказал, что наш Толя Каплан – великий художник и мы можем им гордиться. Выставки Каплана были уже почти во всех странах Европы. Он всемирно известен.
– Это все «Джойнт», его работа! – сказал «президент» ехидно.
– Ну и что! Ну и пусть «Джойнт»! Это ты от зависти! Да, мы, жиды, поддерживаем друг друга! А вы, русские, друг друга топите!
– Это точно! – сказал «президент» и осклабился.
– Вот то-то! А кто у нас знает Толю Каплана? Ему даже квартиру давать не хотели. Какой, говорят, это художник – рисует черт знает что! Еще у них там очень жалеют Хрущева. Да и верно – Хрущев сделал много хорошего, разве нет?
– Правильно! – сказал «президент».
– Вот то-то! Зря только он затеял всю эту историю с абстракционизмом. Говорят, что потом он сожалел об этом, очень сожалел.
– А кто виноват? Ваш друг Серов виноват! – сказал «президент».
– Возможно, – согласился Л., – хотя и не очень верю. Были и другие. Черкасов вот умер. Жаль его, прекрасный, большой был актер! Как-то пригласили его в Дом архитектора. После выступления он спустился вниз, в ресторан, и не выходил оттуда до двух ночи. Потом я вез его, пьяного, на такси домой. Вы бы знали, что он мне говорил! Это был совсем не тот Черкасов, который писал статьи в газеты о соцреализме! Господи, что он мне говорил! Он уже тогда был очень болен. Это у него от пьянства. Пил ужасно. И на сцену выходил выпивши. Без этого не мог играть. Жаль его, очень жаль!
– Да, жалко, – сказал «президент».
– Сталин Черкасова очень любил и ценил. Еще он любил Ираклия Андроникова, потому что он умеет очень смешно рассказывать и представлять в лицах. Сталин часто приглашал его к себе. Однажды у Сталина Андроников изображал разных людей, и в том числе членов правительства, которые сидели тут же. Молотов ему и говорит: «Ираклий, а Иосифа Виссарионовича можешь изобразить?» Все притихли, ждут, что будет. Ираклий медленно вытащил из кармана трубку, не торопясь, закурил, потом вынул ее изо рта и сказал со сталинским акцентом: «Нэ смэю!» Все пришли в восторг, и Иосиф Виссарионович смеялся больше всех. А его, Сталина, тоже, знаете ли, жаль. Он ведь, как теперь выясняется, действительно многого не знал…
– Ну это ты брось! – сказал «президент». – И того, что знал, с него достаточно! Да все он знал! Это ты брось!
19.9
В «Новом мире» (статья Лакшина) написано, что в сакраментальной фразе Ленина «Искусство должно быть понятно массам» одно слово, оказывается, было переврано. Следует читать не «понятно», а «ПОНЯТО»!
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Целая «эпоха» в русском искусстве держалась на этом слове, а слова-то и не было! Другое было слово!
В России живет одна одаренная неглупая поэтесса, которая печатается под разными именами. То она Белла Ахмадулина, то Новелла Матвеева, то Римма Казакова, то Майя Борисова, то Юнна Мориц. Время от времени она придумывает себе новые имена. Видимо, это ее забавляет.
Лев Толстой сам убирал в своей комнате – обтирал пыль, подметал пол. Мог бы этого не делать, но делал. Из принципа.
Я тоже убираю в своей комнате. С удовольствием бы препоручил эту работу кому-нибудь другому, да некому. Приходится убирать.
Сломалась у нас раковина в ванной. Вызвали водопроводчиков. Пришли двое – один лет сорока, второй помоложе. Поглядели, постучали по раковине пальцами. Пожилой сказал со скорбью в голосе:
– Мда-а-а!
Молодой вздохнул:
– Ох-хо-хо-о-о!
– Что, тяжелый случай? – спросил я.
– Еще бы! – сказал пожилой. – Надо ставить новую раковину, а в магазинах их сейчас нет! Есть тут у нас, правда, одна в запасе… да мы ее уже обещали одному гражданину с соседней лестницы… Ну да ладно! Так уж и быть, выручим вас!
Ушли. Возвратились с новой раковиной. Повозились полчаса, и все было готово. Взяли 15 рублей, не выдав никакой квитанции.
Сломался у нас холодильник. Вызвали техника. Пришел тихий на вид парнишка. Посмотрел, покачал головой.
– Плохо дело! – говорит. – Вышла из строя важная деталь…
– Ну да, конечно! – говорю я. – И запасных у вас в мастерской сейчас нет, поэтому придется ждать два или три месяца!
– Верно! – сказал паренек. – А вы откуда знаете?
– Это тайна! – отвечаю я. – Но у вас все же есть одна-единственная такая деталь, последняя! Вы ее давно уже обещали другому гражданину из соседнего дома, но если я вас попрошу, то вы мне ее уступите!
– Верно! – удивился юноша. – Но кроме всего прочего, эта деталь – моя собственная. Я вам ее поставлю, так уж и быть, но квитанцию вы не получите. Зачем же я буду выписывать вам квитанцию, если деталь принадлежит лично мне?
– Разумеется! – сказал я. – О квитанции не может быть и речи! Не буду же я ждать три месяца! Я просто даже не знаю, что бы я делал, если бы у вас не нашлась эта одна-единственная уникальная деталь! Мне дьявольски повезло!
Парнишка поработал минут 20, взял 9 рублей, вежливо попрощался и ушел.
Моя зарплата – 105 рублей в месяц. В день я зарабатываю (без вычета налогов) 3 рубля 50 копеек, фактически же (с вычетом налогов) мне платят за день ровно 3 рубля. Для того чтобы стать таким богачом, мне пришлось проучиться 19 лет: 10 лет в школе, 6 лет в институте и 3 года в аспирантуре. Водопроводчики проучились, наверное, не более пяти-шести лет. Специалист по холодильникам – лет семь или восемь.
Но – «не хлебом единым».
И – «каждому – свое».
Какой же водопроводчик будет жить на 90 рублей в месяц?
20.9
Вступаю в золотую пору сухого отчаянья. Все сгорело. Пепел до поры будет лежать кучкой. Потом налетит ветер.
24.9
Были с М. в гостях. Возник разговор о блокаде. (Хозяева в ту зиму 41–42-го годов были в городе.)
Блокада уничтожила остатки старого петербургского быта, остатки традиционной петербургской культуры. Вымершие квартиры коренных петербуржцев были разграблены. Погибло много частных библиотек, коллекций картин, фарфора. Прекрасная старинная мебель была пущена на дрова и сгорела в топках буржуек. Вымерли последние представители настоящей петербургской интеллигенции.
Хозяева вспоминали:
– Помнишь, в одиннадцатом номере жила тетя Фаня? Она в столовой работала. Ее сын, Митька, был такой сытый, краснощекий, и тетя Фаня не выпускала его на улицу – боялась, что его убьют и съедят!
– А помнишь, над нами, в пятом номере, жил Федька по прозвищу «Кривой»? Ему было тогда лет 10. Раз послала его мать за хлебом – сама-то уже не могла ходить, – и какие-то парни отняли у него на улице хлебные карточки. Федька весь день просидел в парадной – боялся идти домой. Весь день сидел на ступеньках и плакал.
– А в двадцатом номере жила генеральша, молоденькая и очень веселая. Ей привозили с фронта продукты, трофейный французский коньяк, немецкий шоколад. По ночам она устраивала у себя попойки с танцами под патефон. А во дворе на снегу валялись замерзшие трупы. Их вытаскивали из квартир и бросали, потому что дальше тащить не было сил.
28.9
За неделю до самоубийства Ходорка пришел к Н. и сказал:
– Ты не думай, все равно я себя порешу… У меня к тебе просьба – напиши обо мне стихотворение! Одно маленькое! Тебе же не трудно. Пусть помнят Ходорку. Ходорка был хороший парень!
30.9
Если выпить натощак стакан сухого вина, наступает блаженное состояние примиренности с миром и самим собой. Всем все прощаешь и на себя смотришь без отвращения. Идешь по улице, мурлычешь себе что-нибудь под нос и с умилением поглядываешь на прохожих.
Если каждый день перед обедом выпивать по стакану вина, то можно стать вполне добрым и веселым человеком. Французы давно знают этот секрет.
Сегодня я выпил этот стакан в кафе-мороженое на Вознесенском проспекте В маленьком зале было пусто. Я сидел у окна и глядел на улицу.
Вошла пожилая, неопрятно одетая женщина с сумкой для провизии. Буфетчица и уборщица, собиравшая со столиков грязную посуду, шумно ее приветствовали. Женщина остановилась посреди зала, поставила на пол сумку и запела чистым, сильным голосом:
Парней так много холостых, А я люблю женатого-о-о-о!Замолкла, выжидательно поглядела на меня.
Буфетчица сказала:
– А что? Ты же не хулиганишь! Петь никому не запрещается. Пой, Маша, пой!
Женщина запела опять:
Я от себя любовь таю, А от него тем боле-е-е!Буфетчица и уборщица подтягивали. Потом все рассмеялись, и я тоже.
– Вы меня не осуждайте, молодой человек! – сказала мне Маша. – Я пьяненькая, но вы меня не осуждайте.
– Что вы! – сказал я. – За что же? Вы прекрасно поете!
– Золотой у Маши голос! – сказала буфетчица. – Ей бы в театр, в оперу!
– Да, неудачница я, – вздохнула Маша, – непутевая у меня жизнь!
3.10
«Затмение» Антониони. Это уже классика. Об этом написаны сотни статей. Об этом уже перестали спорить: всем ясно, что это классика.
Зал был полон (итало-французское производство, на рекламах красивая женщина в объятиях красивого мужчины). До половины фильма публика сидела смирно и ждала – должно же, черт возьми, что-то произойти на экране! Но на экране ничего не происходило. Героиня (странная какая-то девка, видимо, немного не в себе) бесцельно шатается по городу и валяет дурака. Зачем-то бросила одного парня, а другого водит вокруг пальца, зачем-то наряжается негритянкой и танцует дикарский танец, зачем-то ловит собаку и так далее. То она киснет, то хохочет без причины, то стоит не шевелясь, то бежит куда-то, сломя голову. Чушь какая-то!
В партере кто-то захихикал. Хлопнули сиденьем стула – кто-то вышел из зала, нарочито громко стуча подошвами. На балконе раздался свист. Шум нарастал.
Перед концом хохот стал откровенным. Зрители потешались, зрители гоготали, стучали ногами. Их охватило буйное веселье. Последние прекрасные, пронзающие душу кадры шли под гомерический хохот и вой толпы. Это было страшно.
Выходя, встретили В. Губы у нее тряслись.
– Ужасно! – сказала она. – Какое кощунство! Какое глумление над искусством! Как они хохотали! Ужасно!
5.10
Будучи в Киеве, узнал я с удивлением, что немцы разрушили только Крещатик и прилегающие улицы, а все остальное уцелело. «Не хватило времени, – думал я, – а то взорвали бы они и Софию, и Владимирский собор, и Кирилловскую церковь, и Андреевский собор… Все бы погибло!»
Прочитав же повесть А. Кузнецова «Бабий яр», я пришел в смятение. Оказывается, немцы в Киеве ничего не уничтожали, оказывается, Крещатик был взорван чекистами, заложившими в зданиях фугасы замедленного действия! Кузнецов спокойно повествует о том, как центральная улица украинской столицы, гордость киевлян, превращалась в развалины на глазах у перепуганных немцев. Оккупанты пытались потушить пожары, но не справились – очень уж много было огня. «Ни одна столица Европы не встретила гитлеровские войска так, как Киев!» – пишет Кузнецов.
Ум изнемогает от ужасных предположений: быть может, немцы вообще ничего не разрушали – не стреляли в Нередицу, не жгли петергофский дворец, не взрывали Новый Иерусалим?
Пожар Москвы 1812 года изображается в нашей истории как образец отчаянного, неслыханного патриотизма. Москва-де – еще не вся Россия.
Но Россия потому и Россия, что у нее есть Москва. И для чего же воевать, как не для того, чтобы спасти то, что создано народом за столетия?
Вот взяли бы французы и в знак протеста против оккупации сожгли бы Елисейские поля! А заодно и улицу Риволи вместе с Лувром! Чего им стоило!
Так нет же, не сожгли. Кишка у них тонка. И Париж остался цел, слава богу.
10.10
Подхожу к полке и провожу ладонью по корешкам книг: Катулл, Ду Фу, Хафиз, Петрарка, Ронсар, Шекспир, Бернс, Байрон, Гейне, Петефи, Лермонтов, Бодлер, Рембо, Верхарн, Блок, Уитмен, Лорка, Пастернак… Сколько их было? Сколько их еще будет?
Жалею себя. Лгу себе – притворяюсь, что все понял и совсем смирился, но тайком от себя себя жалею. По ночам плачу над собой и целую руки себе, покойнику.
11.10
Читаю лекции по истории искусств студентам первого курса. Слушают внимательно, говорят: интересно.
Мне тоже интересно. Будто все искусство моих рук дело, и вот я показываю его людям с гордостью за себя и человечество.
13.10
Дж. Уитроу – «Естественная философия времени».
Время, «разъятое, как труп». А оно живое, оно течет сквозь пальцы. Я его вижу, ощущаю его.
Воистину, чем глубже проникает наука в природу, тем беспомощнее она становится.
Смотрю на мадонну Боттичелли, на ее прекрасный лоб, на застенчиво опущенные веки, на нежный детский рот с пухлыми губами, на руки ее, такие тонкие, слабые, вытянутые вперед в робкой попытке защититься (поздно! Над головой ее уже сияние!), на коленопреклоненного ангела-вестника с зеленой ветвью в руке, на фантастический, неведомый пейзаж в окне – смотрю и вижу бесценный кристалл чистого времени, добытый искусством.
23.10
«Дафнис и Хлоя» Лонга – это золотое детство человечества. Но детства этого не было.
26.10
Лорка предчувствовал свою гибель, предчувствовал и писал о смерти:
Хочу уснуть я сном осенних яблок
И ускользнуть от сутолоки кладбищ.
Убийца выстрелил ему в лицо.
Франсуа Вийон был повешен, Байрон утонул, Эдгар По умер «при загадочных обстоятельствах», Верлен умер от запоя, Верхарн бросился под поезд, Петефи был убит в бою (тело так и не нашли), Пушкина убили на дуэли, Такубоку умер от чахотки, Цветаева покончила с собой…
Для поэтов этот мир не приспособлен.
Прочел новую книжку стихов Аделины Адалис. Книжка лежит во всех магазинах, ее мало покупают. А стихи хорошие. Пожалуй, излишне умные, но не хуже, чем у молодых нынешних «интеллектуалок».
Адалис уже давно не знаменита. Она выжила. Она пишет. Она размышляет о вечности, о совести, о космосе, о судьбах звезд. А книжку не покупают.
2.11
Разумеется, моя жизнь кроме смысла для меня имеет свой собственный, неведомый мне смысл. Я об этом забываю и все сержусь на нее. Все мне кажется, что она какая-то не такая.
8.11
На даче. Тихо, пасмурно, туманно. Прозрачный осенний лес. Раскрошили черствый батон, бросили крошки под яблоню. Прилетела большая красивая птица – сойка. Стала торопливо клевать. Закинув голову вверх, жадно глотала. Потом взяла в клюв сразу два кусочка булки и старалась подхватить третий, но у нее этот трюк долго не получался. Наконец вышло, и сойка с добычей улетела в кусты. Через две минуты вернулась, и все повторилось сначала.
Сойки – птицы умные. На зиму они не улетают и осенью делают запасы продовольствия. Внешность у них обаятельная, а голос противный, хриплый.
17.11
Мне кажется, что пишу я хорошо и честно. Мне кажется, что душа моя избрана хранилищем людской совести в наш бессовестный век.
Самообольщение? И кому она нужна, эта совесть?
18.11
О, если бы можно было так вот просто взять и забыть всю прошлую свою жизнь, всех врагов и псевдодрузей, все разочарования и обиды! Забыть и начать жить заново со своими стихами – только их оставить себе из прошлого.
26.11
Я мнителен, как Тиберий, как Джугашвили. Слава богу, что я не диктатор.
1.12
25 лет назад немцев отбросили от Москвы. Отбросили голыми кулаками, живым мясом. Сколько полегло там русских мужичков? Нигде не пишут. Цифра, небось, страшная.
Маршалы вспоминают: удар, контрудар, обходный маневр, боевой дух, героизм…
3.12
Мой пессимизм от атеизма. Но – атеизм мой от пессимизма. Печалюсь я оттого, что мир плох. Печалюсь и оттого, что нет мне места в этом плохом мире.
<…>
8.12
Все великие русские бунтари, все Разины и Пугачевы были прежде всего охочие до власти авантюристы. Легенда сделала их правдолюбцами и народными защитниками. У Морозова в «Христе» сказано на этот счет: «А распространившаяся в народе ложная идея, что какой-то Гришка Отрепьев мог быть признан боярами и духовенством столицы за действительного царя и два года сидеть на московском престоле, тотчас же вызвала и подражателей. “Если он сидел на троне, так почему бы не сесть и мне?” – думали предприимчивые люди. Самозванцы стали расти, как грибы…»
Я своего Стеньку тоже возвысил. Он у меня умница и совестлив. Очень уж это заманчиво – так думать о Разине. А он ведь был попросту разбойник, душегуб – что он натворил в Персии!
Мужики взъерепенились оттого, что им впрямь тошно было, да и оно приятно – бояр да купчишек раздевать и вешать. Но личность Стенькина имела к этому весьма отдаленное отношение – не он, так кто-нибудь другой подвернулся бы.
12.12
Утром, выпрыгивая из автобуса на углу Вознесенского проспекта и Садовой улицы, я выпрыгиваю из себя. Выпрыгнув, я прихожу на факультет, здороваюсь с лаборанткой и коллегами-преподавателями и затем четыре часа беседую со студентами об архитектуре, стараясь говорить внятно и быть умным. После этого я сижу на заседании кафедры, стараясь зевать как можно реже. Потом сижу на заседании профкома или какой-нибудь там комиссии, стараясь по крайней мере выглядеть живым. Наконец спускаюсь в вестибюль, одеваюсь, выхожу на улицу, впрыгиваю в автобус и возвращаюсь в себя. Сидя в автобусе, я некоторое время мучаюсь стыдом, вспоминая свое поведение за последние 6–7 часов, но постепенно успокаиваюсь: все это я делал «вне себя», что я мог еще сделать в столь неестественном для жизни состоянии?
14.12
Из Союза писателей мне прислали официальное приглашение участвовать в сборнике «День поэзии». Но что я им пошлю?
18.12
Вьюга. Крыши дымятся белым снежным дымом.
24.12
Сон-воспоминание.
Хабаровск. 1937 год. Зимний вечер. Каток. На катке только двое – я и отец. Коньков у нас нет, у нас есть санки. И мы катаемся с отцом по льду на санках. Сначала он катает меня, потом я катаю его. Лед скользкий, и санки едут по нему легко. Каток ярко освещен электрическими лампами. А там, выше – черное небо, звезды. Мне немножко страшно – бог знает, что в этой черной глубине за звездами. Но я уверен, что буду жить вечно, что, если оттолкнуться посильнее, санки покатятся к звездам и дальше, все дальше и дальше – конца не будет.
Это было начало жизни. Мне было 5 лет, отцу – 29. Вместе нам было 34. Теперь мне одному 34.
Отец побаивался смерти. Но до последней секунды, до той секунды, когда у него разорвалось сердце, он, конечно, не верил, что умрет. Все не верят.
Ночь. Я лежу на верхней полке в купе туристского поезда, который идет в Москву. В соседнем купе пьянка – шум, хохот, песни, старые, пятидесятых годов песни. Там веселятся люди, которым уже за сорок. А издалека, с другого конца вагона, доносятся песни современные – это веселится молодежь. Кто-то бегает по коридору: женский визг, мужская ругань. Поезд набирает скорость.
25.12
Каланчевка. Шпили небоскребов в тумане. Утренний морозец.
Арбат. Все москвичи его любят. Поэты воспевают его. Прелесть Арбата – это прелесть примитива, прелесть русского лубка и вятских игрушек.
Над Арбатом нависают громады строящихся рядом домов. Старый уютный Арбат раздавлен новым, двадцатиэтажным.
<…>
27.12
Утро. Светает. Иду по Невскому. В душе блаженная легкость. Останавливаюсь у витрин, разглядываю какие-то консервные банки, женские чулки, елочные игрушки. Удивительно легко на душе!
29.12
На первом съезде советских писателей драматург Ю. Юзовский сказал: «Товарищи, нужно прекратить этот идиотский, позорный, неприличный смех!»
На стенах одного из бараков в Треблинке остались детские рисунки.
Китайцы взорвали еще одну атомную бомбу.
1967
3.1
И опять Бунин.
«Я узнал ее в пору ее наивысшей прелести, невинности и той почти отроческой доверчивости и робости, которая потрясает сердце мужчины несказанно…»
Бунинская Россия лежит на Новодевичьем кладбище под искалеченными памятниками. В голых ветвях деревьев свистит ветер.
11.1
Как быстро оевропеилась русская аристократия! В начале XVIII века она была сплошь неграмотна, а в конце этого же века разговаривала только по-французски. В начале XIX уже – Пушкин, Грибоедов, Лермонтов. Поразительно!
Как ни странно, Мао Цзэдун пишет неплохие стихи, рафинированные, типично китайские стихи.
Сталин тоже писал стихи. Пастернак, говорят, отозвался о них весьма высоко. Впрочем, как он еще мог о них отозваться?
Из Толкового молитвенника Протопопова (издано в С.-Петербурге в 1915 году): «Кто грешит словом? Словом грешит тот, кто бранится, поет соблазнительные песни и проч.».
Слава тебе, господи, я никогда не пел соблазнительных песен и, видимо, никогда их не запою.
16.1
Воспоминание.
Базарная площадь в Старом Крыму. Деревянные лотки на врытых в землю столбиках. Сухая, затоптанная в пыль трава. День клонится к вечеру, но солнце еще припекает. Базар давно кончился, и площадь пуста. По ней медленно движется похоронная процессия. Белый гроб плывет над лотками. Его несут люди в черном.
Процессия движется под монотонный, унылый звон одинокого колокола. Церковь тут же, на площади. Она маленькая, неприметная – просто дом с крестом на крыше. Удары колокола, совершенно одинаковые по силе, чередуются с одинаковыми по длине паузами. В этой равномерности какая-то предельная безнадежность и покорность: нет никакого выхода, так было и так будет.
14.2
Теплый, почти весенний день. Стою у Исаакия и разглядываю скульптуру. У Христа на макушке сидит голубь.
Коринфская капитель в ракурсе, снизу.
Смутное воспоминание: где-то когда-то такой же день весны света и колонна в ракурсе. Тоже стоял, запрокинув голову.
17.2
Читаю «Мастера и Маргариту» Булгакова. Эпизод с Пилатом написан блестяще. Христос трогательно прост.
20.2
Приснилось, что у меня заболели руки. Они стали твердыми. На пальцах и на ладонях появились глубокие дырки. «Похоже на сыр!» – подумал я. Откусил полпальца и пожевал. Да, настоящий голландский сыр! Сырная болезнь!
26.2
Н. сказал мне:
– Ты можешь не жить больше – главное ты уже сделал. Но отчего бы не пожить тебе еще немного, просто так, для собственного удовольствия? В общем, ты счастливый человек, тебе можно позавидовать.
Да, получается, что я счастливый человек.
11.3
В городе – аресты. Кого-то взяли в университете, кого-то в Пушкинском доме. У кого-то были обыски – что-то изъяли. Слухи ходят самые невероятные.
А. рассказала о том, как откапывали прах зодчего Кваренги.
Создали специальную комиссию. Долго изучали кладбищенские книги, мемуары очевидцев и всякие архивные бумаги. Наконец установили место и стали копать.
Могильщики были веселые парни. Когда углубились в землю метра на два, в яму хлынула мутная пенящаяся вода.
– Это гробовая вода! – сказали могильщики. – Она всегда бывает на кладбищах и очень ядовита. Но водка ее перешибает. Если отравишься – хлопнешь стакан, и все в порядке!
Кто-то предложил проделать эксперимент. Один из парней согласился.
Купили поллитровку, взяли в ближайшем пивном ларьке большую кружку. Парень выпил полную кружку гробовой воды и тотчас же, не переводя дух, – кружку водки. Закусил огурчиком, и хоть бы что!
Работая, могильщики рассказывали всякие диковинные вещи. Уверяли, например, что после смерти все покойники вырастают ровно на 32 сантиметра, поэтому у скелетов (когда раскапывают могилы) ноги всегда согнуты в коленях.
Гроб Кваренги оказался очень красивым, у него были кованые узорные ручки. Внутри он был обит прочным дорогим сукном – оно хорошо сохранилось. Антропологи подтвердили, что скелет, лежавший в гробу, принадлежит знаменитому петербургскому зодчему, автору того самого здания, в котором находился «штаб Великого Октября».
По случаю успешного завершения дела члены комиссии устроили пирушку. В центре стола стояла уменьшенная, но прекрасно выполненная модель кваренгиевского гроба.
<…>
9.4
Это было великое искушение. Это была редчайшая возможность. Это был «верняк».
– Не торопитесь, спокойнее! – сказал мне мой ассистент-лейтенант, по одному патрону заряжавший пистолет. Мне показалось, что он подслушал мои мысли и подбадривает меня: действительно – такой шанс!
Вот последний патрон. Последний! Быстро поднять руку, нажать на спуск, и все! Легкая, быстрая смерть!
Пот выступил у меня на лбу, дыхание перехватило.
– Спокойнее! – повторил лейтенант.
Мушка прыгала у пояса зеленого человека в каске. Зеленый человек – мой враг. Кто он? Немец? Американец? Француз? Китаец? Рабочий? Фермер? Магистр филологии?
Я надавил на гашетку. Рука моя дернулась вверх. Пустая гильза со свистом отлетела в сторону.
Пошли к мишеням.
Все три пули попали в зеленого человека, две в грудь и одна в голову. Зеленый был мертв. Я убил его.
– Неплохо! – сказал мой лейтенант.
– Странно! – сказал я. – Мне казалось, что я и в щит-то не попал!
Пришли две девушки. Одна красивая, другая – нет.
Красивая сказала, что Евтушенко – неудавшийся Лермонтов, и все поглядывала на меня искоса, и все улыбалась.
А некрасивая смотрела прямо и не улыбалась. Она рассказала о том, как пыталась отравиться, но ей помешали.
Красивой 19 лет, а некрасивой – 18.
10.4
Кажется, мое одиночество приближается к абсолюту. Как святой Антоний, я один в пустыне.
2.5
Благословенный май. Вчера шел снег, сегодня потеплело. На платформе в Соснове огромная толпа. Ждут электричку.
Много туристов. Девицы и парни в экстравагантной одежде: какие-то немыслимые куртки с сотнями застежек, невероятные шляпы, штаны с яркими заграничными нашивками. Вся эта публика непрерывно поет, приплясывает, хохочет и кривляется.
Подходит поезд. Туристы с воплями бросаются на штурм. Их гигантские рюкзаки застревают в дверях. Визг, смех, крик.
Едем. Я стою, плотно прижатый к спинке скамьи. К моим ногам притулился пьяный – он сидит на корточках и спит. На нем модная шляпа с короткими полями. Рядом с пьяным сидит большая немецкая овчарка в наморднике. Она смотрит на меня, а я на нее. Мы нравимся друг другу.
7.5
О погибшем космонавте в народе ходят всякие слухи. Говорят, что он жив, что его в море подобрали американцы, но держат это в тайне.
Старушки же утверждают, что он святой. Господь взял его на небо, и это знак – скоро второе пришествие и конец света.
Вчера ночью я страстно молился Богу, в которого не верю, молился, чтобы он сохранил мне разум и спас от озлобления.
14.5
Воскресная прогулка по Смоленскому кладбищу.
Кладбище уже давно используется окрестными жителями как парк.
Полуголые и почти голые люди загорают на травке среди могильных холмиков.
Дети катаются по дорожкам на велосипедах. Молодежь играет в волейбол и пинг-понг. Тут и там веселые компании с водочкой, с закуской, с гитарами и транзисторами.
Обнаженная красавица с формами во вкусе Рубенса, в очень узеньких трусиках и почти без лифчика стоит в роскошной позе, опираясь на старый замшелый крест.
Голый до пояса парень сидит на скамеечке у раковины, покрашенной серебряной краской. На коленях у него тетради и книги – он готовится к экзамену.
К церкви подъехала «Волга», из нее вышел высокий священник в черной рясе и бархатной лиловой скуфейке. Старушки-богомолки ели его глазами. Мальчик лет девяти закричал весело:
– Поп, толоконный лоб! Поп, толоконный лоб!
Старушки зашипели на него, как змеи.
17.5
Всегда так: готовлюсь к весне, к маю, к белым ночам, готовлюсь и говорю себе – надо прожить эту пору хорошо, с толком. Приходит май, и я его не замечаю, небрежничаю с ним.
18.5
Все торопился. Боялся, что не успею до конца света – будто после конца света стихи мои кому-нибудь понадобятся! Боялся, что рано умру – будто после смерти мне будет обидно!
Теперь торопиться мне уже некуда. Я высказался. Все остальное не от меня зависит
По официальным данным, средняя продолжительность жизни сейчас – 70 лет. Я прожил половину. Как долго еще жить!
Открыл окно. Идет теплый тихий дождь. Внизу, на газоне, желтеют одуванчики.
19.5
Удивительно: наделив меня такой гордыней, судьба дал мне такую бесславную жизнь!
Перечитывая свои записи, я обнаруживаю в них сходство с дневником Анны Франк, Анны Франк, дожившей на своем чердаке до тридцати пяти лет.
Лет 6 тому назад А. сказала мне: «Дело в том, что жизнь человеческая вообще не устраивает тебя, что она сама по себе для тебя мучительна. Если бы исчезли все преграды, отделяющие тебя от счастья, все равно ты не стал бы счастливым, такой уж ты уродился».
Такой ли я уродился?
26.6. 26.5
Снова взялся за шестистишия. Как легко писать с рифмой! Одно удовольствие!
В Москве – съезд писателей.
Шолохов сказал в своей речи: «А кое-кому хочется свободы печати для всех. Что это – святая наивность или откровенная наглость?»
27.5
Отмечают юбилей дрейфа папанинцев. Это было в 37-м. И Чкалов летал в 37-м. А Гризодубова – в 38-м. Очень много совершалось тогда героических подвигов. А какие пышные, шумные были встречи! Их шум заглушал крики, доносившиеся с Лубянки.
18.6
Итак, мне 35 лет. Я добрался до вершины жизни. Можно подвести итог.
Не так уж мерзко я прожил эти 35.
Я сумел сохранить самостоятельность мышления и даже относительную самостоятельность поведения, хотя очень многое мешало мне быть самим собой.
Моим главным «внутренним» врагом всегда была рефлексия, и, однако, я ей многим обязан.
Злоба и нетерпимость всегда вызывали у меня отвращение, но я и сам бывал злобен и нетерпим.
Смерть всегда удивляла меня. Но постепенно я понял, что прелесть жизни – в ее загадочности. А эту загадочность придает ей смерть.
Я посетил сей мир поистине в самые роковые его минуты.
Мир – кровельщик, который сорвался с крыши, но в последний миг ухватился за какой-то крюк и повис на руках. Долго провисеть он не сможет. Или ему бросят веревку, или он полетит вниз. Я вижу его выпученные от ужаса глаза, вижу, как он болтает ногами в воздухе, но помочь ему я не в силах.
Некая странная болезнь поразила человечество именно в ту пору, когда перед ним открылись дали, дотоле неведомые. То тут, то там на Земле вспыхивают гигантские очаги безумия, неслыханной жестокости и разрушительства. Колеблются вековые устои общества: добро, справедливость, совесть. Великий хам топчет цивилизацию.
Я стараюсь не жалеть себя. Самое главное я уже понял. Остальное не имеет значения.
Я пишу это на даче. Сейчас около полуночи, но совсем светло, и я не зажигаю лампу. Муха, залетевшая в комнату еще днем, бьется о стекло.
Мне повезло: я родился в самую светлую ночь года и всю жизнь прожил в самом красивом городе России. Я могу сказать своей жизни спасибо, даже если конец ее будет ужасен.
20.6
Трудно писать стихи здесь, в лесу, трудно создавать свою красоту среди красоты природы. Эта гармония, эта полнокровная, безусловная, уверенная в своей необходимости жизнь подавляет во мне позывы к творчеству.
Приснился совершенно дикий сон.
Я женился на одной из своих студенток, она забеременела и родила собаку. Никого это не удивляет, но мне немного неловко: собака-то беспородная – типичная дворняжка.
22.6
Мне подарили новые часы. Я тотчас уронил их на пол. От сотрясения часовая и минутная стрелка стали идти вразнобой: когда часовая стоит точнехонько на семи, минутная показывает 20 минут восьмого.
Второй раз я уронил часы на речке, когда ловил рыбу. Взмахнул рукой, отгоняя от лица комаров, и услышал, что трава у меня под ногами хрустнула от упавшего в нее небольшого предмета. С минуту я думал – что могло выпасть из меня? И уж собрался идти дальше вдоль речки: нагибаться было лень да и комаров внизу очень много. Но потом все же нагнулся и увидел их. Среди зеленых стеблей и листьев на коричневой сырой земле они выглядели совершенно фантастично. Рядом с ними неподвижно сидел какой-то жучок, оцепеневший от удивления и страха. Часы свалились с неба в его травяной мир, как таинственный космический корабль из чужой, невероятно далекой галактики.
Словом, неудачные подарили мне часы.
29.6
Как святой Сергий, я строю свой скит в лесу. Но медведь ко мне не приходит – повывелись в лесах медведи. Иногда приходит белка. Птицы же прилетают во множестве.
Тянет меня к русофильству, к русской старине, к старой русской вкусной речи.
30.6
Сегодняшний день переполнен красотой и воспоминаниями.
Встал с рассветом. Не торопясь, собрался.
Было пасмурно. Дальние леса за озером расплывались в туманной синеве.
На первой электричке доехал до Соснова, сел в автобус и через 20 минут вылез из него в Борисове.
Борисовское озеро было коричневым, шершавым от ветра. Над ним висели серые низкие тучи.
Шел лесом. У Межевого дорога вышла в поле. Оно было до боли в глазах зеленым. На зеленом там и сям чернели одинокие ели, а спереди, у самой дороги, мелькали синие, белые и желтые крапины – колокольчики, ромашки и лютики. Дорога же была бледно-лиловая.
Над полем, мелко трепеща крылышками, висел жаворонок.
За Межевым дорога снова ушла в лес, как в глубокое зеленое ущелье.
Вышел к речке.
На поляне у старой финской запруды паслась белая лошадь. Она посмотрела на меня очень внимательно и, как мне показалось, с усмешкой.
Пройдя первый перекат, поймал двух хариусов. Они были очень красивые и, как всегда, мне было жаль их. Потом уже не клевало. Я шел по речке в резиновых сапогах и любовался прибрежными деревьями, обвивавшими корнями замшелые валуны.
Шумела вода. Жалобно кричали кулики. Буйно разросшаяся вдоль берега болотная трава источала пряный сладковатый запах.
Пошел дождь, сильный, с ветром. И быстро кончился.
Я сложил свою снасть, сел на камень, съел взятый из дому бутерброд и запил его речной водой.
Дорога на станцию когда-то шла по голым, выжженным войной холмам. Теперь здесь веселый молодой сосняк. Передо мной долго бежала трясогузка, быстро-быстро семеня тоненькими ножками. Бежала и не хотела сворачивать в сторону, и улетать тоже не хотела. Потом появилась вторая трясогузка. Вдвоем им было совсем не страшно бежать впереди меня.
Миновав станцию, стал опускаться в широкую долину, по которой течет узенькая быстрая речушка. За долиной – высокая гора, поросшая лесом. Тогда, 15 лет назад, когда я жил в этой долине, гора вызывала у меня какое-то странное беспокойное чувство: казалось, что там, за ней, и есть самое интересное, самое главное. Все хотелось взобраться на нее и посмотреть, что же там. А за горой нет ничего удивительного – лес и лес и потом Вуокса.
Долго шел по выгону, по кочкам, по кустистой жесткой траве, по ржаво-красной сырой земле с лепехами коровьего помета. Перешел речку и очутился на той самой дороге. За соснами светлело озеро. И я вступил в свою юность.
Тогда мне было 20 лет. Я был студентом второго курса. С этюдником и со складным стульчиком ходил я здесь, изнемогая от всей этой красоты и от желания высказать кому-нибудь свой восторг. Именно тогда все и началось. Я описал в дневнике озеро, дорогу, лес и свои чувства. Это было первое мое литературное произведение – стихотворение в прозе. Безнадежно сентиментальное, жалкое во всех отношениях, оно было все же первым.
И вот я вернулся сюда через 15 лет.
Лес и берега стали чище. Дорога осталась прежней. Все так же красиво. Даже еще красивее. И мне снова хочется написать что-то отчаянно сентиментальное, как тогда. Но теперь у меня так не получится.
14.7
Когда долго не пишу, охватывает страх: вдруг разучился? С опаской берусь за стих, и он выходит. Слова ложатся, как надо. И вздыхаю облегченно.
17.7
По Большому проспекту навстречу мне движется толпа. Передние несут на палках большое красное полотнище с белыми жирными буквами: ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! Люди одеты нормально, значит, не киносъемка.
Вслед за толпой свернул на площадь и понял – митинг. По случаю пятидесятилетия июльской демонстрации в Петрограде.
На балконе неподвижно стоят люди в одинаковых серых костюмах с темными галстуками. Серый, что стоит посередине, читает по бумажке речь. Толпа под балконом постепенно тает (постояли – и хватит, дома дел полно!).
21.7
Пастернак написал о Гамлете:
«Гамлет отказывается от себя, чтобы “творить волю пославшего его”. “Гамлет” не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного».
Вот она – формула: ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СЕБЯ, ЧТОБЫ ТВОРИТЬ ВОЛЮ ПОСЛАВШЕГО ЕГО!
Сегодня у себя под мышкой я обнаружил маленькую, но очень красивую коричневую родинку. Тридцать пять лет принадлежит мне это тело, и я не знал, что на нем есть такая чудесная родинка.
23.7
Утром решили мы с Б. вычистить старый финский колодец, что был рядом с участком. Б. надел резиновые сапоги и полез (колодец неглубокий – метра два с половиной). Спустившись вниз и усевшись на торчавшую из воды ржавую трубу, Б. огляделся и увидел большую лягушку, сидевшую под нависающим камнем. Она сидела совершенно неподвижно и была очень величественна.
– О! – сказал Б. – Вот и хозяйка колодца! А мы думали, что он ничей!
– Да, – сказал я, – колодец чистить нельзя, ясное дело!
Мы поймали овода и накололи его на длинную травинку, Б. поднес овода к самому носу лягушки. Она несколько секунд раздумывала, колебалась, потом быстро открыла рот, и овод исчез,
– Давай предложим ей на десерт землянику! – сказал я.
Нацепили на травинку земляничину. Лягушка проглотила ее мгновенно. Однако позу свою не меняла и делала вид, что ничего, собственно, не произошло.
– Гордая! – сказал Б.
– Еще бы! – сказал я.
Тетя Мотя – так мы назвали хозяйку колодца – съела еще одного овода, двух толстых мух и восемь земляничин. Последние ягоды она уже не могла проглотить. Когда она открывала рот, ягоды были видны – она держала их за щекой. Ее сын – лягушонок Кузя (он объявился позже, высунув нос из тины) одолел только три ягоды, больше, по молодости, не смог.
После мы купались. У берега среди водорослей плавал великолепный жук-плавунец, похожий на большую плоскую сливовую косточку. Мы его поймали и рассмотрели. Снизу он был светлее, чем сверху, но тоже красив. Когда мы его выпустили, он не уплыл, а все сновал у наших ног. Наверное, мы ему понравились.
Наконец – отъезд.
До Приозерска плыли на катере между бесчисленных зеленых островов, как бы раздвигавшихся, чтобы нас пропустить, и сдвигавшихся за нами. Кое-где из воды торчали огромные гранитные глыбы. И опять я подумал, что красивее ничего не видел, что это красота совершенная, созданная великим мастером в пору наивысшего расцвета его таланта.
12.8
Загорск. Лавра. Житие Сергия на стенах главных ворот. Смешной, трогательно-нелепый медведь.
«А когда оставался у него один кусок, половину он отдавал зверю».
В Лавре киносъемка. Пырьев делает «Братьев Карамазовых». Бродит странная публика: девки с косами в холщовых сарафанах и лаптях, купчики в поддевках, в картузах и сапогах бутылками, офицеры с аксельбантами и при усах, дворяне в цилиндрах. Тут же среди них расхаживают настоящие священнослужители в черных рясах.
В шесть началась всенощная в трапезной церкви. Мы отстояли ее всю (более двух часов).
Зрелище было захватывающее – этакий спектакль в нескольких актах и со многими актерами. Архидиакон с маленькой седой бородкой на красивом интеллигентном лице пел вдохновенно. Ему вторили два хора – хор иноков и хор семинаристов. Последние имели вполне светский вид – без бород, в белых рубашках с галстуками.
Народу было множество. Мы стояли в плотной толпе, трудно было даже пошевелить плечами. Старушка, стоявшая рядом, упала ниц на чьи-то ноги, и ее совсем не было видно там, внизу. С трудом я помог ей встать.
Благословляя паству, митрополит строго взглянул на меня: моя голова торчала над платками женщин и была видна издали.
14.8
Царицыно. Руины некогда великолепного дворца, в котором цари так и не жили. Ржавая табличка с надписью: «Памятник архитектуры. Охраняется государством». Рядом другая табличка: «Осторожно! Здание разрушается!»
Все стены исписаны, исцарапаны, исчерканы любителями отечественного зодчества.
15.8
Архангельское. Совсем другой коленкор – усадьба и парк содержатся прекрасно. Здесь военный санаторий. К тому же сюда возят иностранных туристов.
Прекрасный, удивительно ровный зеленый газон. Ручные белки прыгают по деревьям.
18.8
Светлогорск. Как он раньше назывался, не знаю. Некогда – фешенебельный немецкий курорт в получасе езды от Кенигсберга.
Городок полностью сохранился во время войны и прилично содержится – здесь отдыхает летом областное начальство.
Милые чистенькие немецкие домики, крытые черепицей, Все разные, все построены с предельным тщанием – камушек к камушку, досочка к досочке. Домики стоят в сосновом лесу у самого моря. Берег высокий, обрывистый.
19.8
Море шумит. И сосны шумят.
Странно видеть на этих домиках русские надписи.
20.8
Наша хозяйка сдает две комнаты. В одной мы, в другой, что поменьше, еще жилица. Хозяйка с дочкой ютятся на кухне – они спят на раскладушках. В день мы платим за постой 2 рубля, и та, другая жилица – рубль.
Кухня проходная. Поздно вечером, возвращаясь из кино, мы проходим ее на цыпочках – хозяйке рано утром на работу и она вместе с девочкой рано ложится спать.
Когда-то весь дом принадлежал одному владельцу. Теперь его поделили на несколько маленьких неудобных квартирок.
Море шумит. Шторм.
Мы почти в центре Европы. Вся Финляндия, половина Польши, половина Венгрии, вся Румыния, вся Болгария, вся Греция – восточнее нас. Здесь было прибежище викингов. Здесь собиралось в поход на восток немецкое рыцарство.
Что может быть таинственнее моря?
Деревья, дороги, дома, люди. И вдруг – обрыв. И дальше только огромная, колеблемая ветром синяя масса, ровный прямой горизонт, и все. Можно смотреть часами и удивляться.
21.8
Руины кенигсбергского собора. Стрельчатые арки освободились от груза перекрытий. Им легко, они отдыхают после пяти веков непрерывной работы. На них растут молодые деревца. Арки подымают их к солнцу – они делают это шутя, им это ничего не стоит.
Сильно пахнет мочой. Горожане используют руины как общественную уборную.
23.8
Можно забыть, хотя бы на время, главные заботы. Но мелкие – как комары летней ночью в комнате. Лежишь в темноте и слышишь – звенит. Ждешь, когда сядет на лоб или на щеку. Убьешь одного – летит второй. Комар – пустяковина, а спать не дает.
Так и пролежишь всю жизнь без сна.
В поэзии 30-х и 40-х годов та же эклектика, та же архаика, что и в архитектуре. Те же два основных направления в заимствовании: псевдоклассика (равнение на Пушкина и весь XIX век) и псевдорусский стиль (равнение на Есенина, хотя и запрещенного).
В 50-х и 60-х годах эпигонство стало более утонченным. Классицисты вдохновляются теперь акмеизмом (Ахматова, Гумилев, Мандельштам), русофилы же крадут у эпигонов Есенина (Павел Васильев, Б. Корнилов). Появились и «новаторы». Эти берут у Белого, Маяковского, Цветаевой, Пастернака.
В итоге – воз и ныне там, в 20-х годах.
Замечено, что подражатели нередко работают лучше своих учителей. Но памятники им не ставят.
Вплоть до начала 30-х русская поэзия была лучшей в мире, была авангардом. Теперь, несмотря на свою техническую изощренность, она до смешного провинциальна.
24.8
Проснулся, увидел знакомую желтую стену с коричневыми разводами и закрыл глаза. И тотчас в мозгу возникла картина: берег моря, по небу мчатся рваные серые облака, над обрывом стоит высокая металлическая мачта – холодный осенний ветер свистит в ее фермах, море тоже холодное, серо-коричневое, бесконечно равнодушное ко всему на свете.
Где я видел это?
Русский человек привык иронизировать по поводу немецкого чистоплюйства. Даже у больших наших писателей есть эта усмешечка над чистенькими немецкими городишками, над аккуратненькими немецкими домишками, над гладенькими немецкими дорогами. И так, будто мы, русские, выше всего этого, будто нам на эту аккуратность, на это благополучие, на весь этот порядок наплевать. А по сути дела за иронией видится зависть, зависть азиата к европейской культуре. Кабы у нас все это было – ух как бы мы этим гордились, как задирали бы нос!
Джованни Амендола о фашизме:
«Это положение, при котором нормальные отношения между государством и обществом совершенно извращены: общество существует для государства, а государство для правительства, а правительство для партии».
Но Муссолини был добрый дядя. И его ребята были приличные парни. Они редко убивали, чаще просто избивали своих противников до полусмерти. Правда, многие пострадавшие уже не могли оправиться после побоев и вскоре умирали, но это было уже их личное дело – могли и не умирать.
Это был облегченный, утонченно-европейский вариант политического бандитизма. Это были цветочки, ягодки появились позже.
«Всякая сила моральна» – вот тезис, который я ненавижу с детства, с той поры, когда я еще не знал его точной формулировки. Я буду ненавидеть его всю жизнь.
1.9.
У Блока в дневнике есть запись:
«Хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть немногих людей, работать и учиться. Неужели это невыполнимо?»
Я живу именно так, как хотел Блок. Чего же мне еще надо? Уверенности. Да, только уверенности, что моя жизнь не будет завтра смята в комок, как клочок газеты.
3.9
В детстве и отрочестве я, разумеется, был бессмертен.
Пришла юность. Смерть вышла из-за угла и улыбнулась мне жуткой своей улыбкой. Я испугался и понял, что надо бежать. Я бежал долго и наконец перешел на шаг. «Кажется, она отстала!» – подумал я и увидел перед своим лицом ее оскал. Стало ясно, что бежать бесполезно.
Теперь мы идем с нею рядом. От нее несет холодом, как из погреба, поэтому у меня все время насморк.
Но в ее улыбке, как ни странно, есть что-то детское.
5.9
Дача. Тихий, теплый, почти южный вечер. Трещат сверчки. Тихая музыка по радио. Небо в крупных звездах.
Час всепрощения, благодарственный час.
Благодарю мироздание, приютившее меня!
Благодарю жизнь, которая была ко мне строга, но благосклонна!
Благодарю искусство!
Благодарю эту ночь, и сверчков, и небо в крупных звездах!
6.9
Утром ходил за грибами. Нашел штук сорок белых. Они росли в молодом сосняке на белом мху. Шляпки у них темные, красно-коричневые, почти вишневые. Каждый раз, когда заметишь такую шляпку, сердце сладко екает. И потом, когда погружаешь пальцы в мох, нащупываешь ножку, осторожно поворачиваешь ее, подымаешь гриб и рассматриваешь его – какое это наслаждение!
10.9
На улице подошел ко мне пьяный и представился:
– Зайцев!
Потом сказал:
– Знаете Пушкина? Поэт великий. А Твардовского знаете? Три поэта есть у России – Пушкин, Твардовский и я, Зайцев! Слушайте!
И он прочел очень складную басню, не хуже, чем у Михалкова.
5.10
Война продолжается.
Грохот. Лицо солдата, искаженное мукой смерти. Лицо солдата, искаженное ненавистью. Лицо солдата, искаженное ужасом.
22 года прошло, но война все продолжается. В тысячах кинотеатров, в миллионах книг рвутся авиабомбы, горят танки и мертвецы, не моргая, смотрят в небо. Война затянулась. Она никак не может окончиться.
Завтра я вылезу на бруствер и заору: «Впере-е-е-ед!»
И упаду лицом вниз в жидкую глину.
А после танк раздавит мой труп, вотрет его в землю и умчится, неся на гусеницах частицы моей плоти.
Послезавтра я буду сидеть в десятом ряду партера и смотреть на себя, падающего лицом вниз в жидкую глину и на танк, раздавливающий мой труп.
Войне не видно конца.
6.10.
Интонация – освободиться от иронии.
Ритм – освободиться от повторов.
Жизнь – освободиться от лени.
Работать!
9.10.
У египетской царицы Хатшепсут был возлюбленный – зодчий Сенмут. Он построил для нее знаменитый храм в Деир-эль-Бахри, самый красивый храм Древнего Египта.
Зодчий Сенмут – это я. Прошло 35 веков, и я родился второй раз. А царица не родилась. Отсюда все мои несчастья.
Быть может, она родится позже и не найдет меня на Земле. И жизнь ее будет печальна. Второй раз нам не суждено было встретиться.
На фотографии ее статуя. Я вглядываюсь в ее лицо, и оно кажется мне знакомым. Да, я помню его, хотя прошло уже 35 веков. Нужно вспомнить все остальное! Необходимо вспомнить! Это очень важно!
18.10
Шквальный ветер. Вода в Неве стоит вровень с берегами. У всех булочных очереди – паника. На Петроградской говорят, что Васильевский уже затоплен, а на Васильевском – что вся Петроградская уже под водой. Но вода еще не перелилась через край.
Получил диплом кандидата наук. Скромная на вид бумаженция, и сколько из-за нее унижений!
Первый космический корабль опустился на Венеру. Атмосфера планеты, как и предполагалось, состоит почти из одного углекислого газа.
19.10
В душе у меня как-то стихло, и эта тишина уже пугает.
27.10
Бюрократическая машина. Медленно вращаются огромные зубчатые колеса. Подставишь палец – затянет руку, потом и всего целиком. Долго будет крутить тебя между колесами. После машина выплюнет тебя, полураздавленного, полуживого. Очнешься и увидишь в руке бумажку, ту самую, из-за которой сунул палец.
По закону как кандидат наук имею право на дополнительную жилплощадь. Но право – звук пустой. Нужна бумажка с печатью.
Три дня мяли меня зубчатые колеса, и вот – о радость! – бумажка в руке. Теперь я буду платить за квартиру на 3 рубля 50 копеек меньше!
7.11
Фильм Эйзенштейна «Октябрь». Прекрасно сделано. Но если судить по фильму, центральной фигурой революции был, как ни странно, Антонов-Овсеенко – живописный человек в широкополой шляпе, в очках и с кудрями до плеч.
20.11
Две женщины. Одна говорит обо мне:
– Он же поэт!
Вторая спрашивает меня:
– Это правда? А вы как – под гитару или просто?
– Под баян, – отвечаю я, – а иногда и под балалайку. Под балалайку даже лучше получается.
3.12
Православие – самый азиатский, самый косный вариант христианства. Веками оно отсекало Россию от Европы. Благодаря ему средневековье тянулось у нас до конца XVII века. Живопись прозябала шесть веков. Не было литературы, театра, музыки, не было никаких наук. А потом, уже в девятнадцатом и в начале двадцатого, пышным цветом расцвел цветок антисемитизма – начались еврейские погромы.
И вот возмездие: монастыри в запустении, церкви рушатся, в уцелевших храмах одни старухи.
7.12
Филонов – прекрасный художник, а теоретические откровения его – сущий бред, абракадабра.
Как любим мы, русские люди, философствовать по каждому поводу и без повода вовсе!
Филонов – интуитивист чистейшей воды, но с каким страстным упорством твердит он об аналитичности, научности своего метода! И вообще – что это за искусство, если оно научное?
14.12
Северянин не понят и не оценен по-настоящему. Все ругали его за безвкусицу и претенциозность. От него отворачивались и символисты, и футуристы, и неоклассики. До сих пор о нем иначе как с усмешечкой и не говорят. А поэт он интереснейший, хотя и неровный. Из его поэзии вышел весь русский футуризм, и он же был первым русским сюрреалистом.
26.12
Вышел сборник «День поэзии». В нем напечатан мой стишок «О душе».
1968
19.1
Перечитываю Евангелие.
Это ведь Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня». И он же говорил, что надо прощать ближнему «семижды семьдесят раз».
Это ведь он сказал: «Не мир пришел я принести, но меч». И он же: «Взявши меч, мечом погибнут».
Удивительно, как оправдан сюжетно и логически каждый шаг Христа к Голгофе. Он не хочет мучений (Гефсиманский сад), но выхода нет. И поистине мужество этого человека беспредельно, ибо он один, один в целом свете, во всей истории знал наперед о всех своих грядущих муках, знал и ждал их с твердостью.
Глубина же падения человеческого здесь безмерна. И в то же время все очень естественно. До ужаса естественны подлость Иуды, и шкурнический страх Петра, и глупость народа, и невмешательство Пилата, и злое глумление солдат.
Забавно, что нынешние атеистические доводы против Христа не идут дальше слов смеявшихся под распятием фарисеев: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него».
Удивительно еще, что и разбойники, распятые рядом с ним, тоже поносили его! Правда, это у Матфея. А у Луки один из разбойников вроде бы и верит в божественность Христа, но досадует, что тот не хочет прибегнуть к своей сверхъестественной силе. С его, разбойничьей, точки зрения это полнейший абсурд. Я прямо-таки вижу этого разбойника: здоровенный детина с харей уголовника-рецидивиста, с волосатыми ручищами, до плеч покрытыми татуировкой.
– Ты бог! – хрипит он. – Так твою мать! Что ты висишь тут на жаре, мух кормишь? Сам подыхаешь и нам помочь не хочешь! А еще трепался: любите ближнего своего! У, гнида!
20.1
У меня слабые нервы и слишком развитое воображение. Когда придет мой час, я могу не выдержать.
27.2
Живу гадко. Пью много и ем сытно. И на женщин гляжу с вожделением.
Живу пошло, мелко. Весь увяз в ничтожных заботах. Душа моя подсыхает и желтеет по краям.
Зачеркнуть себя жирно крест-накрест? Отречься от себя? Забыться?
11.3
Большая книга в прозе, роман мой, давно уже взлелеянный в сердце, подступает к горлу и просится на свет божий. Общий замысел уже созрел, и эпизоды некоторые я уже вижу.
Но страшно начать.
3.4
Трудно мне стало писать. Могучая сила сопротивления появилась вдруг у знакомых и некогда столь податливых слов.
5.4.
В мире происходят всякие события.
В Чехословакии захватили власть либералы. В Польше взбунтовались студенты. В Америке убит лидер негритянского движения Мартин Лютер Кинг. В Советском Союзе празднуют юбилей Максима Горького.
На торжественном заседании Леонид Леонов произнес длинную изысканно-пышную речь. В сложнейших, чрезвычайно ловко построенных периодах терялись довольно банальные мысли вполне лояльного свойства.
Однако высказано было сомненьице о целесообразности приравнивания пера к штыку. Прозвучала и такая фраза: «Пожалуй, и в наши дни, на проходе через томительно-жгучую неизвестность, горькое да упреждающее словцо куда полезнее усыпительных гуслей».
Культ Горького, так же как и культ Пушкина, всегда был мне неприятен.
В юности увлекали меня ранние горьковские рассказы с их нарочитой романтикой и приятными красивостями. Но после Роллана, который прочтен был с восторгом, Горький-романтик как-то поблек.
Позже мне стало казаться, что у Горького все держится на «самовитом» человеке, а за этими смачными босяками и купчиками нет ничего, никакой философии (тогда я во всем искал философию).
Еще позже я был возмущен высказываниями Горького о декадентах.
На углу Кронверкского и Каменноостровского проспектов на днях воздвигли памятник. Статуя Алексея Максимовича отлита из красной меди. Она несколько велика для этого места.
6.4
Разослал стихи в разные журналы. С грустью и любопытством жду их возвращения.
15.4
Первой вернулась «Жар-птица». Из «Звезды».
«…Мироощущения людей никак не связаны с их биографиями».
Зашел в издательство «Советский писатель». Поговорил с Р. и Ц. Сказал:
– Вернули «Птицу». Написали, что мироощущения не связаны с биографиями.
Р. и Ц. рассмеялись.
– Надо же было им что-то написать! – сказала Ц., – вы на них не обижайтесь. Конечно, в ленинградских журналах вас печатать не будут. Да и вообще ваши стихи не для журналов. Надо потребовать сделать книжку. Тщательно отобрать стихи и подумать, под каким соусом это может быть подано. Ваши вещи настораживают, в них есть нечто отпугивающее. Поэтому надо очень, очень тщательно отобрать.
11.6
Вернули шестистишия из «Невы». «В них много поэтических находок, они по-своему интересны, но нам не подходят… по своей тематической направленности».
2.7
Случилось долгожданное чудо! В «Просторе» напечатана подборка моих стихов!
Опубликовано 9 стихотворений. Полностью. Без купюр и редакторской правки.
Удивительно! Невероятно!
4.7
Подходил к нашему «парадному». Вдруг из-за угла на огромной скорости вылетело что-то живое черного цвета, оказавшееся двумя котами: один гнался за другим. Первый кот врезался мне в ноги и взвыл страшным голосом, но тут же пришел в себя и помчался дальше. Второй преследовал его по пятам.
«Не к добру! – подумал я. – Сразу два черных кота!»
Пришел домой и вынул из почтового ящика пухлый конверт. Журнал «Молодая гвардия» возвратил мне «Жар-птицу».
«Едва ли набор случайных городских предметов можно назвать стихами: где ритм, где рифмы?»
Письмо подписал И. Лысцов.
6.7
В городе паника. Забирают в армию офицеров запаса с высшим образованием, имеющих возраст до 30 лет. Не принимаются во внимание никакие обстоятельства. Молодых интеллигентов с мясом вырывают из нормальной человеческой жизни, надевают на них гимнастерки и сапоги и увозят неведомо куда.
В газетах об этом ни слова. Верховный Совет не принимал по этому поводу никакого решения, никем не обсуждалась целесообразность такого рода экзекуции над молодежью.
Высшие государственные интересы?
Снова все покрыто мраком таинственности. Кто-то где-то думает и принимает решения. Остальным следует повиноваться.
И остальные повинуются, чуть слышно ропща.
2.11
Стою в очереди на автобусной остановке. Подъезжает автобус. Люди кидаются к двери. Они лезут в нее с такой яростью, с таким отчаяньем, будто это последний, самый последний автобус в их жизни и сейчас, сию минуту, решается их судьба. Меня отталкивают в сторону, оттирают вбок. Автобус трогается. Из открытой двери торчат локти и спины, портфели и женские сумочки.
Подходит другой автобус, и происходит то же самое. Откуда-то сзади, с боков набегает народ. Меня пихают кулаками, наступают на ноги, сбивают с головы шляпу (ловлю ее на лету) и отбрасывают от двери.
«Какой ужас! – думаю я. – Будто война! Будто эвакуация! А ведь они всего-навсего лишь возвращаются домой с работы!»
В третий автобус меня вталкивают силой: по счастливой случайности я оказался прямехонько против двери.
4.11
Пишу пьесу по киносценарию Карне «Обманщики». Зачем из сценария делать пьесу, мне непонятно: есть же великое множество хороших готовых пьес. Но меня попросили, и я пишу.
Сказали: пишите поабсурднее, посовременнее. И я пишу совершенно абсурдно, ультрасовременную пьесу. Пишу по слабости характера – неудобно отказаться. И еще – самолюбие: неужто не способен я написать такую пьесу?
Филька лежит передо мной на столе в величественной позе льва, а я пишу про несчастных парижских мальчишек и девчонок. Они несчастны, потому что не понимают своего счастья, а я счастлив, потому что осознаю свое несчастье.
Филька лежит не шевелясь, будто дремлет. Но я знаю, что он притворяется – кончик хвоста у него подрагивает.
24.11
Потрясен «Посторонним» Камю. Еще никто столь точно и столь страстно не высказывал мои мысли о мире и о жизни в нем. Разве что еще Кафка. Но у него это более туманно. Быть может, глубже, но мягче.
14.12
В «Дне поэзии» напечатана моя «Машина времени».
Всякий раз, когда вижу свои стихи опубликованными, меня охватывает странное чувство: будто голый, совсем голый оказался я на улице, и вот сейчас это заметят и закричат, засвистят, заулюлюкают, а то, чего доброго, и побьют, – стыдно мне и страшно.
«Машину» напечатали не полностью – без хвоста. А в хвосте-то вся соль. Куцая получилась «Машина».
15.12
Закончил «Обманщиков». Вышло не так уж плохо и не так уж абсурдно.
1969
22.2
«Обманщиков» ставить запретили. Велели переделать пьесу, «заострив публицистический пафос». Режиссеры мои в растерянности. Я им говорю: «Бросьте! Ясно было, что это не пройдет». А самому обидно – хорошая же получилась пьеса.
8.3
Высоченная гора советской поэзии возвышается надо мною. Какая монументальность! Какое величие! Какая сложная иерархическая многоступенчатость!
Поэты начинающие, поэты молодые, поэты известные, поэты популярные, поэты маститые, поэты большие, поэты крупнейшие и еще бог знает какие.
Стою у подножия горы, разинув рот.
9.3
Первое сражение на китайской границе. Китайцы добивали наших раненых штыками. Лица трупов обезображены. Все газеты пишут об острове Даманском.
10.3
Стихи мои – это крик в подушку. Никто не слышит, и трудно дышать.
27.3
В «Литературке» печатают отрывки из книги цейлонского журналиста «Путь Мао к власти».
Удивительно: ведь еще в 65-м заигрывали с этим живодером, надеялись с ним поладить. А как же поладить, если он живодер? И не грешно ли ладить с таким исчадием ада?
28.3
Воистину, техника всемогуща. Второе сражение за остров Даманский целиком заснято на кинопленку. Все звуки его: стрельба, взрывы, крики солдат – записаны магнитофонами. Теперь этот бой показывают в кино и передают по радио. Следующее сражение, наверное, будут передавать по телевидению, как хоккей.
14.4
«Простор» напечатал еще четыре моих стихотворения. Среди них «Пьеро делла Франческа» и «Не тот». Кажется, я становлюсь видным казахским поэтом.
10.5
Вышел к заливу. Сумерки. Кронштадт еле виден. Вода сливается с небом. Тревожная и манящая бесконечность.
У нее свежий, непобедимо свежий запах. Запах йода и немножко – мазута. И еще чего-то.
В этой серой прохладной бездне все мои несчастья. Какая жестокая издевка судьбы!
Какое унижение! Ведь только и думаю о бесконечности, а она, небось, даже не подозревает о моем существовании.
15.5
Пастернак и Заболоцкий в конце жизни предали себя как художники и ушли в девятнадцатый век, как в монастырь. Обвинять их в этом грешно, но все же это предательство.
Интересно, как воспринимался бы сейчас Уитмен, если бы в старости он стал писать, как Лонгфелло? И как относились бы мы к Рембо, если бы, вернувшись из Африки, он не умер и стал писать, как Мюссе?
Некий образованный, вполне интеллигентный и неглупый человек сказал мне, что «стихи из романа» – самое лучшее у Пастернака, и самоуверенно заулыбался, когда я ему возразил.
«Реалистический» суп слишком долго варится. Его запах дурманит и здравые умы.
16.5
Р. сказал мне, смеясь:
– Вы идеалист – о душе пишете! И давно умершие девушки почему-то бродят у вас по городу.
– А что если показать «Жар-птицу» Ольге Берггольц? – сказал он потом.
Был он весел, чисто одет и хорошо выбрит. Разговаривал со мной покровительственно. Ему было приятно видеть меня в роли просителя. Он наслаждался мною.
Обещал, что прочтет книгу через три дня. Вчера позвонил ему.
– Нет, знаете, еще не прочел. Очень был занят. У нас тут была редакционная коллегия и еще совещание по поводу… и еще одно совещание в связи с… Но хорошо, что позвонили. Прочту, обязательно прочту! Звоните!
В голосе его была радостная сытость, была «улыбчивость», как написал бы современный прозаик из «кондовых».
Если обратиться к «буржуазной» терминологии, то мои стихи – это нечто среднее между экзистенциализмом и структурализмом. С помощью эмоционально-смысловой игры я хочу выразить свой страх перед жизнью и свое восхищение ею.
Эклектик я несчастный.
В городе водочный психоз. Водки в магазинах вдруг стало не хватать. Ее продают только по вечерам и только на улице, рядом с магазинами, чтобы гигантские очереди пьяниц не мешали прочим покупателям. Бутылки тащат полными сетками. Ходят слухи, что водка подорожает.
Как ни странно, но в промышленно развитом социалистическом обществе возникла зловещая проблема алкоголизма.
Реабилитируют Сталина. Исподволь, ненавязчиво, но реабилитируют. В фильме «На Киевском направлении» весьма реалистично показан разгром нашей группировки под Киевом в 41-м году. Десятки тысяч солдат попадают в плен. Генерал Кривонос и весь его штаб бессмысленно, трагически гибнут при попытке прорваться сквозь окружение. Однако гибнут в полной уверенности, что эта жертва не напрасна: танки Гудериана задержались под Киевом и опоздали к Москве.
И выходит, что киевская армия была мудро пожертвована великим шахматистом, чтобы выиграть партию.
Интересно, что на самом деле думали те генералы перед смертью, стреляя из винтовок в немецкие танки?
Великий шахматист выиграл партию с фантастическим счетом 20:7 не в свою пользу. И добрая половина России лежала в развалинах.
Проза Лорки хороша, но, пожалуй, слишком красива. Она пахнет лилиями символизма.
В конце концов возвращаешься к тому же: к спокойной уверенности в себе.
20.5
В мире слишком мало сил, противостоящих злому и агрессивному безумию. Зло организовано. Добро разобщено, распылено и потому бессильно.
Анархические эскапады западной молодежи лишь способствуют сплочению правых.
Спасение мира – в объединении всего разумного, в объединении интеллигенции. Но она еще не осознала свою историческую миссию – она эксплуатируется силами зла. Это самая несправедливая и самая пагубная эксплуатация. Злой дурак сидит на шее доброго умника.
С. долго воровал. Не у частных лиц, а у государства. Подделывал документы, обманывал рабочих, мошенничал и жил в свое удовольствие: каждый день хлестал коньяк, соорудил дачку, купил жене и любовнице по гарнитуру полированной мебели.
Однако был он членом партии, и непростым, а весьма активным – неоднократно выбирали его в партком, не раз выступал он с пламенными речами на собраниях.
Наконец С. разоблачили, арестовали, обрили и стали судить. На суде он держится молодцом. Ни в чем не признается и произносит такие же пламенные речи, как когда-то на собраниях. Каждую речь он начинает словами: «Граждане судьи, как член партии, я…»
Говорят, что он получит от силы два года. А начальству, за чьей спиной он орудовал, несдобровать.
Однажды С. уже был осужден. И тоже за воровство. Но из партии его почему-то не выгнали.
22.5
Когда принес я свою книгу в издательство, редактор Ч. был со мною ласков. Сказал, что читал мои стихи (?), что давно пора мне издать сборник, и стал извиняться, что книга сможет выйти в свет не раньше 71-го года.
Было мне как-то неловко перед ним. Не знал ведь он, бедный, какая это книга, но почему-то был уверен, что она ему понравится. Казалось мне, будто я обманываю его, коварно обманываю, подкладываю ему свинью, обижаю ни за что ни про что. Совестно мне было.
Эстетика Пушкина бесконечно далека от нашей современности, не менее далека, чем эстетика проповедей протопопа Аввакума.
Эстетика нынешних пушкинистов от современности отстоит еще дальше, ибо это эстетика эпигонства.
Но с каким комфортом расположились сии классицисты на советском Парнасе! И с каким рвением, с какой злостью обрушиваются они на всех инакомыслящих!
28.5
Славянофильство, как и в прошлом веке, становится одной из граней официальной идеологии.
У России-де своя судьба, своя культура, свои несчастья, свои радости, и лощеному европейцу ее не постичь. России-де у Европы ума не занимать. Мы «своеобычные» – хоть и неотесанные, да крепкие, нас на мякине не проведешь!
В славянофилы идут обычно люди невысокой культуры, не имеющие достаточного для работы в искусстве кругозора, но чрезвычайно гордящиеся своей «нутряной» одаренностью. Слово «Русь» не сходит с их языка. Но рядом непременно «Ленин» и «коммунизм».
Есть и другие славянофилы – подпольные. Эти тайно читают Бердяева и гордятся тем, что могут бесстрашно перекреститься, войдя в церковь. Они покультурнее тех, первых. Интеллигентность не мешает им, однако, утверждать, что Андрей Рублев выше всего итальянского Ренессанса, а церковь в Коломенском значительнее, чем вся европейская готика.
Спорить со славянофилами бесполезно. Любовь к России (показная или истинная) подобна у них материнской любви к ребенку, какая бывает у неумных женщин. Логика тут бессильна.
А между тем – Россия страна европейская. Попытки отсечь ее от Запада всегда были и будут для нее пагубны. Ныне же, когда в Азии вновь проснулся вулкан фанатического безумия, грозящий нам новыми великими бедами, альтернативы – запад или восток – вообще быть не может.
Блок написал своих «Скифов» в исступленном отчаянье. Не скифы мы, нет!
30.5
Вернули «Жар-птицу» из журнала «Север».
Письмо заведующего отделом поэзии Э. Тулина: «С удовольствием прочел Вашу поэму… Великолепен прием смешения мистического с реальностью. Этот монолог умершей сделан, по-моему, мастерски. Но это личное отношение к написанному…»
8.6
Одно из самых страшных воспоминаний детства.
Фергана. 1943 год. Девочка из нашего двора попала под машину. Я не видел, как это произошло, я прибежал к месту происшествия спустя пять минут.
На толстой рифленой шине трехтонки висели бледно-розовые комочки мозга. Меня поразило, что человеческий мозг выглядит так же, как и мозг животных. Говяжьи и бараньи мозги я не раз видел на базаре в мясном ряду.
Потом, во время похорон, когда тело девочки уже лежало в гробу, голова ее была закрыта марлей. И я ужасался, пытаясь представить себе изуродованной эту хорошо знакомую мне голову с выгоревшей тощей косицей и веснушками на курносом носу.
9.6
Каждый раз, подымаясь по лестнице к себе на третий этаж, я с содроганием думаю о том, что мне не миновать площадки второго этажа. Приближаясь к этой роковой площадке, я тешу себя надеждой, что случится чудо и она окажется чистой. Но напрасно! Посреди нее желтеет все та же, никогда не просыхающая лужа мочи. Кто-то с поразительным упорством в течение нескольких лет почти каждый день мочится на этом месте.
Иногда, когда лифт исправен, я пытаюсь воспользоваться им. Но едва я влезаю в кабину, как в глаза мне лезут все те же похабные рисунки, выцарапываемые с не менее удивительным упрямством (время от времени дворничиха их соскабливает) в течение все тех же нескольких лет некими юными идиотами.
Как ни печально, но я не могу к этому привыкнуть.
Н. Пушкарская из «Звезды Востока» прислала записку: «Вы в своем творчестве разрабатываете главным образом тему смерти, а это не может заинтересовать советскую периодику, в том числе и наш журнал».
14.6
Показывал Петергоф кубинским архитекторам. Показал дворец и фонтаны, попрощался и пошел в Александрию.
Один бродил по парку, любуясь прекрасными в своей старости деревьями, видевшими всех русских монархов начиная с Александра Первого. Парк этот еще в детстве волновал меня своей благородной запущенностью, пустынностью, какой-то заколдованностью. Потом он стал приютом моей первой любви.
Она жила в Петергофе. Да нет же – она еще живет там! Страшно подумать – минуло уже 16 лет с той поры, когда целовались мы с нею под дубами и кленами!
Как изменился мир за 16 лет! А парку хоть бы что. Все деревья на своих местах. Так же таинственны, так же безлюдны аллеи.
Как далекий прибой
родного, давно не виденного моря,
звучит мне имя твое
трижды блаженное:
Александрия!
21.6
Вспоминаю дни юности беспечной. Вспоминаю субботние очереди в баню.
Обычно очередь располагалась на лестнице. Если она занимала один марш – это была не очередь, это был пустячок, безделица. Настоящая, хорошая очередь растягивалась на три или четыре лестничных марша. Иногда ее хвост торчал на улице, и это уже была первоклассная очередь, очередь-люкс.
Стояли мы с отцом (а часто и с дедом) по полтора-два часа. Мимо нас спускались по ступеням краснолицые, распаренные, уже вдоволь намывшиеся счастливцы. И, как всегда бывает в таких случаях, чем длиннее, чем ужаснее было это стояние на лестнице, тем сильнее хотелось помыться. Очередь подавляла волю, порабощала душу. Воображение рисовало сладостные картины набитой людьми раздевалки с весами, с батареей лимонадных бутылок на столе банщика, с фикусами на окнах. Воображение живописало груды голых тел в душной мгле парилки, звон шаек, шум льющейся воды, гомон голосов множества людей. О нет, не встать в очередь было невозможно, а уйти из нее было просто немыслимо!
Поздно вечером, уставшие, разомлевшие, возвращались мы домой, и женщины на пороге говорили нам радостно: «С легким паром!»
28.6
Для того чтобы жить по-настоящему, надо все время быть на гребне отчаянья. Это очень трудно. Поэтому большинство живет кое-как.
19.7
Включаю радио. Голос диктора: «Все они знают, что основная задача искусства – прославление подвигов народа, строящего коммунизм».
Точная, лаконичная формулировка: основная задача – прославление. Как в Древнем Египте.
Мы вернулись к истокам цивилизации.
21.7
Люди ходят по Луне!
Два американца бродят по Луне где-то в районе моря Спокойствия! И весь мир следит за ними, глядя в экраны телевизоров!
Празднично и тревожно.
Что дальше? Что приберег для нас таинственный космос? Что сулит он этому, еще столь несовершенному, раздираемому ненавистью и предрассудками, трясущемуся в лихорадке человечеству?
27.7
Тщательно, с пристрастием перечитываю Ницше. Прекрасный поэт, хотя и антихрист.
Как ни удивительно, но книгу мою не вернули мне из издательства тотчас и с негодованием. Даже есть малюсенькая надежда, что ее удастся каким-то образом напечатать.
Занимается ею в издательстве Мина Исаевна Гликман, милая женщина, всепонимающая и доброжелательная. Но, увы, от нее зависит очень немногое.
Она говорит, что мои стихи плохо ложатся в книгу и как бы отталкиваются друг от друга. Еще она говорит, что книга не должна производить впечатления ложной многозначительности, а также не должна она пахнуть западным модернизмом. Надо опасаться также возможных обвинений в индивидуализме, ретроспективизме, литературщине и уходе от жизни. Короче говоря, опасностей – тьма.
– Хорошо, – говорю я добрейшей Мине Исаевне, – давайте выбросим все подозрительное и оставим верняк.
– Ах, нет, – говорит она, – тогда книга будет пресной! Надо изловчиться так, чтобы Алексеев остался Алексеевым и чтобы комар носа не подточил.
– Прекрасно! – говорю я. – Давайте изловчимся!
И вот мы изловчаемся.
Все-таки это удивительно, что книгу мою не вернули мне тотчас и с бранью!
В 27-м году Цветаева писала Пастернаку:
«Ты не знаешь моего одиночества… Закончила большую поэму. Читаю одним, читаю другим – полное молчание – ни слова! – молчание, по-моему, неприличное, и вовсе не от избытка чувств!»
Иногда я искренне, как младенец, удивляюсь своему существованию в поэзии. Читать свои стихи мне вообще некому. Я согласен был бы и на молчание, лишь бы сидели и тихо, терпеливо слушали.
31.7
Вечером купался в озере. Плыл на боку. Половина моего лица была в воде, и одним глазом я ничего не видел. Другой глаз был почти вровень с поверхностью воды. Плыл я лицом к солнцу, оно висело низко и слепило меня. Я прищуривал глаз, и тогда в каплях на моих ресницах вспыхивали радужные круги, все время менявшие очертания, как в калейдоскопе.
Одно из редчайших и прекраснейших мгновений жизни.
3.8
Мама часто говорит мне: «Вот ты считаешь себя ученым человеком…» Например: «Вот ты считаешь себя ученым человеком, а сделал себе подсвечник из сосновой коряги! Кто же делает подсвечники из дерева? Они же могут загореться от пламени свечи, и тогда будет пожар!»
В глубине души мама убеждена, что я не такой уж ученый человек, во всяком случае – не ученее ее. Не может же быть, чтобы я, которого она родила, которого она помнит совсем беспомощным крошечным существом, в чем-то превзошел ее!
5.8
«Простор» вернул мне «Стеньку Разина».
«Такую “веселую” вещь напечатать в “Просторе” сейчас просто невозможно». Письмо подписал В. Антонов. Инна Потахина, оказывается, только замещала его в отделе поэзии. Но отчего же так долго замещала? Видимо, статейка З. Кедриной не осталась в Алма-Ате незамеченной.
6.8
Евтушенко и Аксенова выгнали из редколлегии журнала «Юность». «Молодая Гвардия», «Октябрь» и «Огонек» с остервенением нападают на «Новый мир». Сталинисты лезут изо всех щелей. И славянофилы оживились ужасно: пишут бог весть что. Пишут, что декабристы хотели унизить Россию перед Европой, а Пушкин, пока он сочувствовал декабристам, не написал ничего путного, что раскол – явление прогрессивное, что русские купцы презирали деньги, что истинная Русь жива только в деревне, а просвещение – штука вредная. Все это, как ни странно, печатают. Волна национализма свободно катится по страницам тех самых журналов, которые с усердием ругают китайцев за зверский национализм.
17.8
Страх смерти уже перестал быть моим главным страхом, больше всего я боюсь теперь, что все сделанное мною погибнет. Впрочем, это лишь новая форма того же, прежнего страха.
29.8
Студент-медик снимал комнату у набожной полуграмотной старухи. На стенах он развесил репродукции мадонн Леонардо вперемежку с таблицами из анатомического атласа.
– Грех! – говорила ему старуха. – Великий грех! Рядом с богородицей такое безобразие! Будет вам, безбожникам, на том свете тошно – помянешь мои слова!
Однажды студент попросил у хозяйки большую кастрюлю, налил в кастрюлю воды и что-то в нее положил. Потом поставил кастрюлю на газовую плиту.
Целый час в кастрюле варилось это «что-то». Старуху одолевало любопытство. Наконец она не выдержала, открыла крышку, взглянула, вскрикнула и повалилась на пол. Когда студент прибежал на кухню, она была уже бездыханна.
В кастрюле варился человеческий череп. Студент выполнял домашнее задание – вываривал череп, чтобы отделить составляющие его кости.
В институте состоялся товарищеский студенческий суд. На суде был великий спор: виноват ли студент в смерти старухи или она умерла от собственного невежества?
Решили, что студент немного виноват: надо было хотя бы предупредить, что в кастрюле – череп, он же варил его тайно.
В шашлычной было много народу, но я высмотрел все же свободное местечко. Усевшись, я поднял глаза и оторопел: предо мною сидело изумительное существо женского пола.
Ей было лет двадцать.
Линия носа ее была нарисована столь тщательно, как и у той женщины, которую Доменико Венециано изобразил в профиль на фоне голубого неба с редкими белыми облачками. Ноздри были поразительно тонки и прекрасны. Концы длинных, слегка подрисованных глаз доходили до висков. Большой яркий рот явно был вылеплен кем-то из древнеегипетских скульпторов. Руки же были скопированы с рук тициановской Венеры, той, что висит в галерее Уффици. Только ногти, очень узкие, острые, покрашенные перламутровым лаком, напоминали о том, что эта девушка живет во второй половине ХХ века.
Она была со спутником. Они разговаривали. Голос ее был удивительно женственен. Полчаса я наслаждался его музыкой, не вникая в смысл того, о чем говорилось.
Они торопились и ушли тотчас после того, как расплатились с официанткой. Я некоторое время сидел в оцепенении. Потом бросился вслед, выбежал на улицу. Но, увы, прекрасная незнакомка исчезла.
30.8
Второй раз смотрел польский фильм «Фараон».
Величие истории угнетает. Смешно сказать! 50 веков своей сознательной жизни человечество прожило без меня!
Страшно смотреть в эту пропасть прошлого, страшно – а тянет.
4.9
В одной из газет была статья о ликвидации Ново-Девичьего кладбища. Сегодня я туда поехал.
Жуткая картина открылась взору моему.
Добрая половина памятников уже снесена. Всюду валяются вывороченные из земли каменные плиты. Там и сям зияют ямы отверстых могил. Так бы, наверное, это выглядело на другой день после Страшного суда.
Надписи на низвергнутых надгробиях:
«Заслуженный профессор…»
«Инженер путей сообщения…»
«Контр-адмирал…»
«Генерал от кавалерии…»
«Доктор медицины…»
Чугунный памятник с обломанным крестом. На нем слова:
«Спасибо за 8 лет чудного счастья».
И вдруг посреди этого хаоса разрушения – чистая светлая площадка, подстриженные кустики, свежие венки. Здесь похоронены родители Н. Крупской.
11.9
Все написанное мною – это трофеи побед над неким внутренним голосом, который уже много лет твердит мне, что писать бессмысленно. Борьба продолжается, трофеи растут. Но зачем? Борьба ради борьбы?
Увы, это та самая борьба ради борьбы, над которой я всегда смеялся.
13.10
Славянофилы видят русское только в прошлом нашего искусства. Современность недоступна их пониманию. Все сегодняшнее кажется им не русским только потому, что оно сегодняшнее.
Когда-то В. Стасов обвинял Нестерова в «западничестве». Сейчас и ребенок посмеется над этой нелепой фантазией достопочтенного критика.
17.10
Шел по набережной в послезакатный час. Небо было чистое, глубокое. На западе оно еще светло зеленело. Восток же был уже иссиня-черен и страшен своей бездонностью. В зените, на границе света и тьмы, висело маленькое облачко, похожее на птичье перо. Казалось, оно летело на запад за солнцем, но ночная тьма настигла его. Рядом с облачком уже горела звезда, а впереди, над закатом, помаргивал красный глаз Марса. Судьба облачка была решена. Через десять минут оно исчезло. Оно погибло у всех на глазах, и никто не попытался его спасти.
18.10
По вечерам, сидя в библиотеке, я ухожу в Россию начала века.
Я слушаю голоса обреченных. Их мысли о прошлом, их пророчества доводят меня до слез.
«Скованная по рукам и ногам Россия маялась весь девятнадцатый век, тратя лучшие свои силы на борьбу с режимом», – писал Д. Философов в 1906 году.
«Царит час безумства и оргий, час наибольшего озверения и самоубийственного отчаяния. Быть может, перевал еще не пройден, и станет тьма еще чернее, и заря потухнет вовсе», – писал А. Бенуа в 1909-м.
Фантасмагория истории продолжается. С гораздо большим правом, чем Камю, я могу сказать, что я ее «претерпеваю, а не делаю».
20.11
Александр Солженицын исключен из Союза писателей СССР, потому что его «поведение носит антиобщественный характер».
Сэмюэл Беккет получил Нобелевскую премию по литературе 1969 года за «творчество, которое, используя новые формы романа и драмы, достигает вершины в изображении бедствий современного человека».
Эти новости любезно сообщила мне «Литературная газета».
Давно не был я в Доме писателей у Литейного моста. На днях решил я туда зайти. Посижу, думаю, в буфете, выпью чашечку кофе. Может быть, какие-нибудь литзнакомые подвернутся – поговорим.
Вошел, разделся в гардеробе и направился к дверям буфета. Тут окликнул меня строгий женский голос:
– Молодой человек, вы куда?
«Как приятно, когда тебя называют молодым человеком», – подумал я и обернулся.
Ко мне подходила женщина с административным выражением лица.
– В буфет, – сказал я, – кофе захотелось.
– Буфет только для писателей! – сказала женщина еще строже.
– Вот те на! – сказал я. – Выходит, что я не писатель?
Во взоре женщины появилось нечто похожее на смущение.
– А как ваша фамилия? – спросила она.
– Алексеев моя фамилия, – сказал я, – а зовут меня Геннадий.
– Не слышала о таком! – сказала женщина и загородила собою вход в буфет.
Понурясь, пошел я к гардеробу, оделся и вышел на свежий воздух.
24.11
Сон.
Пасмурный вечер. Дорога. Голое унылое поле. Впереди на дороге меня кто-то ждет.
Подхожу. Лицо человека кажется мне знакомым, но не могу вспомнить, где я его встречал.
– Кто ты такой? – спрашивает человек.
Я хочу ответить, но вдруг понимаю, что ответить не в силах, что я не знаю, решительно не знаю, кто я такой.
Все поле покрывается моими фотографиями. Их множество, и они разные: на одной я еще грудной младенец, на другой – прекрасный юноша со спокойным светлым лицом, на третьей – глубокий старец с бородой патриарха. Ветер шевелит фотографии, и они зловеще шелестят.
«Откуда их столько? – думаю я. – К тому же все разные!»
– Тебя ищут! – говорит человек. – Ты разрушил Храм Христа Спасителя.
– Это неправда! Меня оклеветали! – кричу я. Но человека уже нет. Он превратился в статую Рамзеса Второго. На губах Рамзеса подобие улыбки. Порыв ветра подхватил фотографии, и они стали медленно кружиться вокруг меня, все так же шелестя.
1970
15.2
Читая античных поэтов, поражаешься обилию информации, заключенной в стихах и не имеющей подчас никакого отношения к теме. Здесь и мифология, и история, и современная политическая жизнь, и литература. Имена, географические названия, намеки на известные современникам события и сюжетные коллизии бесчисленных легенд мелькают на каждой странице. Иногда это утомляет.
17.3
Беседа с главным редактором издательства.
Редактор: Я прочел вашу книгу. Поэма хороша, а стихи мне не понятны. По-моему, в них нет никакой художественности. Может быть, у вас есть другие стихи, получше?
Я (ковыряя ногтем уголок папки): Видите ли… некоторые полагают, что, наоборот, стихи лучше, чем поэма. В рецензии-то о поэме ни слова, а стихи рецензенту понравились…
Редактор: Хорошо. Я не хочу решать этот вопрос единолично, возможно, что я ошибаюсь. Привлечем на помощь еще одного рецензента. Для объективности. (Протягивая мне руку.) Рад был с вами познакомиться!
Однажды он уже говорил мне эту фразу. У него плохая память.
2.8
Я угодил в плен. Стараясь вырваться и спастись, я делаю отчаянный рывок и несусь в неизвестность сломя голову. Выдыхаясь, я сбавляю шаг, останавливаюсь и вижу, что стою там, откуда начал свой бег. Я бегаю, описывая круги. Кажется, это и называется муками творчества, будь они прокляты.
Через дорогу ползет навозный жук. Весь черный с синим отливом. Ползет он с большим трудом – в заднюю ногу его вцепились два муравья. Они выбиваются из сил, стараясь остановить жука, но это им не удается – жук слишком велик, он тащит муравьев за собой по дороге. Он не пытается от них освободиться, не пробует отогнать их, а просто тащит их как некий мертвый груз, как тяжкое, но, увы, неизбежное бремя. А муравьи упорствуют и не бросают ногу жука. Их карта бита, но они упорствуют.
Странно, что снующие неподалеку другие муравьи не замечают их героизма и не идут на помощь.
И зачем муравьи напали на жука? Жук неплохой, с виду добрый.
<…>
7.12
История опровергла Достоевского. Его России не было. Была другая, совсем другая Россия, которую он не видел.
Ожесточенное его русофильство – от зависти, от тайной жгучей зависти: там, на Западе, так хорошо, а Россия такая несчастная.
– Несчастная, грязная, убогая, а все равно лучше Запада! Все равно лучше!
Как дети, упрямые и обидчивые.
9.12
Эрмитаж. Картины импрессионистов из французских музеев. Иконы Кипра. Античная керамика.
Тихая пустынная Миллионная. Теребеневские атланты. Ноги атлантов. Пальцы на их ногах.
Зимняя канавка. Красиво до неестественности. Конечно – театральная декорация. И Нева там, в арке, и полоса крепостной стены – все, все нарисовано. Ловко! Хороший художник!
Снова разрыв домов слева, еще один задник с прекрасно написанной Петропавловкой. Теперь она уже во всей красе, со шпилем, с куполами. Запорожский переулок. Почему, собственно, Запорожский? (Екатерина? Конец запорожской вольницы?)
Оттепель. Тепло и солнечно. В декабре это редкость. Лед Мойки грязен и забросан всяким хламом. Около набережной на льду валяется фанерный стенд с фотографиями. На нем надпись: «Область применения плит». Судя по фотографиям, речь идет о железобетонных строительных плитах. Рядом бутылка из-под водки и рваная раскрытая книга с живыми шевелящимися страницами (ветер).
По крыше Конюшенного ведомства ходит человек. За ним виднеются луковицы храма Воскресения.
Над Летним садом луна, желтая, как лимон (солнце и, однако, луна!). Лимон не слишком свежий, на нем пятна.
По аллее Михайловского сада идет женщина с детской коляской. Женщина толкает коляску, и та уезжает далеко вперед. Женщина, не торопясь, догоняет ее и снова толкает. Молоденькая совсем женщина, девчонка еще. Скучно ей гулять с коляской.
Моя дочь живет на свете уже девятый день. Появилось какое-то новое существо, таинственное, небывалое существо, и оно – моя дочь. Я ее еще не видел. Но знаю, что она появилась, возникла в этом мире. И это чревато для меня многими неведомыми последствиями.
<…>
1971
12.3
Мартовское солнце бьет в глаза. Какое блаженное ослепление! Как сладко жмуриться и идти против солнца!
Весь город завален снегом. Он свежий, чистый, вчера только выпал. И вот у всех на глазах он торжественно и картинно тает.
Снег сбрасывают с крыш. Целые лавины обрушиваются вниз. Огромные сосульки разбиваются об асфальт в мельчайшие ледяные брызги.
Крики дворников, скрежет их алюминиевых лопат, хохот и визг ребятишек, свист голубиных крыльев, солнечные зайцы на стенах домов. Улицы млеют в светлом колеблющемся тумане.
16.3
В. я встретил на улице. Она обрадовалась страшно, кинулась ко мне, но вдруг поскользнулась и упала. Стал ее подымать и вижу – у нее нет левой руки, рука лежит отдельно на асфальте, ровнехонько, будто бритвой отрезанная. «Вот, – думаю, – какое несчастье! Ужас какой!» В. говорит: «Ничего, не так уж и больно. Пошли пройдемся!» Я беру ее руку под мышку, и мы идем по улице. В. мне говорит что-то веселое, на ходу льнет ко мне, все норовит поцеловать в губы, а мне ужасно неловко идти с ее рукой под мышкой – все же видят. Из отрезанного конца сочится кровь, видны сухожилия и розовая косточка (как на мясе в магазине). «Ничего, ничего! – говорит В. – Ты только не прижимай мою руку к пиджаку – запачкаешь». – «Пора бы уж и проснуться!» – думаю я и просыпаюсь.
3.5
Сижу на кухне и читаю Бунина. Мои «дамы» спят. Сверху доносится приглушенный смех и гомон голосов: потолок над кухней тонкий и верхние соседи хорошо слышны. У них там веселье, вроде бы анекдоты рассказывают. Мужчины смеются гулко, басисто, а женщины – пронзительно и как-то по-животному.
Тайна Бунина в том, что у него человек и природа слиты в одно возвышенно-прекрасное одухотворенное существо. Герои его любят, блаженствуют и страдают вместе с темными елями барских усадеб, холмистыми полями, по которым ползут тени от облаков, и с тихими свежими июньскими ночами, когда только что прошел дождь, когда от земли, от травы и листвы исходит самое сладкое в мире благоухание.
Время от времени я ухожу в Бунина, проваливаюсь в ту, бунинскую, запредельную и вместе с тем странно земную и будто бы знакомую мне жизнь.
Со всей своей утонченной старомодностью Бунин парит над нашим сумасшедшим столетием, презирая и не замечая его.
Звонил Д. Сказал, что стихи мои в пьесе остались, что спектакль утвержден.
Все-таки странно: в Театре комедии идет спектакль, в котором актеры читают мои стихи. На репетиции это произвело на меня ошеломляющее впечатление. «Мог ли я написать такое?» – думал я с ужасом и восторгом. Но выходит, что мог.
10.5
За два месяца не написал ни строчки. Нет мне прощения. «Пан» Гамсуна. Летом на даче я вылитый Глан. Вместо Эзопа – Филимоныч. Эдварды нет. Но она подразумевается.<…>
5.8
Сон.
Из моего тела вылезают черви. По одному. То из бедра, то из предплечья, то из живота. Небольшие, размером с навозного червя, и побольше, как выползки. Сухие кольчатые черви, на таких хорошо клюет рыба. Вылезают они не совсем, а до половины. Я их хватаю и выдергиваю осторожно, стараясь, чтобы не оторвался хвост. Если хвост останется, начнется нагноение, гангрена еще, чего доброго, начнется. Мерзостно, гадко мне вытаскивать червей. И откуда они взялись? Болезнь, что ли, такая? Никогда о ней раньше не слышал.
7.8
Прошлым летом, бродя по лесу, наткнулся на два старых мертвых дерева – ель и осину. Они стояли, прижавшись друг к другу, обнимаясь ветвями. Стволы их почти голые, кора сгнила и отвалилась. Сегодня я снова их увидел и с удивлением обнаружил, что осина еще жива: на самом верху один-единственный сук зеленеет листвой. Непостижимо, каким образом осина умудряется жить без коры. Еле живая, она поддерживает ветвями давно уже высохшее тело своей подруги. Так они и стоят вместе среди веселого, зеленого, еще не старого леса.
12.8
Весь день шел дождь и было ветрено. К вечеру дождь угомонился и ветер стих. Появился туман. Берега озера исчезли, и стало казаться, что оно огромное, как море. Когда стемнело, снова пошел дождь, сначала робкий, он становился все смелее и развязнее и, не стесняясь, громко стучал по крыше.
Прочел «Исповедь» Эдит Пиаф.
Красивая, бесшабашная жизнь. Все вкусила Эдит в этом мире, все, что доступно смертным: нищету, унижения, физические муки, радости любви, сладость богатства. Жила во весь дух, без удержу, без оглядки.
16.8
В «Совписе» смотрел корректуру «Дня поэзии». В сборнике 4 моих стихотворения. Опять знакомый страх.
Были эти строчки, эти слова, эти мысли только моими, были частью меня, были моей тайной. И вдруг они становятся всеобщим достоянием. Каждый может их прочесть, может восхищаться ими или возмущаться, может лениво скользнуть по ним взглядом и перевернуть страницу. И они беззащитны перед каждым, не могу я их уже спрятать и уберечь от опасности.
20.8
Пора великого противостояния Марса. По вечерам красная, зловеще яркая планета висит над лесом.
Опять речка в Петровском. Опять музыка шумящей воды и шумящих сосен. Опять природа прекрасна до мучительства.
Сосчитал мутовки у молодой придорожной сосны. Их оказалось девятнадцать. Сосна появилась на свет как раз в тот год, когда я, двадцатилетний, первый раз прошел по этой дороге. Девятнадцать лет прошло! Уже девятнадцать!
22.8
У Анны пробуждается сознание. Она уже кое-что понимает из того, что ей говорят, и жестами, мимикой отвечает на простейшие вопросы. Смеется она уже почти так, как смеются взрослые. Заметны черты появляющегося характера: она общительна, упряма, возбудима, быстро реагирует на внешние раздражители. Скоро ей исполнится девять месяцев.
27.8
Феномен звездного ночного неба. Феномен восхода солнца. Природа феноменальна. Человек – тоже. Живу в феноменальном мире и все чем-то недоволен.
28.8
Парголовское кладбище. Теперь это единственное кладбище на весь четырехмиллионный город. Другие закрыты.
Лес. Не очень густой, с большими полянами. Елки, сосны, березы. Хоронят по квадратам: сегодня 13-й, завтра 16-й, послезавтра – 21-й. Рядом подготавливают новые квадраты – корчуют пни, роют канавы, прокладывают водопровод. Кладбище растет на глазах.
Могилы располагаются ровными рядами. Почти на каждом – стандартная бетонная раковина с гирляндами по бокам и стандартный бетонный крест с белой мраморной крошкой. Одинаковость могил придает кладбищу жутковатый вид. Кажется, что в городе мор – чума или холера. Или война, и каждый день погибают сотни людей.
Шеренги белых крестов уходят вдаль. Кое-где – яркие пятна цветов. Металлические листья венков позвякивают на ветру. Часов с одиннадцати начинают подъезжать похоронные автобусы. Гробы выносят и ставят на подставки у свежих ям. Минут десять родственники и провожающие в последний раз смотрят на усопших. Затем стук молотка, всхлипы, рыдания, глухой стук гроба о дно могилы, бодрая дробь первых комьев земли, падающих на крышку. Могильщики утрамбовывают ногами землю, насыпают продолговатый холмик, наскоро втыкают в него крест и отряхивают землю с рук. Провожающие садятся в тот же погребальный автобус и мчатся на поминки. Вся процедура похорон занимает полчаса.
30.8
Когда Петрарка впервые увидел Лауру, ему было двадцать три года. Ей в ту пору было двадцать. Они встретились утром 6 апреля 1327 года. Ровно через 21 год, 6 апреля 1348 года, Лаура умерла.
По странному совпадению, Рафаэль родился и умер тоже 6 апреля. Петрарка, как и Рафаэль (еще одно совпадение), умер в день своего рождения.
Цепь таинственных совпадений.
1.9
Мой путь к античности.
Он был долог. В молодости классику не терпел. Казалась она холодной, мертвой, казенной. Примелькавшиеся античные мраморы вызывали только раздражение. Предметом обожания была современная живопись, от импрессионистов и дальше. Потом появился Египет. В него я влюбился по уши. И только теперь, уже в зрелые годы, я постиг величие и человечность эллинского искусства.
Быть может, это мудрость возраста?
Фанатизм Средневековья и фанатизм нашего века одинаково противостоят античному миросозерцанию. И они одинаково мне ненавистны.
3.9
Мало было на Руси ясных умов, способных мыслить объективно, способных встать над предрассудками, над голосом сердца, над инерцией разума. Лев Толстой говорил, что «там, на Западе, люди – рабы своих же законов, меньше свободны, чем в России». Впрочем, Толстой вряд ли был по-настоящему умным, скорее он был умствующим и очень совестливым. Умствования его от совести и происходили. Совестно ему было себя и всего человечества, и все думал он, как успокоить свою совесть. Потому и босиком ходил.
6.9
Холодное пасмурное утро. Обжигающая свежесть воды и острый аромат туалетного мыла. Как-то необычно воспринимается он среди естественных лесных запахов.
Судьба Гипатии. С нее сдирали кожу устричными раковинами.
Нетерпимость раннего христианства дорого обошлась человечеству.
Все дальше ухожу от реальности. Творю свой мир по своим законам. Но творю его не только для себя. Двери открыты. Каждый, кто хочет, – войдет.
10.9
В Соснове на торце унылого кирпичного дома висит плакат. На нем изображен факел, пылающий алым пламенем. Под факелом слова: МИР, ТРУД, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО. О свободе забыли. А ведь она стояла перед равенством.
14.9
Поздним вечером вышел на пристань. Большой белый, ярко освещенный теплоход на фоне черного неба и черной воды. Сбоку – разноцветные, веселые огни порта. Тишина.
Конец света Роман
Эпизод первый Что вы ищете?
Грузовик стоял, слегка накренясь. Дверцы кабины были распахнуты. Крыша кабины была продавлена. Лобовое стекло было выбито. Куски почерневших резиновых прокладок свешивались вниз и покачивались на ветру. Фары тоже были разбиты. Смятая крышка капота была откинута в сторону. Виднелись остатки мотора – какие-то колёсики, втулки, рычажки, медные трубки, болты и гайки. Бампер был погнут. Шины на колёсах отсутствовали. Доски кузова сохранились лишь отчасти, да и те были поломаны. Один из бортов был оторван и валялся тут же. Рядом лежала сплющенная алюминиевая канистра. Сквозь её ручку пророс лютик. На его тонком стебельке покачивался единственный ярко-жёлтый цветок. На цветке сидел большой, лохматый шмель. Он медленно перебирал лапками. Вид у него был серьёзный и сосредоточенный.
Д. заглянул в кабину грузовика. Пол её был залит коричневой краской. Коричневым был заляпан и распоротый дерматин сиденья, сквозь который торчали ржавые спирали пружин. «Автомобильная катастрофа, – подумал Д. – Коричневая краска – это засохшая кровь. Шофера-то небось насмерть. Если бы был пассажир, то и его, наверное, тоже». Д. легонько толкнул дверцу кабины. Она закрылась со скрежетом, но тут же стала медленно и со скрежетом открываться. Д. опять толкнул, на сей раз посильнее. Дверца со стуком захлопнулась. Почему-то почувствовав удовлетворение, Д. огляделся вокруг.
Свалка была грандиозна. Горы всяческой дряни вздымались к небесам. Это были какие-то обломки, обрывки, осколки, обрезки и остатки. Это было нечто испорченное, изломанное, измятое, искромсанное, изуродованное, обезображенное или попросту лишнее, никому не нужное, ни к чему не пригодное, созданное по ошибке или по недоразумению и не достойное существования. Это было кладбище предметов, созданных людьми и машинами. Это было и кладбище самих этих машин – там и сям виднелись их скелеты, их раздавленные, искорёженные черепа, тут и там были разбросаны их ржавые металлические кости. Это были экскременты цивилизации, испражнения порабощённого техникой угрюмого и опасного века.
Д. двинулся к заливу. То и дело он останавливался, разглядывая отбросы, десятилетиями свозившиеся сюда со всего города и постепенно засыпавшие прибрежное болото. Зрелище было тошнотворное, но притом и впечатляющее, притом и живописное, притом и единственное в своём роде. Ни о чём не напоминая, оно намекало, однако, на нечто существенное, вызывало какие-то туманные ассоциации и провоцировало на философические размышления неопределённого свойства.
Возвышались груды битой фаянсовой посуды: расколотых тарелок, блюдец и чашек, раздавленных чайников, соусников и салатниц. На черепках были изображены розочки, анютины глазки, васильки, ландыши и ягоды земляники. Цветы выглядели почти живыми. Ягоды тоже были вполне натуральные, свежие, аппетитные.
Тут же в полном беспорядке были навалены друг на друга старые железные кровати. Они были рыжими от ржавчины. Сетки их были порваны. Ножки были погнуты. Однако на спинках кое-где ещё поблёскивали остатки никеля.
Из кроватей высовывался обломок какой-то гипсовой статуи с многозначительно воздетой к небу рукой, покрытой многочисленными трещинами и лишённой пальцев.
Поблизости располагалась эффектная композиция из причудливо изогнутых водопроводных труб с выпирающими в разные стороны концами. На некоторых трубах сохранились краны с круглыми ручками.
Чуть дальше виднелась ещё одна не лишённая оригинальности композиция из остатков радиоприёмников устаревшей конструкции, с переплетениями разноцветных проводов и с цилиндрами конденсаторов на алюминиевых панелях.
Ещё чуть подальше было выставлено ещё одно впечатляющее творение поп-арта, скомпонованное из голых пластмассовых пупсов с оторванными или недостающими головами.
С ним соседствовала довольно ровная остроконечная пирамида, сложенная из осколков разбитых вдребезги зеркал. В осколках отражалась синева июньского неба.
За нею красовался ворох какого-то грязного, рваного тряпья, шевелящегося под ветром и казавшегося живым.
Около него было рассыпано множество маленьких зелёных пластмассовых дисков неизвестного назначения, будто бы только что изготовленных, но, к несчастью, оказавшихся ненужными.
На них тут и там валялись отслужившие свой век и выброшенные за ненадобностью газовые плиты.
Ещё здесь были нагромождения толстых изуродованных железобетонных балок с торчащими наружу прутьями арматуры, и залежи спрессованной алюминиевой фольги, не нашедшей никакого применения, и пласты слипшейся полиэтиленовой плёнки (видимо, это был брак производства), и тюки вполне приличной с виду стеклянной строительной ваты (зачем её сюда привезли, было непонятно), и пустые железные бочки с рваными отверстиями в боках, и остатки толстых бетонных труб, и огромные деревянные катушки для электрического кабеля, и старые, стёршиеся автомобильные покрышки, и битые граммофонные пластинки, и флаконы из-под каких-то духов, и сношенные ботинки (очень много растоптанных, грубых рабочих ботинок), и куски оцинкованной блестящей жести, и битый кирпич, и обрывки резиновых шлангов, и ещё что-то непонятное, и ещё что-то, и ещё…
Над свалкой низко пролетел реактивный лайнер с высоким хвостом и отброшенными назад узкими крыльями. На концах крыльев то зажигались, то гасли красные сигнальные огни.
«Идёт на посадку, – подумал Д. – Близко аэропорт».
Горы хлама расступились, и показалось море. Д. вышел на берег и осторожно, стараясь не поскользнуться, подошёл к самой воде.
Свалка не кончалась на берегу – под водой был виден тот же хлам, погрузившийся на дно залива. Там, на дне, тоже валялись какие-то ржавые куски железа, какие-то кривые трубы, битая посуда и поломанные пластмассовые ящики. В глубине что-то тускло блестело – вероятно, ещё не успевшие заржаветь консервные банки. Среди отбросов неторопливо плавали колюшки. У берега качались на волнах пустые бутылки и помятый детский мячик; один бок у него был жёлтый, другой – синий. Ржавый трос уходил наклонно в воду. На нём висели засохшие водоросли. В отдалении виднелась надувная резиновая лодка с рыбаком. Рыбак не шевелился. «Уснул, наверное», – подумал Д.
Над побережьем пролетел ещё один лайнер, точно такой же. И так же мигали на его крыльях сигнальные огни. «Кажется, это тот же самый, – подумал Д. – Всё ещё не сел. Делает второй заход».
Порывшись в карманах и удостоверившись, что у него есть коробок спичек, Д. принялся стаскивать в кучу потемневшие доски и обрывки бумаги. Костёр долго не разгорался. Шёл густой вонючий дым, а огня всё не было. Наконец мелькнуло что-то оранжевое. Бумага вспыхнула. Доски охватило бледное на солнце, прозрачное пламя. Д. подтащил к огню деревянный ящик и уселся на нём, сложив руки на коленях. Д. сидел на свалке у берега моря и глядел на свой костёр. Столп пламени был уже высок. Ветер норовил пригнуть его к земле, но это ему не удавалось. Рыбак в лодке взмахнул удочкой. «Поймал, что ли, кого-то?» – подумал Д. В третий раз и уже совсем низко пролетел лайнер. На его брюхе были хорошо видны плотно закрытые люки. Даже заклёпки на алюминиевой обшивке были заметны.
«Не дают посадку, – подумал Д. – или что-то случилось. Быть может, у него не выпускаются шасси? В таком случае ему придётся сесть на воду. Экая неприятность».
Ветер вдруг изменил направление. Дым костра бросился Д. в лицо, и он закашлялся. Невдалеке появилась человеческая фигура. Это был старик. Он шёл, сгорбившись. В руке у него была сучковатая палка. Он то и дело останавливался и ковырял палкой слежавшийся мусор. Он приблизился. Одежда его была необычной. Какой-то балахон неопределённого цвета с бахромой по низу. Какой-то грязный платок на голове. Платок был завязан на затылке, и его острые концы торчали наподобие кошачьих ушей. Из-под платка высовывались пряди седых, серых волос. Глаза у старика были тоже серые, бесцветные, водянистые. Они не выражали ровным счётом ничего. Они слезились. Веки были красные. Ресниц вовсе не было. Лицо было сплошь покрыто мелкими морщинами. Местами сетка морщин сгущалась, местами становилась пореже. Губы тоже отсутствовали – они провалились в старческий беззубый рот. На шее висела дряблая, сморщенная кожа. У носа торчал безобразный, бугристый, багровый нарост. «Это не старик, а старуха, – догадался Д. – Старая ведьма. Хозяйка свалки. Тоже обломок прошедшего. Тоже отброс цивилизации. Только её здесь и не хватало».
– Ждравштвуйте! – сказала старуха и улыбнулась. Рот её приоткрылся. Во рту торчали два гнилых зуба.
– Что вы здесь ищете? – спросил Д.
– Жолото ищу. Его тут много. Хочу ражбогатеть на штарошти лет. Жолота тут штрашть как много. И никто его не шобирает. Ижбаловалшя народ, жажралшя, обленилшя. Даже жолото шобирать не желает. А его тут, под мушором, видимо-невидимо. Ковырнешь палочкой – оно и блештит, оно и шверкает.
Старуха положила свою клюку на землю и протянула жёлтые сморщенные руки к огню.
– Кровь уж не греет. Жябну даже летом. Штарошть не радошть, молодой человек. Хорошо, что вы коштёр ражожгли. Хороший у ваш коштёр, вышокий, горячий. Только не ушпею я ражбогатеть. Шкоро конец.
– Чего конец? Чему конец? – спросил Д.
– Шкоро конец швета. Вшему конец. Вшем конец. Шветопрештавление ближитшя, молодой человек. Гибель мира грядёт. Вшё рухнет. Вшё ражвалитшя и рашшыпетшя.
Старуха повела рукой в сторону свалки.
– Вон школько дерьма накопилошь. Девать его некуда. Ешли мир не вжорвётшя, вше равно наш дерьмом жавалит жа грехи наши тяжкие. В дерьме и ишчежнем мы беш шледа.
– Глупости! – сказал Д. – Не так уж его и много, этого хлама. Земля большая, места хватит.
– Глупошти! – повторила ведьма. – Жемля маленькая. Мешта мало. И оштанетшя на жемле одно дерьмо. Горы дерьма, и больше ничего. И вежде будет, как ждёшь – пакоштно.
Над свалкой пролетел тот же самый лайнер. «Да, что-то случилось, – подумал Д. – Или это всё разные самолёты? Вид у них только одинаковый. Просто здесь проходит посадочная трасса. Они и летят один за другим точнёхонько над свалкой. Свалка у них ориентир. А в старухе что-то есть. Какая-то жуть. Любопытная старушенция. И вроде бы не безумна – в своём уме. Если и сумасшедшая, то чуть-чуть, совсем немножко. И как-то уж очень уверенно говорит она о конце света. Будто ей это доподлинно известно. Только дело-то, конечно, не в отбросах. Не они нас погубят. Но то, что останутся от нас горы мусора, – это точно. Давно уж поговаривают о светопреставлении, давненько уже ходят эти мрачные слухи. Все уже к ним привыкли, и никто не боится. Все думают: чепуха, как-нибудь пронесёт, как-нибудь обойдётся, как-нибудь рассосётся, как-нибудь всё образуется. И живут себе дальше. Но неужто и правда скоро конец? Старуха с виду – вылитая сивилла».
Д. спросил:
– А зачем вам золото, если скоро всё кончится?
Старуха опять улыбнулась и опять обнажились два её отвратительных зуба.
– И верно! Жолото мне ни к чему. Это я по штарой привычке. Вшю жижнь ищу жолото жачем-то. Глупошть, конечно. А вы что тут делаете, что шобираете?
– Что попадётся, – ответил Д. – Я люблю свалки. С детства люблю. На свалках так много интересного. Всякие винтики, гаечки, шарики, проволочки. Всякие симпатичные штучки, всякие забавные вещички. Их приятно повертеть в руках. И в карман их положить тоже приятно. А когда придёшь домой, приятно разложить их на столе и долго-долго размышлять, куда бы можно было их употребить, к чему бы можно было их приспособить. А потом сложишь их в какую-нибудь коробку, в какой-нибудь ящичек, в какую-нибудь жестяную баночку и спрячешь в стол – авось пригодятся когда-нибудь, для чего-нибудь, авось ещё нужны будут для какой-то цели.
– А жачем вы ражожгли коштёр? Вам тоже холодно? Вы ещё такой молоденький, вам должно быть тепло.
– Для удовольствия, – ответил Д. – Я люблю не только свалки, но и костры. Я люблю глядеть на огонь и наблюдать, как он пожирает дерево. Я могу часами любоваться языками пламени, ей-богу. Это самый лучший в мире балет. А где теперь в городе разожжёшь костёр? Только здесь, на свалке, и можно.
Появился ещё один самолёт. На сей раз другой конструкции и поменьше. Он летел совсем медленно и так низко, что в стеклянной носовой кабине был виден лётчик с наушниками на голове. Лётчик смотрел вниз, на свалку, на одинокий костёр у берега, на две человеческие фигуры у костра. Грохот моторов был оглушителен. Ведьма закрыла уши руками. Когда самолёт пролетел, она сказала:
– Ничего. Этот тоже на швалку угодит. Недолго ему летать. Отлеталшя.
– Но разве и впрямь уже скоро? – полюбопытствовал Д.
– Недельки череш три, – ответила сивилла, глядя белёсыми глазами на голубовато-зелёный залив. Или череш четыре.
– Через четыре! – поразился Д. – И никто об этом не знает? Просто чудовищно!
– Да, чудовищно, – согласилась старуха. – Но ешли кому шкажать, то не поверят. А ешли поверят, то будет ещё хуже. Предштавляете, что будет творитьшя, ешли поверят! Вшё погибнет раньше времени. Пушть лучше не верят. Я шначала вшем говорила, и никто не верил. И хорошо, что не верили. Пушть поживут шпокойно до шамого конца. Вы тоже не верьте. Разве можно этому поверить? Ерунда, конечно. Не верьте. Забудьте о шветопрештавлении. Забудьте! Живите в швое удовольштвие. Три недели не так уж мало. Живите и радуйтешь! И не пугайте никого попушту. Пушть вше живут и радуютшя. Пушть не ведают, что их ждёт.
– А вы-то откуда об этом знаете? – спросил Д., чувствуя, что ему становится страшновато.
– Мне вшё ижвештно, потому что я пророчица, – спокойно ответила старуха и, подняв с земли свою палку, медленно пошла прочь.
Костёр погас, но головни ещё тлели. Рыбак всё ещё рыбачил. Самолёты больше не появлялись. Маленькие волны бежали к берегу по светлой, безжизненной, плоской поверхности залива. Слева, на южном берегу, дымили трубы каких-то фабрик. Справа синела полоса невысокого лесистого северного берега. На горизонте, растворяясь в лёгкой дымке, маячил силуэт воздвигнутого на острове собора.
Старуха скрылась за кучами мусора. Из лежавшей поблизости полусгнившей деревянной бочки вылезла большая, толстая, рыжеватая крыса. Повертев головой и понюхав воздух, она стала осторожно пробираться к воде. Длинный голый хвост волочился за ней по земле, по щепкам, по битым стёклам, по какой-то мелкой белой крупе, по каким-то узким цветным лоскуткам. Одна из тряпочек зацепилась за хвост и волочилась вместе с ним дальше; крыса этого, видимо, не замечала. Оглянувшись, она поглядела на Д., пошевелила усами и спокойно пошла дальше. Д. стоял неподвижно и думал о конце света. Логичность старухиных рассуждений поразила его. Действительно: если сказать, не поверят, а если поверят, начнётся такое!..
Ещё немножко постояв и подумав, Д. двинулся вдоль берега и вскоре оказался на кладбище старых лодок и катеров. Оно выглядело куда романтичнее, чем обычная свалка.
Здесь у самого берега, ничем не прикрытые, никому более не нужные и брошенные на произвол судьбы, гнили, ржавели, коробились, разваливались и рассыпались в труху бывшие шлюпки, вельботы, швертботы, ялики, баркасы, моторные катера, парусные яхты и какие-то другие небольшие суда неизвестного Д. названия и назначения. Их беспомощность была вопиющей. Их вид был трагичен. Некоторые ещё держались на подпорках, сохраняя своё достоинство и как бы надеясь, что о них вот-вот вспомнят, починят их, покрасят их яркой краской и торжественно спустят на воду, после чего они снова будут ходить по заливу, и все станут любоваться ими, как любовались когда-то давно, в дни их далёкой молодости, а может быть, даже и больше будут любоваться, даже и больше будут восхищаться – как знать. Другие же лежали на боку, бесстыдно показывая своё дырявое, ветхое днище, с видом равнодушным и жалким, как и подобает покойникам. Третьи же были опрокинуты кверху дном. Их киль был обращён к небу, а руль как-то непристойно висел в воздухе. Некоторые судёнышки ещё не вполне потеряли свой первоначальный облик – большая часть их обшивки, надстройка и даже мачты были в сохранности, даже стёкла круглых иллюминаторов были, как ни удивительно, целы. Иные же представляли собою зрелище ужасающее, заставляя вспомнить о том, что всё в мире смертно, временно, преходяще, непрочно, всё подвержено тлению и распаду. Их почерневшие полусгнившие остовы были обнажены, и рёбра шпангоутов торчали зловеще и беспощадно. Казалось, что это было кладбище каких-то допотопных животных, давно покинувших планету, ставшую неудобной для их жизни.
На носу переломившегося пополам большого катера, некогда, видимо, элегантного, изящного, роскошного, быстроходного катера, ещё можно было прочесть название: «Стремительный». Д. представил себе, как гордо и надменно, упиваясь своим совершенством, нёсся этот белый красавец по синим волнам, оставляя за собой широкий, бурлящий пенный след, как вода окатывала его гладкую, покрытую лаком палубу, как трепетал флажок на его мачте, как ветер лохматил и теребил волосы некой прелестной, весёлой пассажирки, которая сидела рядом с капитаном, наслаждаясь свежим морским воздухом, великолепием моря и редкой для тех времён скоростью этого лёгкого, почти невесомого судна, за что и прозван он был Стремительным. Где теперь тот молодой, знающий своё дело, уверенный в себе, счастливый капитан? Куда подевалась его кудрявая белокурая мягкая бородка и его шикарная фуражка с коротким чёрным козырьком и огромной золотой кокардой? И что стало с очаровательной юной пассажиркой? «Жива ли она?» – подумал Д. со вздохом, позабыв уже о том обстоятельстве, что пассажирку эту он сам придумал и, быть может, никогда никаких пассажирок на этом катере не катали по той причине, что катер не был пассажирским, что был он приписан к военно-морскому ведомству и ездили на нём только важные судовые адмиралы с ленточками орденов и значками военных академий на кителях. Д. вспомнил, как мечтал он в отрочестве стать моряком, с каким усердием делал модели кораблей, с каким наслаждением произносил названия мачт и парусов – фок-мачта, бизань-мачта, бушприт, стаксель, кливер, с каким благоговением он разглядывал шхуны, подолгу стоявшие у набережной, а после уплывавшие в неведомые края и бороздившие воды далёких безбрежных океанов. Д. вспомнил также, что моряком он так и не стал по разным причинам, и, вздохнув ещё раз, покинул этот печальный корабельный погост. «Странная всё же была старуха», – подумал Д., выходя на ближайшую улицу.
Комментарий
Любовь к свалкам, разумеется, противоестественна. Но мало ли противоестественного, непонятного, необъяснимого, а подчас и попросту абсурдного встречается на нашем пути? Очевидно также и то, что сивиллы теперь большая редкость, и Д. изрядно повезло, а может быть, наоборот, весьма не повезло с этой беззубой прорицательницей. Ещё неизвестно, что повлечёт за собою эта встреча, ещё не ясно, к чему это всё и что из этого выйдет. Что же касается крысы, то это тоже довольно странно. Чем такое животное может питаться на свалке? А она была достаточно упитанна и ничем не озабочена. Можно, конечно, предположить, что крыса живёт не на свалке, а где-то неподалёку, где водится съестное, что она приходит на свалку погулять и подышать чистым морским воздухом. Допустим, что так оно и есть на самом деле. А в том, что Д. мечтал когда-то стать мореплавателем, нет ничего удивительного. Многие в молодости упиваются романтикой и рвутся в места отдалённые и опасные. Многие, правда, как ни грустно, в зрелые годы уже не проявляют к романтике никакого пристрастия, уже не склонны противоборствовать слепым природным стихиям и тихо сидят по домам, предаваясь занятиям скромным и непритязательным. Но, вероятно, в этом проявляется некая закономерность, свойственная человеческому естеству. Но, вероятно, так оно и должно быть.
Эпизод второй Нюся не совсем здорова
Улица выглядела как обычно. Ничего особенного в ней не было. Улица была как улица. На асфальте тут и там поблёскивали чугунные крышки люков. На крышках красовались названия чугунолитейных заводов. Поребрик был гранитный, ровненький. На тротуарах кое-где были заметны трещины. Но их количество и их толщина не вызывали никаких опасений – такие трещины всегда можно увидеть на тротуарах. В одном месте асфальт был сбит, и виднелась рыжеватая глина. Вероятно, здесь чинили подземный трубопровод, но асфальт починить ещё не успели. Бетонные урны для мусора были расставлены аккуратно, на одинаковом расстоянии друг от друга. Правда, одна урна была опрокинута и около неё лежала кучка вывалившегося мусора – окурки, комки грязной бумаги, корки апельсина. Но и такое часто можно увидеть на улицах, и ничего сверхъестественного, тревожного в этом, разумеется, нет.
На улице стояли высокие фонари с белыми стеклянными, наклонёнными головами, над улицей висела чёрная сеть проводов и тросов, прикреплённая к стенам домов. У перекрёстка торчали два светофора, мигавшие то красным, то жёлтым, то зелёным. У тротуара на некотором расстоянии друг от друга располагались легковые машины; был среди них и один мотоцикл. У подъезда одного из домов была оставлена детская коляска вишнёвого цвета. Верх коляски был поднят. На сетке, что была натянута внизу, у колёс, лежал какой-то пакет в серой бумаге. К ручке коляски был привязан за поводок смешной, большеголовый, коротконогий, лохматый, чёрный скотч-терьер. Он сидел спокойно и смотрел на прохожих. Короткий хвостик его подёргивался. Пёс был в хорошем настроении.
По улице проезжали автобусы, троллейбусы, такси, грузовики с прицепами и самосвалы. Проехал даже автокран. Стрела его была опущена. На кончике стрелы болталась красная тряпица. По тротуарам проходили пешеходы, мужчины и женщины, взрослые и дети. Взрослые были молодые и старые. Дети были совсем маленькие, просто маленькие, покрупнее и довольно большие. Совсем маленьких взрослые везли в колясках, просто маленьких – вели за руку. Те, что были покрупнее, и те, что были довольно большими, шли сами. Вообще детей было много, и это тоже выглядело естественно. Вдоль улицы и поперёк неё пролетали голуби и воробьи. Они садились на карнизы домов и на подоконники. Некоторые из них забирались повыше, на телеантенны, или скрывались в зелени деревьев, кое-где выглядывавших из-за домов. Улицу, опасливо озираясь, перебежала кошка. Она шмыгнула в ближайшую подворотню.
Словом, улица была как улица. Концом света на улице не пахло. Д. подошёл к автобусной остановке. Здесь стояло несколько человек. Пожилая женщина с большой чёрной и, кажется, пустой сумкой. Пожилой военный с жёлтым, туго набитым портфелем, какой-то южный человек в широченной и плоской, как блин, кепке и с толстыми чёрными усами и юная парочка, видимо, студенты. Она – довольно миленькая, стройненькая, глазастенькая, в розовой кофточке с короткими рукавчиками и в потёртых, но дорогих импортных джинсах. Он – немножко нескладный, длинный, худой, рукастый и ногастый, с очками на носу и тоже в потёртых, но дорогих заграничных джинсах с фирменными этикетками, многочисленными застёжками и большими карманами на коленках. Молодые люди негромко разговаривали.
– Алфёровых тоже надо пригласить. Они собирались ехать в Прибалтику, но передумали. И Евгения Савельича. Он сейчас немного нездоров, но к тому времени, наверное, выздоровеет. Конечно, Елизаровых. Мы же были у них на свадьбе. И вообще – приятные люди. Николая Николаевича с Прасковьей Петровной. И Сергея Никитича с Маргаритой Эдуардовной, и Лёшку Антипова. Он небось с Веркой Савельевой придёт, и хорошо. Они уже вроде бы помирились. Ещё Петуховых, всё их семейство – дядю Кузьму, тётю Надю, Аркадия, Константина, Ниночку, Сонечку, Мишку, Володьку.
– Да, да, Петуховых обязательно. И всех наших институтских – Воробьёва, Кузякину, Удальцову, Феоктистова Женьку, Шамшина Генку, Званцова, Борщаговского, Милку Барабанову…
– Штернам надо позвонить. Им, конечно, трудновато будет выбраться, но они собирались. Может, и приедут. Завтра же надо позвонить.
– А Бондырев? Или его не стоит? Напьётся, посуду начнёт бить. Но обидится страшно, если его забудем. Придётся и его. А он, конечно, Гусакова с собой прихватит, а может быть, и Аверьянова. Ну и пусть приходят, пусть посуду побьют. На счастье.
– Я поговорю с Ленкой. Она всё ещё злится на нас. Но сколько же можно злиться? В конце концов, она тоже была неправа.
– Потому и злится, что была неправа.
– Да, конечно. Но надо, чтобы она пришла. Нехорошо будет как-то, если она не придёт. Все это заметят. И вообще.
«Нет, – подумал Д. – Конец света ещё не скоро. Женятся. Замуж выходят. Свадьбы справляют. Никто ничего не боится. Никто не ждёт ничего ужасного. Всё идёт своим чередом. Нет».
Пожилой военный раскрыл свой портфель, вытащил из него газету, развернул её и стал читать. Д. увидел крупный заголовок: «Они хотят погубить человечество».
«Чёрт побери!» – ругнулся Д. про себя и тотчас вспомнил белёсые глаза старой ведьмы.
Подошёл автобус. Он был полупустой. Д. уселся на заднем сиденье. Автобус тронулся, но тут же остановился. Передняя дверь открылась. В неё, кряхтя и отдуваясь, влезла толстая тётка с какими-то узлами и свёртками. Снова поехали.
«Да, в старухе что-то было», – думал Д., глядя в окно. Автобус трясло, хотя ехал он не так уж и быстро. Водитель объявлял остановки. Двери открывались и закрывались. Пассажиры входили и выходили. Кто-то замешкался, не успел выйти и стал стучать кулаком в дверь.
– Не стучите! – сказал шофёр в микрофон. – Проспали, а теперь стучите! Вовремя надо выходить! Следить надо за остановками! Заранее надо к выходу готовиться!
Дверь открылась. Опоздавший выскочил. Автобус снова тронулся. «Да, да, чудная была старушенция! – продолжал размышлять Д. – И неспроста она мне встретилась, неспроста!»
В автобус вошла молодая женщина с плачущим ребёнком. Дитя плакало очень громко, взахлёб, с подвывом, плакало так, как плачут очень несчастные, брошенные, никому не нужные существа.
– Не реви! – говорила женщина. – Ты слышишь, что тебе говорят? Прекрати реветь немедленно! Ишь разревелся! Ну что ты орёшь, как зарезанный! Ну что ты воешь, как пылесос! Горе мне с тобой! Не ори, говорю! Не ори!
Ребёнок плакал всё пуще, наполняя автобус своим громогласным рёвом.
– Да не кричите вы на него! – сказал женщине кто-то из пассажиров. – Лучше помолчите. И он тоже замолчит.
– Не учите меня воспитывать моего собственного ребёнка! – возмутилась женщина, но после умолкла, и ребёнок стал плакать потише. Потом он уже только хныкал и вскоре совсем успокоился.
«Страшная была карга, – думал Д. – И впрямь ведьма. Такими детей пугают, чтобы не плакали».
В автобус вошли трое людей средних лет, двое мужчин и одна женщина. Они не произносили ни слова, но усиленно жестикулировали. Лица их подёргивались, глаза блестели. Жесты были мелкими, быстрыми. В жестах было что-то необычное и неприятное. Иногда люди улыбались. Улыбки были похожи на гримасы, на какое-то кривлянье. Будто они кого-то передразнивали, кого-то хотели разозлить. Женщина села. Мужчины встали рядом. Женщина внимательно следила за движениями их рук. Её руки тоже непрерывно двигались.
Зрелище было странное. Оно напоминало кинематограф начала века. «Глухонемые!» – догадался Д. Ему вдруг стало совестно, что он всё слышит и умеет говорить. Он отвернулся, но вскоре не вытерпел и опять взглянул на глухонемых. Его разбирало любопытство, глупое, животное, непреодолимое и непристойное любопытство. С таким же чувством отдалённые предки Д. следили когда-то за процедурой публичной казни. Д. опять отвернулся, успев заметить, что глухонемая женщина собирается выходить.
В автобус влез изрядно захмелевший человек. Ноги у него подгибались. Голова его моталась из стороны в сторону. Пиджак был расстёгнут. Рубашка вылезла из брюк и висела некрасиво. Он хватался за поручни, стараясь сохранить вертикальное положение, и наваливался на сидящих пассажиров.
– Осторожнее, гражданин! – сказал ему кто-то.
– Да стойте же вы на ногах! – сказал ещё кто-то.
– Напились, так сидите дома! – произнёс ещё кто-то.
– Не хулиганьте! – крикнула какая-то пассажирка.
– Эк тебя развезло! – добродушно заметил какой-то пассажир.
– Дурачьё! – промолвил вдруг пьяный. – Чего вы тут расселись? Куда вы едете? Зачем? Вы думаете, что вы куда-нибудь приедете? Недоноски! Куда идёт этот автобус? Я вас спрашиваю – куда идёт этот автобус? Молчите! Едете, и не знаете куда! Живёте, и не ведаете зачем! Плывёте, и понятия не имеете, куда вас несёт течением! Трезвенники! Потребители общественного транспорта! Добропорядочные питекантропы! Образованные неандертальцы! Вы думаете, что если вы движетесь, ваше движение непременно имеет смысл!..
– Замолчите! – сказали пьяному.
– Прекратите! – крикнули ему.
– Высадить его надо! – сказал кто-то. – Пусть едет на такси!
– Таких не берут в такси, – произнёс кто-то.
– Так пусть топает пешком! – не унимался кто-то.
– Пешком ему не дойти, пешком он не может. Вы же видите, в каком он свинском состоянии, – продолжал кто-то.
– Так что же, мы должны его терпеть?
– Да, придётся его потерпеть.
– Ну это вы бросьте! Этого ещё не хватало! С какой это стати нам его терпеть?
Водитель, видимо, слышавший монолог пьяного, сказал в микрофон:
– Граждане! Не слушайте хулигана! Сохраняйте спокойствие! Автобус едет точно по своему маршруту!
– Я сам выйду, – сказал пьяный угрюмо. – Я сам не желаю ехать с вами в этом дерьмовом автобусе, в этой телеге, в этой колымаге, в этом катафалке! Я сам не хочу больше ехать по этому паршивому маршруту! Я сам вас навеки покину!
Сказав это, пьяный, шатаясь, стал пробираться к выходу.
– Не пускайте его! – крикнула какая-то сердобольная женщина. – Он же не доберётся до дому! Он же заблудится! Он же под машину попадёт!
– Не мешайте ему, пусть выходит, – сказал Д., – он хочет на свободу. Не попадёт он под машину. – А сам подумал: «Этот тоже что-то предчувствует, чего-то боится, чем-то озабочен, не иначе».
Дверь открылась. Пьяный выпал из автобуса на асфальт.
– Подождите, подождите! – закричали все шофёру. – Вы его задавите! Он под колёса угодит!
– Ну его к дьяволу! – крикнул шофёр в микрофон. – Я сейчас милицию позову! Он у меня в вытрезвителе переночует! Я ему, подонку, устрою сервис!
Пьяный медленно встал на четвереньки, потом поднялся во весь рост, погрозил кулаком автобусу и неверной походкой, колеблясь и спотыкаясь, побрёл прочь.
В автобус, кряхтя, влез маленький плешивый старичок с большой, дряхлой, ожиревшей от старости немецкой овчаркой. Собака стала тыкаться носом в ноги пассажирам. Кто-то сказал недовольно:
– Собак надо возить в намордниках!
– Она не кусается, – кротко сказал старичок. – Она за всю свою жизнь никого ещё ни разу не укусила.
– Мало ли что не укусила! – не умолкал недовольный. – А сейчас возьмёт и укусит! Кто знает, что у неё на уме! Развели собак! Проходу от них нет! И что в них хорошего? Жрут и гадят – только и всего!
– Нюся, иди сюда! – позвал старичок собаку, усаживаясь рядом с кабиной шофёра. Собака подошла и положила морду ему на колени. Морда была умная, добрая и печальная. «Старые собаки всегда печальны», – подумал Д., сочувствуя старику и его овчарке.
– Успокойся, Нюсечка, не нервничай! – тихо говорил старик, поглаживая собаке голову. – Успокойся, нам недалеко ехать, совсем недалеко. Через две остановочки мы выйдем.
– Вот именно! – сказал тот же недовольный. – Две остановки можно было и пешком пройти! Ишь взяли моду! Собак в автобусах возят!
– Нюся не совсем здорова, ей трудно ходить, – так же тихо произнёс старичок.
– Отстаньте вы от собаки! – не выдержал Д. – Она вас не трогает! Я бы на её месте вас искусал!
– А я с вами, гражданин, не разговариваю! – зашипел недовольный. – И очень хорошо, что вы не на её месте! Не то бы вы мигом очутились там, где положено!
Д. не ответил. Собака посмотрела на него с благодарностью. Старичок – тоже.
В автобус ввалилась компания весёлых, но, кажется, трезвых молодых людей с магнитофоном. Из аппарата неслась какая-то зверская музыка, ещё более оглушительная, чем рёв умолкнувшего младенца.
Музыка сопровождалась неумолчным и вроде бы беспричинным хохотом жизнерадостных и, видимо, вполне счастливых, юношей.
«Это уже слишком!» – сказал себе Д. и вышел на ближайшей остановке. До дому оставалось недалеко, и остаток пути он прошёл пешком.
«Нет, неспроста повстречалась мне эта беззубая ведьма на свалке!» – думал Д., подходя к своему парадному. Из парадного выносили большой платяной шкаф. Рядом с парадным стоял громоздкий автофургон с надписью на борту: «Перевозка мебели». Дверцы шкафа были открыты настежь. В шкафу болтались вешалки. На дне его валялись какие-то тряпки.
«Хоть бы дверцы закрыли, – подумал Д., – неудобно же нести! Кретины!»
Дверцы вдруг захлопнулись сами, и шкаф стали затаскивать в автофургон. Он плохо затаскивался, и тащившие переругивались.
– Правее, мать вашу! – кричал один.
– Повыше! – говорил другой.
– Надо его развернуть! – советовал третий.
– Не надо его разворачивать, и так влезет! – возражал четвёртый.
– На хрена делают такие жуткие шкафы! – высказывался пятый. – Он же как дом! Вырежи окошки, живи себе и радуйся.
Шкаф наконец-то скрылся в фургоне.
«А что если и правда? – думал Д., поднимаясь по лестнице. – А что если и в самом деле? А что если старухино пророчество сбудется? А что если действительно скоро конец? Шкафы какие-то тащат. Переезжают куда-то. Бегут куда-то, бегут! Отчего бегут? Зачем? С какой, собственно, целью? Всё одно к одному, – продолжал думать Д., входя в свою крохотную однокомнатную квартирку, затворяя за собою дверь, снимая плащ и вешая его на вешалку. – Всё вызывает подозрения. Всё наводит на мрачные мысли. Всё как-то тревожно».
Комментарий
В автобусе кого только не увидишь, на что только не насмотришься! Интересно ездить в автобусе. И всё же пользование автобусом, как, впрочем, и другими видами городского общественного транспорта, слегка утомляет, а иногда и довольно сильно раздражает. Бывают случаи, когда из автобуса вылезаешь разъярённым и даёшь себе честное слово никогда, ни при каком случае в него более не влезать. Но, естественно, о данном себе слове быстренько забываешь, и снова едешь, и снова стоишь у окошка, поглядывая на знакомые физиономии проплывающих мимо домов, или стоишь, держась за металлическую штангу под потолком и стремясь сохранить равновесие на крутых поворотах. Хуже всего, если с автобусом вдруг случается какая-нибудь неприятность, если он останавливается в необычном месте и водитель объявляет, что всем придётся выйти, что сзади движется точно такой же автобус, на который и следует садиться. Что же касается пьяных, то их почему-то все любят и стараются их ничем не беспокоить, и проявляют по отношению к ним нежную заботу. А вот собак любят не все, хотя они куда симпатичнее пьяных и вполне заслуживают всеобщей любви.
Эпизод третий У них были имена
– Нет, нет, не может быть! – воскликнул Д., войдя в комнату и остановившись посреди неё как бы в растерянности. – Чепуха! Какой там конец света! Какое там светопреставление! Сумасшедшая, одичавшая старуха! Что-то нашамкала! «Недельки через три»! Бред! Пророчица с помойки! «Но ешли шкажать, не поверят»! И правильно сделают, что не поверят! И молодцы, что не поверят! Кто же может в такое поверить? Нельзя же, нельзя же в такое поверить! Бред! Ахинея! Сущая ахинея!
Д. подошёл к аквариуму с рыбками, стоявшему у самого окна, и стал разглядывать то, что видел уже множество раз.
Аквариум был большой. На дне его был насыпан крупный желтый песок и лежали разноцветные камешки. Из песка росли тонкие розовато-зелёные водоросли. Они были длинные. Их концы плавали на поверхности воды. На стенках аквариума висели улитки. Они сонно шевелили усиками и медленно, еле заметно перемещались. Из стеклянной трубочки струились мелкие прозрачные пузырьки и взлетали вверх, и лопались там, наверху, и исчезали бесследно. Красавицы-вуалехвостки, не торопясь, проплывали туда и сюда. Их роскошные, прозрачные, нежные, длинные, гибкие хвосты извивались, струились и трепетали. Их маленькие рты непрерывно открывались и закрывались. Их выпуклые тёмные глаза, казалось, ничего не видели. Две рыбки были бледно-золотистого оттенка, а две другие – голубоватые.
Д. постучал пальцем по стеклу. Рыбки тут же подплыли. Они смотрели на Д. сквозь воду и сквозь стекло. Они радовались, что Д. наконец-то вернулся домой после долгого отсутствия. Они любили Д. И Д. любил их. И мог любоваться ими часами. Рыбки были похожи на прекрасных женщин в прекрасных платьях, на прекрасных длинноволосых русалок, на прекрасные цветы и ещё на что-то нежное и прекрасное. Рыбки были молчаливы, и это тоже очень нравилось Д. У них были имена, и Д. был уверен, что они на них отзываются. Одну из золотистых, ту, что была покрупнее, звали Амалией. Другую золотистую звали Сильфидой. Голубую с тёмным пятнышком на верхнем плавнике Д. назвал Поликсеной, а голубую без пятнышка именовал Харитой. Д. гордился своими рыбками, их изяществом, их благородством, их воспитанностью. Когда приходили гости, он подолгу и вдохновенно рассказывал о них, а гости наперебой восхищались и изумлялись. Д. был уверен, что у него были самые лучше, самые породистые, самые сообразительные и, несомненно, самые очаровательные вуалехвостки во всём городе, а может быть, и во всей стране, а может быть, даже и во всём мире. Рыбки украшали его жизнь, дарили ему минуты чистого и высокого эстетического наслаждения, утешали его в трудные дни и доставляли приятные, необременительные заботы. Некоторые трудности возникали только тогда, когда Д. ненадолго, по делам или на время летнего отдыха, покидал город. Тогда приходилось оставлять соседям ключи от квартиры, чтобы те могли кормить этих красоток и следить за состоянием их хрупкого здоровья. Лишь однажды вполне беспечальное бытие рыбок было омрачено драматическим событием. В отсутствие Д. в его квартиру проник соседский кот, животное, тоже не лишённое изящества, но, естественно, хищное и кровожадное. Завидя вуалехвосток, он тут же принялся их ловить, погружая в аквариум то одну, то другую лапу с выпущенными когтями. Пострадала, да и то чуть-чуть, только Сильфида. Кота вовремя схватили и удалили из жилища Д., прочитав ему при этом длинное, но, как видно, вполне бесполезное нравоучение.
Сообразив, что Д. не намерен их кормить, красавицы отплыли вглубь аквариума, пошевеливая своими восхитительными хвостами. «Нет, – подумал Д., – светопреставление – это абсурд. Надо выкинуть это из головы. Надо позабыть об этом».
Он подошёл к своему письменному столу. Здесь, за столом, он занимался своим любимым делом. Следы этих занятий были разложены на столе. Он стал рассматривать их и перебирать их руками. Он сложил их в стопочку, потом раскинул их веером и после снова разложил по всему столу.
Дело, которому предавался Д. в свободное от работы время, было невероятно трудным, чрезвычайно важным и бесконечно увлекательным. Это было дело его жизни, его услада, его мука, его надежда и его спасение. Это был его крест, его подвиг, его великая миссия. Это был тенистый, благоуханный оазис в безбрежной пустыне его смешного, никому не нужного и мало кем замечаемого одиночества. Здесь цвели причудливые цветы его воображения. Здесь были владения его гордого, надменного разума. Здесь было прибежище его застенчивой души. Плоды его деяний обещали быть прекрасными. Они могли бы многих порадовать. Они могли бы возвысить Д. над миром и обессмертить его.
Работа, которой Д. был вынужден жертвовать лучшие часы своих дней, была нудной, отвратительно однообразной и почти бессмысленной. Д. долго маялся. Он чувствовал, он знал, он верил, что способен на большее, на гораздо большее. И он отыскал для себя подходящее дело. Сначала оно потрясло его своим величием. Потом испугало своей сложностью. Начались сомнения: а стоит ли браться? А стоит ли время тратить? А стоит ли штаны просиживать? А стоит ли предстоящая игра дорогих, быстро сгорающих свеч? Сомнения длились. Сомнения казались непреодолимыми. Сомнения толпились вокруг Д. непрестанно. Но в один прекрасный день Д. стукнул кулаком по столу и сказал: «Начинаю!» И начал. И дело пошло, дело стало спориться, дело стало получаться, стало обретать зримые формы, осязаемую реальную плоть и определённые размеры. Дело было уже живым, тёплым. Оно дышало. У него появился свой особенный, терпкий запах, свой характер, свои повадки. Д. влюбился в своё дело без памяти и уже не мог без него обходиться. Он постоянно размышлял о своём деле. Он думал о нём на работе, на улице, в городском транспорте, в гостях, в музеях, на выставках, в театре и в кино. Ему хотелось сделать своё дело как можно лучше. Ему хотелось предельного совершенства. Он говорил себе:
«Дело надо делать как следует. В дело надо погружаться с головой. Делу следует отдаваться целиком. Ради дела надо всё бросить и всё позабыть. Делать – так делать. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Делу время – потехе час. Сделал дело – гуляй смело. Достойные дела украшают мужей».
И он делал своё дело достойно. И он погружался, отдавался, всё бросал и всё забывал. И теперь уже было непонятно – дело при нём или он при деле. Дело было явно выше его самого. Он смотрел на своё дело снизу вверх, он перед ним благоговел, он перед ним преклонялся. И вспоминая о тех временах, когда он томился без дела, когда не было у него настоящего, стоящего дела, он спрашивал себя: как же я мог существовать без дела? Как же я мог бездельничать так долго? Как же я мог годами валять дурака, бить баклуши и считать ворон? И было ему это удивительно.
Признаться, обретённое им важное дело доставляло ему не только радости, но и печали. Из-за него, из-за этого самого дела, Д. лишился жены. Жена его, женщина привлекательная, неглупая, но, пожалуй, слишком практичная, сразу же стала относиться к делу настороженно. Оно казалось ей странным и вовсе необязательным. Оно казалось ей бесперспективным. Оно казалось ей блажью и даже глупостью. Вокруг все занимались другими делами, вполне серьёзными, несомненно, нужными и, без сомнения, благодарными. Дело Д. представлялось ей совершенно неблагодарным. «Вот, – говорила она, – Шушканцев поступает в аспирантуру. Года через три будет защищаться. Перед ним откроются перспективы, дали и горизонты. А Чурилин уже защитился. Перед Чурилиным всё это уже открылось, Чурилин на коне, Чурилин скачет в гору. Скоро он будет на вершине. Все ему уже завидуют, а после начнут прямо-таки помирать от зависти. А Голованов нашёл своё счастье в административной деятельности. Он уже поглядывает на всех с усмешкой, он уже знает себе цену. К нему же за неделю на приём записываются. А Кузовлев? Ты погляди, погляди на Витьку Кузовлева! Он же твой ровесник! А к нему уже вообще не подступиться! Я недавно на улице ему кивнула, а он прошёл, будто и не заметил. Прошёл несколько шагов и уселся в машину с шофёром. А ты, бедненький, отыскал себе дельце по вкусу. Тюфяк! Ты же способный мужик! Да если бы ты захотел!.. Но почему-то не хочешь.
Я согласна, что у каждого содержательного мужчины должно быть хобби. Это понятно и даже полезно – отвлекает от всяких глупостей. Но ты же всё забросил! Всё позабыл! От всего отрёкся! Ты спишь на работе, а по ночам торчишь за своим столом, трудишься! Ну развлекайся своим делом, забавляйся им на досуге! Но надо ведь заниматься и чем-то путным! Надо иметь какую-то цель! Жизнь такая малюсенькая, такая коротенькая и такая непостоянная – сегодня она тебе улыбается во весь рот, а завтра повернётся к тебе задом по-хамски. А ты живёшь безо всякой цели, как пташка божия, как щегол, как снегирь, как дрозд, как дятел. Хотя мог бы многого достичь. Тебе это ничего не стоит. Ведь все эти Шушканцевы, Чурилины, Головановы и Кузовлевы в подмётки тебе не годятся! Ведь это же всё бездари, недоумки, мелочь, серость, мусор!»
Так говорила Д. его умница жена, пытаясь оградить его от опасного своей очевидной бесполезностью и совершенно непонятного ей дела, надеясь спасти его, пока ещё не поздно. Но было уже поздно. Дело захватило несчастного Д. целиком. Он беспомощно барахтался в объятиях дела. Убедившись в этом и осознав, что её борьба уже бесполезна, что она уже окончательно проиграна, жена подала два заявления – одно на развод, а другое на размен квартиры. В заявлении на развод жена написала: «По причине прискорбного расхождения взглядов на жизнь». В итоге Д. остался без жены, но со своим злосчастным делом в однокомнатной квартирке. Чтобы не очень тосковать в минуты отдыха, Д. купил аквариум и поселил в нём длиннохвостых водяных красавиц. Друзья говорили ему: «Ты псих. Променял умную жену на глупых рыбёшек. Ты идиот. Ну сказал бы ей, что будешь наслаждаться своим делом понемножку, не каждый день, изредка. Ну наврал бы ей что-нибудь, успокоил бы её как-нибудь, обнадёжил бы её чем-нибудь! Ты же не дурак! Свихнулся ты на своём деле!» И друзья, конечно, были правы. Правда, кое-кто из друзей подумал: «Есть у него какой-то расчёт, какой-то тайный замысел, какая-то идея. Он ведь и впрямь не дурак. Темнит он что-то, недоговаривает, хитрит. Не зря он небось взялся за такое гигантское, замысловатое дело». Но вслух произнесено это, разумеется, не было. И эти мудрые друзья решили подождать – что из этого получится и чем это закончится. Д. усердно делал своё дело, а друзья терпеливо ждали. А время шло, время, естественно, не желало останавливаться. Бывшая супруга Д. второй раз вышла замуж, кстати, за неприступного Кузовлева. Она ездила в машине с шофёром. Она родила Кузовлеву отличного, необычно удачного сына. Сын уже подрос, ему недавно исполнилось два года. Он ездил в той же машине с шофёром. Кузовлев обрёл ещё большую неприступность. При упоминании его громкого имени все вспоминали о крепости Измаил, хотя о Суворове почему-то не вспоминали. А бедолага Д. всё корпел над своим дурацким делом, изумляя всех своим сверхъестественным упрямством. Кто-то пустил слух, что Д. тронулся, что в голове его завелись тараканы. Но многие отказывались в это поверить. Кое-кто пытался вступаться за Д. Кое-кто говорил, что жена Д. оказалась пустенькой бабёнкой, что Д. она никогда не любила, и это даже хорошо, что она оставила Д. Он может теперь без помех делать своё любимое, хотя никому не понятное пока ещё дело. Но таких было мало. А время всё двигалось. И однажды бывшая жена приехала к Д. на уже трижды упоминавшейся казённой, внушительных размеров машине вместе с двухлетним очаровательным мальчуганом. И она ввела мальчугана за руку в комнату несчастного, одинокого Д. И она сказала сыну: «Этого дяденьку зовут Д.». И мальчуган подал растерявшемуся Д. свою пухленькую, с перевязочками, ручонку. А после он бросился к аквариуму и стал жадно разглядывать рыбок. И Д. говорил ему: «Погляди – вот эту зовут Амалией, а эту – Сильфидой, а эта, голубенькая, с пятнышком на плавнике – Поликсена. Правда, красивая?» И мальчик захныкал: «Хочу эти-их рыбок!» И Д. сказал: «Я куплю тебе точно таких же!» А бывшая его жена произнесла: «Я сама куплю ему рыбок. Но ты, Д., сущий болван. Ведь этот ребёнок мог бы быть твоим!» А Д. помолчал и возразил: «Нет, этот ребёнок не мог бы быть моим. Моим мог бы быть другой ребёнок». И сбежавшая от него супруга тогда промолвила: «Не цепляйся к словам. Ты прекрасно знаешь, что я хотела сказать! Вот всегда ты так!»
Когда визит был окончен, Д. долго сидел у аквариума. Рыбки, подплыв к нему поближе, сочувственно таращили свои и без того выпуклые глаза и участливо помахивали своими неописуемыми хвостами. «Да, – думал Д. с грустью, – конечно, рыбки не могут заменить красивую умную жену и чудесного ребёнка».
Вообще-то грандиозное дело Д. близилось к завершению. Понимая это, Д. уже предвкушал радость окончания и свой триумф. Триумф, на котором, естественно, никто не будет присутствовать и о котором, вероятно, не узнает никто, кроме рыбок да, может быть, уже упоминавшегося соседского кота, который нет-нет да и заглядывал к Д. в его присутствии. При этом Д. всегда брал его на руки и, крепко держа, подносил к аквариуму. И кот поедал глазами всех четырёх красоток одну за другой, и нос у него становился ярко-розовым, а усы его нервно подёргивались, а глаза горели адским зелёным огнём. Совершенно очевидно, однако, что Д. делал это не для того, чтобы помучить кота, а для того, чтобы кот подружился с рыбками.
Д. сидел за столом, подперев голову руками. В последние дни дело его почти не двигалось, почти стояло. Работа затормозилась. Д. уже вышел на последнюю, финишную прямую, но скорость вдруг резко упала, дыхание ухудшилось и ноги отяжелели. Нечто подобное испытывал он когда-то в юности, бегая в составе школьной команды на средние дистанции. В горле вдруг начинало свистеть, пот заливал глаза, под ложечкой давило, воля к победе улетучивалась, и на всё уже было наплевать. Однажды он не выдержал и перешёл на шаг. Друзья по команде схватили его под руки и потащили к финишной ленте – надо было добежать любой ценой. Но сейчас друзей поблизости не было. Он бежал один, и тащить его к финишу было некому. Сегодня было воскресенье. Сегодня он мог бы недурно потрудиться. Но с утра как-то не работалось, и он поехал на свалку, где давно уже не бывал, надеясь, что она вдохновит его и даст силы для последнего рывка. И как назло – эта старуха и этот конец света, будь он проклят. Д. сидел за столом и по привычке ощупывал сквозь кожу свой череп. Он всегда делал это с удовольствием, пытаясь представить, как будет выглядеть его голый череп после смерти. Иногда у него возникало страстное желание подержать в руках свой гладкий белый череп, поглядеть в его пустые, тёмные глазницы, потрогать зубы и челюсть… В этом было нечто декадентское, противоестественное, нездоровое. Д. понимал это, но желание не исчезало. И Д. продолжал ощупывать свой, пока ещё покрытый кожей и волосами, пока ещё не обнажённый и не страшный череп. Мысли о светопреставлении не покидали его.
«Любопытно всё же, как это произойдёт, – думал Д., ощущая под пальцами выступы своих лицевых костей. – Всё, стало быть, погибнет. Человечество погибнет. И я, разумеется, погибну. И рыбки мои тоже погибнут. И город, вероятно, тоже погибнет, разрушится, исчезнет. И все прочие города постигнет та же участь. А как же дело-то моё? – подумал вдруг Д. с ужасом и оставил в покое свой череп. – Стало быть, оно бесполезно? Стало быть, плоды его никого не порадуют? Стало быть, напрасно я усердствовал, напрасно ночами не спал, напрасно потел, напрасно горбился над ним годами? Но значит, и все прочие деяния человеческие были ни к чему? Всё, значит, впустую? Всё зря? Всё коту под хвост? А ведь дело-то моё ещё даже не окончено! Близится конец света, а я что-то замешкался, завозился, а я с делом своим не могу справиться! Затянул! Не рассчитал время! Надо было догадаться, что скоро катастрофа! Всё же к тому шло! Всё на то намекало! Всё о том нашёптывало! Всё туда катилось! А я ушами хлопал! А я губы распускал! А я глазами моргал, недотёпа! Ну нет! – сказал себе Д., поднявшись из-за стола. – Ну это мы ещё поглядим! Ну это ещё дудки! Подумаешь, конец света! Плевать я на него хотел! Пусть всё гибнет! Пусть всё идёт в тартарары! Пусть всё разлетается в пыль! Пусть всё превращается в прах! Дело своё я закончу! С дистанции я не сойду! Финиша я достигну! Сам достигну, без чужой помощи! Не придётся меня тащить к финишу. Я закончу своё дело перед самым концом света. И я посвящу его этому жуткому катаклизму! Конец света и окончание моего дела совпадут во времени! Они сольются в едином трагическом аккорде! Это будет прекрасно! Лучшего и желать нельзя! Конец придёт всему сразу – миру, мне и моему великому безвестному труду! Пусть пропадает всё вместе! Пусть всё сгорает в едином гигантском пламени! Прах моего творения разлетится по вселенной! Его невидимые частицы миллиарды лет будут кружиться в безднах пространства, и оседать на неведомые планеты, и застревать в хвостах неизвестных комет. Это и есть то самое, о чём я мечтал! Я растворюсь в бесконечности, в безбрежной и безгласной пустоте! Я стану всем! Я буду всюду. Это ли не восторг? Это ли не блаженство? Это ли не бессмертие? Это ли не победа?!»
Жаркая, густая кровь стучала у Д. в ушах. Дрожь пробегала по его телу. Голова его кружилась. «Пусть!» – крикнул он вдруг так громко, что рыбки, спокойно плававшие у поверхности воды, высовывая наружу свои раскрытые рты, испуганно нырнули на дно аквариума, пытаясь укрыться в зарослях водорослей.
Д. снова уселся за стол. Возбуждение мешало ему работать. Дрожь не проходила. В ушах ещё раздавался стук.
«Что со мной? – подумал Д., успокаиваясь. – Истерика какая-то. Припадок какой-то. Рыбок напугал. Им это вредно. У них хвосты от этого станут короче. И аппетит пропадёт. Но как же Зиночка?» – подумал он вдруг. И ему захотелось немедленно, тут же увидеть Зиночку, будто он боялся, что она, не утерпев, не попрощавшись с ним и опережая трагические мировые события, опрометчиво и легкомысленно растворится в бесконечности.
Он тут же надел свой плащ, помахал рукою рыбкам, вышел из квартиры, запер за собою дверь и поспешно, перескакивая через две ступеньки, сбежал вниз, а после так же поспешно вышел на улицу, дошёл до остановки и вскочил в подошедший автобус, не переставая удивляться: как же он мог, размышляя о гибели мира, о надвигающемся ужасе, совсем позабыть о Зизи? Экий он, право, себялюбец! Экий эгоцентрист! Так же нельзя, право! Так же нельзя! Нехорошо это! Право, нехорошо! Собрался слиться со вселенной, а Зиночка что же? Сливаться, так уж вместе с Зиночкой. Тем более что это будет куда приятнее.
Пытаясь представить себе сладость такого упоительного слияния, Д. трясся в автобусе. Кажется, это был тот же самый автобус, который ещё совсем недавно вёз его домой после посещения свалки. Да, это был именно тот автобус – Д. узнал голос водителя, объявлявшего остановки. Вскоре Д. вышел у станции метро и продолжил свой путь уже под землёй.
Комментарий
Д. – человек увлекающийся. Он немножко чудак, немножко сумасшедший. Дело себе какое-то придумал. И даже с красивой женой из-за дела этого придуманного расстался. Другие ни о каких делах и не помышляют. Другие о безделье своём пекутся, бездельем своим наслаждаются, в безделье своём купаются, бездельем своим счастливы, а он, видите ли, без дела сидеть не может! Да, он, конечно, смешной тип, несуразный. И рыбки эти к тому же. Рыбками увлекаются ребятишки. А он, взрослый, тридцатилетний мужик, над рыбками слюни распускает. Правда, он вообще любит животных. За собаку вот вступился. Молодчина. В конце концов, в рыбках нет ничего предосудительного. Пусть он с ними возится. Но ведь верно – рыбки не заменят хорошую, любящую жену, что и говорить. Кроме того, за ними надо следить, надо регулярно кормить их подходящей пищей, надо чистить аквариум. А тут ещё какая-то Зиночка появилась.
Эпизод четвертый Он немножко обиделся
В кафе было мало народу. Зиночка, как всегда, стояла за стойкой и работала. Д. сидел поблизости от стойки, пил кофе и в который уж раз любовался Зиночкой.
Зиночка не была красива, но она была чертовски привлекательна, дьявольски женственна и сатанински соблазнительна. Она щурила свои карие глаза и сквозь длинные, изрядно подкрашенные ресницы поглядывала на Д. ласково, но притом как бы чуть-чуть насмешливо, и немножко загадочно, и слегка лукаво. Её нежные щёчки покрывал прозрачный, лёгкий румянец. Её пухлые алые губки напоминали какой-то едва распустившийся свежий цветок. Когда она улыбалась, цветок раскрывался ещё больше и были видны белые, мелкие, ровные зубы, а на щечках возникали прелестные глубокие ямочки. Благодаря небольшому, капельку, совсем капельку вздёрнутому носику и маленькому подбородку трогательных очертаний в её профиле было что-то кокетливое и по-женски легкомысленное. У левой ноздри темнела некрупная, но и не слишком маленькая кругленькая родинка, похожая на изюмину. Как бы завершая композицию Зиночкиного лица, она придавала ему несказанное очарование. Когда-то юные красавицы специально подклеивали себе на щёчку такую изюминку. Для пикантности. А у Зиночки была своя, живая, настоящая изюминка, волновавшая всех мужчин. Рыжие, натурально-рыжие (Д. это уже знал), яркие волосы Зизи были коротко подстрижены. Плотная чёлка спускалась до самых бровей. Когда Зиночка наклоняла голову, чёлка отставала ото лба и нависала над лицом, и это неожиданно, мгновенно и очень мило преображало Зиночку. Когда же Зиночка встряхивала головой, в чёлке вспыхивали золотистые искры, и это тоже было чудесно. Причёску дополняла белая крахмальная наколка. В ушах поблёскивали небольшие золотые серёжки. Грудь и бёдра Зизи обтягивал хорошо сшитый, аккуратный и очень чистый белый халатик. Да, Зизи не была красива, но от неё было глаз не оторвать. И трудно было даже представить, как бы выглядела Зиночка, будь она по-настоящему, всерьёз красива. Невозможно было бы это представить. Просто невозможно.
Д. глядел на Зизи и время от времени вздыхал от удовольствия. Зизи работала и время от времени посматривала на Д., тоже не без удовольствия. Зизи было приятно, что он снова сидит в кафе и любуется ею. Зизи нравилась, что он всё чаще и чаще приходит в кафе. Зизи варила ему кофе получше, покрепче, и он это ценил. А он глядел на неё часами, и она это тоже ценила.
Зизи работала хорошо. Она приветливо смотрела в глаза подошедшему посетителю и кратко спрашивала: «Вам?» А потом её руки начинали быстро и ловко двигаться, открывая краники и задвижки, подставляя под них чашки, ставя чашки на блюдца, кладя рядом с чашками ложечки и фасованный сахар в обёртке и подавая всё это уже очарованному ею, уже покорённому ею, уже восхищённому клиенту. Потом клиент платил. Зизи давала сдачу. Клиент отходил и усаживался за свободный столик. К стойке подходила новая клиентка. И всё начиналось сначала – открывались краники, шипел пар, вырывавшийся из кофейной машины, чашка стукалась о блюдце, затем звякала ложечка, затем бренчала мелочь, и вполне довольный обслуживанием посетитель направлялся к свободному столику. Некоторые любители чёрного натурального кофе, чаще всего мужского пола, заговаривали с Зизи, шутили, отпускали какие-то явно излишние, необязательные, а нередко и довольно глупые замечания. А Зиночка улыбалась, раскрывая свои алые губки, и что-то отвечала, и потряхивала своей медной чёлкой, и милые ямочки появлялись на её розовых щеках. Всё это было восхитительно. И Зизи понимала это. И потому с лукавством поглядывала на Д., зная, что он уже околдован ею, что он уже пленник и, если ей захочется, она может сделать его своим верным рабом. А очарованный Д. не спускал с неё глаз, и голова у него сладко кружилась, и сердце его сильно стучало то ли от выпитого кофе, то ли от Зиночкиной неотразимой соблазнительности.
«Вы слишком много пьёте кофе. Сердце испортите», – сказала ему Зизи на прошлой неделе. И Д. подумал тогда: «А ведь правда! Раньше не случались у меня сердцебиения!»
На прошлой неделе Д. решился предпринять кое-какие шаги. Он нарочно пришёл в кафе попозже, перед самым закрытием. Посетителей уже почти не было, и когда Зиночка, как всегда, улыбаясь, подала ему чашку отлично сваренного, крепкого, пахучего, горячего кофе, он спросил её, не торопится ли она сегодня домой. Она поглядела на него как-то особенно, каким-то долгим и немножко удивлённым взглядом, а после опустила ресницы, поправила на голове наколку и ответила негромко, но отчётливо: «Не тороплюсь».
Д. подождал, когда кафе закрылось. Зизи вскоре вышла. Она была уже не в белом халатике, а в очень милом зелёненьком плащике и с зелёной элегантной сумочкой на плече. А вместо наколки её рыжие волосы прикрывал маленький и тоже весьма элегантный зелёный беретик. И Д. показалось, что её рот стал ещё более ярким, а ресницы сделались ещё более чёрными и длинными. И он осторожно взял Зизи под руку. И они пошли по улице. И Д. вдруг почувствовал, что он смущён и не знает, что говорить. А Зиночка тоже молчала и, кажется, тоже была смущена. И, помолчав, Д. спросил, не желает ли она сходить в кино – в кинотеатре «Весна» идёт новый и, как говорят, вполне приличный детектив, на что Зиночка ответила, что предпочла бы прогуляться на свежем воздухе, так как она целый день находилась в душном помещении. И они пошли по улице дальше, дыша свежим, прохладным, вечерним воздухом. И Д. спросил, не утомляет ли Зиночку работа – наверное, трудно весь день стоять за стойкой и непрестанно возиться с этими чашками, и без конца открывать эти краники, и получать деньги, и давать сдачу, и улыбаться посетителям, даже если этого и не хочется. И тут Зиночка оживилась и стала говорить, что да, да, конечно же, у неё утомительная и даже вредная работа, что ей приходится всё время стоять и ноги за день ужасно устают, что надоедает целыми днями делать одно и то же, что аппарат к тому же часто портится, а надо обязательно «делать план», что посуда то и дело бьётся и за неё высчитывают из зарплаты, а зарплата грошовая и премии совсем маленькие, что она уже пыталась подыскать себе другую работу, но из этого ничего не получилось, что иногда ей хочется плюнуть и уйти в уборщицы и она это сделает, наверное, в конце концов.
Пока Зиночка говорила, они подошли к станции метро. Тут Зиночка сказала, что, пожалуй, ей уже пора домой, что завтра рабочий день и придётся рано вставать и что провожать её не следует – она поедет на метро одна. Они попрощались, и Д. смотрел, как Зизи поднималась по гранитным ступеням, как она открывала тяжёлую стеклянную дверь и как в последний раз мелькнул её зелёный беретик уже за дверью. Ему хотелось кинуться вслед за Зиночкой, догнать её и всё же проводить до дому. Но он вспомнил, как твёрдо она произнесла «не следует», и сдержался.
И теперь он снова был рядом с Зиночкой, и аромат кофе снова щекотал ему ноздри, и Зиночкин нежный голосок ласкал ему слух, и сердце его снова гулко колотилось, и он бросал в кофе прямоугольные белоснежные кусочки сахара, и следил, как они тонули, и размешивал сахар ложечкой, время от времени пробуя – сладко ли? Как и в прошлый раз, он досидел в кафе до закрытия. Как и в прошлый раз, Зизи сказала: «Не тороплюсь».
Но теперь Д. не предложил Зиночке пойти в кино – ему самому не хотелось в кино, не хотелось сидеть два часа в тёмном зале и смотреть какую-то чушь. Они немножко прошлись по той же улице. На углу какая-то бабка продавала букетики фиалок. Д. купил три букетика и попросил бабку связать их вместе. Бабка охотно связала. Получился уже не букетик, а букет. Д. преподнёс его Зиночке. Зиночка сказала «спасибо» и с нежностью поглядела на Д. сквозь свои густые ресницы. Потом она понюхала фиалки, утопив в них свой вздёрнутый носик, и опять поглядела на Д. выразительно. Тут Д. осмелел и предложил Зиночке нанести ему визит. Зизи помолчала секунд десять или пятнадцать. После она ещё разок понюхала фиалки и сказала: «Только ненадолго».
Они вошли в квартирку Д. В прихожей зелёный плащик был снят. Беретик – тоже. Сумочка была положена на тумбочку под зеркалом. Д. распахнул дверь комнаты и повернул выключатель. И конечно, Зизи тут же бросилась к аквариуму, восклицая: «Ах, какая прелесть! Ах, какие рыбки! Ах, какие красотки! Ах, какие хвосты!» И конечно, Д. представил Зиночке своих рыбок: «Это Сильфида, это Амалия, это Харита, это Поликсена».
Дальше всё было так, как обычно и бывает в подобных случаях.
Появилась бутылка шампанского, которую Д., разумеется, давно уже припас, и какие-то фрукты, какое-то печенье.
Зиночка сказала: «Ну что вы! Я не пью совсем!» Но бокал шампанского всё же выпила и, как показалось Д., с большим удовольствием. И второй бокал она тоже выпила без отвращения. И с аппетитом съела апельсин. Заметив, что на письменном столе что-то разложено, Зизи полюбопытствовала, что это такое. Д., захмелевший и от шампанского и от Зиночки, вдруг разоткровенничался и стал вдохновенно, с пафосом рассказывать о своём заветном деле. Зиночка сначала слушала внимательно и уважительно, приоткрыв ротик и помахивая ресницами. Но вскоре ротик закрылся, ресницы застыли в неподвижности, взор Зиночкин затуманился, а ещё через некоторое время Зиночка совершенно непростительно, хотя и прелестно, зевнула, приблизив к ротику свои белые, тонкие, красивые пальчики с перламутровыми остренькими ноготками.
Д. осёкся, растерялся, умолк, насупился, но скоро взял себя в руки и спросил Зизи, не хочет ли она кофе.
– Да ну его! – сказала Зиночка с простодушной откровенностью. – Он мне уже опротивел, этот кофе! Давайте лучше чай пить.
Д. отправился на кухню заваривать чай. Когда он вернулся, Зиночка стояла у аквариума и любовалась рыбками. Д., ощущая в себе некоторую неуверенность, подошёл к Зиночке сзади и положил ей руки на плечи. Зиночка не протестовала. Тогда Д. поцеловал Зиночкины рыжие волосы на самой макушке. Зиночка отнеслась к этому спокойно. Тогда Д. повернул Зиночку, поглядел ей в карие глаза и несколько робко поцеловал её в красные губы. Зиночка не сопротивлялась. И даже обняла его за шею. И даже прижалась к нему грудью, правда, несильно. Но тут же она поспешно отстранилась и вспомнила про чай. За чаем они беседовали о каких-то пустяках. Д. старался рассмешить Зизи, и это ему удавалось. Зиночкин смех тоже был соблазнителен и нежен. При этом чёлка её легонько подпрыгивала на лбу, а на щеках появлялось сразу по две ямочки, что приводило Д. в полнейшее восхищение. И вдруг Д. спросил Зизи, не боится ли она конца света. Зизи перестала смеяться, и глаза её широко раскрылись.
– Какого… конца света? – спросила она, оторопев.
– Обыкновенного! – ответил Д. – Обыкновенного, настоящего конца света. Всемирной катастрофы.
Тут Зиночка снова засмеялась. И смеялась она на сей раз ещё громче, ещё веселее и соблазнительнее.
– Вы шутник! – говорила она, осторожно поднося к глазам платочек. – У меня даже слёзы на глазах появились. А разве он случится когда-нибудь, этот конец света?
– Судя по всему, случится, – сказал Д. – И может быть, даже скоро.
– Не пугайте меня! – улыбнулась Зиночка. – Лучше налейте мне ещё чашку чаю. Да покрепче. Я люблю крепкий чай.
А потом Д. снова стал целовать Зизи. Но не так, как в первый раз, а серьёзнее, с большим чувством. Зиночка и теперь не противилась и даже отвечала Д. на его пылкость. Чувства у Д. становилось всё больше. Не отрываясь от Зиночкиного рта, он жадно гладил её грудь и бёдра. Зизи и это ему позволила. Весьма осмелев, Д. расстегнул пуговички на Зиночкиной кофточке. Плечи Зизи обнажились. Они были гладкие, бледно-розовые. Д. принялся страстно их целовать.
– Не кусайтесь! – сказала Зизи. – Я не люблю, когда кусаются.
Совсем распаляясь, Д. попытался расстегнуть молнию на Зиночкиной юбке. Но тут Зиночка оказала активное сопротивление.
– Не надо! – говорила она, крепко ухватив Д. за руку. – Говорю же вам, не надо! Какой вы настойчивый! Какой вы нетерпеливый! Не надо! Я не хочу! Вы слышите? Я не хочу!
Д. прекратил атаку. Он немножко обиделся. Он отвернулся от Зиночки и пошёл к своему аквариуму. Зизи поправила кофточку, застегнула пуговички, подошла к Д., положила голову ему на плечо и погладила его руку своей ладошкой.
– Не обижайтесь. Куда вы так торопитесь? Нельзя же вот так, сразу…
– Давайте, я вас сфотографирую! – сказал Д. внезапно. – Вас когда-нибудь кто-нибудь фотографировал как следует? У вас есть хорошие ваши фотографии?
– Это идея! – обрадовалась Зизи. – Фотографируйте меня! Нет у меня хороших фотокарточек. А вы умеете фотографировать?
– Я всё умею! – сказал Д. с апломбом, вытаскивая аппарат из ящика письменного стола.
Д. усадил Зиночку на стул рядом с лампой, включил верхний свет и стал ползать вокруг Зиночки на коленках, щёлкая аппаратом и командуя:
– Выше подбородок! Посмотрите вверх! Улыбнитесь! Ещё улыбнитесь! Не улыбайтесь больше! Подоприте щёку рукой. Повернитесь ко мне в профиль! А теперь в фас! А теперь посмотрите на аквариум! А теперь на меня!
– Как интересно! – удивлялась Зиночка. – Меня никогда так не фотографировали! А зачем столько фотографий сразу? Очень же много.
– Их будет меньше, – говорил Д., разглядывая Зиночку и соображая, с какой бы стороны её ещё снять. – Я нарочно делаю много кадров, а после отберу из них самые лучшие.
– И всегда фотографы так делают? – изумлялась Зизи. – А я и не знала!
– Да, всегда так, – отвечал Д. и опять направлял на Зизи объектив аппарата. И он видел в видоискателе неотразимую Зиночкину улыбку, и знаменитые ямочки, и чёлку, и губки, и носик, и изюминку на щёчке. В видоискателе Зизи выглядела ещё привлекательнее. И Д. млел от восхищения.
– Почему вы называете меня Зизи? – спросила Зиночка, приняв очередную позу и глядя на Д., скосив глаза.
– Потому что вы похожи на француженку, – отвечал Д. – Помните, у Мане, его знаменитый «Бар в Фоли-Бержер»? Там за стойкой стоит девица, похожая на вас. У неё такая же чёлка. И цвет волос почти такой же. Только она печальная, а вы всегда улыбаетесь. Только вместо кофе она торгует вином и апельсинами.
Зиночка промолчала. Она не помнила «Бар в Фоли-Бержер».
На прощание Зизи позволила ещё раз обнять себя довольно крепко.
– Я отвезу вас домой на такси! – заявил Д.
– Нет, нет! – как-то испуганно возразила Зизи. – Не провожайте меня! Я сама доеду!
Поймали такси. Зиночка уселась рядом с шофёром. Шофёр поглядел на неё внимательно. Зиночка сказала, куда ехать. Д. поцеловал её тёплую, мягкую ручку. Зиночка улыбнулась ему многообещающе. Дверца машины захлопнулась. Такси отъехало. Д. стоял на тротуаре и глядел вслед машине, глядел на её красные удаляющиеся огни. Потом он вернулся домой, к своим рыбкам. Рыбки, против обыкновения, не обратили на его возвращение никакого внимания. Д. показалось, что они сердиты.
«Это из-за Зиночки, – подумал Д. – Всё же происходило на их глазах. В следующий раз надо быть осторожнее. И вообще надо ширму какую-нибудь завести. Неловко как-то».
Рядом с Зиночкиной чашкой, в которой остался недопитый чай, лежал смятый Зиночкин платочек. «Забыла!» – подумал Д. с нежностью и положил платочек на свой письменный стол.
Комментарий
Зиночка очень мила, очень. Кажется, она не слишком умна и не слишком образованна, но так ли уж необходима мудрость молодой пикантной особе? Есть даже опасение, что мудрость особе этой попросту будет вредна. Она лишит особу изрядной доли её очарования. Ибо мудрость влечёт за собою сдержанность, строгость и некоторую даже сухость. А все эти качества противостоят нежности, кокетливости, изяществу, капризности. Последние же, сливаясь воедино, образуют, как известно, качество чрезвычайной ценности – женственность. И то сказать – оставим мудрость мужчинам. Зато женщины останутся женщинами, и слава богу! Пусть украшают они вселенную своей трогательной наивностью, своей восхитительной беспомощностью и своей кошачьей грацией. Впрочем, Зизи не такая уж глупышка. В квартире у Д. она вела себя вполне разумно. Пожалуй, ей даже чуть-чуть не хватало глупости, совсем чуть-чуть. Огорчительно, конечно, что Д. приходится пить так много крепкого кофе. Но ничего не поделаешь – любовь!
Эпизод пятый Конец так конец
Д. сидел за кульманом. В руке его был карандаш. Своим остриём карандаш упирался в бумагу. Д. не шевелился. Казалось, что он задумался, что он в сомнении, что он не знает, какую провести ему линию – вертикальную или горизонтальную, толстую или тонкую, длинную или короткую. Казалось, что он поглощён своей работой, что в творческом порыве он решает замысловатую проектную задачу. Вид у Д. был очень серьёзный. Чертёжница подошла к нему, чтобы о чём-то спросить, но, не решившись его побеспокоить, тихо отошла в сторонку. Д. сидел не шевелясь уже полчаса или более. Глаза его были открыты. Карандаш в его руке не дрожал. Но линия на бумаге всё не появлялась. Д. спал. Спал сидя, с открытыми глазами. Он давно уже научился так спать и делал это частенько. В особенности после обеденного перерыва. В эти часы его борьба со сном всегда заканчивалась полным поражением. Д. старался глубоко дышать, таращил глаза, ёрзал на стуле, делал резкие движения руками, внезапно вставал и снова садился, но это не помогало. Д. клал руку на раскалённую батарею отопления. Сначала это действовало. Правда, ладонь у Д. долго оставалась красной, и это было нехорошо. Но вскоре рука его привыкла к горячему, и Д. мирно спал, положив руку на батарею. Время от времени, вздрогнув, он просыпался и смущённо оглядывался по сторонам. И замечал удовлетворённо, что рядом с ним тоже спали. Успокоясь, он снова погружался в глубокий сон. Сновидений, однако, не было. Сон на работе почему-то всегда был пустым и не оставлял никаких воспоминаний. Д. это удивляло и настораживало. Было обидно: проспать столько часов – и никаких впечатлений! Однажды Д. даже собрался было сходить к психиатру и проконсультироваться по этому поводу. Но почему-то всё же не сходил и продолжал спать впустую, безо всяких сновидений. Его беспокоило также то, что он спал с открытыми глазами. «Не вредно ли это для здоровья? – думал он. – Во всяком случае, это противоестественно».
Все его коллеги, спавшие поблизости, закрывали глаза. Только он умудрялся засыпать с открытыми глазами. Как это у него получалось, он не понимал. Но, признаться, он даже немножко гордился этой редкой своей способностью, полагая не без оснований, что она даётся природой не каждому. «Вероятно, у меня странный взгляд, когда я сплю, – думал Д. – Поглядеть бы на себя в зеркало в этот момент. Возможно, в этом взгляде есть даже что-то жуткое, – думал Д. – Надо кого-нибудь спросить, какой у меня взгляд, но неловко, конечно, спрашивать». И ещё Д. боялся, что во сне он может захрапеть – это было бы уж совсем неприлично. Но, судя по всему, он спал тихо. Надо сказать, что и все спали тихо. И сны никому не снились. Это был тихий, спокойный коллективный сон без сновидений.
Чертёжница – она почему-то упорно не спала – второй раз подошла к неподвижному Д. и робко тронула его за плечо. Д. вздрогнул, проснулся, потряс головой и спросил, в чём дело. Чертёжница (о, глупая девица!) задала Д. какой-то дурацкий вопрос. Д. ответил. Чертёжница отошла и уселась за свой кульман. «Нет, это чёрт знает что такое! – подумал Д. – Это просто безобразие! Дрыхну, как сурок!» Он попытался думать о чём-то интересном и возбуждающем. Он стал размышлять о своём деле. Но о деле на работе почему-то вовсе не хотелось думать. Видимо, рабочая обстановка этому не способствовала. Тогда Д. стал думать о Зизи. Он с наслаждением стал вспоминать Зиночкин визит, и ямочки на её щёчках, и пуговички на её кофточке, и молнию на её юбке, которую ему не удалось расстегнуть. «Ничего, в следующий раз», – подумал Д. и даже попытался представить себе в общих чертах, что произойдёт в следующий раз, когда молния будет всё же расстёгнута. Сонливость стала проходить. «Ура! – сказал себе Д. – Кажется, я нашёл верное средство от сна!» Довольный собою и благодарный Зиночке, Д. поднялся и вышел в коридор.
В коридоре, как всегда, курили. Несчастье Д. заключалось в том, что он был некурящим. Как-то так получилось, что с детства Д. не пристрастился к курению. Мальчишки-приятели старались его научить, подсовывали ему обслюнявленные, противные чинарики, а иногда и свежие папиросы. Но аппетит к курению у Д. не возникал. Теперь, где-нибудь в гостях, после выпивки, в присутствии женщин, которые ему нравились, Д. закуривал иногда сигарету, но почти всегда оставлял её в пепельнице недокуренной. Курильщик из него не получился. «Вот и хорошо! – говорили ему. – Курить вредно, да и денег на сигареты много уходит! Вот и прекрасно! И не кури!» Но на работе Д. сожалел о том, что он некурящий.
Курившие не спали. Целыми днями, погрузившись в синий табачный дым, они стояли в коридоре, подпирая спинами стены, и сосредоточенно, не спеша затягиваясь, курили сигарету за сигаретой. Дым они выпускали изо рта и из ноздрей. Выпускали артистично, виртуозно, талантливо, попросту изумительно. Кольца дыма, то маленькие, то большие, то круглые, то эллипсовидные, то плоские, то изогнутые, плыли к потолку, догоняя друг друга, сплетаясь друг с другом, расплываясь в воздухе и образуя причудливые загадочные фигуры. Под потолком образовывались плотные, слоистые, дымные облака. Кое-кто из курильщиков умел даже выпускать дым из ушей, что было предметом жгучей зависти для всех остальных. Курили мужчины. Курили и женщины. Курила молодёжь. Курили и старички. Все курили целыми днями напролёт с упоением, со страстью, самозабвенно. Курили и, естественно, не спали. Не было у них времени на сон. Курение сопровождалось длинными, неторопливыми разговорами о том о сём: о погоде, о важнейших новостях, о международном терроризме, о положении в Китае, о рыбной ловле, о выращивании цветов, о модах, о воспитании детей, о землетрясениях, о наводнениях, о летающих тарелках, о снежном человеке, об эстрадной музыке, о жизни в других мирах, о лечении насморка, о философии дзен-буддизма, о современной и будущей архитектуре, о диете для похудения, о хоккее, о шахматах и о прочем.
Увы, Д. не мог принять участия в этих увлекательных беседах. Просто так, не куря, стоять в коридоре было неловко. И Д. не стоял. И Д. сидел за своим кульманом, борясь со сном. Или уходил в библиотеку и в сотый раз просматривал последние номера журналов.
Выйдя в коридор, Д., как всегда, заметил силуэты курильщиков, расплывавшиеся в густом дыму. Из дымного облака до него донеслось кем-то сказанное:
– Всё это болтовня. Никакой катастрофы не будет. Это было бы слишком бессмысленно. История не совершит такую ошибку. Я верю в её разумность. Сейчас, когда открываются такие перспективы! Нет, нет, человечество не исчезнет! Мир не погибнет! Нет!
Д. приблизился к облаку и вошёл в него. Говоривший продолжал:
– С тех пор, как человечество себя помнит, идут разговоры о грядущем конце света. Его боятся, но притом и ждут с каким-то сладострастным ужасом. Всем хотелось бы на него поглядеть, всем хотелось бы при сём присутствовать, всем хотелось бы быть последними на Земле. Действительно, приятно думать, что после тебя уже ни черта не останется – только темень и пустота. Шиш с маслом! Конца мы не дождёмся! После нас ещё будет кое-кто, ещё многое после нас случится! И не напрасными окажутся мучения тех, кому было плохо на этой планете! И не забудутся восторги тех, кому в этом мире было хорошо!
– Вы оптимист! – сказал Д. – Оптимизм всегда воодушевляет. Но он и ослепляет притом. Неужели вы ничего не чувствуете, не замечаете, не подозреваете? Неужели вас ничто не смущает, ничто не тревожит, ничто не пугает? Неужто вы не допускаете мысли о том, что судьба человечества окажется трагичной? Где гарантия того, что оно, это странноватое и далёкое от совершенства человечество, натворив столько глупостей, наделав столько ошибок и не совершив того, что оно могло бы совершить, выйдет сухим из воды и ловко выскользнет из когтей злого и беспощадного рока? Где гарантия того, что материя, пространство и время ещё нуждаются в нас? Где гарантия того, что Бог, если он существует, ещё не устал взирать на нас со своих высот, что мы ему ещё не надоели, ещё не наскучили, ещё не опротивели, что мы ещё не вызываем у него приступов тошноты? И не резонна ли мысль о том, что прошедшая история человечества не что иное, как маленький набросок, небрежный этюд к будущей грандиозной картине, за которую ленивое время ещё не взялось и за которую оно неизвестно когда возьмётся – подрамника нет, холст не готов, краски ещё не куплены, да и кистей подходящих пока не хватает. Когда же это гениальное полотно будет окончено, никто и не вспомнит о неказистом, кое-как, безо всякого усердия написанном этюде, и он будет долго валяться, покрытый плесенью и голубиным помётом, где-нибудь на чердаке у вечности, пока не изгрызут его мыши, пока он не рассыплется в прах.
– Вот именно! – сказал другой курильщик, до сих пор молча дымивший своей сигаретой и поглядывавший на спорщиков исподлобья. – Человечество страдает манией величия, и этот его недуг, видимо, неизлечим. Кто мы такие? Что мы такое? С какой простодушной смелостью мы кривляемся и проказничаем перед спокойным, невозмутимым лицом вселенной! Это же просто ребячество! Мы всего лишь вчера появились на этой маленькой, жалкой планетке под боком у неприметной, заурядной звезды. Появились неведомо почему, неведомо зачем. И однако уверены в том, что завтра же не исчезнем, что время к нам благосклонно, что время нас пощадит, что время нас даже побаивается. Смешная, но притом и чудовищная самоуверенность! Чудовищная!
Тут снова заговорил первый курильщик.
– Но в том, что вы говорите, ничуть не больше логики, чем в том, что говорю я. Теперь уже ясно, что доступная нашему уху и глазу вселенная, вся эта немыслимая толща пространства вокруг нас – безжизненна. Говорят, что мы ошибка, аномалия, курьёз, и только. Что нас и не должно было быть, что мы и не нужны были миру, что он спокойненько обошёлся бы и без нас. А потому и нет в макрокосме нам подобных, а потому и не стоит искать никого среди звёзд. Такие курьёзы неповторимы. Допустим. Но разве не бесценна наша уникальность? Кто занимался филателией, знает, как ценятся марки, выпущенные по ошибке или с дефектом. Некоторые из них стоят миллионы! Неужели мирозданию захочется лишить себя такого раритета? Неужели оно не сохранит нас для коллекции? Неужели у него нет ни капли любви к необычному? Я не верю в это, потому что я отъявленный оптимист.
Тут послышался голос третьего курильщика, который стоял поодаль и был почти не виден в дымовой завесе.
– Глупо предполагать, что мироздание разумно в той же мере, как и мы, глупо проецировать на него наш собственный неполноценный, убогий разум. Глупо предполагать также, что оно вообще разумно. Всё это сплошная глупость. Всё в мире случайно, и сама вселенная – порождение слепого случая. Мы же, двуногие, курящие сигареты, а также и не курящие их, случайны до изумления. Что представляет собою мир, который мы наполняем этим отнюдь не благовонным и вредным для здоровья табачным дымом? Всего лишь тонкий пласт величин, лежащий где-то между бесконечно большим и бесконечно малым. Бесконечность существует, её отсутствие было бы совершеннейшим абсурдом. А коли так, всё неопределённо и расплывчато. В бесконечности может ничего не быть и может быть всё. В бесконечности может существовать бесконечное количество бесконечностей. В бесконечности можно напороться на что угодно. И так ли уж важна проблема конца света? Важно то, что мы сопричастны бесконечности. Важно то, что она есть и что она неподвластна нашему куцему воображению.
– Наивная хитрость! – сказал Д. – С помощью бесконечности вы хотите увильнуть от опасности тотальной катастрофы. Но вам это не удастся. Если катастрофа произойдёт, вы погибнете вместе с миром. А бесконечность останется и будет посмеиваться, вспоминая вас.
– И чудесно, что она останется! – радостно воскликнул третий курильщик. – Мне ничего и не нужно больше! Ей-богу! Я тут был, курил приличные сигареты и размышлял о бесконечности – чего же мне ещё желать? Если же бесконечность и в самом деле хоть разок вспомнит обо мне – это будет просто роскошно!
Д. покинул дымное облако – от дыма у него стало щекотать в носу. Бесконечное курение в коридоре продолжалось. В этом было некое величие. И Д. опять пожалел, что он некурящий. Удаляясь от облака, Д. ещё слышал голос первого курильщика:
– Что ни говорите, а конец света – вещь нешуточная. О ней стоит поговорить. И к нему неплохо бы подготовиться на всякий случай. А ну как вдруг? Если его не будет – нам повезёт. И так у нас неприятностей предостаточно. Если же он будет, нам тоже повезёт. Лестно быть свидетелями такого события. Конец света – штука беспроигрышная. Тем он и хорош.
«Тем он и хорош, – повторил про себя Д., со вздохом усаживаясь за свой кульман. – Тем он и хорош, – ещё раз сказал себе Д., беря в руки свой отлично отточенный острый карандаш. – Да, тем он и хорош», – в третий раз мысленно произнёс Д., уткнув карандаш в бумагу. Он ждал, что опять вот-вот заснёт. Но сон почему-то не приходил. «Вероятно, это действие табачного дыма, – подумал Д. – Стало быть, чтобы не спать, надо или думать о прелестной Зиночке, или идти в коридор и дышать табачным дымом».
Снова подошла чертёжница (до чего же надоедливая девка!) и что-то робко спросила. Д. ответил и отвернулся от неё с досадой. «В общем, никто не боится конца света, – думал Д. с некоторой даже обидой, – никто не воспринимает его всерьёз, никто не придаёт ему серьёзного значения, никто не впадает в панику, никто не трясётся от страха, никто не кричит “караул”, никто не теряет рассудка. Впрочем, я тоже не потерял рассудок. Я ощущаю лёгкое беспокойство, лёгкую озабоченность. Только и всего».
Д. встал, подошёл к чертёжнице, поглядел, что она чертит, сказал, что она умница, что она всё понимает с полуслова, что с ней легко работать, что он доволен ею, и после спросил, не тревожат ли её мысли о конце света.
– Не тревожат, – ответила чертёжница, нисколько не озадаченная столь странным вопросом. – А что об этом думать, – добавила она, – думай, не думай – чему быть, того не миновать. Конец так конец. Лучше уж думать о чём-нибудь приятном. О скором отпуске, например. Жалко, конечно, если я не успею использовать отпуск до конца света. Но ничего, обойдусь.
– Как то есть обойдётесь? – удивился Д.
– Да так, – отвечала девица, – останусь без отпуска. Только и всего.
Д. отошёл в недоумении. «Здоровая психика, – подумал Д. – Мне бы такую».
За кульманом Д. не сиделось, и полезные для работы мысли не приходили ему в голову. Посидев с полчаса, тупо уставившись на чистый лист ватманской бумаги, Д. снова вышел в коридор. Его тянуло к курильщикам.
Из дымного облака доносились громкие голоса.
– Что вы мне навязываете этот дурацкий конец света! Я не желаю о нём думать! Для него нет места в моём сознании! Понимаете – нет! Моё «я» и проблема всемирной катастрофы существуют в разных пространственных и временных слоях. Эти слои нигде не пересекаются и не соприкасаются! Понимаете – нигде! Для меня конец света никогда не наступит! Никогда!
– Но простите! Ведь когда вы умрёте, ваше «я», а следовательно, и ваша вселенная исчезнут навеки! Для любого из нас рано или поздно приходит конец света!
– Это субъективный идеализм! Когда ночью гаснет фонарь, всё тонет во мраке, тонет, но не исчезает! Это не требует доказательств! Надо всего лишь зажечь другой фонарь!
– Но освещённое другим фонарём будет выглядеть хоть чуточку, но по-другому.
– Вот именно чуточку! Это не так уж существенно!
– А если вместо фонаря включить прожектор…
– Ну, знаете, это несерьёзно!
– Отчего же несерьёзно? Как раз это обстоятельство…
«Эк их разобрало! – подумал Д. – В какие дебри они забрались!» Он хотел уж было снова ввязаться в спор, но, взглянув на часы, обнаружил, что рабочее время уже истекло.
Из дверей проектной конторы Д. вышел вслед за чертёжницей. Окинув взглядом её фигуру, он вдруг заметил, что фигура ничего себе и ноги очень недурны – чуть полноватые, но приятных очертаний. И он подумал: «Отчего бы и мне не перебраться в другой пространственный слой? Почему бы и мне не освободиться от этих проклятых мыслей о всемирной катастрофе? Существуют же и другие проблемы, более безопасные, более скромные, более мягкие и менее обременительные».
Вслед за Д. из дверей гурьбой вышли курильщики. Они продолжали курить и спорить. Дымное облако двигалось вместе с ними.
– Вы мне ничего не докажете! Вы меня ни в чём не убедите! Вы напрасно расходуете своё красноречие! Не всё, что имеет начало, непременно имеет конец. Есть процессы, которые, имея конкретную точку отсчёта, устремляются в беспредельность…
– Современное состояние человечества внушает серьёзные опасения. Нельзя отворачиваться от этого столь легкомысленно…
– Состояние человечества в каждый исторический период внушало серьёзные опасения! Временами оно почти вымирало то от голода, то от оспы, то от чумы, то от идиотских, никому не нужных кровавых войн…
Чертёжница внезапно остановилась и с улыбкой обернулась к спорящим:
– Бросьте вы, мальчики, трепаться об этом скучном конце света! Неужели вам ещё не надоело? Лучше обратите свой взор на прелестных женщин, столь незаслуженно вами позабытых. Пока мы существуем, вам нечего опасаться светопреставления. Живите себе, целуйте нас почаще, курите в своё удовольствие и не забивайте себе мозги всякой чепухистикой!
– Устами прекрасной юной девы глаголет суровая нагая истина! – воскликнул один из курильщиков.
Комментарий
Спор о конце света, разумеется, был нелепым и совершенно дилетантским. Спорящие не были специалистами в той области, куда они столь опрометчиво забрались. Следовало бы им сначала кое-что почитать, кое с чем ознакомиться, кое к чему приобщиться. Это был типично интеллигентский, сумбурный и бесплодный спор. Такие споры частенько возникают по любому поводу. Все вдруг бросаются спорить, очертя голову. Распаляясь всё больше и больше и становясь всё более самоуверенными, все с апломбом высказываются о том, в чём они частенько ни черта не смыслят. В те минуты, когда они высказываются, им кажется, что они смыслят всё, что их мысли глубоки и оригинальны. В них полыхает огонь вдохновения. Они входят в экстаз. Покрывшись красными пятнами, они машут руками и брызжут слюной. Они становятся воинственны и даже жестоки. Они нападают на своих оппонентов с яростью необъяснимой. Ненависть к инакомыслящим мешает им говорить. Но голова у них работает в эти напряжённые, боевые минуты совершенно безукоризненно. Мгновенно появляются необходимые доводы, незамедлительно возникают спасительные извивы мысли, и с удивительной лёгкостью в их сознании выстраиваются сложнейшие, хитроумнейшие логические конструкции, над которыми в нормальной, спокойной обстановке пришлось бы попыхтеть. Нет, что ни говорите, а спорить, даже без толку, весьма полезно. Спорщик бодр. Кровь его кипит. Мышцы его напряжены. Руки его сжимаются в кулаки. Он способен на многое. Он готов ко всему. Он ужасен. Он великолепен.
Эпизод шестой Да здравствует прекрасная свобода
Д. стоял в очереди у пивного ларька. Ларёк был довольно паршивый – старенький, грязненький. Сквозь покоробившуюся голубую пластмассу его обшивки проступали какие-то расплывчатые тёмные пятна. Над маленьким окошечком, через которое подавали кружки, криво висела дощечка с обычной надписью:
Жигулёвское пиво
0,5 л – 22 коп.
0,25 л – 11 коп.
За мутным поцарапанным стеклом виднелись имевшиеся в продаже пачки сигарет «Памир» и пачки папирос «Беломорканал». Асфальт около ларька был залит пивом. От него исходил неприятный, кислый запах. Время было вечернее, торопиться было некуда, и Д. спокойно стоял в очереди, медленно приближаясь к маленькому окошечку. Очередь, против обыкновения, была тихая – никто не лез без очереди, божась, что он занимал, но тот человек, за которым он занимал, почему-то ушёл, и зачем же ему занимать по новой, если он уже один раз занимал, что он вообще никогда в жизни не лезет без очереди, как некоторые, что он не из тех прохиндеев, которые всегда лезут без очереди, что таких он и сам на дух не переносит, что если бы он захотел примазаться к очереди, то он бы… И никто не вещал громогласно, что он уже тридцать лет вкалывает на автобазе и поэтому его вокруг пальца не обведёшь и на вороных не объедешь, что он и сам кому хочешь очки вотрёт и лапшу на уши повесит… И никто не орал, что он сукой будет, если не скажет кому-то там всё как есть, всю кошмарную, убийственную правду, и пусть после этого его увольняют или отдадут под суд, или даже убивают, или даже лишают тринадцатой зарплаты – пусть делают с ним что хотят, он ко всему готов и уже давно на всех что-то там такое положил… И никто не сотрясал воздух длинными, изощрёнными ругательствами, никого, впрочем, не ругая и даже нисколечко не сердясь, но добродушно похохатывая при этом.
У Д. была одна маленькая слабость – он любил пить пиво у пивных ларьков, хотя считал себя интеллигентом, да, пожалуй, и был таковым. Замечено, что интеллигенты частенько относятся к пивным ларькам со снобистским презрением и предпочитают пить бутылочное пиво в барах и всяких шашлычных. Но Д. почему-то нравились эти очереди, стоя в которых чего только не наслушаешься. Здесь можно услышать пространные и весьма причудливые комментарии к новейшим событиям городского, государственного и мирового масштаба. Здесь можно услышать анекдоты, ошеломляющие своей непристойностью, но одновременно и подлинным остроумием. Здесь можно всласть упиваться грубоватым, сочным, смачным, цветистым, истинно народным, но притом и вполне современным языком, на котором изъясняются ныне все самобытные, естественные, не испорченные культурой люди. Д. нравилось пить пиво из кружки. Ему нравилось следить, как опадает шапка пузырящейся пивной пены (он никогда не сдувал её, как делают это некоторые, не понимающие всей тонкой прелести кружечного пива), и как со дна кружки взлетают вверх прозрачные пузырьки. Ему доставлял наслаждение первый, самый большой и самый вкусный глоток. Даже в том случае, если пиво было неудачным, мутным, тёплым и пахло чёрт знает чем, первый глоток его радовал. Но и последующие глотки он делал с удовольствием. Он пил всегда не спеша, следя, однако, чтобы пена не исчезла совсем. Пиво без пены – это не пиво. Это остывший чай или, простите, моча. Хотя последняя, как известно, тоже нередко пенится. Д. никак не мог понять тех людей, которые приходили к ларьку с большущими бутылями или с молочными бидонами и после, воротясь домой, тянули из стаканов эту самую мочу. Совершенно очевидно, что разливное пиво следует пить тут же, у ларька, и непременно из этих массивных, гранёных, толстых стеклянных кружек. Иногда кружка попадается с трещиной или с побитыми, неровными краями, иногда она оказывается даже без ручки, но в этом тоже есть некий шарм и своя убедительность. Летом хочется, чтобы пиво было холодным. Как прекрасно выпить кружку прохладного пива в знойный, душный, утомительный летний день! Но не меньшее удовольствие – выпить кружку тёплого пива морозным зимним днём. Сначала рот, потом пищевод, а после и желудок наполняются приятной тёплой влагой, а на краях кружки повисают симпатичные желтые пивные сосульки. Нет, можно только пожалеть тех несчастных, которые никогда не подходят к пивным ларькам! Их жизнь бедна и бессодержательна. И непонятно, почему они довольствуются такой неполноценной жизнью.
Заветное окошечко было уже совсем рядом, когда в поле зрения очереди появился лохматый, небритый, весьма небрежно одетый человек лет пятидесяти, очень нетвёрдо державшийся на ногах. На рукаве его помятого пиджака белело большое пятно. Ширинка его брюк была неприлично расстёгнута, и виднелись сатиновые трусы, голубые с жёлтыми цветочками.
– Эй, Гоша, штаны-то застегни! – крикнули ему из очереди.
Гоша остановился и стал застёгиваться, но пальцы не слушались его – он никак не мог справиться с пуговицами и петлями. Он глядел на очередь мутным взором и пьяно, по-дурацки ухмылялся, показывая розовые дёсны.
Гоша, по прозвищу Мятый, был завсегдатаем этого ларька, и Д. уже не раз видел его здесь. Всегда он был выпивши. Всегда он был грязен и небрит. И всегда просил, чтобы кто-нибудь угостил его пивом, то есть не допил кружку и оставил ему немного на донышке. Любители пива относились к нему с добродушным презрением. Смеялись над ним. Иногда отталкивали его. Но часто всё же оставляли пиво, и он, схватив кружку трясущейся рукой, жадно пил, и тонкая струйка текла по его подбородку, стекала на шею, струилась по заросшему рыжеватым волосом крупному кадыку и исчезала за воротничком давным-давно не стираной рубашки. Все привыкли к Гоше. Все забавлялись им. Гоша был местной достопримечательностью, безобидным, добровольным шутом и своего рода рекламой этого ларька, стоявшего на пересечении двух тихих улочек в тихом, далёком от центра и не слишком ухоженном районе города. Жители этих мест даже называли ларёк «Гошиным» и говорил так: «Пошли к Гоше, выпьем по кружечке!» Или: «У Гоши сегодня очередища – жуть! Но пиво хорошее – светлое, свежее!»
Где жил Гоша, на какие средства существовал, была ли у него семья – никого не интересовало. Скорее всего, он был бомж, то есть человек, нигде не работающий и не имеющий определённого места жительства. Ютился он, вероятно, где-нибудь поблизости от ларька, в каком-нибудь тёплом подвале или на чердаке, был нищ и свободен как птица, как воробей или голубь. Однажды Д. видел, как к ларьку подошёл милиционер, взял Гошу под руку и повёл его куда-то. Гоша шёл послушно, не сердился, не сопротивлялся, не вырывался и по своему обыкновению глуповато улыбался, показывая розовые дёсны. Через два дня Д. опять увидел Гошу у ларька. Он всё так же клянчил пива. Кто-то спросил его:
– Ну как, хорошо было в кутузке?
– А чем плохо? – ответил Гоша. – Покормили, погрозили и отпустили. Жаль, что выпить у них было нечего. Я им говорю: «Дали бы хоть стаканчик, чего жмётесь?» А они зубы скалят. «Мы тебя, – говорят, – вытурим из города к такой-растакой! Будет тебе стаканчик! А то и два!» Вот им хрен! Сам я их отсюда вытурю! У меня заслуги есть! Я город защищал! Они ещё и титьку материнскую не сосали, а я с оружием в руках отстаивал рубежи!
Осознав, что ширинку ему всё равно не застегнуть, Гоша оставил её в покое.
– Пить хочется, мужики! – сказал он, громко шмыгнув носом. – В горле пересохло! Хоть бы глоточек! Нешто вы такие жмоты?
Очередь Д. уже подошла, и он попросил продавщицу налить ему две больших. Одну кружку он протянул Гоше. Тот сначала не понял, решил, что Д. шутит и глядел на него выжидающе, не протягивая к кружке руки.
– Да бери же, это тебе! – произнёс Д. – Бери, пока дают!
Гоша схватил кружку обеими руками, ещё раз недоверчиво взглянул на Д. и принялся с жадностью пить, хлюпая, причмокивая, выплёскивая пиво через край.
– Гоше пофартило! – сказали из очереди.
– Не захлебнись, Гоша! – сказали ещё.
– Везучий ты, Гоша! – произнёс ещё кто-то.
– Не будь жмотом, Гоша, оставь хоть глоток! – пошутил кто-то.
Опорожнив кружку, Гоша вытер рот грязным, засаленным рукавом и шумно, с наслаждением вздохнул.
– Ух, хорошо! В душе ангелы запели! Спасибо тебе, кореш! Спас ты меня от зверской жажды. А то помер бы. Давно уж пива не пил вот так, по-человечески!
Д. тоже выпил свою кружку и пошёл было прочь. Но сзади что-то шлёпнулось на землю. Д. обернулся. Гоша барахтался на мокром, скользком асфальте, пытаясь подняться. Ноги его подгибались, разъезжались и, видимо, были уже не в силах держать его тело. Брюки задрались почти до колен. Были видны рваные носки с огромными дырками на пятках.
– Мужики! – хрипел Гоша. – Ё-моё! Помогите!
Д. вернулся, взял Гошу за плечи и поставил его на ноги. Пиджак у Гоши был мокрый, и от него разило прокисшим пивом. Брюки тоже были мокрые.
– Вот скотство! – сказал Гоша. – Вроде и не пьян совсем. Три флакона пустырника всего и принял. Старею. Ноги не держат уже.
– Где ты живёшь? – спросил Д.
– Да тут, за углом, недалеко.
– Пошли! – сказал Д. и крепко взял Гошу за локоть.
Когда подымались по лестнице, навстречу попалась немолодая, некрасивая женщина. Она взглянула на Гошу с отвращением и подозрительно оглядела Д.
– Опять! – сказала она. – Хоть бы ты сдох, алкаш несчастный!
– Скоро сдохну, – ответил Гоша. – Недолго тебе терпеть.
Женщина прошла мимо.
– Это соседка, – сказал Гоша. – Варька Лизунова. Она меня о-о-очень любит! Сука! Поджидает, когда комнатёнка моя освободится! Ни хрена! Мы ещё поживём! Ни хрена!
У дверей квартиры Гоша долго шарил по карманам, отыскивая ключи.
– Хрень какая! – недоумевал он. – Куда же они подевались?
– А ты их не выронил там, у ларька? – спросил Д.
– Может, и выронил, – ответил Гоша. – Может, они там в пиве и лежат. Эти вонючие ключи всё время теряются. Я уже два раза дверь выламывал. И Варька на меня два раза в суд подавала. В этот, как его, товарищеский.
– И чем же это кончилось? – поинтересовался Д.
– Ну я им сказал, этим мудакам: простите, граждане дорогие, но не везёт мне по-страшному. Ключи мне попадаются какие-то – падлы гнутые. Не успеешь икнуть, а они уже тю-тю, их уже нет. Не сидеть же мне на лестнице целый день, дожидаясь, когда Варька с работы явится.
Ключ наконец нашёлся. Вошли в квартиру. В прихожей было полутемно. Воздух был спёртый, тяжкий. Пахло жареным луком, табачным дымом и уборной. На стене рядом с электрическим счётчиком висел старенький, ободранный велосипед. В углу стояли такие же ободранные, видавшие виды лыжи. Держась за стенку, Гоша подобрался к одной из выходивших в прихожую дверей и пнул её ногой. Дверь отворилась.
– Вот, кореш, мои апартаменты, моя келья, моя пещера! Заходи, не боись! Гостем будешь!
Д. вошёл и огляделся.
Посреди комнаты стоял обшарпанный стол с двумя столь же обшарпанными табуретками. На столе была разостлана газета. На газете лежали остатки какой-то пищи. В углу стояла железная кровать, застланная серым одеялом. Рядом с кроватью стояло некое подобие этажерки с несколькими книгами на верхней полке. В противоположном углу располагался допотопный комод, покрашенный наполовину облупившейся масляной краской. К стене над комодом был прикноплен лист из заграничного календаря с красивой цветной картинкой: юная прелестная японочка в национальном костюме стояла на берегу пруда среди живописных замшелых валунов. За её спиной виднелась типично японская деревянная постройка с высокой, загибающейся на углах черепичной кровлей. В руках у японочки был большой цветок лотоса. Японочка ласково улыбалась. У самой двери на гвозде весело какое-то тряпьё. Чуть поодаль в стену был вколочен ещё один гвоздь. На нём, прикрытый полиэтиленом, висел на вешалке чистенький пиджак в серую клеточку. На лацкане пиджака были прикреплены три медали с разноцветными ленточками. На полу валялись окурки. Под столом стояли и лежали пустые бутылки.
Не снимая мокрого пиджака, Гоша рухнул на кровать.
– Спасибо тебе, кореш. Довёл меня, не бросил. А то бы я опять в подворотне заночевал. В вытрезвитель меня уж не берут. Знают, суки, что мне платить нечем. И за пиво спасибо. Хороший ты мужик, душевный. Нынче такие жлобские времена – душевных людей и нет совсем, одни бездушные. Душа человеческая теперь дефицит. Все без души управляются. А на фига она, говорят, душа-то? За неё пенсию не платят. Спасибо тебе, кореш, спасибо. Ведь мог бы бросить меня к чертям. Да вот не бросил. И на кружку пива не пожмотился. Откуда ты такой взялся у пивного ларька? И как тебя зовут-то, а?
– Меня зовут Д., – ответил Д.
– Д? Это что же – имя или фамилия?
– Не имя и не фамилия. Или, если желаешь, и имя, и фамилия сразу.
– Ё-моё! Разве такое бывает? Ну ты даёшь! И имя, и фамилия сразу! Тебя и в детстве родители так прозывали – просто Д., и всё тут?
– Нет, в детстве меня звали по-другому. Но когда я вырос, обнаружилось, что я просто-напросто Д. С тех пор меня так и зовут.
– Ты и в паспорте просто Д.?
– Нет, в паспорте я Достоевский, Николай Андреевич Достоевский.
– Ё-моё! Ты родственник Фёдора Михалыча? Ни фига себе!
– Нет, я не родственник Фёдора Михайловича. Просто однофамилец. Это жена моя меня так прозвала. Смешно, говорит, что ты Достоевский, и как-то даже неприлично. Будешь ты у меня просто Д. Потом я и сам привык. Действительно, так гораздо лучше – просто Д. Жена меня бросила, а я так и остался Д. Перед смертью я попрошу, чтобы на памятнике написали: здесь лежит Д. А то ведь люди подумают, что здесь похоронен тот самый Достоевский, и напрасно будут цветы таскать на мою могилку.
– Слушай, Д., ить! У меня ведь тоже жена сбежала! Сказала, что не желает жить с алкашом, и смылась. С одним малопьющим буфетчиком. Вот какое совпадение! Мы с тобой, Д., оба брошенные! Но тебя-то за что? Неужто ты тоже поддаёшь? По виду не скажешь.
– За то, что я не люблю зарабатывать деньги, – ответил Д.
– О, Д! Ё-моё! – вскричал Гоша, приподняв голову. – Я ведь тоже не люблю! Да насрать мне на эти вонючие деньги! Да пропади они пропадом! Да гори они синим огнём! Из-за них все несчастья! Из-за них в жизни одна херня получается! Из-за них нет покоя человеку! Сколько людей из-за них погибло! А сколько ещё погибнет! Из-за них души человеческие гниют! Из-за них мозги человеческие сохнут! Из-за них кровь человечья течёт рекой! А без них так хорошо, так спокойно! А без них – лафа! Вот падлой буду – без них куда лучше, чем с ними! Ты уж поверь мне, Д., я без денег уж много лет живу, и я знаю, что это такое – безденежная жизнь. Это же свобода! Соображаешь? Сечёшь? Это она – свобода, лучшая из баб! Бабы все курвы; все стервы, все суки. И только одна – ты сечёшь, Д., сечёшь? – только СВОБОДА – баба достойная. На эту бабёнку что угодно променять можно. На неё можно всё променять. Вот я и променял на неё всё. Теперь живу с нею, и ни хрена мне больше не нужно. Ни хрена! Ложусь спать – она тут, и тоже ложится со мною. Ночью проснусь и чувствую – она рядом лежит, дышит. Обнимаю её за шею и дальше сплю. Утром проснусь, вижу – она здесь, никуда не делась. Встаю и иду на помойку бутылки собирать. И она рядом со мною идёт. Вместе и собираем. А после в магазин топаем, бутылки эти сдавать. Сдадим, купим малыша, полбуханки чёрного да банку килек в томате. Приходим домой и обедаем. И ей, и мне такая житуха в са-амый раз!
– Ты только бутылками и перебиваешься? – спросил Д.
– Не, не только. Случается, в магазине ящики потаскаю. Пару четвертных сунут. Ещё бывало – на почте письма разносил. Но эта работёнка мне не очень подходит. Тут надо внимательным быть. А я всё путаю, не в те ящики письма и газеты сую, а то и теряю их. Такая хреновина получается. Народ прётся на почту, ругается, претензии предъявляет. Зачем держите этого хмыря? Он же пьяница, безответственный тип! Он же такое может отмочить – наплачетесь!
– А вот эти бутылки, которые под столом, чего же не сдал? Они у тебя про запас? На чёрный день?
– Догадливый ты, Д., мать твою так. Верно, на чёрный день. Вдруг заболею. А эти бутылки Варька мне сдаст. Не бесплатно, конечно, – копеек сорок себе заберёт. Но и мне хватит. Тут рубля на два, не меньше. На эти деньги пять дней можно прожить. Без водки, ясное дело, всухую. А на курево я ни копья не трачу – чинариков на улицах хватает. Я из них недокуренный табак выковыриваю и самокрутки из него кручу. И с пивом у меня всё в порядке. Ларьков пять обойдёшь и нальёшься пивом под завязку – все оставляют, иногда даже полкружки. А одежду я в утильсырье приобретаю. Там за трёшницу целый костюм можно справить, не очень даже поношенный. А ботинки стоптанные и за рубль отдают. Кое-что можно и на свалке найти, мебель к примеру. Вот эти табуретки я там отыскал. Зачем их выбросили, ни фига не понимаю. Совсем же новые табуретки! Стаканов у газировочных автоматов навалом! Что же ещё надо? Ё-моё, Д., ответь мне, что же ещё надо вольному человеку? Ни пениса ему больше не надо! Ни фаллоса! Так зачем же деньги говённые зарабатывать? Зачем спину гнуть? Зачем что-то там делать? Зачем руками двигать и мозгами шевелить? И ждать получку два раза в месяц? И о премии какой-то там вонючей мечтать? И сберкнижку в кармане то и дело щупать – вдруг потерялась!.. И сберкнижку… в кармане… Д! Ё-моё!.. зачем… в автобусе… не плачу… в метро… не езжу… на фига мне метро… Свобода, Д., такая женщина, такая…
Гоша засыпал. Рука его свесилась с кровати. Рукав пиджака подтянулся вверх, и на Гошином запястье обнажилась татуировака: голая грудастая красавица держала в руке цветок – почти так же, как японка на листе календаря. У ног красавицы дугою были наколоты слова: «Да здравствует прекрасная свобода!»
Д. подошёл к этажерке и взял в руки толстый ветхий том в старинном кожаном переплёте. Открыл первую страницу.
АРТУР
ШОПЕНГАУЭР
Мир как воля и представление
в переводе А. Фета
Петербург. Издательство Маркса
1899 г.
Ещё на полке стоял потрёпанный томик Есенина, не менее потрёпанный томик Лермонтова, каталог коллекционных почтовых марок, изданный в 1954 году, и подшивка журнала «Знание – сила» за 1978 год.
Д. ещё раз взглянул на японку. Из её волос торчал большой деревянный гребень. Лицо у неё было белое. На щеках розовел нежный, приятный румянец. Брови были тонкие, выщипанные. Губки были очень аккуратно накрашены ярко-алой помадой. За японкой голубело небо. Оно было совершенно чистым. На нём не было ни облачка.
Комментарий
Да-да, это огромное удовольствие – пить пиво из кружки у пивного ларька! Вокруг тебя воробьи порхают. У ног твоих расхаживают голуби. Или кошка какая-нибудь бездомная трётся о твою ногу. Пена падает на песок или на асфальт и долго ещё пузырится там, внизу, на асфальте. А если пена падает на снег, в нём образуются жёлтые ямки и отверстия неожиданных очертаний.
Разумеется, приятнее всего стоять у ларька в хорошую погоду, в солнечный летний или весенний день или в один из ясных, тёплых дней начала осени, когда листва на деревьях едва-едва начинает желтеть, а трава после прошедших дождей такая свежая, ярко-зелёная, будто бы даже не подозревающая, что лето кончилось и дни её сочтены. Но право же, и в дурную погоду выпить кружечку подчас весьма недурственно. К примеру, ситуация такая: конец декабря, морозец – десять-двенадцать градусов, к тому же ветрено и похоже, что начинается метель. Стёкла ларька заиндевели, а маленький прилавочек у окошка весь покрыт жёлтым пивным льдом. Перчатки снимать не хочется, но приходится всё же их снять на минутку, чтобы вытащить из кармана кошелёк и извлечь из кошелька деньги. После того как расчёт с продавщицей закончен, снова надеваешь перчатки, берёшь кружку, отходишь в сторону и с наслаждением тянешь тёплое и кажущееся невероятно вкусным горьковатое пиво, поглядывая по сторонам и о чём-нибудь размышляя. Ветер срывает с кружки клочья пены и уносит их далеко. Одновременно он загибает полы твоего пальто и пытается стащить с твоей головы меховую шапку. И борьба с ветром тоже доставляет удовольствие…
Странный человек этот Гоша. Горький пьяница, попрошайка, оборванец, в помойках роется, бутылки собирает… Но есть в нём нечто… Не то чтобы обаяние, но близкое к этому свойство. К нему и подходить-то противно, однако же тянет почему-то подойти. Нехорошо, конечно, что он непрестанно матерится. Но матерщина ему к лицу. Трудно даже вообразить его себе без мата. И почему-то – Шопенгауэр… Загадочный человек этот Гоша Мятый.
Эпизод седьмой Разве это не изумляет?
Д. шёл по улице, предвкушая удовольствие. Д. зашёл в магазин фотопринадлежностей и купил проявитель, фиксаж и две пачки фотобумаги форматом двадцать четыре на тридцать. Взяв пакет, который протянула ему продавщица, Д. сказал «спасибо» и вышел на улицу. Теперь он снова шёл по улице, но уже с пакетом в руке. Предвкушение неминуемого удовольствия усилилось. Д. шагал быстро. Для того чтобы обгонять прохожих, ему приходилось делать зигзаги. Он старался никого не толкать, но раза два он всё же толкнул кого-то и тотчас вежливо извинился. Д. торопился домой. Д. мчался домой. Прохожие ему мешали. Их было слишком много. «Почему они шляются по улицам? Чего им дома не сидится? – думал Д. раздражённо. – И почему они ходят так медленно – спят на ходу? И откуда их столько берётся? Уму непостижимо!»
Д. почти бежал по улице с пакетом в руке. Удовольствие приближалось. Точнее, он приближался к удовольствию с довольно большой скоростью. Но ему казалось, что скорость недопустимо мала. Последние сто метров перед своим домом он и впрямь пробежал и в квартиру ворвался запыхавшись.
Плюхнувшись на диван, он отдохнул с минутку. Предчувствие удовольствия обострилось до крайности. Д. весь дрожал. «А вдруг ничего не получится? – думал Д. с опаской. – Правда, плёнка вроде бы неплохая. Но бывает и так: плёнка чудесная, а отпечатки никуда не годятся. Почему-то появляется на них зернистость. Или вдруг оказывается, что на всех кадрах немножко сбит фокус, и поэтому изображение “плывёт”, становится нечётким. Или внезапно полосы какие-то обнаруживаются, какие-то царапины и пятна. А иногда бывает – просто дело не клеится. Отпечатки идут то слишком бледные, то слишком тёмные – и хоть ты тресни! Фотография – вещь капризная. Всякое бывает».
Д. вытащил из-за книжного стеллажа два больших фанерных подрамника и накрыл ими ванну. Д. поставил стремянку и достал с антресоли изрядно запылившийся увеличитель. Влажной тряпкой он тщательно вытер пыль, потом поставил увеличитель на один из подрамников. На другом расположились фонарь с красным стеклом, кюветы с проявителем, фиксажем и чистой водой, а также пинцет, тряпочка для вытирания рук и пакеты с фотобумагой. Д. вставил плёнку в увеличитель, включил его, зажёг фонарь, выключил верхний свет и плотно закрыл дверь ванной комнаты.
На белой бумаге появилось неузнаваемое, негативное изображение Зиночкиного лица. Оно казалось некрасивым, почти безобразным. Кожа была чёрной, как у негритянки, волосы светло-серыми, седыми, а зрачки глаз были совсем белыми и какими-то жуткими. Брови и ресницы тоже были белыми и страшными. Однако в овале лица и в форме носа угадывалось что-то знакомое, что-то Зиночкино – нежное и женственное.
Добившись предельной резкости изображения, Д. прикрыл объектив красным стеклом, вскрыл один из пакетов, достал лист плотной, глянцевой фотобумаги, осторожно, стараясь не сбить кадр, вставил его в рамку, резко сдвинул в сторону красное стёклышко, сосчитал до пятнадцати и выключил лампу увеличителя. С помощью пинцета бумага была погружена в проявитель. Д. сидел, склонившись над кюветой, и ждал. Д. разглаживал пинцетом загибавшиеся края бумаги и напряжённо ждал. Бумага долго оставалась белой. Наконец появилось тёмное пятнышко. Оно росло, расплывалось, меняло очертания, но было пока ещё непонятно, что это такое. Затаив дыхание, Д. вглядывался в причудливое пятно. «Ухо! – вдруг догадался он. – Это же Зиночкино ухо! А вот и серёжка в ухе в виде сердечка!» Рядом с ухом возникли пряди волос. Чуть подальше наметились бровь и уголок глаза. Но на этом всё и кончилось. Большая часть бумаги оставалась белой. «Слишком маленькая выдержка!» – вздохнул Д. и вытащил не получившийся отпечаток из кюветы.
В рамку был вставлен новый лист. На сей раз Д. считал до тридцати. «Ну теперь-то уж наверное…» – думал Д., погружая бумагу в проявитель. Но едва возникли очертания Зиночкиного лица, как вся бумага стала темнеть и через несколько минут потемнела совершенно.
«Вот чёрт! – выругался Д. про себя. – Дело не клеится. Давно я этим не занимался, отвык, разучился. Эдак я всю бумагу перепорчу. А ведь, бывало, с первого раза попадал в точку, с первого же раза!» Волнение вдруг покинуло его. Ему даже стало немножко скучно. «На кой леший я взялся печатать сам? – думал он. – Надо было отдать плёнку в фотоателье. Там быстренько бы напечатали. И недорого бы взяли, вовсе недорого».
В третий раз Д. сосчитал до двадцати, и не ошибся. В кювете появилась наконец-то Зиночкина голова, появились глаза, нос, рот, и то самое ухо, и чёлка, и всё остальное. На фотографии Зизи выглядела даже лучше, чем в натуре. Она смотрела на Д. сверху вниз с кокетливой, торжествующей, победной улыбкой. Светящиеся точки в её зрачках придавали взгляду какую-то сверхъестественную пронзительность, а в изгибе её губ даже было что-то хищное. Потрясённый этим зрелищем, Д. позабыл вовремя извлечь отпечаток из проявителя, и он стал темнеть.
«Что за дьявол! – опять выругался Д. – Сегодня, видать, невезучий день. Не отложить ли мне это дело до завтра?» Однако откладывать не хотелось, и дальше, слава богу, всё пошло как по маслу. Плёнка оказалась очень удачной. Фотографии были на редкость хороши. В кювете одно за другим возникали эффектнейшие Зиночкины изображения. Чаще всего это было Зиночкино лицо, снятое вблизи, крупным планом. Лицо в фас, в профиль, вполоборота, чуть снизу, чуть сверху, полностью освещённое, или частично затенённое, или даже вовсе затенённое, снятое против света, при этом вокруг головы Зиночки появлялся нимб освещённых сзади волос, и это было чудесно. Но на некоторых снимках Зиночка была запечатлена по пояс, а на некоторых и до бёдер. Дважды Зизи была сфотографирована во весь рост, и тут можно было любоваться её фигурой, её руками, её ногами, её симпатичной и очень модной кофточкой, её красивой и тоже модной юбкой, её очаровательными и, разумеется, наимоднейшими туфельками на тонких высоких каблучках. Д. глядел на всё это и изнывал от удовольствия. И было у него такое ощущение, что он не только любуется Зиночкой, но и прикасается к ней, целует её, ласкает её, что Зиночка ему почти отдаётся. И он думал о том, в какой восторг придёт Зизи, увидев эти фотографии, и как она будет ему за них благодарна, и как всё чудесно будет у него с нею, и как это хорошо, что он забрёл однажды в её кафе, и как это кстати, что она работает именно в кафе (а то ведь, небось, он бы и не встретил её никогда!), и какая это удача, что Зизи свободна (а она ведь явно свободна, явно у неё никого больше нет!) «Конечно, у неё кто-то был раньше, – продолжал размышлять Д., опуская в фиксаж очередной отпечаток, на котором Зизи весело смеялась, показывая свои белые зубы и свои знаменитые ямочки, – не может быть, чтобы раньше у неё никого не было, но сейчас место рядом с нею, несомненно, пустует по какой-то причине (мало ли, какая может быть причина! Мало ли!), и тут мне здорово повезло».
Прополаскивая фотографии в кухонной раковине, Д. продолжал с наслаждением их разглядывать, замечая в них всяческие тонкости, которые трудно было увидеть при тусклом красном свете. Зиночка оказалась удивительно фотогеничной особой. Даже маленькие неправильности, маленькие недостатки её внешности на снимках выглядели как-то мило, как-то привлекательно. То же, что у Зизи было хорошо само по себе, фотографии делали попросту великолепным. В особенности впечатляла Зиночкина чёлка. Глаз от неё нельзя было оторвать! То она падала на лоб сплошной тяжёлой, массивной завесой, то игриво сбивалась на сторону, то рассыпалась на отдельные тонкие пряди. Она хороша была и на свету, и в полутени при боковом освещении, когда контрасты светотени придавали ей какую-то особую экспрессию, особую живость, особую пикантность; и даже в полной тени, в полумраке, она была изумительна – становясь почти чёрной, загадочной, таинственной, она придавала облику Зизи значительность, романтичность и даже некоторую инфернальность; глядя на эту фотографию, уже нельзя было сказать, что пред тобою привлекательная, или даже весьма привлекательная, или попросту очаровательная молодая женщина – все эти эпитеты уже не годились, ибо пред тобою была обладательница мрачной, зловещей, пугающей, но неотразимой красоты, пред тобою была поистине роковая, опасная женщина.
«Ну надо же! – думал Д. – Надо же, какая поразительная чёлка у Зизи! Прямо-таки колдовская, прямо-таки невиданная, фантастическая чёлка! И заметно, между прочим, что Зиночка отлично знает о достоинствах этой главной детали своей причёски – умеет показать чёлку во всём её блеске и носит её с гордостью. А как тут не загордиться? Такие чёлки встречаются не часто. Такую чёлку надо поискать. Да нет! Не стоит и искать! Такую чёлку нигде не найдёшь! О такой чёлке можно только мечтать! Такая чёлка только присниться может! Однако же нет никакой уверенности, что такая роскошная чёлка действительно приснится! Тут уж как повезёт. Но ведь у Зизи кроме чёлки есть и ещё кое-что! – продолжал думать Д. – Это же не единственное её сокровище!» И думая так, Д. чувствовал, что влюбляется в Зиночку всё больше и больше, и было ему от этого радостно и почему-то немножко тревожно.
Закончив прополаскивание, Д. разбросал на полу своей комнаты газеты и разложил на них мокрые фотографии. После он ещё долго стоял над газетами, продолжая восхищаться Зиночкой и мысленно отбирая самые лучшие отпечатки. Он был доволен собою. И оттого, что у него есть прелестная Зизи, и оттого, что он такой умелый и, быть может, даже талантливый фотограф. «А не предложить ли мне несколько фотографий на выставку?» – подумал Д. Но он тут же отверг эту идею, представив, как какие-то мужики будут нагло, с вожделением разглядывать Зиночку и обмениваться всякими вульгарными репликами: «Какая милашка! Какой носик! А чёлочка-то, чёлочка-то какая! Да-а, бабёночка аппетитная! И глядит так, что мурашки по спине!.. И откуда такие берутся? Где такие водятся? Где таких выкармливают? С такой не заскучаешь! Правда, и возни с такими много – они всегда с претензиями, с капризами, с фанаберией…»
Вслед за этим Д. уселся за стол, намереваясь заняться своим любимым делом, от которого отвлекли его Зиночкины чары, но в голову ему лезли совсем не те мысли, которых он ждал, которые были ему нужны, – в голову ему лезли мысли о таинственной магии фотографии.
– Действительно, – размышлял Д. – Фотография – штука загадочная. Так – вроде бы всё ясно. Линзы… Изображение проецируется на светочувствительный слой… Соответствующие химикаты выявляют засвеченные места плёнки. Другие химикаты фиксируют это. Получается негатив. Он проецируется с помощью увеличителя на бумагу. Снова вступают в действие химикаты, и получается фотография. Что тут сложного? Проще пареной репы! И ничего таинственного! Ровным счётом ничего! А взглянешь на фотоснимок, самим тобою сделанный фотоснимок, и вздрогнешь, и оторопеешь, и удивишься! И даже испугаешься!
Как же это так получается? Каким образом это происходит? Ведь это же чудо! Подлинное чудо!
Вот живой человек, Зиночка к примеру. Она всё время шевелится и каждую секунду хоть чуточку изменяется. Она дышит – грудь её почти незаметно, но всё же подымается и опускается, волоски в её чёлке ежесекундно хоть капельку, но меняют своё расположение, и складки на её кофточке тоже живут, тоже движутся и никогда не повторяют в точности свою форму. И так же изменчиво и вроде бы неуловимо освещение Зиночкиной головы, Зиночкиного торса, Зиночкиных рук и ног, Зиночкиной одежды. Но вдруг всё останавливается, всё застывает и навсегда остаётся в неподвижности! Время идёт. С Зиночкой происходят тысячи метаморфоз – она принимает разные позы, она ходит, иногда даже бегает, она переодевается, она меняет причёску, она бывает то весёлой, то грустной, порой она выглядит усталой и даже больной, порой она злится и негодует. Временами она плачет. А на снимке она всё такая же. А на снимке всё сохраняется таким же, как в тот момент, когда я, поймав кадр, нажал на спуск, и щёлкнул затвор моей камеры, и шторка, на мгновение открывшись, снова закрылась! Всё до мельчайших, микроскопических деталей! Если взять лупу, можно будет разглядеть на Зиночкином подбородке маленький, почти незаметный, умело припудренный прыщик или тонюсенькую ворсинку на рукаве её кофточки. Разве это не таинственно? Разве это не изумляет?
Д. любил разглядывать старые фотографии, ничего не значащие, случайно сделанные со случайно оказавшимися перед объективом неизвестными ему людьми. Какая-нибудь городская улица начала нашего века, замощённая булыжником и с рельсами посередине. По рельсам движется вагон конки, который тащат две довольно упитанные лошадки. На крыше конки, на империале, сидит господин в котелке. Чуть поодаль от него расположилась дама в большой шляпе и с зонтиком. Рядом с дамой сидит девочка, тоже в шляпке и в пышном платьице со множеством оборочек. Улицу переходит человек крепкого телосложения в картузе, в кафтане и высоких сапогах. Он немножко не в фокусе – в те времена ещё не было достаточно чувствительной плёнки, и движущиеся предметы не всегда хорошо получались. На углу, у фонаря, стоит бедно одетая девушка с корзинкой в руке – видимо, кухарка или горничная. Поодаль виднеется тумба для афиш. Можно прочесть афиши:
БЕНЕФИС АКТРИСЫ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ
Е. С. ДОДОНОВОЙ
Прощальный спектакль
труппы
В. Г. СИНЕЛЬНИКОВА
в театре Неметти
Прошло уже лет восемьдесят, как сделан этот снимок, но всё остаётся, как ни странно, на своих местах. Вагон конки не сдвинулся ни на метр, господин в котелке, дама в шляпе и девочка – видимо, её дочь, – всё ещё сидят на крыше вагона. Всё так же стоит у фонаря горничная с корзинкой. Но самое забавное, что застыл на месте переходящий улицу крепыш в картузе – видимо, купец или приказчик. Какая сила мешает ему двинуться дальше и перейти всё же улицу? У него и нога одна приподнята, он пытается сделать следующий шаг, но почему-то не делает его! Чертовщина какая-то! И полнейшая нелепость! Абсурд полнейший! Все эти люди, кроме, быть может, девочки, давно уже умерли. Улица эта несколько раз меняла свой облик. И моды на одежду с тех пор уже много раз преображались. Давным-давно исчезла конка. И булыжника на улицах теперь не увидишь. И тумбы для афиш тоже исчезли…
Но, пожалуй, самое сильное впечатление искусство фотографии производило на Д. тогда, когда он разглядывал снимки одного и того же человека, сделанные в разном возрасте. Это выглядело действительно непостижимым и прямо-таки ужасало.
Младенец с бессмысленным взором, с трогательными светлыми кудряшками на головке лежит на животике, засунув палец в рот. Дитя лет трёх сидит на маленьком стульчике, прижимая к груди большого плюшевого зайца, и глядит довольно серьёзно. Юноша лет шестнадцати со светлым лицом стоит у открытого окна. В руке у него книга, в глазах у него юношеский оптимизм. Мужчина лет сорока с плохо подстриженной, неопрятной бородкой и с печалью во взоре сидит на скамейке в каком-то саду. Рядом сидит собака, невзрачненький «двортерьер». Она тоже невесела. Старик лет шестидесяти с нездоровым обрюзгшим лицом и с длинными, видимо, давно не мытыми волосами что-то делает, сидя за столом. Дряхлый и уже почти неузнаваемый старец лежит в гробу, обложенный цветами. Костлявые руки сложены на груди. Рот провалился. Волос почти нет.
Можно держать эти фотографии в руке, сложив их веером, как карты. Можно разбросать их по столу в беспорядке. Можно создавать из них нелепые, смешные и зловещие комбинации. Можно делать с ними что угодно. Но, чёрт побери, это ведь жизнь человеческая! Это наглядное подтверждение того, что она была! Это то, что от неё осталось! А может быть, и не было жизни? Может, всё это ловкая мистификация, умелая подделка? Где доказательства, что этот младенец, сосущий свой палец, и этот лысый старик в гробу – одно и то же лицо? Всё у них разное, всё! Фотографии запечатлели великую тайну жизни и не менее великую тайну времени. Воистину – чудо! Чудо из чудес!
Д. поднялся из-за стола и снова принялся рассматривать фотоснимки, лежавшие на полу. Уголки их, подсыхая, загибались, свивались фестонами, и Зиночкино лицо оказывалось как бы в рамке, несколько безвкусной, самодельной рамке. Нечто подобное можно приобрести на базаре в каком-нибудь южном городе. Если город приморский, то рамка будет непременно украшена ракушками. Да к тому же они ещё будут раскрашены ярко и аляповато. Но как ни странно, эти фестоны шли к Зиночкиной внешности, что немножко смутило Д.
«Вот и Зизи когда-нибудь постареет, – думал Д. – Постареет и подурнеет. Станет толстой и неповоротливой. И волосы её уже не будут рыжими. Они будут такими же, как у той прорицательницы со свалки. И зубы её тоже будут редкими… Правда, она сможет вставить искусственные… Но эти отпечатки сохранят её молодость! Для неё самой и для всех! Да, да, они не подведут! На них можно положиться! В старости Зизи будет глядеть на них, вздыхать и говорить себе: “Да, когда-то я была ничего себе женщина! Очень даже ничего! Одна чёлка чего стоила!” Позвоню-ка я Зиночке в кафе! – решил Д. – Неловко, конечно, беспокоить посторонних людей, но её позовут к телефону непременно».
Выйдя на улицу, Д. подошёл к телефонной будке. Она была занята. Другая будка находилась далеко, и Д. стал ждать. Звонила хорошо одетая, сильно накрашенная, полноватая дама лет сорока с лишним. В одной руке у неё была трубка, в другой – дымящаяся сигарета. Время от времени дама затягивалась и, морщась от дыма, продолжала затянувшийся разговор. Сигарету она держала очень изящно. Мизинец с вишнёвым острым ноготком был манерно отставлен.
Подождав несколько минут, Д. осторожно постучал монеткой по стеклу. Дама кинула на него гневный взгляд и продолжала телефонную болтовню. Через некоторое время Д. снова постучал. Дама повесила трубку и, не глядя на Д., покинула будку.
– Ну и мужчины теперь пошли! – сказала дама, резко обернувшись и испепеляя Д. ненавидящим, пламенным взором.
Зиночку тут же позвали к телефону. Она была смущена и обрадована.
– Вот не ожидала, что вы догадаетесь позвонить! Приятный сюрприз!
– По телефону ваш голос звучит чудесно! – сказал Д. – С вами очень приятно разговаривать по телефону. Я хочу сообщить вам, милая Зизи, что фотографии готовы и, как мне кажется, они удались.
– Как, уже? – удивилась обрадованная Зиночка. – Так скоро!
Договорились встретиться в воскресенье в два часа дня у входа в Парк культуры. В воскресенье Зиночка была выходная.
Комментарий
Пожалуй, Д. слишком увлечён фотографией и видит в ней слишком много. Что удивительного в том, что она запечатлевает всё, как оно есть, пусть даже и до мельчайших микроскопических подробностей? Вот если бы ей удавалось запечатлеть то, чего нет! Или то, что есть, но невидимо! Тогда это было бы чудом! А впрочем, любой сносный живописец легко это сделает, обходясь без услуг оптики, химии и бумажной промышленности. Забавно, что современная живопись пытается подчас соревноваться с фотографией, усердно изображая только видимое. Забавно и, пожалуй, прискорбно. Но чего только нет в современной живописи! И чего только в ней уже не было! И чего только в ней ещё не обнаружится! Поживём – увидим. И небось поразимся. А может быть, и восхитимся – это тоже возможно.
Эпизод восьмой Берите! Не пожалеете!
Дело вдруг остановилось. Всё было вроде бы хорошо, всё получалось, как надо, всё двигалось в нужную сторону, всё вытанцовывалось, выплясывалось, выпевалось, вырисовывалось, всё лепилось вполне удачно – словом, дело шло. И вдруг оно остановилось. Остановилось и стояло, не двигаясь, как вкопанное. И что с ним стряслось? Какая муха его укусила? Что мешало ему двигаться дальше? Какая преграда возникла перед ним?
Никакой преграды не было заметно и ничего, собственно, не случилось – всё оставалось по-прежнему. По-прежнему Д. спал на работе за кульманом и бодрствовал дома за письменным столом. По-прежнему он кормил своих рыбок и иногда совершал долгие прогулки по городу, полагая не без оснований, что они вдохновляют его на скорейшее завершение его заветного дела. Правда, появились два новых немаловажных обстоятельства – Зиночка и конец света. Но мысли о Зиночке доставляли удовольствие и делу вроде бы не мешали, отвлекая от него лишь слегка и ненадолго. А размышления о всемирной катастрофе, хотя и были мрачными, будоражили воображение, тормошили сознание и настраивали на возвышенный, творческий лад. Однако дело упёрлось, и ни с места. Дело внезапно проявило ослиное упрямство. «Вот скотство! – думал Д. – Время идёт, а оно стоит. Этак, чего доброго, я не успею закончить его к концу света! Нет, какое всё-таки свинство! – продолжал думать Д. – Я с ним вожусь уже четыре года! Я уже две пары штанов над ним просидел! Я ему предан, я в нём души не чаю! Я перед ним наизнанку выворачиваюсь! Я ради него женой пренебрёг! Я для него на карьеру свою плюнул! Всё, что у меня было, и всё, что могло у меня быть, я сложил к его ногам! А оно ни с того ни с сего остановилось! Оно не шевелится! Оно вдруг одеревенело, окаменело! Что за каприз? Что за причуда? Что за озорство? Как прикажете это понимать? Как позволите к этому относиться? Хреновина какая-то, сказал бы Гоша Мятый!»
Бессмысленное и крайне неуместное упрямство обожаемого им дела выводило Д. из себя. Дело явно не желало почему-то прийти к завершению подобру-поздорову. К тому же Д. стали беспокоить его хвостатые красотки. С некоторых пор они стали медлительны, и у них явно ухудшился аппетит. Раньше они непрерывно плавали, то опускаясь на дно, то всплывая к поверхности воды, при этом хвосты их весело развевались, а рты то и дело открывались и жабры энергично двигались. Когда в аквариум высыпался корм, рыбки с жадностью набрасывались на него и животы их на глазах увеличивались, быстро наполняясь пищей. Теперь же вуалехвостки плавали медленно, на дно опускались редко, хвосты их едва колебались, рты открывались реже, и жабры их двигались почти незаметно. В этой томной медлительности, в этой задумчивости, в этой загадочной меланхолии была, конечно, некоторая прелесть, но всё это было неспроста, и Д. тревожился. «Хандрят? – думал Д. – Или кислороду в воде не хватает? Или надоело им плавать в этом жалком тесном аквариуме? Надо сменить корм! – решил он наконец. – Это должно их приободрить, расшевелить, развеселить!» И в субботу он отправился за хорошим кормом на звериный рынок.
Перед входом располагался небольшой сквер с подстриженными кустиками барбариса, с несколькими раскидистыми вязами и белыми скамейками на жёлтых, посыпанных песком дорожках. Ещё из трамвая Д. увидел, что в скверике толпится народ. Выйдя из вагона, он прошёл по жёлтой дорожке и пробрался в толпу.
Здесь продавали собак и кошек, щенков и котят. Животных было не так уж и много, и не было в них ничего необычного, но публика проявляла к ним живейший интерес.
Когда продают щенка или котёнка – это естественно. Беспородных собачьих и кошачьих детей легче утопить, чем целый день торчать с ними в этом скверике, надеясь, что найдутся на них покупатели. Хорошо ещё, если дождик не моросит. Но когда продают взрослого пса или большого, ухоженного красивого кота, то за этим кроются некие особые обстоятельства, некие причины нетривиальные и нередко даже печальные, если не сказать трагические. Правда, случается, что продают и краденых животных, однако это всё же редкость. Причины бывают разные. К примеру, хозяину нужно срочно уехать, а там, куда он уезжает, держать кошку или собаку крайне неудобно. Или хозяин внезапно умирает, и тогда его любимца (или любимицу) продают его родственники, друзья или соседи. Или внезапно выясняется, что от собачьей шерсти у детей начинается жестокая аллергия, и тут уж действительно никуда не денешься – приходится продавать. Или – ещё один сюжет – старый холостяк, у которого была обожаемая собака, наконец-то женится, но его жена, как выясняется, не терпит собак. Может быть, и не сама жена не терпит, а её матушка, то есть тёща вышеупомянутого бывшего холостяка, но это, естественно, тоже веская причина для разлуки с преданным четвероногим другом. И так далее, и тому подобные неблагоприятные для кошек и собак ситуации.
Д. остановился около подростка, из-за пазухи которого торчала мордочка довольно уже крупного сиамского котёнка. Глаза у него были фиолетового цвета с красным отливом, нос был коричневый, кончики ушей почти чёрные. «Вот если бы не было у меня рыбок, – подумал Д., – я бы его купил. Сиамские кошки очень изящны. Но ведь они тоже любят рыбу, они тоже кровожадны».
После он постоял около огромного, чёрного, гладкого, длинноногого английского дога с толстой золотой цепью на шее. «Вместе с цепью продают, – подумал Д. – А пёс-то, конечно, роскошный. Но где уж мне собаку-то иметь. С нею забот по горло. А эта зверюга, небось, будет проглатывать всю мою зарплату, даже на корм рыбкам ни шиша не останется».
Потом Д. задержался около низенькой, длинной, шоколадного цвета таксы. Её хозяин, рослый лысый мужчина преклонных лет, убеждал предполагаемого покупателя: «Да вы не бойтесь! Она немного ест! Это вам не дог и не сенбернар! И кормить её можно чем угодно! Хлеб лопает! И капусту, и картошку. Я не вру – спросите кого угодно. Берите! Недорого же совсем! Берите! Не пожалеете! Она привязчивая! Она вас любить будет! Я бы не продал её никогда, честное слово. Такую собаку грешно продавать. Но трудно мне теперь с нею. Я инвалидом стал. По болезни. С сыном живу. А сын её невзлюбил. Зачем она лает, – говорит, – так громко? А она и не лает почти. Если и тявкнет разок-другой, то совсем тихонько. Ещё говорит: от неё шерсть везде остаётся. А какая же от неё шерсть? Она же не колли. Смешно! Да вы не опасайтесь! Берите! Она вам щенков будет приносить. Продавать их станете. Они дорогие. Не пожалеете!»
Уже выбираясь из толпы, Д. заметил девочку-подростка. Она стояла, гордо выпрямившись, плотно сжав губы и ни на кого не глядя. В её бледном, узком лице было что-то страдальческое. У её ног сидела смешная, длинноухая, лохматенькая дворняжка, серая с рыжими подпалинами. Шерсть на её тщедушном теле была расположена неравномерно, какими-то клочками. Морда у неё была очень комичная. Около ушей виднелось нечто похожее на реденькие бакенбарды, на кончике носа росли отдельные, длинные, нелепые волоски, а на лбу красовался кокетливый и будто бы нарочно подвитой локон. «Это собака для циркового клоуна, – подумал Д. – Выбежит на арену, и все тут же от хохота лопнут». Жёлтые глаза собачонки были, однако, умны и печальны. Она, видимо, понимала, что её продают, и страдала вместе со своей хозяйкой, страдала, но покорялась – а наверное, другого выхода не было, наверное, ситуация была поистине трагической. «Да кто же её такую купит?» – подумал Д. и отвёл глаза в сторону, не в силах глядеть на это душераздирающее зрелище. Отойдя на несколько шагов, он обернулся. Трогательно и как-то доверчиво моргая, собака внимательно глядела на Д., пронзая его сердце своей печалью. Д. снова отвёл глаза, сделал ещё пару шагов и, не удержавшись, снова взглянул на дворняжку. Она по-прежнему внимательно, всё так же моргая, смотрела на него.
Тут Д. заметил, что и девочка смотрит на него и в её взгляде гордое страдание борется с надеждой. «Вот чёрт!» – выругался Д. про себя и, отвернувшись, быстро зашагал к воротам рынка.
Рынок был шумный, многолюдный, живописный и интересный. Между лотков бродили покупатели и зеваки. Тут было на что посмотреть! Тут было чему подивиться! Тут было над чем поахать! Тут было перед чем постоять с разинутым ртом!
Д. начал с рыбного ряда. Глаза его разбегались, и сердце то и дело замирало от сладкого, детского восторга.
На окраине огромного, мрачноватого северного города, переполненного людьми и автомобилями, пропахшего фабричным дымом и бензиновой гарью, изобретательная и предприимчивая природа устроила выставку своих бесценных сокровищ, таящихся в глубинах тропических морей. Аквариумы стояли рядами, в них кишела всевозможная морская живность.
Некоторые рыбёшки были узенькими и длинными, как змейки, иные же были широкими и плоскими, как блюдечки. У одних плавники были короткие, малозаметные, а у других они превращались в замысловатые украшения, похожие на редкостные экзотические цветы. Некоторые рыбки непрерывно двигались, метались, скользили вдоль стен аквариума, очевидно, надеясь из него выбраться. Другие же были сонные, малоподвижные. Почти не шевелясь, они висели в воде на одном месте, лишь изредка помахивая хвостом и плавниками. Иногда же, сбившись в плотную кучку, рыбки лежали на дне и выглядели почти мёртвыми.
Были здесь рыбёшки, похожие на птиц, на бабочек и на стрекоз. Были похожие на листья растений. Были и ни на кого, ни на что не похожие, вовсе невиданные водные твари, созданные природой по какой-то прихоти, а может быть, по оплошности – бог его знает! Всё это мерцало, светилось, сверкало золотом и серебром и переливалось всеми цветами радуги…
Д. шёл по рядам, останавливался, дивился тому, что видел, читал надписи над аквариумами и банками, дивился затейливым названиям жителей океанских глубин и шёл дальше, снова останавливался, и снова дивился.
Оранжевые рыбки с голубыми глазами. Зелёные с оранжевыми хвостами. Густо-синие с ярко-алыми плавниками. Пятнистые. Полосатые. В мелкую крапинку. Всякие. Совершенно плоская, тонкая, почти невидимая спереди и сзади скалярия сбоку оказывалась похожей на древесный лист и была обладательницей длинных, острых плавников. У моллинезии парусной плавники и впрямь были похожи на распущенные паруса. А весь золотой, сверкающий хромис-красавец в самом деле был удивительно хорош. В небольшую, тесную узкую банку была помещена крупная, толстая и сердитая с виду рыбина поразительно нежного зелёно-голубого цвета. Под банкой на клочке бумаги было написано: «Бирюзовая акара. 1 шт. 25 р.».
«Наверное, это очень редкая порода» – подумал Д. и долго не мог отойти от акары, завороженный её необычной расцветкой и её величием. «Плохо ей в этой банке! – подумал Д., отходя. – Она и повернуться-то даже не может. А ей плавать, конечно, хочется».
В одной из банок беспечно резвились очень знакомые симпатичные рыбёшки. Надпись на стоявшей рядом дощечке гласила:
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
мирная, никого не трогает
корм любой
1 шт. 30 к.
«Вот она, знаменитая сказочная золотая рыбка! – оживился Д. – Оказывается, она совсем не редкая и очень дешёвая! Всего-то 30 копеек!»
Кроме рыб продавались и прочие представители водяной фауны: лягушки, тритоны, раки, крабы, водяные жуки и всевозможные улитки. В плоской, накрытой стеклом банке шевелилось какое-то чудовище, похожее на крупную ящерицу. Д. прочитал:
АКСОЛОТЛЬ
мексиканское земноводное,
постоянно живёт в воде,
где и мечет икру на камни и растения.
Питается живым кормом и полосками мяса.
Вырастает за год до 27 см.
«Впечатляющая зверюга!» – подумал Д. и двинулся дальше, туда, где продавались засушенные морские звёзды и морские раковины. Последние заставили его опять остановиться.
«Какое обилие форм, какие линии, какая пластика, какой колорит! – восхищался Д. про себя. – Столь расточительна природа на всяческую красоту! Для кого всё это сотворено? Кто любуется этим на дне морей и океанов?»
Купив для своих рыбок свежего крупного мотыля и сушёных дафний, Д. отправился в птичий ряд, откуда доносились щебет, щёлканье и трели разнообразных пичуг. Здесь он простоял минут десять около большого зелёного говорящего попугая, который сидел на жёрдочке в большой старинной клетке и не произносил ни слова. Его хозяйка – коротко остриженная темноглазая молодая женщина – объясняла собравшимся вокруг него ребятишкам: «Он не всегда говорит. Он говорит только тогда, когда у него хорошее настроение и когда он не хочет есть. Сейчас он голоден и настроение у него не очень хорошее. К тому же он стесняется посторонних людей – он очень застенчив».
Далее торговали мелкими млекопитающими – кроликами, морскими свинками, хомяками, белыми мышами. Один мальчик продавал пегую, чёрно-белую крысу с довольно противным, голым, розовым хвостом. Одна старушка продавала нутрию. Нутрия сидела в сумке для провизии и не двигалась. Была видна её широкая волосатая спина бежевого цвета. Старушка поглаживала зверя по спине и рассказывала покупателям, как быстро это животное растёт, как мало оно требует ухода и какой хороший, прочный, тёплый у неё мех.
Д. вспомнил, что его зимняя шапка сшита из шкурок нутрии, и ему стало жалко эту четвероногую тварь, беспомощную, обречённую на неминуемую скорую гибель. Протянув руку, он погладил бежевую спину и зашагал к воротам.
В скверике всё так же толпился народ, и Д. издалека увидел девочку со смешной дворняжкой. Девочка стояла всё так же гордо и неподвижно, и собака всё так же послушно сидела у её ног. И было видно, что к ним никто не подходил – никому и в голову не могло прийти покупать такого пса.
Д. вдруг почувствовал стыд. Будто он был виноват, что эта дворняга такая нелепая. Будто он был виноват, что её не покупают. Будто он сам должен был её купить.
И Д. не пошёл к трамвайной остановке через сквер. Он свернул налево и двинулся в обход по соседней улице, хотя это было гораздо дальше.
Комментарий
Действительно, немножко странно, что вуалехвостки вдруг так погрустнели. Хотя, если подумать, что же здесь странного? Может быть, вода не очень чистая. Может быть, как решил Д., корм не очень вкусный. Может быть, состояние атмосферы стало почему-то неблагоприятным. А может быть, в организме рыбок происходят какие-то вполне естественные и отнюдь не опасные изменения, что и отражается на их самочувствии. Да мало ли какие могут быть причины. Вероятно, Д. понапрасну тревожится. Но хорошо, что он незамедлительно отправился за новым кормом на звериный рынок. Но хорошо, что так заботится о своих рыбках.
Девочку же, которая продавала собаку, очень жаль. Она, наверное, на самом-то деле и не продавала её. Она просто хотела её кому-нибудь отдать, подарить, она просто хотела, чтобы у собаки был хоть какой-нибудь хозяин, чтобы кто-нибудь хоть немножко о ней заботился, ей просто не хотелось бросать собаку на произвол судьбы. Но никто даже даром не желал её брать, даже даром. И это было ужасно.
Эпизод девятый Не ленитесь меня любить
В воскресенье в два часа с четвертью Д. и Зиночка встретились у входа в Парк культуры (Зиночка немножко опоздала).
Выйдя из автобуса, Зизи огляделась и заметила в отдалении знакомую мужскую фигуру. Проведя рукою по волосам и поправив ремешок сумочки на плече, она направилась к Д. Она шла, не торопясь и улыбаясь. Ей было приятно, что Д. уже поджидает её и в руке у него большой тёмно-красный пион. Ей было приятно вот так, медленно, приближаться к Д. и улыбаться ему издалека, зная, что он любуется её стройной фигурой, её красивыми ногами, её симпатичным светло-серым костюмчиком, который так подходит по цвету к её чёлке. «А славный он, этот Д.! – думала Зиночка, топая по слегка размягчившемуся от солнца асфальту и придерживая рукою ремешок своей сумочки. – Правда, он чуточку чудаковатый, но это даже интересно, это необычно, это волнует. Погода отличная, и мы с ним отлично погуляем в парке. А после он, наверное, пригласит меня в кафе, и мы вкусно пообедаем. А после…» Тут Зизи перестала думать, потому что Д. уже был совсем рядом.
«Она всё-таки прелестна, – думал Д., глядя, как Зиночка не спеша пересекает площадь и улыбается ему, и как-то очень изящно придерживает рукою ремешок своей сумочки, и с какой-то удивительной грацией ставит свои точёные ножки в белых туфельках на асфальт. Как хорошо нам будет вдвоём в этом парке! Сначала мы погуляем. Потом посидим в кафе. А потом…» И Д. протянул подошедшей, улыбающейся Зизи огромный пион.
– Какой роскошный! – воскликнула Зиночка. – Я таких никогда не видела! Вы меня балуете!
А Д. с наслаждением целовал ей руку. Сначала сверху, где под кожей ощущались косточки, а у основания пальцев были очаровательные ямочки, такие же, как и на щёчках Зизи, когда она улыбалась. После он перевернул руку и стал целовать ладонь снизу. Здесь всё было нежное и мягкое, и казалось, что никаких косточек в Зиночкиной ладошке нет, да и быть не может. Насладившись поцелуем, Д. взял Зиночку под локоть, и они направились к кассе. На минутку выпустив Зиночкин локоток, Д. приобрёл два билета. Старушка-пенсионерка, сидевшая на стуле у ворот, бросила недобрый взгляд на Зиночкину чёлку и надорвала билеты. Теперь туфельки Зизи постукивали уже не по асфальту, а по доскам деревянного моста. Перейдя мост, парочка двинулась по неширокой тенистой аллее в зелёные кущи парка.
– Что это за птицы? – спросила Зиночка, показывая на шевелящуюся траву.
– Ай-ай-ай! – сказал Д. – Грешно не знать. Это же скворцы! Обыкновенные скворцы, для которых на деревьях развешивают скворечники!
– Неужели? – удивилась Зизи. – Но мне простительно. Я горожанка. Мне знакомы только воробьи, голуби и вороны. Ещё сороки – они так противно трещат. – Она шла рядом с Д., помахивая снятой с плеча сумочкой и с удовольствием ощущая его руку под своим локтем. При этом она тихонечко прижималась к Д. плечом и бедром, и это тоже доставляло ей удовольствие. «Да, он неплохой мужик, – думала Зиночка, – умный, воспитанный, интеллигентный, порядочный. Животных любит. Значит, добрый. Только женат, небось. Все они, такие воспитанные, давно уж женаты. Девки не дуры – таких не упустят. Хотя у него в квартире ничего женского вроде бы не было… или я просто не заметила?»
Д. чувствовал, что Зизи к нему прижимается, и это его волновало. Он косился на Зиночкину чёлку, которая была совсем рядом, и нежно прижимал её голую руку пониже локтя. «Сколько в ней женского шарма! – думал он. – Сколько природной грации! Как она стоит! Как она ходит! Как носит свою сумочку! Правда, она не слишком интеллигентна и, кажется, мало читает. Но ведь она всего лишь продавщица в кафе. Зачем ей интеллигентность? Так сложилась её судьба. Не всем же быть интеллигентными. Зато она настоящая женщина!»
Они приблизились к пруду. Здесь плавали лодки. Слышались скрип уключин, плеск воды, женский смех и магнитофонная музыка.
– Не хотите ли покататься? – спросил Д.
– Очень хочу! – сказала Зизи.
Взяли лодку. Зиночка уселась на корме. Д. сел на вёсла. Поплыли. Д. уже давно не грёб, и у него плохо получалось. Вёсла то скользили по поверхности воды, то погружались слишком глубоко. Лодка дёргалась, виляла, вертелась на одном месте. Два раза столкнулись с другими лодками. Зиночка смеялась. Ей это очень нравилось. Она думала, что Д. просто озорничает, чтобы её развеселить. Зиночка хохотала. Д. кусал от досады губы. Лодка переваливалась с боку на бок. Врезались носом в берег. От толчка Зизи едва не упала в воду и стала хохотать ещё громче. Но вскоре Д. освоился, привык к вёслам, и лодка легко заскользила мимо зелёных берегов, минуя заросли водорослей и кувшинок. Чёлка у Зиночки слегка растрепалась. На юбке её темнели пятна от водяных брызг. На Зиночкино плечо села жёлтая бабочка-капустница. Зиночка этого не замечала. Д. глядел на бабочку и улыбался.
– Что вы улыбаетесь?
– Не скажу!
– Нет, всё-таки скажите, что вы улыбаетесь?
– Ни за что не скажу.
– Тогда я обижусь.
– Ладно уж, скажу. У вас на плече сидит бабочка. Она как брошка. Очень красиво. Не сгоняйте её.
Зизи осторожно повернула голову. Бабочка вспорхнула и улетела.
– Жаль, – сказал Д. – Она была не лишняя. Жёлтое вам идёт. Жёлтое с рыжим хорошо сочетается.
– Да, – согласилась Зизи, – жёлтое мне идёт. И тёмно-синее мне идёт и светло-серое тоже.
«Сколько ей лет? – подумал Д., выгребая назад, к лодочной станции. – По виду ей года двадцать три, двадцать четыре. Отчего же замуж до сих пор не выскочила? Привередлива, наверное. И этот не подходит, и тот недостаточно хорош. Привлекательные женщины частенько подолгу не выходят замуж. Всё ждут своего принца. Неужели я и есть долгожданный царевич?»
Покинули лодку. На сей раз Зизи сама взяла под руку Д. и ещё крепче к нему прижалась. Снова пошли по аллее. Она привела их к городку аттракционов. Шум, гам, визг, грохот. Что-то вертелось. Что-то взлетало к небу. Что-то раскачивалось в воздухе. Что-то металось по огороженной площадке.
– Что выбираете? – обратился Д. к Зиночке.
– Осьминога! Конечно, осьминога! – воскликнула Зиночка и, выпустив руку Д., бросилась к низенькому заборчику, за которым перебирало гигантскими лапами ужасающее, пёстро раскрашенное чудище.
Забрались в тесную кабинку. Сели рядышком. Д. обнял Зизи за плечи. Она положила голову ему на плечо. Загудел мотор. Страшилище дрогнуло и стало вращаться на одном месте, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее. При этом изогнутые лапы его с подвешенными к ним кабинками то опускались, то подымались, а огромные глаза то и дело вспыхивали зловещим фиолетовым огнём.
– Как страшно! – смеялась Зиночка. – Как здорово! – шептала она в ухо Д. И Д. чувствовал, как её чёлка касается его щеки. И он млел от удовольствия. И он гладил Зиночкину коленку, а Зизи этого вроде бы не замечала.
Но вращение вдруг стало замедляться, и лапы перестали раскачиваться. Сделав ещё пару оборотов, осьминог замер. Д. и Зиночка повисли в своей кабинке метрах в четырёх от земли.
– Как интересно! – сказала Зизи. – Теперь нам отсюда не выбраться! Теперь мы погибнем!
Из громкоговорителя донеслись слова:
– Граждане на осьминоге! Не беспокойтесь! Сейчас вас спустят на землю. Приносим извинения за поломку механизма.
Появились двое плечистых, загорелых, голых до пояса парней. Они пригибали к земле осьминожьи лапы и помогали застрявшим сойти на землю. Один из парней подал руку Д., а другой взял Зиночку на руки. С милой непосредственностью Зизи обняла парня за шею. В Д. шевельнулась ревность. А парень, как назло, не торопился поставить Зиночку на землю – отчего же не подержать на руках хорошенькую девушку, если представилась такая возможность? А Зизи ничуть не смущалась, и её голова лежала на плече у парня точно так же, как лежала она только что на плече у Д. А Д. уже начинал злиться, но виду не показывал и терпеливо ждал, когда Зиночка наконец приземлится. А парень, наглец такой, всё держал Зизи на руках, как ни в чём не бывало, и глуповато ухмылялся, почти как Гоша Мятый. И Д. уже двинулся было к парню, чтобы отнять у него свою возлюбленную, но тот наконец-то поставил Зиночку на асфальт, и скандал не произошёл.
И снова Д. и Зизи, взявшись под ручку, шли по аллее, но Д. был сердит и молчал.
– Не сердитесь! – сказала Зиночка. – Я же не виновата!
И Д. вскоре успокоился: ведь действительно Зиночка была не виновна, а парень вёл себя нахально.
Помолчав, Д. сказал Зизи, что фотографии уже отпечатаны, и они, как ему кажется, весьма недурны. Зиночка встрепенулась, обрадовалась, стала благодарить Д. и потребовала, чтобы он ей всё немедленно показал. И они направились к выходу из парка, а после ждали троллейбус на остановке, а потом они опять сидели рядышком, но уже в троллейбусе, и Д. опять положил свою руку на округлую, волнующую Зиночкину коленку. И в этот момент откуда-то издалека-издалека до ушей Д. донёсся чей-то тихий, робкий голос: «А конец света? Ведь он приближается!» – «Чушь! – подумал Д. – Никакого конца не будет!» И нежно пожал пальцами коленку Зизи, а Зиночка положила свою ладошку на пальцы Д. и тоже нежно, даже очень нежно, погладила их. Но голос не унимался: «А ну как вдруг? Ведь нет же никакой гарантии!» И тогда Д. подумал: «К чёрту! Надоел мне этот конец света! Что он ко мне привязался? За что мне это наказанье? Все живут и веселятся, только мне лезут в башку эти ужасы! К дьяволу!» И голоса уже не было слышно. Он умолк. Автобус ехал по городским улицам, проезжал по набережным, переезжал мосты, и рука Д. по-прежнему сжимала Зиночкину коленку, а Зиночкина ладошка по-прежнему лежала на руке Д.
Вошли в квартиру. Зизи повесила свою сумочку на вешалку, бросила взгляд на себя в зеркале, сняла соринку с подола юбки, вошла в комнату и направилась к аквариуму. Рыбки медленно плавали у поверхности воды. Их хвосты безжизненно свисали вниз. Вид у них был скучноватый.
– Отчего они такие грустные? – удивилась Зиночка. – Они нездоровы? Или у них плохое настроение?
– Не знаю, – ответил Д. – Меня и самого это беспокоит. На них нашла какая-то меланхолия. Почти не двигаются. Почти ничего не едят. Купил для них свежий корм, но аппетит у них не появился. Попробую сменить воду – авось это поможет.
– Да-да, обязательно смените воду, поскорее смените воду! – сказала Зизи. – А где фотографии?
Д. вытащил из ящика письменного стола пачку фотографий и разбросал их на журнальном столике. Глаза у Зиночки загорелись. Она с жадностью и с восхищением разглядывала отпечатки, перекладывала с места на место, смотрела на них издали, подносила их к лицу и снова смотрела издали.
– Неужели я такая красивая?
– Как видите! – отвечал Д.
– Неужели у меня такие глаза?
– Именно такие, – отвечал Д.
– Неужели у меня такая чёлка?
– Клянусь вам, точно такая!
– Прекрасные фотографии!
– Да, фотографии вышли недурные.
– Нет, нет, просто изумительные фотографии!
– Согласен, фотографии изумительные. Но дело в том, что сами вы, Зизи, изумительны. Фотографии лишь добросовестно воспроизводят натуру.
– Нет, нет! Это настоящее искусство! Вы талантливый фотограф! Вы мастер! Больше всего мне нравятся вот эта, эта, ещё вот эта и, конечно, вот эта! Нет, они все хороши! Все до одной! Удивительно! Я не ожидала! Никто ещё меня так не фотографировал! Не было у меня ещё никогда таких фотографий! Спасибо! Нет, это просто здорово! Я сама в себя влюбляюсь! Как это вам удаётся? Может быть, у вас какой-то особенный аппарат?
– Нет, аппарат самый обыкновенный. Такой можно купить в любом фотомагазине. Но есть одно немаловажное обстоятельство, которое, вне всяких сомнений, благотворно повлияло на качество фотографий. Оно вдохновило меня. Оно меня окрылило. Оно позволило мне сфотографировать вас, милая Зизи, наилучшим образом.
– Какое же это обстоятельство?
– А вы не догадываетесь?
– Нет, не догадываюсь.
– А вы подумайте.
– Думаю. И всё равно не догадываюсь.
– А вы получше подумайте.
– Сейчас постараюсь. Нет, знаете ли, не помогает. Никак не догадаться.
– Неужели никак?
– Нет, никак.
– Не может быть!
– Честное слово, никак!
– Какая вы притворщица, дорогая Зиночка! И как вам идёт это милое притворство! Дело в том, что вы мне нравитесь, Зиночка! Вы мне чертовски нравитесь! Вот это-то меня и вдохновило. И окрылило. И позволило… Вот это-то и есть то самое обстоятельство.
– Неужели оно?
– Да, да, оно!
– Так вы меня, значит, любите?
– Значит, люблю.
– И сильно любите?
– Кажется, сильно.
– А за что же вы меня так сильно полюбили? За чёлку? Во мне же нет ничего такого… Я простая девушка. Мороженым торгую. Кофе в чашки наливаю. Образование – специальное среднее. Торговый техникум. А вы человек умный, интеллигентный, способный. Дело какое-то важное делаете. По ночам не спите. Всё думаете. И фотографируете здорово.
– Ах, Зизи! Какое там к чёрту образование? Разве в нём дело? Вы очаровательны. Вы пикантны. Вы соблазнительны. Вы женщина совершенно в моём вкусе! Совершенно!
– И долго вы будете меня любить?
– Конечно, долго! Очень долго! Наверное, всегда.
– Это меня устраивает. Любите меня как следует. Не ленитесь меня любить.
Зиночка обняла Д. за шею двумя руками и поцеловала его долгим, влажным, жарким поцелуем. Д. гладил Зиночкины лопатки. Они были трогательно худенькие, острые, и казались очень хрупкими. После руки Д. опустились пониже. В отличие от лопаток, ягодицы Зизи были упругими и округлыми. Руки Д. задержались на ягодицах. А Зизи всё ещё целовала его влажным, горячим, чувственным поцелуем…
Но и на этот раз осторожная, разумная Зиночка не уступила желанию Д.
– Сейчас не надо! – шептала она ему. – После! Прошу вас, сейчас не надо!
– Но отчего? – удивился Д.
– Вы как ребёнок! Неужели не понимаете? Я не вполне здорова. После.
Приведя себя в порядок, Зиночка снова стала любоваться фотографиями. Она перекладывала их с места на место, сортировала, разделяла на кучки. И всё восхищалась. И всё ахала. И всё вздыхала от наслаждения.
– А как я вам больше нравлюсь, – спросила она у Д., – в профиль или в анфас? Я себе больше нравлюсь в анфас. Тогда глаза выразительнее и чёлка вся на виду.
– Вы, Зизи, вполоборота очень недурны, – заметил Д., – в этом случае светотень получается более эффектной. А когда вы сняты до пояса, видны ваши руки. Это тоже кое-что стоит.
– А когда я снята во весь рост, – продолжала Зизи со смехом, – видны ещё и ноги, и это такая роскошь!
– Да, это действительно немыслимая роскошь! – согласился Д. – Вызывающая, безумная роскошь! Как вам не совестно, Зизи, иметь такие ноги! Как вам не стыдно ходить с такими ногами по улице и ездить с ними в метро? Своими ногами вы обижаете всех прочих женщин. Ваши ноги для них как пощёчина.
– Но куда же мне их деть, как же мне их спрятать? – спросила Зиночка вполне серьёзно.
– Ума не приложу! – ответил Д. – Конечно, вы можете всё время ходить в брюках. Но ведь, наверное, и тогда будет заметно, что ноги у вас хоть куда. А очень длинные юбки сейчас не модны. Ох, Зизи! Угораздило же вас родиться с такими сногсшибательными, с такими фантастическими ногами. Беда мне с вами, Зизи! Просто беда!
– Мне пора! – сказала вдруг Зиночка.
– Да что вы, Зизи! Да куда вы так торопитесь! Да ведь ещё совсем рано! – обиделся Д. – Я отвезу вас! Я провожу вас до дому!
– Нет, – упорствовала Зиночка, – я привыкла рано возвращаться домой и не люблю, когда меня провожают.
– Вы живёте с родителями? Они вас безумно любят? Они беспокоятся, когда вы задерживаетесь? Но, может быть, у вас есть телефон? Давайте позвоним из автомата вашим родителям! Автомат рядом, у самого парадного.
– У меня, к сожалению, нет телефона, и поэтому мне пора, – сказала упрямая Зизи. – Пожалуйста, заверните фотографии в бумагу.
Д. положил пачку фотографий в чёрный конверт из-под фотобумаги, а конверт завернул в газету. Потом он сбегал на кухню, принёс оттуда бечёвку и для надёжности обвязал ею получившийся пакет. Узелок он сделал бантиком и затянул его покрепче. Потом он обнял Зизи на прощанье. Зизи холодно дала поцеловать себя.
– Не обижайтесь, – сказала она. – К сожалению, я сегодня не в форме. А когда у женщин бывает такое, они становятся капризными, вы это знаете. И спасибо вам ещё раз за фотографии. Вы гениальный фотограф!
Зиночка вошла в автобус. Он был пустой. Д. видел, как, бросив пакет на сиденье, Зиночка подошла к кассе, опустила в щёлочку монету, оторвала билет, засунула его в кармашек своего пиджачка, вернулась к сиденью, взяла в руки пакет и уселась, положив пакет на колени. Тут она обернулась и, улыбаясь, помахала Д. ладошкой. Д. тоже помахал ей. Автобус почему-то не трогался. Шофёра, видимо, развлекала эта сцена прощания. Или он почему-то сочувствовал Д., понимая, как грустно ему расставаться с такой симпатичной девушкой. А может быть, это напомнило ему что-то знакомое и волнующее или он просто был от природы сентиментален. Правда, водителю автобуса сентиментальность совсем не нужна. Пожалуй, она ему даже вредна. Но, наверное, встречаются и сентиментальные водители. Они стараются скрывать свою чувствительность, но от случая к случаю она всё же прорывается, и вот сейчас-то и был такой случай. Впрочем, причиной задержки могла быть и некоторая неисправность мотора или чего-нибудь там ещё.
Автобус наконец тронулся. Зиночка ещё раз обернулась и ещё раз помахала. И Д. ещё разочек ей помахал.
Автобус уехал. Д. продолжал стоять у остановки. Ему было хорошо, но притом и немножко тревожно, и немножко печально, оттого что Зизи была так холодна с ним сегодня и оттого что вела она себя немножко загадочно. И опять услышал Д. тихий, но твёрдый голос: «Не печалься. Какие уж теперь могут быть печали. Скоро же всё кончится. Ты понимаешь – ВСЁ кончится, ВСЁ!» И на сей раз Д. ничего не ответил и не попытался защититься. Он стоял на остановке один. Зизи уехала. Был вечер. Было прохладно. И приближался конец света.
Подошёл ещё один пустой автобус. Шофер открыл двери, предполагая, что Д. войдёт. Но Д. не пошевелился. Двери закрылись. Автобус уехал. Д. всё стоял на остановке. Подошёл третий автобус. Двери снова открылись и закрылись. Автобус уехал. Д. всё стоял на остановке.
Комментарий
Этот день, несомненно, был самым замечательным в жизни нашего Д. Что может быть лучше такого светлого, тёплого летнего дня, проведённого в обществе прелестной девушки, к которой ты изрядно неравнодушен, которая непрестанно и сладостно волнует тебя. Что может быть лучше ощущения этой близости, этой доступности обожаемого существа? Что может быть лучше этих случайных и неслучайных прикосновений ладоней, локтей, плеч и колен? Что может быть лучше этого томительного запаха, исходящего от любимой женщины, от её волос, от её одежды, от её тела? Что может быть лучше её голоса с совершенно неповторимыми, упоительными интонациями и её мелодичного смеха? И всё было бы совершенно чудесно, если бы время от времени не доносился до ушей Д. этот мрачный, беспощадный голос, вещавший о грядущем светопреставлении, и если бы Зизи оказалась «в форме», и если бы не вела она себя несколько странно. Впрочем, последнее, быть может, только чудилось, только казалось нервному и мнительному Д. Да, конечно же, это ему только чудилось. А как славно, что на Зиночкино плечо уселась бабочка, желая, видимо, сделать Зизи окончательно неотразимой, желая, видимо, чтобы сердце и без того влюблённого Д. всё целиком очутилось в её тонких пальчиках с перламутровыми острыми ноготками!
И теперь уже вроде бы не скажешь, что Д. одинок и несчастен, что только рыбки и таинственное его дело остались для него утешением. Скорее наоборот. Теперь можно сказать, что Д. почти счастлив. Что у него есть всё, что ему нужно, – и любимая Зиночка, и любимые рыбки, и любимое, великое его дело.
Эпизод десятый Слишком много народу
Д. шёл по улице. Шёл так, как обычно ходят по улице. Шёл по тротуару, придерживаясь правой стороны. Можно было бы, конечно, идти и по левой стороне, но тогда он то и дело натыкался бы на пешеходов, идущих навстречу, тоже придерживаясь правой стороны. Это было бы неприятно и ему, и встречным пешеходам. В первую очередь это раздражало бы спешащих пешеходов. Они старались бы увильнуть в сторону, они пытались бы обойти Д., они бросали бы на него неприязненные взгляды. Некоторые из них, вероятно, чертыхались бы, а кое-кто и матюгнул бы его сквозь зубы. Правда, в этом случае у Д. было бы то сладостное чувство, которое испытывает каждый гордый и сознающий своё достоинство человек, плывущий против течения и живущий наперекор злонамеренной и беспощадной судьбе. Но Д. не без основания полагал, что по большому счёту, в символическом, так сказать, смысле, он и так плывёт против течения, преодолевая огромные жизненные трудности, что трудностей этих ему и так хватает, и поэтому по тротуарам безо всякого фанфаронства и позёрства он скромно и благопристойно двигался, как и положено, придерживаясь правой стороны, никому не мешая, никого не раздражая и ни у кого не вызывая ярость. Д. шёл, глядя в спину впереди идущего гражданина и разглядывая хлястик на его пиджаке. Хлястик был обыкновеннейший, зауряднейший, можно сказать, пошлейший. Но Д. всё равно его разглядывал с интересом и размышлял о происхождении этой весьма распространённой детали одежды, как мужской, так и женской.
«Конечно, – думал Д., – сейчас хлястики делают только для красоты, для придания художественной выразительности заднему, так сказать, фасаду человеческой фигуры. Но когда-то, в отдалённые, а может быть, и не слишком отдалённые времена, у хлястиков, несомненно, была практическая, вполне определённая задача – что-то они скрепляли, что-то они поддерживали, а может быть, и что-то прятали, что-то прикрывали. Словом, была от них какая-то польза». Гражданин с хлястиком вдруг обернулся и взглянул на Д. сердито. Видимо, он почувствовал, что Д. уставился ему в спину, и это его почему-то обеспокоило. Через минуту он скользнул в сторону и затерялся среди прочих пешеходов, дисциплинированно державшихся правой стороны. Теперь перед Д. оказалась уже другая спина – женская. Трудно было понять, какого возраста была эта спина, то есть эта женщина. Во-первых, потому что в облике спины возраст запечатлевается не столь уж ярко, а во-вторых, потому что женщины, как известно, стремятся всеми силами скрыть своей подлинный возраст и прибегают для этого ко множеству разнообразных искусных уловок. Фигура у женщины была не то чтобы стройной, но и не грузной, отнюдь не грузной. Ноги у неё были не то чтобы красивые, но и не безобразные – ноги как ноги. Плечи были не чрезмерно прямые, но и не очень покатые – нормальные плечи. И походка ничем особенным не выделялась – так себе походка. На женщине было тонкое шерстяное, бежевого цвета платье с пояском, довольно плотно облегавшее бёдра. Поскольку имелся поясок, то хлястика, естественно, быть не могло. «А впрочем, – подумал Д., – носят же военные свои широкие ремни поверх шинели с хлястиком, и ничего – глядится». Д. мысленно снял с женщины поясок и пристроил ей на спину маленький хорошенький хлястик с двумя изящными бежевыми пуговками. «Вполне возможный вариант! – подумал Д. – Но с пояском, конечно, тоже недурно». Д. надеялся, что незнакомка с пояском тоже обернётся, почувствовав его пристальный взгляд. Однако она не оборачивалась: вероятно, гипноз взгляда на неё не действовал, и Д. даже немножко обиделся, и отвёл глаза в сторону, и стал глядеть на витрины, на афиши, на проезжающие мимо троллейбусы и такси, на людей, которые шли ему навстречу по левой стороне тротуара.
Людей было много, и все они были разные. Во всяком случае, казалось, что все они были разные, а на самом-то деле они, наверное, были одинаковые и отличались друг от друга лишь незначительными деталями, которые можно было не принимать в расчёт. Один чуть повыше, другой чуть пониже. Одна чуть толстовата, другая же могла бы и располнеть чуть-чуть – это её украсило бы. Один ещё совсем юн, на удивление молод. Другой же до неприличия стар, просто дряхл – в чём душа только держится? Однако общего у пешеходов было куда больше, чем индивидуального, и это сразу бросалось в глаза. Все они передвигались с помощью двух нижних конечностей. Верхние же конечности были у них свободны или обременены какими-нибудь небесполезными предметами, чаще всего сумками, сумочками, сетками с поклажей или объемистыми портфелями с массивными запорами и крепкими, массивными ручками. Некоторые дети несли игрушки. Мальчики – игрушечные автомобили, игрушечные танки и игрушечные автоматы. Девочки – кукол, зайцев, медвежат и тому подобных игрушечных существ. Только младенцы, которых не тащили на руках, а везли в колясках, были скрыты от изучающего, любопытствующего взгляда Д. Но Д. доверял своему жизненному опыту и верил, что это тоже люди, хотя и совсем крошечные и не способные пока ещё перемещаться самостоятельно. Ручонки у некоторых младенцев были, однако, видны, и в них тоже были игрушки, только совсем уж простейшие – погремушки, вертушки, пластмассовые пташки и резиновые рыбёшки. Младенцы совали их в рот, пускали пузыри и увлажняли свои подбородки слюнями, явно не соображая, где они очутились и что их ждёт в этом пока ещё им неведомом, но вроде недурно приспособленном для жизни мире.
«Слишком много людей! – думал Д. – И всё новые появляются, совсем свеженькие. Куда столько? Зачем столько? И так ведь уже тесновато – вон на улицах какая толчея! Едут, идут, шагают, топают, ковыляют, а некоторые почти бегут, обгоняют соседей, толкаются, торопятся куда-то. Куда они торопятся? Да, слишком много людей расплодилось, слишком много. Не к добру это. Ясное дело, не к добру. Такое скопище мыслящих двуногих на одной-единственной маленькой планетке! Успеют ли они освоить соседние миры? Если не успеют, они задохнутся в этой теснотище. Ведьма со свалки была права – земля маленькая, места мало. В этой неприятной ситуации светопреставление не выглядит таким уж неожиданным и нелогичным. Пожили, порезвились – и хватит, и довольно. Сколько можно дурака-то валять? Младенцев, конечно, жалко. Ни черта они так и не успеют понять. Но что делать – сами виноваты. Надо было явиться сюда пораньше. Надо было поторопиться. Надо было быть порасторопнее».
Д. увидел витрину посудного магазина. Над витриной была крупная надпись: «Фарфор, фаянс, хрусталь, стекло». Д. вошёл в магазин. Он любил красивую посуду, хотя не покупал её: гости к нему приходили очень редко, да и денег на такую роскошь у него не было.
Сначала Д. с удовольствием разглядывал фарфор. Там, на свалке, видел он лишь осколки всех этих чашек, блюдец, сахарниц, чайников и кофейников. Здесь же они были целёхоньки и страшно привлекательны. «Вот этот сервиз я, пожалуй, купил бы!» – подумал Д. Сервиз был выполнен в стилистике рококо, в духе старинного севрского фарфора. Сложность и даже причудливость соединялась здесь с утончённостью и женственностью. Из таких чашечек могли бы пить чай только дамы в кринолинах и кавалеры в шёлковых чулках с кокетливыми бантами ниже колен. Где теперь найдёшь такую публику? Только на полотнах Буше и Сомова. А сервиз, вполне натуральный, стоит на прилавке и соблазняет своей галантностью, своей игривостью, и даже некоторой эротичностью, и даже некоторой фривольностью – всем тем, чем соблазняет нас и соблазнял уже многих неотразимый и незабвенный восемнадцатый век. Налюбовавшись вволю фарфоровой посудой, Д. направился в отдел хрусталя и долго рассматривал сверкавшие гранями и поражавшие своей прозрачностью хрустальные вазы, блюда и кубки. В них тоже было что-то нездешнее, навевающее мысли о временах отдалённых и кажущихся почти нереальными, почти мифическими. Тут же находился стеклянный киоск с надписью: «Гравёрные работы». Седой, носатый и бровастый человек с зелёным пластмассовым козырьком на лбу, к которому были прикреплены очки, склонившись над хрустальной вазочкой, вырезал на ней дарственную надпись с помощью довольно противно жужжащего аппарата, напоминавшего известное орудие, которым стоматологи сверлят своим несчастным пациентам испорченные зубы. Постояв с минуту рядом с гравёром и мысленно поблагодарив судьбу за то, что она уже давно не посылала его в зубную поликлинику, Д. покинул магазин и отправился дальше.
Вскоре дома, стеной стоявшие вдоль улицы, раздвинулись. Открылся обширный двор, со всех сторон ограниченный высокими голыми брандмауэрами. Посреди двора торчала какая-то небольшая постройка с глухими стенами, обнесённая невысоким деревянным забором. Около забора толпился народ. Заинтригованный Д. приблизился к толпе и увидел, что к забору прикреплено множество небольших бумажек, края которых шевелил ветерок. Это были объявления частных лиц. Протиснувшись поближе к забору, Д. с интересом стал читать.
ПРОДАЁТСЯ
новая натуральная каракулевая
ШУБА
46-48 размер, 2-й рост
750 рублей
телефон 254-01-97
___
Пойду няней
к ребёнку от трёх лет
телефон 315-28-18
В центре города, в квартире со всеми удобствами
дёшево! на длительный срок!
СДАЁТСЯ ЖЕНЩИНЕ КОМНАТА
(совместно с проживающей там девушкой)
с условием:
ежедневно, в 10 ч. утра и в 11 ч. вечера
по нескольку минут помогать по уходу за больным
т. 272-38-96
звонить продолжительно
___
Продаются щенки
белого королевского пуделя с родословной.
Родители имеют большие золотые медали.
Пудель не линяет. Замечательная шерсть.
Очень ласков. Звонить в любое время.
Тел. 185-11-09
___
КУПЛЮ СТАРОЕ ИМПОРТНОЕ ПИАНИНО
телефоны:
273-95-61
299-16-82
«А не купить ли мне пуделя? – подумал Д. – Буду его стричь по-разному. Будет он мне квартиру стеречь. И рыбкам будет с ним веселее. Правда, целыми днями ему придётся общаться только с рыбками. Скучать будет, бедный». И тут Д. вспомнил ту несчастную собачонку, которую девочка продавала на зверином рынке. И стало ему совестно. «Её ты не купил, её ты не спас! А теперь вот о пуделе размечтался». Терзаясь угрызениями совести и почти ненавидя себя, Д. отошёл от забора, снова вышел на улицу, снова зашагал по тротуару, придерживаясь правой стороны, поглядывая на прохожих, читая афиши и надписи в витринах магазинов.
Кефир – вкусный, питательный
молочный продукт.
Употребляется в натуральном виде и с сахаром.
Рекомендуется детям и взрослым
всех возрастов.
___
ДЛЯ ВАС, ДЕВУШКИ
Хотите быть одетыми модно, современно, нарядно?
Ждём вас в нашем ателье.
Проходя мимо подворотни, Д. заглянул в незнакомый двор. Он был ничем не примечателен. Стены, окна, балконы, водосточные трубы, голуби на карнизах. Посреди двора валялись деревянные ящики – видимо, поблизости располагался продуктовый магазин. На ящиках сидели женщины, видимо, продавщицы из этого магазина. Сидели они, высоко подобрав юбки и вытянув голые белые ноги – загорали. Видимо, у них был обеденный перерыв, и они решили использовать его для загорания. Лица у женщин были прикрыты платками. Наверное, для того, чтобы не загорало лицо. Сидели они молча и не шевелясь. И на первый взгляд было в этом что-то странное и даже жуткое. Можно было подумать, что женщины эти кем-то изнасилованы, а потом зверски умерщвлены и брошены здесь, в тихом дворе на этих деревянных ящиках не то из-под картошки, не то из-под пива. Рядом шумная многолюдная улица, но никто не догадывается заглянуть в этот двор, никто не знает, что здесь совершено гнусное преступление. Четверо женщин изнасилованы и убиты прямо среди бела дня, прямо посреди двора, в хорошую солнечную погоду во время краткого обеденного перерыва!
В одном из окон за стеклом Д. заметил бородатого старика с маленьким ребёнком на руках. Старик показывал ребёнку на Д. и что-то говорил, улыбаясь. А ребёнок, засунув палец в рот, глядел на Д. с большим интересом. Д. тоже заулыбался, помахал ребёнку рукой, ещё раз взглянул на голоногих женщин и вышел со двора.
Почувствовав, что проголодался, Д. направился в ближайшую столовую, поглядел на меню, вывешенное в вестибюле, и встал в длинную очередь. «Всюду полно народу! – думал Д. – Всюду толпы, всюду очереди, всюду, всюду давка, всюду теснота!» Очередь двигалась медленно. Чувство голода росло. Вместе с ним росла злость на очередь и на двух женщин в белых, изрядно запачканных халатах, стоявших за прилавком и отпускавших первые и вторые блюда. За спинами женщин была видна обширная кухня. Посреди неё стояла широченная плита. На плите располагались огромные кастрюли, сковороды и противни. Клубился пар. Что-то шипело, булькало и скворчало. Пахло пережаренным мясом, луком, подсолнечным маслом и бараньим жиром. Раскрасневшиеся поварихи большими поварёшками перемешивали в кастрюлях какое-то варево. Впрочем, нетрудно было догадаться, что именно варилось. На кастрюлях крупными буквами было написано: «Бульон», «Рис», «Рассольник», «Компот». В сторонке у стены неподвижно сидела старуха в сером фартуке. Руки её были устало опущены между колен. Глаза её были закрыты. Старуха отдыхала. В столь преклонном возрасте трудно, конечно, проводить свои дни в духоте у раскалённой плиты. Но так уж, видно, сложилась жизнь у этой старой женщины. На другую работу она была неспособна, а дети о ней позабыли. А может быть, и не было у неё детей. Или умерли её дети. А она всё живёт и целыми днями ворочает эти гигантские кастрюли и следит за плитой, чтобы она топилась как следует.
Д. поставил на поднос свои тарелки и хотел было направиться к свободному столу. Но свободных столов не было. А у некоторых уже стояли люди, поджидая, когда освободятся. Голод и раздражение достигли апогея. «Чёрт бы побрал эту столовку! – ругался Д. про себя. – Вечно здесь очередь! Вечно здесь толкучка! Вечно здесь усесться негде!» Но тут же появилось свободное местечко у окна, и Д. сел. Ел он медленно, спешить было некуда. Напротив него сидел какой-то странный тип. Трудно было сообразить, сколько ему лет и кто он, собственно, такой. Голова у него была совершенно голой. Однако не было впечатления, что она побрита. Похоже было, что человек был от природы совершенно безволосым. Уши были плотно прижаты к черепу, и от этого голова выглядела как большое, гладкое, продолговатое яйцо. Человек ел старательно, громко чавкая и энергично двигая челюстями. При этом на лбу у него то и дело появлялись глубокие морщины и всё лицо ходило ходуном. «Чудной какой человек! – думал Д., украдкой поглядывая на соседа. – Есть в нём нечто нечеловеческое. Будто инопланетянин какой-то. Быть может, он и впрямь инопланетянин? Где же ещё может пообедать инопланетянин, как не в этой простой, дешёвой столовой? Денег у него наших, земных, конечно, мало – откуда он их раздобудет? Вот, прилетел, почувствовал запах еды, наскрёб в карманах немножко мелочи, сидит, лопает. Он ещё даже и увидеть-то ничего не успел. Прямёхонько в столовку. Проголодался в дороге. Явно инопланетянин. Типичный к тому же инопланетянин. Таких вот и показывают во всяких фантастических фильмах. Предложить ему, что ли, трёшку? Жалко парня».
Пока Д. насыщался, в столовой стало посвободнее. Все столы были заставлены грязной посудой – почему-то её не убирали. Это производило крайне неприятное впечатление. Даже аппетит от этого портился. Наконец появилась молоденькая девица в очень коротенькой юбочке и в очень грязном, вероятно, когда-то белом, фартуке. Она принялась неторопливо собирать грязные тарелки и погружать их на алюминиевую тележку. Вилки и ложки то и дело падали на пол, и девице приходилось то и дело нагибаться и подымать их с полу. При этом коротенькая юбочка уже вовсе не могла скрыть её ноги в коричневых колготках, и они были видны почти полностью, до самых ягодиц. «Небось ленива, – подумал Д., – плохо училась в школе, не поступила ни в институт, ни в техникум, вот и собирает здесь посуду с объедками, вот и возится с этими ложками и вилками. Замуж бы ей поскорее выскочить, дурёхе».
Д. вспомнил о Зиночке. Тоже ведь, наверное, плохо училась. Поэтому и образования путного нет. Потому и торчит за кофейным аппаратом, несмотря на всю свою обворожительность. «Но отчего же всё-таки она до сих не замужем? – опять подумал Д. – Или она уже побывала замужем, муж попался неудачный, и она с ним развелась?»
И снова Д. очутился на улице. И снова он оказался в толпе пешеходов. Навстречу ему по правой стороне тротуара медленно и торжественно двигалось шествие. Впереди шёл совсем ещё молоденький отец, бережно прижимая к груди небольшой, перевязанный розовой лентой свёрток с новорождённым младенцем. За ним следовала такая же юная, миловидная мать с большим букетом цветов. За нею следовали родственники – человек семь-восемь. У всех были сияющие, счастливые лица. На них смотрели, на них оглядывались, и им это явно нравилось. Судя по всему, они только что вышли из дверей родильного дома, который находился где-то неподалёку. Вероятно, жили они тоже где-то рядом и потому не взяли такси, а отправились пешком, демонстрируя всем своё счастье. «Вот и ещё кто-то появился в мире, – подумал Д. – Народу множество, а он всё прибывает и прибывает, и его становится всё больше и больше, и конца этому не видно. Скоро не то что яблоку, а клюковке негде будет упасть, брусничинке некуда будет скатиться! Не к добру всё это, не к добру! Плодятся, размножаются неудержимо, с бесшабашностью необъяснимой! Не кончится это добром, не кончится!»
У входа в метро продавали пирожки с мясом. У продавщицы была незаурядная внешность. Продавщица блистала красотой. Кудри чёрные до плеч, перехваченные ярко-алой лентой. Чёлка подвитая, вся в колечках, до самых глаз. Глаза большие и тоже чёрные, с выпуклыми голубыми белками. Ресницы длиннющие, изогнутые, тоже очень чёрные. Нос прямой, крупный, с широкими, чуть вывернутыми ноздрями. Кожа смуглая, матовая, чистая. Кисти рук узкие, запястья тонкие, на них браслеты, вроде бы золотые. Ногти широкие, покрашенные пурпурным лаком. Кофточка тоже чёрная, с крупными красными розами, как бы небрежно разбросанными на чёрном.
«Ничего себе продавщица! – подумал восхищённый Д. – Вылитая Кармен! У такой можно ящик пирожков купить и погибнуть, объевшись ими!» Между тем пирожки не очень-то покупали – мало было ценителей цыганской красоты. Д. полез было в карман за кошельком, да вспомнил, что он только пообедал. Есть ему и впрямь вовсе не хотелось. Полюбовавшись красавицей, Д. вошёл в вестибюль и направился к эскалатору. Д. медленно спускался на эскалаторе. Мимо проплывали подымавшиеся люди. «Как разнообразны человеческие лица! – думал Д. – Но притом и довольно однообразны. Обязательно – нос. Обязательно щёки. Обязательно – глаза. Глаза, между прочим, тоже довольно разные: серые и голубые, карие и чёрные. Попадаются зелёные. Встречаются жёлтые. И выражение глаз у всех неодинаковое. Хотя, опять-таки, и весьма похожее. У всех в глазах некоторая покорность и нечто похожее на ожидание».
«Чего они ждут? – подумал Д., – неужто конца света? Неужто всем уже известно, что надвигается катастрофа? Глупости! Об этом знают только двое – старуха-пророчица и я. Остальным знать об этом не следует. Остальным знать это вредно».
Служительница в форменной фуражке с красным околышем, сидевшая внизу, в прозрачной будочке, мирно спала. Феномен человеческого разнообразия и однообразия одновременно её, как видно, не волновал абсолютно. Два потока людей обтекали её, как маленький островок, как цитадель неподвижности и постоянства в этой вечной человеческой суете, в этом вечном стремлении куда-то и зачем-то.
В перронном зале народу было ещё больше. Д. был со всех сторон зажат человеческими телами. На пятки ему кто-то наступал. В бока ему упирались чьи-то локти, в правое колено его тыкался острый угол то ли сумки, то ли портфеля, по левой лодыжке его стучало тоже что-то твёрдое, а в спину давил некий большой и мягкий предмет, судя по ощущению, похожий на подушку. «Господи милостивый! – думал Д. – Зачем столько людей? Теснотища же невероятная! Неудобство же великое! И все спешат! И все пихаются! И все стараются пролезть вперёд! И всем там, впереди, что-то надо! И никто не хочет остановиться! И никто не желает отставать! Так и идут толпой неведомо куда! Да, катастрофа неминуема! Да, катаклизма не избежать! Да, да, конец уже близок! Он даже нужен, этот конец! Не может же так дальше продолжаться!»
Комментарий
Вряд ли здесь требуется какой-то комментарий. Всё и так понятно. Д. чрезмерно впечатлителен и склонен к пессимизму. Тесновато, конечно, уже на земле. И впрямь слишком много народу расплодилось. Однако есть ещё места совсем не заселённые, есть ещё обширные пустые пространства, где воздух чист и легко дышится. Вместо того чтобы шататься по многолюдным улицам и толкаться в метро, следовало нашему дорогому Д. поехать за город, побродить по лесу, потом выбраться на широкое поле, поглядеть из-под руки окрест, восхититься далями неоглядными, понюхать какой-нибудь скромный полевой цветочек, полюбоваться стрекозами, порхающими над канавой, полежать в траве, глядя, как в небе проползают облака, и от всего этого пессимизма ни черта бы не осталось. Хотя как знать. Стрекозы-то стрекозами, но без метро теперь не обойтись. А там всегда давка.
Эпизод одиннадцатый Был ли ты когда-нибудь счастлив?
Гошу Д. увидел издалека. И, естественно, рядом с пивным ларьком. Д. подошёл к ларьку. Гоша, как всегда, клянчил пиво. Увлечённый этим важным делом, он не замечал Д.
– Ах, мужики, – говорил Гоша с чувством, – ежели бы у меня водились гроши, я бы всех вас, чудил, каждый день пивом поил! А вы, засранцы, на донышке не хотите оставить! Мне, человеку немолодому и заслуженному, человеку нелёгкой, можно сказать, трагической судьбы, мне, человеку бедному и одинокому, не желаете оставить несколько капель этого паршивого мутного пива! Был бы я побогаче, был бы у меня кошелёк потолще, были бы у меня карманы не дырявые, такую ослиную мочу я ни за что бы и пробовать не стал! Пил бы я «Московское» или «Двойное золотое», или чешское – «Праздрой» там какой-нибудь или «Сенатор». «Сенатор», мужики, скажу я вам, это действительно стоящий напиток, падлой буду! Были бы у меня деньжата, я бы вас, жадюги, одним «Сенатором» поил! Вот ей-богу, не брешу! Хошь три бутылки, хошь пять! Пей! Наслаждайся! Наливайся до ушей, до маковки! И помни меня, Гошу Мятого, человека широкой русской души! Да нету у меня, братцы, ни гривенника погнутого! Падлой буду, нет! И вы должны осознать мои крайне бедственные финансовые обстоятельства. Должны понять, посочувствовать, проявить гуманность и помочь. Разве я не человек, мужики? Взгляните на меня – разве я не человек? Взгляните внимательно – я такой же, как вы! Как и у вас, у меня есть голова с ушами. Руки-ноги у меня тоже есть. И задница, между прочим, у меня тоже имеется. Да ё-моё, мужики! Вы что, не видите? Я такой, как вы, мужик! И так же, как вы, я пива хочу! Хрен с ним, пусть оно мутное! Я и мутного хочу! Да неужто нет у вас души! Да неужто же сердце вы где-то посеяли? Да неужто нет у вас жалости к брату-человеку? Все же мы братья, все люди-человеки! Все любим пивца глотнуть!
Д. положил руку Гоше на плечо. Тот вздрогнул и испуганно обернулся.
– Хорошо говоришь, Гоша! Прямо как артист, как мастер художественного слова! Прямо как заслуженный, народный артист! Жаль, что нет со мною магнитофона, записал бы и слушал дома каждый вечер перед сном. Молодец, Гоша. А теперь отдохни немного. Кружку свою ты получишь.
– Это ты! – воскликнул Гоша, заулыбавшись радостно. – Это ты, Д., ё-моё! Где ты ошивался? Вот уж неделю жду тебя у ларька, а тебя всё нет и нет! Подумал, уж не случилось ли чего. Навестил бы, да адреса не знаю. Молоток ты, Д., что всё же объявился! Соскучился я по тебе! Падлой буду, соскучился!
Гоша пил пиво, как всегда, с жадностью. Дрожащие пальцы его впились в кружку. Стекло стучало о Гошины зубы. Выпив пиво одним духом, Гоша крякнул, зажмурился, замер. Лицо его выражало неземное блаженство.
– Ещё бы одну! – попросил он.
Д. взял ему вторую кружку. Опустошив её, Гоша произнёс:
– Вот теперь в самый раз! Вот теперь жить можно! Слушай, Д., пойдём ко мне! Гостем будешь! Посидим, полялякаем. Давно не беседовал с интеллигентными людьми. Выставил бы я тебе полбанки, да сам знаешь, какие у меня червонцы. А чай найдётся. Даже пряники у меня есть ванильные. Четыре штуки. Два тебе, два мне – нам хватит.
Д. подумал: «Рыбы у меня не кормлены с утра. Ну да ладно, потерпят ещё часика два. Ничего с ними не случится».
По дороге к Гошиному дому зашли в гастроном. Д. купил пол-литра «Московской», триста граммов докторской колбасы и банку сельди иваси в собственном соку.
– А ты, я вижу, миллионер! – сказал Гоша, нежно прижимая к груди бутылку. – Хорошо, что ты, кореш, не жадный. Жадные все суки, все падлы. Из-за полкружки пива удавятся.
В Гошиной комнате всё оставалось на своих местах. Ничего в ней не прибавилось и не убавилось. Пожалуй, только бутылок под столом стало поменьше.
– Ты что, болел? – спросил Д.
– Угу, прихворнул малость, – ответил Гоша. – Сердце что-то прихватило. Дня три провалялся. Спасибо Варьке. Она бутылки мои сдавала и харчи приносила.
– А врача вызывал?
– Нет, не вызывал. Я же в поликлинике не числюсь. И карточки там моей нет. Когда карточку выписывают, спрашивают: где работаете? А я же нигде не работаю. Что я скажу? Я только в милиции числюсь, как раз потому, что нигде не работаю, потому что я тунеядец. Фиг с ними! Тунеядец так тунеядец. Бутылки собирать – разве не работа? Иногда весь день по помойкам шаришь, а наберёшь штук десять или того меньше. Да из них ещё некоторые побитые или заграничные какие-нибудь, их не берут ни фига. А ведь оттого, что я бутылки эти из мусорных баков выковыриваю, государству польза получается. Их помоют и снова в дело пустят. И не надо будет так много бутылок изготовлять. Я, может быть, больше труженик, чем служащие какие-нибудь отстойные, которые весь день на работе спят или в коридорах курят. Потом их рожи на красных досках висят – работнички, мол, усердные. А я свой хлеб и свою бормотуху добываю самым натуральным, самым честным, можно сказать, пролетарским трудом. А что, нет? Скажи, Д., разве нет?
– Да, Гоша, да! Самым натуральным и честным. У тебя натуральное хозяйство. Сколько поработаешь, столько и поешь. Безо всякого обмана. И налоги тебе не надо платить. И на собраниях всяких скучных томиться не надо. И являться непременно к девяти часам на ближайшую помойку нет тебе никакой необходимости. Счастливый ты, Гоша! Жаль только, что бесплатным медицинским обслуживанием ты не охвачен. Медицина иногда помогает. Хотя, если почитать медицинский справочник, то можно и самому лечиться за милую душу, обходясь безо всяких врачей и поликлиник. Надо тебе, Гоша, скопить рублика три и купить такой справочник. Тогда тебе нечего будет бояться.
– Да я и так ни хрена не боюсь! – воскликнул Гоша. – Подохну – туда мне и дорога. И милиции будет спокойнее.
Гоша рукавом смахнул со стола какие-то засохшие объедки и торжественно водрузил на стол поллитровку.
– Ну, Достоевский, сейчас мы с тобой посидим, как достойные, приличные люди, как аристократы, как камергеры двора его величества, государя императора Александра Второго.
– Отчего же именно Александра Второго?
– Так ведь ты, Фёдор Михалыч, жил при Александре Втором! Забыл, что ли? К тому же царь был приличный – крестьян освободил, и Болгарию тоже.
Гоша извлёк из жёлтого комода две дешёвенькие рюмки. Одна была с трещиной, а у другой была щербинка на краешке.
– Вот, гляди, и рюмки у меня есть. Почти хрустальные. Я их берегу для именитых гостей, таких вот, как ты.
Д. вытащил из кармана пакетик с колбасой и банку консервов.
– А ножик для открывания банок у тебя найдётся?
– А как же! Чем же я открываю свои кильки в томате? Без такого ножика я с голоду подохну.
Сели за стол. Гоша долго устраивался на табурете, ёрзал, подпрыгивал, двигал табурет – то отодвигал его от стола, то придвигал поближе, то ставил локти на стол, то опускал руки на колени. При этом взгляд его не отрывался от бутылки.
Выпили по одной, по второй и по третьей. Гоша размяк. Глаза его слезились. Он непрерывно улыбался, розовые дёсны его блестели. В уголках рта пузырилась слюна.
– Ё-моё! Д! Какое блаженство! Как мало надо хорошему, свободному человеку! Три рюмахи «Московской» и кружок докторской! Ё-моё! Как мало надо для счастья гордому, независимому человеку в конце двадцатого века! Мудаки мы с тобою, Д! Как нас только угораздило очутиться в этом гопницком веке? Будто веков было мало! Почему не живём мы в девятнадцатом или в восемнадцатом? Я согласился бы даже на семнадцатый, фиг с ним! А тебе какой больше по душе?
Выпили по четвёртой.
– Ну теперь уж совсем захорошело! – произнёс Гоша, стараясь подцепить вилкой ломтик селёдки. Ломтик всё ускользал, не подцеплялся. Гоша матерился и терпеливо продолжал подцеплять. – Это как жизнь моя, сука, – продолжал он, – так и осталась в банке, так и плавает в собственном соку, так и гляжу я на неё, облизываясь. Теперь уж и не подцепляю – пусть, думаю, плавает, если ей, курве, так хочется. Не удалась у меня жизнь. А если по правде, то и не было у меня никакой жизни. Так, загогулина какая-то. Всё у меня в жизни как-то криво и коряво получалось. Неудачливый я, несуразный. В школе я прилично учился. Даже четвёрки бывали, иногда. Доучился до седьмого класса, и тут судьба, паскуда, поставила мне подножку. Отметелил я одного отличника, зуб ему выбил передний. Очень уж отвратный был отличник – на дух я его не переносил. Мать побежала в школу, в ногах у директора валялась (отец бросил нас, когда мне и году не было, я его, охламона, и не видел ни разу). Директор сказал: ладно, пусть кончает седьмой класс. Но я не стал кончать. Послал их всех куда надо и в ремеслуху подался. Сделали из меня фрезеровщика. Работал на заводе. Неплохо работал. Даже нравилось мне у станка стоять. Деньги у меня стали водиться. Матери отдавал, но и себе кое-что оставалось. Дружки мои заводские все пили, и я стал прикладываться. Однажды, перед получкой дело было, захотелось нам дёрнуть, но денег не наскребли. Тогда поймали в закоулке какую-то старушку и сумочку у неё реквизировали. Там и было-то четыре рубля с мелочью. Но старушенция не пугливой оказалась. Мы от неё, а она за нами. Мы бегом, и она, зараза, бегом. Бежит за нами и орёт: ограбили! караул! держите!..
Короче, дали нам всем по четыре месяца – по месяцу за рубль. Дёшево вообще-то отделались. Могли бы за рубль и по пять месяцев отвалить. Вышел я на волю, а на работу меня не берут. Я туда, я сюда – не берут, и всё тут. «Откуда, – думаю, – они знают, что я сидел?» А после мне сказали, что в паспорте пометочку делают – мол, судился и был осуждён. Потом приняли меня всё-таки на овощебазу ящики с морковкой таскать. Платили неплохо, даже больше, чем на заводе. Вдруг ревизия какая-то. Оказалось, что морковку эту отвозили не туда, куда надо. Целую банду раскрыли. И меня, невинного, падлы, к этому приплели – мол, знал, что отвозили не туда, куда надо, а не сообщил, куда положено. Ничего мне, слава богу, не дали, улик недоставало, но предложили поискать другую овощебазу. Тут обиделся я сильно. «Да за что же мне, думаю, все эти мучения? Я же не воровал! И от молчания моего никакого приварка не было!» Обиделся, озлился и стал поддавать уже по-большому – из вытрезвителей не вылезал. Мать плакала. Поплакала годика три и померла. От огорчений у неё гипертония сильная началась. После – инсульт. И кранты. Обычная история. А я всё переползал с места на место. Но теперь уж меня за пьянство отовсюду пёрли. Обнищал, оборвался, опустился, запаршивел. Правда, был один светлый эпизод в моей мрачной жизни. Влюбилась в меня кассирша из магазина. Я в этом магазине чернорабочим состоял. Туши таскал, свиные и говяжьи, бочки с капустой перекатывал, картошку к транспортёру подбрасывал – словом, дел хватало. Что она во мне, забулдыге, нашла, уж не знаю. Бабы народ загадочный. Никогда не знаешь, что им, собственно, требуется от мужика. Бывает, что мужик хоть куда, и красивый, и деньги граблями гребёт, а не везёт ему с бабами. Чего-то в нём не хватает. А бывает, мужичишка чмошный – и взглянуть не на что, и карманы пустые. А льнут к нему бабёнки со страшной силой. Да ещё красотки льнут, не какие-нибудь там мымры и лахудры.
Я с виду-то был ничего себе, даже видный. Может быть, это её и прельстило. К тому же она с мужем только что развелась, а женщина она была горячая, ей без мужчины никак было нельзя. Короче, сошлись мы с нею довольно быстро. Сказала, что замуж за меня хочет, что я для неё мужчина подходящий. Правда, пью неумеренно, но ничего – все же пьют, и почти все неумеренно. Поженились. Переехала она в мою комнатёнку. Прописку она старую оставила, но жила у меня. Навела здесь порядок и чистоту. Кальсоны мне штопала и платки носовые стирала. Был я тогда такой чистенький, ухоженный – на удивленье. И был я тогда, можно сказать, счастлив. Первый и последний раз в жизни. Ах, Д! Ё-моё! Был ли ты когда-нибудь счастлив? Я вот был. Есть что вспомнить. По утрам она меня кофием натуральным поила. Кофием со сливками. Сечёшь, Д., со слив-ка-ми! А по вечерам чаем потчевала цейлонским. Коли она в магазине работала, то всё могла достать, всё имела, то, чего у других нет. И всё просила, чтобы пореже надирался. Хотела она ребёнка от меня заиметь. Да побаивалась, что я пьяница – ребёнок может получиться нездоровый, с изъяном каким-нибудь. Береглась, она, ждала, когда буду я совсем трезвый, нормальный. Да как-то нализался я с дружками, пришёл домой очень тёплый и завалил её на постель. Она меня умоляла: «Гоша, милый, не надо! Протрезвей сначала!» А на меня злость нашла. «Жена ты мне или не жена? – заорал. – Моя ты или не моя?!» Она отпихивать меня стала что есть мочи. Я ещё больше разозлился и силой её взял. Через две недели выяснилось, что она беременная. Тут я струхнул. Говорю: «Ничего страшного, сделаешь аборт». Она сначала согласилась. А когда время подошло, отказалась наотрез. «Будь что будет, – говорит, – авось пронесёт!» Родила она парня. Хорошенького такого парнишку. На меня он был похож. Я радовался. Думал: «Теперь уж пить брошу, сына надо воспитывать». А месяца через полтора младенец наш любимый весь какими-то пятнышками тёмными покрылся. И тельце, и личико – всё было в пятнах. Врачи сказали, что такое бывает, что скоро это пройдёт. Да не проходило. Пятнышек становилось всё больше и больше. Словом, похоронили мы сыночка своего на Северном кладбище. Гробик малюсенький был. Я таких маленьких гробиков и не видал никогда, думал – такие и не делают. Не гробик, а коробка какая-то. И лежал он в этой коробке такой красивый-красивый. Пятна после смерти побледнели и не видны были почти. Он, когда умирал, всё ротик открывал, будто хотел что-то сказать. Небось, хотел послать меня, козлину, в дупло. Дело было весной. Сыро было очень. В могилке воды было по колено. Так в эту воду гробик и плюхнули. И остался я без сына. Вечером после похорон взял я бритву и пошёл в ванную. Жена за мной бросилась. Я заперся. Тогда она Варьку позвала. Вдвоём они дверь ногами высадили. А я уж одну вену успел располосовать. Вызвали «скорую», увезли в травмпункт. Вену зашили. Всё обошлось. А ещё месяца через два жена на развод подала. И снова остался я один. И снова пить стал. По-зверски пить стал, по-чёрному. Всё пропил, что осталось у меня от счастливой семейной жизни. Потом приутих слегка, угомонился. Не то чтобы завязал, но до безобразия не доходил. На кладбище бывал каждый месяц. Да и сейчас частенько бываю, хотя уж лет десять пролетело. Цветочки сажаю разные. А зимой снег расчищаю. Весной на кладбище хорошо. Птички щебечут. Травка свежая растёт. Землёй вкусно пахнет. Сяду на скамеечку и гляжу на холмик. «Слышит ли он птичек? – думаю. – Может быть, слышит? Всё веселее ему, бедному, лежать, если впрямь слышит». А тут как-то, года два тому назад, приволокла Варька связку книг. Старичок какой-то, дальний её родственник, в ящик сыграл, и от него книжки эти остались. «Бери, – говорит, – если надо. Я читать их не буду». Тогда и наткнулся я на Артура Шопенгауэра. Раньше я и не слыхал-то о нём в упор. Но когда полистал – сразу сообразил, это всё для меня написано! Ну прямо-таки специально для меня! Ах, Фёдор Михалыч! Падлой буду! Потряс меня этот философ немецкий, разворошил мне душу, распотрошил меня всего, внутренности все наружу вывернул! Раньше думал я, что эта самая философия – муть сплошная, брехня интеллигентская, пижонская. А оказалось, вон оно что. И будто этот Артур был со мною знаком и всё о жизни моей несчастной знал досконально. Теперь его книга для меня как Библия. Перечитываю её постоянно. Даже на кладбище с собою беру. Цветочки посажу, лишнюю траву повыдергаю, руки помою, сяду на скамейку и читаю. Некоторые места вслух читаю сыночку. Ему уж десять годков. Небось соображает кое-что.
Думалось мне раньше, что только я один такой мученик. А оказывается, все мучаются, все страдают, каждый на свой лад. А оказывается, без страданий не проживёшь, и даже вредно жить без страданий. Вот ведь какие коврижки!
Д. обвёл глазами комнату и остановил взгляд на цветной фотографии из японского календаря, которая ему запомнилась. Фотография была уже не та или, точнее, не совсем та. Пруд был на месте. И покрытые мхом камни тоже лежали на месте. И деревянный павильон с черепичной крышей был тот же, и голубое небо не изменило свой вид. Но японки не было.
– Ты что, сменил картинку? – спросил Д. – Теперь она без японки.
Гоша тоже посмотрел на лист из календаря.
– Нет, не менял я картинку. Она у меня такая единственная. От жены осталась. Ей эта японочка очень нравилась.
– Но куда японка-то подевалась?
– А хрен её знает! Гуляет где-нибудь там, за деревьями. Или пописать пошла в кустики. Не может же она целыми днями стоять неподвижно! Она частенько куда-то уходит, а после возвращается. Меня насовсем не покидает. Знает, что без неё мне совсем будет хана.
Д. внимательно поглядел на Гошу. Потом снова взглянул на картинку. Ему показалось, что нижние ветки ближайшего дерева пошевелились.
Д. закрыл глаза и посидел так с минуту. После открыл. Японки по-прежнему не было. Д. встал, подошёл к картинке. Никаких следов клея на ней не было заметно.
– Ну а ты-то, Достоевский, страдаешь? – спросил Гоша. – У тебя ведь тоже жена сбежала? А детей не было у вас?
– Нет, детей у нас не было. Жена не хотела детей.
– А что это она? Ты же не алкаш.
– Она говорила: подождём, попозже заведём, есть ещё время, не стоит торопиться. Так и не завели.
– А ты её любил?
– Любил.
– Чудной ты, Д! Любимая жена послала тебя на фиг, а ты даже не запил! Чем же ты утешаешься?
– Рыбками.
– Какими такими рыбками?
– Живыми. В аквариуме.
– Ну, Д! Ты просто псих! Рыбки в аквариуме!
– Да, рыбки в аквариуме. Четыре штуки. С красивыми хвостами. У тебя японка, а у меня рыбки. Чего тут такого? И ещё я завёл себе дело.
– Какое дело?
– Интересное, увлекательное дело. Хитрое, мудрёное дело. Очень сложное и страшно трудное дело. Оно меня терзает, но при этом и радует. Оно отвлекает меня от мрачных мыслей и доставляет творческое удовольствие. Им я занят в то время, когда я не на работе.
– А на работе ты чем занят?
– На работе я сплю. Ты вот говорил о служащих, которые на работе спят или в коридорах курят. Я некурящий, и мне остаётся только спать. Такова моя горькая участь.
– Так что же за дело-то у тебя? Расскажи!
– О нём не расскажешь. Такое вот, брат, дельце. То есть можно, конечно, рассказать, но долго придётся рассказывать. Ты слушать устанешь.
– А покороче нельзя?
– Нет, нельзя. Покороче не выйдет. Очень уж оно замысловатое.
– Так ты что – руками шевелишь или мозгами?
– В основном мозгами. Но и руками немножко.
– А на дело твоё глядеть надо или следует его слушать? Может быть, его щупать приходится? Или его надо читать?
– Лучше всего его, наверное, читать. Но можно его и слушать. Это уж кому как понравится.
– И думать надо, небось, когда читаешь или слушаешь?
– Да. Думать при этом необходимо.
– Философия это, что ли, какая? Как у Артура?
– Есть там и философия. Но и ещё много всего. Всякой всячины. Заковыристое, в общем, дело.
– Так ты, Д., значит, мыслитель?
– Отчасти да. Но не только мыслитель.
– А кто же ты ещё?
– Опять-таки сразу не скажешь. Я даже и сам толком не знаю, кто я ещё. Но то, что ещё кто-то, – это несомненно.
– Темнишь ты, Фёдор Михалыч! Ну коли не хочешь, не говори. Я не обижусь. Только ты уж делай своё дело как следует, не халтурь.
– Я и делаю его как следует. Зачем же халтурить, если это дело для себя. Оно меня возвышает, оно наполняет мою жизнь духовностью.
– Значит, ты пишешь о Боге?
– Нет, не о Боге. Впрочем, и о Боге тоже. Хотя, как мне кажется, он отсутствует в мире. Мир существует сам по себе, без Бога. Или так: существует мир, и рядом где-то существует Бог. Он наблюдает, что творится в мире, и ни во что не вмешивается. Он чего-то ждёт. Затаился до поры до времени. А может быть, он никогда не вмешивается в мирские дела. Начхать ему на них.
– Верно, Д! Ну и гигант же ты, Д! Всё сечёшь! В самую точку попал! В самую суть врубился! На фига ему с нами, говнюками, возиться! Чего мы тут только у него на глазах не вытворяем! Как мы только не выдрючиваемся! И ещё недовольны! И ещё жалуемся! Страдальцы, мол! Мученики!
Выпили по последней. Колбаса была съедена. Сельдь иваси тоже.
– А чайку? С пряниками ванильными? – сказал пьяненький, но отнюдь не надравшийся Гоша.
– Спасибо. В следующий раз! – ответил Д. и взглянул на картинку из календаря. Японочка стояла на своём месте. В том же кимоно. С той же причёской. С тем же гребнем в волосах и с тем же цветком лотоса. И улыбалась она всё так же ласково.
– Вот, видишь, погуляла и вернулась! – сказал довольный Гоша. – А ты боялся! Никуда она не денется! Не боись! Я тоже сначала побаивался – вдруг уйдёт? Где её тогда искать? В Японию, что ли, ехать? А потом ясно мне стало – нет, не смоется. И теперь я ей вполне доверяю.
Комментарий
Похоже, что Д. и Гоша стали друзьями. На первый взгляд странно – вовсе же разные люди. Но со второго или с третьего взгляда становится заметным в них нечто общее. Во всяком случае, они друг другу нравятся, и есть им о чём поговорить, есть что друг другу рассказать. Вероятно потому, что оба остались без жён по причине своих неумеренных увлечений. Гоша увлёкся выпивкой, а Д. – своим таинственным делом. Но это как посмотреть. Если постараться, если не лениться, то можно, наверное, отыскать такую точку зрения, с которой и это мало уважаемое занятие покажется не лишённым смысла и значительности.
Судьба Гошина, разумеется, плачевна. И не боясь преувеличения, можно сказать, что она действительно подтверждает философскую концепцию великого пессимиста. Размышляя о Гошиной несчастной жизни, можно разувериться во всём и помрачнеть до крайности. Во всяком случае, к веселью эти размышления не располагают. Остаётся только надеяться, что счастье снова навестит когда-нибудь Гошину комнатушку и на сей раз он его не упустит.
Самое странное в этом эпизоде – поведение японки из календаря. Куда она удалялась и зачем? Если причина была столь проста и естественна, как предположил Гоша, то это, конечно, успокаивает. А если причина была совсем другая?
Эпизод двенадцатый Чтение оказалось увлекательным
«Надо почитать что-нибудь о конце света, – решил Д., – есть же, небось, какая-нибудь литература, какие-нибудь размышления и рассуждения по этому поводу, есть, наверное, какая-нибудь философия, к этому относящаяся. Давно ведь уже человечество боится светопреставления, давно уж оно содрогается при мысли о грядущем кошмаре».
И Д. отправился в самую большую, Главную библиотеку, запасшись необходимыми документами (без документов в Главную не пускают).
Отворив массивную, резную, дубовую старинную дверь, Д. вошёл в вестибюль, который, как выяснилось, был и гардеробом. В вестибюле-гардеробе было многолюдно. Кто раздевался, кто одевался, кто стоял в очереди, кто просто чего-то ждал. У высокого и тоже старинного трюмо прихорашивались женщины. Делали они это усердно, не спеша и с явным удовольствием. Видимо, посещение библиотеки было весьма существенным событием в их женской таинственной жизни.
Д. занял очередь на вешалку и стал медленно подвигаться к прилавку, прижимая к груди своей скромненький серенький плащик.
Перед Д. стоял высокий и очень плечистый человек. Одно плечо у человека нервно подёргивалось. «Контуженый, что ли?» – подумал Д. Но тут же вспомнил, что война окончилась сорок лет тому назад и все контуженные уже старики. Человек же явно не был старцем.
Тут плечистый повернул голову. Лицо у него было интеллигентное, умное, усталое и нездоровое. «Наверное, он устал от чрезмерной интеллигентности, – подумал Д. – Наверное, и плечо у него от этого дёргается. Ему надо бы отдохнуть от книг и от науки, а он вот опять в библиотеку притащился, несчастный».
Раздевшись и причесавшись, Д. направился вглубь библиотеки, но тут же был остановлен пожилой женщиной, сидевшей за столом около узкого прохода.
– Пропуск! – сказала она.
– У меня его ещё нет, – ответил Д.
– Тогда паспорт!
Д. предъявил паспорт.
Женщина что-то записала на бумажке и после объяснила Д., где можно оформить пропуск.
Д. долго шёл по длинному, неширокому коридору, с двух сторон обставленному шкафами. За стёклами шкафов стояли книги. В некоторых шкафах были выставлены фотографии, репродукции и изречения мудрецов. Шкафы были старыми, хотя и сделаны были из хорошего, дорогого дерева. Пол коридора тоже был старым: паркет скрипел и прогибался под ногами. Потолок был серым – видимо, его давно уже не белили. Вообще библиотека выглядела внутри довольно ветхой и заброшенной, хотя снаружи она производила импозантное впечатление. В одном из шкафов были выставлены фотографии известного актёра. Многие из них показались Д. неизвестными. Минут пять он стоял и разглядывал их с интересом, и после пошагал дальше по этому бесконечному, унылому и плохо освещённому коридору. Кое-где виднелись двери, столь же старые, как и шкафы. На дверях висели плакаты, к библиотечным делам отношения не имевшие. Но Д. знал, что ему следует добраться до самого конца коридора, и поэтому спокойно проходил мимо этих заманчивых дверей. Навстречу ему шли люди, мужчины и женщины. Лица у них были такими же усталыми и болезненными, как у того плечистого в гардеробе. «Да, конечно, – думал Д., – учёность не способствует здоровью и жизнерадостности. Пыльные книги, запах старой бумаги, неподвижное многочасовое сидение за столом…»
Наконец коридор кончился, и Д. очутился в довольно просторной и тоже обставленной шкафами комнате, посреди которой стоял большой стол красного дерева, обтянутый зелёным сукном. За столом тоже сидела женщина, только довольно молодая, хотя и в очках. Д. приблизился к ней и объяснил, что ему требуется.
– Документы! – произнесла очкастая, взглянув на Д. строго, но и приветливо одновременно.
Д. положил на стол пачку документов.
– Та-ак… та-ак… та-ак, – говорила женщина, перебирая документы, – та-ак… та-ак… та-ак… – но потом вдруг сказала: – А самого главного-то у вас и нет!
– То есть как – нет? – ужаснулся Д. – Всё в соответствии с инструкцией… Я ведь её переписал! Я не мог ошибиться! Я ведь, знаете ли, аккуратный человек! Я никогда не ошибаюсь!
– Дело в том, – продолжала служительница библиотеки, – что совсем недавно мы получили новую инструкцию и, наверное, вы с нею не знакомы.
– Да, да! – воскликнул Д. – Новую инструкцию я не видел! Новую инструкцию мне никто не показывал! О новой инструкции мне никто не сказал ни слова! Никакого намёка не было на новую инструкцию! Клянусь вам! Откуда же я мог знать о какой-то новой инструкции, подумайте сами! Что же мне теперь делать? Я просто в панике! Я просто в отчаянье!
– Не надо отчаиваться, – успокоила служительница. – Быть может, у вас найдётся ещё какой-нибудь документ?
Д. стал торопливо рыться в карманах. После он стал рыться в своём бумажнике. Потом опять взялся за карманы. В одном из карманов он отыскал затасканное служебное удостоверение с фотографией и круглой печатью.
– Может быть, это? – робко сказал Д., протягивая удостоверение очкастой служительнице.
– Вот, вот! – обрадовалась она. – Как раз оно нам и требуется! Правда, оно просрочено, но не беда. Только вы уж продлите его, пожалуйста. Если бы тут сидела другая дежурная, она бы его у вас не взяла.
Д. ждал, пока дежурная выпишет ему пропуск, и рассматривал комнату. Над шкафами висели портреты великих умов. Их лица были очень похожи на лицо плечистого и лица тех людей, которые повстречались Д. в бесконечном коридоре. «Ох уж эти науки!» – вздохнул про себя Д. и, взяв из рук дежурной маленькую, новенькую книжечку пропуска, тоже с фотографией и большой круглой печатью, направился дальше, к главной лестнице.
Она была чистой и не казалась очень старой. На стенах висели древние каменные плиты с текстами на древних языках – на латинском, древнегреческом, древнееврейском, древнекитайском. Были надписи, выполненные клинописью и египетскими иероглифами. Была плита с текстом на древнеславянском. Д. рассматривал их с благоговением. Ему казалось, что он ощущает запах вечности и слышит невнятную речь далёких предков. Увы, Д. не знал ни одного из этих давно уже мёртвых наречий, и плиты напомнили ему о его невежестве. «Быть может, в этих надписях говорится о конце света?» – подумал Д. и, взобравшись на второй этаж, направился дальше.
Каталог размещался в большом зале и производил внушительное впечатление. К нему было страшно подступиться. Д. вдруг стало очень тоскливо и неуютно. Ему захотелось убежать из Главной библиотеки. Но он не убежал и спросил очередную служительницу, сидевшую тут же, в уголке за маленьким столиком, как пользоваться каталогом. Получив необходимую информацию, Д. стал бродить между стендами с бесчисленными ящичками и разнообразными поясняющими надписями, пока не отыскал то, что нужно.
Долго он перебирал карточки, долго путался в них, долго вчитывался в то, что было на них написано. Под рубрикой «эсхатология» значились только небольшие брошюрки, в которых речь шла о религиозных сектах, об их ложной идеологии и вредоносной деятельности. Нашлось также несколько авторефератов диссертаций, посвящённых всё тем же заблудшим сектантам. Были брошюрки и с очень интригующими названиями: «Будет ли конец света?», «В ожидании светопреставления», «Следует ли бояться гибели мира?». Но судя по аннотациям на карточках, в них развенчивались всё те же пагубные убеждения религиозных мракобесов.
Д. отобрал наобум несколько брошюрок и вскоре получил их в читальном зале.
Чтение оказалось увлекательным. Сектантов начинали ругать и разоблачать только в середине каждой книжечки, а вначале довольно обстоятельно излагалась история зарождения эсхатологии и описывалась многовековая возня человечества с этим злосчастным концом света. Его ждали, но притом и боялись. Его ждали страстно, в него верили, в нём не сомневались, к нему готовились. Многие полагали, что его не миновать. Но были и скептики. Они сомневались. Они не ждали и почти не боялись. Правда, скептиков было немного. Почему они не верили в гибель человечества, остаётся неясным. Не верили, и всё. То и дело появлялись пророки. Они пророчествовали. Они пугали. Напуганных было несметное количество. Напугавшись, они принимались пугать тех, кто ещё не был достаточно напуган. Ужас охватывал целые деревни, целые города и целые страны. Пророчества, однако, не сбывались. Люди ненадолго успокаивались. Но появлялись новые жестокие пророки, звучали новые мрачные предсказания. К тому же ещё были страшные знамения. Они тоже порождали панику и всеобщее смятение. Народы веками жили в состоянии крайней нервозности. От этого рождались уродливые младенцы и начинались бессмысленные кровопролитные войны. Эпидемии оспы, холеры и чумы, быть может, тоже начинались от этого. Жизнь была тяжёлой и неустойчивой. Но всё же она продолжалась. Человечество было живучим.
Конца света ждали в 992 году. Теперь уже забыто, почему именно в 992-м, но то, что ждали, не забылось. Ждали весьма упорно, но понапрасну. Конец не настал. Это многих обидело и даже оскорбило. Мыслящие люди выдвинули убедительные гипотезы, объяснявшие причину столь досадной задержки. Оптимисты предложили подождать ещё немного. У них нашлось много сторонников. И стали ждать.
Вскоре всем стало ясно, что катаклизм произойдёт в 1000 году. Очень уж круглой и красивой была эта цифра. Ожидание второго тысячелетия было очень напряжённым. Напряжённым до болезненности. В конце 999 года ожидание достигло апогея. Начался повальный психоз. Феодалы продавали свои замки и жертвовали деньги монастырям. Купцы выгребали золото из своих сундуков и тоже отдавали его монастырям. Воры и разбойники наполняли храмы и усердно молили о прощении грехов. Несколько европейских монархов добровольно отреклись от престола. Крестьяне от отчаянья резали свой скот и вырубали сады. На площадях городов потерявшие разум горожане истязали себя, кто как мог. Творилось чёрт знает что! Всё это и впрямь было похоже на конец света. В декабре 999-го в Европе не осталось ни одного скептика. Все искренне верили, что конец неминуем. Но и на сей раз светопреставление не состоялось. Пронесло. И снова мудрецы стали придумывать умные гипотезы, которые всем понравились. Решили и ещё подождать.
В 1066 году на небе Европы возникла яркая звезда с длинным эффектным хвостом. Наконец-то! – вскричали измученные ожиданием европейцы. Монахи заперлись в монастырях и молились непрерывно. По дорогам бродили толпы одичавших от ужаса людей. По ночам в притихших деревнях непрерывно выли голодные псы. Несколько сот человек, совсем обезумев и позабыв о гневе господнем, наложили на себя руки. Португальский король Альфонс Шестой каждую ночь взбирался на самую высокую башню своего замка. Оттуда он стрелял в комету и поносил её самыми нецензурными словами. Это, видимо, подействовало. Чудовищное светило стало быстро бледнеть и вскоре исчезло. Всё вернулось на круги своя: монахи открыли ворота монастырей, дороги обезлюдели, собаки умолкли, количество самоубийств резко сократилось, и Альфонс Шестой по ночам спокойно спал в своём замке. Пессимистов же развелось великое множество.
Однако ожидание не прекратилось. Ждали в 1198-м, в 1524-м, в 1819-м, в 1896-м, в 1925-м. Почти каждое поколение надеялось стать свидетелем последних дней вселенной. Но всех постигало разочарование. История с концом света затягивалась до неприличия. Стали появляться анекдоты на эту пикантную тему. И вполне пристойные, и совсем непристойные. Легкомысленные острословы совершенно распоясались. Популярными стали сочинения скептически настроенных философов и литераторов, которые высмеивали проблему конца света и даже осмеливались утверждать, что проблема эта не существует. А один из мыслителей даже стал доказывать, что конец света уже давно случился. Для своих доказательств он использовал новейшие достижения математики, интенсиональной логики, психологии и даже медицины. Его книга с очень кратким и впечатляющим названием «Уже» имела шумный, хотя и недолгий, успех.
Эпоха скепсиса сменилась новой эпохой недобрых предчувствий. Мир изменился – стал хуже. В мире творились странные вещи. Мир готовил себя к самоубийству. Грядущее бытие человечества стало проблематичным. Разверзлась некая бездна, и всё повисло над нею. Страх распространялся повсюду. В разных местах планеты вспыхивали эпидемии новой неизлечимой болезни – финистроза (боязни конца). Тяжёлые формы этого недуга вели к безумию и смерти. Число случаев с летальным исходом быстро росло. Подозрительно оживились сектанты. Адвентисты усердно готовились ко Второму пришествию. Они призывали к покаянию и молитвам. Свидетели Иеговы радостно твердили об Армагеддоне. Однако не склонные к истерии и не обладавшие развитым воображением люди (а таких были многие миллионы) продолжали жить спокойно и не проявляли к светопреставлению особого интереса. Постепенно и склонные к истерии поуспокоились. Катастрофа стала казаться им не такой уж неминуемой. Человечество привыкло к жуткой бездне, над которой оно очутилось. Это ещё раз подтвердило известное суждение о том, что ко всему привыкают.
Всё, вычитанное Д. из тощих невзрачных брошюрок, было ему и раньше известно, за исключением некоторых, не столь уж существенных подробностей. И если бы не пророчица со свалки, жил бы Д. обыкновенно, полагая, что с концом света всё как-нибудь обойдётся, как-нибудь образуется, как-нибудь уладится, как-нибудь рассосётся. Однако беззубая сивилла заразила его финистрозом, и, кажется, в весьма тяжёлой и опасной форме. Надежды на излечение не было никакой. Кроме того, Д. и сам стал опасен для окружающих, будучи бациллоносителем этого заболевания. Правда, каждая из прочитанных Д. брошюрок заканчивалась крайне оптимистично. С изящной лёгкостью и очень быстро доказывалось, что апокалипсис – чушь, а сектанты – просто душевнобольные. Но это почему-то не успокаивало, а скорее раздражало. Было очевидно, что с концом света всё обстоит не так-то просто.
На последней странице одной из брошюрок Д. обнаружил список использованной литературы. Но, как выяснилось, в списке были указаны названия других популярных антиэсхатологических сочинений, которые Д. только что пролистал. Однако содержалось в перечне и нечто не вполне популярное. «И. Кант. Конец всего сущего», – прочитал Д. не без волнения. «Вот оно! – подумал он. – Именно это мне и нужно! Именно это!»
Но тут дежурная по читальному залу громко объявила, что необходимо проветрить помещение, и попросила читателей ненадолго удалиться в соседний зал. После этого она принялась открывать форточки. Выйдя в соседнее помещение, Д. нос к носу столкнулся со старинным своим знакомцем – Шушканцевым. Шушканцев выглядел довольно тускло. Глаза у него были мутноватые. Лицо у него было серое. Горбился он почему-то и руками двигал как-то неуверенно.
– Что это ты, Шушканцев, так поблёк? – спросил его Д. – Раньше ты был человеком ярким, весёлым и свежим! Как твоя аспирантура, Шушканцев? Ты её закончил? Как твоя диссертация, Шушканцев – ты её сочинил? Скоро ли будешь защищаться? Или ты уже защитился? Или ты уже кандидат?
При этом Д. не отказал себе в удовольствии небрежно и с чувством превосходства похлопать Шушканцева по плечу.
– Аспирантуру я закончил и диссертацию написал, – тихо ответил старинный знакомец, – но ещё не защитился. Защититься не так-то просто, как ты думаешь. Конкуренты мешают. Интриги всякие, козни, коварство… Каждый норовит тебе ножку подставить и локтем тебя отпихнуть… Борьба, одним словом, за место под солнцем. Все лезут в науку… Тяжело.
– А ты уже представил диссертацию в совет? – продолжал допрашивать Д. – Заключение уже было, к защите допустили, оппонентов назначили?
– В совет подал, и заключение уже было, и оппоненты нашлись, – отвечал со вздохом бедняга Шушканцев. – И через две недели – защита. Но у оппонентов оказалось много замечаний. Вот, сижу здесь, читаю кое-что, готовлю ответы.
– А как называется твоя работа? – не унимался беспощадный Д.
– «Осесимметричная деформация упругого полупространства со сдвинутым упругим полубесконечным включением», – пробормотал знакомец.
– Как, как? – переспросил Д.
– «Осесимметричная деформация упругого полупространства со сдвинутым упругим полубесконечным включением»! – почти крикнул Шушканцев.
Д. помолчал. Название диссертации произвело на него впечатление.
«Осесимметричная деформация упругого полупространства…» – прошептал он про себя с неким внутренним трепетом. Ему захотелось спросить, что такое полупространство, но он сдержался, чтобы Шушканцев не счёл его круглым невеждой. Между тем умный Шушканцев быстро увеличивался в размерах и приобретал весьма монументальные формы. Д. уже взирал на него снизу вверх. Тело знакомца сужалось в стремительной, энергичной перспективе, и голова была уже почти не видна.
«Ну и Шушканцев! – подумал Д. уважительно. – Ай да Шушканцев! А я-то думал…»
– А если полупространство не упругое, что тогда? – совершенно глупо и нахально спросил Д.
– Тогда возникает довольно неопределённая ситуация, которая требует совершенно иного подхода. Для этого случая требуется иная методика исследования, которая пока ещё не разработана ни у нас, ни за рубежом, – спокойно ответил знакомец. – Правда, – продолжал он, – её можно свести к более упрощённой модели, если предположить, что в полупространстве имеется цилиндрическая выемка с неточно очерченными, колеблющимися краями. В этом случае полупространство начнёт как бы сжиматься и его уже можно будет воспринимать как четверть пространства или даже пятую его часть. Подобная методика уже была испробована Штрессером и Пшекресилевским. С их публикациями я отлично знаком.
Шушканцев уже вырос в глазах Д. неимоверно и продолжал расти как ни в чём не бывало. Голова его продырявила потолок и, видимо, внесла некоторой беспорядок в работу читального зала, располагавшегося выше этажом.
– Ну а полубесконечное включение, с ним как обстоят дела? – спросил Д., не в силах остановиться.
– С ним никаких хлопот, его изучили ещё тридцать лет тому назад, – охотно ответил Шушканцев и, вытащив из кармана смятый носовой платок, вытер им рот.
Д. вдруг почувствовал, что ему больше не о чем спрашивать молодого преуспевающего учёного и, заторопившись, он пожал Шушканцеву руку.
– Желаю тебе успешной защиты! Верю в тебя! – произнёс Д. на прощание и снова направился в читальный зал.
Библиотекарша не знала, в каком из томов собрания сочинений Канта содержится «Конец всего сущего», и предложила ему пролистать все девять томов. Пролистав все девять, Д. не нашёл того, что искал, и выразил библиотекарше своё недоумение.
– Ступайте к библиографу, – посоветовала библиотекарша.
Библиограф сидел в укромном месте за широким книжным шкафом и, судя по виду, отчаянно скучал. Он был очень молод и как-то плохо вписывался в библиотечный интерьер. На вопрос Д. он стал отвечать с большим удовольствием – рад был, что кому-то понадобился. Выяснилось, что «Конец» опубликован не в девятитомном собрании, а в отдельной книге, которая вышла из печати совсем недавно, и что ранее эта работа Канта ни разу не печаталась. Через пять минут, томясь от любопытства, Д. уселся на своё место за читательским столом.
К сожалению, Канта, как истого христианина, волновала преимущественно моральная сторона проблемы. Гибель мира, полагал он, может быть только следствием крайней порочности человечества, которая давно уже установлена и возмущает лучшие, благороднейшие умы. Они называли мир «ночлежным домом», «исправительным домом», «сумасшедшим домом» и даже «клоакой». Такие разительные сравнения явно нравились философу и, судя по всему, мира и человечества было ему ничуть не жалко. Случись светопреставление при его жизни, он спокойно взирал бы на весь этот ужас и удовлетворённо потирал бы руки. Правда, Кант допускал возможность и мистического, таинственного, недоступного пониманию конца. Но никаких пояснений по сему поводу он не оставил. Одним словом, он уклонился от прямого ответа на вопрос: быть или не быть человечеству? Немножко поразмышляв, он спокойно отошёл в сторону от немаловажной для жителей Земли проблемы.
Поздно вечером, одеваясь в гардеробе, Д. снова столкнулся с Шушканцевым. Глаза его ещё более помутнели, а серое лицо приобрело фиолетовый оттенок.
– Я приду на защиту, – сказал Д.
– Приходи, – отозвался Шушканцев без особой живости.
Комментарий
Пожалуй, напрасно Д. закопался в книги. Никаких откровений о всемирной катастрофе он в них не нашёл. Сектанты, конечно, сущие фанатики, Альфонс Шестой был дурак дураком, а с финистрозом и впрямь трудно бороться, что говорить. Что же касается величайшего немецкого мыслителя восемнадцатого века, то его отношение к светопреставлению было типично философским, другого от него и ждать не приходилось.
Плохо, однако, что здание Главной библиотеки так запущено. Давно уж пора привести в порядок это хранилище человеческой мудрости. Но вот защитится ли Шушканцев – это ещё вопрос. С его «полупространством» как-то не всё понятно. Галиматья это какая-то, честно-то говоря.
И, между прочим, забавно, что, уверовав в «конец всего сущего», Д. не потерял интереса к обычным человеческим делам. На кой леший ему этот Шушканцев и его защита?
Эпизод тринадцатый Как на велосипеде
Д. проснулся в семь часов. День был воскресный, и поэтому можно было бы поспать подольше. Но Д. было не до сна. Дело ждало его. Угроза светопреставления становилась всё реальнее, всё страшнее, а времени для дела оставалось всё меньше. Надо было торопиться. Нельзя было расслабляться, нельзя было благодушествовать и предаваться неге беззаботности. Надо было работать. О, сколько истинного мужества и нечеловеческого упорства требуется для творчества в доживающем последние дни, обречённом на гибель мире! О, какая неслыханная твёрдость духа необходима для благородной возвышенной деятельности на самой грани чудовищной катастрофы. О, как это трудно, но притом и как сладостно упиваться великим деянием, бессмысленность которого совершенно очевидна!
«Не-е-етушки! – говорил себе Д., выдавливая из тюбика белого червяка зубной пасты. – Не-етушки! – повторял он про себя, намыливая ладони ароматным мылом. – Не-е-етушки, – упорно твердил он, старательно вытирая лицо махровым полотенцем. – Нетушки, мы не дрогнем, мы не отступим, мы не сдадимся! Миру придёт конец, но и делу придёт конец! Я швырну своё вполне завершённое великое дело в лицо грандиозному вселенскому катаклизму! Я не предам себя! Я буду верен себе до последнего вздоха. Конец так конец, как говорит моя чертёжница! Погибель так погибель! Кошмар так кошмар! Проживём достойно последние мгновения мировой истории!
Быстренько проглотив стакан чаю с бутербродом, возбуждённый и весьма агрессивно настроенный Д. уселся за письменный стол. Работы оставалось не так уж и много. «Ещё денька два-три, и дело будет в шляпе, – думал Д., потирая руки. – Лишь бы не смутило меня что-нибудь, лишь бы не сбило меня что-нибудь с толку!» Собираясь приступить к завершающей части своего колоссального труда, намереваясь подвести итоги и сделать выводы, Д. стал просматривать всё созданное с самого начала.
Сперва оно ему нравилось. Он был доволен и даже горд собою. «Хорошо! – думал он. – Прямо-таки блестяще! Особенно вот это место! И вот этот кусок! И весь вот этот фрагмент! Да и вот эта деталь! Она очень кстати! Без неё было бы гораздо хуже, гораздо! А вот тут очень изящно получилось, на редкость изящно. Этакий изыск! Ну а это – просто счастливая находка! Даже странно, каким образом пришло мне такое в голову!» Но потом Д. стал чувствовать некоторую неудовлетворённость. Чего-то чуть-чуть недоставало. А чего-то было в избытке. Кое-что явно вываливалось из общего целого и выглядело чужеродным. Мелочей было слишком много, они мешали воспринимать главное. Но и в самом главном таился некий изъян, некий порок. Это было почти незаметно, но всё же это ощущалось, и на это нельзя было закрывать глаза. Чем ближе к концу, тем хуже становилось впечатление. То и дело попадались какие-то вовсе не обязательные и попросту лишние подробности, вызывающие досаду. Подчас из-за них было почти невозможно разобраться, что к чему и что зачем. Сознание натыкалось на бесчисленные труднопреодолимые преграды и спотыкалось о какие-то неожиданные выступы, непонятно каким образом оказавшиеся в деле и торчавшие наружу, что было уже и совсем нелепо.
Бодрое настроение Д. быстро улетучивалось. Его вытесняли недоумение, растерянность, разочарование и уныние. В самом конце Д. захлестнула волна самого натурального отчаяния. «Дело не удалось! – думал Д. – Не справился я со своим делом! Не хватило мне силенок! Не хватило таланта и ума! Слишком широко замахнулся и переоценил свои возможности! Слишком мало проявил упорства! Слишком многое отвлекало меня от этой действительно невиданной, действительно замысловатой, действительно чертовски трудной затеи! Всё нужно было делать по-другому! Вот с этого нужно было начинать! Вот это нужно было поместить в конце. Вот это нужно было сократить наполовину, а вот это нужно было расширить раза в три. Вот к этому нужно было отнестись внимательнее – это же страшно важно, это должно быть сразу понятно, здесь не должно быть никаких неточностей, никаких неясностей, никакого тумана. Ну а это вообще чепуха! Это нужно было непременно выбросить, выбросить целиком, без остатка, выбросить решительно и беспощадно. Как мог я сделать такое? Как меня угораздило? Что со мною случилось? Пьян я, что ли, был, когда этим занимался? В общем, дело никуда не годится. Напрасно я тешил себя надеждами! Напрасно я верил в себя! Напрасно уповал на успех, на триумф, на победу! Я потерпел полную неудачу, полное поражение, полнейший крах! Не за то дело я взялся! Другим надо было делом заняться, другому делу себя посвятить! Какой позор! Четыре года корпеть над этим идиотским делом, четыре года над ним горбатиться! Поистине конец света!»
Совершенно подавленный Д. долго сидел, положив локти на стол и закрыв лицо ладонями. Ему было уже всё безразлично. Ему было наплевать, состоится ли светопреставление или не состоится. Ему даже не хотелось по любимой привычке ощупывать сквозь кожу свой череп. На череп теперь ему тоже было наплевать. Ему казалось, что он умер, что он лежит в гробу, что на лицо ему уже наброшена полотняная пелена, и вот уже подносят крышку, и вот уже кто-то стоит наготове с гвоздями и молотком… «Ерунда! – сказал себе Д. – Сейчас гробы не заколачивают. Сейчас все гробы с замками, точнее, с защёлками. Щёлк, щёлк – и готово. Что ни говори, а техника в конце двадцатого столетия поистине вошла в жизнь. И даже в смерть». Сказав себе эти слова, Д. отвёл руки от лица, и взгляд его уткнулся в аквариум. Рыбки по-прежнему плавали медленно, хвосты их грустно свисали вниз, жабры едва-едва шевелились. Но их почему-то было не четыре, а только три. Харита отсутствовала. «Что за дьявольщина!» – изумился Д. И тут же вспомнил Гошину японку, покинувшую ни с того ни с сего лист из календаря. Подойдя к аквариуму, он увидел, что бедняжка Харита, перевернувшись вверх брюшком, неподвижно висит у самой поверхности воды, запутавшись хвостом в водорослях. Д. бросился на кухню, схватил стеклянную банку и большую суповую ложку, налил в банку воды из крана, кинулся обратно в комнату, осторожно подцепил Хариту ложкой и опустил её в банку. Рыбёшка никак на это не отреагировала. Её тельце стало медленно и печально опускаться на дно. За ним безжизненно тянулся длинный прозрачный хвост. Д. осторожно поболтал банку. Харита не проявила признаков жизни. Д. стал трясти банку. Вода из неё выплёскивалась на пол, но ничто не помогало. Харита была мертва. Д. поставил банку на стол и сел рядом, уронив голову на руки. Удары беспощадной судьбы обрушивались на него один за другим.
Посидев с полчаса, Д. поднял голову и сказал себе: «К Зиночке! Только она мне посочувствует! Только она меня утешит!»
Выбежав из парадного, Д. стал голосовать проносящимся мимо него такси. Но все такси были заняты. Наконец появилась свободная машина с зелёным огоньком. Д. вытянул перед ней руку. Машина остановилась. Шофёр приоткрыл окошечко и спросил, куда надо ехать. Д. объяснил, куда. «Далеко, – сказал шофёр, – у меня кончается смена, я не успею». Окошечко захлопнулось. Такси отъехало. Д. захотелось смачно, по-гошински матюгнуться, и он с трудом сдержался. Тотчас же рядом с Д. остановились тёмно-синие «Жигули». Водитель высунул из кабины голову.
– Вам в какую сторону, гражданин?
Д. уселся рядом с водителем.
– Нельзя ли поскорее? У меня, знаете ли, чрезвычайные обстоятельства. Мне обязательно нужно успеть. Понимаете, обязательно!
Д. взглянул на часы. До закрытия кафе оставалось десять минут. Водитель нажал на педали, и машина рванулась вперёд. Езда была опасная. Чуть не сбили горбатую старушку, переходившую улицу. Чуть не раздавили лохматую собаку, выскочившую из подворотни. Чуть не врезались в затормозивший у перехода грузовик с металлоломом. А обгоняя шикарную, низкую, перламутрового цвета машину с дипломатическим номером и флажком на радиаторе, чуть не соскребли краску на боку новенького трамвайного вагона. Водитель трамвая – молодая блондинка с кудряшками на лбу – погрозила из-за стекла маленьким кулачком.
Подкатили к Зиночкиному кафе. Наскоро расплатившись с владельцем «Жигулей», Д. подбежал к дверям. Они были уже заперты. Поглядев на часы, Д. вздохнул. Опасная езда не помогла. «Самый мрачный день в моей жизни! – подумал Д. – Мрачнее, кажется, не было». Постояв у дверей, он перешёл на другую сторону улицы и стал ждать. После закрытия Зизи обычно считала выручку, потом кому-то её отдавала, потом переодевалась – снимала халатик и наколку, потом переобувалась – работала она всегда в мягких тапочках, чтобы ноги меньше уставали. На всё это уходило полчаса, а то и больше. И Д. терпеливо ждал. В сторонке от кафе у тротуара стоял «Москвич» цвета слоновой кости с кокетливым чёрным козырьком над передним стеклом и какими-то невиданными, пижонскими зеркалами по бокам кабины. В кабине сидел мужчина. Лица его издалека было не разглядеть. Время от времени он приближал к лицу руку. Видимо, он тоже кого-то ждал и нетерпеливо глядел на часы.
Наконец появилась Зиночка. Беретика на голове её не было, а зелёный плащик висел на руке. Д. обрадовался и хотел уж было помахать ей приветственно, но рука его застыла в воздухе. Зиночка вела себя странно. Не взглянув по сторонам и не заметив Д., она решительно направилась в сторону «Москвича» цвета слоновой кости. Д. хотел окликнуть её по имени, но почему-то сдержался. Когда Зизи подошла к «Москвичу», дверца машины открылась. Зизи уселась рядом с неизвестным мужчиной, и Д. увидел, как он поцеловал её в щёку. «Та-ак! – подумал Д. – Очень мило! Просто замечательно!»
«Москвич» лихо развернулся и уехал. Сквозь заднее стекло Д. успел увидеть, как коварная Зиночка положила голову на плечо мужчине.
– Та-ак! – вслух произнёс Д. и почему-то засвистел первую пришедшую ему на ум весёленькую мелодию.
Д. стоял на краю тротуара и, с беспечными видом покачиваясь на носках, всё свистел и свистел этот пошленький, бодренький мотивчик.
«Этому человеку можно позавидовать! – сказал бы, поглядев на него, какой-нибудь неудачник-прохожий. – Он вполне счастлив и совершенно собою доволен. Бывают же такие счастливчики! Всё у них получается, как надо, всё само плывёт им в руки! А тут бьёшься всю жизнь, как рыба об лёд, и ни черта не выходит, ни черта!» И небось этот прохожий ещё обернулся бы раза два с неприязнью и завистью на совершенно счастливого, до омерзения благополучного, самодовольно свистящего Д.
– Та-ак, – в третий раз сказал себе Д., перестав свистеть и покачиваться. И это должно было бы означать приблизительно следующее: «Ничего удивительного, ничего неожиданного в поведении Зиночки нет. Этого и следовало ожидать от особы с такой игривой чёлкой и с такими до неприличия соблазнительными ямочками на щеках. И вообще, это обычнейшая вещь, когда любимая женщина, не обращая на тебя внимания, влезает в какую-то неизвестную машину и спокойненько уезжает неведомо куда, ласково положив голову на плечо неизвестного и доселе вроде бы не существовавшего мужчины. Такое встречается сплошь и рядом, там и тут, и в прочих, даже весьма отдалённых местах. Такова жизнь, и против этого не попрёшь. И это ещё не худшее из того, на что вышеозначенная глубокоуважаемая жизнь способна. Так что надо поклониться ей вежливо и жить дальше. А если жить тебе больше неохота – не живи. Никто ведь тебя не заставляет. Жить или не жить – это твоё личное, совершенно интимное дело». Но на самом-то деле это самое «та-ак» ровным счётом ничего не означало, потому что потрясённый Д. в данный момент ровным счётом ничего не соображал и был похож на того самого человека, которого только что стукнули по темени очень пыльным, грязным мешком из-за угла и о котором почему-то все частенько вспоминают.
Удары судьбы сыпались на Д., как из рога изобилия. Вероятно, судьба решила превратить нашего героя в тренировочную боксёрскую грушу – он оказался подходящим для такой цели. Из этого можно сделать вывод, что судьба, будучи женщиной, увлекается мужскими видами спорта. Ничего удивительного. Теперь это модно.
Немножко успокоившись, Д. подумал: «Интересно, какая гадость ещё случится со мною сегодня? Он ведь ещё не кончился, этот самый жуткий день в моей жизни». Подумав так, Д. поплёлся по улице. Домой ему возвращаться не хотелось. Домой ему возвращаться было попросту страшно. «Если сегодня я останусь в живых, то, наверное, долго жить буду, – продолжал думать Д., – в том случае, конечно, если человечеству повезёт и конец света не случится. Но за что мне такие испытания перед концом света? И кто испытывает меня? Бог? Стало быть, он всё же вмешивается в наши дела и они ему небезразличны?»
Он брёл по каким-то улицам, то многолюдным и кишащим машинами, то пустынным и почти свободным от транспорта. Он проходил по знакомым и незнакомым переулкам. Он пересекал площади, спускался в подземные переходы и подолгу стоял на перекрёстках, поджидая, когда загорится зелёный свет. Он блуждал по проходным дворам и заходил в тихие скверики со всякими затеями для детских игр. Один раз кто-то спросил, нет ли у него спичек. В другой раз какая-то женщина попросила, чтобы он помог ей втащить коляску с лежащим в ней ребёнком в парадное. И ещё он перевёл через улицу слепого. И ещё он объяснил кому-то, как куда-то там пройти. Делал он всё это почти автоматически. Состояние «стукнутости пыльным мешком» его не покидало. «Надо выпить, чтобы легче стало», – решил Д. и, приметив вывеску ресторана, двинулся к ней.
Ресторан был небольшой, старый, уютный. Каждый столик стоял в полукруглой нише с диваном, обитым потёртым коричневым бархатом. Народу было мало. Д. выбрал пустовавшую нишу. Подошла официантка. Д. сделал заказ. К столу подсели две очень модно одетые девицы. Они непрестанно о чём-то болтали и хихикали, время от времени бросая на Д. внимательные взгляды. Официантка принесла Д. заказанное. Девицы, в свою очередь, тоже что-то заказали, не переставая болтать и глуповато хихикать. Д. выпил пару рюмок водки. Ему и в самом деле стало полегче. Девицам официантка принесла бутылку шампанского и бутерброды с зернистой икрой. Пробка от шампанского отлетела в сторону, едва не ударившись Д. в плечо. Девицы оживились ещё пуще. Заиграла музыка. Д. пригласил одну из своих соседок танцевать. Она согласилась. Танцуя, Д. в упор разглядывал её. Она была блондинка, но, видимо, крашеная. Причёска у неё была современная – затылок был подстрижен, а на лбу кудрявились тщательно завитые локоны. На ушах болтались большие, модные, экстравагантной формы пластмассовые клипсы. На шее поблёскивала тонкая золотая цепочка с крестиком. Глаза у девицы были небольшие, то ли серые, то ли голубые. Они были почти не видны из-за огромных, махровых, явно наклеенных ресниц.
– Что вы такой хмурый? – спросила девица.
– Да жизнь, знаете ли, не удалась, – ответил Д.
Девица засмеялась, показывая кривые, крупные зубы.
– А у кого она удалась-то? Кругом одни неудачники. Вот и я тоже.
– А вы-то с чего? – спросил Д.
– Как то есть с чего? Вот замуж мне пора выходить, а женихов стоящих что-то не видать. Все какие-то пропойцы и обалдуи или тюфяки неповоротливые.
– Неужто все?
– А что, нет, что ли? Вы вот, например, тоже водочкой балуетесь. В одиночку даже пьёте. А кто пьёт в одиночку, тот уж точно человек конченый.
– Спасибо за откровенность, – произнёс обиженный Д. и повёл девицу к столику. Выпив ещё рюмку, он пригласил на танец вторую девушку. Это была шатенка. Длинные, аккуратно расчёсанные волосы её рассыпались по плечам, а лоб украшала чёлка, почти такая же, как у предательницы Зизи. Глаза у неё были карие, тоже похожие на глаза Зиночки, но Зиночкиных ямочек не было. Не было и никаких украшений, за исключением тоненького золотого колечка с маленьким фиолетовым камушком, надетого на правый мизинец.
– Что вы такой невесёлый? – спросила девушка. – В ресторане надо веселиться, а вы сидите и молча пьёте. У вас, наверное, что-то случилось? Несчастье какое-нибудь?
– Да нет, – ответил Д. – Просто настроение какое-то паршивое. Даже водка не помогает.
– А вы побольше выпейте, и поможет, – посоветовала девушка. – Нет таких людей, которым водка не помогла бы.
– Спасибо. Я последую вашему совету.
Потом девиц стали приглашать мужчины, сидевшие в соседних нишах.
После девицы вышли, сказав, что отправились в вестибюль покурить.
Д. пил рюмку за рюмкой, постепенно пьянея. Девицы что-то долго не возвращались. Шампанское у них было выпито, бутерброды с икрой они тоже съели. Подошла официантка и сказала, что через пять минут ресторан закрывается, и неплохо бы рассчитаться. Она подала счёт. Д. вытащил из бумажника две десятки и положил их на стол.
– Мало! – сказала официантка.
Д. пробежал глазами счёт и удивился. Там значились не только его водка и его закуска, но также шампанское и дорогие бутерброды с икрой.
– Но я же не пил шампанское! – сказал Д. – Я пил только водку! И икру я не ел! Я вообще равнодушен к икре, ну её к чертям.
– Зато вот эти пили, – официантка кивнула туда, где сидели девицы.
– Они сами по себе, – сказал Д. – Я их первый раз вижу.
– Ишь ты! – воскликнула официантка. – А как вы докажете, что они вам не знакомы? Вы сидели с ними за одним столом! Вы с ними разговаривали! Вы с ними танцевали – я же видела!
– Ну и что же, что разговаривал! Ну и что же, что танцевал!
– Хватит придуриваться! – твёрдо сказала официантка. – Если сейчас же не заплатите, милицию вызову!
«Мда-а-а! – подумал Д. – Такого славного денёчка и впрямь ещё не бывало в моей прекрасной безмятежной жизни». Он вытащил из бумажника ещё одну десятку.
– Вот так и надо было сразу! – успокоилась официантка. – А то «они сами по себе»! Поищите дураков в другом месте!
Д., понурясь, вышел из ресторана. Его слегка покачивало. Ему хотелось прислониться к стенке и постоять. Идти ему никуда не хотелось. «Этак нетрудно и в вытрезвитель угодить! – подумал Д. тревожно. – Сообщат на службу, и каюк. На этом и закончится моя блестящая служебная карьера». Осторожно ступая, он направился к автобусной остановке. Его изрядно качало. Это было явно заметно, и Д. мучил стыд.
«Наклюкался! – думал он. – Вдохновился Гошиным примером! Скоро ты тоже будешь попрошайничать у пивных ларьков. А девочки шустрые попались. Поделом тебе, олуху!»
Был уже поздний вечер. Небо потемнело, хотя и не стало совсем тёмным. Горели фонари, неоновая реклама. Светились подфарники у проезжавших машин, дул прохладный вечерний ветерок. Было хорошо. То есть было бы хорошо, если бы Д. не был так непристойно, по-скотски пьян.
Д. влез в автобус. Носок его ботинка зацепился за выступ ступеньки, и он едва не упал, в последний миг успев схватиться за поручень. «Не хватало мне только растянуться у всех на глазах! – думал Д. – Тогда уж точно не миновать мне вытрезвителя».
Д. стоял, держась за поручень. Голова у него противно кружилась. Будто не на автобусе он ехал, а катался на карусели. К горлу подступала тошнота. Перед ним сидела немолодая женщина в очках, похожая на учительницу. Она поглядывала на Д. с отвращением.
– Да стойте же вы как следует! – сказала она вдруг. – Неужели удержаться не можете! Надо же так напиться!
«Кошмар! – подумал Д. – Срамотища! И впрямь налакался, как свинья!» Он переместился в сторону. Теперь рядом с ним сидел солидный мужчина с круглым свежевыбритым лицом и толстыми усами, закрывавшими верхнюю губу. Он глядел в окно и делал вид, что не замечает Д. совершенно. Через некоторое время он повернул голову и пронзил Д. гневным взглядом.
– Простите, гражданин, но от вас несёт, как из помойки! Просто мочи нет! Вы не могли бы дышать куда-нибудь вбок?
Водитель объявил остановку, и Д. поспешно вышел. На свежем воздухе голова не так кружилась, и тошнота стала проходить. Однако по-прежнему покачивало. Д. прибавил шагу, и качка уменьшилась. «Как на велосипеде, – подумал Д., – чем быстрее двигаешься, тем лучше». Но тут он снова споткнулся, на сей раз о торчавшую из асфальта крышку канализационного люка. «Нет, – подумал Д., – нестись сломя голову небезопасно. Видимо, следует идти с оптимальной скоростью, не очень быстро и не очень медленно».
Комментарий
Этот день и на самом деле получился едва ли не самым худшим в жизни нашего Д. Такой проклятый день случается в жизни у каждого. И если у кого-то его ещё не было, то непременно будет. Надо быть к нему готовым. Действительно, силы зла за что-то ополчились на беднягу Д., и всё покатилось кувырком. Он разочаровался в деле, на которое возлагал великие надежды. Он потерял любимое существо. Его предала любимая женщина. С ним подло поступили люди, которым он не сделал ничего дурного. В довершение ко всему он непотребно, вульгарно, отвратительно напился. И то, что он напился с горя, его не оправдывало. Ещё неизвестно, как закончится для него этот ужасный день. Будем надеяться, что он не угодит в милицию и благополучно доберётся домой. Будем уповать на лучшее.
Эпизод четырнадцатый Прямо как в цирке
«Надо на чём-то сосредоточиться и не думать о том, что я зверски пьян», – решил Д. И он стал считать свои шаги. Досчитав до шестидесяти семи, Д. заметил дворничиху, подметавшую тротуар, и остановился перед нею. Дворничиха была довольно молодая, довольно модно одетая, и даже губы у неё были накрашены. «Какие нынче дворничихи пошли!» – подумал Д. с умилением.
– Вам чего надо? – спросила дворничиха.
– Мне требуется утешение, – ответил Д. – Меня только что обидели, оскорбили, обманули самым подлым образом.
– А я-то тут при чём? – удивилась дворничиха.
– Вы, конечно, ни при чём, но вы живой человек.
– Конечно, живой, – согласилась дворничиха. – Не померла ещё.
– А если вы живая, у вас должно возникнуть чувство сострадания при виде мучений другого живого человека, в частности, при виде меня.
– А чего вы страдаете-то? С виду не мученик. Правда, тёпленький слегка. Так это вы с горя и выпили?
– Да, с горя.
– Помер, что ли, у вас кто?
– Да. Меня навеки покинуло любимое, очень красивое существо.
– Женщина, что ли?
– В общем, да, женщина.
– Жена, наверное?
– Нет, не жена.
– Прихехешка?
– Нет, не прихехешка.
– Неужели дочка?
– Нет, и не дочка.
– Так кто же тогда?
– Рыбка.
– Слушай, ты, мученик, я тебя сейчас в милицию сдам! Рыбка! Вали отсюда!
Прислонив метёлку к стене, дворничиха стала шарить рукою в кармане фартука. Видимо, она искала свисток.
– Простите, что я вас побеспокоил! – сказал Д. и потащился дальше, продолжая усердно считать шаги.
Шестьдесят восемь. Шестьдесят девять. Семьдесят. Семьдесят один…
Когда счёт был двести тридцать три, Д. увидел на стене небольшую дощечку с надписью:
ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЁН
Рядом были закрытые глухие железные ворота.
«Я не посторонний! – подумал Д. – Я очень даже свой! Я имею право проходить где угодно!» И он надавил локтём на створку ворот. Створка скрипнула, поддалась, приоткрылась. Д. вошёл в небольшой, скудно освещённый неуютный двор. В углу двора уже знакомая ему дворничиха сметала мусор в широкий железный совок.
– Это опять ты, страдалец? – изумилась дворничиха, и рука её полезла в карман за свистком.
Д. повернулся и бросился к воротам. Дворничиха свистела ему вслед.
«Что за чертовщина! – недоумевал Д. – Всюду эта противная баба! От неё не отвязаться!»
Отдышавшись и успокоившись, Д. снова побрёл по улице, теперь уже почти не шатаясь. Можно было уже и не считать шаги, но Д. понравилось это занятие.
Триста тридцать четыре. Триста тридцать пять. Триста тридцать шесть…
Когда он добрался до четырёхсот одиннадцати, что-то шлёпнуло его по затылку. Д. поглядел себе под ноги и увидел на асфальте кружевной розовый женский лифчик. «“Ни фига себе!” – сказал бы Гоша» – подумал изумлённый Д. Повертев лифчик в руках, Д. машинально сунул его в карман и отправился дальше.
Четыреста двенадцать, четыреста тринадцать, четыреста четырнадцать…
Кто-то крепко схватил Д. за локоть. Он обернулся. Перед ним стояла миловидная, но очень растрёпанная женщина лет сорока, придерживая рукой полу коротенького голубого халатика. Она была в тапочках. Ноги у неё были голые.
– Отдайте мой лифчик! Зачем он вам?
– Так это ваш?
– Да, это мой!
– А зачем вы выбрасываете свои лифчики из окна?
– Это моё дело! Хочу и выбрасываю!
– А почему вы не выбрасываете трусики?
– Ну, знаете ли, это уже хамство! Немедленно отдайте!
Женщина вцепилась в кончик лифчика, торчавший у Д. из кармана, и потянула его к себе. Всё ещё изрядно пьяный, Д. схватил женщину за руку.
– Куда вы так торопитесь? Всё-таки скажите, почему вы швырнули его в окно? Меня это страшно заинтриговало. Ещё ни разу в жизни столь пикантный предмет женского туалета не падал мне на голову. Кажется, это неспроста. В этом есть нечто символическое.
– Хватит мне зубы заговаривать! – крикнула женщина и дёрнула лифчик изо всей силы.
– Да не спешите вы! – спокойно произнёс Д. – Отдам я сейчас ваш бесценный бюстгальтер. Только признайтесь, как вы относитесь к эсхатологии, то есть к проблеме светопреставления?
– Идиот! – сказала женщина. – Милиция! Милиция! – заорала она тут же.
Откуда ни возьмись, появилась всё та же мерзкая дворничиха.
– Ага! Это снова ты! – воскликнула она радостно. – Ну теперь ты у меня попался, хулиган!
И она опять очень громко засвистела в свой свисток.
Д. сунул лифчик женщине за пазуху и бросился бежать со всех ног.
– Держите его! – вопила дворничиха. – Держи-и-и-ите!
Ей вторила владелица розового лифчика.
– Держи-и-и-ите!
«Нет, сегодня в живых мне не остаться! – думал запыхавшийся Д., сворачивая за угол. Он почти протрезвел, но голова у него была тяжёлой и в ушах гулко стучала кровь. – Нет, какой денёчек! – продолжал думать Д. – Тьма приключений! И опаснейших!»
Заметив «Волгу» с зелёным огоньком, Д. поднял руку. Заскрежетав тормозами, машина остановилась. Д. подошёл, заглянул в кабину и поинтересовался, довезут ли его туда, куда ему надо.
– Не успеем, мост разведён, – мрачно сказал таксист.
– Но пока мы едем, его уже и сведут, – сказал Д.
– Нет, не сведут, ехать недолго, – столь же угрюмо возразил шофёр. – А вы поезжайте помедленнее, – предложил Д.
– Какой вы умный! – сказал таксист. – Помедленнее! Да если я буду ползать, как черепаха, я ни шиша не заработаю! Помедленнее! Я с женой позавчера, как говорится, развёлся! Мне алименты ей надо платить! Помедленнее!
– Но ведь ночью бывает не так уж много пассажиров! Всё равно вы проторчите полчаса на стоянке!
– Ладно, залезайте, – смирился наконец водитель.
Ехали медленно. Шофёр поначалу молчал, но потом разговорился.
– Вы, пассажиры, думаете, небось, что мы, таксисты, все хапуги и деньги у нас лёгкие. А вот посидите-ка смену за баранкой! Поколесите по городу восемь часов! Глаза у вас на лоб, как говорится, вылезут! Это же вам не деревня, не провинция. Транспорт всякий. Светофоры на каждом шагу. Гаишники на каждом углу. А ведь ездить-то надо, как говорится, с ветерком. Во-первых, потому что план, а во-вторых, потому что все пассажиры торопятся: скорей, говорят, поезжайте как можно скорей, что вы еле-еле тащитесь! У всех дела какие-то срочные! Все куда-то опаздывают! Все куда-то не успевают! Все угорелые какие-то! А скорость превышать нельзя. Тут же тебя – цап, и дырку в талоне сделают, а то и прав лишат на недельку. Тогда хоть зубы на полку, как говорится, клади. Да и пассажиры попадаются разные. Некоторых и везти-то противно, а приходится. Чуть что – запишут номер, и премия за квартал тю-тю. Есть и такие, которые платить не желают. Везёшь их куда-нибудь к чёрту на кулички. Привезёшь, а они нагло так, спокойненько заявляют, что денег у них нет ни копейки. Можно, конечно, позвать постового, составить, как говорится, акт. Так ведь потом тебя же таскать будут по всяким там прокуратурам из-за этой несчастной пятёрки. Плюнешь, пошлёшь их к этакой маме и уедешь. Да и опасна, знаете ли, работёнка наша. Бывает – грабят, выручку отнимают. Хорошо, если только деньги отберут, а то для порядка ещё и ножик воткнут под ребро или по темени ключом гаечным саданут. Месяца четыре тому назад хоронили в нашем автопарке одного парня. Сопляки какие-то были, школьники. Он не захотел, как говорится, деньги отдавать. Так они его всего напильником острым истыкали. Поймали их, правда, на другой день. А что толку? Парень-то всё равно угодил в крематорий.
Подъехали к мосту. Он был разведён. Видна была только одна его створка, серой стеной возвышавшаяся в полумраке ещё не очень тёмной, почти белой ночи. На стене тускло поблёскивали трамвайные рельсы, а по краям её горизонтально и совершенно несуразно торчали фонари. «Фантастика какая-то, – подумал Д. – Этот вставший дыбом асфальт… Эти рельсы, устремлённые в небо… Сюрреализм!»
Шофёр поглядел на часы.
– Осталось пятнадцать минут. Так уж и быть, я подожду. А у меня вчера забавный случай был. Такое только в кино, как говорится, можно увидеть, или в рассказе каком-нибудь прочитать. Часа в два ночи проголосовала мне бабёнка, смазливенькая такая брюнеточка. Я её взял. Уселась она рядом со мною. Я ещё подумал – не боится, что я приставать начну. Если женщина одна, то она чаще всего на заднее сиденье забирается, для безопасности. А эта храбро так со мною рядышком устроилась. Поехали. Она меня спрашивает: «Вы не будете против, если я закурю?» – «Не буду, – говорю, – курите себе на здоровье. Только какое уж от табака здоровье». Признаться, не люблю я, когда женщина курит. Не женское это занятие. И неприятно, когда от женщины табачищем разит, как от матроса какого-нибудь или работяги. Закурила она, затянулась смачно, открыла рот и стала дым выпускать маленькими кругленькими такими шариками. Никогда я не видел таких шариков. Колечки – это да. А тут шарики. И почти все одинаковые, аккуратненькие такие. Смотреть – одно удовольствие. «Как это у вас получается? – спрашиваю. – Очень уж ловко. Прямо как в цирке!» А она отвечает: «А я и есть циркачка – жонглёрка, эквилибристка. Я ещё и не такое умею!» Ну надо же, думаю, – эквилибристка! Ни одной эквилибристки до сих пор вблизи я не видел. Подкатили мы к её дому. Она стала рыться в сумочке. Долго рылась. Заглядывала в разные отделеньица, вытаскивала какие-то бумажки и обратно их засовывала. Потом говорит: «Вы знаете, мне очень неловко, только деньги-то я, кажется, дома забыла. Рассеянная я вообще-то, со мною такое бывает. Вы не могли бы подождать минут пять? Я сбегаю домой и принесу деньги! Если не верите, я вам сумочку в залог оставлю. Она новая, только что куплена, хорошая импортная сумка, двадцать пять рублей за неё отдала. Или давайте поднимемся вместе – я на четвёртом этаже живу. Если у вас есть время, я угощу вас бразильским кофе. Вам, небось, полезно будет выпить чашечку, чтобы ночью не уснуть за рулём. Я слышала, что шофёры иногда за рулём засыпают, и это очень опасно». Мне, как говорится, интересно стало. «От кофе не откажусь, – говорю, – только с какой же стати будете вы меня, совсем даже незнакомого человека, угощать?» – «А ни с какой, – отвечает, – просто так».
Одним словом, поднялись мы на лифте. Она отперла дверь. Света в прихожей не было, и я сразу понял, что живёт она одна. А когда зажгла она свет, увидел я, что в прихожей по стенам сплошь полки с книгами. Удивился: зачем циркачке столько книг? Ей и читать-то небось некогда – тренироваться же надо подолгу каждый день, чтобы форму, как говорится, не потерять, чтобы не разучиться.
Она повела меня в кухню, посадила за стол, налила в чайник воду и поставила его на газовую плиту. «Подождите меня минутку!» – сказала и вышла. Я сидел, ждал и разглядывал кастрюли всякие и поварёшки. Ещё календарь на стене висел отрывной, очень большой. На календаре картина была изображена знаменитого художника, не помню только его фамилию – видел я эту картину в музее. Тут она вернулась, и я рот разинул. Была она, как говорится, в чём мать родила, одни только трусики были на ней маленькие и совершенно прозрачные – всё было видно. Грудь у неё была большая, полная, но совсем не отвислая. Соски вверх торчали, как у мраморных статуй, у всяких там Психей и Афродит – их я тоже в разных музеях разглядывал. «Ага, испугались!» – сказала она, смеясь. А я и впрямь струхнул немножко. Не ожидал я такого, и никогда ничего подобного со мной не случалось. Подошла она, положила руки мне на плечи и говорит: «У вас найдётся для меня полчаса времени? Или вы очень торопитесь?» Я, как говорится, обомлел, растерялся и даже задрожал весь от волнения. «Простите, – говорю, – машина у меня осталась незапертой… да ведь и на работе я… план надо выполнять».
Она постояла около меня немножко, после усмехнулась и снова ушла. Через минуту появилась опять, уже в халате, и положила на стол пятёрку. Тут чайник на плите свистнул – со свистком он был. «Ну а как же кофе?» – спросила она меня и снова усмехнулась. «В другой раз» – говорю, и боком, боком в прихожую. Дверь мне она открыла настежь, и выбежал я на лестницу. Обернулся, а она в дверях стоит и по-прежнему усмехается. Халат у неё распахнулся, и опять всё видно стало. Влез я в свою «Волгу», сел за руль и сижу, как говорится, обалдевший. «Ну и ну! – думаю. – Ну и приключеньице!» Руки-ноги у меня онемели, будто паралич меня хватил. После включил мотор. Проехал метров триста и остановился. «Может, вернуться? – думаю. – Будто и не мужик я вовсе! Что она обо мне подумала?» Постоял, постоял и поехал дальше. Вот такая история, как говорится.
– А вы адрес-то её запомнили? – спросил Д.
– Нет, адрес не запомнил. Но улицу запомнил и дом тоже. И квартиру найду, конечно, если понадобится.
– Так поезжайте к ней поскорее! Чудак вы, право! Красивая женщина! Да ещё к тому же одна в квартире! Да ещё к тому же вы явно ей приглянулись! Да ещё к тому же вы только что развелись с женой! Да это счастливейшее, прямо-таки редкостное стечение обстоятельств! Да я бы на вашем месте!..
– Да? – спросил шофёр недоверчиво.
– А то нет! – воскликнул Д.
Такси остановилось у парадного. Д. расплатился, вылез.
– Поезжайте завтра же! Не тяните! Куйте железо, пока оно не остыло! Я желаю вам счастья!
– Спасибо! – сказал растроганный шофёр, и машина умчалась.
«Право, чудак! – думал Д., поднимаясь по лестнице. – Женщин боится. Но не лишён наблюдательности: “соски вверх торчали”!»
Открывая дверь, Д. вспомнил о своих несчастьях. Когда дверь открылась, он задержался на пороге. Ему не хотелось входить в комнату, не хотелось видеть своё неудавшееся, жалкое дело, не хотелось видеть мёртвую Хариту. Но всё же он вошёл. Он боялся взглянуть на свой письменный стол, но всё же собрался с духом и взглянул. Среди разбросанного в полном беспорядке растреклятого неудавшегося дела стояла баночка с водой, на дне которой лежала неподвижная рыбка, полуприкрытая своим хвостом, как прозрачным, тонким саваном.
Д. поплёлся на кухню, нашёл в одном из шкафчиков маленький полиэтиленовый мешочек, вернулся в комнату, ложкой вытащил Хариту из банки и осторожно положил её в мешочек, расправив ей хвост, чтобы было красиво. После он долго копался в ящике письменного стола и наконец извлёк из него шёлковую розовую ленточку. Перевязав ленточкой полиэтиленовый пакетик, Д. сделал бантик. После этого он запихнул в карман ложку, положил пакетик на ладонь и вышел из квартиры.
Было уже совсем светло. Около дома орудовала метлой дворничиха. Но это была не та вредная, чужая дворничиха, а своя, хорошо знакомая и добрая.
– С добрым утром! – приветствовала она Д. и поглядела на него недоумённо – в такую рань он никогда не выходил из дому.
– С добрым утром! – ответил Д. и направился к ближайшему скверику.
В скверике не было ни души. Д. забрался в кусты, выкопал ложкой ямку, положил в неё пакетик и выпрямился. «Прощай, Харита!» – сказал Д. и тяжело вздохнул. Постояв минуты две, он закопал ямку и водрузил на маленький холмик увесистый булыжник. «Прощай!» – сказал он ещё раз и побрёл домой.
Дворничиха опять взглянула на Д. с недоумением. Со стороны его поведение выглядело и впрямь несколько странным.
Вернувшись домой, Д. уселся за письменный стол и принял свою любимую позу, обхватив руками голову.
«Судьба добивает меня, – с тоской думал Д. – Ещё один лёгкий удар, и со мною всё будет кончено. Ещё один щелчок по носу, и кранты, как говорит Гоша».
Д. тупо глядел перед собою, ничего, в общем-то, не видя. Наконец он стал кое-что замечать. Перед ним было разбросано в беспорядке теперь уже ненавистное ему и абсолютно никчёмное дело. Он небрежно пробежал глазами первый же попавшийся фрагмент.
«А между прочим, не так уж и дурно!» – подумал Д., удивившись.
После он просмотрел ещё один фрагмент. «А это и ещё лучше!» – поразился Д. Тогда он с жадностью стал просматривать один кусочек дела за другим. И все эти кусочки были хороши!
«Что за дьявольщина! – изумлялся Д. – Ведь вчера это вызывало у меня отвращение, омерзение, почти рвоту! За ночь кто-то всё переделал? Да нет же! Ничто не изменилось! Всё осталось, как было! Но как ни странно, производит теперь совсем другое впечатление!» С жадностью и надеждой Д. принялся заново ворошить своё капризное, переменчивое, непостижимое дело. «Оно как хамелеон! – размышлял Д. – Оно как Зиночка! У него множество лиц! Какое же лицо подлинное? Рехнуться можно!» Но чем дольше он рылся в деле, тем яснее ему становилось: ДЕЛО ВЫШЛО! ДЕЛО ПОЛУЧИЛОСЬ! ДЕЛО ВЕЛИКОЛЕПНО! ДЕЛО ЧТО НАДО! ЗА ТАКОЕ ДЕЛО МОЖНО ПОСТАВИТЬ ПЯТЬ! ДАЖЕ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!
«Ну и дела! – размышлял воспрянувший духом, приободрившийся, радостный Д. – Значит, напрасно я панику порол, напрасно горевал и убивался! Просто-напросто навалилось на меня тяжкое настроение, накатила на меня волна жестоких сомнений, обрушилась на меня лавина беспричинного разочарования! Вместо того чтобы взять себя в руки, не психовать и немного подождать, я стал упиваться своим отчаяньем, стал истязать себя мрачнейшими мыслями. И едва не спятил! А может быть, и с Зизи я поторопился? А может быть, и тут я сам себя сбил с панталыку?»
Но снова увидел Д., как подлая прелестная Зиночка, перебросив плащик через руку, быстрым шагом направилась к «Москвичу» изысканного цвета слоновой кости, как открылась навстречу ей дверца, как Зизи нырнула в кабину, как дверца за ней захлопнулась, как неизвестный ему тип спокойно, по-хозяйски поцеловал её в щёку, как «Москвич» нагло, самоуверенно развернулся и уехал, увозя его неверную возлюбленную, этого ангела с золотистой чёлкой, это исчадие ада с родинкой у левой ноздри.
«Нет, тут не может быть никаких сомнений! – решил Д. – Тут всё ясно. И не стоит больше думать об этой особе. Следует забыть её навсегда и успокоиться».
Комментарий
Д. натура неуравновешенная. У него слабые нервы. У него неустойчивая психика. Он мнителен и подвержен приступам почти женской истерии. Нельзя же так, в самом деле! Столько времени угробил он на своё дело! Жить без него не мог! Счастьем своим семейным пожертвовал! С друзьями своими раздружился! И вдруг! Что-то ему почудилось, померещилось – и всё полетело в тартарары! Всё, оказывается, дрянь, чушь, ерунда, всё никуда не годится, всё напрасно, всё надо перечеркнуть и выбросить в мусоропровод!
А ведь мог бы он и впрямь швырнуть своё любимое творение в мусоропровод! Хорошо, если бы после, спохватившись, он отыскал его там, внизу, в контейнере для мусора. А если бы не отыскал? Словом, этот псих сам себе постоянно портит жизнь, а потом заявляет, что судьба-злодейка его заела и жизнь у него нисколечко не удалась. Прямо-таки противно глядеть временами на этого субъекта! И с Зиночкой, наверное, получится так же. Ведь мог же заехать за нею муж подруги или братец родной (Д., между прочим, даже не соизволил поинтересоваться, есть ли у Зизи братья и сёстры). Хариту, конечно, жаль, однако делать из этого трагедию не стоило бы. Объелась она, наверное, вкусного мотыля, и вот результат. Можно купить на зверином рынке другую вуалехвостку, ещё лучше, ещё красивее Хариты. Что же касается шофёра, которого не удалось соблазнить прелестной циркачке, то он, согласитесь, просто слюнтяй. И слава богу, что жена с ним развелась. Так ему и надо. Около него оказалась обворожительная женщина с редкой романтической профессией, а ему, видите ли, приспичило план выполнять! Хочется плюнуть и матюгнуться по-гошински, по-российски! Плюнуть и удалиться, не произнеся более ни единого словечка.
Эпизод пятнадцатый Гоша вытаращил глаза
Д. встретил Гошу на улице. Гоша был трезв и печален. Вероятно, потому он и был печален, что был вполне трезв. Он нёс очень старенькую холщовую сумку с потёртыми углами. Одна из ручек была порвана и завязана небрежным узлом. В сумке что-то стеклянно постукивало. Видимо, бутылки.
– Здравствуй, кореш! – произнёс Гоша.
– Здравствуй, Гоша! – произнёс Д.
– Как поживаешь, кореш?
– По-прежнему поживаю, без перемен.
– И я по-прежнему поживаю, без изменений. А на фига они, изменения? И так хорошо.
– Вот и я думаю, что перемены ни к чему.
– Мы с тобой консерваторы, Фёдор Михалыч!
– Да, получается, что мы с тобой консерваторы, Гоша.
– А как твои рыбки?
– Одна умерла. Похоронил её позавчера. В общем, неважно…
– Я тебе сочувствую, кореш! Не горюй. Жалко рыбёшку. Но что поделать – все мы там будем, и рыбки, и птички, и кошки, и человеки. Такой уж получается расклад, такие уж сволочные у природы законы.
Гоша скорбно помолчал.
– Слушай, Достоевский, – продолжил Гоша, – а не найдётся ли у тебя на малыша? Надо же помянуть живую тварь! А то как-то не по-божески. Возьмём по полкружки и дольём водкой. Посидим на скамеечке, побалакаем. А?
Зашли в магазин. Д. купил маленькую. Отправились к пивному ларьку. Когда пиво было налито, спрятались за ларёк. Гоша ловко и очень профессионально раскупорил бутылку.
– Только мне немножко! – попросил Д.
– Немножко так немножко, – добродушно пробурчал Гоша и отпил из кружки, чтобы поместилась водка. Д. хотел было чокнуться, но Гоша отвёл свою кружку в сторону.
– Ты что? На поминках же не чокаются! Царствие небесное новопреставленной. Ты её похоронил, что ли?
– Похоронил.
– Вот и правильно. Такую замечательную рыбину грех коту отдавать. Хорошего ей лежания! Да будет земля ей пухом!
В два приёма Гоша опорожнил кружку, крякнул и стал ждать, когда выпьет Д.
Пошли в скверик, уселись на скамеечку, закурили и стали «балакать».
– Вот ты умный, Д., – начал Гоша, – так объясни ты мне, пожалуйста. Почему у одних жизнь как жизнь, вполне человеческая, приличная жизнь. А у других жизнь собачья. Да что там – собачья! У многих собак нынешних жизнь шикарная, райская, падлой буду, жизнь! Я, конечно, по закону тунеядец, но я же не дармоед! – Гоша потряс сумкой, в которой звякнули бутылки. – Почему у одних всё так гладко в жизни, всё как надо, а у других всё через пень-колоду, и всякая хренотень на них валится со всех сторон, и всю жизнь они в дерьме по колено бродят, и все их посылают, и нет у них ни дома, ни жены, ни детишек, и не на что им кружку пива купить, и все говорят им: хоть бы вы сдохли! Нешто они виноваты, что на свет родились? Нешто они виноваты, что на этом свете обгаженном местечка для них не нашлось? Нешто они виноваты в том, что они такие, как есть, а не другие какие-нибудь? Уж если они такие, то для чего-то, ё-моё, это нужно! Почему же такая херня получается, ответь ты мне, Д., если ты умный!
К скамейке подлетела стайка воробьёв. Воробьи выжидательно и с надеждой поглядывали на разглагольствовавшего Гошу и на молчащего Д.
Д. сказал:
– Ты, Гоша, посиди тут, а я схожу в булочную – она тут рядышком. Надо воробьёв покормить. Видишь – они голодные.
– Вместе сходим, – сказал Гоша, – фиг ли я тут сидеть-то буду один?
Пошли в булочную. Д. купил батон. Вернулись в скверик и снова уселись на скамейку. Воробьи не улетели – ждали, когда вернутся с батоном.
– Умные, паразиты! – сказал восхищённый Гоша. – Всё рубят – будь здоров! Уважаю я этих птиц.
Д. принялся крошить батон. Воробьи хватали крошки на лету и отнимали их друг у друга. То и дело возникали драки, хотя еды было достаточно – её хватило бы всем.
– Так вот я и думаю – отчего такая херня получается? – продолжал Гоша. – И вообще – что главное в жизни? Вот для воробьёв главное – пожрать вдоволь. Ну ещё воробьиху помять, конечно. Только они этим весной занимаются. Сделали своё дело и успокоились. У людей с этим хуже. Мы весь год бабами озабочены. И весной, и летом, и осенью, и зимой. Такими уж нас природа падла сотворила. Так, может, бабы и есть главное в жизни? Как ни верти, а без них и впрямь не обойтись. У некоторых, правда, другие увлечения бывают. Вот, к примеру, ты дело себе какое-то придумал. А те, которые без дела?
Д. раскрошил воробьям ещё один ломоть батона.
– Я думаю, Гоша, что главное в жизни – наслаждение. К нему мы постоянно стремимся, о нём непрестанно помышляем, им с жадностью упиваемся, в него с головою ныряем. Те, кому наслаждений не хватает, частенько бывают озлоблены на ближних, дальних и на весь мир. А те, у кого наслаждений избыток, нередко захлёбываются ими и погибают. Разные доступны человеку наслаждения – простейшие, не очень простые и очень сложные, изощрённые, утончённые, редкостные. Простейшие – это вкусная еда, хорошая выпивка и соблазнительная женщина. Если тебе хочется спать, ты наслаждаешься сном. Если тебе надо помочиться, ты наслаждаешься и этим. Такие удовольствия всем доступны. Не очень простые наслаждения – это любимое занятие, творчество, так сказать, и ещё – красота природы, и ещё – красота искусства, и ещё – общение с хорошими людьми, и ещё – чистая совесть. Есть также любители славы и власти. Это, пожалуй, самые опасные наслаждения. Но устоять перед ними дьявольски трудно. Тьма народу из-за них погибла. И погибнет из-за них ещё тьма. Ты вот, Гоша, говорит, что нет для тебя ничего слаще свободы. Свобода – это тоже не очень простое наслаждение. Не всем людям оно доступно. Одним – потому что не было у них никогда свободы и они понятия не имеют, что это такое. Другим – потому что не нужна им эта свобода, с нею у них одни только хлопоты и никаких радостей. А для третьих куда приятнее простейшие удовольствия, и на свободу они плевать хотели. Очень сложные наслаждения – это наслаждения страданием, мученьями всевозможными.
– Ну это ты, Д., загнул! – воскликнул Гоша. – Как же можно мученьями наслаждаться?
– Ещё как можно! Вот, к примеру, когда женщина рожает, она испытывает муки страшные, но при этом она и радуется, и наслаждается. Или – безответная любовь. Это, брат Гоша, тоже штука непростая. Вроде бы мучение, но сколько в нём сладости! Сколько в нём красоты невыразимой! Какая в нём поэзия! Или предают себя казни за правое дело. Здесь тоже и муки, и сладость особая, и даже восторг некий, ни с чем не сравнимый.
– Неужели, Д., предавали тебя жестокой казни за правое дело? Что же ты скрывал-то, ё-моё!
– Конечно, не предавали, но знаю я, что это великое удовольствие. Вот об этом самом и пишет обожаемый тобою Шопенгауэр. Он, конечно, не дурак. Наслаждений-то в жизни не так уж много, а страданий – избыток. И для того чтобы не отчаяться, надо находить радость в страданиях, надо приучить себя страдать и терпеть. Монахи умели это делать. А самое изощрённое наслаждение – конечно же, наслаждение смертью.
Гоша взглянул на Д. испуганно.
– Да, да, наслаждение смертью. Оно тоже не для всех. Все рано или поздно умирают, но далеко не каждый наслаждается смертью. Для этого способности особые требуются, особые качества души, талант, одним словом. Смерть дарит нам самое сильное, самое острое и самое своеобразное наслаждение.
– Так, значит, ты, Фёдор Михалыч, уже умер? Ну да, конечно же, ты умер в тысяча восемьсот восемьдесят каком-то там году! Я уж об этом и забыл с концом!
Д. помолчал. Он вдруг тоже оробел немножко. «А что, если я и в самом деле давно уже умер?» – подумал он, холодея.
– Ненаблюдательный я, – сказал Гоша, пристально глядя на Д. – Не заметил ни хрена, что ты покойник!
К стайке воробьёв подлетел ещё один воробьишка, очень бойкий и наглый. Крошек было рассыпано достаточно, но он стал наскакивать на своих соплеменников и отнимать у них то, что им досталось. Воробьи, видимо, изумлённые его странным поведением, не сопротивлялись и покорно разлетелись в стороны, добровольно уступая наглецу свою пищу. А тот, гордый собою, клевал самые лучшие, самые вкусные крошки, небрежно подрыгивая хвостиком.
– Вот видишь, – засмеялся Гоша. – А что? Так и надо! Падлой буду! Чего ушами-то хлопать? Орёл, а не воробей! Так, значит, не надо бояться смерти? Значит, надо ждать её с нетерпением? Значит, смерть – это как вкусный компот на третье? Так чего же мы тогда ждём, Фёдор Михалыч? Помереть так сладко и легко! А жить так горько и так тяжело! Станем же поскорее мертвецами! Кабы я знал, что смертью насладиться можно, я бы давно уж… А ты-то чего ждёшь? А, Д?
– Я жду конца света.
– Ну, Д., опять ты меня потряс, ё-моё! Это сколько же тебе ждать-то придётся? Охренеть можно!
– Недолго ждать. Недели две, не больше.
Гоша вытаращил глаза.
– Ох, Д! Я с тобой уже шизею! Через две недели всё пойдёт к кузькиной бабушке, а ты помалкиваешь в тряпочку, а ты – ни гу-гу! Даже от меня, кореша своего, скрываешь! Кто тебе об этом сказал?
– Старуха одна. На свалке. Предсказательница.
– Так, может, наврала? Или ошиблась? Ты ей сразу и поверил?
– Поверил. Не смог почему-то не поверить. И, значит, всё правда.
– Брось ты, Д! Трендёж это всё! Брехня! Почему через две недели? Почему не через год? Почему не через двести лет?
– Эх, Гоша! Кто же может это знать! Через две недели, и всё тут! Вот поэтому я и тороплюсь закончить своё дело.
Гоша поморгал глазами.
– А на хрена тебе дело, если всему хана?
– Но ведь это же, Гоша, величайшее наслаждение – сделать гигантское дело и увидеть, как оно погибнет вместе с миром, вместе с человечеством, вместе со всеми его творениями, вместе со всеми его надеждами!
Гоша выпятил губы и задумчиво ими пожевал.
– М-да-да… Вообще-то в этом что-то есть, конечно… Падлой буду. Мне бы хоть пива вволю попить перед концом света! И всё, значит, погибнет?
– Да, всё!
– Ни фига не останется?
– Да, ни фига не останется.
– А страшно ведь, Д? Падлой буду!
– Конечно, страшно. Ещё как страшно.
– Так что же нам делать-то теперь?
– Ничего не делать. Ждать.
– Ну а если все узнают?
– Не узнают. Я только тебе эту тайну открыл. А ты не трепли языком. Если все узнают, светопреставление начнётся ещё раньше. Не стоит портить человечеству его последние дни.
– Ты прав, Федя! Фиг с ним! Пусть оно поживёт спокойно оставшиеся денёчки. А хорошо, Д! Никаких у меня забот не будет! Не надо будет пиво клянчить! Не надо будет бутылки собирать! Не надо будет с Варькой, сукой, лаяться! Не надо будет милиции этой сучьей опасаться! Лафа, Д! Кайф сплошной! Сплошное наслаждение!
Гоша помолчал, поскрёб затылок, почесал одну ногу о другую и пощупал свою сумку – целы ли бутылки?
– А может, пронесёт? А, Д? Может, как-нибудь рассосётся? Жалко мне человечества. И городов жалко – строили-строили, и всё коту под хвост, всему хана. Слушай, Достоевский, а может быть, нас инопланетяне спасут, тарелочники какие-нибудь? Может быть, конец света им нипочём? В последний момент придумают они что-нибудь, нажмут на какие-нибудь кнопки… Ну пусть хотя бы половина мира останется, я согласен.
– Нет, Гоша, это малодушие. Просто трусость. Конец так конец, как сказала одна моя знакомая. Надо смело смотреть в глаза ужасной правде и не прятать голову под крыло. Будем гордиться тем, что мы последние люди на земле, а может быть, и в нашей Галактике, а может быть, и во всей Вселенной.
– Ладно, – сказал Гоша, – будем гордиться. Вот, сынок мой взглянул на этот мир и сразу скумекал, что к чему. И рванул обратно. Долго его не было в мире, а и опять его в мире нет. И никогда его уже в мире не будет. Потому что и мира самого не будет, потому что не будет уже ни хрена. Всё путём, Михалыч, всё путём! Стремительно несёмся к катастрофе! Дух спирает! Даёшь конец света!
Гоша потёр пальцами кончик носа.
– Эх, Д., какие времена настали!
Тут он выругался так длинно и красиво, что Д. ему зааплодировал.
– Браво, Гоша! Превосходно, Гоша! Высочайший класс!
– Могу и получше, – сказал польщённый Гоша. – Это так, средненько.
Воробей-экстремист, насытившись крошками и своим могуществом, сидел уже неподвижно, втянув голову в перья. Дремал, вполне собою довольный. И вдруг откуда-то сверху к нему подлетел ещё один воробьишка, малорослый, щупленький, невзрачненький с виду. Для начала он клюнул потерявшего бдительность властелина точнёхонько в темя. Потом, расставив крылышки, он стал толкать его грудью, при этом он громко, угрожающе верещал. Ошеломлённый властитель отступал, едва пытаясь сопротивляться. Наконец, осознав бесполезность борьбы, он вспорхнул и ретировался. Поле боя осталось за малышом. Его поступком нельзя было не восхищаться. Он один выступил против тирана и, проявив удивительную силу духа, одолел его! Он один освободил воробьиный народ от узурпатора. Он один завоевал воробьям свободу!
Робкие воробышки стали осторожно подлетать к оставшимся крошкам, пока ещё не осмеливаясь их клевать. Но вот кто-то уже расхрабрился и клюнул. Вот и второй уже клюёт, и третий, и четвёртый. Вот уже вся стайка снова у скамейки. Все едят с жадностью, всем хватает. Но странно: малыш-герой, освободитель, избавитель, отважный, самоотверженный малыш вдруг растопыривает крылышки и начинает бросаться на освобождённых точно так же, как он бросался на свергнутого и посрамлённого тирана! И так же зло, так же угрожающе верещит при этом!
– Увы, мы ошиблись, – сказал Д. – Он не борец за свободу для всех, он борец за власть только для себя. Он тоже узурпатор. Он тоже деспот. Ах, Гоша, какое разочарование!
Гоша опять очень длинно выругался.
– Долой тиранию! – крикнул он потом и замахал на новоявленного тирана руками. Тот обратился в бегство.
– Соблазн власти! – сказал Д. – Против него трудно устоять. Некоторые наслаждение властью предпочитают всем остальным разновидностям удовольствий. История уже много веков мучается с подобными типами. Но они неистребимы. Имеется ведь и ещё один великий соблазн – соблазн повиновения. В рабстве, как и в смерти, есть утончённейшая сладость. Да и удобство тоже. Делай, что велят, и ни о чём не заботься. Потому-то и появляются цезари и бонапарты. Всё не так просто, брат Гоша.
– Да, Михалыч, сложностей по самые помидоры. Это я давно заметил. Но только как же это? Выходит, что все чем-то наслаждаются, всем достаётся какое-нибудь наслажденьице, никто не обойдён и все довольны? И несчастных нет совсем? Красивая уж больно картина получается!
– Нет, Гоша, картина не так уж хороша. Дело в том, что не все довольствуются доступными им наслаждениями, многих тянет к наслаждениям недоступным. Это и делает их несчастными. К примеру, есть у женщины хороший муж и неплохие дети. Ей бы наслаждаться семейным своим благополучием, но она, дурёха, другого мужчину любит, который на неё и внимания-то не обращает, и потому – совершенно несчастна. Или, например, человек вполне несвободный, сущий раб, короче говоря, прелести рабского своего состояния не понимает и бредит свободой. Ему бы смириться, ему бы сообразить, что куда проще наслаждаться рабством, чем о свободе своей тщетно заботиться. Но он, кретин, хочет непременно наслаждаться свободой, подай ему свободу, и всё тут. И конечно, он страдает, мучается, терзается. И разумеется, ему, бедняге, не позавидуешь. Или ещё пример: человек нервный, мнительный, психически неуравновешенный, хочет купить автомобиль, хочет насладиться быстрой ездой по роскошным автострадам. Ему говорят: «Да бросьте вы! На кой чёрт вам машина? С вашими-то нервами!» Но он упорствует и всё же покупает. И начинается для него каторжная жизнь. Он боится светофоров, боится милиции, боится ездить по городским улицам, боится загородных шоссе, боится дождя, боится листопада, боится гололёда, боится мальчишек, которые получают величайшее наслаждение, выцарапывая на машинах непристойные словечки, боится кого-нибудь задавить, боится, что кто-нибудь на него наедет, боится, что машину украдут, всю целиком или по крайней мере сопрут покрышки, а то и подфарники отвинтят, а заодно и зеркало и что-то там ещё отковыряют. И не машиной он наслаждается, а муками, которыми постоянно одаривает его эта дорогая, эта изящная, сверкающая лаком и никелем новенькая машина. Одним словом, любезный мой Гоша, чтобы наслаждаться в соответствии со своими потребностями, необходимо учитывать свои возможности и вести себя разумно. А поскольку много неразумных, то много и несчастных, которые о подлинных наслаждениях не могут даже и мечтать.
Гоша глядел на Д. с восхищением.
– Ты, Фёдор Михалыч, великий мыслитель! Падлой буду! А это твоя собственная философия или ты вычитал её где-то?
– Философия моя собственная, но нечто подобное уже было. Жил в античные времена философ Эпикур. Неглупый был мужик. И он рассуждал почти так же. Можно сказать, что мы вдвоём с Эпикуром придумали эту философию. Он чуть пораньше, я чуть попозже.
– Чудно! – сказал Гоша. – Что ни философ, – своя философия. Эпикур говорит – наслаждайтесь! А мой Шопенгауэр твердит – мучайтесь! Кого же слушать, ё-моё? Кому же верить?
– А кому хочется верить, тому и верь. А ещё лучше – верить обоим. Оба правы. Шопенгауэр любил помучиться и всех сластолюбцев призывал к страданиям. А Эпикур упивался наслаждениями и пытался соблазнить ими всех страдальцев. И тот и другой наслаждались, но каждый по-своему. Эпикур наслаждался простодушно, в открытую, а Шопенгауэр – изощрённо, с притворством, делая вид, что не наслаждается вовсе.
– Мудрёно это как-то, – вздохнул Гоша. – Тут без полбанки не раскумекаешь. А мы с тобою всего-то четвертинку раздавили с пивом пополам.
Комментарий
И впрямь мудрёная у Д. философия. Какой-то тотальный, безбрежный гедонизм. Этакое не только Гоше уразуметь не дано. На первый взгляд – чушь, ерунда полнейшая. Но если вдуматься, есть здесь одна хитрость, одна особенность, достойная внимания. Эта философия на удивленье утешительна и удобна. Все, оказывается, наслаждаются жизнью так или иначе. Во всяком случае, наслаждение всем доступно. Стоит только уверовать, что во всех терзаниях таится сладость, как все тяготы, все нелепости и загадки бытия тут же исчезают. И нет больше тревог, забот и опасений. И нет больше неприятностей, горестей и несчастий. Раскрепощённый, счастливый человек, улыбаясь, шагает навстречу неведомому, навстречу душевным и телесным мукам и, замирая от предвкушения самого острого, самого жгучего, самого великого наслаждения, радостно падает в холодные объятия смерти. Вряд ли Д. сам до этого додумался. Но если и не сам, всё равно это любопытно, и об этом следует поразмыслить на досуге. О, если бы досуг был нам дарован, был нам доступен! О, если бы услаждались мы досугом хотя бы изредка! Увы! Всё дела какие-то, всё дела. Всё работа некая, полезная и бесполезная. Всё старания, частенько бессмысленные и тщетные. Всё суета какая-то, беготня. Всё беспокойства разные, будь они прокляты!
Эпизод последний и совершенно лишний Он ничего не понимал
Проснувшись, Д. сел в постели, поглядел вокруг, потёр глаза кулаками и с минуту сидел неподвижно. Потом он осторожно взял с тумбочки авторучку. Она была твёрдая. Она не гнулась. Д. пододвинул к себе лист бумаги. Лист не рассыпался в труху. Д. посидел ещё минуту и, набравшись храбрости, написал на листе крупно и размашисто: «НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ». Чернила (ручка была перьевая) тут же высохли. Надпись на бумаге осталась. Д. потёр надпись пальцами. Она не исчезла. Д. встал и ощупал тумбочку. Тумбочка тоже не исчезла. Д. стукнул ногою в пол. Пол не прогнулся. Д. тихонько прошёл в прихожую и толкнул ладонью дверь ванной. Дверь послушно отворилась со знакомым негромким скрипом. Д. вошёл в ванную, постоял в нерешительности, приблизился к раковине и попытался открыть кран. Кран открылся. Из него, журча, полилась вода. Д. выбежал из квартиры, забыв запереть за собою дверь, и помчался вниз по лестнице, перепрыгивая через три и даже четыре ступеньки. Д. выбежал на улицу.
Улица выглядела как обычно. У тротуаров на некотором расстоянии друг от друга стояли машины, легковые и грузовые. У подъезда одного из домов была оставлена детская коляска. Верх коляски был поднят. К ручке коляски был привязан за поводок красивый, длинноухий, шоколадного цвета спаниель. Кончик его укороченного хвоста подёргивался. Спаниель был в отличном настроении. По улице проезжали автобусы, троллейбусы, такси и грузовики. По улице проходили пешеходы – мужчины и женщины, взрослые и дети. Над улицей пролетали голуби и воробьи. Над улицей двигались облака. У них был естественный вид. Д. таращил глаза. Он ничего не понимал.
К Д. подошёл какой-то человек и спросил, как доехать до станции метро. Д. объяснил. Человек сказал «спасибо» и направился к автобусной остановке. Д. глядел ему вслед. Человек благополучно добрался до остановки. Подошёл автобус. Человек вошёл в него. Автобус уехал. Д. ничего не понимал. Улицу перебежала кошка. Она едва не угодила под грузовик – шофёр вовремя затормозил. Когда неосторожная кошка была уже на асфальте, к ней подбежала девочка лет пяти, коротко подстриженная, хорошенькая девочка, немножко похожая на Зизи. Девочка взяла кошку на руки и сказала ей:
– Дурочка! Разве можно перебегать улицу перед самой машиной? Ах, какая дурочка!
И девочка понесла кошку по улице, прижимая её к груди и продолжая ей что-то говорить.
Д. ничего не понимал.
У тротуара остановилось такси. Из него вылез бородатый человек в роскошном кожаном пиджаке и роскошных джинсах. Во рту у человека дымилась роскошная трубка.
«Какой роскошный человек! Наверное, он художник. Или писатель. Или кинорежиссёр. Или ещё кто-нибудь в таком же роде», – подумал с завистью Д. Он по-прежнему ничего не понимал.
Бородач, как ни странно, подошёл к Д., вынул изо рта дымящуюся трубку и спросил:
– Вы, случайно, не Д?
– Да, я Д… – ответил Д. Он совершенно ничего не понимал.
– Я журналист, – сказал бородач. – Я хочу взять у вас интервью. Говорят, вы заняты очень интересным и полезным делом. Вы не уделите мне минут двадцать? Я понимаю, вам трудно оторваться от вашего увлекательного дела, но – всего лишь минут двадцать?
– Пойдёмте! – сказал Д. Он решительно ничего не понимал.
Д. привёл журналиста к себе.
– Вы не будете возражать, если я буду курить? – спросил журналист.
– Не буду, – ответил Д.
– Вы не будете против, если я буду записывать? – снова спросил бородатый журналист.
– Записывайте! – ответил Д.
– Скажите, пожалуйста, давно ли вы занимаетесь своим делом?
– Лет пять. Нет, пожалуй, четыре года.
– И оно вас не утомляет?
– Утомляет немножко.
– А как пришло вам в голову заняться именно этим делом?
– Да так как-то. Право, не знаю. Пришло каким-то образом.
– А скоро ли вы намереваетесь своё дело закончить?
– Оно уже закончено.
– Ах, вот оно что!
– Да, оно уже вполне закончено. Только что. Вчера.
– И, вероятно, в ближайшее время оно найдёт достойное применение?
– Надеюсь.
– Если не трудно, в двух словах – в чём смысл вашего дела?
– О! Оно имеет огромный смысл! Гигантский смысл! Вселенский смысл! Я дал название тому, что было никак не названо. Я доказал то, что требовало доказательств. Я связал воедино то, что было разрознено. Я намекнул на то, о чём никто не догадывался. Я нашёл то, что все давно искали. В результате я достиг несказанной гармонии в том, что оставалось неоправданно хаотичным. Я всё поставил на свои места.
Журналист записывал. Трубка его дымилась. Аромат дорогого табака наполнял комнату. Д. всё ещё ничего не понимал.
– Собираетесь ли вы найти другое подходящее дело, или вы намерены теперь отдыхать?
– Пока ещё не знаю. Нелегко, знаете ли, подыскать себе приличное и не чрезмерно обременительное дело. Если такое подвернётся, я не прочь снова погрузиться в полезные труды.
Бородач поблагодарил за интервью, откланялся и покинул апартаменты ни черта не понимающего Д. Когда он удалился, Д. поглядел на аквариум и вдруг увидел, что в нём плавают его рыбки, все четыре. Д. бросился к аквариуму. Рыбки подплыли к нему. Видимо, они были голодны. Д. глядел на них в недоумении, Д. не верил своим глазам, Д. повторял вслух их благозвучные имена:
– Амалия! Сильфида! Поликсена! Харита! Амалия! Сильфида! Поликсена! Харита! Амалия! Сильфида!..
Д. абсолютно ничего не понимал. «Им вреден табачный дым!» – испугался вдруг Д. и распахнул окно. За окном летали ласточки. В отдалении, сверкая на солнце, летел пассажирский лайнер. В нём сидели люди и сверху смотрели на огромный город. Он был цел. Конец света ещё не случился. «Быть может, он и не случится?» – подумал Д. Раздался звонок. Д. заторопился в прихожую открывать дверь. На пороге стояла обворожительная рыжая Зизи. В одной её руке был большой добротный кожаный чемодан. А на другой висел знакомый симпатичный зелёный плащик.
– Я к вам! – сказала Зиночка очень просто. – Я бросила мужа. Я теперь ваша.
Войдя, она поставила чемодан на пол и повесила плащик на вешалку.
Потом она подошла к Д. и поцеловала его в губы.
– Вы не рады? – спросила она.
Д. молчал. То ли от изумления, то ли от ужаса, то ли от восторга, то ли оттого, что лишился дара речи, то ли от всего сразу.
Зиночка вошла в комнату.
– Отчего у вас открыто окно? – спросила она. – На улице прохладно.
Комментарий
В этом последнем эпизоде нет ни слова правды.
Так можно было бы закончить роман и успокоить читателя, потрясённого зрелищем всемирной катастрофы. Но ведь всё было не так! Вот в чём штука!
Конец света действительно состоялся.

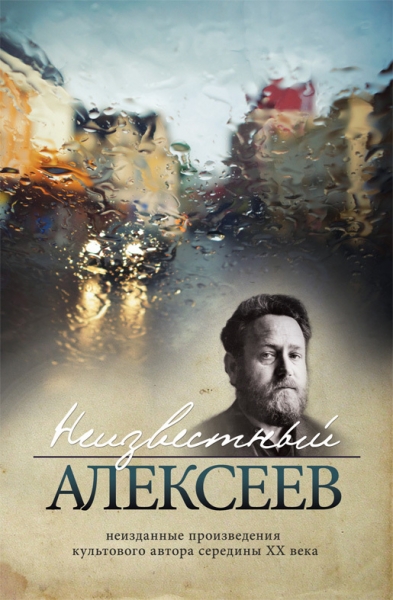
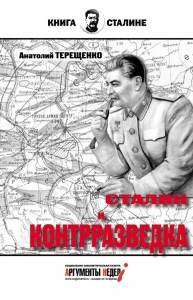
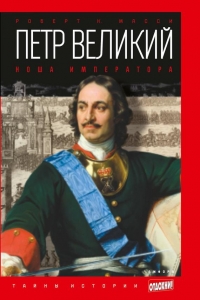

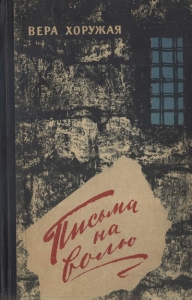

Комментарии к книге «Неизданные произведения культового автора середины XX века», Геннадий Иванович Алексеев
Всего 0 комментариев