Фриц Питерс Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева
© Fritz Peters, Му Journey with a Mystic
© Общество друзей Абсолюта, идея проекта
© Евгения Бубер, дизайн серии
© Андрей Тумилович, Татьяна Тумилович, перевод
© Андрей Степанов, общая редакция
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Слово издателя
Дорогой Неизвестный Читатель!
Используя известный алхимический принцип «чтобы сделать золото – надо иметь немного золота», мы говорим: «Чтобы понять Гурджиева – надо быть немного Гурджиевым».
Надо быть как минимум на его уровне.
В противном случае его жизнь и его деяния неподвластны нашему суду.
Судить – это значит взвесить на весах объективного правосудия поступки Учителя, понять их причины и увидеть следствия, дать беспристрастное суждение о месте происходящего в иерархии времени и пространства.
Мы не можем судить!
Все, что мы можем – это использовать образ Учителя как критерий для оценки собственного микрокосма. И таким путем пошел Фриц Питерс, написав книгу о себе и… о любви.
Не смущаясь несоответствиям и не являясь «классическим учеником», назначенный «официальным преемником и хранителем знания», он всю свою жизнь старался придерживаться «беспристрастной, объективной критики», к коей призывал его Учитель.
Он старался Понять.
Понять, что в действительности «Любить – это значит знать достаточно, чтобы быть способным помочь другим, даже если они не могут помочь себе сами».
Будьте Счастливы!
Книжная серия «Гурджиев. Четвертый Путь посвящается памяти
Владимира Григорьевича Степанова
БЛАГОДАРНОСТИ
Огромное спасибо за помощь
Михаилу Кошубарову
Валерию Малышеву
Предисловие Генри Миллера
Это исключительно приятная книга, но говоря «приятная», я не имею в виду книгу, которая должна восприниматься несерьёзно. Можно подобрать даже более точное прилагательное – восхитительная. В ней есть не только удивительные случаи, в ней есть мудрость. Мудрость жизни.
Примечательно то, что это описание переживаний мальчика, связанных с выдающимся человеком, замечания и наблюдения которого могли лишь отчасти быть осмыслены во времена автора. Мальчик часто цитирует Гурджиева дословно. Его память ошеломляет в той же степени, как и его интуиция. Нужно принимать во внимание то, что, когда мать оставила его на попечении Гурджиева в Институте гармонического развития человека, мальчик не представлял себе, кто такой Гурджиев и кем он является как личность. Учился он быстро. Когда открываешь эту книгу, то мгновенно увлекаешься столкновением двух очень непохожих людей. Ты осознаёшь, что это – не простой рассказ о детских воспоминаниях.
Начнём с того, что Гурджиев был совершенно загадочной личностью. Он был живым воплощением греческого слова enantiodromos, которое обозначает процесс перехода предмета в свою противоположность. Он мог быть мягким, резким, строгим, терпимым, проницательным, чудаческим, совершенно серьёзным, шутником и всё это – одновременно. Даже автор, которому на тот момент было всего лишь одиннадцать и который стал у Гурджиева «мальчиком на побегушках», временами не знал, как его воспринимать. Гурджиев удивлял беспрестанно. Однако, будучи столь юным и не готовым к суровым испытаниям, Фриц Питерс – тот самый мальчик – оказался достаточно проницательным, чтобы осознать, что находится в руках самого необычного человека, человека, которого называют мастером, гуру, учителем, чуть ли не святым.
Сказано, что Иегова показал свою скрытую сущность Моисею, точно так и Питерс открывает нам истинные, человеческие черты Гурджиева.
Очень много было написано о провокационном поведении Гурджиева. Действительно, казалось, что он мало заботился об общепринятых нормах. В каком-то смысле он был на пересечении учений гностиков древности и современных дадаистов. Конечно, латинское выражение «ничто человеческое мне не чуждо» отражало и его сущность. Он был человеком до глубины души.
Иногда он достигал потрясающих высот. И автор, подражая ломаному английскому Гурджиева, представляет нам эти моменты фантастическим языком Гурджиева. Этот ломаный английский часто приобретал «дьявольский» характер. Если временами казалось, что Гурджиев прикасается к краю мироздания, то иногда можно было сказать, что он – сам посланник Сатаны, почему эта книга и является крайне приятной. Она пленит даже тех, кто никогда не слышал о Гурджиеве. Она поучительна, но не скучна. В ней есть дурачество, которое не опускается до вульгарности. Она представляет нам одну из самых таинственных и противоречивых личностей нашего времени, к сожалению, так мало известную современному человеку.
Я сам прочитал книгу несколько раз и каждый раз открывал её для себя заново. Что же касается языка, то я считаю её, наравне с «Приключениями Алисы в Стране чудес», истинным сокровищем нашей литературы.
Генри МиллерФриц Питерс Детство с Гурджиевым
Глава 1
Я впервые встретился с Георгием Гурджиевым в июне 1924 года в субботний день в поместье Приоре в Фонтебло во Франции. Хотя причины моего появления там были мне не очень ясны – мне было в то время одиннадцать лет – тем не менее, я отчётливо и ясно помню ту встречу.
Был ясный солнечный день. Гурджиев сидел за небольшим столиком с мраморной столешницей, в тени полосатого зонта. Он сидел спиной к замку, повернувшись к открытому пространству симметричных газонов и клумб. Перед тем, как меня вызвали к нему для беседы, я некоторое время сидел позади него на террасе замка. На самом деле я видел Гурджиева и раньше, в Нью-Йорке прошлой зимой, но я не считал это «встречей». Моим единственным воспоминанием того времени было то, что я был напуган им: отчасти тем, как он посмотрел на – или сквозь – меня, а отчасти из-за его репутации. Мне рассказывали, что он был как минимум «пророк», а как максимум – что-то очень близкое ко «второму пришествию Христа».
Встреча с каким-нибудь вариантом «Христа» – это событие, но, честно говоря, я не только не желал этой встречи, я страшился её.
Но на самом деле мои страхи не оправдались. «Мессия» или нет, он показался мне простым откровенным человеком. Он не был окружён никаким сиянием, говорил по-английски с сильным акцентом, значительно проще, чем меня заставляла ожидать Библия. Он сделал неопределённый жест в моём направлении, велел мне сесть, попросил подать кофе и затем спросил меня, почему я здесь. Мне полегчало от того, что Гурджиев оказался обычным человеком, но ответить на его вопрос было трудно. Я был уверен, что ему надо дать «важный» ответ, сказать, что у меня есть какая-то веская причина. Не имея таковой, я сказал ему правду: я здесь потому, что меня привели сюда.
Затем Гурджиев спросил, почему я хочу быть здесь, учиться в его школе. И снова я смог ответить только то, что меня привезли сюда помимо моей воли, ничего не объяснив. Я помню сильное побуждение солгать ему и столь же сильное ощущение, что я не могу этого сделать. Я чувствовал, что он заранее знает правду. Единственный вопрос, на который я ответил менее честно, это, когда он спросил меня, хочу ли я остаться здесь и учиться у него. Я сказал, что хочу – но по сути это не было правдой. Я ответил так, потому что знал, что он ожидает услышать это от меня. Мне кажется теперь, что любой ребёнок должен был ответить, как и я. Чем бы ни было Приоре для взрослых (а дословное название школы было: «Гурджиевский Институт Гармонического Развития Человека»), я чувствовал, что пережил нечто подобное собеседованию у директора школы. Я разделял общую договорённость, согласно которой ни один ребёнок не скажет учителю, что не хочет учиться. Единственным, что удивило меня, было то, что меня об этом спросили.
Затем Гурджиев задал мне ещё два вопроса:
1. Как вы думаете, что такое жизнь?
и
2. Что вы хотите знать?
На первый вопрос я ответил поговоркой: «Я думаю, что жизнь – это что-то, что подаётся нам на серебряном блюде, для того, чтобы мы сделали с ней что-нибудь».
Этот ответ вызвал долгое обсуждение выражения «на серебряном блюде» и упоминание Гурджиевым головы Иоанна Крестителя. Я отступил – это выглядело как отступление – и видоизменил фразу, сказав, что жизнь – это «подарок», и это ему понравилось.
Второй вопрос («Что вы хотите знать?») был проще. Я сказал: «Я хочу знать всё».
Гурджиев ответил немедленно: «Вы не можете знать всё. Всё о чём?»
Я сказал: «Всё о человеке, – и затем добавил, – по-английски, я думаю, это называется психологией или, может быть, философией».
Он вздохнул, и после короткого молчания сказал: «Вы можете остаться. Но ваш ответ затрудняет мою жизнь. Только я один учу тому, о чём вы просите. Из-за вас у меня будет больше работы».
Так как моим детским стремлением было приспосабливаться и угождать, я был смущён ответом. Меньше всего я хотел бы осложнять чью-либо жизнь – мне казалось, что она и без того достаточно трудна. Я ничего не ответил, и Гурджиев продолжил говорить, что вдобавок к изучению «всего» я должен буду также учить менее значительные предметы, такие как языки, математику, другие науки и т. д. Он также сказал, что это не обычная школа: «Здесь можно изучить много того, чему не учат в других школах». Затем он благожелательно похлопал меня по плечу.
Я использую слово «благожелательно», потому что этот жест имел большое значение для меня в то время. Я очень хотел одобрения от какого-нибудь высокого авторитета. Заслужить «одобрение» этого человека, которого другие взрослые считали «пророком», «провидцем» и/или «Мессией» – и одобрение в виде такого простого дружеского жеста – было неожиданно и волнующе. Я просиял.
Манера Гурджиева резко изменилась. Он стукнул кулаком по столу, выразительно посмотрел на меня и сказал: «Вы можете обещать, что сделаете для меня кое-что?»
Его голос и взгляд, который он бросил на меня, были отпугивающими и захватывающими одновременно. Я почувствовал, что мне бросили вызов, и, одновременно, словно загнали в угол. Я ответил ему одним словом – решительным «да».
Он указал на широкую лужайку перед нами: «Вы видите эту траву?»
«Да».
«Я даю вам работу. Вы должны косить эти газоны машиной каждую неделю».
Я взглянул на газоны, расстилавшиеся перед нами; они мне показались бесконечными. Это, несомненно, был намного больший объём работы на неделю, чем я мог предположить. Снова я сказал «да».
Он стукнул кулаком по столу второй раз. «Вы должны поклясться своим Богом». Его голос был чрезвычайно серьёзен. «Вы должны обещать, что будете делать это, невзирая ни на что».
Я смотрел на него вопрошающе, почтительно и с уважительным трепетом. Ни один газон, даже эти (а их было четыре), не казался мне теперь значительным. «Я обещаю», – сказал я серьёзно.
«Не просто обещайте, – повторил он. – Вы должны обещать, что будете делать это, что бы ни случилось, кто бы ни пытался вас остановить. В жизни может случиться что угодно».
В этот момент его слова вызвали в моём воображении зрелища ужасающих происшествий при покосе газонов. Я предвидел множество эмоциональных драм, которые могут произойти в будущем из-за этих газонов. Снова, не раздумывая, я обещал. Я был так же серьёзен, как и он. Я умер бы, если необходимо, в работе, скашивая траву.
Моя преданность была очевидной, и он вроде бы был удовлетворён. Он приказал мне начать работу в понедельник и затем отпустил меня. Я не думаю, что понимал это в то время, – то есть ощущение было новым для меня, – но я ушёл от него с чувством, что наполнен любовью: к людям, к газону или к себе – не имело значения. Моя грудь прямо-таки расправилась. Меня, ребёнка, мелкую сошку в мире взрослых, попросили исполнить нечто явно важное.
Глава 2
Каким было «Приоре», которое мы чаще называли именно так, или «Институт Гармонического Развития Человека»?
В возрасте одиннадцати лет я понимал это просто как некоторую особую школу, управляемую, как я сказал, человеком, который считался многим людьми провидцем, новым пророком, великим философом. Гурджиев сам однажды обозначил это место, как то, где он пытался, среди прочего, создать маленький мир, воспроизводящий условия большого внешнего мира; основной целью создания таких условий существования было подготовить учеников для будущих социальных или жизненных испытаний. Другими словами, это не было школой, посвящённой обычному образованию, которое в основном заключается в ознакомлении с различными предметами, такими как чтение, письмо и арифметика. Среди простейших вещей, которым он пытался научить, была подготовка к жизни в целом.
Может быть, необходимо указать здесь, особенно для людей, которые в некоторой степени знакомы с теорией Гурджиева, что я описываю «Институт», как видел и понимал его ребёнком. Я не пытаюсь определить его цель или значение для людей, которые были привлечены сюда интересом к Гурджиеву или его философии. Для меня, несомненно, это была просто особая школа – отличающаяся от всех других школ, которые я знал, – и существенное отличие заключалось в том, что большинство «учеников» были взрослыми. За исключением моего брата и меня, все остальные дети были либо родственниками (племянницами, племянниками и т. д.) Гурджиева, либо его собственными детьми. Детей было немного, я могу припомнить, в общей сложности, только десятерых.
За исключением малышей, режим школы был для всех одинаков. День начинался с кофе и гренок в шесть часов утра. С семи часов каждый работал над каким-нибудь заданием, которое ему было поручено. Исполнение этих заданий прерывалось в течение дня только едой: обедом в полдень (обычно суп, мясо, салат и какой-нибудь сладкий пудинг); чаем в четыре часа дня; простым ужином в семь часов вечера. После ужина, в половине девятого, была гимнастика или танцы в так называемом «Доме для занятий». Этот распорядок был неизменным шесть дней в неделю, за исключением того, что в субботу после полудня женщины ходили в турецкую баню; ранним субботним вечером были «демонстрации» танцев в Доме для занятий: более подготовленные исполнители танцевали для других учеников и гостей, которые часто приезжали в выходные. После демонстраций мужчины шли в турецкую баню и, когда баня была закончена, был «банкет» или особая трапеза. Дети участвовали в этих поздних застольях только как прислуга или помощники при кухне. Воскресенье было днём отдыха.
Задания, которые давались ученикам, неизменно касались текущих дел школы: садоводство, приготовление пищи, домашнее хозяйство, уход за животными, дойка, приготовление масла. Эти задания почти всегда выполнялись группами. Как я узнал позже, групповая работа считалась особенно важной: разные люди, работая вместе, субъективно создавали конфликты; конфликты производили трение; трение вскрывало особенности, наблюдая которые можно было обнаружить своё «я». Одной из многих целей школы было «увидеть себя так, как вас видят другие»: увидеть себя как бы со стороны, быть способным оценить себя объективно, но сначала – просто увидеть. Это упражнение, которое, на самом деле, должно было выполняться всё время, во время любой физической работы, называлось «самонаблюдение» или «противопоставление: я – оно». «Я» – суть (возможного) самосознания, «оно» – тело, инструмент.
Вначале, ещё до того, как я понял что-нибудь из этих теорий или упражнений, моей задачей и, в некотором смысле, моим миром, было полное сосредоточение на скашивании травы на моих газонах – как я стал называть их. Эта работа стала значительно более важной для меня, чем я мог ожидать.
Через день после моего разговора с ним Гурджиев уехал в Париж. Нам дали понять, что это обычно для него – проводить два дня в неделю в Париже, как правило, в сопровождении его секретаря мадам де Гартман, а иногда и других. На этот раз, что было необычно, он поехал один.
Как я помню, ещё до полудня понедельника – Гурджиев уехал в воскресенье вечером – до детей в школе дошёл слух, что с ним произошла автомобильная катастрофа. Сначала мы услышали, что он убит, затем – что он серьёзно ранен и вряд ли выживет. Официальное объявление было сделано кем-то из властей в понедельник вечером. Он не умер, но серьёзно ранен и находится в госпитале при смерти.
Трудно описать воздействие такого объявления. Само существование «Института» всецело зависело от присутствия Гурджиева. Именно он назначал работу каждому индивидуально, и до этого момента он лично наблюдал каждую деталь работы школы. Теперь надвигающаяся возможность его смерти всё остановила. Только благодаря инициативе нескольких старших учеников, большинство из которых прибыли с ним из России, мы продолжали питаться регулярно.
Пока я не знал, что должно случиться со мной лично, в моей голове оставалось ярким только то, что он сказал косить газоны «что бы ни случилось». Для меня было облегчением заниматься конкретным делом, определённой работой, которую он мне поручил. У меня также в первый раз появилось ощущение, что он наверняка был необычным человеком. Он сказал «что бы ни случилось», и с ним случилось несчастье. Его указание приобрело от этого больший вес. Я был уверен, что он знал заранее, что должно было случиться «нечто», хотя и не обязательно автомобильная катастрофа.
Я был не единственным, кто чувствовал, что этот несчастный случай был в некотором смысле предопределён. Тот факт, что он уехал в Париж один (я сказал, что он сделал так впервые), был достаточным доказательством для большинства учеников. Моей реакцией, в любом случае, было то, что косить траву стало совершенно необходимо; я был убеждён, что его жизнь, по крайней мере отчасти, могла зависеть от моей преданности заданию, которое он мне дал.
Эти мои чувства приняли особую важность, когда несколько дней спустя Гурджиева привезли назад в Приоре в его комнату, которая выходила на «мои» газоны. Нам сказали, что он в коме, и его жизнь поддерживается кислородом. Периодически приходили и уходили доктора, приносились и заменялись кислородные баллоны; воцарилась тишина – мы все были как бы вовлечены в постоянную, тихую молитву о нём.
Примерно через день или два после его возвращения мне сказали – вероятно, мадам де Гартман, – что шум газонокосилки надо прекратить. Решение, которое я был вынужден принять тогда, было особенно важным для меня. Как я ни уважал мадам де Гартман, я не мог забыть ту силу, с которой он вынудил меня дать обещание делать свою работу. Мы стояли на краю газона, прямо под окнами его комнаты, когда я должен был ответить ей. Насколько я помню, я недолго раздумывал и решительно отказался. Тогда мне сказали, что его жизнь, может быть, действительно зависит от моего решения, и я ещё раз отказался. Меня очень удивило, что мне категорически не запретили продолжать работать и даже не удерживали насильно. Единственным объяснением, которое я этому мог найти, было то, что его власть над учениками была настолько сильной, что никто не хотел брать на себя ответственность, запретив мне выполнять его задание. Во всяком случае, меня не удерживали; мне было просто сказано прекратить косить траву. А я продолжал её косить.
Этот отказ от подчинения любой власти, меньшей, чем высшая, был жизненно важен и абсолютно серьёзен, и, я думаю, единственным, что поддержало меня в этом, было моё сознательное убеждение, что шум косилки никого не убьёт. Также, но не столь ясно и логично, я чувствовал в то время, что его жизнь могла как-то необъяснимо зависеть от исполнения мною задания. Эти причины, однако, не могли защитить меня от чувств других учеников (в то время их там было примерно сто пятьдесят человек, и большинство из них взрослые), которые были убеждены, что шум, который я продолжал производить каждый день, мог быть смертелен.
Конфликт продолжался несколько недель. Каждый день объявляли, что в его состоянии нет изменений, и мне становилось всё труднее начинать работу. Я помню, как я каждое утро скрежетал зубами и преодолевал свой собственный страх. Моя решимость попеременно то укреплялась, то ослаблялась отношением других учеников. Я был изгнан, отстранён от всякой другой деятельности; никто не хотел сидеть со мной за одним столом во время еды. Если я подходил к столу, где сидели другие, они уходили, когда я садился, и я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь разговаривал со мной или улыбался мне в течение этих недель, за исключением немногих наиболее влиятельных старших, которые время от времени убеждали меня остановиться.
Глава 3
В середине лета 1924 года моя жизнь была сосредоточена на траве. К тому времени я мог скосить все мои четыре газона за четыре дня. Другие обязанности, которые я исполнял, когда подходила моя очередь – роль «мальчика при кухне» или «привратника» у маленьких ворот, которого мы называли «консьержем», – были не столь важны. Я плохо помню что-то ещё, кроме звука газонокосилки.
Мой кошмар закончился неожиданно. Однажды рано утром, толкая косилку вверх к фасаду замка, я посмотрел на окна Гурджиева. Я делал это всегда, как бы надеясь на какой-нибудь удивительный знак, и в это особенное утро я наконец увидел его. Гурджиев стоял у открытого окна и смотрел на меня сверху. Я остановился, изумлённо посмотрел на него и с облегчением вздохнул. Долгое время он оставался неподвижным. Затем крайне медленно он поднёс правую руку к губам и сделал жест, который, как я позже узнал, был очень характерен для него: большим и указательным пальцем он разделил усы от середины, а затем его рука опустилась в сторону, и он улыбнулся. Жест сделал его настоящим – без него я мог бы подумать, что фигура, стоявшая там, просто галлюцинация или плод моего воображения.
Чувство облегчения было таким сильным, что я разрыдался, обхватив косилку обеими руками. Я продолжал смотреть на Гурджиева сквозь слёзы до тех пор, пока он медленно не отошёл от окна. А затем я снова начал косить. Ужасный шум этой машины теперь стал для меня радостным. Я толкал косилку взад и вперёд изо всех сил.
Я решил подождать до полудня, чтобы сообщить о своём триумфе, но к тому времени, когда я пошёл на обед, я понял, что мне нечем подтвердить своё заявление. Теперь это кажется удивительной мудростью, что я промолчал, хотя был переполнен счастьем.
Вечером всем стало известно, что Гурджиев вне опасности, и за ужином была очень радостная атмосфера. Моё участие в его выздоровлении – я был убеждён, что я больше всех посодействовал этому – затерялось во всеобщем ликовании. Враждебность, направленная непосредственно на меня, исчезла так же внезапно, как и появилась. Если бы мне не запрещали несколько недель тому назад шуметь под окнами Гурджиева, я бы мог подумать, что всё это существовало только в моём воображении. Моя потребность в торжестве и признании развеялась.
Ситуация, однако, на этом не завершилась. Гурджиев показался через несколько дней. Тепло одетый, он медленно подошёл, чтобы сесть за небольшой столик, где мы с ним впервые беседовали. Я, как обычно, с трудом ходил взад и вперёд с моей косилкой. Гурджиев сел и, по всей видимости, осматривал всё вокруг до тех пор, пока я не закончил косить газон. Это был четвёртый – благодаря быстроте его выздоровления я сократил время покоса до трёх дней. Когда я толкал косилку перед собой, направляя её в сарай, где она хранилась, Гурджиев посмотрел на меня и жестом подозвал к себе.
Я подошёл. Он улыбнулся (и снова я назову его улыбку «благожелательной») и спросил, за какое время я скашиваю газоны. Я ответил с гордостью, что могу скосить их за три дня. Он окинул пристальным взглядом широкую поверхность травы перед собой и встал. «Это нужно делать за один день, – сказал он. – Это важно».
Один день! Я был шокирован, мои чувства смешались. Меня не только не похвалили за моё достижение – ведь несмотря ни на что, я сдержал своё обещание – фактически меня наказали за это.
Гурджиев не обратил внимания на выражение моего лица, а положил руку мне на плечо и тяжело опёрся на меня. «Это важно, – повторил он, – когда вы сможете подрезать газоны за один день, я дам вам другую работу». Затем он попросил меня прогуляться с ним – помочь ему пройтись – до луга, расположенного неподалёку, пояснив, что ему трудно ходить.
Мы шли медленно. Даже несмотря на мою помощь, ему было тяжело подниматься по тропинке к полю, о котором он упомянул. Это был каменистый склон холма около птичьего двора. Гурджиев послал меня в сарай с инструментами, который находился недалеко от курятника, и велел принести косу, что я и сделал. Затем он вывел меня на луг, снял руку с моего плеча, взял косу в обе руки и замахнулся, собираясь косить траву. Я почувствовал, что усилие, которое он сделал, было громадным; меня испугала его бледность и очевидная слабость. Затем он вернул мне косу и велел убрать её. Я отнес её на место, вернулся и встал рядом с ним. Он опять тяжело опёрся на моё плечо.
«Как только все газоны будут скашиваться в один день, это станет вашей новой работой. Будете косить этот луг каждую неделю».
Я посмотрел на склон с высокой травой, на камни, деревья и кусты. Я знал свой рост – я был мал для своего возраста, и коса казалась мне очень большой. Всё, что я мог сделать, это с изумлением посмотреть на Гурджиева. Это был только взгляд ему в глаза, серьёзный и обиженный, который удержал меня от немедленного сердитого резкого протеста. Я склонил голову и кивнул, а затем медленно пошёл с ним назад к главному зданию, вверх по ступенькам и до двери его комнаты.
В мои одиннадцать лет жалость к себе не была мне чужда, но на этот раз её проявление было слишком велико даже для меня. Но кроме того, что я себя жалел, я также чувствовал гнев и возмущение. Меня не только не отметили и не похвалили, но, фактически, просто наказали. Что это была за школа, и что за человек он был после всего этого!? Мучительно и скорее гордо я вспомнил, что собирался вернуться осенью в Америку. Я покажу ему! Всё, что мне надо сделать – это так никогда и не скосить газоны за один день!
Любопытно, но когда я успокоился и начал принимать то, что казалось неизбежным, я обнаружил, что возмущение и гнев, хотя я ещё чувствовал их, не были направлены против Гурджиева лично. Когда я гулял с ним, в его глазах была печаль, и я был озабочен этим и его здоровьем; кроме того, хотя не было указаний, что я должен исполнять эту работу, я почувствовал, что принял на себя своеобразные обязательства, что я должен сделать это ради него.
На следующий день меня ожидала новая неожиданность. Гурджиев вызвал меня в свою комнату утром и спросил строго, способен ли я хранить тайну – ото всех. Твёрдость и горящий быстрый взгляд, который он бросил на меня, когда задавал вопрос, были совершенно отличны от его слабости предыдущего дня. Я смело заверил, что могу. Ещё раз я почувствовал большой вызов – я буду хранить эту тайну, несмотря ни на что!
Затем Гурджиев сказал мне, что не хотел беспокоить других учеников – и особенно своего секретаря, мадам де Гартман – но он почти ослеп, и только я знаю это. Он обрисовал мне увлекательный план: он решил реорганизовать всю работу в Приоре. Я должен буду ходить с ним повсюду, нося кресло; оправданием этого было то, что он ещё слаб и время от времени нуждался в отдыхе. Настоящая причина, которая хранилась в тайне, была в том, что я должен ходить с ним, потому что он не может на самом деле видеть, куда идёт. Короче говоря, я должен был стать его поводырём и опекуном, хранителем его персоны.
Я почувствовал, наконец, что вознаграждён; что моя настойчивость не была напрасной и сохранение моего обещания действительно чрезвычайно важно. Я ни с кем не мог поделиться своим торжеством – но это было подлинное торжество.
Глава 4
Моя новая работа в качестве «носителя кресла» или, как я думал о ней тогда, «хранителя», занимала большую часть времени. Я был освобождён от всех других обязанностей, за исключением нескончаемых газонов. Я должен был продолжать косить, но это нужно было делать до того, как Гурджиев появлялся утром, или после того, как он возвращался в свою комнату во второй половине дня.
Я никогда не знал, был ли правдой его рассказ о частичной потере зрения. Я предполагал, что это было правдой, потому что всегда безоговорочно верил ему – он, казалось, не мог говорить ничего, кроме правды, хотя никогда не выражал её прямо. С другой стороны, я подозревал, что эта работа носителя кресла и проводника была выдумана для меня, и что история со слепотой – только предлог. Мои сомнения исходили из того, что из-за этой работы моя персона становилась преувеличенно важной, чего я никак не мог ожидать от Гурджиева. Я важничал уже просто потому, что был выбран, без каких-либо дополнительных причин.
В последующие недели – возможно, всего месяц – каждый день я носил кресло целыми милями, обычно следуя за Гурджиевым на почтительном расстоянии. Я верил в его слепоту, потому что он часто сбивался с пути, и я должен был бросать кресло и подбегать к нему, предупреждая о какой-нибудь опасности – например, часто неминуемой возможности угодить в небольшой канал, который проходил по имению. Затем я мчался назад к креслу, поднимал его и снова следовал за ним.
Работа, которой он руководил в то время, касалась каждого в Школе. Было несколько проектов, выполняемых одновременно: строительство дороги, для которой нужно было дробить камень железными колотушками, чтобы получить определённого размера щебень; вырубка леса, удаление целых акров деревьев, а также их пней и корней лопатами и кирками. Кроме этих проектов непрерывно продолжались обычные обязанности по садоводству, прополке, сбору овощей, приготовлению пищи, домашнему хозяйству и прочему. Когда Гурджиев осматривал какой-нибудь проект, я присоединялся к работающим, до тех пор, пока он не был готов перейти к следующему проекту или вернуться домой.
Примерно месяц спустя я был освобождён от обязанности носителя кресла и вернулся к регулярному кошению газонов и другим постоянным обязанностям: работе на кухне один день в неделю и поочерёдное исполнение обязанностей швейцара, который открывал двери и отвечал на телефонные звонки.
Как я уже упоминал, в тот период, когда я ходил за Гурджиевым, я должен был находить время для покоса газонов, когда мог. Я на время забыл о холме, который, в конце концов, должен был косить еженедельно, что вызывало во мне некоторый ужас. Но когда я вернулся к своей обычной регулярной работе, то обнаружил, что без заметного усилия достиг цели, которую мне поставил Гурджиев. В момент этого открытия, однажды вечером после чая, когда я закончил косить четвертый за день газон, Гурджиев удобно сидел на скамейке лицом к газонам, а не за своим столиком, как обычно. Я поставил косилку, вернулся на террасу и с несчастным видом направился к нему. Хотя я никогда не любил газоны, перспектива моей следующей работы вызвала во мне чувство тоски по ним. Я остановился, как мне казалось, на почтительном расстоянии от Гурджиева и стал ждать. Я колебался между тем, чтобы сказать ему, или отложить это на неопределённое будущее.
Через некоторое время он повернулся в мою сторону, как бы недовольный моим присутствием, и резко спросил меня, надо ли мне что-нибудь от него. Кивнув, я подошел, встал рядом с ним и выпалил: «Я могу скосить все газоны в один день, Гурджиев!»
Он нахмурился, покачал головой, озадаченный, а затем сказал: «Почему вы говорите мне это?» Он ещё, казалось, сердился на меня.
Я напомнил ему о моей новой «работе», а затем спросил его, почти плача, приступать ли мне к ней на следующий день?
Он долгое время пристально смотрел на меня и как бы не мог вспомнить или даже понять, о чём я говорю. Наконец простым ласковым жестом он притянул меня к себе и заставил сесть на скамейку рядом с собой, удерживая руку на моём плече. Ещё раз он улыбнулся мне той далёкой, невероятной улыбкой – я упоминал о ней, как о «благожелательной», – и сказал, покачав головой: «Нет необходимости скашивать луг. Вы уже сделали эту работу».
Я посмотрел на него смущённо, с большим облегчением. Но я хотел знать, буду ли я продолжать косить газоны?
Он размышлял об этом некоторое время, а затем спросил, как долго я собирался находиться здесь. Я ответил, что приблизительно через месяц предполагаю вернуться на зиму в Америку. Он подумал, а затем сказал, как будто это было безразлично теперь, что я буду просто работать в группе и исполнять свои обычные обязанности, работая в саду, когда не буду занят на кухне или как швейцар. «Вы получите другую работу, если приедете на следующий год», – сказал он.
Хотя я провел там ещё месяц, лето, как мне показалось, закончилось в тот момент. Остаток времени был как бы пустым: бессодержательным и лишённым волнений. Те из детей, кто работал вместе с взрослыми в садах, умели превращать собирание фруктов или овощей, прополку, ловлю медведок, слизней и улиток в приятные игры, без особой заинтересованности и преданности нашей работе. Это было счастливое место для детей: мы жили безопасно, посреди ограничений строгой дисциплины и определённых границ и рамок, нам было не тяжело, за исключением того, что работа длилась долгие часы. Мы ухитрялись много играть и забавляться, в то время как неутомимые взрослые смотрели на нас снисходительно, закрывая глаза на наши шалости.
Глава 5
Мы покинули Приоре в октябре 1924 года, чтобы вернуться на зиму в Нью-Йорк В то время я был частью «необыкновенной семейной группы». Мой брат Том и я прожили несколько лет в странном, блуждающем мире. Моя мать Луиза развелась с моим отцом, когда мне было восемнадцать месяцев; несколько лет у нас был отчим, но в 1923 году, когда моя мать пролежала в больнице почти год, Джейн Хип и Маргарет Андерсон (Маргарет была сестрой матери), соредакторы известного – если не знаменитого – журнала Little Review, взяли нас с братом на попечение. В то время я фактически не понимал, почему Маргарет и Джейн взяли на себя эту ответственность. Это была странная форма «запланированного материнства» двух женщин, ни одна из которых, как мне казалось, не хотела иметь собственных детей. Так как Маргарет не вернулась с нами из Франции, то вся ответственность легла на Джейн.
Я могу описать наш домашний уклад, каким он представлялся мне в то время: Том и я посещали частную школу в Нью-Йорке; мы выполняли рутинную домашнюю работу, помогая готовить, мыть посуду и тому подобное, и когда мы подвергались различным необычным испытаниям и влияниям, они мало затрагивали меня, во всяком случае меньше, чем этого можно было ожидать. В семье (если это подходящее слово), в которой редактировался журнал и которую посещали исключительно артисты, писатели – одним словом, интеллектуалы, – я ухитрялся жить в своём собственном мире. Ежедневный распорядок школы, включающий, естественно, других детей и обычную, понятную деятельность, был более важен для меня, чем темпераментная и «интересная жизнь», которая, на самом деле, служила для нас лишь фоном. Мир искусства не заменял детства: даже жизнь с моей матерью и отчимом была более «нормальной» для меня, чем жизнь в Нью-Йорке вне моей семьи, центром которой по существу была моя мать.
Наиболее важным внешним событием в ту зиму было внезапное появление моего отца. По причинам, которые я никогда полностью не понимал, Джейн решила, что она (или, возможно, она и Маргарет) юридически усыновит меня и Тома. Мероприятие усыновления было той причиной, по которой после полного отсутствия в течение десяти лет объявился мой отец. Сначала он не показался нам лично. Нам просто сказали, что он приехал, чтобы воспрепятствовать усыновлению, и что он хотел сам взять на себя опеку над нами обоими.
Как я понимал это в то время, Джейн, поддерживаемая А.Р. Орейджем и другими «людьми Гурджиева», после разговора с нами обоими смогла отказать моему отцу, и усыновление стало юридическим фактом.
Для меня та зима была ужасной во всех отношениях. Я думаю, что для взрослого, скорее всего, невозможно понять чувства ребёнка, которому говорят совершенно открыто, что он может или не может быть усыновлен тем или иным человеком. Я не верю, что дети, когда с ними советуются о таких вещах, имеют «мнение» – они, естественно, цепляются за известную, относительно безопасную ситуацию. Мои отношения с Джейн, как я чувствовал и переживал их, были весьма изменчивыми и несдержанными. Временами в них была большая доля эмоций, любви между нами, но эмоциональность отношений меня пугала. Всё больше и больше я склонялся к тому, чтобы закрыться от того, что было вне меня. Люди для меня были кем-то, с кем я должен существовать, кого должен терпеть. Насколько возможно, я был один, проводя дни в мечтах, погрузившись в свой собственный мир, и страстно желая того момента, когда смогу спастись от сложности, а зачастую и вообще непостижимости мира вокруг меня. Я хотел вырасти и уединиться – уйти от них всех. Из-за всего этого у меня были постоянные трудности. Я ленился в домашней работе, возмущался любыми требованиями ко мне, любыми обязанностями, которые должен был исполнять, любым содействием, которого ожидали от меня. Упрямый и независимый из-за своего одиночества, я часто попадал в неприятности, меня часто наказывали. Той зимой я начал, вначале медленно, но твёрдо, презирать моё окружение и ненавидеть Джейн и Тома – главным образом потому, что они были частью той жизни, которой я жил. Я хорошо занимался в школе, но из-за того, что для меня это было легко, я слабо интересовался тем, что делал. Все дальше и дальше я уходил в выдуманный мир, созданный мной самим.
В этом моём собственном мире были два человека, которые не были врагами, которые выделялись, как яркие маяки, но на тот момент не было никакой возможности пообщаться с ними. Это была моя мать и, конечно, Гурджиев. Почему «конечно»? Простая неподдельность Гурджиева как человека – лёгкие отношения, которые установились между нами в течение тех нескольких месяцев ясного лета – стала подобна лодке для утопающего.
Когда мне сказали, что есть возможность того, что «меня заберёт» мой отец (который был просто ещё одним враждебным взрослым), я громко выразил свой протест, не ожидая, что мой голос будет иметь какой-нибудь вес. Мой главный страх заключался в том, что я боялся встретиться лицом к лицу с другим, новым, чужим и неизвестным миром. Кроме того, и это было очень важно для меня, я был уверен, что такое изменение во внешнем мире устраняло любую возможность когда-либо снова увидеть Гурджиева и мою мать.
Ситуация осложнилась ещё больше, когда моя мать приехала в Нью-Йорк с человеком, который не был моим отчимом, и Джейн окончательно отвергла её. Я помню, что мне разрешили лишь поговорить с ней на ступеньках квартиры – не более. Я не могу осуждать мотивы Джейн или её замыслы в то время. Я был убеждён, что ею двигали, с её точки зрения, лучшие намерения. Результатом же было то, что я воспринимал её в тот момент, как своего смертельного врага. Связь между любым ребёнком и его матерью – особенно когда мать была единственным родителем многие годы – является, я думаю, достаточно сильной. В моём случае она была неистовой и маниакальной.
Дела не улучшились, когда, незадолго до Рождества, мой отец появился лично. Это была нелёгкая встреча: общение толком не состоялось – я говорю только за себя. Он не знал, как общаться без неловкости, так как был робким и «хорошо воспитанным» человеком. Единственным, что он сумел выразить, было то, что перед тем, как мы примем какое-нибудь окончательное решение об усыновлении (некоторое время я был под впечатлением от того, что это был конец, и от того, что отец не представлял более угрозы), он просил нас с Томом провести выходной с ним и его женой.
Я чувствовал, что это справедливо – дать ему шанс. Если это утверждение кажется хладнокровным, я могу сказать только, что большинство детских решений являются, в некотором смысле, «хладнокровными» и логичными – по крайней мере, мои были такими. Было решено, по-видимому, Джейн и моим отцом (и согласовано с Томом и со мной), что мы посетим его на Лонг-Айленде на неделе.
Визит, на мой взгляд, был катастрофой. Всё было бы не так ужасно, если бы мой отец немедленно по прибытии в его дом не объявил нам, что в случае, если мы решим жить с ним, то поселимся не в его доме, а отправимся в Вашингтон, к двум его незамужним тёткам. Полагаю, что взрослые неизбежно должны объяснять детям факты или обстоятельства, которые имеют к ним отношение. Однако это сообщение, сделанное без какого-либо чувства, какой-либо эмоции (не было никакого намёка, что он любит нас или хочет жить с нами, или, что его тётки нуждаются в двух мальчиках в хозяйстве) показалось мне совершенно нелогичным и даже смешным. Я почувствовал себя ещё более одиноким, чем прежде – похожим на ненужный багаж, которому требуется место для хранения. Так как мой благовоспитанный отец постоянно пытался произвести хорошее впечатление и расспрашивал нас, по прошествии двух дней в его доме я твёрдо заявил, что не хочу жить ни с ним, ни с его тётками, и хочу уехать назад в Нью-Йорк. Том остался до конца недели; я – нет. Меня отпустили, однако, с условием, что я появлюсь на Лонг-Айленде снова, по крайней мере на Рождество. Я холодно согласился подумать над этим. Может быть, – я уже не помню – я согласился без какой-либо оговорки. Я сделал всё, чтобы выйти из положения. Даже Джейн, несмотря на то, что она не принимала мою мать, была чем-то привычным; а то, чего я страшился, было незнакомым, неизвестным.
Тем не менее зима продолжалась. Хотя я часто с ужасом думал о том, что могу никогда больше не увидеть Приоре, всё же было решено, что мы вернёмся туда весной. Гурджиев к тому времени стал единственной путеводной звездой на горизонте, единственным безопасным островком в страшном непредсказуемом будущем.
За эту зиму первый вопрос, который задал мне в своё время Гурджиев, – почему я приехал в Фонтенбло – приобрёл огромную важность. Обращаясь в прошлое в те несколько месяцев, я понял, что Гурджиев стал очень значим для меня. Непохожий ни на одного известного мне взрослого, он вызывал во мне подлинные чувства. Он был полностью реальным – давал мне задания, и я выполнял их. Он не спрашивал меня, не вынуждал принимать решения, которые я был совершенно неспособен принять. Я стал стремиться к кому-то, кто мог сделать что-то так же просто, как «приказать» мне косить газоны – потребовать что-то от меня; однако, было непонятно, как его слова могли быть требованием (хотя, в конце концов, все взрослые «непонятные»). Я стал думать о нём, как о единственном рациональном взрослом человеке, которого я когда-либо знал. Как ребёнок, я не интересовался, – фактически, я не хотел это знать, – почему каждый взрослый что-нибудь делал. Я отчаянно нуждался в авторитете и искал его. А авторитетом в моём возрасте был кто-то, кто знает, что он делает. Со мной советовались в одиннадцать лет, заставляли принимать жизненные решения относительно собственного будущего, – а мне казалось, что это продолжалось всю зиму, – и это было не только совершенно непонятно, но и очень пугающе.
Вопрос Гурджиева развился до «почему я хочу вернуться в Фонтенбло?», и на это нетрудно было ответить. Я хотел вернуться и жить рядом с человеком, который знает, что делает – то, что я не понимал, что он делает, не имело значения. Однако я не стал отходить от изначальной формулировки – единственной причиной, остававшейся в моей голове, было то, что всё, что я должен был сделать, – это приехать туда. Я мог только благодарить ту силу (идея «Бога» мало значила для меня в то время), которая сделала вообще возможным моё пребывание там. Годом ранее наиболее привлекательным в путешествии в Фонтенбло было то, что я должен пересечь океан, чтобы попасть туда, а я любил пароходы.
В эту зиму, и потому, что Гурджиев приобретал для меня всё большее значение, меня сильно соблазняло ощущение, будто моё присутствие там было «неизбежным» – была как бы некоторая необъяснимая мистическая закономерность, которая делала лично для меня необходимым приехать в определённое место в определённое время – как будто у поездки туда была реальная цель. То, что имя Гурджиева в разговорах большинства окружавших меня тогда взрослых связывалось, в основном, с метафизикой, религией, философией и мистикой, будто бы усиливало некоторую предопределённость нашей встречи.
Но в конце концов, я не поддался идее, что сближение с ним было «предопределено». Мои воспоминания о Гурджиеве удерживали от таких мечтаний. Я был не в состоянии отрицать вероятность того, что он был ясновидец, мистик, гипнотизёр, даже «божество». Но всё это не имело значения. На самом деле важным было то, что Гурджиев был уверенный, практичный, сознательный и последовательный человек. В моём маленьком уме Приоре казалось наиболее целесообразным институтом во всём мире. Оно представляло собой – как я это видел – место, которое стало домом для большого количества людей, чрезвычайно занятых выполнением физической работы, необходимой для функционирования этого института. Что могло быть проще, и что могло иметь больший практический смысл? Я был осведомлён, по крайней мере понаслышке, что, возможно, были и другие причины пребывания там. Но в моём возрасте и в моих условиях была единственная цель, и очень простая – быть похожим на Гурджиева. Он был сильным, честным, целенаправленным, простым и совершенно «не бессмысленным» человеком. Я мог вспомнить, совершенно честно, что ужаснулся от работы, заключавшейся в скашивании газонов; но мне было также ясно, что одной из причин моего ужаса было то, что я ленив. Гурджиев заставил меня косить газоны. Но он не сделал этого угрозами, обещаниями награды или просьбами. Он сказал мне косить газоны. Он сказал мне, что это очень важно, – и я косил их. Очевидным результатом, заметным мне в одиннадцатилетнем возрасте, было то, что работа – именно простая физическая работа – перестала вселять в меня ужас. Я также понял, хотя, возможно, не интеллектуально, почему не нужно было косить луг, почему я, как он сказал, «уже сделал это».
Результат этой зимы 1924-25 годов в Нью-Йорке был таков, что я очень желал возвращения во Францию. Первый приезд туда «случился» в результате бесцельной, несвязной цепи событий, которые зависели от развода матери, её болезни, существования Маргарет и Джейн и их интереса к нам. Возвращение весной 1925 года, казалось, было предопределено. Мне казалось, что если будет необходимо, то я доберусь туда сам.
Моё разочарование во взрослом мире и непонимание его достигли пика к Рождеству. Я стал (я описываю свои чувства) в чём-то схож с костью, раздираемой двумя собаками. Ещё продолжался спор за опекунство надо мной и Томом между Джейн и моим отцом, спор, из которого моя мать была исключена. Теперь я уверен, что обе стороны просто «спасали свою репутацию»; я не верю в то, что кто-то из них желал жить с нами из-за нашей особой ценности – я тогда, несомненно, поступал достаточно плохо для того, чтобы не быть особенно желанным. В любом случае, я согласился, или, по крайней мере, согласился подумать о том, чтобы посетить моего отца на Рождество. Когда же подошло время окончательного решения, я отказался. Контрпредложение Джейн о «взрослом» эффектном Рождестве – с вечеринками, посещениями театра и так далее – было мнимой, но удобной причиной для отказа от поездки к моему отцу. Моей настоящей причиной, однако, оставалось то же, что и всегда: Джейн, какими бы невозможными не казались мне наши отношения, была пропуском к Гурджиеву, и я делал всё возможное, чтобы достичь некоторого рода гармонии с ней. Так как Джейн не была ни непогрешимой, ни бесчувственной, моё решение – явно в её пользу – ей польстило.
Мой отец был очень расстроен. Я не мог понять почему, но после того, как я сказал ему о своём решении, он приехал в Нью-Йорк, чтобы заехать за Томом, согласившимся провести Рождество с ним, и привёз с собой несколько больших коробок с подарками для меня. Я был смущён подарками, но, когда он также попросил меня передумать, мне показалось, что он использовал подарки в качестве приманки; я был задет и взбешён. Мне показалось, что вся ложность и отсутствие «справедливости» во взрослом мире были воплощены в этом поступке. Выйдя из себя, я сказал ему в слезах, что меня нельзя купить, и что я буду всегда ненавидеть его за то, что он сделал.
Ради памяти о моём отце, я хотел бы отступить от повествования и сказать, что полностью сознаю его добрые намерения и могу представить тот ужасный эмоциональный шок, который он получил тогда. Что было печально и наверняка даже надрывало его сердце – так это то, что он не понимал, что происходило в действительности. В его мире дети не отвергали своих родителей.
Наконец зима закончилась, хотя мне продолжало казаться, что она бесконечна. Но она ушла, и с весной моё страстное стремление в Приоре усилилось. Я не мог поверить, что действительно возвращаюсь во Францию, пока мы не оказались на корабле, направлявшемся туда. Я не переставал мечтать, верить и надеяться, пока вновь не прошёл через ворота Приоре.
Когда я снова увидел Гурджиева, он положил руку на мою голову, и я взглянул на его свирепые усы, широкую открытую улыбку и блестящий лысый череп. Подобно большому тёплому животному, он притянул меня к себе, нежно прижав рукой, и сказал: «Итак… вы вернулись?» Это было сказано, как вопрос, – что-то несколько большее, чем констатация факта. Всё, что я смог сделать, это кивнуть головой и сдержать рвущееся наружу счастье.
Глава 6
Второе лето – лето 1925 года – было возвращением домой. Я обнаружил, как и мечтал, что ничего существенно не изменилось. Были некоторые люди, оставившие занятия прошлым летом, и новые люди тоже были, но приезд и отъезд каждого не имел большого значения. Снова это место поглотило меня, я стал лишь маленьким винтиком в его большой работе. За исключением покоса газонов, которые стали задачей другого человека, я вернулся к обычной упорядоченной работе наряду со всеми.
В отличие от интерната, Институт обеспечивал ребёнку безопасность и непосредственное ощущение нахождения на своём месте. Может быть и правда, что цель работы с другими людьми в содержании школьной собственности – к которой так или иначе сводились все наши дела – имела другую, высшую цель. На моём уровне это позволяло мне чувствовать, что каким бы незначительным человеком я ни был, я являлся одним из маленьких существенных звеньев, сохранявших жизнь Школы. Это наделяло каждого из нас чувством значимости, ценности; мне трудно теперь представить себе что-нибудь ещё, что было бы более ободряющим для личности ребёнка. Все мы чувствовали, что у нас есть своё место в мире – мы нуждались в уверенности, что выполняем функции, которые важно выполнять. Мы не делали ничего для нашей собственной пользы. Мы делали только то, что было нужно для общего блага.
В обычном смысле, у нас не было уроков – мы не «изучали» ничего вообще. Однако мы учились стирать и гладить для себя, готовить пищу, доить, рубить дрова, тесать, полировать полы, красить дома, ремонтировать, штопать свою одежду, ухаживать за животными – всё это в придачу к работе в больших группах над более важными проектами: строительством дороги, прореживанием леса, посевом и сбором урожая и так далее.
Тем летом в Институте произошли две большие перемены, которые я заметил не сразу. Зимой умерла мать Гурджиева, что произвело неуловимое эмоциональное изменение в ощущении места – она никогда не принимала активного участия в деятельности Школы, но все мы знали о её присутствии – и, что гораздо важнее, Гурджиев начал писать.
Примерно через месяц после того, как я прибыл туда, было объявлено, что будет произведена полная реорганизация работы Института и, ко всеобщему беспокойству, было также объявлено, что по различным причинам, главным образом потому, что у Гурджиева больше нет ни времени, ни энергии, чтобы наблюдать за учениками лично, никому не будет разрешено остаться здесь самовольно. В течение двух или трёх последующих дней Гурджиев переговорит с каждым учеником лично и сообщит, можно ли тому остаться и что он будет делать.
Общей реакцией было бросить всё и ждать до тех пор, пока судьба каждого не будет решена. На следующее утро, после завтрака, здания наполнились слухами и предположениями: каждый выражал свои сомнения и страхи по поводу будущего. Для большинства более старых учеников объявление, казалось, подразумевало, что школа потеряет для них ценность, так как энергия Гурджиева будет сконцентрирована на его писаниях, а не на индивидуальном обучении. Предположения и страхи нервировали меня. Так как я не представлял, что Гурджиев мог решить относительно моей судьбы, я нашёл более простым продолжать свою обычную работу по вырубке и удалению пней. Эта работа была поручена нескольким людям, но только один или двое вышли на работу этим утром. К концу дня было уже проведено много бесед, и определённому числу учеников сказали уехать.
На следующий день я пошёл на свою работу как обычно, но когда я собирался вернуться к своему занятию после обеда, меня вызвали на интервью.
Гурджиев сидел у дверей, на скамейке около главного корпуса, я подошёл и сел возле него. Он взглянул на меня, как бы удивившись моему существованию, спросил, чем я занимался, и особенно подробно, что я делал с тех пор, как было сделано объявление. Я рассказал, и тогда он спросил, хочу ли я остаться в Приоре. Я ответил, что, конечно же, хочу. Тогда он просто сказал, что рад моему согласию, потому что у него была новая работа для меня. Начиная со следующего дня, я должен буду заботиться о его личной квартире: его комнате, туалетной комнате и ванной. Он передал мне ключ, сказав твёрдо, что есть только два ключа и другой находится у него, и объяснил, что я должен буду стелить постель, подметать, убирать, вытирать пыль, полировать, стирать, вообще поддерживать порядок. Когда потребует погода, я буду ответственным за разведение и поддерживание огня; дополнительной обязанностью было то, что я также должен быть его «слугой» или «официантом» – то есть, если он захочет кофе, алкоголя, еды или чего-нибудь ещё, я должен буду принести ему это в любой час дня или ночи. По этой причине, как он объяснил, в моей комнате будет установлен звонок.
Он также сказал, что я не буду больше занят в основных проектах, но мои дополнительные обязанности будут включать в себя обычную работу на кухне и швейцаром, хотя эти обязанности будут уменьшены в объёме для того, чтобы я мог выполнять работу смотрителя квартиры. Ещё одним новшеством было то, что я должен был заботиться о птичьем дворе: кормить кур, собирать яйца, резать кур и уток, когда требовалось и так далее.
Я был очень горд тем, что избран «опекуном» Гурджиева, а он улыбнулся на мою счастливую реакцию. Очень серьёзно он сообщил мне, что моё назначение было сделано экспромтом. Он отпустил ученика, который занимался этой работой, и когда я появился на беседу, он понял, что я был не столь важен для основных проектов, но как раз пригоден для этой работы. Я почувствовал, что меня пристыдили за мою гордость, но был не менее счастлив от этого – я всё ещё чувствовал, что это было честью для меня.
Поначалу я видел Гурджиева не чаще, чем прежде. Рано утром я выпускал кур из курятника, кормил их, собирал яйца и относил на кухню. К тому времени Гурджиев обычно был готов к своему утреннему кофе, после которого он одевался и садился за один из небольших столиков около террасы, где он обычно писал по утрам. В это время я убирался в его комнате, что занимало довольно много времени. Кровать была громадной и всегда в большом беспорядке. Что же касается ванной и туалетной комнаты, то их состояние не может быть описано без проникновения в его личную жизнь; я могу только сказать, что физически Гурджиев жил как животное. Уборка грандиозных масштабов в этих двух комнатах была главным делом каждого дня. Беспорядок часто был таким огромным, что я созерцал внушительные гигиенические драмы, происходившие по ночам в туалетной комнате и ванной. Я часто чувствовал, что Гурджиев преследовал некую сознательную цель, доводя эти комнаты до такого состояния. Были случаи, когда я должен был использовать лестницу, чтобы очистить стены.
Лето ещё было в самом разгаре, когда объём моих обязанностей начал становиться огромным. Из-за того, что Гурджиев писал, в его комнате бывало намного больше посетителей – людей, которые работали над немедленным переводом его книг на французский, английский, русский и, возможно, другие языки. Оригинал был комбинацией армянского и русского языков: Гурджиев говорил, что не смог найти ни одного языка, который давал бы достаточную свободу выражения его усложнённых идей и теорий. Мне прибавилось работы по «обслуживанию» всех, кто общался с Гурджиевым в его комнате. Это подразумевало подносить кофе и арманьяк, а также значило, что комната должна быть приведена в порядок после этих «конференций». Гурджиев во время таких встреч предпочитал ложиться на кровать. Фактически, я едва ли видел его в комнате не лежащим на кровати, за исключением случаев, когда он входил или выходил оттуда. Даже питьё кофе могло произвести разгром – кофе был повсюду в комнате, чаще в кровати, которая, конечно, должна была застилаться каждый раз свежим бельём.
Ходили слухи, и я не мог отрицать их, что в его комнате происходило что-то гораздо большее, чем просто питьё кофе или арманьяка. Обычное состояние комнаты по утрам указывало на то, что ночью там могла происходить почти любая человеческая деятельность. Не было никаких сомнений, что тут живут в полном смысле этого слова.
Я никогда не забуду, как я впервые был вовлечён в инцидент, что было чем-то большим, чем обычное исполнение моих обязанностей. У Гурджиева был почётный посетитель в тот день, А.Р. Орейдж, человек, которого мы все хорошо знали и считали уполномоченным учителем теории Гурджиева. В тот день после завтрака они вдвоём удалились в комнату Гурджиева и вызвали меня, чтобы я, как обычно, принёс кофе. Рост Орейджа был такой, что все мы относились к нему с большим уважением. Его интеллект, преданность и честность были неоспоримы. Вдобавок, он был сердечным, сострадательным человеком, к которому лично я был сильно привязан.
Когда я подошёл к двери с подносом кофе и бренди, я заколебался, шокированный громкими пронзительными взбешёнными криками Гурджиева. Я постучал и, не получив ответа, вошёл. Гурджиев стоял у своей кровати в состоянии, как мне показалось, совершенно неконтролируемой ярости. Он кричал на Орейджа, который стоял невозмутимый и очень бледный, на фоне одного из окон. Я должен был пройти между ними, чтобы поставить поднос на стол. Я так и сделал, чувствуя, что мурашки бегают по коже от разъяренного голоса Гурджиева, и затем направился к выходу, стараясь не привлекать к себе внимания. Когда я дошёл до двери, то не смог удержаться, чтобы не посмотреть на них обоих: Орейдж, высокий мужчина, казался сморщенным и помятым, как бы провисшим в окне, а Гурджиев, в действительности не очень высокий, выглядел огромным – полным воплощением ярости. Хотя неистовство выражалось по-английски, я не мог разобрать слов – поток гнева был слишком сильным. Внезапно, в одно мгновение, голос Гурджиева смолк, весь его вид изменился, он подарил мне широкую улыбку, посмотрев невероятно спокойно и внутренне тихо, показал мне жестом уйти, а затем возобновил свою тираду с той же силой. Это случилось так быстро, что я не верю, что Орейдж заметил нарушение в общем ритме.
Когда я впервые услышал доносящийся из комнаты голос Гурджиева, я ужаснулся. То, что этот человек, которого я уважал больше всех других людей, мог полностью утратить контроль, было ужасным ударом по моему уважению и восхищению им. Когда я проходил между ними, чтобы поставить поднос на стол, я не чувствовал ничего, кроме жалости и сострадания к мистеру Орейджу.
Теперь, когда я вышел из комнаты, мои чувства полностью изменились. Я был всё ещё в шоке от ярости, которую увидел в Гурджиеве; ужасался от этой ярости. В некотором смысле, я даже больше ужаснулся, когда вышел из комнаты, так как понял, что это была вовсе не «неуправляемая» ярость, но, на самом деле, ярость под огромным контролем, и он делал это совершенно сознательно. Я ещё чувствовал жалость к мистеру Орейджу, но был убеждён, что он, должно быть, сделал что-то ужасное – в глазах Гурджиева – чем дал основание для этой вспышки. Мне вообще не приходило в голову, что Гурджиев мог ошибиться в чём бы то ни было – я верил в него всем своим существом. Он не мог ошибаться. Довольно странно, и это трудно объяснить тому, кто не знал Гурджиева лично, но моя преданность ему вовсе не была фанатичной. Я не верил в него, как обычно верят в Бога. Он для меня всегда был прав по простым, логичным причинам. Его необычный «образ жизни», даже такие вещи, как беспорядок в его комнате и требование кофе в любое время дня и ночи, казался намного более логичным, чем так называемый нормальный образ жизни. Когда он что-то хотел или в чём-то нуждался, то просто брал и делал, всё равно что. Он был неизменно заинтересован в других людях и был внимателен к ним. Он никогда не забывал, например, поблагодарить меня или извиниться, когда я, полусонный, приносил ему кофе в три часа утра. Я интуитивно знал, что такое внимание было чем-то значительно большим, чем обычным воспитанием. И, возможно, это было разгадкой – он всегда интересовался людьми. Когда бы я его не увидел, когда бы он ни приказывал мне, он знал меня в совершенстве, был полностью сосредоточен на каждом слове, которое говорил; его внимание никогда не блуждало, когда я разговаривал с ним. Он всегда знал точно, что я делал, что я сделал. Я думаю, что мы все должны были чувствовать (по крайней мере, я чувствовал), что когда он общался с нами, всё его внимание было направлено на нас. Я не могу придумать ничего более лестного для человеческих отношений.
Глава 7
Однажды утром в середине этого загруженного работой лета Гурджиев несколько резко спросил меня, хочу ли я ещё учиться. Он язвительно напомнил мне о моём желании изучить «всё» и спросил, не изменил ли я своё намерение. Я ответил, что нет.
«Почему же вы не спрашиваете об этом, если не передумали?»
Я сказал, сконфуженный, что не упоминал об этом по нескольким причинам. Одной из них было то, что я уже задавал этот вопрос и предполагал, что он не забыл об этом. Вторая причина в том, что он был очень занят писанием и общением с другими людьми, и я думал, что у него нет времени.
Гурджиев сказал, что я должен изучать мир. «Если хотите чего-то, вы должны спросить. Вы должны работать. Вы ожидаете, что я вспомню о вас, но я много работаю, намного больше, чем вы можете себе представить. Вы также не правы, если ожидаете, что я всегда помню то, что вы хотите». Затем он добавил, что я ошибся и в предположении, что он был слишком занят. «Если я занят, то это моё дело, а не ваше. Если я говорю, что научу, вы должны напомнить мне, помочь мне, спрашивая опять. Это покажет, что вы действительно хотите учиться».
Я робко признал, что ошибался, и спросил, когда мы начнем «уроки». Это было в понедельник утром, и он попросил меня прийти на следующее утро, во вторник, в его комнату в десять часов. Когда я наутро подошёл к двери, то, услышав, что Гурджиев уже встал, я постучался и вошел. Он стоял посреди комнаты полностью одетый. Как будто удивившись, он взглянул на меня. «Что вам нужно?» – спросил он неприветливо. Я объяснил, что пришёл на урок. Гурджиев посмотрел на меня так, как будто никогда не видел меня прежде.
«Вы решили, что прийти нужно этим утром?» – спросил он, как будто совершенно забыв.
«Да, – сказал я, – в десять часов».
Он посмотрел на часы на ночном столике. Они показали около двух минут одиннадцатого, а я был там по крайней мере целую минуту. Затем он обернулся ко мне, посмотрев на меня так, как если бы моё объяснение сильно помогло ему: «Этим утром, я помню, должно было что-то быть в десять часов, но я забыл, что. Почему вы не были здесь в десять часов?»
Я посмотрел на свои собственные часы и сказал, что я был здесь в десять часов.
Гурджиев встряхнул головой. «Вы опоздали на десять секунд. Человек может умереть за десять секунд. Я живу по своим часам – не по вашим. Если хотите учиться у меня, то должны быть здесь, когда мои часы показывают десять часов. Сегодня не будет урока».
Я не стал спорить, но набрался смелости и спросил, означает ли это, что «уроков» вообще не будет. Он сделал мне знак удалиться. «Уроки будут непременно. Приходите в следующий вторник в десять часов. Если необходимо, можете прийти раньше и ждать. Это чтобы не опоздать, – добавил он затем, и не без злобы, – если вы не слишком заняты, чтобы ждать учителя».
В следующий вторник я был там в четверть десятого. Гурджиев вышел из своей комнаты, когда я только собирался постучать – за несколько минут до десяти, улыбнулся и сказал, что рад тому, что я не опоздал. Затем он спросил, как долго я ждал. Я ответил, и он раздражённо тряхнул головой. «На прошлой неделе я сказал, – произнёс он, – что если вы не заняты, то можете прийти раньше и ждать. Я не говорил терять почти час времени. Теперь едем». Гурджиев велел принести из кухни термос с кофе и ждать его у автомобиля.
Мы немного проехали по узкой наезженной дороге, и Гурджиев остановил машину. Мы вышли; он велел мне взять с собой кофе, и мы пошли к поваленному дереву, недалеко от края дороги, чтобы сесть на него. Он остановился примерно в ста ярдах от группы работающих, которые выкладывали камнем канаву. Их работа заключалась в перетаскивании камней из двух больших куч к незаконченной секции канавы, где другие рабочие укладывали их в грунт. Мы безмолвно наблюдали за ними, пока Гурджиев пил кофе и курил, но он ничего мне не сказал. Через некоторое время, по крайней мере через полчаса, я, наконец, спросил его, когда же начнётся урок.
Он посмотрел на меня со снисходительной улыбкой. «Урок начался в десять часов, – сказал он. – Что вы видите? Замечаете что-нибудь?»
Я сказал, что я вижу людей, и что единственной необычной вещью, которую я заметил, было то, что один из них ходил к куче, которая была дальше, чем другие.
«Как вы думаете, почему он это делает?»
Я сказал, что не знаю, но, кажется, он создаёт себе лишнюю работу, так как должен носить тяжёлые камни каждый раз с большего расстояния. Ему было бы намного легче ходить к ближней куче камней.
«Это верно, – сказал Гурджиев, – но нужно всегда посмотреть со всех сторон, прежде чем делать выводы. Этот человек также совершает приятную короткую прогулку в тени вдоль дороги, когда он возвращается за следующим камнем. К тому же, он неглуп. За день он переносит не так много камней. Всегда есть логическая причина, почему люди делают что-то определённым способом; необходимо найти все возможные причины, прежде чем судить людей».
Язык Гурджиева, хотя он уделял очень мало внимания грамотности, был всегда безошибочно ясным и чётким. Он не сказал больше ничего, и я чувствовал, что он, отчасти своей собственной сосредоточенностью, заставлял меня наблюдать всё, что происходило вокруг, с большим вниманием. Остаток часа прошёл быстро, и мы вернулись в Приоре: он – к своим рукописям, а я – к домашнему хозяйству. Я должен был прийти в следующий вторник в то же время на очередной урок. Я не жил тем, что я что-то выучил или не выучил; я начал понимать, что «обучение» в гурджиевском смысле не зависело от неожиданных или очевидных результатов, и что никто не мог ожидать никаких немедленных потоков знаний или понимания. Всё больше и больше я чувствовал, что он распространяет знание своим образом жизни; замеченное или незамеченное, оно впитывалось и реализовывалось впоследствии.
Следующий урок был совершенно не похож на первый. Гурджиев велел мне привести в порядок всё в комнате, за исключением кровати, на которой лежал. Он всё время наблюдал за мной, не делая замечаний, пока я не разжёг огонь – было дождливое, сырое летнее утро, и в комнате было холодно, – когда я зажёг огонь, тот безжалостно закоптил. Я добавил сухих дров и старательно подул на угли, но с небольшим успехом. Гурджиев не стал ждать, а внезапно поднялся с кровати, взял бутылку коньяка, потеснил меня и плеснул на угасающий огонь – пламя вспыхнуло, а потом дрова равномерно разгорелись. Безо всяких объяснений он прошел в туалетную комнату и оделся, в то время как я убирал кровать. И только когда он был готов выйти из комнаты, то сказал мимоходом: «Если вы хотите немедленно получить нужный результат, то должны использовать любые средства». Затем он улыбнулся. «Когда меня нет, у вас есть время и нет необходимости использовать превосходный старый арманьяк».
И это был конец того урока. Уборка туалетной комнаты, которую он безмолвно привёл в беспорядок за несколько минут, заняла остаток утра.
Глава 8
Продолжая «полную реорганизацию» Школы, Гурджиев сообщил, что собирается назначить «директора», который будет наблюдать за учениками и их деятельностью. Он объяснил, что этот директор будет регулярно докладывать ему обстановку, поэтому он будет полностью информирован обо всём происходящем в Приоре. Однако его личное время почти полностью будет посвящено писанию, и он будет проводить большую часть времени в Париже.
Директором стала некая мисс Мэдисон, английская старая дева (как все дети называли её), которая до того времени заведовала цветниками. Для большинства из нас – детей – она всегда была несколько комической фигурой. Она была высокой и тощей, неопределённого возраста, угловатый образ венчался чем-то похожим на неопрятное гнездо поблёкших рыжеватых волос. Мисс Мэдисон обычно шествовала среди клумб, неся садовый совок, украшенная нитями рафии, привязанными к её поясу и ниспадающими от талии при ходьбе. Она взялась за директорство с рвением и увлечением.
Хотя Гурджиев сказал, что мы должны уважать мисс Мэдисон так, как если бы она была им самим, я как минимум сомневался, заслуживает ли она этого уважения; а также подозревал, что Гурджиев не будет так хорошо информирован, как если бы он лично наблюдал за работой. Во всяком случае, мисс Мэдисон стала весьма важной фигурой в нашей жизни. Она начала с учреждения ряда правил и предписаний – я часто удивлялся, не происходила ли она из английской военной семьи – которые, по видимости, должны были упростить работу и, в общем, внести эффективность в то, что она называла бессистемной работой Школы.
Так как Гурджиев теперь отсутствовал по крайней мере половину каждой недели, мисс Мэдисон решила, что мне было недостаточно заботиться только о его комнате и курятнике. Кроме этого, я был назначен ухаживать за одной из наших лошадей и ослом, а также выполнять некоторые работы на клумбах под непосредственным наблюдением мисс Мэдисон. Вдобавок к этому, я был подчинён, как и все, большому количеству обычных мелких правил. Никто не мог покинуть территорию без специального разрешения мисс Мэдисон; наши комнаты проверялись через определённое время; короче говоря, была усилена обычная военная дисциплина.
Дальнейшим изменением, вызванным «реорганизацией» Школы, было прекращение ночных демонстраций танцев или гимнастики. По гимнастике всё ещё были занятия, но они проводились только около часа после обеда; в тех редких случаях, когда Гурджиев привозил на выходные гостей в Приоре, мы «выступали». По этой причине наши вечера были свободны всё лето, и многие из нас ходили на вечер в Фонтенбло – пешком около двух миль. Для детей там не было ничего интересного, кроме как пойти иногда в кино, иногда на местную ярмарку или на карнавал. Но эта ранее неконтролируемая – в действительности, неупоминаемая – привилегия была важной для всех нас. До этого времени никто не беспокоился о том, чем мы занимались в свободное время, если мы присутствовали утром и были готовы работать. Столкнувшись с новым порядком, мы должны были иметь «пропуск», чтобы пойти в город – нам было сказано, что мы должны представить «уважительную причину» для каждой отлучки с территории школы, и мы взбунтовались. Общего договора противодействия или игнорирования этого правила не было. Но индивидуально никто не повиновался ему; никто никогда не просил «пропуска».
Мы не только не спрашивали разрешения, чтобы уйти с территории, но ходили в город даже тогда, когда у нас не было причины и желания. Мы, конечно, не уходили через передние ворота, где надо было показывать «пропуск» тому, кто выполнял обязанности швейцара, – мы просто перелезали через стену, уходя и возвращаясь. Мисс Мэдисон не отреагировала немедленно, но мы вскоре узнали, хотя и не могли представить себе, как это было возможно, что она ведёт точную регистрацию каждого отсутствия. Мы узнали о существовании этой регистрации от Гурджиева, когда, в одно из его возвращений в Приоре после нескольких дней отсутствия, он объявил всем нам, что у мисс Мэдисон есть «чёрная книжечка», в которую она заносит все «проступки» учеников. Гурджиев также сказал нам, что пока держит при себе своё мнение о нашем поведении, но напоминает, что он назначил мисс Мэдисон директором, и мы обязаны слушаться её. Хотя это казалось технической победой для мисс Мэдисон, эта победа была совершенно пустой; он не сделал ничего, чтобы помочь ей в поддержании дисциплины.
Моё первое столкновение с мисс Мэдисон произошло из-за цыплят. Однажды после обеда, как раз после того, как Гурджиев уехал в Париж, я узнал от одного из детей – я убирал в комнате Гурджиева в это время – что мои цыплята, по крайней мере, несколько из них, нашли лазейку с птичьего двора и успешно разрыли клумбы мисс Мэдисон. Когда я прибыл на место происшествия, мисс Мэдисон неистово преследовала цыплят по всему саду, и вместе мы сумели вернуть их назад в загон. Ущерб цветам был нанесен небольшой, и я помог мисс Мэдисон, по её приказу, исправить все повреждения. Затем она сказала мне, что это я виноват в побеге цыплят, так как не содержал забор в должном порядке; а также, что мне не будет позволено покидать территорию Института в течение недели. Она добавила, что если обнаружит цыплёнка в саду ещё раз, то лично убьёт его.
Я отремонтировал изгородь, но, по-видимому, плохо – один или два цыплёнка убежали на следующий день и опять отправились на клумбы. Мисс Мэдисон сдержала своё обещание и скрутила шею первому пойманному цыплёнку. Так как я был очень привязан к цыплятам и даже дал им имена, я отомстил мисс Мэдисон разрушением одной из её любимых посадок. Вдобавок, сугубо для личного удовлетворения, ночью я ушёл с территории в Фонтенбло.
На следующее утро мисс Мэдисон поставила меня перед серьёзной задачей. Она сказала, что, если мы не придём к пониманию, она всё расскажет Гурджиеву, и что она знает, что он не допустит никакого пренебрежения её авторитетом. Мисс Мэдисон также сказала, что я занимаю первое место в списке нарушителей в её чёрной книжке. В свою защиту я ответил, что цыплята полезны, а цветы – нет; что она не имела права убивать моего цыплёнка. Она возразила, что не мне судить, что она имеет право делать, а что нет, а также, что Гурджиев ясно дал понять, что ей надо повиноваться.
Так как мы не пришли к примирению или согласию, инцидент был вынесен на рассмотрение Гурджиева, когда он вернулся из Парижа в конце недели. Сразу же после возвращения, он, как обычно, пригласил мисс Мэдисон и надолго закрылся с ней в своей комнате. Я беспокоился в течение всего этого времени. В конце концов, каковы бы ни были мои доводы, я не подчинился ей, и не был уверен, что Гурджиев посмотрит на всё это с моей точки зрения.
В тот вечер после ужина он заказал кофе и, когда я его принёс, велел мне сесть. Затем он спросил о моей жизни в его отсутствие и как мне нравится с мисс Мэдисон. Не зная, что она рассказала ему, я ответил осторожно, что живу хорошо, но что Приоре очень изменилось с тех пор, как она стала директором.
Он серьёзно посмотрел на меня и спросил: «Как изменилось?»
Я ответил, что мисс Мэдисон ввела слишком много правил, слишком много дисциплины.
Гурджиев ничего не ответил на это замечание, но затем сказал мне, что мисс Мэдисон рассказала ему о разорении клумб, и что она убила цыплёнка, но он хотел бы знать мой взгляд на эту историю. Я рассказал ему о своих чувствах к ней, и особенно, что я считал, что мисс Мэдисон не имела права убивать цыплёнка.
«Что вы сделали с убитым цыплёнком?» – спросил он меня.
Я сказал, что ощипал его и отнёс на кухню.
Он обдумал это, кивнул головой и сказал, что я должен понять, что цыплёнок не был потерян; а также, что в то время, как цыплёнок, хотя и умер, был использован, погибшие цветы, которые я в гневе вырвал с корнем, не могли послужить никакой цели – не могли, например, быть съедены. Затем он спросил меня, починил ли я изгородь. Я сказал, что повторно починил её, после того как цыплята снова выбежали. Он сказал, что это хорошо, и послал меня привести мисс Мэдисон.
Удручённый, я пошёл за ней. Я не мог отрицать логику того, что он сказал мне, но всё ещё обиженно чувствовал, что мисс Мэдисон не была полностью права. Я нашёл мисс Мэдисон в её комнате, она, бросив на меня всезнающий, полный превосходства взгляд, проследовала со мной в комнату Гурджиева. Он велел нам сесть, а затем сказал ей, что уже рассказал мне о проблеме цыплят и клумб, и он уверен, – он посмотрел на меня при этих словах, – что здесь не должно быть больше затруднений. Затем он сказал неожиданно, что мы оба обманули его ожидания. Я обманул его ожидания тем, что не повиновался мисс Мэдисон, которую он назначил директором, а она обманула его ожидания тем, что убила цыплёнка, который был, между прочим, его цыплёнком; он не только был его цыплёнком, но был поручен мне под ответственность, и что поскольку я держал их в загоне, она не имела права его убивать.
Затем он сказал мисс Мэдисон удалиться, но пока она выходила, добавил, что он потратил много времени на объяснение всех этих вещей о цыплёнке и клумбах, а он сейчас очень занят, и одной из обязанностей директора было освободить его от таких незначительных, но занимающих время проблем.
Мисс Мэдисон покинула комнату – Гурджиев показал, чтобы я остался, – и он спросил меня, чувствую ли я, что научился чему-то. Я был удивлён вопросом и не знал, что ответить, кроме как сказать, что не знаю. Именно тогда, я думаю, он впервые упомянул прямо об одной из основных задач и целей Института. Он сказал, пренебрегая моим неудовлетворительным ответом, что в жизни наиболее трудной вещью и, возможно, наиболее важной является необходимость научиться уживаться с «неприятными проявлениями других». Он сказал, что наша история была, сама по себе, совершенно незначительной. Цыплёнок и клумба не имели значения. Важным было поведение моё и мисс Мэдисон; что, если бы каждый из нас «осознавал» своё поведение, а не просто реагировал на другого, проблема была бы решена без его вмешательства. Гурджиев сказал, что по сути – ничего не случилось, кроме того, что мисс Мэдисон и я уступили своей обоюдной враждебности. Он ничего не добавил к этому объяснению, я был озадачен и сказал ему об этом. Он ответил, что я, вероятно, пойму это позже, в жизни. Затем он прибавил, что мой урок состоится следующим утром, хотя это и не вторник; и извинился, что из-за загруженности работой он не может проводить уроки регулярно по расписанию.
Глава 9
Когда я пришёл на урок следующим утром, Гурджиев выглядел очень утомлённым. Он сказал, что очень тяжело работал – большую часть ночи, что писание является очень сложным делом. Он лежал в кровати и не вставал в течение всего урока. Гурджиев начал рассказывать об упражнении, которое все мы должны были делать, и которое я упоминал ранее как «самонаблюдение». Он сказал, что это очень трудное упражнение, и он хочет, чтобы я делал его с полной и как можно более устойчивой концентрацией. Он также сказал, что основной трудностью в этом упражнении, как и во многих упражнениях, которые он давал – или даст в будущем – мне или другим ученикам, было то, что выполняя его, не нужно ожидать никаких результатов, только тогда оно будет выполнено правильно. В этом особом упражнении важным было то, что нужно было увидеть себя, наблюдать своё механическое, автоматическое поведение без комментариев, не пытаясь его изменить. «Если будете менять, – сказал Гурджиев, – то никогда не увидите реальность. Будете видеть только изменение. Когда вы начнёте изучать себя, вы изменитесь, или сможете измениться, если захотите – если такое изменение желательно».
Он продолжал говорить, что его работа не только очень трудна, но может быть также опасной для некоторых людей. «Эта работа не для всех, – сказал он. – Например, если кто-то хочет учиться, чтобы стать миллионером, необходимо посвятить всю молодость этой цели, а не другой. Если есть желание стать священником, философом, учителем или бизнесменом – не стоит приходить сюда. Здесь учат только возможности стать человеком, который неизвестен в наше время, особенно в западном мире».
Затем он попросил меня посмотреть в окно и сказать, что я вижу. Я сказал, что вижу только дуб. «А что на дубе?» – спросил он. Я ответил: «Жёлуди».
«Сколько желудей?»
Когда я ответил, несколько неуверенно, что не знаю, Гурджиев сказал нетерпеливо: «Не точно, я спросил не это. Предположите, сколько!»
Я предположил, что на дубе их было несколько тысяч.
Он согласился, а затем спросил меня, сколько желудей станет взрослыми деревьями. Я ответил, что, наверное, только пять или шесть из них, не больше.
Гурджиев кивнул. «Возможно только один, возможно даже ни одного. Нужно учиться у Природы. Человек – это тоже организм. Природа делает много желудей, но возможность стать деревом существует только для немногих. То же и с человеком – рождается много людей, но только некоторые вырастают. Люди думают, что остальные – это потеря, думают, что Природа несёт убытки. Это не так. Остальные становятся удобрением, идут назад в землю и создают возможность для других желудей, других людей, стать большим деревом, реальным человеком. Природа всегда даёт – но даёт только возможность. Чтобы стать взрослым дубом, или настоящим человеком, нужно прилагать усилия. Вы понимаете, что моя работа, этот Институт не для удобрений. Только для реального человека. Но нужно также понять, что удобрение необходимо Природе. Возможность для настоящего дерева, настоящего человека, также зависит от этого удобрения».
После долгого молчания, Гурджиев продолжал: «В западном мире верят, что человек имеет душу, данную Богом. Это не так. Ничего не дано Богом – только Природа даёт. А Природа не даёт душу, даёт только возможность для души. Можно приобрести душу через работу. Но, в отличие от дерева, у человека много возможностей. Так, как теперь существует человек, он также имеет возможность вырасти случайно – вырасти неправильным путём. Человек может стать не только удобрением, не только настоящим человеком: может стать тем, кого вы называете «добрым» или «злым», но это на самом деле неважно для человека. Настоящий человек не добрый или злой, настоящий человек – это только сознательный человек, желающий приобрести душу для истинного развития».
Я слушал его сосредоточенно и напряжённо, и моим единственным чувством – мне было тогда двенадцать лет – было замешательство, непонимание. Я чувствовал важность того, что он говорил, но не понимал его слов. Как будто зная об этом (а это, несомненно, было так), он сказал: «Думайте о добре и зле, как о правой и левой руке. У человека две руки, две стороны себя – добрая и злая. Одна может разрушить другую. Нужно задаться целью, чтобы обе руки работали вместе, а для этого нужно приобрести нечто третье; то, что примиряет обе руки, импульс хорошего и импульс плохого. Человек, который только «добрый» или только «злой» не является цельным человеком, он односторонний. Тем третьим является совесть; возможность приобрести совесть уже есть в человеке, когда он рождается; эта возможность даётся – бесплатно – Природой. Но это только возможность. Реальная совесть может быть приобретена только работой, а сначала изучением себя. Даже в вашей религии – западной религии – есть это выражение: «познать себя». Эта фраза наиболее важная во всех религиях. Когда начинается познание себя – уже появляется возможность стать истинным человеком. Таким образом, то, что нужно приобрести в первую очередь, это знание самого себя посредством этого упражнения самонаблюдения. Если не делать этого, тогда будете подобны жёлудю, который не стал деревом, а стал удобрением. Удобрением, которое вернулось обратно в почву и стало возможностью для будущего человека».
Глава 10
Как будто само собой, автоматически, директорство мисс Мэдисон стало таким, что мы смогли жить без дальнейших трудностей. Надо было много работать; обычная работа по поддержанию функционирования школы, усиленная забота каждого о правилах и предписаниях и о том, как работать, достигли совершенства. К тому же нас было много, и физическая организация была слишком большой для мисс Мэдисон (которая не отказалась от своего никогда не кончавшегося садоводства), чтобы она могла наблюдать за каждым постоянно и индивидуально. Единственным конфликтом, который случился между мной и мисс Мэдисон тем летом и был достаточно громким, чтобы привлечь внимание Гурджиева, был инцидент с Японским садом.
Задолго до того, как я появился в Приоре, одним из проектов Гурджиева было строительство, которое он назвал «Японским садом». Используя воду из канала, который проходил по территории, был создан остров в лесу. На острове был построен небольшой, шести– или восьмисторонний павильон в восточном стиле, и типичный японский арочный мостик, который вёл на остров. Всё это выглядело по-восточному и было любимым местом уединения по воскресеньям, когда не нужно было выполнять обычные задания. Один из учеников – взрослый американец – пришёл туда вместе со мной в воскресенье после обеда; он недавно прибыл в школу и, если я правильно помню, мы оказались там потому, что я показывал ему, что и где находится в Приоре. В то время было обычной практикой для одного из детей показывать вновь прибывшим всё, что есть на площади семидесяти пяти акров – различные огороды, турецкую баню, место текущего проекта и так далее.
Мы с моим спутником остановились отдохнуть в Японском саду, и он, как будто насмехаясь над садом, сказал мне, что, несмотря на то, что сад мог бы быть «японским» по сути, это совершенно разрушалось присутствием прямо перед дверью в маленький павильон двух гипсовых бюстов, Венеры и Аполлона. Моя реакция была немедленной и рассерженной. Также, несколько странным способом, я почувствовал, что критика бюстов была критикой вкуса Гурджиева. По разным причинам я с вызовом сказал американцу, что исправлю положение, и немедленно сбросил оба бюста в воду. Я помню чувство, что я, поступая таким образом, каким-то неясным способом защищал честь Гурджиева и его вкус.
Мисс Мэдисон, чьи источники информации были всегда загадкой для меня, узнала об этом. Она сказал мне, угрожающе, что это своевольное уничтожение бюстов не может пройти незамеченным, и что мистер Гурджиев будет извещён о том, что я сделал, немедленно по его возвращении из Парижа.
Так как следующее возвращение Гурджиева из Парижа было в выходные дни, его сопровождали несколько человек, приехавших с ним в машине, к тому же было очень много других гостей, добравшихся поездом или на своих машинах. Как и всегда, когда он возвращался из своих поездок, все ученики после обеда собрались в главной гостиной Приоре. В присутствии всех (это было скорее подобно собранию акционеров) Гурджиев выслушал официальный отчёт мисс Мэдисон, охватывавший обычные события, которые случились в его отсутствие. За этим рапортом следовало резюме мисс Мэдисон о всяких проблемах, которые возникли и которые, как ей казалось, нуждались во внимании Гурджиева. По этому случаю она села рядом с ним, чёрная книжка была решительно открыта у неё на коленях, она что-то недолго говорила ему – убеждающе, но не настолько громко, чтобы мы могли услышать. Когда она закончила, он сказал, чтобы вышел вперёд тот, кто уничтожил статуи в Японском саду.
Упав духом, я вышел вперёд, смущённый присутствием всех учеников и большого числа высокопоставленных гостей; я злился на себя за необдуманный поступок. В тот момент я подумал, что нет оправдания тому, что я сделал.
Гурджиев, конечно, спросил меня, почему я совершил это злодеяние, а также понимаю ли я, что уничтожение имущества было, в действительности, преступным? Я сказал: «Я понимаю, что не должен был делать этого. Но я сделал это потому, что статуи были несоответствующего исторического периода и цивилизации, и они не должны были стоять там на первом месте». Я умолчал про американца.
С большим сарказмом Гурджиев сообщил мне, что хотя моё знание истории могло произвести глубокое впечатление, я, тем не менее, уничтожил «статуи», которые принадлежали ему; что он лично руководил их установкой там; что, на самом деле, ему нравились греческие статуи в японских садах, во всяком случае конкретно в этом Японском саду. Ввиду того, что я сделал, он сказал, что я должен быть наказан, и что моё наказание будет заключаться в отказе от моих «шоколадных денег» (так назывались любые детские «деньги на расходы» или «карманные деньги») до тех пор, пока статуи не будут возвращены на место. Он поручил мисс Мэдисон выяснить стоимость эквивалентной замены и взыскать эту сумму с меня, как бы долго это не продолжалось.
Главным образом, из-за моего семейного положения – у Джейн и Маргарет почти не было денег в то время, и, конечно, никто не мог дать их нам – у меня не было так называемых «шоколадных денег»; по крайней мере, у меня не было ничего, что можно было бы назвать регулярным доходом. Единственными деньгами на расходы, которые я когда-либо получал в то время, были нечастые переводы, которые моя мать посылала мне из Америки – на мой день рождения или на Рождество или, иногда, по непонятной причине. В этот конкретный моменту меня не было денег вообще, а я также был уверен, что статуи должны быть ужасно дорогими. Я предвидел вечность, в течение которой я должен буду передавать все деньги, которые как-либо получу, чтобы заплатить за мой опрометчивый поступок. Это была ужасная перспектива, особенно потому, что мой день рождения уже был несколько месяцев тому назад, а Рождества нужно было ещё несколько месяцев ждать.
Моё мрачное безденежное будущее внезапно закончилось, когда я совершенно неожиданно получил чек на двадцать пять долларов от моей матери. Прежде чем отдать чек мисс Мэдисон, я узнал от неё, что «статуи» были простыми гипсовыми слепками, и будут стоить около десяти долларов. Даже с этой суммой мне было нелегко расстаться. Двадцати пяти долларов мне могло хватить, по крайней мере, до Рождества.
На следующем собрании мисс Мэдисон сообщила мистеру Гурджиеву, что я отдал ей деньги для новых «статуй» – он отказывался даже слышать слово «бюст» – и спросила, заменять ли их.
Гурджиев некоторое время обдумывал этот вопрос, а затем, наконец, сказал «нет». Он подозвал меня к себе, вручил мне деньги, которые она отдала ему, и сказал, что я могу оставить их себе, но при условии, что поделюсь ими со всеми другими детьми.
Он также сказал, что, хотя я был не прав, уничтожив его собственность, он хотел, чтобы я знал, что он думал обо всем этом, и что я был прав о неуместности тех «статуй» на этом месте. Он предложил, чтобы я заменил их подходящими статуями, хотя мне не нужно было делать это прямо сейчас. К этому инциденту мы никогда больше не возвращались.
Глава 11
К концу лета я узнал, что Гурджиев планирует поехать в Америку с длительным визитом – вероятно, на всю зиму 1925–26 годов. В моём уме автоматически возник вопрос о том, что будет с Томом и со мной, но всё быстро решилось: к моему великому облегчению, Джейн сказала нам, что решила поехать обратно в Нью-Йорк, но Том и я останемся на эту зиму в Приоре. В один из выходных она взяла нас в Париж и представила Гертруде Стайн и Элис Б. Токлас; Джейн как-то убедила Гертруду и Элис присматривать за нами в её отсутствие.
В наши редкие визиты в Париж мы встречались со многими известными людьми: Джеймсом Джойсом, Эрнестом Хемингуэем, Константином Бранкузи, Жаком Лившицем, Тристаном Тцара и другими, большинство из которых в то или иное время сотрудничали с Little Review. Ман Рэй сфотографировал нас обоих; Поль Челищев, после двух или трёх дней последовательной работы над моим пастельным портретом, выгнал меня из своей студии, сказав, что меня нельзя нарисовать. «Вы выглядите так, как все, – сказал он. – И ваше лицо никогда не бывает неподвижным».
Я был слишком юным или слишком эгоистичным в те времена, чтобы полностью осознать привилегию, если так можно сказать, знакомства или встреч с такими людьми. Вообще, они не производили слишком сильного впечатления на меня; я не понимал их разговоров и был осведомлён об их важности только потому, что мне сказали об этом.
Из всех этих людей на меня производили подлинное впечатление Хемингуэй и Гертруда Стайн. На нашей первой встрече с Хемингуэем, чья книга «Прощай, оружие» ещё не была опубликована, он поразил нас своими рассказами о бое быков в Испании; с большим увлечением он разорвал рубашку, чтобы показать нам свои «боевые шрамы», а затем упал на четвереньки, раздетый до пояса, чтобы изобразить быка для своего первого ребёнка, тогда ещё маленького.
Гертруда Стайн оказала на меня существенное влияние. Джейн давала мне прочитать кое-что из её книг – я не помню, что это было – что я нашёл совершенно бессмысленным; по этой причине я был смутно встревожен перспективой встречи с ней. Но она сразу же понравилась мне. Эта женщина оказалась простой, прямой и чрезвычайно дружелюбной. Она сказала нам, – у неё были столь «деловые» качества, что она обратилась ко мне, как к ребёнку, – что мы будем посещать её каждый второй четверг в течение зимы, и что наше первое посещение должно состояться на день Благодарения. Хотя я переживал об отсутствии Гурджиева – я чувствовал, что Приоре не могло быть тем же самым без него, – моя неожиданная привязанность к Гертруде и уверенность, что мы будем видеть её регулярно, были значительным утешением.
Гурджиев только один раз сказал мне прямо о своей приближавшейся поездке. Он сообщил, что собирается оставить мисс Мэдисон заведовать всем, и мне нужно будет – так же, как и всем остальным – работать с ней. Мисс Мэдисон больше не беспокоила и не пугала меня, я привык к ней, и я заверил Гурджиева, что всё будет хорошо. Затем он сказал, что это очень важно – научиться ладить с людьми. Важно только в одном отношении – научиться жить со всякими людьми и во всех ситуациях; жить в том смысле, чтобы не реагировать на них автоматически.
Перед своим отъездом он созвал на собрание некоторых учеников и мисс Мэдисон. Гурджиев пригласил в основном американцев, только тех, кто собирался остаться в Приоре во время его отсутствия, – исключая его собственную семью и старых учеников и последователей, которые были с ним многие годы и которые, по всей видимости, не были подчинены дисциплине мисс Мэдисон. У меня было чувство, что непосредственно семья Гурджиева, его брат, невестка и трое детей не были такими же «последователями» или «учениками», как все остальные, а были просто «семьей», которую он содержал.
На этом собрании или встрече мисс Мэдисон всем подавала чай. Сейчас мне кажется, что это была её идея, к тому же она предприняла попытку «быть на короткой ноге» с теми учениками, которые будут на её попечении в течение предстоящей зимы. Мы все слушали, как она и Гурджиев обсуждали различные аспекты работы Института – главным образом текущие проблемы, распределение работы и т. д. – но единственным особым воспоминанием о той встрече было то, как мисс Мэдисон подавала нам чай. Вместо того чтобы сидеть на месте, наливать чай и передавать его нам, она, наливая каждую чашку, вставала и каждому её подносила. К несчастью для неё, мисс Мэдисон имела физическую слабость – столь деликатную на самом деле, что она выглядела своего рода изяществом – слабо испускать «дух» каждый раз, когда она наклонялась, а это нужно было делать, подавая чашку чая. Неизбежно происходил едва слышный одиночный «хлопок», при котором она немедленно говорила «извините меня» и выпрямлялась.
Все мы были позабавлены и смущены этим, но никто не веселился больше, чем Гурджиев. Он внимательно наблюдал за мисс Мэдисон со слабой улыбкой на лице, и для него невозможно было не заметить, как все мы «прислушивались» к ней. Как будто не в состоянии себя дальше сдерживать, он начал говорить. Он сказал, что мисс Мэдисон является особым человеком, со многими качествами, которые могли быть не сразу заметны случайному зрителю (когда Гурджиев хотел, он мог быть очень многословным и говорить по-английски очень красиво, цветисто). В качестве примера одного из таких качеств, он сослался на то, что она имела совершенно исключительный способ обслуживания чаем в сопровождении небольшого резкого «выстрела», подобно маленькой пушке. «Но так деликатно, так утонченно, – сказал он, – что необходимо быть бдительным и весьма восприимчивым, чтобы заметить это». Он продолжал отмечать, что мы должны обратить внимание на её крайнюю воспитанность – она неизменно извинялась сама после каждого раза. Затем он сравнил эту её «добродетель» с другими светскими приличиями, заявив, что она была не только необычной, но совершенно новой и оригинальной даже для него, с его большим жизненным опытом.
Невозможно было не восхищаться самообладанием мисс Мэдисон во время этого безжалостного бесконечного комментария о её неудачной особенности. В то время как это было очевидное «пукание», никто из нас не мог даже про себя употребить это грубое слово. То, как Гурджиев говорил об этом, вызвало у нас почти любовь, заставило нас проникнуться симпатией и нежностью к мисс Мэдисон. «Окончательным результатом» этого безжалостного каламбура было то, что все мы почувствовали такую непосредственную, истинную симпатию к мисс Мэдисон, какой никто из нас не испытывал прежде. С тех пор я часто думал, использовал ли Гурджиев эту незначительную слабость в непробиваемой на вид «броне» мисс Мэдисон для того, чтобы спустить её с уровня строгого «директора» к какому-то более человечному представлению в умах присутствовавших. С того времени для нас стало совершенно невозможным воспринимать мисс Мэдисон слишком серьёзно; и было точно так же невозможно не любить её – она казалась теперь даже более человечной и так же подверженной ошибкам. Что касается меня самого, я никогда более не слышал деликатного «пукания» без ассоциации с нежным воспоминанием о мисс Мэдисон.
Я не буду теперь заявлять, что особенность мисс Мэдисон заставила меня действительно полюбить её, но она определённо подвела довольно близко к этой цели. Было время, когда мы были способны работать вместе без трудностей или враждебности, и я объясняю существование этих периодов этой слабостью или, по крайней мере, моей памятью о ней. Для меня было и остаётся невозможным всем сердцем презирать любого, кто является, по какой-нибудь причине, комической фигурой. Был и грустный аспект данной истории: с этого момента привычка стала всеобщей – мы неизбежно смеялись и над собой так же, как тогда, когда мы подшучивали над мисс Мэдисон за её спиной. Даже фраза, что мы всегда всё делали «за её спиной», немедленно приобретала весёлый оттенок. Действительно, ничего не могло быть более подходящим для неё. Даже одного её «выстрела» или упоминания о нём было достаточно, чтобы вызвать в нас взрывы смеха. И мы, конечно же, как дети, отпускали беспощадные шутки с подробностями о возможности разрушения стен в её комнате от постоянного заградительного огня.
Со своей стороны, мисс Мэдисон продолжала управлять школой, деятельная, строгая и преданная; и со случайными резкими «хлопками», будто подчёркнутыми обычными извинениями.
Глава 12
Без Гурджиева Приоре стало другим, но это случилось не только из-за его отсутствия. Сама зима изменила ритм и распорядок Все мы впали в то, что по сравнению с деятельным летом выглядело своеобразной зимней спячкой. Почти не велись работы над внешними «проектами», и большинство наших обязанностей ограничивалось такими делами, как работа на кухне (намного чаще, чем прежде, потому что было слишком много случайных людей), выполнение обязанностей швейцара, рубка дров и разнос их по комнатам, поддержание чистоты в доме и, в моём случае, учёба в обычном смысле слова. Одним из оставшихся на зиму учеников был американец, недавно окончивший колледж. Почти каждый вечер, иногда по несколько часов, я изучал с ним английский язык, а также математику. Я жадно читал, будто изголодавшись по этому виду обучения, и мы тщательно разобрали всего Шекспира, а также оксфордские издания английских стихов и баллад. Сам я читал Дюма, Бальзака и многих других французских писателей.
Однако самые заметные переживания той зимы были связаны с Гертрудой Стайн и, в меньшей степени, с Элис Токлас.
Наш первый визит в Париж к Гертруде был незабываем. Мы, конечно, были счастливы в Приоре, и это не обсуждалось, но Том и я скучали по многим вещам, которые были по сути американскими. Тот первый визит был в День Благодарения – праздник, который ничего не значил для французов или учеников Приоре. Мы прибыли к Гертруде на Рю де Флёр около десяти часов утра, позвонили, но нам никто не ответил. Элис, очевидно, ушла куда-нибудь, а Гертруда, как мы вскоре узнали, была в ванной на втором этаже. Когда я позвонил второй раз, сверху показалась голова Гертруды, и она бросила нам в окно связку ключей. Мы сами вошли и расположились в гостиной, пока она была в ванной. Такая ситуация возникала каждый раз, когда мы приезжали в Париж, – очевидно Гертруда принимала ванну каждый день или, по крайней мере, каждый четверг в одни и те же часы.
Большая часть дня прошла в долгом, но очень приятном разговоре с Гертрудой. Я понял позже, что это был настоящий перекрестный допрос. Она расспрашивала нас обо всей нашей жизни, об истории нашей семьи, наших отношениях с Джейн и с Гурджиевым. Мы отвечали со всеми подробностями, и Гертруда, слушая терпеливо и без комментариев, никогда не прерывала нас, за исключением момента, когда задавала следующий вопрос. Мы говорили довольно долго, уже было далеко за полдень, когда внезапно появилась Элис, чтобы объявить обед – к тому времени я уже и забыл, что был День Благодарения – и Гертруда усадила нас за накрытый стол.
Такого Дня Благодарения у меня никогда не было. Впечатление, я полагаю, усилилось тем, что всё это было совершенно неожиданно, а количество и внешний вид блюд были очень зрелищными. Я очень растрогался, когда узнал, что большинство традиционных американских блюд – включая сладкую картошку, тыквенный пирог, алтей, клюкву, всё то, о чём и не слышали в Париже – были специально заказаны из Америки для этого обеда.
В своей обычной прямой уверенной манере Гертруда сказала, что, по её мнению, американским детям нужен американский День Благодарения. Она столь же уверенно выразила некоторые сомнения о том, как мы жили. Она подозрительно относилась к Джейн и Гурджиеву как к «воспитателям» или «опекунам» каких-либо детей, и убедительно заявила, что намеревается взять в свои руки наше воспитание и образование, начиная со следующего визита. Гертруда добавила, что жизнь с «мистиками» и «артистами», возможно, очень хороша, однако бессмысленна для двух американских мальчиков как постоянная диета. Она составит план наших будущих визитов к ней, что принесёт, по её мнению, больше пользы. Мы уехали из Парижа в тот вечер поздно, вернулись в Фонтенбло, и я мог ещё раз вспомнить теплоту и счастье, которые я чувствовал в тот день, и, особенно, сильную привязанность к Гертруде и Элис.
План Гертруды, который она описала нам во время следующей встречи, был захватывающим. Она сказала, что я уже много чему научился и много чего прочёл, и хотя встречи с интеллектуалами и артистами могли быть своеобразным поощрением для нас, она считала, что у нас есть благоприятная возможность, которой мы не должны пренебрегать – шанс близко узнать Париж. Это было важным по многим причинам, среди которых та, что исследование и изучение города было понятной и доступной деятельностью для детей нашего возраста. Это исследование навсегда оставит в нас свой след, и этим позорно пренебрегать. Гертруда полагала, что у нас будет достаточно времени в будущем, когда мы повзрослеем, чтобы изучить более непонятные области, такие, как гуманитарные науки и искусства.
Мы начали с ряда экскурсий, которые продолжались в течение всей зимы, за исключением дней, когда мешала погода, но таких было немного. Мы залезали в «Форд» модели «Т» – Гертруда за рулём, Элис и Том втискивались впереди с ней, в то время как я сидел за Гертрудой на ящике с инструментами с левой стороны по ходу машины. Моей задачей в этих экспедициях было дуть в гудок по команде Гертруды. Это требовало моего полного внимания, потому что Гертруда недавно села за руль, и старая машина величественно и решительно приближалась с «моими» повторяющимися гудками к перекрёсткам и поворотам.
Мало-помалу мы объездили Париж. Первыми достопримечательностями были: Нотр-Дам, Сакре-Кёр, Дом Инвалидов, Эйфелева башня, Триумфальная арка, Лувр (сначала снаружи – мы, по мнению Гертруды, увидим достаточно картин в своё время), Консьержери, Сент-Шапель.
Когда мы посещали какой-нибудь памятник или постройку, на которые был (или мог быть) сложный подъём, Гертруда неизменно передавала мне красный шёлковый шарф. Мне поручали подняться (в случае Эйфелевой башни мне позволили подняться лифтом) на вершину памятника, а затем помахать Гертруде сверху красным шарфом. Вопроса о недостатке доверия не было. Она говорила прямо, что все дети очень ленивы. Она могла доказать своей собственной совести, что я действительно совершил подъём, когда она видела сверху красный шарф. Во время этих восхождений она и Элис оставались сидеть в «Форде» в каком-нибудь заметном месте под нами.
От зданий мы перешли к паркам, площадям, бульварам, главным улицам и, в особых случаях, к длительным экскурсиям в Версаль и Шантильи – в места, которые вполне подходили для однодневных путешествий. Кульминационной точкой этих дней была сказочная еда, приготовленная Элис. Обычно она ухитрялась приготовить что-нибудь для нас прямо на ходу, но её преданность кулинарному искусству была такова, что порой она чувствовала, что не сможет сопровождать нас. Со своей стороны, Элис давала нам гастрономическое образование.
От этих экскурсий у меня осталось приятное чувство Парижа, некий его вкус, который я не мог бы испытать другим способом.
Гертруда читала нам лекции о каждом месте, которое мы посещали, рассказывала нам о его истории, о различных людях прошлого, которые создали эти места или жили в них. Её лекции никогда не были слишком долгими, никогда не надоедали; она имела особый талант для воссоздания чувства места – она могла представить его живым. Гертруда научила меня интересоваться историей, и убедила исследовать Фонтенбло в свободные от Приоре дни. Она рассказывала мне многое о нём ещё до того, как я побывал там, и сказала, что не видит причины сопровождать меня, так как это было рядом с нами.
Я никогда не забуду ту зиму: долгие вечера чтения и обучения в наших тёплых комнатах, более или менее свободную будничную жизнь в Приоре, постоянные ожидания визитов в Париж к Гертруде и Элис. Единственным мрачным неприятным фактом в течение зимы было напоминание мисс Мэдисон о том, что я, в конце концов, стал халтурить в своих обязанностях. Она предупредила меня, что я снова возглавляю список в чёрной книжке, которую она неотступно вела, но я не обращал внимания на её предупреждения. Главным образом, благодаря Гертруде и чтению, я жил в прошлом – гуляя среди историй, королей и королев.
Глава 13
Кроме группы детей, родственников Гурджиева и нескольких взрослых американцев, единственными людьми, которые не уехали с ним в Америку, были пожилые люди – большей частью русские, – которые, казалось бы, не подходили под категорию учеников. Я не знаю, почему они были здесь, если не учитывать то, что они выглядели теми, кого можно было назвать «нахлебниками», а по сути – иждивенцами. Трудно, если не невозможно, представить себе, чтобы они, в каком бы то ни было смысле, интересовались философией Гурджиева; и они составляли, наряду с семьёй Гурджиева, ту группу, которую мы называли просто «русские». Они как бы представляли Россию, которой больше не существовало. Я сделал вывод, что большинство из них бежали из России (все они были «белыми» русскими) с Гурджиевым, и были подобны изолированному остатку прежней цивилизации, оправдывая своё существование работой без какой-либо очевидной цели. Им могла быть поручена любая домашняя работа, в обмен на пишу и кров.
Даже во время деятельного лета они жили своей отдельной жизнью: читали русские газеты, обсуждали русскую политику, собирались вместе пить чай после обеда и вечером; они жили прошлым, словно не сознавая настоящего и будущего. Мы виделись с ними лишь за едой и в турецкой бане, и они очень редко принимали участие в групповых рабочих проектах.
Среди этих «беженцев» был заметен один человек, лет примерно шестидесяти, по фамилии Рахмилевич. Он отличался от «русских» тем, что проявлял неистощимое любопытство ко всему, что происходило. Он был угрюмым, суровым типом, полный пророчествами о несчастьях, абсолютно всем недовольный. Он постоянно жаловался на пищу, на условия, в которых мы жили: вода никогда не была достаточно горячей, не хватало топлива, погода слишком холодная или слишком жаркая, люди недружелюбны, мир приходит к концу. На самом деле, всё на свете – любое событие и любое состояние – было чем-то, что он мог обернуть в бедствие или, по крайней мере, в препятствующее обстоятельство.
Дети, наполненные энергией, не имея возможности применить её в течение долгих зимних дней и вечеров, ухватились за Рахмилевича как за мишень для своих неиспользованных жизненных сил. Мы все насмехались над ним, передразнивали его манеры и делали всё, чтобы превратить его жизнь в долгий, непрерывный ад. Когда он входил в столовую, мы начинали жаловаться на пищу; когда он пытался читать русскую газету, мы выдумывали воображаемый политический кризис. Исполняя обязанности швейцара, мы утаивали его почту, прятали его газеты, крали у него сигареты. Его нескончаемые жалобы также раздражали других «русских», и они не только ничего не делали, чтобы остановить нас, но тонко и без какого-либо упоминания его имени одобряли и подстрекали нас.
Не удовлетворившись травлей в течение дня, мы достигали цели, не ложась спать до тех пор, пока он не выключал свет в своей комнате; тогда мы собирались в коридоре напротив двери в его спальню и начинали громко разговаривать о нём, изменяя свои голоса в надежде, что он не сможет узнать, кто именно говорит.
Понятно, что он, к сожалению, совершенно не мог игнорировать нашу деятельность, так как мы не давали ему ни минуты покоя. Он появлялся в столовой, взбешённый нашими ночными экскурсиями по залам, и жаловался на наши громкие голоса, называл нас дьяволами, грозился наказать нас, клялся даже расправиться с нами.
Видя, что никто из взрослых – даже мисс Мэдисон – не симпатизирует ему, мы ободрились и стали наслаждаться его реакцией на нас. Мы «взяли взаймы» его очки, без которых он не мог читать; когда он вешал свою одежду сушиться, мы спрятали её и стали ждать его следующего проявления, предвкушая его неистовую, яростную, недовольную реакцию, с наслаждением представляя себе, как он будет беситься и жаловаться на нас.
Пытка Рахмилевича достигла апогея и конца, когда мы решили украсть его вставные зубы. Мы часто передразнивали его, когда он ел – он имел манеру всасывать пищу через зубы, которые при этом щёлкали у него во рту, – и мы подражали его привычке, развлекая большинство присутствовавших. Было что-то искренне озорное в нашем поведении, и для каждого было трудно не поддаться нашему постоянно приподнятому, весёлому и злобному настроению. Когда бы бедный Рахмилевич не присутствовал в какой-либо группе, неизменно само это присутствие заставляло всех детей непреодолимо и заразительно смеяться.
Вызвался ли я добровольно для миссии кражи зубов или меня выбрали – я не помню. Я помню, что это был хорошо обдуманный групповой план, но я был единственным, кто должен был совершить реальную кражу. Чтобы сделать это, однажды ночью я спрятался в коридоре возле комнаты Рахмилевича. Группа из пяти или шести других детей начала производить снаружи различный шум: вопить, дуть через гребёнки, которые были завёрнуты в туалетную бумагу, изображая привидения, и мрачно называли его имя, предсказывая его немедленную смерть и так далее. Мы нескончаемо продолжали вопить, и, как мы и предвидели, он не смог сдержать себя. Он выскочил из комнаты в темноту в ночной рубашке, крича в бессильной ярости и преследуя группу по коридору. Это был мой момент: я вбежал в его комнату, схватил зубы из стакана, в котором он хранил их на столе у кровати, и выскочил наружу.
Мы не спланировали, что и как с ними делать – мы не зашли так далеко, чтобы забрать их навсегда, – и после долгого обсуждения решили повесить их на газовую трубу над обеденным столом.
Все мы, конечно, присутствовали там на следующее утро, страстно ожидая появления Рахмилевича и ёрзая в предвкушении. Никто не мог быть более подходящей мишенью для наших махинаций: как и ожидалось, он вошёл в обеденную комнату, его лицо сморщилось вокруг рта из-за отсутствия зубов – само живое воплощение срывающейся ярости. Вся столовая загудела от шума, поскольку он стегал нас словесно и физически, гоняя вокруг стола и требуя пронзительными криками возвращения зубов. Все мы, как будто неспособные более сдерживать свой восторг, начали бросать быстрые взгляды вверх над столом, и Рахмилевич наконец достаточно успокоился, чтобы посмотреть вверх и увидеть свои зубы, висевшие на газовой трубе. Сопровождаемый нашими торжествующими криками и смехом, он встал на стол, снял их и засунул себе в рот. Когда он сел снова, мы в один момент поняли, что на этот раз зашли слишком далеко.
Он сумел съесть свой завтрак с некоторым холодным молчаливым достоинством, и хотя мы, как заведённые, продолжали подшучивать над ним, но делали это уже вяло, без особого рвения. Он холодно посмотрел на нас, с чувством, которое было даже больше, чем ненависть, – взгляд его был как у раненого животного. Однако он не оставил всё это, как обычно, на самотёк. Он повёл дело через мисс Мэдисон, которая затем нескончаемо допрашивала нас. Я, наконец, признался в краже, и хотя все мы были отмечены в её чёрной книжке, она сообщила мне, что теперь я возглавлял список с громадным отрывом от других. Отпустив других детей, она оставила меня в своей комнате, чтобы перечислить список моих проступков, которые она отметила: я не поддерживал достаточную чистоту в хлеве, я не подметал двор регулярно, я не вытирал, как следует, пыль в комнате Гурджиева, курятник обычно был в беспорядке, я не заботился о своей собственной комнате, о своей одежде и внешнем виде. Вдобавок, она была уверена, что я был заводилой во всех кознях против бедного старого мистера Рахмилевича.
Так как стояла уже ранняя весна, и неумолимо приближалось прибытие Гурджиева из Америки, я обратил некоторое внимание на её слова. Я прибрал курятник и, по крайней мере, немного улучшил состояние большинства моих обязательных работ. Но я всё ещё жил в какой-то сказочной стране и откладывал на потом как можно больше дел. Когда мы узнали, что Гурджиев собирается прибыть – нам сказали об этом утром того дня, когда он должен был появиться в Приоре, – я оценил качество выполнения своих обязанностей и ужаснулся. Я понял, что мне не удастся привести всё в порядок до его приезда. Я сосредоточился на тщательной уборке его комнаты и подметании двора – это были наиболее «видимые» мои обязанности. И вместо того, чтобы бросить свою работу, когда он приехал, я, преисполненный вины, продолжал подметать двор, а не пошёл его встречать, как все остальные. К моему ужасу, Гурджиев послал за мной. Я робко подошел, ожидая какого-нибудь немедленного возмездия за мои грехи, но он только горячо обнял меня и сказал, что рад меня видеть, и чтобы я помог отнести его багаж в комнату и принёс кофе. Это было временным облегчением, но я страшился того, что должно было произойти.
Глава 14
Гурджиев вернулся из Америки в середине недели, а в субботу вечером состоялось первое общее «собрание» всех присутствующих в Приоре в Доме для занятий, отдельном здании, которое изначально было ангаром. С одной стороны в нём была приподнятая, покрытая линолеумом сцена. Прямо напротив сцены был небольшой шестиугольный фонтан, оборудованный электричеством так, что разноцветные блики весело играли на воде. Фонтан обычно использовался только во время игры на пианино, которое находилось с левой стороны сцены, если стоять к ней лицом.
Основная часть здания, от сцены ко входу в противоположном конце, была покрыта восточными коврами различных размеров и окружена небольшим барьером, который отделял большое прямоугольное открытое пространство. Стороны этого прямоугольника по барьеру были окружены подушками, покрытыми меховыми коврами, и именно здесь обычно сидело большинство учеников. Позади барьера, выше уровнем, были скамейки для зрителей, также покрытые восточными коврами. Около входа в здание было маленькое помещение, приподнятое на несколько футов от пола, в котором обычно сидел Гурджиев, а над ним был балкон, который редко использовался, и то только для «важных» гостей. К крестообразным балкам потолка была прибита разноцветная материя, свисающая волнами, создавая эффект облака. Это был впечатляющий интерьер, как в церкви. И было ощущение неуместности разговора громче, чем шёпотом, даже когда там было пусто.
В тот субботний вечер Гурджиев сидел на своём привычном месте, мисс Мэдисон сидела возле него на полу, со своей маленькой чёрной книжкой на коленях, а большинство учеников расположились вокруг, внутри барьера, на меховых коврах. Вновь прибывшие и «зрители» или гости сидели на высоких скамейках позади барьера. Гурджиев объявил, что мисс Мэдисон пройдётся по «проступкам» всех учеников, и нарушителям будет назначено надлежащее «наказание». Все дети, и особенно я, затаив дыхание, ждали, что мисс Мэдисон прочитает из своей книжки, которая, как оказалось, заполнялась не в алфавитном порядке, а в соответствии с числом совершённых проступков. Как мисс Мэдисон и предупреждала меня, я возглавлял список, и перечисление моих преступлений и проступков было очень долгим.
Гурджиев невозмутимо слушал, время от времени бросая быстрый взгляд на того или иного провинившегося, иногда улыбаясь при оглашении определённого преступления и прерывая мисс Мэдисон только для того, чтобы лично записать количество проступков каждого. Когда она закончила своё чтение, в зале наступила торжественная, неподвижная тишина, и Гурджиев с тяжёлым вздохом произнёс, что все мы создали большое бремя для него. Затем он сказал, что нам будет объявлено наказание согласно числу совершённых проступков. Естественно, меня назвали первым. Он показал мне жестом сесть на пол перед ним, а затем велел мисс Мэдисон вновь прочесть мои проступки во всех деталях. Когда она закончила, Гурджиев спросил меня, признаю ли я всё это. Мне хотелось отвергнуть некоторые из них, по крайней мере частично, и привести смягчающие обстоятельства, но торжественность мероприятия и тишина в зале удержали меня от этого. Каждое произносившееся слово обрушивалось на собрание с ясностью колокола. У меня не хватило мужества сказать хоть какое-нибудь слабое оправдание, которое приходило на ум, и я признался, что список был точен.
Снова вздохнув и покачав головой, как будто он очень сильно расстроен, Гурджиев полез в карман и вытащил огромную пачку банкнот. Ещё раз он пересчитал количество моих преступлений, и затем старательно отсчитал такое же число банкнот. Я не помню точно, сколько он мне дал – я думаю, что это было по десять франков за каждый проступок – но, когда он закончил считать, то передал мне довольно объёмную пачку. Во время этого процесса весь зал будто кричал тишиной. Не было ни малейшего шороха, и я не мог поднять глаз на мисс Мэдисон.
После вручения денег Гурджиев отпустил меня, вызвал следующего нарушителя, и процесс повторился. Так как нас там было очень много, и не было никого, кто не совершил бы чего-нибудь, не нарушил бы какого-нибудь правила во время его отсутствия, вся процедура продолжалась очень долго. Когда он прошёлся по всему списку, то повернулся к мисс Мэдисон и вручил ей маленькую сумму – возможно, десять франков или эквивалент одного «преступного» платежа – за её, как он назвал это, «добросовестное выполнение обязанностей директора Приоре».
Все мы были ошеломлены; это, конечно же, было для нас полной неожиданностью. Нас переполнило сочувствие к мисс Мэдисон. Действие Гурджиева показалось мне бесчувственно жестоким, бессердечным. Я никогда не узнал, что чувствовала мисс Мэдисон по этому поводу, за исключением того, что она сильно покраснела от смущения, когда мне платили; она не показала явной реакции вообще никому и даже поблагодарила Гурджиева за жалование, которое он вручил ей.
Деньги, которые я получил, поразили меня. Их точно было намного больше, чем когда-либо ранее в моей жизни. Но эти деньги также отталкивали меня. Я не мог себя заставить что-нибудь сделать с ними. Не прошло и нескольких дней, как однажды вечером, когда я был вызван принести кофе в комнату Гурджиева, эта тема возникла снова. Мы с ним не общались лично – в смысле отдельного разговора – с тех пор, как он вернулся. В тот вечер он был один. Когда я обслуживал его кофе, он спросил меня, как я себя чувствую. Я выпалил все свои мысли о мисс Мэдисон и о деньгах, которые я был не способен потратить.
Он рассмеялся на это и весело сказал, что нет причины для того, чтобы я не мог потратить деньги так, как захочу. Это были мои деньги, и это была награда за мою деятельность прошедшей зимой. Я сказал, что не могу понять, почему меня наградили за то, что я был медлительным в работах и создавал одни проблемы.
Гурджиев снова рассмеялся и рассказал мне то, что я очень хотел узнать.
«Вы не понимаете того, – сказал он, – что не каждый может быть нарушителем, таким как вы. Это очень важная составная часть жизни, подобная дрожжам для приготовления хлеба. Без сложностей, без конфликтов жизнь становится мёртвой. Люди живут в некоем застывшем положении, живут только привычкой, автоматически и бессознательно. Вы хороши для мисс Мэдисон. Вы раздражали её больше, чем кто-нибудь ещё – поэтому вы получили большую награду. Без вас для сознания мисс Мэдисон была бы возможность заснуть. Эти деньги, в действительности, награда от неё, а не от меня. Вы помогаете сохранять мисс Мэдисон живой».
Я понял настоящий, серьёзный смысл, который он вложил в эти слова, но сказал, что чувствую жалость к мисс Мэдисон, и что это, наверное, было ужасное переживание для неё, когда она видела всех нас, получающих эти награды.
Гурджиев покачал головой и опять засмеялся. «Вы не видите или не понимаете важности того, что случилось с мисс Мэдисон, когда раздавались деньги. Что вы чувствуете по прошествии времени? Вы чувствуете жалость к мисс Мэдисон, не так ли? Все другие также чувствуют жалость к ней, верно?»
Я согласился, что это так.
«Люди думают, что нужно всё время говорить, чтобы узнать что-то через ум, через слова. Это не так. Многое можно узнать только чувством, через ощущение. Непонимание этого возникло от того, что человек всё время говорит, используя только формулирующий центр. Чего вы не заметили в тот вечер в Доме для занятий, так это то, что мисс Мэдисон получила новые для неё переживания. Люди не любят эту бедную женщину, люди думают, что она странная – они смеются над ней. Но вот иная ситуация, и люди не смеются. Действительно, мисс Мэдисон чувствует неудобство, чувствует смущение, когда я даю деньги, может быть, стыд. Но когда много людей чувствуют к ней симпатию, жалость, сострадание, даже любовь – она также понимает это, но не непосредственно умом. Она чувствует, в первый раз в своей жизни, симпатию многих людей. Она даже не знает тогда, что она чувствует это, но её жизнь меняется; вот вы, я использую вас в качестве примера, прошлым летом вы ненавидели мисс Мэдисон. Теперь вы не ненавидите её, не смеётесь над ней, вы чувствуете жалость. Вы даже любите мисс Мэдисон. Это хорошо для неё, даже если она не знает об этом – вы покажете свои чувства; вы не сможете скрыть их от неё, даже если захотите. Таким образом, у неё теперь есть друг, хотя он был врагом. Я сделал для мисс Мэдисон хорошее дело. Я не заинтересован в том, чтобы она поняла это сейчас – однажды она поймёт и почувствует тепло в сердце. Тёплое чувство для такого человека, как мисс Мэдисон, который не обаятельный, недружелюбный внутри себя, – это необычное переживание. В какой-нибудь день, может быть скоро, она почувствует себя хорошо, потому что многие люди чувствуют жалость, чувствуют сострадание к ней. Иногда она даже поймёт, что я делаю, и даже полюбит меня за это. Но такой вид обучения требует много времени».
Я очень хорошо понял его и был очень взволнован его словами. Но он ещё не закончил свою речь.
«Также это хорошо и для вас, – сказал он. – Вы молоды, ещё только мальчик, вы не заботитесь о других, только о себе. Я совершаю поступок с мисс Мэдисон, и вы думаете, что я делаю плохо. Вы чувствуете жалость, вы не забываете об этом, вы думаете о том, что я сделал ей плохо. Но теперь вы понимаете, почему это не так. Также это хорошо для вас, потому что вы переживаете за другого человека, вы отождествляетесь с мисс Мэдисон, ставите себя на её место, потому что хотите понять и помочь. Это хорошо для вашей совести, этот метод является возможностью для вас научиться не ненавидеть мисс Мэдисон. Все люди такие же – глупые, слепые, но человечные. Если я поступаю плохо, это помогает вам научиться любить других людей, не только себя».
Глава 15
Причин поездки Гурджиева в Соединенные Штаты, по его словам, было несколько – одной из наиболее важных была надобность заработать достаточно денег для поддержания работы Института в Приоре. Гурджиев не приобретал имущество, а арендовал его на длительный срок, и, так как очень немногие ученики были «платёжеспособными гостями», деньги были необходимы, чтобы оплатить аренду, счета за свет, газ и уголь, а также, чтобы обеспечить пищей, которую мы не могли вырастить или произвести самостоятельно. Расходы самого Гурджиева в то время были также велики: он содержал квартиру в Париже и оплачивал проезд всех учеников, которых он брал с собой в Америку – хотя бы для того, например, чтобы устроить там демонстрацию своей гимнастики.
По возвращении он часто потчевал нас рассказами о своих приключениях в Америке, об американском обычае принимать с распростёртыми объятиями любое новое «движение», «теорию» или «философию» просто для того, чтобы развлечься, и о доверчивости американцев вообще. Гурджиев рассказывал нам, что для них было почти невозможным не дать ему денег – сам акт передавания ему денег придавал им чувство важности, и он называл это «вымогательство» «стрижкой овец». Он говорил, что у большинства американцев карманы были настолько полны зелёного свёрнутого «хлама», что у них чесались руки, и они не могли дождаться, когда расстанутся с ним. Тем не менее, несмотря на его рассказы о них и на то, что он подшучивал над ними, Гурджиеву искренне нравились американцы. В те моменты, когда он не смеялся над ними, он отмечал, что от всех людей западного мира они отличались характерными чертами: своей энергией, изобретательностью и настоящей щедростью. Также, хотя и доверчивые, они были добросердечны и стремились учиться. Но каковы бы ни были их характерные черты и недостатки, он сумел во время своего пребывания в Америке собрать очень большую сумму денег. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из нас знал точно, сколько, но все верили, что больше, чем 100 000 долларов.
Первым очевидным предприятием, проведённым после его возвращения во Францию, была неожиданная доставка в Приоре множества велосипедов. Они прибыли машиной, и Гурджиев лично раздал их каждому, с немногими исключениями – кроме себя, своей жены и одного или двух самых маленьких детей. Мы все были очень удивлены, а очень многие из учеников-американцев были повергнуты в ужас этой явно лишней тратой денег, которые многие из них жертвовали на дело Гурджиева. Каковы бы ни были причины приобретения велосипедов – результат был сокрушительно красочным.
Из учеников, живших тогда в Приоре, только очень немногие умели ездить на велосипеде. Но велосипеды были куплены не просто так – на них надо было ездить. Целые участки земли стали огромным полем для занятий. Днями, и в случае многих из нас, неделями участки оглашались звуками велосипедных звонков, грохотом падений, криками смеха и боли. Большими группами, виляя и падая, мы ездили к месту работ по проектам в садах и в лесу. Каждый, кто имел повод или какую-нибудь вескую причину для прогулки, вскоре осознавал, что нужно остерегаться мест, ещё совсем недавно бывших пешеходными дорожками; очень возможно, что несущийся по ним совершенно неуправляемый велосипед с застывшим от ужаса ездоком врежется в несчастного пешехода или другого столь же беспомощного велосипедиста.
Я полагаю, что большинство из нас научились ездить довольно скоро, хотя я помню ушибленные колени и локти в течение большей части лета. Однако этот длительный процесс через какое-то время завершился, хотя прошло ещё много времени, прежде чем стало возможным безопасно ездить и гулять в садах Приоре, не подвергаясь опасности в образе какого-нибудь начинающего велосипедиста.
Другой проект, который был начат тем летом, был столь же колоритным, хотя и не требовал затраты большой суммы денег. Каждый, за исключением основной группы, которая обеспечивала работу кухни и дежурство швейцара, был отправлен переделывать газоны – те самые газоны, которые я так неутомимо косил первым летом. Никто не был освобождён от этой обязанности, даже так называемые «почётные» гости – люди, которые приходили ненадолго, по-видимому, чтобы обсудить теорию Гурджиева, и которые ранее не принимали участия в работе над проектами. Использовался весь наличный инструмент, газоны были полны людей, которые выкапывали траву, сгребали её, вновь засевали и укатывали новые семена в грунт тяжёлыми железными катками. Люди создавали такую толчею, будто бы их всех завели в одну комнату. В это время Гурджиев расхаживал взад и вперёд среди работающих, каждого критикуя, подгоняя и содействуя неистовству и бессмысленности всего мероприятия. Один из недавно прибывших американских учеников, осматривая эту муравьиную возню, заметил, что, видимо, все ученики и особенно Гурджиев, простились со своим рассудком – по крайней мере, временно.
Время от времени, иногда даже на несколько часов, Гурджиев внезапно прекращал своё наблюдение за нами, садился за маленький стол, за которым он мог видеть всех нас, и размеренно писал свои книги. Это только усиливало комическую сторону всего проекта.
На второй или третий день один голос выразил протест этой деятельности. Это был Рахмилевич. В неистовой ярости он бросил инструмент, которым работал, подошёл прямо к Гурджиеву и сказал, что то, что мы делали, было ненормальным. На газонах работало так много людей, что лучше было выбросить все семена, чем сеять их под нашими ногами. Люди копали и гребли бесцельно, в любом свободном месте, не обращая внимания на то, что делали.
Также неистово Гурджиев возразил против этой критики – он лучше, чем кто-либо в мире, знает, как «восстанавливать» газоны, он специалист, его нельзя критиковать и так далее. После нескольких минут этой эмоциональной аргументации Рахмилевич повернулся на каблуках и зашагал прочь. На всех нас произвёл впечатление такой его подход к «учителю» – мы приостановили работу и наблюдали за ним, пока он не скрылся в лесу за дальним газоном.
Примерно через час, когда был перерыв для послеобеденного чая, Гурджиев подозвал меня к себе. Довольно долго он говорил мне, что очень важно найти мистера Рахмилевича и привести его назад. Гурджиев сказал что, чтобы спасти лицо Рахмилевича, нужно послать за ним, поскольку он сам никогда не вернётся, и велел мне запрячь лошадь и найти его. Когда я возразил, что не знаю даже, где начать поиски, он сказал, что, если я последую своей интуиции, я, несомненно, без труда найду его и, возможно, даже лошадь сможет мне помочь.
Я пытался поставить себя на место Рахмилевича, когда запрягал лошадь в коляску, и наконец отправился к саду позади основных огородов. Мне казалось, что он мог уйти только за один из дальних огородов – расположенном не менее чем в миле отсюда, и я направился к самому дальнему на краю территории, принадлежавшей Приоре. По пути я переживал о том, что буду делать, если и когда найду его, особенно потому, что я был главным обвиняемым в заговоре против него этой зимой. Никто ничего не сказал мне об этом, – по крайней мере, Гурджиев не сказал, – и я чувствовал, что меня выбрали только потому, что я отвечал за лошадь, однако Гурджиев не мог выбрать неподходящего кандидата для этого поручения.
Я не очень удивился, когда моё предчувствие оказалось правильным. Рахмилевич был в саду, как я и предполагал. Но, как будто чтобы придать ситуации некое качество нереальности, он находился в необычном месте. Он, в самом прямом смысле, сидел на яблоне. Скрывая своё удивление, – на самом деле, я подумал, что он сошёл с ума, – я подогнал лошадь и коляску прямо под дерево и заявил о моём поручении. Он отстранённо посмотрел на меня – и отказался возвращаться. У меня не было никаких аргументов, и я не придумал никакой подходящей причины, чтобы убедить его вернуться, поэтому я сказал, что буду ждать здесь, пока он не согласится, потому что я не мог вернуться без него. После долгого молчания, во время которого Рахмилевич изредка свирепо смотрел на меня, он внезапно, не говоря ни слова, просто спрыгнул с дерева в коляску, а затем сел на сиденье рядом со мной. Я повёл лошадь к главному зданию. Для нас обоих был приготовлен чай, мы сели за стол друг напротив друга и стали пить, в то время как Гурджиев наблюдал за нами из-за соседнего стола. Все остальные вернулись к работе.
Когда мы окончили чаепитие, Гурджиев велел мне распрячь лошадь, поблагодарил за возвращение Рахмилевича и сказал, что увидится со мной позже.
Гурджиев пришёл в конюшню, когда я был ещё занят с лошадью, и попросил точно рассказать ему, где я разыскал мистера Рахмилевича. Когда я сказал, что нашёл его сидевшим на дереве в «дальнем саду», он недоверчиво посмотрел на меня и попросил повторить. Он спросил меня, совершенно ли я уверен в том, что говорю, и я уверил его, что Рахмилевич был на дереве, и я должен был стоять долгое время под деревом, пока он не согласился отправиться со мной назад. Гурджиев спросил меня о доводах, которые я использовал, и я признался, что не мог придумать ничего, за исключением того, что он должен вернуться назад, и я буду ждать его, пока он не согласится ехать. Гурджиев, казалось, нашёл всю эту историю очень забавной и горячо поблагодарил меня за рассказ.
Бедный мистер Рахмилевич! Когда все собрались в гостиной в тот вечер, он всё ещё был объектом всеобщего внимания. Никто из учеников не мог припомнить человека, сопротивлявшегося Гурджиеву в присутствии всех. Но инцидент ещё не был исчерпан. После обычной музыкальной игры месье де Гартмана на пианино Гурджиев сообщил нам, что хочет рассказать забавную историю, и приступил к восстановлению истории Рахмилевича в мельчайших подробностях, обильно приукрасив её своими собственными выдумками. Гурджиев рассказал, как Рахмилевич не подчинился ему после обеда, как он исчез, а я его «взял в плен». История была не только весьма приукрашена, но он также разыграл все роли – свою, Рахмилевича, заинтересованных зрителей, мою и даже лошади. Забавная для всех нас, эта история была более того, что Рахмилевич мог вынести. Второй раз за этот день он ушёл от Гурджиева после неистовой вспышки, обещая, что покидает Приоре навсегда; с него, наконец, достаточно.
Я не верил, что кто-нибудь его тогда воспринял серьёзно, но, к нашему удивлению и ужасу, он действительно отправился на следующий день в Париж. Он являлся такой неотъемлемой частью этого места, был так заметен, благодаря своим нескончаемым жалобам, что это было подобно концу некой эры – как будто внезапно исчезла некоторая существенная собственность школы.
Глава 16
Джейн Хип вернулась во Францию в одно время с Гурджиевым и, конечно же, приехала в Приоре, чтобы увидеть нас. К моему сожалению, с её возвращением визиты в Париж к Гертруде Стайн и Элис Токлас прекратились. Я был очень удивлён, когда меня однажды после обеда позвал швейцар и сказал, что ко мне посетитель. Я очень обрадовался, узнав, что это была Гертруда, и был очень счастлив видеть её, но моё счастье рассеялось почти сразу. Гертруда совершила со мной короткую прогулку в садах школы, дала мне коробку конфет, которая, как она сказала, была «прощальным» подарком для нас обоих от неё и Элис. Она не дала мне возразить ей и сказала, что приехала в Фонтенбло специально, чтобы увидеть нас (я не помню теперь, повидалась ли она с Томом или нет), потому что не хотела расставаться с нами, просто написав письмо.
Когда я спросил её, что она имела в виду, она сказала, что это из-за некоторых трудностей, которые возникли у неё с Джейн, а также потому, что мы не были достаточно воспитаны, и она решила, что не может больше продолжать встречи с нами. Любые отношения с ней, из-за её разногласия с Джейн – и, я заключил, что с Гурджиевым тоже – будут неизбежно создавать для нас только проблемы. Я ничего не мог сказать ей на это. Гертруда сразу же прервала мои протесты, сказав, что она очень огорчена тем, что должна так поступить, но другого выхода нет.
Я был потрясён и опечален таким неожиданным, внезапным концом этих счастливых, волнующих и многообещающих отношений, и, может быть, заблуждаясь, я мысленно обвинял в этом Джейн. Я не помню, упоминал ли я когда-либо об этом Джейн, объяснила ли она мне это, но я помню чувство, возможно, ошибочное, что это она – не Гурджиев – была причиной разрыва. Какова бы ни была истинная причина, но мои отношения с Джейн, начиная с этого момента, стали ухудшаться. Я редко видел её, хотя она всё ещё была моим законным опекуном. Оглядываясь назад на своё поведение в то время, я нахожу его теперь в высшей степени невоспитанным, – не знаю, что думала по этому поводу Джейн. Обычно Джейн периодически посещала Приоре в выходные, но даже когда я видел её, – в смысле, видел только издалека, – мы почти не разговаривали друг с другом в этот период, длившийся примерно два года. Она, конечно, видела Тома и Гурджиева, и я знал из общих разговоров в школе и от Тома, что «проблема Фрица» часто обсуждалась, а также что в этих обсуждениях принимал участие Гурджиев. Однако Гурджиев, с которым я был ещё в очень близком контакте благодаря моим обязанностям по уборке комнаты, никогда в течение всего этого времени не упоминал о Джейн, и его поведение по отношению ко мне никогда не менялось. Наши взаимоотношения не только не менялись, но, отчасти из-за разрыва с Джейн, мои уважение и любовь к нему только усилились.
Когда Гурджиев вернулся из своей первой поездки в Париж после «дела Рахмилевича», то, к нашему удивлению, он привёз Рахмилевича назад. За короткое время отсутствия в Приоре тот, казалось, сильно изменился. Вместо сварливого и придирчивого типа теперь он стал покорным и тихим, и через какое-то время мы даже начали чувствовать некоторое расположение к нему. Его возвращение очень возбуждало моё любопытство, и хотя я не был столь безрассуден, чтобы поднять этот вопрос прямо, когда был с Гурджиевым, он поднял его сам. Он неожиданно мягко спросил меня, не удивился ли я, увидев Рахмилевича снова в Приоре, и я сказал, что очень удивился, и признался, что мне было также любопытно, как это случилось, – ведь его решение уехать куда-либо было очень определённым.
Тогда Гурджиев рассказал мне историю Рахмилевича. По его словам, Рахмилевич был русским эмигрантом, который поселился в Париже после революции в России и стал процветающим торговцем чаем, икрой и другими продуктами, на которые там был спрос, главным образом среди таких же русских эмигрантов. Гурджиев, очевидно, знал его давно – возможно, он был одним из тех людей, которые прибыли во Францию из России с Гурджиевым несколько лет назад, – и решил, что его личность была бы существенным элементом в школе.
«Вы помните, – сказал он, – как я говорил вам, что вы создаёте беспокойство? Это верно, но вы только ребёнок. Рахмилевич – взрослый человек, а не непослушный ребёнок, как вы, но одно его появление постоянно производит трение во всём, что он делает, где бы он ни жил. Он не производит серьёзного беспокойства, но он всё время производит трение на поверхности жизни. Ему уже не поможешь – он слишком стар, чтобы измениться».
«Я уже говорил вам, что Рахмилевич был богатым торговцем, но я плачу ему, чтобы он оставался здесь, вы удивлены, но это так. Он мой очень старый приятель и очень важен для моих целей. Я не могу платить ему столько же, сколько он мог получать сам в чайном бизнесе в Париже; поэтому, когда я приехал, чтобы увидеть его, я скромно попросил его принести жертву ради меня. Он согласился на это, и теперь я перед ним в долгу на всю жизнь. Без Рахмилевича Приоре не то; я не знаю ни одного человека, подобного ему, никого, кто своим существованием без сознательного усилия производил бы трение во всех людях вокруг него».
К тому времени я приобрёл привычку всегда допускать, что во всем, что делал Гурджиев, было всегда нечто «большее, чем видится взгляду»; я также был знаком с его теорией, что трение производит конфликты, которые, в свою очередь, возбуждают людей и, так сказать, «вытряхивают» их из привычного им, упорядоченного поведения; также я не мог не удивляться, что за награда была в этом для Рахмилевича, кроме денег, я имею в виду. Единственным ответом Гурджиева было то, что Приоре для Рахмилевича было также привилегией. «Его личность больше нигде не может выполнять такую полезную работу». Меня не убедил ответ Гурджиева, но я представил себе каждое движение Рахмилевича, как имеющее большую важность. Это казалось, в лучшем случае, странной судьбой – он должен был, как я предполагал, жить в постоянном состоянии катастрофы, в постоянном опустошении.
Не было сомнения в том, что его присутствие не только создавало проблемы, но, казалось, даже притягивало их. Очень скоро после его возвращения он и я снова стали главными участниками другого «инцидента».
Это был мой день дежурства на кухне. Как было принято для «мальчика при кухне», я просыпался в половине пятого утра. Так как я был ленив, а особенно в том возрасте, единственным способом проснуться вовремя, в котором я мог быть уверен, было выпить в одиннадцать часов вечера перед сном столько воды, сколько я только мог. О будильниках в Приоре не слыхали, и это средство для раннего подъёма (которое кто-то предложил мне) никогда не обманывало ожиданий. Так как туалет был на значительном расстоянии от моей комнаты, то не было сомнения в моём пробуждении, и я не ложился спать снова. Единственная трудность была в регулировании количества воды. Слишком часто я просыпался в три вместо половины пятого. Даже тогда я не отваживался снова лечь и не мог решиться выпить другое количество воды, достаточное, чтобы разбудить меня через час или около этого.
Первые обязанности мальчика при кухне были следующие: разжечь огонь в коксовой печи, наполнить люки для угля, сварить кофе и вскипятить молоко, нарезать и поджарить хлеб. Вода для кофе долгое время не закипала, так как она нагревалась в двадцатипятилитровых эмалированных ёмкостях, которые также использовались для приготовления супа. Меню с рецептами были расписаны заранее на каждый день недели. Кухарке, а обычно они каждый день менялись, не надо было появляться на кухне до завтрака. В этот день кухарка не появилась в половине десятого, и я начал беспокоиться. Я посмотрел в меню на рецепт для супа и сделал необходимые предварительные приготовления, так как я часто видел кухарок за приготовлением пищи, которая была назначена на тот день.
Так как кухарка всё ещё не появилась, хотя было уже около десяти часов, я послал какого-то мальчика узнать, что с ней случилось. Оказалось, что она больна и не может прийти на кухню. Я отправился со своей проблемой к Гурджиеву, и он сказал, что, раз уж я начал готовить, то могу вернуться на кухню и закончить приготовление еды. «Вы будете поваром сегодня», – сказал он величественно.
Я переживал от такой ответственности, но в то же время был очень горд порученным делом. Величайшей трудностью для меня было двигать огромные суповые котлы по верху большой угольной печи, когда нужно было добавить угля в огонь, а это было необходимо делать часто, для того, чтобы суп варился. Я тяжело работал всё утро и был разумно горд собой, когда закончил готовить и смог доставить еду к столу. Повар отсутствовал, и мне необходимо было ещё и обслуживать.
Обычно ученики становились в ряд, каждый со своей суповой тарелкой, серебряной ложкой и т. д. в руках и, пока они проходили обслуживающий стол, повар подавал им один кусок мяса и наливал черпак супа. Некоторое время всё шло хорошо. До тех пор, пока среди последних не показался Рахмилевич, и тут начались мои трудности. Суповой котёл был почти пуст к тому времени, когда он подошёл ко мне, и я должен был наклонить котёл, чтобы наполнить черпак. Когда я налил ему – мне казалось, что это было предопределено нашей общей судьбой, – черпак также поднял порядочного размера кусок угля. Это был густой суп, и я не замечал уголь до тех пор, пока он с тяжелым, лязгающим звуком не упал в его суповую тарелку.
Судя по реакции Рахмилевича, его жизнь в этот момент подошла к концу. Он начал тираду, направленную против меня, которой, я думал, не будет конца. Всё, что дети сделали ему в течение последней зимы, было припомнено и пересказано более чем подробно; и пока он ругался и бушевал, я беспомощно стоял за суповым котлом и молчал. Тирада подошла к концу с появлением Гурджиева. Обычно он не появлялся к обеду, потому что он его не ел, и объяснил своё появление тем, что мы так расшумелись, что он не мог работать.
Рахмилевич немедленно обернулся к нему, начав своё скорбное повествование о напастях и несправедливостях с самого начала. Гурджиев наблюдал за ним спокойно и не отрываясь, и это, казалось, возымело успокаивающее действие. Рахмилевич постепенно понизился в тоне – он, казалось, истощился. Не говоря ему ничего, Гурджиев вынул кусок угля из суповой тарелки Рахмилевича и бросил его на пол. После этого Гурджиев попросил тарелку супа для себя. Он сказал, что, так как сегодня здесь новый повар, он почувствовал своей обязанностью отведать этот суп. Кто-то сходил за тарелкой для него, я подал то, что осталось в суповом котле, и он молча всё съел. Закончив, Гурджиев подошёл ко мне, громко поздравил меня и сказал, что этот суп был его любимым, а конкретно этот суп был лучшим из того, что он когда-либо пробовал.
Затем он повернулся к собравшимся ученикам и сказал, что он много испытал и научился многим вещам, и что в течение своей жизни он многое узнал о еде, о химии и правильном приготовлении пищи, которое включало в себя, конечно, пробу блюд на вкус. Гурджиев сказал, что этот суп был супом, который он очень любил и рецепт которого он лично изобрёл, но только теперь он понял, что в нём всегда недоставало одного элемента, чтобы сделать его совершенным. Со своеобразным почтительным поклоном в моём направлении он похвалил меня, сказав, что я, по счастливой случайности, нашёл эту недостающую вещь – ту составную часть, которая была необходима для этого супа. Уголь. Гурджиев закончил речь, сказав, что сообщит своему секретарю об изменении в рецепте, включив в него один кусок угля – не для того, чтобы есть, а просто для приятного вкуса. Затем он пригласил Рахмилевича на послеобеденный кофе, и они вместе покинули столовую.
Глава 17
Хотя в Приоре было много людей, которые по той или иной причине считались важными, такие как мадам де Гартман, секретарь Гурджиева, и её муж, пианист, и композитор, месье де Гартман, который аранжировал и играл различные музыкальные пьесы, сочинённые Гурджиевым на его маленькой «гармонии», но наиболее впечатляющим постоянным жителем была жена Гурджиева, которая была известна как мадам Островская.
Она была очень высокой, ширококостной, представительной женщиной, и, казалось, была вездесущей, двигаясь почти бесшумно по коридорам зданий, наблюдая за кухнями, прачечными и за обычной домашней работой. Я никогда не знал точно, какой у неё был авторитет. В очень редких случаях, когда она нам что-нибудь говорила, мы беспрекословно слушались – её слово было законом. Я вспоминаю, что был особенно очарован манерой движения мадам Островской: она ходила без заметных движений головы и без малейшей резкости в походке; она никогда не торопилась, но в то же время работала с невероятной скоростью; каждое действие, которое она совершала при любой работе, было абсолютно органично для данного вида деятельности. В течение первого лета в Приоре мадам Островская обычно готовила Гурджиеву еду и приносила её ему в комнату, а когда она была на кухне, мы могли наблюдать за её работой. Она редко говорила, казалось, она не использовала слова, как средство общения, а употребляла их только в случае крайней необходимости. И когда она говорила, то никогда не повышала голос. Казалось, мадам Островская была окружена аурой мягкой непоколебимости; каждый относился к ней с некоторым трепетом, и она внушала очень реальное чувство преданности, хотя его было очень тяжело выразить внешне, особенно детям.
Хотя большинство из нас не общались с ней в обычном смысле, – например, я сомневаюсь, что она когда-либо обращалась ко мне лично, – но когда мы узнали, что она серьёзно больна, это обеспокоило всех нас. Мы скучали по чувству молчаливого авторитета, который она всегда приносила с собой, и недостаток её присутствия пробуждал в нас чувство явной, хотя и неописуемой потери.
Болезнь жены, вдобавок, сильно изменила распорядок Гурджиева. Когда она перестала выходить из своей комнаты, – которая была обращена к его комнате, но в противоположном конце главного здания, – Гурджиев стал проводить с ней каждый день по несколько часов. Он приходил к ней в комнату ненадолго по утрам, наблюдая за людьми, которые были выбраны ухаживать за ней, – его две самые старшие племянницы и, иногда, другие женщины, – и обычно снова возвращался после обеда, чтобы провести с ней вторую половину дня.
В этот период общие встречи с Гурджиевым случались редко, за исключением вечеров в гостиной. Он был озабочен и замкнут, предоставив почти все детали распорядка Приоре другим людям. Мы изредка видели его, когда дежурили на кухне, так как он приходил на кухню лично, наблюдать за приготовлением пищи для своей супруги. Она была на диете, включавшей большое количество крови, выжатой на небольшом ручном прессе из мяса, которое специально выбиралось и покупалось для неё.
В начале болезни она иногда появлялась на террасе, чтобы посидеть на солнце, но так как лето подошло к концу, она перестала выходить из своей комнаты. Гурджиев сообщил нам однажды вечером, что она была неизлечимо больна какой-то формой рака, и что врачи два месяца назад определили, что ей осталось жить только две недели. Он сказал, что решил сохранить её живой как можно дольше, хотя это может отнять всю его силу. Гурджиев добавил, что она «жила благодаря ему», и это отнимало почти всю его ежедневную энергию, но он надеялся сохранить её живой в течение года, или, по крайней мере, в течение шести месяцев.
Так как я ещё отвечал за комнату Гурджиева, я неизбежно с ним встречался. Он часто посылал за кофе в течение ночи, которая была теперь его единственным временем для писания – он часто не ложился ещё в четыре или пять часов утра, работая с десяти часов вечера.
Вдобавок к цыплятам, ослу, лошади, овцам и, в течение некоторого времени, корове в Приоре жили кошки и собаки. Одна из собак, довольно безобразная чёрная с белым дворняжка, имела склонность всегда следовать за Гурджиевым, но на таком расстоянии, что её нельзя было ещё назвать собакой Гурджиева. В этот период Гурджиев редко отлучался из Приоре – он свёл к минимуму свои поездки в Париж – и эта собака, названная Гурджиевым Филос, стала его постоянным спутником. Она не только следовала за ним повсюду, но также спала в его комнате, пока Гурджиев лично не выгонял её, что он обычно и делал, говоря мне, что не любит, чтобы кто-нибудь спал в одной комнате с ним. Будучи выгнанным из комнаты, Филос сворачивался прямо напротив двери и спал прямо там. Он был в меру свирепым сторожевым псом и стал хорошей защитой Гурджиева. Филос был, однако, чрезвычайно терпим ко мне, так как я – очевидно с разрешения Гурджиева – постоянно входил и выходил из его комнаты. Когда я приходил поздно ночью с подносом кофе, Филос пристально смотрел на меня, зевал и разрешал переступить через себя и войти в комнату.
Однажды поздней ночью, когда во всём Приоре было тихо и темно, за исключением комнаты Гурджиева, он отложил свою работу, когда я вошёл, и велел мне сесть на кровать рядом с ним. Он рассказал подробно о своей работе, как трудно было писать, как изнурительна его дневная работа с мадам Островской, и затем, как обычно, спросил обо мне. Я перечислил задания, которые я выполнял, и он заметил, что, поскольку я много общался с животными, – я заботился о цыплятах, о лошади, об осле и недавно также стал кормить Филоса – ему будет приятно узнать, что я думаю о них. Я сказал, что я считаю их своими друзьями, и добавил, позабавив его, что даже дал имена всем цыплятам.
Гурджиев сказал, что цыплята не имеют значения – очень глупые создания – но он надеется, что я буду хорошо заботиться о других животных. Осёл также не имел большого значения, но он заинтересовался лошадью и собакой.
«Лошадь и собака являются особыми животными, – сказал он, – а иногда то же верно о корове. С такими животными можно многое сделать. В Америке, в Западном мире, люди делают дураков из собак – обучают трюкам и другим глупым вещам. Но эти животные действительно особые – не просто животные». Затем он спросил меня, слышал ли я когда-либо о перевоплощении, и я ответил, что слышал. Гурджиев сказал, что были люди, некоторые буддисты, например, у которых было много теорий о перевоплощении, некоторые из них даже верят, что животное может стать человеком или, иногда, что человек в следующем воплощении может стать животным. Когда Гурджиев сказал это, то рассмеялся, а затем добавил: «Человек делает странные вещи из религии, когда знает мало – создает новые понятия для религии, иногда понятия, в которых мало правды, но обычно они исходят из первоначальной мысли, которая была истинной. В случае собак, они не все неправильны, – сказал Гурджиев. – Животные имеют только два центра – человек же трёхцентровое существо, с телом, сердцем и разумом. Животное не может приобрести третий центр – разум, и стать человеком; как раз вследствие этого, вследствие этой невозможности приобрести разум, необходимо всегда обращаться с животными с добротой. Вам известно это слово – «доброта»?»
Я ответил, что да, и Гурджиев продолжал: «Никогда не забывайте этого слова. Это очень хорошее слово, но во многих языках его не существует. Его нет во французском, например. Французы говорят «милый», но это не подразумевает того же самого. Нет «доброго», добрый исходит от «рода», подобно семье, то есть «добрый» – это «подобный чему-либо». Доброта подразумевает обращение с другим, как с самим собой».
«Причина, по которой необходимо обращаться с собакой и лошадью с добротой, – продолжал он, – в том, что они не подобны всем другим животным. Хотя они знают, что не могут стать человеком, не могут стать разумными, как человек, в их сердце есть желание стать человеком, и это соединяет этих животных с людьми. Вы смотрите на собаку или на лошадь, и всегда видите в их глазах эту печаль, потому что они знают, что для них нет возможности, но хотя это и так, они всё же желают. Это очень печально – желать невозможного. Но они желают этого из-за человека. Человек подкупает таких животных, человек также пытается очеловечить собак и лошадей. Вы слышали, как люди говорят: «Моя собака почти как человек», – они не знают, что говорят почти истину, потому что это почти истина, но, тем не менее, недостижимая. Собака и лошадь кажутся подобными человеку потому, что у них есть это желание. Поэтому, Фритс, – так он всегда произносил моё имя, – помните эту важную вещь. Хорошо заботьтесь о животных; будьте всегда добрым».
Затем Гурджиев рассказал о мадам Островской. Он сказал, что его работа с ней была чрезвычайно утомительной и очень трудной, «потому что я пытаюсь сделать с ней то, что почти невозможно. Если бы она была одна, она уже давно бы умерла. Я сохраняю её живой, удерживаю её жизнь своей силой. Это очень трудно, но также очень важно; это наиболее значительный момент в её жизни. Она жила много жизней, является очень старой душой и теперь у неё есть возможность подняться к другим мирам. Но пришла болезнь и сделала более трудным, невозможным для неё сделать это самостоятельно. Если её можно будет сохранить живой ещё несколько месяцев, то ей не надо будет возвращаться и жить эту жизнь снова. Вы теперь часть семьи Приоре – моей семьи – вы можете помочь, если будете сильно просить за неё. Не просите долгой жизни, а просите надлежащей смерти в правильное время. Просьба может помочь, она подобна молитве, когда она за другого. Когда для себя – молитва и просьба бесполезны; только работа полезна для себя. Но когда вы просите сердцем для другого, вы можете помочь».
Закончив, он долгое время смотрел на меня, погладил по голове в своей любяще-свирепой манере и отправил меня спать.
Глава 18
Хотя Гурджиев был всегда отделён от всех в Приоре, несомненное и единогласное уважение к нему всегда сочеталось с элементом страха. «Диктатура» его, однако, была очень благожелательной. У его натуры была сторона не только физически притягательная и животноподобная, но и чрезвычайно земная. Его чувство юмора часто было очень тонким, в восточном смысле, но также имело грубую сторону. Он был очень чувственным человеком.
Гурджиев особенно проявлял эту свою сторону, когда был с мужчинами и мальчиками в турецкой бане, или летом, плавая в бассейне. Наш плавательный бассейн был в дальнем конце внешних газонов и садов, напротив замка, за широкими пространствами лужаек. Вопреки принятому мнению, в Приоре не было смешения полов в каком-либо «безнравственном» смысле. Мужчины и женщины мылись в бане отдельно, и были определены разные часы пользования плавательным бассейном для мужчин и женщин. В действительности, был очень строгий кодекс морали в этом сугубо физическом смысле, и мы весьма забавлялись, когда люди посылали нам вырезки из воскресных приложений к различным газетам, которые «доказывали», что Институт был колонией нудистов или группой «свободной любви» – некоторого рода ненормальной организацией, отдающей распутством. На самом деле ближайшей к «нудизму» была общая привычка – конечно же, только для мужчин – работать на открытом воздухе раздетыми до пояса. И в то время как мы на самом деле плавали без купальных принадлежностей, бассейн был оборудован занавесями, которые были всегда натянуты, когда бы кто-либо ни входил в бассейн. На самом деле, даже маленьким детям было запрещено плавать, не задёрнув занавес.
Несмотря на множество забот Гурджиева, особенно связанных с болезнью его жены, в то лето он часто присоединялся к другим мужчинам и мальчикам в плавательном бассейне в назначенные для них часы перед обедом. Когда все раздевались, Гурджиев неизменно начинал шутить об их телах, половом искусстве и различных физических привычках. Шутки были обычно такие, что их можно было назвать «грязными» или, по крайней мере, «непристойными», и он находил все такие истории весьма забавными, рассказывал ли их он сам или другие мужчины, которые быстро проникались таким шутливым настроением. Одной из его любимых забав или развлечений в плавательном бассейне было выстраивать в ряд всех мужчин и затем сравнивать их загар. Это стало ритуалом, который Гурджиев называл «клубом белой задницы». Он осматривал всех нас сзади, делая замечания о различных оттенках загара и сверкающей белизне наших ягодиц. Затем он заставлял нас поворачиваться кругом и делал добавочные комментарии о величине и разнообразиях мужских гениталий, открытых перед ним. Наконец, перед тем, как приступить к плаванию, он оценивал, в хорошем ли состоянии представители его «клуба белой задницы». Том и я обычно оценивались выше всех. Поскольку мы были детьми и ходили в шортах, кроме темного загара на спине и груди, наши ноги также были загорелыми, и из-за этого он делал какое-нибудь замечание, обычно чтобы подчеркнуть, что наши маленькие ягодицы были «задницей, которая сияет белизной, как звезда».
Очень многие мужчины, особенно русские, не только не подставляли себя солнцу, но скорее не любили любую форму наготы и обычно смущались этими процедурами. Они, конечно, оценивались очень низко, но сам Гурджиев был последним в списке. Как он говорил, настолько последним, что фактически принадлежал к другому клубу. Так как он всегда ходил одетым – зимой и летом – хоть его лицо и было тёмным, но лысая голова сияла белизной. Его клуб, в котором он был президентом и единственным членом, назывался чем-то вроде клуба «белой короны», и он сравнивал белизну своей лысой макушки с белизной – он всегда производил подробные сравнения степени белизны – наших задов.
Одной из любимых историй Гурджиева по этому поводу была длинная, запутанная сказка о батраке, у которого была связь с женой хозяина. Последний, подозревая свою жену в связи с батраком, пошёл искать их с ружьем и обнаружил в лунном свете белую задницу крестьянина, ритмично прыгающую в темноте и сияющую отражённым лунным светом. Хотя эти истории часто повторялись, и многие из них не были на первый взгляд особо забавными, его собственное огромное удовольствие при рассказе заставляло всех нас смеяться. Он был прекрасным рассказчиком, превращавшим даже скучные рассказы в фантастически длинные и приукрашенные истории с непревзойдённым орнаментом и подробностями, сопровождаемые показыванием пальцами, выразительной жестикуляцией и мимикой, поэтому его нельзя было не слушать с полным вниманием.
Более тонкая сторона его юмора – который всегда был усложнённым и запутанным – выражалась им по-разному. Ранним летом некоторые из нас ради развлечения исследовали подвалы главного здания и натолкнулись на туннель. Пройдя по нему почти полмили, мы удержались от попытки найти его конец из-за крыс, паутины, плесневой сырости и полной темноты. Были слухи, что, так как Приоре был предположительно построен Луи XIV для мадам де Ментенон, это был тайный проход к замку Фонтенбло. Так это было или нет, но Гурджиев очень заинтересовался открытием этого туннеля и пошёл осмотреть его сам.
Примерно через неделю после этого открытия он сказал, что у него для меня есть важное дело. Он довольно долго рассказывал о туннеле, а затем попросил меня взять бутылку обыкновенного красного вина, которое мы пили за ужином и которое покупалось в то время по цене около 8 центов за литр, открыть её, вылить половину, а затем дополнить бутылку шипучей минеральной водой Перье. Затем я должен был вновь закрыть бутылку пробкой, запечатать её сургучом, покрыть песком и паутиной – «замечательная паутина для этой цели есть в туннеле» – и принести ему, когда он потребует.
Я, наверное, выглядел озадаченным, и Гурджиев продолжил объяснять, что на следующей неделе его планируют посетить два важных гостя. Это вино готовилось специально для них. Он сказал мне, что, когда он попросит «одну из бутылок особого старого вина», я должен буду принести эту бутылку со штопором и двумя стаканами. Он всё время улыбался в течение этой инструкции, а я никак её не комментировал, хотя знал, что он был «на высоте» – фраза, которую он часто использовал, когда затевал что-нибудь.
Два посетителя прибыли. Они были хорошо известны мне, в действительности они были хорошо известны каждому и автоматически вызывали восхищение и уважение, которое обычно соответствует «известным» людям, заслужили ли они его на самом деле или нет. Я провёл посетителей – двух женщин – в комнату Гурджиева, и затем ушёл, ожидая звонка вызова поблизости (для меня было устроено два звонка – один на кухне и один в моей комнате). Когда я услышал ожидаемый звонок, я вбежал в его комнату и получил приказание принести «особое старое редкое вино, которое мы нашли во время недавнего проекта по раскопкам в развалинах древнего монастыря». Это красочное преувеличение было основано на факте. В Приоре в XII веке был монастырь, и там было несколько развалин, доказывавших это. Те развалины, конечно, ничего не имели общего с туннелем в подвале. Первоначальное монастырское здание было совсем на другом участке имения.
Я принёс вино, как и был проинструктирован, с двумя стаканами; бутылка была полностью покрыта грязью, песком и паутиной. Я держал бутылку через салфетку – в этом была моя личная примесь элегантности. Прежде чем приказать мне открыть бутылку (он просто велел мне подождать несколько минут), Гурджиев рассказал дамам историю этого вина.
Он начал с длинного и неточного отчёта об основании Приоре в 900 году неким монашеским орденом, в котором монахи, помимо прочих дел, как и все монахи, готовили вино. «Это были особые монахи, очень умные. Других таких монахов нет в целом мире. Монахи с таким удивительным умом, – продолжал он, – естественно, делают также самое чудесное вино».
Затем Гурджиев сказал, быстро и строго взглянув на меня, как будто, чтобы заглушить у меня любую возможность смеха: «У меня много проектов в Приоре, и все очень важные. Одним из проектов этого года являются раскопки старых развалин». Затем он долго описывал количество людей и огромную энергию, вложенную в этот проект, и то, как мы самым чудесным образом натолкнулись на одиннадцать бутылок вина… вина, которое было приготовлено теми самыми умными монахами. «Теперь возникла проблема для меня… кто достоин пить такое вино – вино, которого не существует больше нигде в мире, кроме Приоре? Это вино слишком хорошо для меня. Я уже испортил желудок питьем арманьяка. Так что, думаю, именно вы, леди, будто по воле Божьей посетившие меня, лучше всего подходите для того, чтобы первыми попробовать это вино».
После этой речи он приказал мне открыть бутылку. Я обернул её салфеткой, откупорил и налил немного «вина» в два стакана. Гурджиев наблюдал за мной с большой напряжённостью, и, когда я подал вино двум дамам, он направил такое же напряжённое внимание на них обеих; он, казалось, сгорал от ожидания и не мог дождаться их реакции.
Достаточно впечатлённые дамы с подходящей к знаменательному событию реакцией, осторожно подняли свои стаканы в его направлении и деликатно отпили. Гурджиев не мог сдержать себя. «Говорите же! – приказал он им. – Каково это вино на вкус?»
Дамы, как будто переполненные чувствами, какое-то мгновение были не способны говорить. Наконец одна из них, с полузакрытыми глазами, прошептала, что вино было «великолепным»; другая добавила, что она никогда не пробовала ничего, что могло бы сравниться с ним.
Озадаченный и смущённый их мнением, я хотел уйти из комнаты, но Гурджиев твёрдым жестом остановил меня и указал, что я вновь должен наполнить их стаканы. Я оставался с ними до тех пор, пока они не кончили бутылку с продолжавшимися соответствующими восклицаниями восторга и экстаза. Затем он приказал мне убрать бутылку и стаканы, и приготовить их комнаты – на том же этаже, что и его – одну, в которой когда-то спал Наполеон, и другую, которую занимала когда-то любовница короля, и дать ему знать, когда комнаты будут готовы.
Комнаты, конечно же, были готовы ещё утром, но я развел огонь в каминах, выждал подходящее время и затем вернулся к нему в комнату. Он велел мне отвести дам в комнаты, а затем проинструктировал их, что они должны хорошо отдохнуть после дегустации этого изумительного вина и приготовиться к вечернему банкету – большому банкету, который был подготовлен специально в их честь.
Когда я позже увидел Гурджиева одного, единственным упоминанием об эпизоде винопития было поздравление меня за внешний вид бутылки. Я ответил ему значительным хитрым взглядом, как бы говоря, что я понимал, что он делал, и он сказал, скорее серьёзно, но со слабой улыбкой на лице: «По вашему взгляду я знаю, что вы уже вынесли суждение об этих дамах; но помните, что я говорил вам прежде, что необходимо смотреть со всех сторон, со всех направлений, прежде чем составлять суждение. Не забывайте этого».
Глава 19
Иногда я думал о Гурджиеве, как об искусном рыбаке или охотнике; случай с дамами и «знаменитым старым вином» был только одним из многих примеров, в которых он, по моему мнению, ставил ловушку или наживлял крючок, а затем с большим развлечением садился наблюдать как жертва, после того как её поймали, раскрывает себя, свои слабости. Хотя я чувствовал в этом элемент злобы, извиняющим фактором этой откровенной лжи было то, что в большинстве случаев «жертва» не сознавала того, что случилось. Временами мне казалось, что этот вид «игры» с людьми был не более чем развлечением для Гурджиева, чем-то, что избавляло его ум от непрерывного напряжения, в котором он работал. Говоря о таких ситуациях, он часто называл их «прокалыванием мыльного пузыря», но это определение я не находил особо уместным, поскольку «снижение цены» часто не замечалось самой мишенью в нужный момент.
С течением времени Гурджиев приобрёл множество репутаций, в том числе репутацию «целителя словом» или, несколько проще, «чудотворца». Возможно, что из-за этого ему неизбежно доводилось часто консультировать по поводу обыденной «жизни» или «земных» проблем, несмотря на то, что он всё время повторял, что его работа ничего не делает для решения таких проблем. Несмотря на предостережения, очень многие люди настойчиво требовали его консультаций именно по таким вопросам. Такие люди меня удивляли и смущали, обычно это усугублялось ещё и тем, что они зачастую считались – или, по крайней мере, сами считали себя – интеллигентными и умными людьми.
Я помню одну женщину, которая с большими расходами (которые, возможно, не имели значения, так как у неё были деньги), за одну неделю добралась в Приоре из Америки, чтобы проконсультироваться с Гурджиевым по одной из таких проблем, о которых он так часто заявлял, что они не относятся к сфере его деятельности. По прибытии она потребовала немедленной встречи, но ей сказали, что Гурджиев сможет увидеть её только вечером и недолго. Ей выделили удобную комнату и через секретаря известили, что она ежедневно должна платить за жильё крупную сумму. Её также предупредили, что «консультация» стоит больших денег.
Он не встретился с этой дамой наедине, а пригласил вечером на ужин, на котором присутствовали все. В ходе предварительного разговора с ней Гурджиев сказал, что понимает важность её проблемы, и повёл себя так, как будто он чрезвычайно поражён тем, что она совершила такую длительную дорогостоящую поездку именно для того, чтобы проконсультироваться с ним. Женщина сказала, что проблема беспокоила её долгое время и что, встретив Гурджиева в Америке предыдущей зимой, она почувствовала, что он, несомненно, был единственным человеком, который мог ей помочь. Он ответил, что попробует помочь ей, и назначит время для такой консультации, уведомив её через секретаря. Женщина продолжала говорить перед всеми собравшимися, что это очень срочно. Гурджиев ответил, что встретится с ней, как только у него будет возможность, но теперь основным делом должен быть ужин.
За столом женщина всячески проявляла сильную взволнованность – курила одну сигарету за другой и много кашляла – до такой степени, что соседи за столом отодвинулись от неё. Отказавшись от всякой попытки начать разговор с ней из-за её постоянного кашля, Гурджиев отметил, что этот кашель очень плохой. Она среагировала мгновенно, польщённая его вниманием, и сказала, что это составляет часть проблемы, о которой она хотела посоветоваться. Гурджиев неодобрительно посмотрел на неё, но прежде чем он смог сказать что-нибудь ещё, дама устремилась вперед. Она сказала, что обеспокоена своим мужем, и что её курение и кашель были, по её мнению, просто «внешними проявлениями» этой трудности. Мы все слушали её речь (я прислуживал за столом). Гурджиев неодобрительно посмотрел на неё снова, но дама без умолку продолжала. Она сказала, что сигареты, как каждый знает, были фаллическим символом, и она обнаружила, что её чрезмерное курение и получающийся в результате кашель были «проявлениями», которые всегда появлялись, когда у неё были трудности с мужем, добавив, что, конечно, её затруднения были сексуальными.
Гурджиев выслушал её очень внимательно, как он всегда делал, и после задумчивой паузы спросил, какой сорт сигарет она курит. Дама назвала американскую марку, которую, по её словам, она курила много лет. Гурджиев очень задумчиво кивнул в ответ на это открытие и после неопределенного молчания сказал, что придумал средство или решение, которое было очень простым. Он предложил, чтобы она сменила сорт сигарет, возможно, хорошо бы попробовать сорт Gauloises Bleues, и заявил, что пока на этом разговор окончен.
Позже в гостиной, во время церемонии пития кофе, эта женщина экстравагантно превозносила Гурджиева и сказала, что он, конечно же, дал ей решение – его метод решения проблем никогда не был очевидным, но она поняла его.
Дама оставалась в Приоре ещё день или два, купила огромный запас Gauloises Bleues – столько, сколько закон позволял вывезти из страны – и, не прося каких-либо дальнейших консультаций, сообщила Гурджиеву, что она поняла его, и вернулась в Америку. Только после её отъезда Гурджиев упомянул о ней, как об «одном из тех данных Богом случаев, которые создают несознательную положительную репутацию для него». Он запросил с неё большой гонорар, и она с радостью заплатила его.
Хотя я некоторое время не напоминал Гурджиеву об этой ситуации, позже я получил объяснение этого и других подобных случаев. Он сказал мне, что многие люди – люди с «моралью среднего класса западного мира» – возражали против его методов добывания денег, в которых он всегда нуждался для содержания Приоре, а также многих учеников, которые были не способны ему чем-нибудь заплатить. Он почти сердито добавил, что наш вид морали был основан на деньгах; что единственной вещью, которая беспокоила нас в таких случаях, был факт, что он, очевидно, извлекал деньги, не давая ничего взамен.
«Всю свою жизнь, – сказал он убедительно, – я говорю людям, что эта работа не для каждого. Если можно решить проблемы с помощью религии или с помощью вашего американского психиатра – это хорошо. Но люди не слушают, что я говорю; они всегда находят другое значение моих слов, интерпретируют всё по-своему, избегая неприятных чувств. Поэтому они должны платить за «хорошие чувства». Много раз я говорил, что моя работа не может помочь в обычных жизненных проблемах, таких как секс, болезнь, несчастье и тому подобное. Если люди не могут решить подобные проблемы сами, тогда моя работа, которая не имеет дела с такими проблемами, не годна для них. Но такие люди приходят сюда, несмотря на то, что я говорю; приходят для того, чтобы исправить своё настроение. Женщина, которая курила много сигарет, может теперь рассказывать каждому, но особенно своему «я», что она советовалась со мной о проблеме, и что я дал ответ, хотя я ответа не давал. Поэтому как раз такие люди могут оправдать своё существование, помогая мне в решении многих денежных проблем. Даже с их глупостью они помогают хорошему делу – моей работе. Это уже достаточная награда для таких людей».
«В настоящее время у людей есть большая слабость – они спрашивают совета, но не хотят помощи, хотят только узнать то, что они хотят. Они не слушают моих слов – я всегда говорю то, что собираюсь сказать, мои слова всегда понятны – но они не верят этому, всегда ищут другое значение, значение, которое существует только в их воображении. Без такой женщины, без таких людей вы и многие другие люди в Приоре были бы голодны. Деньги, которые эта женщина заплатила, – это деньги на еду». Это был один из немногих случаев, когда я слышал какие-либо его «объяснения» или «оправдания» такой деятельности.
Глава 20
С тех пор как Гурджиев занялся писанием книг, ему, вполне естественно, понадобилось держать машинистку. Он подошёл к этому не в обычной манере, а с великим фанфаронством нанял молодую немку, которую он отыскал где-то в своих поездках. Мы услышали о ней за несколько дней до её прибытия. К её приезду были произведены тщательные приготовления, включавшие выбор подходящей комнаты, приобретение пишущей машинки, приготовление удобного рабочего места и так далее. Гурджиев расхваливал всем нам её качества, говорил, какая это была удача – найти столь идеального человека «для моих целей», – и мы ожидали её приезда с большим нетерпением.
Когда машинистка приехала, то была представлена всем нам, в её честь был сервирован обед, и весь процесс был очень праздничным – ей оказали, как мы называли это, «королевские почести», и она искренне отзывалась на такое обращение, восприняв себя так же серьёзно, как, казалось, воспринимал её Гурджиев. Оказалось, что её главным, великолепным достоинством было то, что она могла печатать, как Гурджиев неоднократно повторял нам в полном изумлении, «даже не глядя на клавиши машинки».
Я был уверен, что такое отношение было не к секретарю или машинистке, а к её способности пользоваться слепым методом. Как будто, чтобы доказать нам всем, что она действительно владеет этой способностью, машинистка устраивалась за столом на террасе, чтобы мы все её видели, когда шли на работу или возвращались, и находилась там, оживлённо печатая, всё долгое лето, за исключением дождливых дней. Щёлканье её машинки звучало в наших ушах.
Моё первое общение с ней состоялось однажды вечером, когда я стирал во дворе позади дома. Ради справедливости, я должен признаться в сильном антигерманском предубеждении, возникшем из рассказов о немецкой жестокости во время Первой Мировой войны. До этого машинистка видела меня, но мы не были знакомы, и, предполагая, что я француз, позвала из окна, выходившего во двор. Она спросила меня по-французски с сильным акцентом, где она может достать некое «мыло Люкс»; она смогла объяснить мне, что оно ей нужно, чтобы постирать чулки. Я ответил на английском (который, как мне было известно, она понимала и на котором говорила намного лучше, чем на французском), что полагаю, она может купить мыло в местном сельском магазинчике, примерно в полумиле отсюда. В ответ она бросила мне вниз несколько монет и сказала, что очень оценит, если я куплю ей сразу несколько кусков.
Я поднял деньги, поднялся по ступенькам и вручил их ей. Я сказал, что думаю, стоит объяснить, что здесь в Приоре нет мальчиков на побегушках, и никто не говорил мне до сих пор, что она была каким-то исключением из общего правила, согласно которому каждый сам делал свои личные дела, включая и посещение магазина. Она сказала с «очаровательной» улыбкой, что уверена в том, что никто не будет возражать, если я выполню это поручение для неё, так как она – чего, возможно, я ещё не понял – была занята очень важной работой для мистера Гурджиева. Я объяснил, что я занимаюсь столь же важной работой, забочусь о нём и о его комнате и выполняю данные мне им поручения.
Она, казалось, удивилась и после недолгого размышления сказала, что уладит дело с мистером Гурджиевым – что тут какое-то непонимание важности её функции в школе, ясное дело, с моей стороны. Я не очень долго ждал дальнейших событий. «Кофейный звонок» прозвучал из его комнаты уже через несколько минут.
Когда я вошёл в комнату, машинистка, как я и ожидал, сидела у него. Я подал кофе, и тогда Гурджиев повернулся ко мне с одной из его «обаятельных» улыбок: «Вы знаете эту леди?» – спросил он.
Я ответил, что да.
Тогда Гурджиев сказал, что она рассказала ему всё, и насколько он понял, она дала мне поручение, а я отказался его выполнить. Я сказал, что это было верно, и каждый должен сам решать свои вопросы.
Он согласился, что это так, но добавил, что у него нет времени инструктировать её обо всём, и что он очень высоко оценит, если конкретно в данном случае и в качестве услуги для него – так как машинистка очень важна для него – я буду достаточно любезен, чтобы выполнить её просьбу. Я был сбит с толку и даже рассердился, но сказал, конечно, что выполню. Машинистка передала мне деньги, я пошёл в магазин и купил ей мыло. Я предположил по своим ощущениям, что у Гурджиева была веская причина, чтобы просить меня сделать это для неё, и решил, что инцидент был исчерпан. Может быть, она была действительно «особенной» по какой-то причине, которую я не понимал; Гурджиев, по крайней мере, заставлял так думать.
Однако я был взбешён, когда после того как я отдал машинистке мыло и сдачу, она дала мне чаевые и сказала, что уверена, что я теперь понял её правоту в первый раз, и она надеется, что действия мистера Гурджиева прояснили мне это. Я вспыхнул, но смог сдержать свой язык. Я также сумел не напоминать об этом Гурджиеву, когда видел его, но внутри я продолжал тлеть.
Несколько дней спустя, в выходные, прибыли гости. Гурджиев встречал их за своим обычным небольшим столом вблизи газонов, напротив террасы, где работала машинистка. Я подал всем кофе. Гурджиев сделал жест, чтобы я не уходил, а затем продолжил говорить собравшимся гостям, что он с нетерпением ждал возможности показать его новые чудеса – два удивительных новых приобретения: электрический холодильник и «слепую машинистку». Затем он велел мне показать дорогу к кладовой, где была установлена новинка, и гости были сильно озадачены показом обычного холодильника Frigidaire, который, как выразился Гурджиев, «сам по себе делает лёд» даже «без моей помощи» – истинный продукт гения западного мира. Когда этот осмотр закончился, мы все пошли назад к террасе осматривать второе чудо, которое, также «без моей помощи и даже не смотря на клавиши» могло печатать его книгу. Машинистка встала и приветствовала его, но Гурджиев не представил её и велел ей сесть. Затем по его команде она стала печатать, «даже не глядя на клавиши», и торжествующе уставившись в пространство.
Гурджиев стоял среди гостей, пристально глядя на неё с безграничным восхищением и говоря о ней, как о другом продукте «гения» западного мира. Я действительно был очарован способностью пользоваться слепым методом, и мой собственный интерес и восхищение были неподдельными. Внезапно Гурджиев посмотрел в моем направлении и улыбнулся огромной широкой улыбкой, как будто мы участвовали вместе в какой-нибудь громадной шутке, и велел собрать кофейные чашки.
Чуть позже тем же вечером в его комнате он упомянул о машинистке ещё раз. Он сказал сначала об «электрическом холодильнике» – «нужно только воткнуть штепсель – и сейчас же ящик начинает шуметь и жужжать и производить лёд». Он снова заговорщически улыбнулся мне. «То же с немецкой леди. Я, как штепсель, – говорю ей печатать, и она так же начинает производить шум и продукцию, но не лёд, а книгу. Замечательное американское изобретение».
Я почти любил её в тот момент и был счастлив с того времени выполнять её поручения. Я не мог удержаться, чтобы не сказать это, и Гурджиев удовлетворённо кивнул мне. «Когда вы помогаете леди печатать, вы помогаете мне, это подобно смазыванию машины для улучшения её работы; это замечательно».
Глава 21
Одним из развлечений среди детей при исполнении обязанностей швейцара – а эта обязанность была исключительно детской – было соревнование в том, чтобы быть достаточно проворным и успевать вовремя открывать ворота, чтобы Гурджиев мог проехать через них на машине без остановки и без сигнала привратнику.
Одной из трудностей в этом было то, что вход в Приоре был у подножия высокого холма, который спускался от железнодорожной станции; трамвай на Самуа также ходил прямо перед воротами, где шоссе делало широкий поворот в направлении Самуа от Приоре. Часто шум «трамвайных путей» заглушал звуки машин, подъезжавших к холму, и мешал нашей игре. Также, когда Гурджиев однажды узнал о соревновании, он стал спускаться вниз с холма так, чтобы мы не могли расслышать шум мотора.
Главным образом благодаря Филосу, собаке, которая часто ходила за мной во время отсутствия Гурджиева, я обычно успевал раскрыть для него ворота вовремя, и он проезжал через них с широкой улыбкой на лице. Благодаря наблюдению за Филосом, чьи уши поднимались при звуке любой проходящей машины, но который вскакивал только при звуке машины Гурджиева, у меня почти всегда был успех.
Забавляясь этой нашей игрой, Гурджиев однажды спросил меня, как это я ухитрялся открывать ворота вовремя, практически без промаха, и я рассказал ему о Филосе. Он рассмеялся, а затем сказал мне, что это очень хороший пример сотрудничества. «Это показывает, что человек должен много учиться и может получить знание из самых неожиданных источников. Даже собака может помочь. Человек очень слаб и всё время нуждается в помощи».
Позже тем летом я исполнял обязанности швейцара, когда Гурджиев должен был уехать. По какой-то причине это был особенно важный отъезд, и все собрались вокруг его автомобиля, когда он уже был готов тронуться. Я был среди провожающих и, когда он наконец завёл мотор, я побежал к большим воротам, чтобы открыть их. В своей поспешности я споткнулся и упал, коленом ударившись о тяжелую железную задвижку, которая служила стопором ворот. Она была ржавой и, поскольку я упал сильно, вонзилась глубоко. Так как Гурджиев был уже около ворот, он увидел кровь, текущую по моей ноге, остановился и спросил, что случилось. Я рассказал, и он велел мне смыть кровь, что я и сделал, как только он уехал.
К середине второй половины дня – Гурджиев уехал около полудня – моя нога сильно разболелась, колено раздулось, и я вынужден был прекратить работу. После обеда моей задачей была чистка паркетного пола в гостиной, что подразумевало соскребать с пола старый воск и накопившуюся грязь тяжёлой жёсткой щёткой; это делалось стоя ногой на щётке и двигая её взад и вперёд по волокнам дерева.
К вечеру колено угрожающе распухло, и я почувствовал себя так плохо, что мне было не до еды. Меня уложили в кровать и начали лечить различными способами. У каждого было своё представление о лечении, но, в конце концов, решили, что колено опасно заразилось, и подходящим средством является горячая луковая припарка. Испечённый или, возможно, варёный лук положили на открытую рану, которая была затем завёрнута в тяжёлую, прозрачную промасленную ткань, затем ещё забинтована. Целью, конечно, было оттянуть яд из заражённого колена.
Хоть мне постоянно уделяли внимание и хорошо ухаживали – в Приоре был свой доктор, который наблюдал за моим лечением, – улучшений не было. На следующий день нога стала огромной, и на моём теле начали появляться маленькие нарывы, простираясь от колена почти до пояса. Я бредил весь день, выходя из бреда лишь изредка, когда мне сменяли припарки, но ничто не помогало.
Во второй половине дня, довольно поздно, из своей поездки вернулся Гурджиев. Через некоторое время после прибытия, когда он спросил обо мне, ему рассказали о моём состоянии, и он пришёл в мою комнату осмотреть меня. Он снял бинт и припарку и сразу же отправил кого-то в местную аптеку. Принесли лекарство, тогда называвшееся «Вата-плазма», очевидно, также какой-нибудь вид припарки, и Гурджиев велел развести огонь в моей комнате, на котором он мог бы вскипятить воду. Когда вода закипела, он опустил маленький кусочек пропитанного хлопка в воду, а затем немедленно приложил её к заражённому колену и снова обернул промасленной тканью и забинтовал. Он настоял, чтобы её прикладывали сразу, прямо из горячей воды, и я вспоминаю те прикладывания как мучительно болезненные. Тому, кто оставался на ночь в моей комнате, были даны инструкции прикладывать новые припарки примерно через каждые четыре часа, что и было сделано.
Во второй половине следующего дня мне стало намного лучше, и припарки при снятии были с чёрным, желатинообразным заражённым веществом. Вечером Гурджиев снова пришёл ко мне. Так как это была суббота, и в Доме для занятий должно было быть выступление, он настоял, чтобы я присутствовал вместе со всеми, и велел своему племяннику отнести меня туда и обратно на закорках. Когда мы пришли в Дом для занятий, Гурджиев посадил меня в небольшом помещении позади себя, где я и находился во время выступления. Когда всё закончилось, меня отнесли назад в мою комнату. В лечении и средстве не было ничего особо впечатляющего, но Гурджиев сказал мне кое-что об этом, когда я снова встал на ноги.
Он велел мне показать ногу, на которой была ещё небольшая повязка, и, когда он сказал, что она здорова, то спросил меня, помнил ли я то, что он сказал о Филосе, помогавшем мне опознавать его машину, когда он подъезжал к воротам Приоре. Я ответил, что конечно помню, и Гурджиев продолжил, что эти два факта – помощь собаки и заражение моего колена – имеют нечто общее. Они были доказательством зависимости человека от других созданий. «Собаке вы обязаны тем, что она помогает вам в небольшом деле; передо мной вы в большем долгу – возможно, вы обязаны мне жизнью. Многие пробовали, даже доктор, привести в порядок вашу ногу, пока меня не было, но сделали только хуже. Когда я приехал, я вылечил ногу, потому что только я знаю об этом новом лекарстве, которое есть теперь во Франции. Я знаю о нём, потому что интересовался этим, так как важно знать все необходимые вещи для спасения жизни. Именно потому, что я знаю эту вещь, и потому, что я вернулся вовремя, вы теперь здоровы».
Я сказал, что понимаю это, и поблагодарил его за то, что он сделал. Он снисходительно улыбнулся и сказал, что невозможно отблагодарить за то, что он сделал для меня. «Нельзя отблагодарить за жизнь, невозможно дать достаточно благодарности; также, возможно, придёт время, когда вы захотите, чтобы я не спасал вашу жизнь. Сейчас вы молоды, вы рады не умирать, а ваша болезнь была весьма опасна, настолько, что могла даже убить. Но, когда вы вырастете, вы не всегда будете любить жизнь, и может быть, будете не благодарить меня, а проклинать, потому что я не допустил вашей смерти. Поэтому не благодарите сейчас».
Он продолжил, что жизнь это «…обоюдоострый меч. В вашей стране вы думаете, что жизнь – это только удовольствие. В вашей стране есть выражение «погоня за счастьем» – и это выражение показывает, что люди не понимают жизнь. Счастья нет, есть только другая сторона несчастья. Но в вашей стране, а также в большей части мира люди теперь хотят только счастья. Важно и другое: страдание очень важно, потому что также является необходимой частью жизни. Без страдания человек не может расти, но, когда вы страдаете, вы думаете только о себе, вы чувствуете жалость к себе, не хотите страдать, потому что это создаёт вам неудобства, создаёт в вас желание избавиться от того, что заставляет вас плохо себя чувствовать. Когда человек страдает, он чувствует только жалость к себе. Но в случае настоящего человека это не так. Настоящий человек также иногда чувствует счастье, настоящее счастье; но когда он также чувствует настоящее страдание, он не старается остановить его. Он принимает его, потому что знает, что страдание свойственно человеку. Нужно страдать, чтобы знать истину о себе; нужно учиться страдать с желанием. Когда к человеку приходит страдание, нужно сделать его намеренным, нужно чувствовать его всем существом; нужно хотеть такого страдания, чтобы оно помогло стать сознательным, помогло понимать».
«Сейчас у вас только физическое страдание, страдание тела из-за боли в ноге. Это страдание также может помочь, если вы знаете, как использовать его для себя. Но это страдание как у животного, не столь значительное страдание. Другое страдание, страдание всем своим существом, является также возможностью понять, что все люди страдают таким образом. Эта возможность понять свою зависимость от Природы, от других людей, от всего, может помочь в развитии. Невозможно прожить жизнь одному. Отчуждённость – не одиночество, которое является плохой вещью, – но отчуждённость может быть полезной для человека, самой необходимой в жизни вещью, но при этом необходимо научиться не жить в одиночку, потому что реальная жизнь зависит от других людей, а не только от себя. Сейчас вы ещё мальчик, не можете понять, что я говорю, но запомните это; помните до тех пор, пока не поблагодарите меня за то, что я спас вам жизнь».
Глава 22
Так как лето подходило к концу, многие из приехавших американцев готовились покинуть Приоре, чтобы, возможно, больше его не увидеть. Им было разрешено остаться, несмотря на реорганизацию школы, но планировалось, что они не вернутся на следующий год. К моему великому облегчению, снова было решено, что мы не будем возвращаться в Америку, и я с нетерпением ожидал зимы, потому что Гурджиев также не планировал уезжать. За исключением его случайных отъездов, когда ему было необходимо ехать в Париж по делам, он постоянно находился в Фонтенбло. Состояние его жены, как он и предсказывал, становилось всё хуже, и мы стали ожидать её неизбежную смерть.
За несколько месяцев, которые она провела в своей комнате, я видел её только однажды, когда меня отправили в её комнату по какому-то поручению или за чем-то для Гурджиева. Изменения в мадам Островской потрясли и ужаснули меня. Она была невероятно худа, и хотя она посмотрела на меня с подобием улыбки, даже это небольшое усилие, казалось, истощало её.
Поскольку садоводство и большая часть внешних проектов на зиму были прекращены, мы начали обычные приготовления: сушили фрукты и овощи, заготавливали мясо на хранение в больших бочках в погребах, пилили и кололи дрова для всех печей и каминов. Некоторые этажи школы были закрыты на зиму, и часть учеников даже стали жить вместе, чтобы экономить топливо. С уменьшением количества учеников большая часть нашей работы стала производиться в помещениях, как это было прошлой зимой; основная часть имеющейся в наличии рабочей силы требовалась для обычного домашнего хозяйства и на кухне, в конюшне и в качестве швейцаров.
Осень закончилась, и в недалёком будущем соблазнительно замаячило Рождество. Это было первое Рождество, которое я должен был провести в Приоре вместе с Гурджиевым, и мы слышали много рассказов о тщательно разработанных рождественских церемониях. Было всегда два празднования: одно – по «английскому» календарю и одно – по «русскому», которое проходило на две недели позже, а также должно было праздноваться два Новых Года, и два дня рождения Гурджиева, которые приходились на первый день января по одному и по другому календарю.
Так как время приближалось, мы начали тщательные приготовления. Делались различные традиционные праздничные сладости, были испечены и запасены торты, и всех детей допустили помогать в приготовлении того, что называлось «гостинцами» – обычно ярко украшенных бумажных пакетиков со сладостями, которые должны были быть развешены на ёлке. Сама ёлка была огромной. Мы спилили её в лесу на территории Приоре, и она была установлена в главной гостиной, такая высокая, что касалась потолка. Примерно за день до Рождества все помогали украшать ёлку, что состояло главным образом в развешивании на ней подарков, а также в украшении её сотнями свечей. Был срезан специальный длинный шест, чтобы снимать свечи, которые могли поджечь дерево.
Накануне Рождества, во второй половине дня все приготовления были закончены, и вечером должен был состояться пир, после которого все собирались в гостиной для вручения подарков. Начало темнеть, когда Гурджиев послал за мной. Он расспросил меня о моём предыдущем Рождестве в Америке и о том, как я воспринимаю этот праздник. Когда я ответил, Гурджиев сказал, что, к несчастью, кому-нибудь всегда необходимо по праздникам работать, чтобы другие могли получить удовольствие. Он упомянул людей, которые будут работать на кухне, прислуживать за столом, убирать и так далее, а затем сказал, что кто-то также должен быть на месте швейцара этим вечером. Он ожидал междугородного телефонного вызова, и у телефона должен был кто-то быть. Он выбрал меня, потому что знал, что на меня можно было положиться; а также, потому что я говорил по-английски, по-французски и достаточно хорошо по-русски, чтобы ответить на любой телефонный звонок, который мог случиться.
Я был ошеломлён и с трудом верил тому, что услышал. Я не мог припомнить ни одного праздника, которого бы я ждал так, как этот. Конечно, Гурджиев увидел огорчение на моём лице, но сказал просто, что, хотя я не смогу принять участие в общем празднике, я могу подольше растянуть своё предвкушение Рождества, поскольку получу свои подарки на следующий день. Я понял, что, очевидно, нет способа избежать этого назначения, и ушёл от Гурджиева с тяжёлым сердцем. Я поужинал рано, на кухне, а затем сменил того, кто был швейцаром в этот особый день. Обычно никто не исполнял обязанности швейцара ночью. На верхнем этаже швейцарской жила русская семья, которая и отвечала по телефону или отпирала ворота в тех редких случаях, когда это могло быть необходимо.
За день выпал снег, и двор между помещением швейцарской и главным зданием был покрыт снегом, сверкающим белизной и освещённым яркими лампами длинного коридора и главной гостиной, окна которых выходили во двор. Когда я заступил на дежурство, было темно, и я угрюмо сидел, наполненный жалостью к себе, внутри маленькой швейцарской, пристально смотря на огни в большом доме. Там ещё не было движения – остальные ученики, наверное, в это время ушли на ужин.
Прошло, казалось, огромное количество времени, пока я увидел людей, заполняющих большую гостиную. Кто-то начал зажигать свечи на ёлке, и я не смог сдержать себя. Я оставил дверь швейцарской открытой и подошёл к главному зданию так близко, как мог, чтобы услышать телефон, если он зазвонит. Было очень холодно – к тому же я не знал точно, насколько далеко я могу отойти, чтобы услышать телефонный звонок – и когда ёлка уже зажглась, я время от времени бегал назад в швейцарскую, чтобы согреться и сердито посмотреть на телефон. Я умолял его зазвонить, чтобы я мог присоединиться к остальным. Но он лишь также пристально смотрел на меня, суровый и молчаливый.
Когда началось распределение подарков, начиная с самых маленьких детей, я, забыв о возложенной на меня ответственности, подбежал прямо к окнам главной гостиной. Я не пробыл там даже минуты, когда взгляд Гурджиева поймал меня, он встал и большими шагами пересёк гостиную. Я отошёл от окна и, как будто он послал за мной, подошёл прямо ко входу в здание, вместо того чтобы вернуться в швейцарскую. Он подошёл к двери почти в одно время со мной, и мы остановились на мгновение, глядя друг на друга через стеклянные двери. Затем он открыл её неожиданным, резким движением. «Почему вы не в швейцарской? Почему вы здесь?» – спросил он сердито.
Чуть не плача, я выразил протест против обязанности дежурить, когда все остальные праздновали Рождество, но он коротко прервал меня: «Я сказал вам сделать это для меня, а вы не делаете. Нельзя услышать телефон отсюда: он может звонить сейчас, а вы стоите здесь и не слышите. Идите назад». Гурджиев не повышал голоса, но не было никаких сомнений, что он был очень зол на меня. Я вернулся в швейцарскую, обиженный и переполненный жалостью к себе, приняв решение, что больше не уйду с поста, несмотря ни на что.
Было уже около полуночи, когда вернулась семья, жившая на верхнем этаже, и мне позволили оставить пост. Я вернулся в свою комнату, ненавидя Гурджиева, ненавидя Приоре и в то же время чувствуя гордость за свою «жертву» для него. Я поклялся, что никогда не упомяну про этот вечер ни ему, ни кому-нибудь ещё; а также, что Рождество больше никогда не будет иметь для меня значения. Я ожидал, однако, что мне будет что-то дано на следующий день, что Гурджиев объяснит или каким-нибудь способом «компенсирует это мне». Я все ещё воображал себя неким «любимцем» из-за того, что работа в его комнатах была моим особым заданием.
На следующий день, к моему дальнейшему огорчению, меня назначили работать на кухне, так как там требовалась срочная помощь; у меня было достаточно свободного времени, чтобы убрать комнату Гурджиева, и я мог приготовить ему кофе в любое время, когда он захочет. Я видел его несколько раз, мельком, в течение дня, но всегда с другими людьми, и о предыдущем вечере не упоминалось. В какой-то момент после обеда кто-то сказал мне, что Гурджиев послал его передать мне несколько рождественских подарков: какую-то мелочь плюс экземпляр книги Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Это был конец Рождества, но всё ещё продолжалось бесконечное обслуживание за рождественским столом всех учеников и разных гостей. Поскольку я не один был официантом, я не почувствовал себя снова отделённым или «наказанным» так, как я почувствовал это предыдущей ночью.
Хотя Гурджиев никогда не упоминал о том вечере, я заметил изменения в его отношениях со мной. Он больше не говорил со мной как с ребёнком, и мои личные «уроки» подошли к концу; Гурджиев ничего об этом не сказал, а я был слишком запуганным, чтобы поднять вопрос об уроках. Даже, несмотря на то, что никакого телефонного звонка накануне Рождества не было, у меня было тайное подозрение, что во время одного из моментов, когда я выбегал из швейцарской, мог быть звонок, и это мучило мою совесть. Даже если не было телефонного звонка вообще, я знал, что «провалился» при исполнении порученной мне обязанности, и я не мог забыть этого долгое время.
Глава 23
Однажды весенним утром я проснулся ещё затемно, с первыми лучами солнца, появлявшегося на горизонте. Что-то беспокоило меня в то утро, но я не представлял себе, что это было: у меня было неясное беспокойство, ощущение, что что-то произошло. Несмотря на мою обычную ленивую привычку не вставать с постели до последнего момента, – который наступал около шести часов утра, – я встал с рассветом и спустился в тихую холодную кухню. Больше для своего успокоения, чем для помощи тому, кто был в тот день назначен мальчиком при кухне, я начал разводить огонь в большой железной угольной печи, и когда я клал в неё уголь, мой зуммер зазвонил (он звонил одновременно – в моей комнате и на кухне). Это было рано для Гурджиева, но звонок подтвердил моё ощущение тревоги, и я помчался в его комнату. Гурджиев стоял в открытых дверях и напряжённо смотрел на меня, Филос был рядом с ним. «Идите и немедленно приведите доктора Стьернваля», – приказал он, и я повернулся, чтобы идти, но он остановил меня, сказав: «Скажите ему, что мадам Островская умерла».
Я выбежал из здания и побежал к дому, где жил доктор Стьернваль – к маленькому дому недалеко от птичьего двора, который издавна назывался «Параду». Доктор и мадам Стьернваль, вместе со своим сыном Николаем, жили на верхнем этаже этого здания. Остальную часть здания занимал брат Гурджиева Дмитрий и его жена с четырьмя дочерьми. Я разбудил доктора и мадам Стьернваль и сообщил им новость. Мадам Стьернваль разразилась слезами, а доктор начал поспешно одеваться и сказал мне вернуться и сообщить мистеру Гурджиеву, что он выходит.
Когда я вернулся в главное здание, Гурджиева не было в его комнате. Я прошёл по длинному холлу в противоположный конец здания и робко постучал в дверь комнаты мадам Островской. Гурджиев подошёл к двери, и я сказал, что доктор идёт. Гурджиев выглядел спокойным, очень усталым и бледным; он попросил меня подождать возле его комнаты и направить доктора сюда. Вскоре появился доктор. Он пробыл в комнате мадам Островской всего несколько минут, когда Гурджиев вышел. Я нерешительно стоял в коридоре, не зная, ждать его или нет. Гурджиев посмотрел на меня без удивления и затем спросил, есть ли у меня ключ от его комнаты. Я ответил, что есть, и он сказал, что я не должен входить в неё, а также, что я никого не должен впускать до тех пор, пока он не вызовет меня. Затем, сопровождаемый Филосом, он прошёл к своей комнате, но не позволил собаке войти. Филос сердито посмотрел на меня, устроился против запертой двери, и впервые зарычал на меня.
День был долгим и печальным. Все мы выполняли наши назначенные работы, но тяжелая туча горя нависла над школой. Это был один из первых настоящих весенних дней в том году, но солнечный свет и непривычное тепло казались неуместными. Работа велась в полной тишине; люди разговаривали друг с другом шёпотом, и атмосфера неопределённости распространилась по всем зданиям. Возможно, что кто-то делал необходимые приготовления для похорон – доктор Стьернваль или мадам де Гартман, – но большинство из нас не знали об этом. Каждый ждал появления Гурджиева, но в его комнате не было никаких признаков жизни; он не завтракал, не звонил на обед и на ужин и не просил кофе.
На следующий день утром мадам де Гартман послала за мной и сказала, что она стучала к мистеру Гурджиеву и не получила ответа, и попросила меня дать ей ключ. Я ответил, что не могу дать его ей, поскольку на это были инструкции мистера Гурджиева. Она не стала со мной спорить, но сказала, что беспокоится, потому что тело мадам Островской собираются перенести в Дом для занятий, где оно останется на ночь до похорон на следующий день. Мадам де Гартман думала, что мистер Гурджиев должен знать об этом, но ввиду того, что он приказал мне, она не будет его беспокоить.
Позднее, после полудня, когда всё ещё не было знака от Гурджиева, за мной послали снова. На этот раз мадам де Гартман сказала, что она должна получить ключ. Приехал архиепископ, вероятно, Греческой Православной Церкви в Париже, и мистер Гурджиев должен быть извещён. После внутренней борьбы с собой, я, наконец, уступил. Появление архиепископа было почти таким же устрашающим, как и порой появление Гурджиева, и я не мог восстать против этого.
Немного позже мадам де Гартман нашла меня снова. Она сказала, что даже с ключом она не смогла войти в комнату. Филос не позволил ей подойти настолько, чтобы вставить ключ в замок; поэтому надо пойти мне, так как Филос хорошо знал меня, и сказать мистеру Гурджиеву, что архиепископ прибыл и должен увидеть его. Испытывая робость от важности происходящего, я покорно подошёл к комнате Гурджиева. Когда я приблизился, Филос недружелюбно посмотрел на меня. Я пытался кормить его предыдущим днем и также этим утром, но он отказывался есть и даже пить воду. Теперь он наблюдал за мной, когда я вынимал ключ из кармана, и кажется решил, что он должен позволить мне пройти. Пёс не двигался, но когда я отпер дверь, позволил мне перешагнуть через него в комнату.
Гурджиев сидел на стуле в комнате – в первый раз я видел его сидящим на чём-то, кроме кровати – и смотрел на меня без удивления. «Филос впустил вас?» – спросил он.
Я кивнул головой и сказал, что прошу прощения за беспокойство, что я не забыл его инструкции, но прибыл архиепископ, и что мадам де Гартман… Он прервал меня взмахом руки. «Хорошо, – сказал он спокойно, – надо увидеться с архиепископом». Затем он вздохнул, встал и спросил: «Какой сегодня день?»
Я сказал ему, что суббота, и он спросил меня, приготовил ли его брат, который заведовал растопкой турецкой бани, баню как обычно. Я сказал, что не знаю, но сейчас выясню. Он попросил меня не узнавать, а просто сказать Дмитрию приготовить баню, а также сказать кухарке, что он будет внизу на ужине этим вечером и что хочет, чтобы трапеза была самой отборной в честь архиепископа. Затем он приказал мне накормить Филоса. Я ответил, что я пытался накормить его, но тот отказывался есть. Гурджиев улыбнулся: «Если я выйду из комнаты – будет есть. Дайте ему еды». Затем он вышел и медленно и задумчиво пошёл вниз по ступенькам.
Это было моё первое столкновение со смертью. Хотя Гурджиев и изменился – казался необычно задумчивым и чрезвычайно утомлённым, более чем я когда-либо видел – он не подходил под моё предвзятое представление о горе. Не было ни проявления скорби, ни слёз – просто необычная тяжесть на нем, как будто ему требовалось огромное усилие, чтобы двигаться.
Глава 24
Турецкая баня состояла из трёх комнат и маленькой котельной, в которой брат Гурджиева, Дмитрий, разводил огонь. Первой комнатой была раздевалка, затем – большая круглая комната, оборудованная душем и несколькими водопроводными кранами, также там стояли скамейки вдоль всех стен и массажный стол в центре; третьей комнатой была парилка с деревянными полками в несколько уровней.
В раздевалке скамьи стояли двумя длинными рядами вдоль одной стены, а напротив них – большая высокая скамья, где всегда сидел Гурджиев и смотрел вниз на других мужчин. Из-за того, что в первое моё лето в Приоре мужчин там было довольно много, Гурджиев приказал Тому и мне взобраться на его скамью позади него, где мы и сидели, рассматривая из-за его плеч всех собравшихся. Какие-нибудь «важные» гости всегда сидели прямо напротив Гурджиева. Теперь, хотя баня уже не была переполнена, поскольку из-за реорганизации школы количество учеников уменьшилось, Том и я продолжали занимать наши места позади Гурджиева; это стало частью ритуала, связанного с субботней баней.
Приходя туда, поначалу все раздевались – обычно на это тратилось около получаса; большинство мужчин курили или разговаривали, в то время как Гурджиев побуждал их рассказывать ему разные истории; истории, как и в плавательном бассейне, по его настоянию должны были быть неприличными или непристойными. Неизбежно, перед тем как мы проходили в парную, он рассказывал вновь прибывшим какую-нибудь долгую, запутанную историю о его высокопоставленном положении как главы Приоре и основателя Института, и история всегда содержала упоминания о Томе и обо мне, как о его «херувиме» и «серафиме».
Вследствие моих предубеждений о смерти и так как мадам Островская умерла только около тридцати шести часов тому назад, я ожидал, что ритуал бани этим субботним вечером будет печальным и скорбным. Как я ошибался! Придя в тот вечер в баню несколько позже других, я обнаружил всех ещё в нижнем белье, а Гурджиев и архиепископ были вовлечены в долгий спор о проблеме раздевания. Архиепископ настаивал, что он не может мыться в турецкой бане, не прикрытый чем-нибудь, и отказывался принимать участие в бане, если другие мужчины будут совершенно голые. После моего прихода спор ещё продолжался около пятнадцати минут, и Гурджиев, казалось, чрезвычайно наслаждался им. Он приводил многочисленные упоминания из Священного Писания и в целом подшучивал над «ложной благопристойностью» архиепископа. Тот оставался непреклонным, и кого-то отправили назад к главному зданию, чтобы найти что-то, что все могли бы надеть. Очевидно, проблема возникала и прежде, так как посыльный вернулся с большим количеством извлечённых откуда-то муслиновых повязок, которые обматывались вокруг бёдер. Нам всем посоветовали надеть их, как можно благопристойнее сняв всё остальное. Когда мы, наконец, вошли в парную, чувствуя неудобство и стеснение в непривычном наряде, Гурджиев, как будто он уже заполучил милость архиепископа, постепенно снял свою повязку, и остальные один за другим сделали то же самое. Архиепископ не делал дальнейших комментариев, но упорно сохранял свою повязку на талии.
Когда мы перешли из парной мыться в среднюю комнату, Гурджиев снова обратился к архиепископу с длинной речью. Он сказал, что эта частичная прикрытость была не только видом ложной благопристойности, но что психологически и физически она вредна; в древних цивилизациях знали, что наиболее важные очищающие ритуалы должны производится с так называемыми «интимными частями» тела, которые не могут быть как следует очищены, если на них есть какая-нибудь одежда, и что в действительности, многие религиозные церемонии в прежних цивилизациях подчёркивали такую чистоплотность, как часть их религии и священных обрядов. Результатом был компромисс: архиепископ не возражал против аргументов Гурджиева и согласился, что мы можем мыться, как пожелаем, но что он не будет снимать своего прикрытия.
После бани спор продолжался в раздевалке, во время «охлаждающего» периода, который также длился около получаса; Гурджиев решил не рисковать, находясь на вечернем воздухе после парной бани. Холодный душ был существенным элементом процедуры, но холодный воздух – запрещён. В ходе дискуссии в раздевалке Гурджиев поднял вопрос о похоронах и сказал, что одним из важных проявлений уважения к умершим должно быть присутствие на их погребении с полностью очищенными телом и умом. Его тон, который был неприличным вначале, а потом стал серьёзным в комнате для мытья, теперь стал располагающим к себе и убедительным, и он повторил, что не намеревался показывать неуважение к архиепископу.
Каковы бы ни были различия между ними, они, очевидно, уважали друг друга; за ужином, который был почти банкетом, архиепископ оказался общительным, хорошо воспитанным и крепко пьющим человеком, который доставлял удовольствие Гурджиеву, и они, казалось, наслаждались компанией друг друга.
После ужина, хотя к тому времени было уже очень поздно, Гурджиев собрал всех в главной гостиной и рассказал нам длинную историю о погребальных обычаях в различных цивилизациях. Он сказал, что, как и хотела мадам Островская, у неё будут надлежащие похороны, утверждённые её церковью, но добавил, что в великих цивилизациях далёкого прошлого – цивилизациях, которые буквально неизвестны современному человеку, – существовали другие обычаи, которые были соответствующими и важными. Он описал один такой похоронный ритуал – обычай всем родственникам и друзьям покойного собираться вместе на три дня после его смерти. В течение этого периода они думали и разговаривали всей компанией обо всех злых и вредных поступках, которые совершил покойный в течение жизни, – одним словом, о его грехах; целью этого было создать противовес, который даст силу душе, чтобы покинуть тело и открыть путь к другому миру.
Во время похорон на следующий день Гурджиев оставался молчаливым и закрытым от всех нас, как будто на самом деле только его тело находилось среди присутствовавших на похоронах. Он вмешался только в одном месте церемонии, когда тело должны были вынести из Дома для занятий и поместить на катафалк. В тот момент, когда носильщики собрались, женщина, которая была очень близка к его жене, бросилась на гроб, буквально истерически завыла и с горем зарыдала. Гурджиев подошёл к ней и отвёл её от гроба, спокойно говоря с ней, после чего похороны продолжились. Мы следовали за гробом к кладбищу пешком, и каждый из нас бросил небольшую горсть земли на гроб, когда он был опущен в открытую яму недалеко от могилы матери Гурджиева. После службы Гурджиев и все оставшиеся почтили молчанием могилы его матери и Кэтрин Мэнсфилд, которая также была там похоронена.
Глава 25
В то время когда мадам Островская болела и Гурджиев проводил для неё ежедневные сеансы, одна особа, которая многие годы была близким другом его жены, серьёзно возражала против того, что делал Гурджиев. Её доводом было то, что Гурджиев бесконечно продлевал страдания своей жены, и это не могло служить какой-нибудь достойной или полезной цели, невзирая на то, что он говорил об этом. Эта женщина была мадам Стьернваль, жена доктора, и её гнев против Гурджиева достиг такой степени, что, хотя она продолжала жить в Приоре, но никогда не появлялась в присутствии Гурджиева и отказывалась разговаривать с ним несколько месяцев. Она доказывала свои соображения относительно него всякому, кому случалось оказаться в пределах слышимости, и однажды даже рассказала мне длинную историю в качестве иллюстрации его вероломства.
По её словам, она и её муж, доктор, были из первоначальной группы, прибывшей с Гурджиевым из России несколько лет назад. Мы слышали о невероятных трудностях, с которыми они сталкивались, избегая различных сил, участвующих в русской революции, и как они, наконец, совершили свой путь в Европу через Константинополь. Одним из доводов, который мадам Стьернваль приводила против Гурджиева как доказательство его ненадёжности и даже его злой натуры, было то, что в то время они смогли бежать в основном благодаря ей. Когда они достигли Константинополя, то были совсем без средств, и мадам Стьернваль сделала возможным продолжение пути в Европу, дав взаймы Гурджиеву пару очень ценных серёг, которые позволили им нанять судно и пересечь Чёрное море. Также мадам Стьернваль заявляла, что она не предлагала серьги добровольно. Гурджиев знал об их существовании и попросил их у неё как последнее средство, пообещав оставить их в Константинополе в хороших руках и как-нибудь вернуть ей – как только сможет собрать необходимые деньги для их выкупа. Прошло несколько лет, а она так и не получила серёг обратно, хотя Гурджиев собрал большое количество денег в Соединенных Штатах. Это было не только доказательством отсутствия у него хороших намерений; помимо этого, она всегда поднимала вопрос о том, что он сделал с деньгами, которые собрал – не купил ли он все эти велосипеды на деньги, которые могли бы быть использованы, чтобы выкупить её драгоценности?
Эта история рассказывалась многим из нас в различное время, и к моменту смерти мадам Островской я полностью забыл её. Через несколько недель после похорон Гурджиев спросил меня однажды, давно ли я видел мадам Стьернваль, и справился о её здоровье. Он выразил сожаление о том, что давно не видел её, и сказал, что это очень осложняет его отношения с доктором, и это нехорошая ситуация. Он прочитал мне длинную лекцию о причудах женщин и сказал, что, в конце концов, решил приложить усилия, чтобы завоевать вновь привязанность и благосклонность мадам Стьернваль. Затем он вручил мне часть плитки шоколада в разорванной обёртке, как будто кто-то уже съел другую половину, и велел мне передать это ей. Я должен был сказать ей, что он чувствует по отношению к ней, насколько он её уважает и ценит её дружбу, и что этот шоколад является выражением его почтения к ней.
Я взглянул на разорванную обёртку и про себя подумал, что это едва ли было хорошим способом снова завоевать её дружбу. Но я научился не выражать таких реакций. Я взял у него шоколад и пошёл повидать мадам Стьернваль.
Вначале я передал ей послание Гурджиева, цитируя его так точно, как только мог – это заняло некоторое время – и затем вручил ей маленький разорванный свёрток. Она слушала меня с явно смешанными эмоциями, и ко времени, когда я вручил ей пакет, она жаждала получить его. Когда мадам Стьернваль увидела, что я ей дал, черты её лица приняли пренебрежительный вид. Она сказала, что Гурджиев никогда ни в чём не был серьёзным, и что он заставил меня цитировать ей это длинное, пространное послание как вступительную шутку, перед тем как передать полусъеденный кусок шоколада, который она в любом случае не любит.
Я сказал, что удивлён, так как, по словам Гурджиева, она любит этот сорт шоколада, как ничто другое в мире. Мадам Стьернваль бросила на меня странный взгляд, когда я сказал это, и затем брезгливо открыла пакет. Гурджиев выбрал хорошего посыльного – я настолько забыл её рассказ о драгоценностях, что так же, как и она, удивился, когда там оказались, конечно же, серьги. Она разразилась слезами, крепко обняла меня, почти впала в истерику. Потом она подкрасила лицо, надела серьги, и затем принялась рассказывать мне всю историю с самого начала, но на этот раз с существенным различием, что это было подтверждением того, каким замечательным человеком был Гурджиев, и что она всегда знала, что он исполнит своё обещание. Я был так же удивлён переключением её чувств, как и тогда, когда увидел серьги.
По инструкции Гурджиева я вернулся к нему и подробно рассказал всю историю. Он очень забавлялся этим, много смеялся, а затем рассказал мне, по крайней мере, частично, его историю. Он сказал, что факты мадам Стьернваль были правильными, но она даже не представляла тех трудностей, которые он преодолел, пытаясь вернуть серьги назад. Он «заложил» их за очень крупную сумму денег верному другу в Константинополе, и когда он, наконец, смог собрать деньги вместе с надлежащим процентом, то узнал, что его друг умер. Попытки обнаружить драгоценности и убедить нового владельца, по-видимому, ростовщика, вернуть их за сумму, намного превышавшую их стоимость, отняли у Гурджиева несколько лет постоянных усилий.
Я не мог удержаться и выпалил свою явную реакцию: «Почему вы сделали это? Стоили ли какие-то драгоценности такую цену, и представляла ли себе мадам Стьернваль, что какой бы ни была их цена, возможно, в то время от них зависели жизни людей вашей группы?»
Тогда он сказал мне, что цена серёг – не важный элемент в этой истории. Одной причиной, по которой Гурджиев выкупил их, было то, что его жена дружила с мадам Стьернваль; эта дружба не могла быть оценена деньгами, и было необходимо сделать это в память о жене. Далее он сказал, что человек обязан исполнять обещание, которое было дано правдиво и серьёзно, так, как он дал конкретно это обещание. «Я сделал это не только для неё, – сказал Гурджиев, – но и ради моей души».
«Вы помните, – спросил он затем, – как я говорил о добром и злом начале человека – подобно правой и левой руке? В некотором смысле, то же верно в отношении мужчины и женщины. Мужчина – это активное, положительное – добро в природе. Женщина – это пассивное, отрицательное – зло. Не зло в вашем американском смысле, подобно «чему-то ошибочному», но очень необходимое зло; зло, которое делает мужчину добрым. Это подобно электрическому свету – один провод пассивный или отрицательный, другой – активный, положительный. Без этих двух элементов нет света. Если бы мадам Стьернваль не держала на меня зла, может быть, я забыл бы то серьёзное обещание, которое дал ей. Поэтому, без её помощи, если бы она позволила мне забыть своё обещание, я не сдержал бы его, не сделал бы добро для своей души. Когда я вернул серьги – я поступил хорошо: хорошо для меня, для памяти моей жены и для мадам Стьернваль, у которой теперь огромные угрызения совести за всё плохое, что она говорила обо мне. Это важный урок для вас».
Глава 26
Отношение ко мне Гурджиева, хотя оно внешне продолжало оставаться прежним, определённым образом изменилось, и это, как я чувствовал, началось с прошедшего Рождества. Я продолжал убирать его комнаты, приносить кофе и исполнять поручения, но непринуждённое нежное чувство, которое существовало между нами – почти подобное семейному – казалось, исчезло; как будто он намеревался создать некоторую дистанцию и сдержанность между нами.
Когда Гурджиев говорил со мной прежде, то каков бы ни был предмет наших разговоров, он часто ссылался на факт, что я ещё ребёнок, и многое из того, что он говорит, я пока не могу понять. Но теперь, хотя он часто продолжал мне это говорить, его тон стал более серьёзным, и он перестал относиться ко мне, как к ребёнку. Я чувствовал, что он начал ожидать от меня, что я сам позабочусь о себе, используя свой собственный разум – Гурджиев, фактически, убедил меня стать взрослым.
Он часто поднимал тему человеческих отношений вообще, специфических ролей мужского и женского пола, а также человеческой судьбы; часто эти рассуждения не были адресованы исключительно мне, а группе, в которой я находился. Он прилагал усилия, чтобы мы поняли, что когда бы он ни обращался к кому-либо из нас по любому поводу в присутствии других, для каждого из присутствовавших могло быть полезным его слушать. Многие из нас чувствовали, что часто, обращаясь к кому-нибудь лично, Гурджиев говорил не столько этому человеку, сколько тому в группе, кто мог ощутить, что этот разговор может быть полезен ему. Мы иногда чувствовали, что он разговаривает с определённым человеком через кого-нибудь ещё, как будто намеренно не обращаясь к человеку прямо.
Гурджиев очень часто возвращался к теме добра и зла, активного и пассивного, положительного и отрицательного. На меня произвело впечатление то, что он сказал о мадам Стьернваль и о себе в этом отношении, когда рассказывал мне о возвращении серёг; это казалось мне продолжением темы, которую он периодически поднимал: двойственная природа человека и необходимость приобрести или создать примиряющую силу. Эта сила, во внешнем проявлении, должна быть создана в человеческих отношениях между индивидами; а во «внутреннем» аспекте она должна быть приобретена или создана внутри человека как часть его собственного развития и роста.
В заявлениях, рассказах, лекциях или обсуждениях Гурджиева (каждый называл их по-своему) немаловажное значение имело громадное влияние, которое он оказывал на слушателей. Его жесты, манера выражать себя, невероятный диапазон тона, динамика его голоса и использование эмоций – всё казалось рассчитанным на то, чтобы очаровать слушателей; может быть, загипнотизировать их до такой степени, чтобы они были не способны спорить с ним в это время. Несомненно, несмотря на множество вопросов, которые могли бы прийти на ум слушателям, когда Гурджиев заканчивал свою речь, прежде чем эти вопросы возникали, всегда создавалось глубокое и длительное впечатление. Мы не только не забывали то, что он говорил нам, но обычно было невозможно забыть то, что он сказал, даже если кто-нибудь и хотел этого.
Вскоре после эпизода с серьгами мадам Стьернваль он однажды снова поднял вопрос о мужчинах и женщинах, об их роли в жизни и, как дополнительный элемент, об особой роли полов в его работе или в какой-нибудь религиозной или психологической работе, которая имела целью саморазвитие и личностный рост. Я был удивлён и озадачен тогда, и позднее удивлялся много раз, когда Гурджиев затрагивал эту тему, повторяя то, что его работа была не только «не для каждого», но что «женщины в ней не нуждаются». Он говорил, что природа женщин такова, что они не могут быть успешны в «саморазвитии», в том смысле, в каком понимают этот термин. Среди всего прочего, Гурджиев сказал: «Природа женщины очень отличается от природы мужчины. Женщина – от земли, и единственная надежда для неё вырасти до другой стадии развития – достичь Небес, как вы говорите – связана с мужчиной. Женщина уже знает всё, но такое знание бесполезно для неё, на самом деле оно может даже отравлять её, если рядом нет мужчины. В мужчине есть то, чего нет у женщины, – то, что вы называете «стремлением». Мужчина использует это стремление для многого, что ненужно в его жизни, но это нужно делать, так как у него есть такая потребность. Мужчина – не женщина – поднимается в горы, погружается в океаны, летает в воздухе, потому что должен это делать. Для него невозможно этого не делать; этому нельзя сопротивляться. Посмотрите на жизнь вокруг вас: мужчина пишет музыку, мужчина рисует картины, пишет книги – и подобное. Есть путь, думает он, – найти Небеса для себя».
Когда кто-нибудь возражал, что науки и искусства не были, в конце концов, ограничены исключительно миром мужчин, Гурджиев смеялся: «Вы задаёте вопрос о женщине-артисте, женщине-учёном. Я говорю вам – мир всё смешал, и я говорю вам истину. Истинный мужчина и истинная женщина – это не только половая принадлежность, не только самец или самка. Даже вы, – он сделал широкий жест, охватывающий всех нас, – иногда понимаете это, потому что иногда вы удивляетесь, когда видите мужчину, который чувствует, как женщина, или женщину, которая действует, как мужчина; или даже когда сами переживаете чувства, присущие противоположному полу».
«Все мы живем в том, что мы называем Вселенной, но это только очень маленькая солнечная система, самая маленькая из многих, многих солнечных систем, – очень даже неважное место. Например, в этой солнечной системе люди двуполы: необходимо, чтобы было два пола для воспроизведения рода – примитивный метод, который использует часть стремления мужчины для создания большего количества людей. Мужчина, который знает, как достичь вершины себя – как прийти к собственным Небесам – может использовать всё это стремление для своего развития, для того, что вы называете бессмертием. В мире, как он теперь существует, нет мужчины, способного сделать это: единственной возможностью для бессмертия является воспроизведение себя. Когда у мужчины есть дети, со смертью тела он умирает не весь».
«Для женщины нет необходимости делать в мире работу мужчины. Если женщина может найти истинного мужчину, тогда она также становится истинной женщиной без необходимости работы. Но, как я говорю, мир перемешан. Сегодня в мире нет истинного мужчины, поэтому женщина даже пытается стать мужчиной, делает работу мужчины, которая вредит её природе».
Глава 27
Вскоре после смерти мадам Островской атмосфера в Приоре заметно изменилась; частично эти изменения были связаны с её смертью (Гурджиев, например, стал жить с женщиной, которая забеременела через несколько месяцев); частично с тем, что я неизбежно взрослел. Вопросы, которые ранее у меня не возникали, теперь разрослись в моём уме: что я делаю в этом месте, какова цель Школы, что за человек, в конце концов, Гурджиев?
Я полагаю, что ранняя юность – это «нормальное» время, когда ребёнок начинает оценивать своё окружение, своих родителей, людей вокруг. Для меня было достаточно легко ответить на свои вопросы относительно того, почему я был здесь: бесцельные случайные последовательности событий, которые привели меня сюда, были ещё свежи в моём уме. Но к этому времени вопрос о том, хочу или не хочу я здесь находиться, стал отдельным вопросом. До того времени я не контролировал ход своей жизни, и мне не приходило на ум, что я могу как-либо влиять на её ход. В тринадцать я ещё не имел права голоса и власти над моей «судьбой» или моим будущим, но у меня появились вопросы по этому поводу.
По мере появления в Приоре людей разных типов – посетителей, полупостоянных жителей – постоянно возникали разговоры о Гурджиеве, о целях и/или ценности его работы. Было очень много «учеников», которые покинули Приоре после более или менее интенсивных эмоциональных обстоятельств: иногда потому, что Гурджиев не хотел, чтобы они там оставались, иногда из-за их собственного отношения и чувств к Гурджиеву как человеку.
В течение двух лет, которые я был в Приоре, я знал, чувствовал и верил, что Гурджиев не может ошибаться, что всё, что он делал, было преднамеренным, необходимым, важным, «правильным». До этого времени мне не требовалось обсуждать его с кем-либо. Но пришло время, когда я начал смотреть на него с точки зрения моих собственных несознательно приобретённых ценностей и начал пытаться оценить этого человека, учеников, Школу. Появилось большое количество вопросов – главным образом, без ответа.
Что было силой этого человека, чьё слово было законом, который знал больше, чем кто-либо ещё, который имел неограниченную власть над своими «учениками»? Но в моём сознании не возникало вопроса о моём личном отношении к Гурджиеву. Я любил его, он заменил мне моих родителей, был несомненным авторитетом для меня, я был предан и привязан к нему. Но, несмотря на это, было ясно, что во многом его влияние на меня и его власть надо мной были вызваны чувствами других – обычно чувствами почтения и уважения – и моим естественным желанием соответствовать им. С другой стороны, мои личные чувства благоговения и уважения были менее значительными, чем мой страх перед ним. Страх этот, бесспорно, становился тем более реальным, чем лучше я узнавал Гурджиева.
Производило глубокое впечатление, было познавательно и даже забавно наблюдать за ним в близком кругу, когда он доводил людей до изнеможения, как он сделал это в случае с Орейджем в моём присутствии. Но разве не имело значения, что Орейдж вскоре после этого уехал из Приоре и не вернулся? Мне сказали, что он преподавал «работу» Гурджиева в Нью-Йорке до того времени, и, может быть, то, что сделал Гурджиев с Орейджем, было необходимым; но кто, в конце концов, может определить это?
Гурджиев не старался помочь. Одной из незабываемых вещей, которую он говорил и повторял много раз, было то, что «доброе» и «злое» начало в человеке растут вместе, равномерно; и возможность человека стать либо «ангелом», либо «дьяволом» в любой момент времени одна и та же. Хотя он часто говорил о необходимости создать или приобрести «примиряющую силу» внутри себя, для того, чтобы заключить сделку между «позитивной» и «негативной» или «доброй» и «злой» сторонами своей природы, он также заявлял, что борьба, или «война» бесконечна; чем больше ты учишься, тем более трудной неизбежно становится жизнь. Перспектива казалась одной – «чем больше вы учитесь, тем труднее вам становится». Когда Гурджиев изредка сталкивался с протестами против этого несколько мрачного будущего, он неизменно отвечал более или менее неопровержимым утверждением, что мы – индивидуально или как группа – не способны ясно мыслить, не являемся достаточно взрослыми, чтобы судить, является или нет такое будущее соответствующим и реальным для человека; тогда как он знает, что говорит. У меня не было аргументов, которыми я мог бы защищаться от обвинений в своей некомпетентности; но я не был безусловно уверен в том, что компетентен он. Его сила, магнетизм, власть, умения и даже мудрость были неоспоримы. Но создает ли автоматически сочетание этих свойств или качеств качество компетентного суждения?
Что-то доказывать или бороться с людьми твёрдо убеждёнными – было бы потерей времени. Люди, которые интересовались Гурджиевым, всегда относились к одной из двух категорий: они были либо с ним, либо против него. Они либо оставались в Приоре (или продолжали посещать его «группы» в Париже, Лондоне, Нью-Йорке или где-то ещё), потому что были, по крайней мере, здраво убеждены, что у Гурджиева есть какой-то ответ; либо они покидали его и его «работу», потому что были убеждены, что он шарлатан, или дьявол, или проще – что он неправ.
Гурджиев был невероятно убедительным, расточая доброжелательность на своих слушателей. Его внешность и физический магнетизм были располагающими к себе и обычно непреодолимы. Его логику – в практических областях – невозможно было опровергнуть и никогда нельзя было приукрасить или исказить эмоцией; в исключительно обыденных жизненных проблемах он, бесспорно, играл честно. Гурджиев был внимательным и чутким судьёй в решении всех вопросов и споров, которые возникали в процессе работы такого учреждения, как Приоре; было бы нелепо и нелогично спорить с ним или называть его нечестным.
Однако, мысленно возвращаясь в том возрасте к таким событиям, как моя ситуация с мисс Мэдисон, я задавался вопросом о том, что Гурджиев сделал с ней? Каково было воздействие на неё, когда он награждал всех тех, кто не повиновался её приказам? Почему он наделил её полномочиями власти? Конечно, мисс Мэдисон физически присутствовала, как ответ на эти вопросы. Она, казалось, стала более чем просто последователь, более чем преданный ученик, и, очевидно, не спрашивала, что он с ней сделал. Но было ли это, в конце концов, ответом? Не являлось ли это просто доказательством того, что мисс Мэдисон была подавлена его магнетизмом, его силой?
Тогда я чувствовал – и у меня не было причины изменить это чувство или мнение почти сорок лет – что Гурджиев, возможно, искал какого-нибудь человека или какую-нибудь силу, которые хотели и могли бы противостоять ему на самом деле. В Приоре, конечно, не было таких оппонентов. Даже в том возрасте у меня возникло определённое презрение к униженной преданности его последователей или «учеников». Они говорили о нём пониженным тоном; когда они не понимали определённых утверждений, которые он говорил, или что-нибудь, что он делал, то винили себя, – на мой взгляд, слишком охотно, – за отсутствие проницательности; короче говоря, они поклонялись ему. Атмосфера, которая создавалась группой людей, которые «поклонялись» некой личности или философии, казалось тогда – и ещё кажется теперь – тем самым несла в себе зародыш собственного разрушения; это, конечно, давало повод их осмеивать. То, что приводило меня в недоумение, были насмешки самого Гурджиева над его наиболее убеждёнными и преданными последователями (свидетельство этому – случай с дамами и «знаменитым старым вином»). В моей наивной детской манере я полагал, что он любил делать всё ради «шутки» – над кем угодно – просто чтобы посмотреть, что из этого получится.
По моему мнению, Гурджиев не только играл в игры со своими учениками, но эти игры всегда «складывались» в его пользу. Он открыто играл против людей, которых он в лицо называл «овцами», людей, которые, вдобавок, принимали это определение без протеста. Среди благоговейных учеников было несколько таких, кто устраивал с ним устный обмен колкостями, но, в конце концов, они казались теми, кто был наиболее «одержим» или «предан»; смелость шутить с ним стала доказательством некоторой близости с ним – привилегией, которая была им дана из-за полного согласия с его идеями, а не в смысле оказания сопротивления. Сопротивлявшиеся не оставались в Приоре, чтобы обмениваться добродушным подшучиванием, и им не разрешалось оставаться, чтобы бросить вызов или противиться Гурджиеву – «философское диктаторство» не терпело сопротивления.
То, что начало мучить меня в тринадцать лет, было серьёзным и опасным, по крайней мере, для меня. Что мне было делать с этим? Я допускал, что, может быть, он сделал меня таким же дураком, как и других; я не знал, сделал он это или нет, но если сделал, я хотел знать, почему. Я не мог отрицать, что мне было забавно, как ребёнку, видеть как Гурджиев «выставлял» взрослых, шутил над ними, но служило ли это какой-нибудь конструктивной цели?
Даже в том возрасте я как-то сознавал, что зло, предположительно, могло производить добро. Когда Гурджиев говорил об «объективной» и «субъективной» морали, в какой-то степени я это понимал. В простейшем смысле это, казалось, значило, что субъективной моралью управлял обычай, тогда как то, что Гурджиев называл «объективной моралью», было вопросом природного инстинкта и личной совести. При обсуждении морали он рекомендовал жить в согласии с моралью и обычаями того общества, в котором живёте, – он очень любил фразу: «когда вы в Риме – живите как римляне» – но подчёркивал необходимость индивидуальной, объективной, личной «морали», основанной на совести более, чем на традиции, обычае или законе. Женитьба была хорошим примером субъективного морального обычая; объективно ни природа, ни индивидуальная мораль не требуют такого таинства.
Я был не особенно смущён, когда узнал, что название первой книги Гурджиева было «Рассказы Вельзевула своему внуку» или «Беспристрастная, объективная критика человека». Идея, что дьявол – или Вельзевул – был критиком, не путала меня. Когда Гурджиев заявил, что Христос, Будда, Магомет и другие такие же пророки были «посланниками богов», которые, в конце концов, потерпели неудачу, я мог принять теорию, что это, возможно, было время дать дьяволу его шанс. У меня, как у юноши, было не настолько хорошее мнение о мире, чтобы мне было сложно согласиться с приговором Гурджиева, что всё было «перемешано» или «перевёрнуто» или, в моем собственном понимании этих терминов, в полном беспорядке. Но если упомянутые пророки по определённой причине «потерпели неудачу», была ли тогда какая-либо уверенность, что Гурджиев (или Вельзевул) будет успешен?
Потерпеть неудачу или быть успешным – в чём? Я мог принять теорию, что с человечеством происходит что-то «неправильное», но я противился утверждению, что человек может точно знать, что именно «неправильно». Также, принятие ещё не является убеждением и, перед тем как серьёзно обсуждать лечение, мне казалось логичным сначала убедиться, что болезнь существует. Намеревался ли я тогда составить мнение о «состоянии человека» – установить диагноз? Я был не способен это сделать, но не был против самих попыток в этом направлении. Единственный ответ, который я смог найти, конечно же, вовсе не был ответом.
Все эти размышления неизбежно вели назад, к Гурджиеву-человеку. Когда он предписывал упражнение «самонаблюдение», с признанной целью «самопознания», я не спорил с ним, за Гурджиевым стоял авторитет всех организованных религий, по его собственным словам. Возможно, различие заключалось в особом методе, но я не мог судить о достоинствах его методов. Цель, однако, была не новой.
Если принять исходное условие, что человек подчинён природе – а я не мог отрицать этого – тогда я сразу же был вынужден рассматривать возможность того, что Гурджиев, будучи человеком, не обязательно знает все ответы – если полагать, что они вообще существуют. Его философия, как я понимал её в том возрасте, несомненно, была привлекательной. Было ли нечто большее, чем она? Все «мистические» идеи привлекательны для любопытных по одной простой причине – они мистические или, иными словами, таинственные.
Такие вопросы вызывают беспокойство; они могут угрожать самоуверенности, и «смыслу» человеческого существования вообще. Мои сомнения и вопросы были подобны скоплению замкнутых кругов – основная причина самой жизни, человеческого существования, казалось, так или иначе сводилась к тому, мог ли я принять или принимал ли я Гурджиева, как человека, который знал ключ. Сама жизнь в его присутствии сделала невозможным для меня отступление (если есть необходимость в этом слове) в какую-нибудь «веру» любой другой религии или теории жизни. Меня привлекало его отрицание организованной деятельности – религиозной, философской или даже практической; меня также привлекала его явная поддержка индивидуальной истины или действий. Но что ужасало, так это неотвратимая идея о бесполезности человеческой жизни – и индивидуальной, и коллективной. Рассказ о желудях на дубе произвёл впечатление на меня, как на ребёнка. Идея о человеческой жизни, как просто о другой форме организма, – который мог или не мог развиться – была новой для меня. Но была ли работа Гурджиева действительно правильным методом, чтобы вырасти в «дуб»? Не с дьяволом ли я, наконец, имел дело? Кто бы он ни был, я любил его; я был, конечно же, без ума от него. Даже при этих условиях остаётся важным, что моя единственная серьёзная попытка к самоубийству случилась именно в тот год. Я мучился вопросами, которые не прекращались – мучился до такой степени, что я уже не мог продолжать задавать их себе, безжалостно, не находя никакого ответа. Очевидно, единственным человеком, который мог дать ответ, был сам Гурджиев, но так как он мог с такой же вероятностью оказаться злодеем, я не мог спросить его прямо. То, что я решил сделать, это выпить маленькую бутылку древесного спирта. Судя по внешнему виду, это было не очень решительное усилие, но я намеревался серьёзно – на бутылке было написано «Яд», и я верил этому. Результат покушения был не особенно драматическим – разболелся живот, и не пришлось даже принимать рвотное.
Покушение было сделано ночью, и когда я увидел Гурджиева на следующее утро, когда приносил ему его обычный кофе, он бросил на меня быстрый взгляд и спросил, что не так Я рассказал ему о том, что сделал, а также, несколько стыдливо, о моей немедленной физической реакции – болезни. В тот момент меня больше не заботило, был ли Гурджиев дьяволом или нет. Его единственным замечанием было, что для того, чтобы покончить жизнь самоубийством удачно, должно быть сделано усилие всем сердцем. Он не спросил меня, почему я сделал это, и я помню любопытное ощущение, что когда мы стояли лицом друг к другу в то утро, мы были совершенно, беспристрастно честны друг с другом.
Глава 28
Мои вопросы и сомнения о Приоре и Гурджиеве, завладевшие мной на короткое время, быстро утихли. Я больше не интересовался ими, а соскользнул назад в ежедневный рабочий порядок, как будто с моих плеч была сброшена большая тяжесть.
Единственным очевидным изменением в обычной жизни в Приоре после смерти мадам Островской было то, что Гурджиев стал часто совершать поездки на несколько дней или даже до двух недель; и когда он был в резиденции, там по выходным было намного больше гостей. Когда он отправлялся в поездку, то часто брал с собой пять или шесть человек, и почти каждый ожидал, что его выберут, чтобы сопровождать Гурджиева. Это был своего рода гонорар – совершить поездку в Виши, Эвиан или на какой-нибудь популярный курорт, которые Гурджиев любил посещать. Гурджиев объяснял эти поездки тем, что ему требовались путешествия и наблюдения большего количества людей для того, чтобы писать, что он делал теперь обычно в кафе и ресторанах, часто сидя посреди групп людей. Многие из тех, кто ездил с ним, принимали активное участие в переводе его писаний на различные языки; вдобавок, он любил путешествовать со свитой.
Я редко видел Гурджиева в это время, главным образом из-за его частого отсутствия, но даже когда он был в Приоре, я не так часто беседовал с ним, как раньше. В целом, я был этому рад. Хотя мои вопросы утихли в том смысле, что они больше не были основными проблемами, занимающими мой ум, мой страх перед Гурджиевым и общее подозрительное отношение к мотивам его действий, в конце концов, частично заменили личную и до того момента полную преданность.
Однажды, когда ожидали его возвращения из одного такого путешествия, я работал на кухне, помогая готовить один из обычных, тщательно разработанных ужинов, которые всегда бывали в дни его возвращения. Когда я отодвигал большой котёл, наполненный кипящей водой, чтобы подбросить угля, я как-то пролил кипяток на себя, главным образом пострадала моя правая рука. Я бросил котёл, завыл от боли, и мадам Стьернваль, кухарка дня, закричала, зовя на помощь, и послала кого-то за доктором. Вместо доктора совершенно неожиданно на кухне появился Гурджиев, появился намного раньше, чем мы ожидали. Без слов и, казалось, даже не слыша почти истеричного объяснения мадам Стьернваль о случившемся, он шагнул ко мне, подтащил меня к плите, снял железные круги и открыл красный огонь. Затем он схватил мою обожжённую руку и с силой удерживал её над открытым огнем, вероятно, не дольше нескольких секунд, хотя они показались мне вечностью. Отпустив мою руку, он сказал очень серьёзно и спокойно, что огонь был верным способом, чтобы побороть огонь. «В результате, – сказал он, – у вас не будет шрама на руке. Ожог уже прошёл».
Меня удивило и глубоко впечатлило не столько болезненное лечение, сколько совершенно неожиданное появление Гурджиева как раз в нужный момент. Неизбежно, это был один из тех судьбоносных случаев, которые я не мог просто отнести к совпадению. Мадам Стьернваль сказала после ухода Гурджиева, что у неё была подобная ситуация с ним несколько лет назад, и подтвердила, что это было правильным лечением ожога, но у неё никогда не хватило бы силы и смелости сделать это самой. Мы оба оставались в благоговейном страхе остаток дня, и мадам Стьернваль, конечно, поддерживала моё искушение чувствовать, что его появление в это время было некоторого рода сверхъестественным. Мы говорили об этом ещё несколько дней, главным образом потому, что, как Гурджиев и предсказал, не было не только шрамов, но не было боли, и следов ожога вообще не было заметно.
Обращение со мной Гурджиева с тех пор приняло другую форму, и, несмотря на отсутствие личного, индивидуального контакта с ним, мне казалось, что он часто выделял меня по непонятным причинам.
Несколько недель спустя после «лечения ожога» мы снова готовили большой ужин, так как вечером должно было быть очень много гостей. Основным гостем был жандарм, который обнаружил Гурджиева после его автомобильной катастрофы несколько лет назад. Когда он прибыл, его устроили в одной из роскошных комнат для гостей на одном этаже с комнатой Гурджиева, а затем представили всем нам. Гурджиев расхваливал его нам, и говорил, насколько он, и все мы, обязаны этому человеку. Если бы не он, Гурджиев мог бы просто умереть и так далее. Жандарм, в свою очередь, рассказал свою версию истории; Гурджиев как человек произвёл на него сильное впечатление вследствие двух специфических вещей, которые тогда произошли. Первой было то, как он обнаружил Гурджиева. Он ехал вечером домой, сменившись с дежурства, когда натолкнулся на разбитый автомобиль, и, конечно же, остановился расследовать происшествие. Удивительным было то, что, будучи серьёзно раненым, Гурджиев как-то сумел, очевидно в состоянии шока, вылезти из машины, взяв подушку и одеяло из машины, и лечь в стороне от дороги – с подушкой под головой и хорошо укрывшись одеялом. Рассмотрев его повреждения, жандарм не мог – до этого дня – поверить, что Гурджиев сделал всё это без посторонней помощи.
Второе, что удивило жандарма, было то, что, хотя прошло почти два года после того случая, Гурджиев смог разыскать его, и убедить приехать в Приоре на выходные в качестве гостя. Очевидно, была какая-то причина для удивления в этой связи, хотя я никогда полностью не понимал её: в документах не было упомянуто имя жандарма или что-нибудь подобное. Как бы там ни было, требовались большие усилия и настойчивость в этом деле, и жандарм был почти неспособен принять тот факт, что кто-нибудь мог так постараться, только чтобы отблагодарить его за обычное исполнение обязанностей.
Жандарма усадили на почётное место, и когда приступили к еде, Гурджиев налил каждому обычные стаканы арманьяка, включая жандарма (это был обычай, ставший одним из его правил – произносить много тостов за едой, и Гурджиев всегда наполнял стаканы сам). Но тот отказался. Его уважение и признательность к Гурджиеву были безграничны, как он сказал, но он не может выпить столь крепкий напиток – самым крепким, что он когда-либо пил, был случайный стакан вина.
Гурджиев всегда был настойчив, когда люди отказывались пить с ним крепкие напитки, но в этом случае он был особенно непреклонен. Он доказывал, убеждал, даже просил жандарма выпить с ним, а жандарм категорически и как можно любезнее, отказывался. В конце концов, Гурджиев сказал, что ужин не может продолжаться без участия жандарма в этих тостах, и, как будто пробуя другую модель поведения с ним, сказал, что любой человек, который ценит его хлеб-соль, не только может пить его тосты, но и должен их пить. Отметая все протесты, он может показать, что напиток не оказывает никакого плохого действия. «Это необычное место, – сказал Гурджиев, подразумевая Приоре, – здесь так доброжелательны, что каждый может пить без всяких последствий. Даже дети могут пить здесь». Чтобы доказать это, он подозвал меня к себе – я прислуживал за столом в тот вечер.
Когда я встал рядом с ним, он налил полный стакан арманьяка и велел мне, по-русски, выпить его залпом. Я сделал это, хотя никогда прежде не пил такого крепкого напитка. Когда я проглотил его, слёзы потекли у меня из глаз и всё горло загорелось, но я сумел добраться до кухни, где испуганная кухарка приказала мне быстро съесть хлеба, чтобы облегчить жжение. Кухарка была невесткой Гурджиева и очень часто критиковала его. Она жёстко сказала, что только сумасшедший мог заставить ребёнка выпить «эту дрянь», а затем отправила меня обратно исполнять мои обязанности прислуги. Арманьяк подействовал на меня так быстро, что, когда я продолжал подносить различные блюда собравшимся гостям, я делал это, шатаясь, совершенно беспечно толкая к ним тарелки и чувствуя головокружение. Я никогда ранее не переживал такое беззаботное благополучие. Особенно комично было то, что Гурджиев, каждый раз, когда я подходил к нему близко, обращал внимание присутствующих на меня и на мою полную трезвость. Помню, у меня было незнакомое чувство отстранённости, как будто я действительно переступил через ограничения собственного тела и мог наблюдать себя как бы на расстоянии, весело шатаясь вокруг стола с тяжелыми тарелками в руках. Я был особенно удовлетворён, когда жандарм, очевидно благодаря мне, принял участие и выпил несколько тостов с Гурджиевым и другими гостями. Я чувствовал, что всё это произошло благодаря мне, и поздравлял себя с большим, но не очень понятно каким именно достижением.
Несмотря на всё это и на моё приподнятое настроение, ужин казался бесконечным, и я почувствовал большое облегчение, когда смог поздно ночью дотащиться до кровати. Мне показалось, что я спал только несколько минут, когда услышал настойчивый звонок своего зуммера. Я удивился, увидев, что было уже светло, заставил себя одеться и откликнуться на вызов кофе. Гурджиев рассмеялся, когда я появился в его комнате, и спросил о моём самочувствии. Я сказал, что, наверное, я всё ещё пьян, и описал ему, что я чувствовал прошлым вечером. Он глубокомысленно кивнул головой и сказал, что арманьяк создал во мне очень интересное состояние, и что, если бы я мог достичь подобного вида самосознания трезвым, это было бы очень важным достижением. Затем Гурджиев поблагодарил меня за моё участие в его эксперименте с жандармом и добавил, что он специально выбрал меня, так как в моём возрасте очень важно научиться пить, и узнать, каким может быть воздействие алкоголя. «В будущем, когда будете пить, – сказал он, – пытайтесь увидеть себя тем же самым способом, как в этот вечер. Для вас это может оказаться очень хорошим упражнением, а также поможет не пьянеть».
Глава 29
Позже тем летом мы с Томом были выбраны членами группы из пяти или шести человек, которые должны были сопровождать Гурджиева в его следующей поездке. Мы были в числе первых детей, удостоившихся этой чести, и я с энтузиазмом предвкушал наш отъезд.
Ещё до отправления Гурджиев сообщил нам, что местом назначения является Виши, где он намеревался пробыть несколько дней и писать. Довольно быстро, за час или два, я понял, что путешествие с Гурджиевым было необычным переживанием. Насколько мне было известно, нам не надо было никуда спешить, но, несмотря на это, Гурджиев гнал машину, как ненормальный. Несколько часов мы мчались по дороге на предельной скорости, затем он внезапно остановил машину, чтобы провести два или три часа в кафе в маленьком городке, где он непрерывно писал; или мы могли остановиться где-нибудь в деревне, на краю дороги, и, выгрузив большую корзину пищи и питья, одеяла и подушки, предаваться неторопливому пикнику, после которого всем хотелось вздремнуть.
Хотя у нас не случилось какой-либо механической поломки, ненужных переживаний в дороге было необычайно много. Кто-то – это мог быть я или кто-нибудь другой из группы – был назначен сидеть с открытой картой рядом с Гурджиевым и подсказывать ему маршрут. Гурджиев стартовал после того, как «штурман» говорил, какую дорогу он выбирает, и затем быстро набирал предельную скорость. Работа над картой заключалась в том, чтобы наблюдать дорожные знаки и говорить, когда свернуть, или указывать направление. Гурджиев неизменно умудрялся увеличить скорость перед каким-нибудь перекрёстком, и почти всегда не удавалось повернуть правильно. Так как он отказывался возвращаться, необходимо было направлять его по той дороге, на которой мы случайно оказались, удерживая направление к месту нашего назначения. Многочисленные долгие обвинения были обычным явлением, начинавшимся с проклятий в адрес того, кому случилось быть «штурманом» в это время, и, в конце концов, в это вовлекались все присутствующие. Казалось, в этом был смысл, так как такая ситуация случалась регулярно, независимо от того, кто сидел рядом с Гурджиевым в качестве проводника, и я мог приписать это только его желанию удержать каждого в бдительном и алертном состоянии.
Хотя мы везли с собой два запасных колеса и шины – по одному на каждой подножке – этого оказывалось недостаточно. Даже в те времена менять колёса с проколотой шиной было не очень сложной операцией. С Гурджиевым, однако, эта работа принимала масштабы серьёзной технической проблемы. Когда шина спускала, а это случалось часто, все выходили из машины, и каждому члену группы назначалась определённая работа – один отвечал за домкрат, другой за снятие запасной шины, третий за снятие заменявшегося колеса. За всеми этими работами Гурджиев наблюдал лично, обычно совещаясь с теми, кто ничего не делал в данный момент. Время от времени вся работа останавливалась, и мы долго совещались о том, под каким утлом лучше поддерживать машину домкратом, чтобы снять шину, каким способом лучше удалить подвеску с колеса и тому подобное. Так как Гурджиев никогда не имел обыкновения ремонтировать шины на заправочной станции, то в один прекрасный момент оказались использованы обе запаски, и возникла проблема не просто сменить колесо, а действительно достать шину, отремонтировать её и надеть снова. Конкретно в этой поездке было вполне достаточно мужчин, чтобы сделать это самим, но из-за постоянных доводов, совещаний и взаимных обвинений в том, почему шины проколоты, этот процесс отнимал часы, и большую часть этого времени вокруг машины, совещаясь и инструктируя, стояла целая группа, включавшая женщин, одетых соответственно, в длинных платьях. Эти группы производили на проезжающих автомобилистов впечатление большого несчастья, застигшего нас врасплох, и они часто останавливались, чтобы помочь, так что иногда к нам присоединялась другая большая группа, которая также давала советы, консультации, а иногда даже оказывала физическую помощь.
Кроме ремонта шин и того, что мы почти всегда оказывались на неправильной дороге, совершенно не было способа убедить Гурджиева остановиться для заправки. Сколько бы ни показывал указатель топлива, Гурджиев утверждал, что горючего достаточно, пока не наступал неизбежный момент, когда мотор начинал чихать и шипеть, и машина останавливалась, хотя он громко её проклинал. Так как он редко ездил по нужной стороне дороги, то в таких случаях всем нужно было вылезать из машины и толкать её на другую сторону, в то время как кто-нибудь отправлялся пешком или на попутных машинах к ближайшей заправочной станции для того, чтобы привести механика. Гурджиев настойчиво требовал механика, потому что был уверен, что в машине что-то неисправно; он не признавал, что просто закончился бензин. Эти задержки раздражали всех, кроме Гурджиева, который, в то время как кто-то уходил искать помощь, удобно устраивался в стороне от дороги или оставался в машине, в зависимости от настроения, и неистово писал в своей записной книжке, бормоча про себя и покусывая конец одного из своих многочисленных карандашей.
Гурджиев, казалось, притягивал препятствия. Даже если у нас было достаточно горючего, и мы ехали по правильной дороге, мы ухитрялись въехать в стадо коров, овец или коз. Гурджиев сопровождал таких животных вдоль дороги, иногда подталкивая их буфером машины, и, всегда высовываясь из окна, посылал им проклятия. Мы въехали в стадо скота в то время, когда подошла моя очередь быть «штурманом», и в этот раз, к моему удивлению и великому удовольствию, когда Гурджиев проклинал и толкал одну из медлительных коров, та мёртво встала перед машиной, пристально и злобно посмотрела на него, подняла хвост и обдала капот машины потоком жидкого навоза. Гурджиев, казалось, предвидел это, так как он выглядел особенно весёлым; мы немедленно остановились на отдых в стороне от дороги, и теперь он мог написать больше, пока остальные чистили автомобиль.
Другой привычкой Гурджиева, которая усложняла это путешествие, было то, что мы часто останавливались в течение дня для еды, отдыха, писания и тому подобного, но он никогда не останавливался вечером до тех пор, пока большинство гостиниц или отелей не закрывались, и в это время он решал, что ему пора есть и спать. Это всегда подразумевало, что один из группы – мы все ненавидели эту обязанность – должен был выйти из машины и стучаться в дверь какой-нибудь гостиницы до тех пор, пока не поднимется владелец, а часто – и весь городок. Когда был разбужен владелец гостиницы или отеля, Гурджиев, выйдя из машины, начинал выкрикивать – обычно по-русски – указания о числе комнат и количестве еды, которое ему необходимо, и любые другие указания, которые могли прийти ему на ум, по-видимому, с единственной целью создать ещё больший конфуз. Затем, пока его спутники разгружали горы багажа, он на отвратительном французском обычно вступал в долгие, усложнённые извинения с теми, кто был разбужен, сожалея о том, что необходимо было разбудить их, о неумелости его компаньонов и так далее. Результатом было то, что хозяйка – почти во всех случаях это была женщина – бывала совершенно очарована им, и смотрела на остальных с отвращением, пока накрывала превосходный стол. Еда, конечно же, продолжалась бесконечно, с долгими тостами за каждого присутствовавшего, особенно за хозяйку гостиницы, плюс дополнительные тосты за качество пищи, великолепное размещение или что-нибудь ещё, что поражало воображение Гурджиева.
Хотя я думал, что эта поездка никогда не закончится, мы всё же достигли Виши через несколько дней, путешествуя столь необычным образом. Мы прибыли, конечно же, поздней ночью и снова должны были разбудить большое количество персонала в одном из курортных отелей, сообщивших нам сначала, что комнат у них нет. Гурджиев, однако, вмешался в это мероприятие и убедил владельца, что его визит чрезвычайно важен. Одной из причин, которую он привёл, было то, что он является директором элитной школы для богатых американцев. Гурджиев предоставил Тома и меня, очень сонных, в качестве доказательства. С совершенно честным лицом, я был представлен как мистер Форд, сын знаменитого Генри Форда, а Том – как мистер Рокфеллер, сын не менее знаменитого Джона Д. Рокфеллера. Когда я взглянул на управляющего, то не почувствовал, что тот полностью поверил на слово, но он сумел (он, очевидно, тоже слишком устал) улыбнуться и посмотреть на нас с почтением. Нерешённой проблемой оставалось то, что, несмотря на возможную важность Гурджиева, в отеле было не достаточно комнат для всех нас. Гурджиев серьёзно обдумал это сообщение и придумал некоторый способ, чтобы мы все могли разместиться в тех комнатах, которые были в распоряжении без какого-либо непристойного смешения полов. Мистер Форд, то есть я, должен был спать в его ванной комнате в самой ванне. Только я, измученный, влез в ванну с одеялом, как сразу же появился кто-то с койкой в руках, которая была втиснута в узкое пространство ванной комнаты. Я перелез в койку, после чего Гурджиев, сильно развеселившись всеми этими сложностями, стал принимать очень горячую и нескончаемо долгую ванну.
Остановка в Виши была очень спокойной по сравнению со всей поездкой. Мы видели Гурджиева только за едой, и нашей единственной обязанностью во время пребывания там было пить некоторые особые воды, которые были, по его мнению, очень полезными. Указания по поводу этого питья воды нам дали в переполненной столовой, к большому нашему смущению и к великому удовольствию других гостей отеля. Вода, которую мне следовало пить, была из источника, называемого «Для женщин», и её свойства считались чрезвычайно полезными для женщин, особенно, если они желали забеременеть. К счастью для меня, – в то время я был в очень хорошем настроении и наслаждался общим спектаклем, который Гурджиев разыгрывал в отеле, – я подумал, что это была чрезвычайно забавная идея – пить воду, которая могла вызвать беременность, и наслаждался, потчуя Гурджиева за едой подсчетом количества стаканов, которые я сумел выпить с тех пор, как видел его ранее. Он был очень доволен этим и уверенно похлопывал меня по животу, а затем говорил, как он мной гордится. Гурджиев продолжал громким голосом называть нас с Томом мистерами Рокфеллером и Фордом, и рассказывал метрдотелю, официантам или даже гостям за соседними столами о своей школе и замечательных учениках, указывая на его юных американских миллионеров и делая поучительные замечания о «бесспорных свойствах» вод Виши, которые на самом деле были известны только ему.
В общей суматохе во время нашего пребывания в Виши Гурджиев встретил семью из трёх русских: мужа с женой и их дочерью, которой, скорее всего, было за двадцать. Он убедил персонал отеля подготовить столовую для того, чтобы эта русская семья могла ужинать с нами, и мы стали ещё большим центром внимания отеля из-за огромного количества арманьяка, потребляемого за каждой трапезой, обычно дополнявшейся тостами за всех гостей лично, так же как и за каждого за нашим столом. Теперь мне кажется, что всё моё время уходило только на то, чтобы есть огромные, нескончаемые трапезы (от меня, однако, не требовали пить тосты), выходить из-за стола, мчаться к источнику «Для женщин» и потреблять там большое количество воды, а затем бежать назад в отель к следующей еде.
Русская семья была очень увлечена и поражена Гурджиевым. Примерно через день он полностью исправил их расписание потребления вод, настояв на том, что их режим был совершенно неверным. В результате «исправления» их дочь начала регулярно пить воду, естественно, известную как «Для мужчин». Она не нашла, однако, это особенно странным или забавным и очень серьёзно прислушивалась к долгим научным рассуждениям Гурджиева о свойствах этой особой воды и о том, почему ей следует её пить. Когда я спросил его об этом однажды ночью в то время, как он принимал ванну по соседству с моей койкой в ванной комнате, он сказал, что эта девушка очень подходит для экспериментов в гипнозе, и он докажет мне это когда-нибудь в недалёком будущем.
Пробыв в Виши не более недели и добравшись до Приоре поздно ночью после мучительной обратной дороги, мы все были изнурены. Единственное, что Гурджиев сказал мне после возвращения – это то, что у нас было прекрасное путешествие, и что это был лучший способ «изменить взгляды».
Глава 30
Всех в Приоре несколько удивило, что русская семья, которую Гурджиев встретил в Виши, приняла его приглашение посетить школу. Поприветствовав их лично, он велел всем занимать их после обеда, а затем заперся в комнате со своей фисгармонией.
В этот же вечер, после другого «банкета», гостям было сказано, чтобы они пришли в главную гостиную к определённому часу, и те удалились в свои комнаты. Тем временем Гурджиев собрал всех оставшихся и сказал, что хочет заранее объяснить эксперимент, который он собирается провести на дочери русских. Он напомнил нам, что ранее уже говорил, что она «особенно подвластна гипнозу», и добавил, что помимо этого она является одним из немногих людей, встреченных им когда-либо, которые восприимчивы к особому виду гипноза. Гурджиев описал более или менее популярную форму гипноза, которая обычно состояла в требовании к субъекту концентрироваться на предмете перед вхождением в гипнотическое состояние.
Затем он сказал, что существует метод гипноза, который вообще не известен в западном мире и практикуется на Востоке. Его невозможно было практиковать в западном мире по очень важной причине. Это был гипноз с использованием определённой комбинации музыкальных тонов или аккордов, и почти невозможно найти тему, которую можно было бы воспроизвести в западной или «полутональной» шкале, к примеру, на обычном пианино. Особенностью восприятия русской девушки, прибывшей с родителями в Приоре, является то, что она действительно чувствительна к комбинациям полутонов, и это отличает её от других. Если бы у него был инструмент, который мог бы произвести слышимые дифференциации, скажем, шестнадцати тонов, он способен был бы загипнотизировать любого из нас таким музыкальным способом.
Затем Гурджиев наиграл месье де Гартману на пианино композицию, которую он написал только сегодня после обеда специально для этого случая. Музыкальная пьеса приходила к кульминации на особом аккорде, и Гурджиев сказал, что, когда этот аккорд будет сыгран в присутствии русской девушки, она немедленно войдет в глубокий транс, совершенно непроизвольно и неожиданно для неё.
Гурджиев всегда садился на большую красную кушетку в одном конце главной гостиной лицом ко входу, и, когда он увидел, что подходит русская семья, он дал указание месье де Гартману начать играть, а затем жестом попросил гостей войти и присесть, пока играла музыка. Дочери он указал на стул в центре комнаты. Девушка села к нему лицом на виду у всех присутствующих, внимательно прислушиваясь к музыке, будто очень взволнованная ею. Будучи до того довольно уверенной, в тот момент, когда прозвучал особый аккорд, она, казалось, совершенно обмякла, и её голова упала на спинку стула.
Как только месье Гартман закончил играть, встревоженные родители бросились в сторону дочери, но Гурджиев остановил их, объяснив, что он сделал, а также факт её необычной впечатлительности. Родители успокоились довольно скоро, но приведение девушки в сознание заняло больше часа, после чего она ещё часа два находилась в эмоционально неуравновешенном, совершенно истерическом состоянии, во время которого кто-то – назначенный Гурджиевым – должен был гулять с ней по террасе. После этого Гурджиев провёл большую часть ночи с ней и её родителями, убеждая их остаться в Приоре ещё на несколько дней и доказывая, что он не нанёс девушке какого-либо непоправимого вреда.
Он, по-видимому, добился успеха, потому что они согласились остаться, и дочь даже обещала ему подвергнуться тому же эксперименту ещё два или три раза. Результаты были всегда такими же, хотя период истерики после возвращения в сознание длился не так долго.
В результате этих экспериментов, конечно же, пошли разговоры. Слишком много людей почувствовали, что здесь было притворство со стороны девушки, и утверждали, что не было доказательств, что она не работала с Гурджиевым заодно. Даже если это и так, то и без каких-либо медицинских знаний было очевидно, что она была загипнотизирована, с её согласия или без оного. Её транс был всегда полным, и невозможно было подделать проявления беспричинной и совершенно неконтролируемой истерики.
Эксперименты имели и другую цель. Они могли продемонстрировать существование некоторой неизвестной нам «науки», но они также демонстрировали некоторым из нас ещё один метод, которым Гурджиев часто «играл» с людьми. Эти эксперименты, конечно же, возбудили новый ряд вопросов о работе Гурджиева, о его целях и намерениях. Факт, что эксперименты, казалось, доказывали существования у него некоторого количества необычной силы и знаний, не был, в конечном счёте, необходим большинству из нас. Те, кто был в Приоре по своему собственному выбору, едва ли нуждались в таких демонстрациях, чтобы доказать себе, что Гурджиев был, по меньшей мере, необычным.
Эксперименты вновь пробудили некоторые из моих вопросов о Гурджиеве, но более всего они вызвали во мне определённое сопротивление. Что мне начало казаться трудным и раздражало именно в таких вещах, так это то, что они склоняли меня обращаться в ту сферу, где я терялся. Больше всего мне нравилось в том возрасте верить в «чудеса» или находить причины и ответы, касающиеся человеческого бытия, но я хотел каких-нибудь вещественных доказательств. Личный магнетизм Гурджиева часто был достаточным доказательством его высшего знания. Он обычно вызывал во мне доверие, потому что достаточно сильно «отличался» от других людей – от каждого, кого я когда-либо знал, – чтобы быть убедительным «сверх»-человеком. С другой стороны, я был обеспокоен, потому что всегда внутренне противостоял тому, что казалось очевидным: всякий, кто выдвигал себя в качестве учителя в каком-нибудь мистическом или потустороннем смысле, должен быть некоторого рода фанатиком – полностью убеждённым, полностью преданным особому направлению и, поэтому, автоматически противостоящим принятым обществом, общепризнанным философиям и религиям. Было не только трудно спорить с Гурджиевым – не было ничего, что можно было бы возразить. Можно было бы, конечно, спорить о вопросах метода или техники, но прежде необходимо было согласиться с какой-то целью или намерением. Я был не против его цели «гармонического развития» человечества. В этих словах не было ничего, чему бы кто-нибудь мог противиться.
Мне казалось, что единственная возможность ответа должна лежать в каких-нибудь результатах, ощутимых, видимых результатах в людях, а не в самом Гурджиеве – он был, как я сказал, достаточно убедителен. Но что его ученики? Если они, большинство из них, применяли метод гармонического развития несколько лет, было ли это в чём-то заметно?
За исключением мадам Островской, его покойной жены, я не мог найти никого, кто, подобно Гурджиеву, «внушал» бы какой-нибудь вид уважения простым фактом своего присутствия. Общим свойством многих старых учеников было то, что я понимал как «притворную безмятежность». Они могли выглядеть спокойными, сдержанными или невозмутимыми большую часть времени, но это никогда не было достаточно правдоподобным. Они производили впечатление внешне сдержанных, что никогда не было достаточно «настоящим» (особенно потому, что стоило Гурджиеву слегка нарушить их равновесие, когда бы он ни решил это сделать, как большинство старших учеников приходило в колебание между состояниями внешнего спокойствия и истерики). Их контроль, казалось мне, достигался сдерживанием или подавлением – я всегда полагал, что эти слова являются синонимами – и я не мог поверить, что это было желательным результатом или целью, кроме, может быть, целей общества. Гурджиев также часто производил впечатление безмятежности, но она никогда не казалась фальшивой – вообще говоря, он проявлял всё, что хотел проявить, в определённое время и обычно по какой-нибудь причине. Можно спорить относительно причин и обсуждать его мотивы, но у него, по крайней мере, была причина – он, казалось, знал, что он делал, и у него была цель – чего не было в случае его учеников. Там, где они, казалось, пытались подняться над обычными несчастьями жизни, имитируя пренебрежение ими, Гурджиев никогда не проявлял спокойствия или «безмятежности» как самоцель. Он намного более охотно, чем кто-нибудь из его учеников, впадал в ярость или веселился в, казалось бы, неконтролируемом порыве животной натуры. Во многих случаях я слышал его насмешку над серьёзностью людей и напоминание, что было бы «естественно» для каждого сформировавшегося человека «играть». Он использовал слово «игра» и указывал пример в природе – все животные знали, в отличие от людей, цену каждодневной «игры». Это так же просто, как избитая фраза: «Джек только работал и никогда не играл, поэтому скучным он стал». Никто не мог обвинить Гурджиева в том, что он не играл. В сравнении с ним, старшие ученики были мрачны и замкнуты и не были убедительными примерами «гармонического развития», которое – если оно было вообще гармоничным – конечно включало бы юмор, смех и так далее, как свои аспекты.
Женщины, в частности, не получали в этом поддержки. Мужчины, по крайней мере, в бане и в плавательном бассейне, грубо, по-уличному шутили и, казалось, наслаждались этим, но женщины не только отказывали себе в юморе – они даже одевали часть «учеников» в ниспадающие одеяния, ассоциирующиеся с людьми, вовлеченными в различного рода «движения». Они производили впечатление служительниц или послушниц какого-нибудь религиозного ордена. Ничто из этого не было ни поучительным, ни убеждающим в тринадцатилетнем возрасте.
Глава 31
После массового отъезда учеников осенью 1927 года, к обычному «зимнему» населению Приоре прибавилось два человека. Одним из них была женщина, которую я помню только по имени – Грейс, а вторым – вновь прибывший молодой человек по имени Серж. О них обоих разнеслось несколько сплетен.
Что касается Грейс, которая была американкой, женой одного из летних учеников, она заинтересовала нас тем, что не была вновь прибывшей, а осталась в Приоре после того, как её муж вернулся в Америку. Кроме того, она была несколько «необычным» учеником. Никто из нас не знал, что она делала в Приоре, так как она никогда не принимала участия ни в одной из групповых работ над проектами, а также была освобождена от таких обязанностей, как работа на кухне или выполнение какой-либо домашней работы. И хотя никто не спрашивал о её общественном положении или её привилегиях, о ней ходило много слухов.
Серж был другим. Хотя я не помню какого-либо особого объявления от Гурджиева о его прибытии в Приоре, мы все знали, благодаря «ученическим слухам», что он был условно-досрочно освобождён из французской тюрьмы; на самом деле, был слух, что его освобождение было устроено Гурджиевым лично как одолжение старому другу. Ни у кого из нас не было точной информации о нём; мы не знали, каким было его преступление (все дети надеялись, что оно было, по крайней мере, чем-нибудь столь же страшным, как убийство), и он, подобно Грейс, также был освобождён от участия в каких-либо регулярных делах школы. Мы видели этих двух «учеников» (были ли они ими – мы, на самом деле, не знали) только за едой и по вечерам в гостиной. Грейс, вдобавок, привыкла совершать частые таинственные поездки в Париж – таинственные только потому, что, в случае большинства людей, такие поездки были не только относительно редкими, но их цель была обычно известна всем нам.
Оба они оказались очень необычным добавлением к нашей зимней группе. Позднее, осенью, когда я исполнял обязанности швейцара, Грейс вернулась в Приоре под конвоем двух жандармов. Немедленно после прибытия она и жандармы переговорили с Гурджиевым, и, когда жандармы уехали, Грейс удалилась в свою комнату и не выходила этим вечером даже к ужину. Мы не видели её до следующего дня, когда она ещё раз появилась в швейцарской с чемоданами и уехала. Мы узнали лишь несколько дней спустя, что она была поймана в универмаге в Париже на воровстве и, согласно сплетне (Гурджиев никогда даже не упоминал её имени), Гурджиев должен был гарантировать её немедленный отъезд из Франции обратно в Америку, а также уплатить некоторую крупную сумму универмагу. Тайна её изолированной работы в Приоре также была раскрыта. Она проводила своё время, главным образом, за шитьём одежды для себя из материалов, которые «крала» в Париже. Грейс была темой общих разговоров некоторое время после отъезда – это была первая встреча кого-либо из нас с криминалом в школе.
Так как Серж был – или, по крайней мере, должен был быть – преступником, наше внимание теперь сосредоточилось на нём. Мы слышали, что он был сыном французско-русских родителей, что ему было немногим более двадцати лет, но больше мы ничего о нём не знали. Он не поощрял наш интерес какими-либо впечатляющими действиями – по крайней мере, несколько недель, – до тех пор, пока он, как раз перед Рождеством, просто не исчез.
Его исчезновение было замечено, когда он не появился на обычную субботнюю вечернюю баню. Эта суббота была в некоторой степени необычной для зимнего времени из-за большого числа гостей, которые приехали из Парижа на выходные, и среди них было несколько американцев, которые постоянно жили в Париже. Хотя факт, что Серж не появился в бане, был замечен, никто особенно не заинтересовался – мы не думали о нём, как о полноправном члене группы, и он, казалось, имел особый статус, который никогда не был определён и который поэтому мог включать такие странности.
На следующий день было воскресенье – единственный день, когда нам не надо было вставать и идти на работу в шесть часов утра – и было ещё не поздно, когда перед традиционным «гостевым» обедом мы узнали, что несколько американцев обнаружили пропажу денег или драгоценностей, или и того, и другого, и что Серж всё ещё не появился. На обеде об этом было много разговоров, и многие гости неизбежно заключили, что исчезновение их ценностей и исчезновение Сержа были, конечно же, взаимосвязаны. Только Гурджиев был непреклонен, утверждая, что здесь совсем нет связи. Он твёрдо настаивал, и это казалось большинству из нас безрассудным, что они просто «положили не на место» свои деньги и драгоценности, и что Серж снова появится в должное время. Не взирая на споры о Серже и «кражах», все продолжали обед и даже выпили больше обычного. К окончанию обеда, когда Гурджиев уже собирался удалиться, американцы, которые утверждали, что они обворованы, не могли уже говорить ни о чём другом; они решили принять меры и вызвать полицию, несмотря на заверения Гурджиева, что Серж не был замешан.
Когда Гурджиев удалился в свою комнату, эта группа американцев, естественно, расположилась в одной из маленьких гостиных, и они стали выражать друг другу соболезнования, а также обсуждать, какие бы действия они могли предпринять, и во время этих обсуждений они пили. Главным образом потому, что я говорил по-английски, и потому что они меня хорошо знали, они послали меня на кухню за льдом и стаканами, принеся несколько бутылок крепких напитков – главным образом, коньяка – из своих комнат или автомобилей. По той или иной причине, они начали настаивать, чтобы я выпил с ними, и так как я, как и они, полагал, что Гурджиев был неправ относительно Сержа, я был рад присоединиться к их группе и даже чувствовал за честь быть приглашённым разделить с ними коньяк. Вскоре я был пьян второй раз в свой жизни и очень наслаждался этим. Также, к тому времени алкоголь разжёг наши чувства против Гурджиева.
Выпивка была прервана довольно поздно во второй половине дня, когда кто-то пришёл позвать меня, сообщив, что Гурджиев готовится уехать в Париж через несколько минут и хочет меня видеть. Сначала я отказался идти и не пошёл к машине, но он послал за мной второго человека. Когда я подошёл к автомобилю, сопровождаемый на этот раз всеми моими взрослыми пьяными соратниками, Гурджиев посмотрел на всех нас сурово, а затем велел мне пойти в его комнату и принести бутылку вазелинового масла. Он сказал, что запер свою дверь и теперь не может найти ключ, а другой ключ от его комнаты есть только у меня.
Я держал руки в карманах и чувствовал себя очень смелым, а также всё ещё сердитым на него. По необъяснимой причине я сказал, что также потерял свой ключ, хотя на самом деле сжимал его в руке. Гурджиев очень рассердился и начал кричать на меня, говоря о моих обязанностях и утверждая, что потеря ключа фактически была преступлением, но всё это только способствовало укреплению моей решительности. Он приказал мне пойти и обыскать мою комнату, чтобы найти ключ. Чувствуя себя очень возбуждённо и сжимая ключ в кармане, я сказал, что буду рад обыскать свою комнату, но уверен, что не найду его, поскольку припоминаю, что потерял его днём ранее. После этого я пошёл в свою комнату и действительно рылся в ящиках комода, а затем вернулся, чтобы сказать Гурджиеву, что ключ я нигде не нашёл.
Гурджиев снова вспыхнул от раздражения, сказав, что вазелиновое масло очень важно – оно очень нужно мадам де Гартман в Париже. Я ответил, что она может купить его где-нибудь ещё в аптеке. Он с яростью сказал, что, поскольку вазелиновое масло есть у него в комнате, он не собирается его покупать, и к тому же, аптеки закрыты по воскресеньям. Я сказал, что, даже если в его комнате и есть вазелиновое масло, мы не можем его достать без наших ключей, оба из которых потеряны, и что, так как даже в Фонтенбло есть «дежурная аптека», которая открыта по воскресеньям, то, несомненно, подобная должна быть и в Париже.
Все зрители, особенно американцы, с которыми я пил, казалось, находили всё происходящее очень забавным, особенно когда Гурджиев и мадам де Гартман уехали, наконец, в ярости без вазелинового масла.
Я не помню об этом дне больше ничего, кроме того, что я дошатался до своей комнаты и лёг спать. Ночью мне было очень плохо, а на следующее утро я впервые познакомился с настоящим похмельем, хотя в то время я и не называл это так. Когда я появился на следующий день, американцы уехали, и я был центром всеобщего внимания. Меня предупредили, что я буду непременно наказан и, несомненно, потеряю свой «статус» как «хранитель» Гурджиева. Трезвый, но с больной головой, я согласился с этим и с ужасом ожидал приезда Гурджиева этим вечером.
Когда он приехал, я подошёл к автомобилю, как агнец на заклание. Гурджиев не сказал мне ничего, и только когда я принёс что-то из его багажа к нему в комнату и открыл дверь своим ключом, он задержал ключ, потряс им передо мной и спросил: «Итак, вы нашли ключ?»
Сначала я сказал просто: «Да». Но после короткого молчания я не смог сдержать себя и добавил, что я никогда не терял его. Он спросил меня, где был ключ, когда он требовал его, и я сказал, что он был всё время у меня в кармане. Он покачал головой, посмотрел на меня недоверчиво, а затем рассмеялся. Он сказал, что подумает о том, что он сделает со мной, и даст мне знать об этом позже.
Мне не пришлось ждать очень долго. Едва начало темнеть, когда Гурджиев послал за мной, чтобы я пришёл к нему на террасу. Когда я пришёл, он, не говоря ни слова, сразу же протянул руку. Я взглянул на неё, затем – вопросительно ему в лицо. «Дайте ключ», – сказал он решительно.
Я задержал ключ в руке в кармане, как сделал это днём раньше, и, ничего не говоря, умоляюще посмотрел на Гурджиева. Он сделал твёрдый жест рукой, также без слов, и я вынул из кармана ключ, посмотрел на него и затем вручил Гурджиеву. Он положил ключ в карман, повернулся и зашагал прочь от меня по одной из длинных дорожек вдоль газонов в направлении турецкой бани. Я стоял на террасе, неподвижно наблюдая его спину, не в силах двинуться. Я наблюдал за ним до тех пор, пока он не исчез из вида, затем я подбежал к стоянке велосипедов, располагавшейся недалеко от столовой, вспрыгнул на свой велосипед и помчался за Гурджиевым. Когда я был в нескольких ярдах от него, он обернулся и посмотрел на меня, я затормозил, слез с велосипеда и подошёл к нему.
Мы молчаливо пристально смотрели друг на друга, как мне показалось, долгое время, а затем он спросил очень спокойно и серьёзно: «Чего вы хотите?»
Слёзы подступили к моим глазам, и я протянул руку. «Пожалуйста, дайте мне ключ» – сказал я.
Он покачал головой медленно, но очень твёрдо: «Нет».
«Я больше никогда не сделаю ничего подобного, – попросил я. – Пожалуйста».
Гурджиев положил руку на мою голову и очень слабо улыбнулся. «Это не важно, – сказал он, – Я даю вам другую работу. Теперь вы закончили работу с ключом». Затем он вынул два ключа из своего кармана и покачал ими. «Теперь есть два ключа, – сказал он, – Вы видите, я также не терял ключ». Затем он повернулся и продолжил прогулку.
Глава 32
Привычка день за днём жить в Приоре охватила меня до такой степени, что я очень мало интересовался своей «семейной» жизнью, за исключением писем, которые я иногда получал от матери из Америки. Также, хотя Джейн и Маргарет обосновались в Париже, с тех пор как Джейн и я достигли той точки, когда общение уже невозможно, я редко думал о них. Меня неожиданно вернуло в реальность письмо матери, пришедшее в начале декабря 1927 года, о том, что она приедет в Париж на Рождество. Я очень обрадовался этой новости и сразу же написал ответ.
К моему удивлению, уже через несколько дней в Приоре появилась Джейн с особой целью – обсудить предстоящий визит моей матери. Я понял, что ввиду её законных прав, ей необходимо дать нам разрешение посетить нашу мать в Париже; и Джейн приехала, чтобы обсудить это разрешение, а также, чтобы посоветоваться об этом с Гурджиевым и, несомненно, выяснить наше мнение об этом.
Аргумент Джейн, что наша серьёзная работа в Приоре была бы прервана этим визитом, не только казался мне абсурдным, но также снова вынес все мои вопросы на передний план. Я и сам был склонен принять очевидный факт, что каждый человек, связанный с Гурджиевым и Приоре, был «необычным»; само слово также значило, что они были, возможно, особыми людьми – превосходящими или, по крайней мере, в чём-то лучшими, чем люди, которые не были связаны с Гурджиевым. Однако, столкнувшись с этим утверждением о серьёзности работы, я почувствовал необходимость попытаться переоценить это. Мне долгое время было некомфортно из-за моих отношений с Джейн, и, несомненно, для законного опекуна было необычно посещать школу и не разговаривать с усыновленным почти два года, но это, на первый взгляд, не казалось главным. Поскольку я не мог защититься от заявлений, что я был либо «невозможным», либо «трудным» ребёнком, либо то и другое, я смирился с этой оценкой со стороны Джейн; но, выслушав её доводы о предстоящем визите, я начал размышлять снова.
Поскольку аргументы Джейн только усилили мою упрямую решимость провести Рождество в Париже с моей матерью, Луизой, то Джейн начала настаивать, что я не только должен просить её разрешения на это, но также получить разрешение Гурджиева. Всё это, естественно, привело к совещанию с Гурджиевым, хотя, как я понял позже, только моё упрямство сделало это совещание необходимым.
Мы провели официальную встречу в комнате Гурджиева, и он, подобно судье на трибунале, выслушал длинный отчет Джейн о её, и наших, отношениях с моей матерью и значении Гурджиева и Приоре в нашей жизни, о том, чего она хотела для нас в будущем и так далее. Гурджиев внимательно выслушал всё это, подумал с очень серьёзным выражением лица, а затем спросил нас, всё ли мы слышали, что сказала Джейн. Мы оба сказали, что слышали.
Затем он спросил, и в этот момент я даже подумал о его изящной находчивости, понимаем ли мы теперь, как важно было «для Джейн», чтобы мы оставались в Приоре. Ещё раз, мы оба сказали, что понимаем, и Том добавил, что он также думал, что любое отсутствие было бы «перерывом в его работе».
Гурджиев вопросительно взглянул на меня, но ничего не сказал. Я сказал, что кроме того, что я не буду выполнять текущей работы на кухне или какой-либо другой задачи, я не думаю, что моё отсутствие будет ощутимо, и, что я не сознаю важности того, что мне поручали делать в Приоре. Так как он ничего не сказал в ответ на это, я продолжал, добавив, что он напоминал мне во многих случаях о необходимости почитать своих родителей, и я чувствую, что ни в каком смысле не смогу «почтить» свою мать, если откажусь увидеться с ней; и что, в любом случае, я ей многим обязан хотя бы потому, что без неё я не смог бы жить нигде – включая Приоре.
Выслушав всё это, Гурджиев сказал, что есть только одна проблема, которую нужно решить: для моей матери будет нелегко, если с ней приедет повидаться только один из нас. Он сказал, что хочет, чтобы мы сделали выбор честно и индивидуально, но что было бы лучше для каждого, если бы мы пришли к одному решению – или не видеть её совсем, или нам обоим посетить её на Рождество.
После большой дискуссии в его присутствии, мы пришли к компромиссу, который он принял. Мы оба поедем в Париж на Рождество к Луизе, но я поеду на две недели – на всё время, пока она будет в Париже – а Том приедет только на одну неделю, включавшую Рождество, но не Новый Год. Он сказал, что любит праздники в Приоре и не хотел бы все их пропустить. Я тут же заявил, что праздники ничего не значат для меня – мне важно увидеть Луизу. К моему великому удовольствию, Гурджиев дал необходимое разрешение: две недели – для меня, и одну – для Тома.
Хотя я был очень счастлив снова увидеть мать, я не считал, что Рождество или её посещение принесло пользу кому-либо из нас. Я хорошо сознавал наши противоположные с Томом позиции – и неизбежно вспомнил о различных решениях, которые мы сделали прежде, когда вставал вопрос, провести ли Рождество с нашим отцом – и, пока Том оставался в Париже, тот факт, что сейчас он решил уехать через неделю, повис над нами троими подобно туче. А когда он вернулся в Приоре через неделю, эту тучу заменила другая – туча неминуемого отъезда Луизы. Мы много говорили о Джейн и Гурджиеве, об усыновлении, и, возможно, впервые с тех пор, как мы были усыновлены Джейн, этот вопрос снова приобрёл важность. По различным причинам, большинство из которых я уже не помню, очевидно, в то время для нас возвращение в Америку было невозможным, но само обсуждение этого вопроса позволило мне осознать, что у меня есть возможность покинуть Францию и вернуться в Америку, что я и решил сделать. Мои отношения с Джейн – точнее, отсутствие отношений, так как я не разговаривал с ней почти два года, за исключением обсуждения Рождества – были главной причиной моего желания уехать. Во всех других отношениях, и, несмотря на то, что я бывал часто озадачен Гурджиевым, я был в целом удовлетворён Приоре. Но в то время, с вопросами о том, почему мы находимся там, акцентом на том, что Джейн является нашим законным опекуном, и мы не можем уехать – всё это навалилось разом, и я начал возмущаться всем и всеми вокруг и особенно – своим собственным бессилием. Луиза была исключена из этого возмущения по простой причине, что она была тогда также беспомощной и не могла изменить положение.
Как я не печалился после отъезда Луизы, я вернулся в Приоре, и, по крайней мере, временно, освободился от груза возникших вопросов. Ничего не изменилось, и я принял ситуацию, которая была менее болезненной, чем беспокойство о своём положении и бесполезные попытки найти из него выход. Но даже в этом случае сопротивление, активно проявившееся после Рождества, не исчезло бесследно. Я решил, что сделаю всё возможное, чтобы изменить ситуацию, даже если и должен буду ждать до тех пор, пока «вырасту», что, совершенно неожиданно, уже больше не казалось далёким и непредсказуемым будущим.
Глава 33
Моё сознательное сопротивление тому, о чём я думал как о «ловушке», не было связано с Гурджиевым или самим Приоре. Я был убеждён, что, если бы я был свободным человеком (что, конечно, подразумевало взрослость), и сказал бы Гурджиеву, что хочу оставить его школу, он сказал бы мне оставить её сразу же. За единственным исключением Рахмилевича, Гурджиев никогда никого не упрашивал – и не пытался убедить – остаться в Приоре. Напротив, он отправлял многих людей даже в тех случаях, когда они многое отдали бы за привилегию остаться. Случай с Рахмилевичем был исключением, так как, согласно Гурджиеву, он платил за то, чтобы Рахмилевич оставался в Приоре, и даже «просил» его остаться. По этим причинам я не ожидал препятствий со стороны Гурджиева.
Действительным препятствием, на мой взгляд, была Джейн; а так как она редко бывала в Приоре – и то, только на день или два, – то я начал рассматривать Тома, как её представителя. Рождество с матерью, и наши различные отношения к нему расширили существовавший диапазон разногласий между Томом и мной. То ли Гурджиев, то ли Джейн, определили нам двоим поселиться в одной комнате в ту зиму – и это новое размещение, конечно же, не способствовало установлению гармонии.
За те годы, что мы росли вместе, я и Том привыкли пользоваться разными средствами борьбы. Мы оба были импульсивны и нетерпеливы, но выражали себя по-разному. Когда мы ссорились друг с другом, наши разногласия всегда принимали одну и ту же форму: Том терял терпение и начинал драку – он обожал бокс и борьбу, – я презирал драку и ограничивался сарказмом и ругательствами. Теперь, ограниченные одной комнатой, мы внезапно обнаружили себя в странном положении, наше оружие поменялось. Однажды ночью, когда Том упорствовал в своей обычной защите Джейн и критиковал меня, я, наконец, сумел спровоцировать его ударить меня – я помню, это было важно, чтобы он нанёс удар первым – и тоже ударил его изо всех сил и даже с дополнительной силой, которая будто бы возникла внутри меня на некоторое время. Удар был не только мощным, он был совершенно неожиданным, и Том с грохотом рухнул на кафельный пол нашей спальни. Я ужаснулся, когда услышал удар его головы об пол, и затем увидел, что он в крови – около затылка головы. Сначала он не двигался, но когда он встал и взглянул на меня, по крайней мере, живой, я увидел преимущества моей позиции в тот момент и сказал, что, если он когда-либо будет спорить со мной снова, я убью его. Моя ярость была подлинной, и я сознавал – эмоционально – то, что говорил. Моментальный страх, который я пережил, когда он ударился об пол, исчез, как только он стал двигаться, и я сразу почувствовал уверенность в себе и большую силу – как будто я раз и навсегда освободился от физического страха.
Нас разделили несколько дней спустя, и мы больше не жили в одной комнате, что было для меня большим облегчением. Но даже это не было концом. Этот случай привлёк внимание Гурджиева, и он серьёзно сказал мне, что я сильнее Тома, неважно, знаю ли я об этом или нет, и что сильный не должен нападать на слабого; а также, что я должен «почитать своего брата» в том же смысле, в каком я почитал своих родителей. Так как я был в то время ещё очень чувствителен ко всему, что касалось приезда матери и отношения к этому Тома, Джейн и даже Гурджиева, я ответил гневно, что не нуждаюсь в совете о почитании кого-либо. Тогда он сказал, что мы не в равном положении – Том был моим старшим братом, что и определяло разницу. Я ответил, что то, что он старше, не имеет никакого значения. Тогда Гурджиев сказал сердито, что я должен, для моей собственной пользы, прислушаться к его словам, и что я «грешу против моего Бога», когда отказываюсь слушать. Его гнев только усилил мою злость, и я сказал, что даже если я и нахожусь в его школе, то не думаю о нём, как о своём «Боге», и что, кто бы он ни был, он не обязательно всегда и во всём прав.
Гурджиев холодно посмотрел на меня и, наконец, сказал совершенно спокойно, что я неправильно понял его, если подумал, что он представляет собой какого-нибудь «Бога» – «вы грешите против вашего Бога, когда не прислушиваетесь к тому, что я говорю» – и так как я не слушаю его, то нет смысла продолжать этот разговор.
Глава 34
Единственной постоянной работой, порученной мне той весной, был уход за маленьким огороженным участком, называвшимся Травяной Сад. Это было небольшое тенистое треугольное пространство недалеко от оросительного канала, проходящего через территорию. За исключением прополки, полива и рыхления мотыгой, там было не очень много работы. Остальное время я работал по обычному старому распорядку на различных проектах.
Однако той весной мои работы были мне менее интересны, чем некоторые события и вновь прибывшие люди. Первым в этом году взволновавшим нас событием была развязка «дела Сержа». Мы узнали о нём через одного из американцев, чья потеря в том, что все мы считали «кражей», была наибольшей. Когда американцы направили полицию на поиск Сержа, через несколько месяцев после кражи, его схватили в Бельгии, и хотя при нём не было найдено ценностей, он признался полиции в краже, и некоторые из драгоценностей были найдены у араба, скупщика краденого в Париже. Сержа привезли назад во Францию и заключили в тюрьму. Гурджиев никак не прокомментировал свои неудачные оправдания Сержа, и американцы, которые были обворованы, вообще думали, что Гурджиев сильно ошибся, позволив Сержу остаться в Приоре. Гурджиева защищали некоторые старые ученики, однако, их защита заключалась во мнении, что драгоценности и деньги не были важны, особенно для богатых людей, но жизнь Сержа имела ценность, и его заключение будет, вероятно, гибельно для его жизни, поэтому привлечение полиции стало несчастьем для него. Однако очень многим из нас эти причины казались лишь попыткой поддержать положение Гурджиева, как всегда правого во всём, что он делал – обычное отношение «боготворящих». Так как Гурджиев не проявлял интереса к данному вопросу, и так как Серж был в тюрьме, мы довольно скоро потеряли интерес к этому делу.
На короткий период в конце весны меня снова назначили работать на газонах, но не косить их, а выравнивать и подстригать края и границы. К моему удивлению, мне даже дали помощника, что создало во мне ощущение себя как надёжного, опытного «старого трудяги». Я был ещё больше удивлён, когда узнал, что моим помощником будет американская леди, которая до того времени только изредка совершала воскресные визиты в Приоре. Она сказала мне, что намеревается пробыть тут целых две недели, в течение которых хочет получить «чрезвычайно ценный опыт» работы в том, что она называла «реальным» делом.
Леди появилась в первый день на работу, выглядя очень эффектно и красочно – она была наряжена в шёлковые оранжевые брюки, в зеленую шёлковую блузку, с ниткой жемчуга и в туфлях на высоком каблуке. Хотя я и забавлялся костюмом, я сохранял совершенно невозмутимое лицо, объясняя ей, что она должна делать, но не смог удержаться от намёка, что её костюм не совсем подходящий. Она отмахнулась от моих намёков, как от чего-то неважного, и с большим рвением приступила к стрижке края одного из газонов, объясняя мне, что необходимо делать эту работу всем своим существом и, конечно же, наблюдая себя в этом процессе – известным упражнением «самонаблюдение». Леди пользовалась странным инструментом, который не очень подходил для этой цели: это был своеобразный резак на длинной ручке с режущим колесом с одной стороны и маленьким обычным колесом с другой. Режущее колесо должно было резать край газона по прямой линии, в то время как другое колесо помогало поддерживать и балансировать аппарат. Использование этого инструмента требовало больших усилий, чтобы резать что-нибудь вообще, так как его нож был туповат; кроме того, даже когда им пользовался сильный человек, приходилось «выравнивать» край после этой машины садовыми ножницами с длинными ручками и выпрямлять границу.
Я так заинтересовался её подходом к этой работе, а также тем, как она её делала, что очень мало работал сам, всё время наблюдая за её работой. Леди ходила очень грациозно, дыша деревенским воздухом, восхищаясь цветами, и, как она выражала это, «погружаясь в природу»; она также сказала мне, что «наблюдает» каждое своё движение, когда работает, и она поняла, что одно из достоинств этого упражнения состоит в том, что оно может, хотя и с продолжительной практикой, сделать каждое движение собственного тела гармоничным, функциональным и поэтому красивым.
Мы работали вместе несколько дней, и, хотя я должен был подравнивать все края и границы после неё, я получал от этого большое удовольствие. Я давным-давно отбросил идею, что работа в Приоре должна приводить к видимым результатам (за исключением, конечно, работы на кухне); эта работа делалась для пользы своего «я» или внутреннего существа. Я часто находил очень трудным сосредотачиваться на этих неочевидных результатах, и мне было значительно проще, без какого-то воображения, стараться выполнить видимую, очевидную физическую задачу. Мне просто доставляло удовольствие получать красивый, ровный край газона или клумбы. С леди всё обстояло не так. Осознав, что я следую за ней и переделываю всю её работу, она объяснила мне, что пока наши «я» или «внутренние существа» извлекают выгоду из того, что мы делаем, не имеет значения сколько времени займет работа, хоть целый год – в действительности, если мы никогда не закончим её, это не имеет значения.
Леди нравилась мне; я, конечно, испытывал удовольствие, будучи её временным «боссом», и должен был признать, что она красиво выглядела на газонах, была упорной и регулярно являлась на работу, даже, будто бы, не достигая там никаких видимых результатов. Также я знал, что она могла делать много полезной работы для своего «внутреннего существа». Я должен был признать, что она, очевидно, доказала свои слова, что действительные результаты – на земле, так сказать – не очень важны. Земля в Приоре была свидетельством тому – разбросанная в беспорядке, так как многие начатые проекты оставались незаконченными. Все работы по выкорчевыванию деревьев и пней, разведению новых огородов и даже по строительству зданий, которые оставались недостроенными, свидетельствовали о том, что физические результаты не имеют значения.
Я был огорчён, когда наша работа на газонах подошла к концу, и остался доволен нашим с ней общением, хотя и сомневался в пользе, которую она приобрела за эти несколько дней. Это дало мне несколько иную точку зрения на школу и её цели. Несмотря на то, что я понял, что никакая работа не считалась важной просто с той точки зрения, что её нужно было сделать, поскольку там была и другая цель – вызвать трение между людьми, которые работали вместе, а также, возможно, другие менее ощутимые или видимые результаты – я также предположил, что само по себе реальное выполнение задачи, по крайней мере, имеет некоторую ценность. Большинство моих работ до того времени поддерживали этот взгляд: несомненно, имело значение, например, что цыплята и другие животные были накормлены, что тарелки, горшки и кастрюли на кухне были вымыты, что комната Гурджиева была ежедневно хорошо убрана – с пользой или без пользы для моего «внутреннего я».
Каковы бы ни были мои мысли обо всём этом и о леди, она уехала через две недели и, казалось, чувствовала себя «безмерно обогащённой». Была ли она права? Даже если её посещение ничего ей не дало, оно усилило во мне необходимость переоценки Приоре и причин его существования.
Глава 35
Моей следующей временной работой над проектом был ремонт крыши Дома для занятий. Конструкция была простой и состояла из балок, уложенных таким образом, что они образовывали остроконечную крышу с расстоянием в центре между верхушкой и потолком приблизительно восемь футов. Балки располагались на расстоянии одного ярда друг от друга – вдоль и поперёк – и были покрыты толем, который начал протекать в разных местах. Работа оказалась захватывающей и несколько рискованной. Мы поднимались на крышу по лестницам, затем, конечно же, нужно было идти только по балкам. Было также необходимо поднимать с собой по лестницам рулоны толя и вёдра или бадьи горячего гудрона. После нескольких дней прогулок по четырех или шестидюймовым балкам мы стали довольно искусными в этой работе и даже начали испытывать своё мастерство в беге по балкам, неся бадью горячего гудрона или балансируя рулоном толя на плечах.
Однозначно, наиболее смелым, искусным и безрассудно храбрым среди всех нас был молодой американец, который находился в Приоре впервые и был не только агрессивным парнем и большим любителем посоревноваться, но также думал, что всё в Приоре было «собранием бессмыслицы». Приблизительно через неделю он довёл свою ловкость до такой степени, что никто из нас даже не пытался состязаться с ним. Даже тогда он не перестал хвалиться и продолжал демонстрировать своё превосходство над всеми остальными. Его поведение начало раздражать и нервировать всех нас; мы не зашли так далеко, чтобы надеяться, чтобы с ним произошёл несчастный случай – любой такой случай мог быть очень опасным, поскольку крыша была высокой – но начали жаждать чего-то, что положило бы конец этой браваде.
Развязка произошла скорее, чем мы ожидали, и была очень впечатляющей. Позднее это представилось неизбежным, что он, неся ведро кипящего гудрона, ступил на незакрепленный толь и провалился сквозь крышу. Единственным, что спасло его от очень серьёзных повреждений, было то, что он провалился как раз над маленьким балконом, так что в действительности он пролетел не больше пятнадцати футов. Однако то, что он не выпустил из рук бадью с варом и был без рубашки, сделало его падение болезненным и опасным. Одна сторона его тела была целиком залита горячим гудроном и очень сильно обожжена.
Так как кипящий гудрон также стек вниз по его штанам, он почти не мог передвигаться, поэтому мы перенесли его в тень, в то время как кто-то побежал за Гурджиевым и доктором. Единственным методом лечения, который можно было использовать, было удаление гудрона с его тела бензином, что отняло более часа, и было невообразимо болезненным. У молодого человека, по-видимому, было огромное терпение и мужество, чтобы подчиниться этому тяжёлому испытанию и не дрогнуть. Но когда всё было позади, и он был как следует забинтован, Гурджиев неистово отругал его за глупость. Тот защищался храбро, но бестолково; спор обернулся в поток ругательств, направленных против Гурджиева и его нелепой школы, и всё кончилось тем, что Гурджиев приказал американцу уехать, как только он поправится.
Несмотря на то, что я не мог помочь, но очень симпатизировал американцу, я чувствовал, что Гурджиев был полностью прав, хотя ругать молодого человека в такой момент казалось излишней жестокостью. Я был очень удивлён, когда на следующий день Гурджиев неожиданно позвал меня, когда я шёл с работы и, непредсказуемо, как всегда, похвалил за хорошую работу на крыше и выдал крупную сумму денег. Я сказал, что должен признать со всей честностью, что, поскольку я был единственным работавшим на крыше, кто не был взрослым, я делал намного меньше работы, чем кто-либо ещё, и не чувствую, что должен быть награждён.
Он подарил мне странную улыбку, настоял на том, чтобы я взял деньги, и сказал, что он награждает меня за то, что я не провалился сквозь крышу или, иначе говоря, за то, что я не повредил себя, работая на ней. Затем он сказал, что даёт мне деньги при условии, что я придумаю что-нибудь, что можно сделать с ними для всех остальных детей – что-нибудь, что будет ценным для них всех. Я покинул его, довольный деньгами, которые оказались у меня в карманах, но чрезвычайно озадаченный тем, как использовать их так, чтобы это было ценным для всех других детей.
Обдумав проблему в течение двух дней, я, наконец, решил разделить деньги на всех, хотя и не поровну. Я оставил большую часть для себя, так как был единственным, кто, какими бы странными ни были причины, «заработал» их.
Гурджиев не стал ждать от меня ответа о том, что я сделал, а послал за мной, как будто был особо заинтересован, и спросил меня о деньгах. Когда я сказал ему, он рассердился. Он закричал на меня и сказал, что я не использовал своего воображения, что я не подумал об этом, и не сделал, в конце концов, ничего ценного для них; и вообще, почему я выделил большую часть для себя?
Я ответил довольно спокойно, что я пришёл к заключению, что ничто в Приоре непредсказуемо, и что он сам довольно часто давал мне понять, что вещи никогда не являются «тем, чем они кажутся». Я твёрдо продолжал, что только подражал ему. Дав мне эту, совершенно неожиданную и большую сумму денег, он, вместе с этим, поставил мне условие и создал тем самым проблему с их применением. Так как я не смог придумать ничего «ценного», то всё, что я смог сделать, это передать проблему дальше другим детям – я велел им, чтобы они сами применили эти деньги на что-нибудь ценное для них. Что касается того, почему я оставил большую часть себе, то я чувствую, что заслужил её, поскольку именно благодаря мне они получили возможность распорядиться этими деньгами с пользой для себя.
Хотя Гурджиев слушал меня не прерывая, его гнев не ослаб, и он сказал, что я поступил подобно «важной персоне», и он очень разочаровался во мне, потому что я обманул его ожидания.
К моему собственному удивлению, я отстаивал свою позицию и сказал, что, если я поступил подобно «важной персоне», то это потому, что у меня было много подобных примеров для подражания, и что, если он разочаровался во мне, то должен вспомнить, как говорил мне неоднократно, что каждый должен учиться никогда не разочаровываться в ком-либо, и что я снова только следовал его совету и примеру.
Хотя он ответил мне, что я, как обычно, «грешу против моего Бога», разговаривая с ним таким образом, он спросил меня, что я собираюсь сделать с деньгами, которые оставил себе. Я ответил, что можно либо потратить деньги, либо сохранить их. Что в настоящее время я собираюсь сохранить их, так как я одет, накормлен, мне есть, где жить, и мне нет нужды тратить их, но что потрачу их, когда буду в чём-нибудь нуждаться или захочу что-нибудь купить.
Гурджиев посмотрел на меня с отвращением, заметив, что мои слова указывают на то, что у меня обычная мораль среднего класса, и я совсем ничему не научился от него за время, которое был в Приоре. Я ответил, несколько горячо, что вполне сознаю эту возможность, а что касается учения, то, когда я смотрю на других учеников, я не уверен, что кто-нибудь из них хоть чему-нибудь научился, – что, в действительности, я не уверен, что здесь есть что-нибудь, чему можно научиться.
Совершенно спокойный к этому времени, он сказал, что мне не удалось понять, что ценность Приоре не очевидна, и время покажет, узнал ли кто-нибудь что-нибудь, будучи здесь. Затем, во второй раз, он сказал, что со мной бесполезно продолжать разговор, и добавил, что мне не надо будет продолжать работу на крыше Дома для занятий, и мне будет дана другая работа.
Глава 36
Моя «другая работа» состояла из нескольких заданий: очистки различных участков имения от жгучей крапивы, что Должно было делаться без рукавиц; работы с другим человеком над сооружением каменного дома, который начали строить ещё до того, как я впервые попал в Приоре, и забросили; и, к моему удивлению, помощи в переводе частей книги Гурджиева с предварительного французского варианта на английский.
После нескольких часов вырывания крапивы, я понял, что можно удалять её и не обжигаться при этом, осторожно выдергивая её с корнями и не касаясь при этом стеблей или листьев. Я также узнал, совершенно случайно, что крапиву можно использовать для приготовления превосходного супа. Во всяком случае, поскольку я ещё обдумывал замечания американской леди про ценность работы, вырывание крапивы, казалось, имело практическую ценность, поскольку что-то давало для моего «внутреннего существа», а также устраняло сорняки и давало возможность приготовить суп.
Что касается строительства дома, то я был убеждён, что леди была, несомненно, права – в строительстве не было видимого прогресса, поэтому я предполагал, что весь прогресс был «духовным». Я был помощником на этой работе, и мой «босс» решил, что первое, что мы должны сделать, это перенести огромную кучу камней, находившуюся приблизительно в пятидесяти футах от дома, на площадку перед ним. Единственный практичный способ сделать это, как он сообщил мне, был в том, чтобы я встал у кучи и бросал ему камни по одному, а он будет бросать их затем в новую кучу около строения. Когда это будет сделано, мы сможем использовать эти камни для перегородок и стен внутри здания, так как внешние стены были сооружены три или четыре года тому назад. Меня предупредили, что в этом бросании камней должен быть определённый темп, который нужно соблюдать, чтобы сделать работу наименее утомительной, а также, что для сохранения темпа нам нужно петь. Мы смогли петь и бросать камни только около двух часов, после чего мой компаньон и «босс», чем-то отвлечённый, не поймал брошенный в его направлении камень, – камень ударил его в висок, и он упал.
Я помог ему встать, а затем повёл его, так как он нетвёрдо держался на ногах, в направлении главного здания, чтобы посоветоваться с доктором о последствиях этого удара. Гурджиев увидел нас сразу же, поскольку он сидел перед террасой на одном из своих обычных мест, где писал; услышав, что случилось, и осмотрев пострадавшего, он сообщил, что опасности нет, но мы должны прекратить работу по этому строительству. Со слегка добродушной улыбкой в мой адрес Гурджиев сказал мне, что для меня было, по-видимому, невозможным участвовать в любом виде работы, не причиняя беспокойства, и что я – прирождённый нарушитель спокойствия. Вспомнив некоторые из моих прошлых опытов в Приоре, я принял это, если не за комплимент, то, по крайней мере, за похвалу.
Однако я был очарован работой над его книгой. Делать грубый предварительный перевод с французского варианта книги должен был один англичанин, а моей работой было слушать его и вносить предложения относительно разговорных слов и американизмов, которые наиболее близко соответствовали бы французскому варианту, который я также прочёл. Глава, над которой мы работали, была про Африку и была связана, главным образом, с объяснением происхождения обезьян.
Что начало этим летом интересовать меня намного больше, чем какое-либо из моих дневных заданий, так это вечерние чтения глав книги Гурджиева, обычно на русском или французском, но иногда на английском – в зависимости от наличия законченных переводов – и комментариев Гурджиева относительно его целей и намерений. В самых простых выражениях он обычно сводил то, что было написано в главе, которая читалась в этот вечер (эти комментарии всегда следовали за чтениями), до краткого обзора или упрощения того, что он пытался передать в написанном.
На меня произвело особое впечатление его утверждение, что цель написания этой книги – разрушить навсегда привычные ценности и представления людей, которые мешают их пониманию действительности или жизни согласно «космическим законам». Затем он собирался написать дополнительные книги, которые должны подготовить почву, так сказать, для выработки нового понимания и новых ценностей. Если, как я видел, существование Приоре имело туже цель – разрушить существующие ценности, тогда это было более понятным. Если, как Гурджиев часто говорил, мир был «вверх дном», тогда, возможно, в том, что он пытался дать в своей школе, была определённая ценность. Могло быть вполне правильным то, на что мне намекала американская леди, что каждый работал не для немедленного, очевидного результата в любой работе, которую он делал, а для развития собственного существа. Даже хотя я не был убежден, что у Гурджиева были все ответы о дилемме человеческой жизни, как её называли, была некоторая вероятность, что у него, также как у любого другого, они могли быть. То, что он делал, было, по крайней мере, дерзким, непредсказуемым, раздражающим и, обычно, достаточно интересным, чтобы вызвать вопросы, сомнения и споры.
В ходе комментирования своих писаний Гурджиев часто отклонялся от той темы, которая читалась, чтобы рассказать простыми словами о том, что ещё приходило ему на ум, либо интересовало одного из учеников. Когда кто-то, благодаря какой-нибудь ассоциации с главой, читавшейся этим вечером, задавал вопрос о мирах Востока и Запада и недостатке понимания между восточным и западным складом ума, Гурджиев многословно рассказывал о недоразумениях, которые возникли в мире из-за этого непонимания, говоря, что причиной этому, по крайней мере отчасти, был недостаток энергии на Востоке и недостаток мудрости на Западе. Он предсказывал, что придёт день, когда восточный мир снова поднимется до положения мировой значимости и станет угрозой для минутно-всесильной, всевлиятельной новой культуры западного мира, которая господствует в Америке, – стране, которая была, согласно Гурджиеву, несомненно, очень сильной, но также и очень молодой. Он продолжал говорить, что каждый должен смотреть на мир так же, как он смотрит на человека или на себя. Каждый человек – это мир в себе, а земной шар – большой мир, в котором мы все живём, – это, в известном смысле, только отражение или расширение индивидуального мира каждого из нас.
Среди целей всех учителей, мессий, посланцев богов и прочих была одна основная и очень важная цель – найти какие-нибудь средства, благодаря которым две стороны человека, и поэтому две стороны земли, могли бы жить вместе в мире и гармонии. Гурджиев говорил, что времени очень мало – необходимо достичь этой гармонии как можно быстрее, чтобы избежать полной катастрофы. Всем философиям, религиям и другим подобным движениям не удалось достичь этой цели, и единственный возможный путь достижения этого – индивидуальное развитие человека. Если индивидуум будет развивать свои собственные пока неизвестные возможности, он станет сильным и сможет повлиять, в свою очередь, на очень многих людей. Если достаточно индивидуумов смогут развиться – даже частично – в настоящих, нормальных людей, способных использовать реальные возможности, которые были свойственны человеческому роду, каждый такой человек был бы тогда способен убедить и склонить на свою сторону много сотен других людей, которые, каждый в свою очередь, достигнув развития, смогли бы повлиять на других людей и так далее.
Гурджиев добавил непреклонно, что не шутит, говоря о том, что времени мало. Дальше он сказал, что история уже доказала нам, что такие инструменты, как политические, религиозные и другие организованные движения, которые воздействовали на человека «в массе», а не как индивидуальное существо, были неудачны. Что они всегда будут неудачными, и что отдельное, индивидуальное развитие каждого человека в мире – это единственное возможное решение.
Верили ли ему всем сердцем или нет – он страстно и убедительно доказывал важность индивидуального развития и роста.
Глава 37
Из-за юности, отсутствия присмотра, незаинтересованности и просто из-за лени я старался как можно меньше работать в Травяном Саду. Я избегал его посещения, за исключением тех случаев, когда было необходимо принести какие-то растения на кухню. Когда состояние растений стало явно плохим, и порой я не мог принести даже совсем немного нужных трав, кто-то взялся за исследование сада и сообщил Гурджиеву о его состоянии.
Результатом было то, что Гурджиев лично обследовал сад вместе со мной, прогуливаясь взад и вперёд между маленькими грядками и рассматривая каждое растение. Закончив, он сказал мне, что, насколько он мог заметить, я абсолютно ничего там не делал. Я вынужден был согласиться, что не очень старался, но защищал себя тем, что изредка делал прополку. Гурджиев покачал головой и сказал, что ввиду состояния сада было бы лучше совсем себя не защищать. Затем он поручил нескольким детям работать со мной в саду до тех пор, пока он не будет приведён в должное состояние, и проинструктировал меня относительно того, что необходимо делать с различными растениями: разрыхлить землю между рядами, подстричь некоторые растения, а также разделить и пересадить другие.
Хотя дети были очень недовольны мной из-за моего увиливания от работы, поскольку в связи с этим их заставили работать в «моём» саду, все они энергично взялись за дело, и мы выполнили указания Гурджиева очень легко и быстро. Это был очень небольшой участок земли, и работа не могла занять нас более чем на день или два. Когда мы закончили работу, Гурджиев выразил удовлетворение, похвалил всех детей за их труд и сказал, что хотел бы поговорить со мной наедине.
Сначала он сказал мне, что я мог сам увидеть, что не выполнил задание, которое мне назначили, и ему нужно было вмешаться в мою работу и принять меры, чтобы исправить ущерб, который был причинен моей халатностью. Он добавил, что этот пример очень хорошо показывал, каким образом действие (или бездействие) одного человека в выполнении своих обязанностей может влиять на благополучие всех остальных, и, несмотря на то, что я не считал травы чем-то важным, они были нужны ему и необходимы для кухни; а также я вынудил его делать ненужные, пусть и незначительные, расходы, поскольку теперь придётся покупать некоторые растения, в чём не было бы необходимости, если бы я выполнял свою работу как положено.
Гурджиев продолжил, что в некотором смысле Травяной Сад действительно не был важен – но было важно, однако, быть ответственным и выполнять свою работу, особенно, когда эта работа могла затрагивать благосостояние других. Однако, была другая, ещё более важная причина для выполнения любой назначенной задачи – её нужно было выполнять ради самого себя.
Он снова рассказал об упражнении «самонаблюдение» и сказал, что, так как человек является трёхцентровым или трёхмозговым существом, необходимо делать упражнения и выполнять задачи, которые работают со всеми тремя центрами, а не только с физическим или «двигательным» центром; что «самонаблюдение», как мне было известно, было чисто физическим упражнением и заключалось в наблюдении собственного физического тела и его движений, жестов и проявлений. Есть различные упражнения, которые нужно делать с «самовспоминанием», которое было очень важным аспектом его работы. Одно из них заключается в том, чтобы добросовестно и со всей своей концентрацией пытаться, как на киноленте, воспроизвести в памяти всё, что делал в течение всего дня. Это нужно делать каждый вечер перед сном. Наиболее важным в упражнении является то, что нельзя позволять вниманию блуждать посредством ассоциаций. Если внимание отклоняется от фокусировки на собственный образ, тогда совершенно необходимо начинать всё с начала каждый раз, когда это случалось – а это, он предупредил, будет происходить.
Он общался со мной очень долго тем утром и особенно уделял внимание тому, что обычно у каждого есть особая, повторяющаяся проблема в жизни. Гурджиев утверждал, что эти проблемы являются обычно формой лени, и мне следует подумать о моей лени, которая приняла, безусловно, явную физическую форму, как в случае с садом: я просто откладывал работу в саду до тех пор, пока кто-то этого не заметил. Он сказал, что хотел бы, чтобы я подумал о своей лени очень серьёзно – не о внешней форме, которая не столь важна, а постарался понять, чем она является на самом деле. «Когда вы увидите, что ленивы, необходимо узнать, чем является эта лень. Поскольку в некотором смысле вы ленивы уже многие годы, то вы можете также потратить многие годы, чтобы узнать природу своей лени. Нужно спросить себя, когда бы вы ни увидели вашу собственную лень: «чем является эта лень во мне?» Если вы зададите этот вопрос серьёзно и сосредоточенно, возможно, когда-нибудь вы найдёте ответ. Это важная и очень трудная работа, которую я поручаю вам теперь».
Я поблагодарил его за то, что он сказал, и добавил, что очень сожалею, что не делал свою работу в саду, и впредь исправлюсь.
Гурджиев отмахнулся от моих благодарностей и сказал, что бесполезно сожалеть. «Теперь это слишком поздно, слишком поздно хорошо работать в саду. В жизни никогда нет второго шанса – есть только один шанс. Вы могли один раз хорошо поработать в саду, для себя – вы не сделали этого; поэтому теперь, даже если вы будете работать в этом саду всю свою жизнь, это будет уже не то же самое для вас. Но также важно не «сожалеть» об этом – можно потерять всю жизнь, сожалея о сделанном. Иногда в этом есть нечто ценное, то, что вы называете угрызениями совести и раскаянием. Если человек действительно раскаивается в том, что он плохо сделал, это может быть ценным; но если есть только сожаление и обещание сделать ту же вещь лучше в будущем, то это трата времени. Это время уже навсегда прошло, эта часть вашей жизни закончилась – вы не можете прожить её снова. Неважно, будете ли вы теперь работать в саду хорошо, так как вы будете делать это по неправильной причине – пытаясь исправить ущерб, который не может быть исправлен. Это серьёзно. Но также очень важно не тратить время на огорчения или сожаления – это только ещё большая трата времени. Нужно научиться не делать таких ошибок, и нужно понять, что однажды сделанная ошибка делается навсегда».
Глава 38
В ходе чтения книги Гурджиева и конкретно в его комментариях или рассказах, которые всегда следовали за этим, он часто обсуждал тему любви. Он указывал, что в любой попытке или усилии познать себя, всегда необходимо начинать с физического тела по той простой причине, что оно является наиболее развитым из трёх центров человека; именно из-за этого «самонаблюдение» всегда начинается с наблюдения одного только тела. Хотя тело растёт автоматически и механически, фактически без контроля, оно тем не менее является наиболее правильно развитым центром, по сравнению с эмоциональным или ментальным «умом» (или центром), поскольку оно, хоть и только автоматически, но выполняет свои функции. Большинство телесных функций не только более или менее насущны, они также достаточно понятны, и поэтому удовлетворить их не слишком трудно.
В отношении наблюдения за способностью тела любить Гурджиев снова использовал пример двух рук, сказав, что любовь можно определить следующим образом: «рука руку моет». Он также сказал, что тело может достичь гармонии внутри себя, только когда оно используется правильно, когда обе руки работают вместе, и это может быть хорошей стартовой площадкой для осознания или понимания того, чем на самом деле является любовь. Для того чтобы люди могли работать вместе, им необходимо любить друг друга и любить свою единую цель. В этом смысле, для того, чтобы человеческое существо функционировало правильно и в согласии со свойственной ему человечностью, для всех составных частей человеческого существа необходимо любить друг друга и работать вместе для одной цели – саморазвития и самосовершенствования. Трудность, конечно, заключается в том, что в результате наших ненормальных привычек и образования у нас неверное представление о том, что такое правильное развитие или «совершенство». Гурджиев предупредил нас относительно какого-нибудь неверного толкования слова «совершенство», заявив, что наши ассоциации с этим словом и наши идеи о «совершенном» состоянии – неправильны, и что было бы вообще лучше использовать термин «развитие».
Основным признаком или ключом любви, которому мы могли бы научиться от физического тела, является физическая форма любви, другими словами, секс. В прямом смысле целью секса является воспроизведение, которое в действительности только синоним творения. Поэтому любовь, в любом смысле – в физическом или нет – должна быть творческой. Гурджиев также сказал, что существует правильная форма того, что называют «сублимацией» сексуальной энергии; что секс является источником всей энергии, и когда она не используется для воспроизведения, то всё же может быть использована в таком же творческом смысле, когда сублимируется и используется как энергия для других видов творчества. Одним из неправильных применений секса, которое возникло по причине плохого воспитания, неправильного образования и ненадлежащих привычек, было то, что он стал почти единственной насущной формой человеческого общения. Люди могут «активно соединяться» другими способами, кроме физического; как он выразился, «соприкасаться друг с другом сущностями», но люди утратили эту способность много, много лет – много веков – назад. Однако если быть наблюдательным, можно осознать, что это «соприкосновение сущностей» иногда ещё случается между отдельными людьми, но только случайно, и что затем это почти немедленно неправильно понимается и неверно истолковывается и облачается в чисто физическую форму, которая в один момент становится бесполезной и растрачивается.
В дальнейшем рассказе об отношениях между людьми Гурджиев сказал, что секс является «высшим выражением физического тела» и единственным «священным» выражением себя, оставшимся у нас. Для того, чтобы приобрести какие-нибудь другие формы «святости» внутри себя, полезно пытаться в других областях наших жизней имитировать этот процесс «соприкасания сущностей»; и совершенно открытое «разделение общей истины» между двумя людьми также станет «видимым» в сексуальных отношениях. Он предостерегал, однако, что даже секс – навязчивый, как у большинства людей – часто вырождается в простой процесс, который вызывает единственно частичное удовлетворение, удовольствие или облегчение одного человека вместо обоих, и в таких случаях это не является какой-либо откровенностью или интимностью между людьми.
Когда его попросили определить правильную объективную мораль любви между двумя людьми, Гурджиев сказал, что необходимо развить себя до такой степени, чтобы было возможным «знать и понимать достаточно, чтобы быть способным помочь другому сделать что-нибудь необходимое для него, даже если тот человек не сознаёт этой необходимости и может работать против вас»; что только в этом смысле любовь будет действительно ответственной и достойной названия подлинной любви. Он добавил, что большинство людей даже с наилучшими стремлениями слишком боятся любить другого человека в активном смысле или даже пытаться что-то сделать для него; и что один из ужасающих аспектов любви – то, что хотя в некоторой степени возможно помочь другому человеку, реально «сделать» что-нибудь за него невозможно. «Если вы видите, что другой человек падает, когда он должен идти – вы можете поднять его. Но хотя сделать ещё один шаг для него более необходимо, чем дышать, – он должен сделать этот шаг сам; другой человек не может сделать этот шаг за него».
Глава 39
Рассказывая о своих методах саморазвития и правильного роста, Гурджиев часто подчёркивал, что есть много опасностей, которые неизбежно встречаются в этом процессе. Одним из наиболее частых препятствий является то, что временами выполнение какого-нибудь упражнения (он ссылался на индивидуальные упражнения, предписанные им для конкретных людей) вызывает настроение радости и благополучия. Он говорил, что, несмотря на то, что такое состояние радостного настроения свойственно правильному и серьёзному исполнению такого упражнения, опасность заключалась в нашем неправильном представлении о «результатах» или «прогрессе»; необходимо помнить, что мы вовсе не должны ожидать результатов. Если мы делаем упражнение, ожидая какой-то результат – это бесполезно. И если мы достигли видимого результата, такого как чувство подлинного благополучия, даже хотя это и правильный результат, он только временный, а не постоянный. Он может означать, что происходит некоторый прогресс, но затем будет необходимо работать над этим более упорно для того, чтобы сделать такие «результаты» своей постоянной частью.
Гурджиев часто приводил в пример загадку: человек, сопровождаемый тремя взаимно враждебными существами – овцой, волком и капустой, прибывает на берег реки, которую нужно переплыть в лодке, а лодка может везти одновременно только двоих – человека и ещё одного из пассажиров; необходимо перевезти себя и своих спутников через реку, и чтобы никто из них не мог напасть на другого или съесть его. Важным в рассказе было то, что обычной человеческой склонностью было пытаться найти «кратчайшее решение», а моралью рассказа было то, что «кратчайшего решения» там не было: существенно важно совершить необходимое количество поездок, чтобы обеспечить безопасность и благополучие для всех пассажиров. Гурджиев говорил, что даже хотя поначалу это и казалось излишней тратой драгоценного времени, часто было необходимо сделать дополнительные поездки, а не рисковать. Однако, когда привыкаешь к его упражнениям и методам, то в конечном счете появляется способность сделать точное число требуемых поездок и не подвергать опасности какого-нибудь из пассажиров. Также необходимо было осознать, что человеку нужно было брать некоторых из пассажиров в обратную поездку, которая также казалась излишней тратой времени.
Гурджиев использовал ту же «загадку» в качестве примера для «центров» или «умов» человека; человек был представлен «Я», или сознанием, и тремя центрами: физическим, эмоциональным и ментальным. Кроме того, что он шокировал нас заявлением, что физический центр наиболее развит из всех трёх, Гурджиев утверждал, что ментальный центр фактически неразвит, а эмоциональный центр развит частично – но совсем неправильно – и является совершенно «диким» и «бескультурным». Он говорил, что мы непреодолимо реагируем на нужды тела, что было правильным до тех пор, пока наши телесные привычки были хорошими, поскольку необходимо удовлетворять нужды тела или «машины», в том смысле, что нужно заботиться о моторе автомобиля, так как это наше единственное средство «передвижения». С эмоциональным центром проблема гораздо сложнее, так как мы почти ничего не знаем о нём. Большинство ошибок подавления и насилия, совершённых в течение жизни, являются эмоциональными, так как мы не знаем, как правильно использовать эмоции, а с момента нашего рождения научились только формировать неправильные эмоциональные проявления. Гурджиев говорил, что эмоциональные «нужды» существуют и являются точно такими же насущными, как и физические нужды, такие как голод, сон, секс и прочее, но мы не понимаем, что они собой представляют и совсем ничего не знаем о том, как удовлетворять такие эмоциональные «стремления». Прежде всего нужно понять, что эмоция – это проявление некоторого вида силы внутри нас. Гурджиев часто сравнивал её с баллоном или резервуаром воздуха, который используется для приведения в действие органных труб. Органные трубы можно рассматривать в качестве примера различных видов эмоций: каждая труба по-разному отмечена; одна труба – это гнев, другая – ненависть, третья – жадность, четвертая – тщеславие, пятая – ревность, шестая – жалость и так далее. Первый шаг к правильному использованию эмоций – быть способным использовать силу или «воздух» резервуара для любой трубы соответственно данной ситуации, почти точно так же, как сознательно нажимают определённую клавишу на органе, для того чтобы взять определённый тон. Если, к примеру, по какой-либо причине человек испытывает гнев, когда это не соответствует обстоятельству или ситуации, то вместо того, чтобы гневаться, можно сознательно отвести энергию гнева в какую-либо другую эмоцию, которая необходима или правильна в это время. Все существующие эмоции, все чувства имеют цель, для их возникновения была причина, и каждая из эмоций может быть правильно использована. Но не обладая должным знанием, без сознательности, мы используем их слепо, маниакально и невежественно, безо всякого контроля, производя в нашей эмоциональной жизни такой же эффект, какой могло бы производить животное, играя на органе, без какого-либо знания музыки, просто наобум. Большой опасностью неконтролируемых эмоций является то, что «шок» обычно действует и на себя, и на других, и сила «шока» непременно эмоциональна. Если из-за отсутствия сознательности или знания механически чувствовать гнев вместо, например, сострадания, в то время как сострадание было бы правильной эмоцией, то это может произвести только разрушение и хаос.
Большинство проблем в общении и понимании между людьми происходит как раз из-за таких эмоциональных потрясений, которые являются неадекватными и неожиданными, и поэтому, как правило, вредными и разрушительными. Одной из самых тонких опасностей, возникающих при работе с эмоциями, является то, что люди часто пытаются использовать «укрощение» при использовании правильных эмоций. Чувствуя гнев, они пытаются контролировать это чувство и выражать иную эмоцию – такую, как счастье или любовь, или что-либо ещё, кроме гнева. Поскольку, знают ли они это или нет, симулируемая эмоция не убеждает эмоционально другого человека, результатом является то, что несмотря на внешнее выражение, подлинная эмоция или чувство «узнаётся» как гнев в любом случае, и воспринимается или чувствуется именно так другим человеком, несмотря на то, что она не была выражена открыто. Это может быть ещё более опасным, так как может служить пробуждению подозрения и враждебности, хотя, возможно, и бессознательно.
Глава 40
Мой впервые пробудившийся интерес к «теоретическому» аспекту работы Гурджиева в Приоре был прерван двумя письмами, которые я получил незадолго до Рождества 1928 года. Одно было от Джейн, которая договаривалась, чтобы Том и я провели Рождество с ней в Париже, и я сделал вывод, что это должно было быть, по сути, примирение между Джейн и мной.
Второе письмо было от моей матери из Чикаго, которая сумела убедить моего отчима, что для меня настало время вернуться в Соединенные Штаты; в нём было даже приложение от моего отчима, где он просил меня вернуться и уверял, что меня поддержат, дадут образование и радушно примут. Моё решение было немедленным и не создавало никаких внутренних конфликтов – я хотел вернуться в Америку. Так как письмо от матери указывало, что с Джейн не будут ни советоваться, ни извещать её до тех пор, пока они не получат моего ответа, я решил не упоминать о возможности моего отъезда после Рождества.
На Рождество мы приехали в Париж, и мы с Джейн примирились. Так как наши отношения всегда носили взрывчатый характер, мы в один момент очень эмоционально похоронили прошлое, и я не смог скрывать своё решение, так как не чувствовал более, что должен скрывать свои намерения и желания, раз мы снова были в хороших отношениях. В порыве вновь обретённых хороших чувств к Джейн, я честно сказал ей, что хочу вернуться в Соединённые Штаты.
Но я забыл, что как несовершеннолетний я не мог выйти из-под опеки Джейн и должен был оставаться в Приоре по крайней мере до совершеннолетия.
Было бы безынтересным и надоедливым даже пытаться описывать эти последующие девять месяцев. Что касается меня, то я был готов покинуть Приоре в тот же самый момент. Хотя я продолжал несистематически исполнять разную работу, которую назначали мне, в моей памяти об этом времени не осталось ничего, кроме расплывчатого пятна, прерывающегося только письмами из Америки и из Парижа, приездами Джейн в Приоре с целью дальнейших убеждений, плюс наставлениями и советами многих других учеников, которых Джейн привлекала для того, чтобы переубедить меня, и которые, как обычно, только усиливали моё решение уехать любой ценой. Я был особенно удивлен, что в течение того лета Гурджиев не поднимал вопроса о моём отъезде. Вопрос был поднят в начале осени, по-видимому, вследствие влияния и настойчивости моей матери и отчима, который тем временем купил мне билет и даже пошёл так далеко – хотя я лично не знал об этом – что стал угрожать некоторыми юридическими действиями. В любом случае, случилось что-то, что заставило Джейн согласиться на мой отъезд. Её аргументы теперь приняли форму скорее призывов к моему здравому смыслу, нежели просто прямых угроз.
Вместо того, чтобы увидеться с Гурджиевым в Приоре, меня взяли в Париж, чтобы встретиться с ним в компании Джейн в «Кафе де ля Пэ», которое было его обычным «кафе для писания», когда он бывал в Париже. Мы пришли туда вечером, и Джейн очень долго говорила, приводя все свои аргументы, порицая моё сопротивление и то, что я не понимаю и не сознаю того, что, возможно, отказываюсь от самого удобного случая для получения знаний и образования, который у меня когда-либо был; она также довольно долго приводила юридические положения.
Как всегда, Гурджиев слушал внимательно и задумчиво, но, когда Джейн закончила свою речь, он не стал много говорить. Он спросил меня, всё ли я слышал, и понимал ли я ситуацию. Я ответил, что слышал всё, и что моё решение осталось неизменным. Тогда Гурджиев сказал Джейн, что ей не стоит продолжать спорить со мной о моём решении, и что он рассмотрит ситуацию и поговорит со мной лично в ближайшем будущем.
Когда мы ушли от него, Джейн сказала мне, что для того, чтобы уехать совсем, необходимо прервать усыновление, поскольку это касалось только меня – ничто из этого не относилось к Тому в любом случае – и что это может быть сделано только через американского консула в Париже, что это очень трудно и, может быть, даже невозможно, а также, что мне это не принесёт ничего, но причинит много беспокойства всем остальным, не говоря уже об отказе от благоприятной возможности на всю жизнь. Всё, что я мог делать, это слушать и удивляться, перестанет ли она когда-нибудь злиться на меня; я прибег к полному молчанию.
Гурджиев очень коротко поговорил со мной, когда мы оба вернулись в Приоре. Он сказал, что хочет знать, рассматривал ли я и оценивал ли сознательно мои отношения к матери, к Джейн, к нему и школе, и если это так, хочу ли я всё ещё вернуться в Америку. Я ответил, что думаю об этой возможности, как о самой лучшей, что я несчастлив с Джейн уже несколько лет; что касается его и Приоре, то я не особенно желал оставлять школу или расставаться с ним, но я хотел быть со своей собственной семьей; что я американец и, в любом случае, не останусь во Франции до конца своей жизни. Я чувствую, что я принадлежу Америке.
Гурджиев не возражал и сказал, что не будет препятствовать моему отъезду и что, когда Джейн спросит его об этом, он так ей и скажет.
Решение Гурджиева не возражать имело удивительные последствия. Джейн не только сдалась, но приехала в Приоре и объявила, что все детали – билеты, паспорт, юридические бумаги и так далее – готовы. Я должен буду уехать через несколько дней, и она, в сопровождении Тома и её друзей, довезёт меня до Шербура, чтобы посадить на корабль. Я инстинктивно чувствовал, что это будет излишним, и протестовал, что могу просто уехать поездом, но она настояла на своей поездке со мной.
Я попрощался с Гурджиевым после обеда в тот день, когда должен был уехать. Он уезжал в Париж раньше, чем уезжали мы. У входа в главное здание вокруг его машины собралась обычная толпа, и он попрощался со всеми. Я замешкался, чувствуя подавленность и неуверенность относительно уместности момента, но подошёл к нему, и он первый пожал мне руку, посмотрел на меня с улыбкой и, как мне показалось, несколько печально спросил: «Итак, вы решили ехать?»
Я был в состоянии только кивнуть головой. Затем он обнял меня, наклонился, поцеловал меня в щёку и сказал: «Не нужно огорчаться. Когда-нибудь, может быть, вы вернётесь; помните, что в жизни всё может случиться».
В этот момент, единственный раз за много месяцев, я пожалел о своём решении. Что бы ни случалось в Приоре, что бы я ни пережил, чему бы ни научился – моя привязанность к Гурджиеву существенно не уменьшилась. Я понял, хотя и не сразу, что если бы он в какое-нибудь время поставил вопрос о моём отъезде на личный, эмоциональный уровень – что придёт к концу моя личная связь с ним – я, вероятно, не уехал бы. Он не сделал этого. Как я уже говорил, по-моему, он всегда играл честно.
Глава 41
Что подействовало на меня как на ребёнка за годы, проведённые с Гурджиевым, и чему я научился в Приоре?
Меня искушали ответить на этот вопрос другим вопросом: «Как можно оценить этот опыт?» В Приоре не было обучения или образования, которое могло бы сделать какого-нибудь человека успешным, в прямом смысле слова; я не узнал достаточно, чтобы поступить в колледж – я не мог даже выдержать выпускной экзамен средней школы. Я не стал благожелательным, мудрым или даже более компетентным человеком в каком-нибудь видимом смысле. Я не стал счастливее, не стал более спокойным или менее тревожным человеком. Некоторые вещи, которым я научился – что жизнь живётся сегодня, прямо сейчас, и что факт смерти неизбежен, что человек является сложной, запутанной и необъяснимой, незначительной мелкой сошкой во Вселенной – являются, возможно, вещами, которые я мог бы узнать где угодно.
Однако, я мог бы вернуться в 1924 год и повторить, что каким бы ни было существование или каким бы оно ни казалось – оно на самом деле подарок. И, подобно всем подаркам… возможно… там, внутри коробки, находится чудо.
Фриц Питерс Вспоминая Гурджиева
Глава 1
Около четырёх с половиной лет моей ранней юности (с 1924 по 1929 год) я провёл в Фонтенбло во Франции, в «Институте Гармонического Развития Человека» Георгия Ивановича Гурджиева. Это место также известно как «Гурджиевский Институт», или более привычно – «Приоре». Когда мне исполнилось пятнадцать лет, я вернулся в Чикаго. В то время членами моей семьи были моя мать Луиза, отчим Билл и семилетняя сводная сестра Линда.
Мой отъезд из Приоре был сложным со всех точек зрения. По разным причинам, в основном из-за длительной болезни моей матери, я был юридически усыновлен Джейн Хип и Маргарет Андерсон[1] (сестрой матери). Благодаря им я и уехал жить в школу Гурджиева. Когда я решил вернуться в Америку, стало необходимым «прервать» усыновление. Этот процесс состоял из множества юридических и личных неприятностей. Моё возвращение осложнилось и тем, что пока я был в пути, произошёл всемирно известный крах фондовой биржи 1929 года.
Я ожидал, что моя мать будет встречать меня в Нью-Йорке, но на пристани её не было, и я оказался в странной ситуации. Будучи несовершеннолетним, я не мог покинуть корабль, пока не появится кто-то, кто меня опекает. Власти передали меня в руки организации, известной как «Общество помощи путешественникам», которая приняла решение держать меня на судне, пока они попытаются связаться с моей семьёй в Чикаго. Обстоятельства складывались против меня.
Я смотрел через перила, как разгружался «Левиафан» (на тот момент самый большой в мире океанский лайнер), и чувствовал себя каким-то невостребованным, лишним багажом. Ситуация, в конце концов, разрешилась прибытием делового компаньона моего отчима, который обратился ко мне по фамилии. Это был приятный, симпатичный человек, но он не знал, почему моя мать не приехала. Зато ему были выделены деньги на то, чтобы посадить меня на поезд. Так я оказался в «Бродвей Лимитед», грохочущем сквозь ночь в направлении Чикаго. Я по-прежнему переживал, что мама не встретила меня возле корабля, но надеялся, что ситуация прояснится, когда я приеду на место. Однако всё оказалось не так просто.
На станции не было ни одного знакомого лица. Я растерялся, будто снова попал в руки «Помощи путешественникам», и стеснялся задавать вопросы, опасаясь в результате эту «помощь» получить. Я обеспокоенно осматривал платформу, когда ко мне приблизилась внушительного вида женщина средних лет и спросила моё имя. Услышав ответ, она сказала, что пришла вместо моей матери, которая была больна. Ребёнком я, несомненно, знал эту женщину, но далеко не сразу вспомнил её. Я спросил о болезни моей матери, но моя спутница только стала нервной и рассеянной и ответила, что мой отчим Билл всё мне объяснит при встрече этим вечером.
Наш дом был в южной части города, и я увидел там двух людей, которых помнил: мою сводную сестру Линду и колоритную женщину, Клару, которая была нашей сиделкой и домработницей. Но даже Клара сохраняла тайну о моей матери, и я всю вторую половину дня с нетерпением ожидал возвращения Билла из офиса и момента, когда получу ответы на свои вопросы.
Но с прибытием отчима, около шести часов вечера, тайна не рассеялась. Билл сдержанно поприветствовал меня и сказал, что «мы побеседуем» позже вечером. Затем, к моему удивлению, он смешал коктейль и предложил мне выпить или закурить. Я честно сказал, что поскольку не приобрёл ни одну из этих привычек, то хочу попробовать и то, и другое. Он улыбнулся и налил мне выпивку и дал сигарету. Билл задал мне много незначимых вопросов (о моём путешествии через океан и пр.), но поддерживал разговор строго в общих темах. Я понял, что не узнаю от него ничего, пока он сам не решит раскрыть тайну, поэтому не давил на него. Пустой разговор продолжался до конца ужина, пока мою сестру не увели в постель. Я уже догадался, что в её присутствии наша беседа не состоится.
Когда мы наконец остались одни в большой гостиной богатого дома с видом на озеро Мичиган, нервозность Билла, казалось, возросла, и он снова предложил мне сигарету и выпивку, которые я также принял. После долгого хмыканья и покашливания он, в конце концов, сел напротив меня и со строгим выражением лица показал документ, подготовленный в Париже для аннулирования усыновления, копию которого мне дали, когда я ступил на корабль в Шербуре. Конечно же, я знал содержание этого документа и ещё тогда был потрясён им. Но я также помнил, что сказала Джейн, когда она дала мне его на трапе: «Возможно, ты будешь шокирован, когда прочтёшь это. Но попробуй войти в моё положение, и не забывай, что это очень сложно – прервать усыновление без какой-нибудь официальной причины».
Смысл документа был в том, что меня исключили из школы Гурджиева, потому что я был «морально непригодным». Эта фраза ничего не значила для меня в пятнадцать лет, и хотя я был искренне шокирован и ранен ею, объяснения Джейн утешали меня. Я решил, что документ был составлен именно так для каких-то «официальных причин», которых я не понимал.
Как легко полагаться на взрослых! Кроме документа при мне были последние письма от Луизы и Билла – письма гостеприимные, полные ярких описаний моего возможного будущего. Меня пошлют в колледж, я не буду ни о чём заботиться, я так долго отсутствовал, пришло время вернуться в семью, и т. д. … до бесконечности. Я верил этим гостеприимным посланиям и не воспринял всерьёз юридический документ. Правда, он тревожил меня, но я рассчитывал на любовь моей семьи, и никак не ожидал того, к чему приведут юридические формулировки.
Билл, с документом в руке, моментально развеял мои иллюзии. Он начал с признания писем его и Луизы, но напомнил, что они были написаны до получения документа. Со всей своей пятнадцатилетней наивностью, я выпалил, что не понимаю, как «бессмысленные официальные формулировки» могут что-то изменить, и также процитировал ему слова Джейн по этому поводу. Билл ненадолго задумался, а затем сказал, к моему изумлению, что обдумал весь этот вопрос и пришёл к выводу, что, поскольку Джейн была, как ему известно, сложным человеком, он допускал возможность того, что она исказила или преувеличила факты.
Преувеличила! Я спросил, что он имеет в виду, и он быстро ответил, что, очевидно, в документе есть определённая правда, но он хотел бы услышать мою версию: что я сделал для того, чтобы меня исключили. Когда я сказал, что не знаю, о чём он, и это, в любом случае, не было исключением, Билл ответил, что сейчас ложью я ничего не выиграю.
Стоит указать, что он был адвокатом и с почтением относился к юридическим документам. Поскольку наша беседа зашла в тупик, он выбрал другую линию поведения и спросил, понимаю ли я, что значат слова «морально непригодный»? Я небрежно бросил, что это явно что-то неприятное, но я не уверен в их значении.
Отчим показал мне длинное письмо от Джейн, которое, как он совершенно излишне отметил, углубляло значение этих слов. Я сидел в каком-то безмолвном ужасе, когда он читал выборку из письма, которое, по его мнению, было причиной госпитализации моей матери несколькими днями ранее из-за серьёзного нервного срыва. Оказывается, я являлся малолетним сексуальным извращенцем, практиковавшимся, в основном, на более младших детях. Когда он закончил читать, я сохранял молчание. Билл налил мне ещё алкоголя и спросил, осознаю ли я, какая проблема предстала перед ним. Я покачал головой и сказал, что не знаю, что он имеет в виду, но отчим стал развивать свою мысль. Если утверждения Джейн были правдой, он, конечно же, не может позволить мне жить в этом доме вместе с его семилетней дочерью, моей сводной сестрой. Поскольку в моей руке был стакан с выпивкой, Билл также заметил, что не знает других пятнадцатилетних мальчиков, которые «курят и пьют».
Я глубоко вздохнул, выпил и спросил, верит ли он в то, что «утверждения» (как он это назвал) были правдой. Билл ответил, что «оставит своё мнение при себе», но хотел бы услышать мою версию этой истории.
Я уже рассказывал, что школа Гурджиева была иной, лучшей «подготовкой к жизни», чем любая обычная школа или обычные «условия жизни». Может быть, это так и было, но в тот момент я не знал, как мне выпутаться из ситуации, в которой я оказался. Немного подумав (возможно, подготовка была лучше, чем я осознавал), я сказал, что мне кажется, что в основном люди верят тому, чему хотят верить. Очевидно, если я признаю «преступления», описанные в письме Джейн, Билл поверит мне. Но если я буду их отрицать, то поскольку обвинение всё-таки было вынесено, он всегда будет сомневаться, соврал я или нет. Поскольку мне нечем доказать свою «невиновность», я выбираю ничего не говорить по этому поводу. Также я хотел бы попросить его не выбирать, кто из нас, Джейн или я, говорит правду, но определиться, полностью ли он доверяет словам Джейн. Недовольный таким отношением, Билл ещё три часа выдавливал из меня подтверждение или отрицание, но я оставался непоколебимым, и сказал, что оставляю решение полностью в его руках и на его совести без каких-либо дальнейших комментариев. К полуночи он принял решение продолжать «держать своё мнение при себе», и сказал, что временно разрешает мне остаться в его доме. Завтра меня отведут повидаться с матерью.
Я переночевал в библиотеке, полный дурных предчувствий. Мир этой ночью показался мне невероятно большим, но враждебным.
Но легендарный (для меня) юридический документ оказался только началом. На следующий день я увиделся с матерью. Хотя она была очень рада меня видеть, семена подозрения упали на благодатную почву. Мама пробыла в госпитале недолго, и я был счастлив, что она возвращается к жизни с нами, но мне также стало ясно, что я теперь нахожусь под двойным наблюдением. Я не знаю точно, чего от меня ожидали, но, оглядываясь назад, могу предположить, что проблема разрешилась бы, если бы я покорно изнасиловал свою сестру, или, по крайней мере, склонил её к каким-то странным сексуальным занятиям. Но я не делал ни того, ни другого, и это только продлевало напряжение вместо того, чтобы очистить моё имя.
Вдобавок к этому, я получил – в течение трёх или четырёх недель после прибытия в Чикаго – несколько писем от общих друзей Джейн и моей семьи, а значит, и моих друзей. Джейн изложила им причины моего возвращения в Америку настолько полно, как если бы она была всем агентством «Ассошиэйтед пресс» в одном лице. Содержание писем было более или менее одинаковым. Авторы очень сожалели о том, что я встал на путь преступности, и считали, что будет лучше для всех, если я не буду искать с ними встречи.
К тому времени я уже смирился с явной «враждебностью» взрослого мира и не выражал бурных чувств из-за подобных писем. Я чувствовал, что любой протест был бы бесполезным, и мой единственный союзник – если он вообще есть – это время.
Моё будущее ещё не было определено. В основном из-за краха фондовой биржи (хотя мне казалось, что наша семья была достаточно богатой) было решено, что о моём поступлении в колледж не может быть и речи. Но я хотел, по крайней мере, получить приличный диплом о полном среднем образовании. Несмотря на то, что я не учился в обычной школе, меня зачислили в выпускной класс; очевидно, пройденных тестов оказалось для этого достаточно. Но после первого семестра (с привычными пятёрками, за исключением зоологии, которую я ненавидел и не сдал), было решено, что я могу жить дальше и без какого-либо формального образования или диплома, и Билл устроил меня на работу в его адвокатском офисе. Я получал 12 долларов за неделю и мог оплачивать свой проезд и прачечную; кормили меня бесплатно.
Через несколько месяцев предположительно удовлетворительной работы, моя мать сказала мне, что должна поговорить со мной о важном решении, которое ей нужно принять. Она поняла, что больше не может жить с Биллом, и решила развестись с ним. Мне тогда было шестнадцать, и последние события, казалось, должны были всё завершить. Осенью того года, 1930, изменения следовали одно за другим. После разъезда и начала процесса развода я стал жить один на 15 долларов в неделю (мне дали недельную надбавку в 3 доллара), пока ещё работая в офисе отчима. Моя мать и сводная сестра бежали в Европу, и когда Билл вернулся из своей европейской деловой поездки и обнаружил их отсутствие, я оказался без работы.
Таким образом, в течение сентября 1930-го все нити были оборваны. Я жил один, без работы, на свои сбережения от недельного заработка.
Любой читатель может спросить, как повлияло всё произошедшее на моё мнение о Георгии Гурджиеве. По сути – никак, кроме того, что доверяя и, возможно, поклоняясь ему в течение пяти лет, мои чувства к нему тогда только усилились. Казалось, никто в мире (или в моём восприятии мира) не был готов «приютить» меня, но хотя знание о существовании Гурджиева порой согревало душу, он был где-то далеко, во Франции, в четырёх тысячах миль от Чикаго.
Глава 2
В течение 1930–1932 годов я жил довольно уединённо. Я нашёл должность, сочетающую в себе работу с документами и переводы с французского, и мог содержать себя на свою скромную еженедельную зарплату. Осенью 1931 года я начал общаться с так называемой «чикагской гурджиевской группой», в которую входило примерно двадцать пять человек. Хотя я познакомился с большинством из них лично и посещал их «групповые встречи», мне было сложно понять их интерес к Гурджиеву. Они казались мне привлечёнными в его учение разнообразными и не очень позитивными причинами – одиночеством, или, возможно, тем, что они считали себя неудачниками или изгоями. Многие из них барахтались в искусстве, теософии, оккультизме, или ещё в чём-то подобном, и пришли к Гурджиеву, как будто бы в поиске очередного «лечения» от их жизненных проблем. Теория Гурджиева, чем бы она ни была, казалось, точно им подходила только потому, что её трудно было описать. Хотя сам Гурджиев как личность всегда вызывал у меня уважение, я лишь поверхностно познакомился с «теориями», когда был в Приоре. Эти теории, обсуждаемые в чикагской группе, были для меня полной загадкой. Я начал чувствовать некоторую опасность в его учении, когда оно проводилось без его личного руководства.
Мои более или менее неосознанные контакты с идеями Гурджиева, пока я был в Приоре, навели меня на некоторые мысли. Я думал о его учении, как о чём-то, что стимулирует интерес к саморазвитию, но точно не как о философии, которая имеет некоторое отношение к повседневным человеческим проблемам. Учение Гурджиева не притворялось, что давало ответы на вопросы или разрешало существующие сложности, но предлагало возможность нового способа жизни (или так мне казалось); путь приобретения новых ценностей и новой нравственности. Как этого достичь, был другой вопрос, и я научился не спрашивать об этом.
Обычно на встречах в Чикаго читали первую книгу Гурджиева, которая была, по его собственным словам, «объективной справедливой критикой жизни человека». Эти чтения всегда сопровождались обсуждениями, в которых, как мне казалось, члены группы пытались связать написанное со своей собственной личностью. Поскольку книга Гурджиева явно критиковала привычные ценности, стандарты и общественную мораль, члены группы обычно понимали эту критику так, будто все ценности, идущие вразрез с господствующей моралью, были истинными. С подобным взглядом на жизнь такие проявления как свободная любовь, супружеская неверность или прочее радикальное социальное поведение, автоматически становились оправданными. Другими словами, хотя Гурджиев, по моему мнению, предлагал способ приобретения новой точки зрения на жизнь через работу и личные усилия, преобладающая позиция конкретно этой группы последователей была в том, чтобы механически заменить старые ценности новыми без какого-либо размышления о смысле, не пытаясь достичь – через сознательное усилие – новой перспективы. Они вели себя так, как будто было возможно просто решить для себя, что они уже достигли этого прошлой ночью в своих снах, или как если бы они без какого-либо усилия со своей стороны перестали испытывать тягу к курению.
Одно из главных отличий – для меня – между этой группой и людьми, которые, предположительно, были вовлечены в какую-либо «работу» в Приоре, состояло в том, что все эти люди были американцами и многие из них никогда не бывали в Приоре. Строго «американская» натура группы поражала меня в вопросах нравственности. Европейцы – по крайней мере, те европейцы, с которыми я познакомился во Франции и в Приоре – предпочитали думать о «морали», как о манере поведения, охватывающей всю человеческую деятельность, которая включала, среди множества прочих вещей, сексуальную жизнь. Для этих американцев – или для большинства тех американцев, с которыми я когда-либо общался – «нравственность» ограничивалась сексуальными нормами, расширенная, возможно, до умения вести себя за столом. Но не более. Не имея никакого сексуального опыта на тот момент моей жизни, я был одинаково удивлён и не готов к такому виду нравственности. По этой причине для меня было особым сюрпризом узнать, что большой интерес к Гурджиеву лично, казалось, базировался на допущении, что жизнь в Приоре должна была быть полностью «свободной», в смысле «безнравственной». Я, конечно же, знал, что Гурджиев был отцом нескольких незаконнорождённых детей. Однако я также знал (в противовес мнению этих и других людей) об открыто введённых ограничениях для его «последователей», которые он не налагал на себя. Он был бы первым, кто заявил бы о себе, что он «экстраординарный», в том смысле, что он не ограничен обычными нормами поведения. Однажды я начал понимать, что всё дело в этой «американской морали». Я понял, почему многие из дискуссий, следовавшие за чтением книги, крутились вокруг таких тем, как свободная любовь и пр. По моему мнению, книга даже не касалась таких предметов, но могла быть истолкована как угодно.
Хотя эти чтения оставили меня почти полностью тёмным, – по простой причине, что это была книга, сложная для чтения и требовавшая полного внимания и концентрации от читателя или слушателя, – в ней было достаточно понятного материала, чтобы возбудить мой интерес и заставить меня начать по-другому задумываться о человеке и его работе, не так как раньше. Когда книга читалась как строгая критика человеческой истории на планете Земля, она могла оказать стимулирующее воздействие, «вынуждающее думать», и я сомневаюсь, что первая книга была задумана, как что-то большее, чем критика. В общем, хотя книга намекала на существование выхода из «затруднительного положения человека», реально она только давала понять, что есть средства для этого – никаких готовых решений или ответов не давалось. Новой или радикальной критики в книге было так много, что было сложно, если не невозможно, спорить с ней. Для того чтобы удерживать интерес к работе Гурджиева, нужно было принять его взгляд на жизнь, в том смысле, как было необходимо, по моему мнению, иметь веру для того, чтобы стать истинным честным последователем, скажем, католицизма.
Члены группы, как правило, умело избегали дилеммы этой «веры» или «приверженности» очень простым приёмом – они считали, что книги Гурджиева были, в основном, аллегоричными, и по этой причине их смысл зависел от выбранной интерпретации. Это было похоже на свадьбу без юридической регистрации или церемонии. Я был ещё слишком молод и, прочитав предложение о том, что «запор был глобальной болезнью, особенно у американцев, потому что сиденья их унитазов были слишком комфортными», был уверен, что оно не значит ничего, кроме того, о чём в нём сказано. Я мог принять какие-то возражения по поводу того, что запор не был глобальной болезнью, но не понимал, когда некая группа людей утверждала, что Гурджиев не имел в виду запор в обычном смысле, тем более что это нечто эмоциональное или ментальное. Фактически, хотя стиль изложения книги казался ненормально сложным – по крайней мере, для первого чтения – мне казалось, что эта сложность была в попытке абсолютной точности и в расчёте на избежание любой интерпретации или «двойного смысла». Когда книга утверждала, что человек, такой как он есть, не имеет души, но только слабую возможность её получить, я думал, что утверждение буквально, и я даже предполагал, что Гурджиев, согласно его цели, имеет в виду именно то, что сказал. Я, конечно же, не считал, что читатель будет вынужден согласиться с таким утверждением, но, по моим ощущениям, это не могло иметь другого значения. Лично я считал это утверждение допустимым, и не беспокоился о том, верит ли в это кто-то другой. Я только не соглашался с теми, кто предполагал, что это имеет иной, аллегорический смысл.
Среди прочего, Гурджиев, согласно с общепринятыми религиями, утверждал, что нужно «любить своих врагов», то есть вообще не иметь врагов, и я не думал, что это утверждение может вызвать какие-то вопросы. Сложность, если это было сложностью, могла быть в понимании слова «любить». Собственное определение Гурджиевым этого слова – знать достаточно, чтобы быть способным помочь другим, даже если они не могут помочь себе сами – меня вполне устраивало, и имело только одно значение.
По большому счёту, чикагская «группа» не выделялась среди других «последователей» Гурджиева, которых я знал – людей, которые довольствовались тем, что приняли определённую ритуальную внешнюю позицию, лишённую какой-либо внутренней сути. После короткого периода общения с Гурджиевым и знакомства с его книгами люди часто изменяли внешний вид и приобретали неестественность в речи и манере одеваться, как правило, для выражения почтения. Элементом, который явно отсутствовал в большинстве последователей Гурджиева, и который сам он выражал очень щедро, был юмор. Из-за этого встречи были наполнены атмосферой жёсткой серьёзной преданности, и результат не имел перспектив. Мне казалось, что если мы были так идиотичны и бесформенны, как описывал нас Гурджиев, то было практически невозможно увидеть себя объективно без чувства юмора. Неестественное поведение, позирование членов группы было наглядным примером абсолютно неуместной серьёзности. Хотя было очевидным, что любое решение затруднительного положения человечества может быть достигнуто только путём серьёзной тяжёлой работы, наблюдение поведения обычного человека выявляло его нелепые стороны. Спектакль группы взрослых людей, обсуждающих – на пониженных тонах – свои слабости, грехи и общую ошибочность, определённо был для меня смешон – возможно, именно потому, что я был одним из этой группы.
Глава 3
Известие о том, что Гурджиев собирается посетить Чикаго зимой 1932 года, вызвало у меня дурные предчувствия. Даже сейчас, через тридцать лет, анализируя прошлые события, мне сложно понять, почему я не хотел его видеть. Отчасти это было связано с тем, что я пришёл к выводу, что, возможно, совершил ошибку, покинув Приоре в 1929 году. Мне казалось, что из-за того, что я уехал, я уже не был верным и добросовестным последователем. Кроме того, хотя у меня был подлинный интерес к его книге и настоящая привязанность к Гурджиеву как к человеку, общение с чикагской группой заставило меня задуматься об обоснованности его работы во всех её аспектах. Я ещё искал какие-то доказательства – какие-то качества в поведении его последователей – которые убедят меня, что он был чем-то большим, чем просто могущественный человек, способный по желанию загипнотизировать большое количество людей. Мой интерес к его книге был – в то время – не более чем любопытством к его конкретным размышлениям и критике человечества. Это не было искренним согласием с его точкой зрения.
Я всё-таки увиделся с Гурджиевым, но не без значительного внутреннего сопротивления. Фактически, если бы я не получил от него письмо, в котором он просил меня прийти повидаться, я бы не встретился с ним вообще. Встреча сама по себе не слишком меня удовлетворила. Я пришёл с маленькой группой его последователей в ресторан в центре города. Это было шумное место, с грохочущей музыкой и танцами, и после того, как Гурджиев с любовью поприветствовал меня, он обратил своё внимание к другим людям, которые постоянно говорили с ним, в основном о неинтересных и, на мой взгляд, неважных личных проблемах. Длительное время моё участие в этом процессе состояло только в том, что я выполнил несколько его поручений: купил для него сигареты, особый сорт сыра, позвонил каким-то членам группы, чтобы попросить их прийти и встретиться с ним и прочее. В конце концов, когда настало временное затишье в общей беседе, Гурджиев повернулся ко мне, указал на пары, танцующие в переполненном зале, и спросил, понимаю ли я, что танцы являются очень интересным и безупречным примером того, что он называл «щекоткой». Мне показалось, что я понял, что он имеет в виду «расточительство», пустую трату, и я сказал ему об этом. Затем он спросил, знаю ли я, что щекотка является «социальной мастурбацией», которая, в основном из-за возраста, смущает меня. Я смог ответить, что согласен с этим, и он сказал, что мне пора объективно смотреть на жизнь людей, наблюдать человеческие проявления и пытаться понять разницу между искренним сущностным нормальным человеческим поведением и «щекоткой» или «мастурбацией». Гурджиев добавил, что хотя он использовал как пример танцы, мне следует научиться распознавать эту «мастурбацию» в других сферах человеческой деятельности. К примеру, люди быстро учатся сразу же превращать всё – даже их религию или так называемые серьёзные убеждения – в некую бессмысленную форму щекотки. Я соотнёс это с его давним утверждением, что большинству человечества неизбежно суждено стать всего лишь удобрением. Гурджиев был очень доволен, что я помнил тот разговор. Он сказал, что недавно изучал американский язык и узнал много новых и широко используемых терминов; что теперь он хочет заменить термин «удобрение» на «дерьмо», потому что последнее слово было «настоящим» словом… словом, честно выражающим смысл, которое придавало нужный оттенок этому конкретному человеческому состоянию. Гурджиев продолжал, что я, как большинство молодых людей – особенно американцев – всегда смотрю на мир перевёрнуто. К примеру, я предполагал, что любой, кого я встречал, был хороший, искренний, честный и пр., и пр., и узнавал правду о людях только после разрушение иллюзий. Такой подход – долгий, медленный и неправильный процесс. «Вы должны научиться смотреть сразу правильно, – сказал он. – Любой человек, которого вы видите, включая себя, – это дерьмо. Вы знаете это, и когда вы найдёте что-то хорошее в этом дерьмовом человеке, – некую возможность не быть дерьмом, – вы почувствуете себя лучше, когда узнаете, что он лучше, чем вы думали, а ещё у вас будет правильное наблюдение. К тому же, если вы уже считаете себя дерьмом, то когда вы будете наблюдать себя и увидите в себе что-то хорошее, вы сможете тотчас же осознать это и тоже обрадуетесь. Важно, чтобы вы подумали об этом».
В моём сознании возникла немедленная ассоциация с членами чикагской группы, и это изменило моё отношение к ним и мнение о них. Вместо того чтобы разочаровываться в них из-за никудышности в гурджиевской работе, я начал смотреть глубже. Казалось более честным и реалистичным считать людей, и себя в том числе, никчёмностью (или дерьмом, как это определил Гурджиев), и тогда разглядеть в них некий маленький подлинный элемент. И, к моему удивлению, это также приводило к более сострадательному взгляду на человечество. Вместо того чтобы критически выискивать недостатки, я начал искать признаки достижений, подобно тому как радуются, когда собака выучивает трюки. Это лучше, чем бранить людей за то, что они вообще ничему не могут научиться.
Намеревался ли Гурджиев изменить таким образом моё отношение, вопрос спорный. Это оказало на меня воздействие, и мне стало казаться, что эффективность работы Гурджиева – или, если на то пошло, любой работы такого рода – неизбежно определяется восприимчивостью человека, с которым работают. Этот разговор привёл к тому, что в общении с чикагской группой и другими людьми я стал намного менее раздражительным и более спокойным. Был короткий период, в течение которого меня смущал парадокс, что я считал людей дерьмом и вследствие этого сильнее ощущал себя в гармонии с ними, но я недолго ломал над этим голову. Я был рад изменениям, и мне этого было достаточно.
Наша встреча закончилось тем вечером малопонятным анализом – со стороны Гурджиева – моего общения с ним. С юмором, явно смакуя некую личную шутку, он сказал, что другие присутствующие учились его работе совсем не так, как я. Из-за того, что в детстве я общался с ним, у меня были такие проблемы и войны, которых другие люди никогда не переживали. «Вы не хотели приходить сюда этим вечером, – сказал он, – поэтому мне, очень занятому человеку, необходимо было потратить время, чтобы послать за вами. Вы не хотели приходить, потому что у вас внутри борьба между реальным «Я» и личностью. Вы учитесь моей работе не из разговоров или книг, вы учитесь на собственной шкуре и не можете уйти. Эти люди, – и он указал на других членов группы, – должны делать усилия, приходить на встречи, читать книги. А вы, даже если никогда не будете посещать встреч, никогда не будете читать книг, всё равно не сможете забыть то, что я вложил в вас, когда вы были ребёнком. Эти другие, если не придут на встречу, даже забудут о существовании мистера Гурджиева. Но не вы. Я уже в вашей крови – делаю вашу жизнь несчастной навсегда – но такое страдание может быть хорошим для вашей души, так что, даже если вы и несчастны, нужно благодарить Бога за те страдания, которые я вам дал».
Перед тем как Гурджиев покинул Чикаго, у меня была с ним личная встреча. Я ломал голову над его замечаниями о моих проблемах в отношении его работы, и у меня не было никакого желания расследовать этот предмет дальше. Я устал от неразберихи, а его слова только усилили моё озадаченное состояние. Но когда Гурджиев попросил меня помочь ему приготовить еду у него на квартире, я почувствовал, что не могу отказать. Так вышло, что работы для меня было немного, и большую часть времени он задавал мне обычные вопросы о моей семье, о работе, которой я занимался и так далее. Это всё напоминало визит старого родственника, который снизошёл до проявления неожиданного интереса к младшему члену семьи.
Однако когда мы начали говорить о членах чикагской группы, я выдал довольно резкое замечание о том, что я называл их «ложным» отношением к его работе, и особенно об их так называемой нравственности.
Гурджиев, у которого не всегда, по моему опыту, были подробные сведения о мнениях или «слухах» о его группах или последователях, казалось, очень заинтересовался этими словами и стал настаивать на подробностях. Я сказал, с чрезмерным апломбом, что подозреваю чикагскую группу, по крайней мере, в двух просчётах: в фальшивой почтительности, как я это называл, и склонности использовать его работу как оправдание своей сексуальной распущенности или, по крайней мере, большого количества разговоров на эту тему. Поощряемый им, я добавил, что, по моему мнению, их концепция нравственности строится только на сексе и ни на каких других традициях.
Гурджиев улыбнулся и сказал, к моему удивлению, что находит это полностью понятным. «Фактически, возможно, вы даже сказали хорошую вещь про людей группы. Америка ещё очень молодая, сильная страна. Как любые молодые люди, все американцы очень интересуются, очень поглощены всем, что связано с сексом. Поэтому для них естественно говорить и действовать таким образом. Они не делают ничего плохого. Я много раз говорил, что вся работа должна начинаться с тела, также как я много раз говорил, что если хотите наблюдать себя, нужно начать с внешней стороны, с наблюдения за движениями тела. Только намного позже вы сможете научиться наблюдать эмоциональный и ментальный центры. У молодых людей ещё не так много чего внутри, поэтому не так много можно наблюдать. И это также хорошо, это одна из причин, по которой я приехал в Америку; и у меня много студентов-американцев. Европейцы уже пресыщены, знают всё, или думают, что знают всё о философии, религии и прочем подобном. Это не правда. Они просто сформировали внутреннего себя, что делает их гнилыми изнутри, потому что формирование было бессознательным. Американцы более чувствительны, потому что ещё не закрыты внутренне, они наивны, возможно, глупы, но ещё реальны. У американцев в намного большей степени есть шанс вырасти правильно, как люди, потому что они ещё не стали – как вы сказали – «ложными» людьми. Вам я могу сказать: всегда помните о поиске причин, которые не видны глазу. Вы уже замечаете разницу между американской и европейской нравственностью, но чтобы вывести суждение, нужно наблюдать глубже для того, чтобы понять».
Тогда я спросил, почему так много притворства в его студентах, в том, как они понимают его и его работу. Гурджиев попросил привести пример. Я ответил: «Мне кажется, что они никогда не слушают, что вы говорите – реальные слова – но тут же перетолковывают всё по-своему, что, на мой взгляд, явно неправильно».
«То, что вы сказали, правда, – заметил Гурджиев, – но если вы видите это, тогда вы должны уже начать понимать, как сложна эта работа. Когда я говорил, что вы учитесь не так, как другие, я говорил правду. Когда вы прибыли в Приоре в первый раз, вы ещё не были испорчены, не научены лгать себе. Хотя, может быть, вы уже лгали отцу или матери, но не себе. Поэтому вы счастливы. Но эти люди очень несчастны. Как вы, они, когда были детьми, научились лгать родителям, но когда они выросли, они научились лгать себе, и теперь это очень трудно исправить. Ложь, как и всё прочее, стала для них привычной. Поэтому даже когда я говорю очевидные вещи, из-за их желания благоговеть перед учителем и из-за того, что они не хотят тревожить свой внутренний сон, они ищут другие значения моих слов. В таком благоговении нет ничего хорошего, но оно необходимо им для того, чтобы они чувствовали себя хорошо».
«Но если так, – спросил я, – то как они могут чему-то научиться от вас или от кого-то ещё?»
«Может быть, они вообще ничему и не научатся».
«Тогда почему нужно стараться научить их?»
Гурджиев снисходительно улыбнулся. «Потому что возможность научиться есть, пусть даже очень маленькая».
То, как он преподнёс это, казалось очень логичным, но я сомневался в этой возможности для большинства людей, с которыми он работал.
После того как я покинул его квартиру, я обдумал нашу беседу и удивился тому, что я был исключением, в смысле, что я научился большему от него (по крайней мере, хоть чему-то), чем другие его студенты. Также я поразился тому, что нисколько не «горжусь» собой. После некоторого размышления я мог честно сказать себе, что у меня нет тщеславия по поводу своих навыков. В каком-то смысле, я гордился тем, что лично знал Гурджиева намного ближе и намного дольше, чем многие из его студентов. Но я не мог оценить свои реальные достижения по той простой причине, что если я чему-то и научился от него, то не знал, чему. Это было тоненькой путеводной нитью, но не слишком надёжной. Суть её была в том, что если кто-то получает знания или учится чему-то от него, то совершенно необязательно, чтобы результаты бросались в глаза.
Глава 4
После встречи с Гурджиевым в Чикаго в 1932 году я не виделся с ним почти два года. Осенью 1933 года я переехал в Нью-Йорк, и однажды в субботу после обеда, когда я вернулся с работы, мой домовладелец сказал мне, что ко мне приходил очень странный человек с сильным иностранным акцентом и хотел, чтобы я встретился с ним. Однако домовладелец не смог его понять и не узнал его имени. Единственное, что он знал, это то, что кем бы ни был этот человек, он жил в нью-йоркском отеле «Генри Гудзон». Я сразу же подумал о Гурджиеве, хотя мне было сложно поверить, что он потрудился узнать мой адрес и пришёл повидаться со мной лично. Немедленно я отправился в отель и, как и ожидал, обнаружил там Гурджиева.
Когда я вошёл в его номер, он сказал, что искал меня днём, но сейчас уже слишком поздно, и я ему уже не нужен. В этом приветствии не было теплоты, Гурджиев выглядел скучающим и очень уставшим. Несмотря на это, я был рад его видеть и был озабочен его состоянием, поэтому я не ушёл, но напомнил ему, что однажды он сказал мне, что «никогда не бывает слишком поздно делать исправления в своей жизни», и хотя я сожалею о том, что меня не было дома, несомненно, есть что-то, что я могу сделать сейчас.
Гурджиев взглянул на меня с усталой улыбкой и произнёс, что, возможно, действительно есть кое-что, что я могу сделать. Он отвёл меня на кухню и указал на огромную груду грязной посуды, которую нужно было вымыть; затем он указал на столь же огромную гору овощей, и сказал, что их нужно приготовить к ужину, который он собирался дать вечером. После этого он спросил, есть ли у меня время, чтобы помочь ему. Когда я заверил его, что есть, он предложил мне начать с посуды, а затем заняться овощами. Перед тем как покинуть кухню, он сказал, что надеется на меня и рассчитывает, что я справлюсь и с тем, и с другим – в противном случае, у него не будет времени, чтобы как следует отдохнуть. Я заверил его, что всё будет в порядке, и отправился мыть посуду. Гурджиев смотрел на меня несколько минут, а затем сказал, что несколько человек обещали помочь ему сегодня, но они не были членами нью-йоркской группы, которые могли бы сдержать своё обещание. Я ответил, что пока есть возможность, ему надо получше отдохнуть и не тратить время на разговоры со мной. Гурджиев засмеялся и покинул кухню.
Когда он вернулся, всё было сделано, и он был очень доволен. Затем Гурджиев начал готовить ужин и велел мне накрыть стол на пятнадцать человек, добавив, что на ужин придут несколько очень важных людей – важных для его работы – и пока еда будет в духовке, я буду нужен ему, чтобы преподать урок английского, поскольку очень важно, чтобы он общался с этими людьми должным образом – на языке, который они смогут понять правильно.
Когда мы закончили нашу работу, он сел за стол, сказал мне сесть рядом с ним и начал задавать вопросы об английском языке. Оказалось, до прихода гостей он хотел выучить все слова о различных частях и функциях тела, «которых не было в словаре». Мы, вероятно, провели около двух часов, повторяя все ругательства, которые я знал, и к тому же все непристойные фразы, которые я только мог придумать. Около семи часов вечера он решил, что стал уже достаточно опытным в нашем «сленге», который, вероятно, был ему необходим для этого ужина. Неизбежно я начал задумываться, что же это за люди придут в гости. В завершение урока Гурджиев сказал мне, что это было то, ради чего он меня разыскивал, потому что я был первым человеком, который несколькими годами ранее, в Чикаго, дал ему реальное значение и привкус слов «притворный» и «сомнительный»; по-видимому, эти слова за минувший промежуток времени стали очень часто использоваться в его беседах с американскими студентами. «Очень хорошие слова, – сказал он. – Сырые и необработанные… как и ваша Америка».
Гости оказались прилично одетыми людьми с хорошими манерами, и поскольку Гурджиев отправился «приготовиться» к ужину, я поприветствовал их и, согласно его точным указаниям, налил им напитки.
Он появился, когда гости провели у нас уже около получаса, и в своём приветствии очень извинялся за задержку и крайне несдержанно выражал восхищение внешним видом дам и признательность за то, что они почтили своим присутствием такого бедного, скромного человека, как он. Я был удивлён этой грубой лестью и тем, что Гурджиев изображал из себя ничего не стоящего и очень подобострастного хозяина. Но, к моему удивлению, оказалось, что это сработало. К тому времени гости уже сидели за столом и были в очень благодушном настроении (они выпили только один раз, поэтому это было не из-за спиртного). Они начали в каком-то шутливом и снисходительном стиле спрашивать Гурджиева о его работе и причинах приезда в Америку. Общий тон вопросов был скучающий – многие из присутствующих были репортёрами и журналистами – и гости вели себя так, как если бы им поручили интервью с каким-то придурком. Я уже видел, как они отмечали про себя отдельные моменты и мог представить себе, каким будет то «смешное» интервью или очерк, которые они могли бы написать. После нескольких вопросов я заметил, что тон голоса Гурджиева изменился, и когда я на него взглянул, он лукаво подмигнул мне.
Гурджиев перешёл к тому, что поскольку они очень образованные люди, то, несомненно, знают – поскольку такая скромная персона, как он, это знает, то они и подавно – что человечество в основном находится в очень жалком положении и может рассматриваться только как вырождающееся в обычные отходы, или, используя более привычный термин, в полное «дерьмо». И эта трансформация человечества в нечто бесполезное была особенно очевидной в Америке. Вот зачем он приехал – понаблюдать за этим. Он продолжал говорить, используя, конечно же, только бранные слова, которые мы с ним ранее выучили, что главная причина такого печального положения дел в том, что люди (особенно американцы) никогда не руководствуются разумом или хорошими чувствами, но только потребностями (обычно неприличными) их половых органов. Гурджиев указал на одну хорошо одетую привлекательную женщину, сделал комплимент её причёске, платью, духам и т. д., и добавил, что, несмотря на то, что она, конечно же, может не хотеть, чтобы кто-либо знал её мотивы или желания, с ним она вполне может быть честной. Все её причины столь тщательно следить за собой лежат в том, что у неё сильное сексуальное влечение (как он сказал, «желание трахаться») к какому-то конкретному человеку, и она так мучается этим, что использует каждую возможность, каждую уловку, какую только может придумать, для того, чтобы заполучить в постель этого человека. Гурджиев сказал, что её влечение было особенно сильным, потому что у неё очень богатая фантазия, и она уже представила себя в различных сексуальных позах с этим человеком. «Например, – как у вас в английском? – поза 69?» Поэтому при помощи своего воображения она сейчас готова к тому, чтобы сделать всё для достижения своей цели. Хотя компания была несколько поражена подобными размышлениями (чтобы не сказать «приятно возбуждена»), до того как кто-либо сообразил как-то среагировать, Гурджиев начал рассказывать о собственных сексуальных возможностях и богатстве фантазии, описывая себя как мужчину, способного на продолжительные и очень разнообразные половые акты – такие, которые леди, о которой шла речь, даже представить себе не могла.
Затем он бросился в детальный рассказ о сексуальных привычках разных рас и наций, в течение которого он отметил, что хотя французы известны всему миру своими любовными доблестями, необходимо отметить для присутствующих тот факт, что те же высокоцивилизованные французы используют такие слова, как «мамаша» и «киска» для описания своих противоестественных и извращённых сексуальных предпочтений. Однако Гурджиев добавил, что при всей строгости к французам, они, на самом деле, очень нравственные люди, сексуально непонятые и представленные в ложном свете.
Гости много пили в течение ужина – хороший старый арманьяк, как всегда – и после двух часов чистейшей матерной беседы их поведение стало полностью раскованным. Они были готовы поверить и принять то, что все они были приглашены на оргию, или по любым причинам оргия – или её начало – станут финалом. Гурджиев провоцировал их, давая точные описания мужских и женских органов и некоторых вариантов их применения, и, в конце концов, большая часть гостей распалась на группы в различных комнатах номера и в разной степени наготы. Привлекательная леди ловко проникла в маленький бар вместе с Гурджиевым и была занята соблазнением столь изобретательной личности, как он.
Что касается меня, то я был загнан в угол на кухне перезрелой благовидной дамой, которая говорила мне о своём возмущении тем, что Гурджиев использовал подобные слова в моём присутствии – я не выглядел старше семнадцати. Я объяснил ей, абсолютно честно, что это я обучил его всем этим словам – или, по крайней мере, большинству из них, и она неожиданно нашла это очень весёлым и сразу же стала ко мне приставать. Я отступил и сказал ей, что, к сожалению, я должен мыть посуду. Получив отказ, она уставилась на меня, обозвала различными грязными словами и сказала, что единственной причиной, по которой я её отверг, было то, что я был тем «маленьким педиком грязного старикашки», и хотел, чтобы только он «имел» меня. Я был этим слегка удивлён, но вспомнил репутацию Гурджиева как сексуального извращенца и промолчал.
В то время как гости были ещё увлечены, Гурджиев неожиданно выпутался от леди и объявил громким зычным голосом, что они уже подкрепили его наблюдение падения американцев, и им больше не нужно это ему демонстрировать. Он указал на нескольких людей, высмеял их поведение и потом сказал, что если они, благодаря ему, сейчас частично осознали, какими они являются на самом деле, то это был важный урок для них. Гурджиев заявил, что заслужил плату за этот урок, и ему будет очень приятно принять чеки и наличку от них, когда они покинут его номер. Зная его и наблюдая представление этого вечера, я не был очень удивлён, когда узнал, что он собрал несколько тысяч долларов. Я ещё меньше удивился, когда один мужчина сказал мне – как говорится, «как мужчина мужчине» – что Гурджиев, притворяясь философом, выдвигает наилучшие идеи о сексе и у него самая безопасная «крыша» для оргий, чем у кого-либо ещё.
Когда все ушли, и я заканчивал мыть посуду, Гурджиев, к моему удивлению, пришёл вытирать и убирать её. Он спросил, как я поразвлёкся этим вечером, и я ответил с праведным жаром, что мне было противно. Я также пересказал ему своё столкновение с дамой и её описание моих с ним отношений. Он пожал плечами и заметил, что в любом случае правду составляют факты, и я никогда не должен принимать во внимание или беспокоиться о мнениях. Потом он засмеялся и бросил на меня проницательный взгляд. «Ваше отвращение было превосходно, – сказал он. – Но сейчас важно, чтобы вы задали себе вопрос: что именно вызвало в вас это чувство?»
Я уже собирался уходить, когда Гурджиев остановил меня и снова обратился к моему опыту с дамой. «У таких женщин много гомосексуальных склонностей. Одна из причин, по которой она выбрала вас – вы молоденький парень, и в её глазах выглядите как девушка. Не беспокойтесь о том, что она вам сказала. В вашей стране слухи о сексе только создают репутацию сексуальности, поэтому даже обвинение той дамы совершенно неважно. Однажды вы научитесь большему в сексе, но этому вы научитесь сами, не от меня».
Глава 5
Георгий Иванович пробыл в Нью-Йорке несколько месяцев, всю зиму и весну 1934 года, и я регулярно виделся с ним. Мои отношения с ним постепенно сами собой снова стали такими же, какими были в мои ранние годы в Приоре. Я снова стал отвечать за домашнее хозяйство, помогал готовить, мыл посуду, исполнял поручения и прочее. Я также посещал встречи, лекции и чтения, но без особого интереса. Снова я был больше увлечён человеком (как тогда, когда был ребёнком), чем его доктринами.
Я планировал съездить в Чикаго во время моего двухнедельного отпуска летом 1934 года, и когда Гурджиев узнал об этом, он решил, что также посетит Чикаго в это же время, если ему будет удобно, чтобы я был его спутником. Я гордился тем, что был «выбран» его компаньоном и секретарём, и с нетерпением ожидал путешествия. По какой-то причине, я думаю потому, что Гурджиев считал, что это самое подходящее время, мы должны были уехать на поезде, отбывающем в полночь. Я собрался и был готов к путешествию ещё ранним вечером, и когда я пришёл в его номер, я думал, что у нас ещё много времени. Но с его сборами – кучи одежды, книг, еды, лекарств и прочего – мы покинули номер уже после одиннадцати вечера. Когда мы прибыли на станцию, имея в запасе около десяти минут, нас встретила большая делегация нью-йоркских последователей. Казалось, что у каждого было некое срочное архиважное дело, которое нужно было решить с Гурджиевым. За две минуты до отхода поезда я нетерпеливо перебил Гурджиева и сказал, что нам нужно садиться в вагон. Он сказал, что нам нужно несколько дополнительных минут – и это время было очень необходимым – и мне следует переговорить с кем-то, чтобы поезд задержали. Я ошеломлённо посмотрел на него, но понял, что спорить нельзя. Я смог найти какого-то служащего и рассказал ему историю про важность мистера Гурджиева, которая, к моему большому удивлению, сработала, и тот согласился задержать поезд на десять минут. Даже за это время Гурджиев не смог закончить свои крайне необходимые прощания до тех пор, пока поезд не начал двигаться, и я должен был заталкивать Гурджиева в двери последнего вагона вместе с его шестью или семью чемоданами. Как только он оказался в движущемся поезде, то начал жаловаться на то, что его прервали, и требовать, чтобы ему немедленно приготовили постель. Проводник с моей помощью объяснил ему, что наши места были через тринадцать вагонов, и нам нужно добираться до них – очень тихо, поскольку большинство пассажиров сели в поезд раньше и уже спали – через целый поезд. Гурджиев выглядел потрясённым, сел на один из своих чемоданов и закурил сигарету. Проводник сказал ему, что курение запрещено везде, кроме мужского туалета, и Гурджиев громко застонал из-за этой неприятности, но согласился потушить сигарету.
Понадобилось как минимум сорок пять минут, чтобы мы заняли положенные нам места. Наше продвижение – со всем багажом и горестными стенаниями Гурджиева по поводу грубого обращения с ним – было таким громким, что мы, наверное, разбудили в поезде всех. В каждом вагоне головы высовывались из-за занавесей, шикая на нас или проклиная. Я был страшно зол на Гурджиева, а также очень устал, и для меня было большим облегчением, когда мы нашли свои места. Но тогда, к моему ужасу, он решил, что ему нужно поесть, выпить и закурить, и начал распаковывать свои сумки в поисках еды и алкоголя. Всё же я смог заставить его уйти курить в мужской туалет. Сразу же после этого он уселся поесть, выпить и обсудить на повышенных тонах ужасный сервис в американских поездах и факт того, что он – очень важная персона – путешествует таким дрянным образом. Когда нам, в конце концов, пригрозили – в недвусмысленных выражениях – и проводник и кондуктор, что нас высадят с поезда на следующей остановке, я полностью потерял самообладание и заявил, что буду очень рад покинуть поезд, чтобы избавиться от Гурджиева. На это Гурджиев взглянул на меня невинными широко раскрытыми глазами и пожелал узнать, неужели я рассердился на него, – и если да, то почему. Я сказал, что взбешён, и что он разыгрывает спектакль. Гурджиев печально убрал еду и выпивку, а потом, закурив ещё одну сигарету, сказал, что он никогда не мог представить, что я, его единственный друг, буду разговаривать с ним таким образом и в буквальном смысле покину его. Это отношение только ещё больше разъярило меня, и я сказал, что, как только мы прибудем в Чикаго, я ухожу и надеюсь, что мы с ним никогда больше не встретимся.
После этого Гурджиев улёгся на своей нижней полке, всё ещё очень несчастный и бормочущий про моё жестокое сердце и ненадёжность, а я забрался на верхнюю полку, надеясь хоть немного поспать.
Через пять минут охов и ахов Гурджиева, его переворачиваний и метаний на нижней полке, а также возобновившихся шиканий и ругани других пассажиров, он начал громко жаловаться, что ему надо выпить воды, закурить и пр. Посыпалось ещё больше угроз от проводника и, в конце концов, около четырёх часов утра, Гурджиев угомонился и заснул.
Утром мы проснулись позже всех, и пока он одевался и несколько раз ходил в мужской туалет (не обращая внимания на то, насколько он был ещё неодет), на нас глазел весь вагон, полный недоброжелательных попутчиков, которые, конечно же, опознали в нас тех самых людей, которые так шумели минувшей ночью. Примерно через час я смог утащить его в вагон-ресторан, надеясь на спокойный завтрак, но снова мои надежды были разрушены. В меню не было ничего, что Гурджиев мог есть, и у нас был длинный раздражённый разговор с официантом и главным стюардом о возможности достать йогурт и подобную экзотическую – в то время – еду, сопровождающийся ярким описанием его пищеварительного процесса и его крайне специализированных потребностей. После нескольких долгих споров он неожиданно уступил и без какого-либо видимого дискомфорта, но с огромным количеством жалоб начал есть большой американский завтрак.
Поскольку поезд прибывал в Чикаго во второй половине дня, я не рассчитывал на комфортную поездку, но снова надеялся на лучшее. Мои страхи, однако, были обоснованы. У меня ещё никогда не было такого дня! Гурджиев непрестанно курил, несмотря на жалобы пассажиров и угрозы проводника, много пил и поглощал (в моменты, когда нам, казалось, угрожал весь мир) все виды еды, по большей части различные сорта сильно-пахнущих сыров. Каждый раз, когда другие пассажиры жаловались на его поведение, он долго извинялся, но неизбежно находил новые способы, чтобы сердить, раздражать и обижать их – не задевая меня.
Когда мы наконец достигли Чикаго, это показалось мне почти чудом. Каким бы ни было моё мнение о «чикагской группе», но когда я увидел на платформе большое количество людей, ожидающих прибытия Гурджиева, я был счастлив. Я помог ему выйти из поезда со всем его багажом и сказал, что ухожу, и он меня больше не увидит. Когда Гурджиев это услышал, то поднял на платформе такой шум, что ради сохранения спокойствия я согласился пойти с ним и членами группы на квартиру, которую сняли для него. Хотя я уже был взбешён и возмущён, вид раболепных последователей разозлил меня ещё больше. Они приготовили, явно с большими усилиями, ужин «гурджиевского типа» и сделали всё, что только могли придумать, чтобы его порадовать. К ещё большему моему отвращению Гурджиев начал хвалить каждого из них лично, пересказывая, какое ужасное путешествие он перенёс, как плохо я обошёлся с ним, и как сильно отличалась бы поездка с кем-нибудь из них – верными, преданными и уважающими последователями – ведь они смогли бы позаботиться о нём как следует, со всем уважением, которое они к нему испытывают. Я тут же подвергся нападкам самых пылких членов группы за неуважительное обращение с их лидером и так далее.
Примерно через час я дошёл до кризисной точки и заявил Гурджиеву и группе, что ухожу. Гурджиев с изумлением посмотрел на меня и сказал, что если я покину его, он не может остаться в Чикаго совсем один в такой большой квартире; что я не могу оставить его одного ни при каких обстоятельствах. К ужасу группы я сказал, что поскольку он сейчас окружён большой группой преданных сторонников, он вполне может обойтись без моих услуг, и я уверен, что он удостоверится в том, что они могут и хотят выполнить всё, что он только пожелает. Из-за этой вспышки я описал некоторые из их услуг хорошо подобранными бранными словами, которые мы с Гурджиевым проработали в Нью-Йорке – участники группы смотрели на меня с отвращением и возрастающим ужасом.
В Чикаго я с ним больше не виделся, несмотря на несколько посланий с просьбой отвезти его обратно в Нью-Йорк. Когда я вернулся, я тщательно избегал Гурджиева и нью-йоркскую группу, пока не узнал, что он вернулся во Францию.
Глава 6
Когда я встретился с Гурджиевым в следующий раз – в Нью-Йорке спустя год или два – я заметил, что наши отношения во многом изменились. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы успокоиться после кошмарной поездки в Чикаго и прийти к выводу, что он своим поведением заставил меня отойти от модели почитания героя, который несознательно сформировался во мне по отношению к нему. Я больше не «любил» его так бесспорно и идеалистично, и больше не оглядывался назад на мои ранние годы, как я делал до этого, гордясь близкими отношениями с «мастером». Я увидел, как меня самыми заурядными способами использовал человек, который мог использовать любых людей, которые оказывались рядом с ним. В этот новый приезд Гурджиева в Нью-Йорк я поприветствовал его как равного, но с искренним уважением. Заботы о персоне Гурджиева, мытьё посуды и выполнение поручений я оставил на долю других, более смиренных членов группы. Он не возражал против моего нового отношения и казался удовлетворённым тем, что видит во мне товарища, а не «раба».
Однако я должен признать, что когда вновь увидел его – он остановился в Great Northern Hotel – я очень близко подошёл к тому, чтобы в один миг вернуться к старому образцу поведения. Гурджиев не только выглядел усталым и сильно постаревшим, но и сама атмосфера номера – с молочными коробками на подоконнике и общим беспорядком в двух меньших комнатах – была убогой. Он вздыхал и стонал, жалуясь на недостаток интереса и энтузиазма у некоторых из его так называемых последователей, и на то, что у него нет денег, и он вынужден зарабатывать их, помимо того, что он проводит лекции, чтения, танцевальные группы и пр. Моим немедленным естественным порывом было желание как-то помочь ему, но я смог удержаться. Однако я навещал его (помимо прочего, он жаловался на одиночество) и в один из таких визитов узнал про некоторые способы, которыми он «зарабатывал деньги», когда они не появлялись в виде взносов от учеников. Я познакомился с потоком «пациентов» – по крайней мере они не были обычными «последователями» – которые регулярно приходили к нему за «лечением» разного рода. Большинство из них были алкоголики, наркоманы, просто обычные невротики, гомосексуалисты и те, кого можно было назвать «преступниками» всех мастей. Они хорошо платили за «излечение» от различных болезней или их симптомов. Я не знаю, в чём состояло лечение, кроме того, что все они нуждались в длительных и частых визитах к Гурджиеву в любое время дня и ночи – фактически, всегда, когда он мог найти лишнее время. Какие бы средства не использовались, обычный результат был таков: они преклонялись перед Гурджиевым, по крайней мере какое-то время. Эти люди отличались от членов группы тем, что они в большей степени преклонялись перед Гурджиевым-человеком, и это преклонение не имело ничего общего с его идеями или «методом». И это сопровождалось, в большинстве случаев, признательностью за «лечение».
Период зарабатывания денег продолжался недолго, и я почувствовал облегчение, когда он закончился. Я был не в восторге от своих визитов к Гурджиеву, и был рад, когда он вышел из горестного образа какого-то врача-шарлатана, живущего в убогой обстановке. Я мог только признать, что он был способен заработать достаточно денег – и, возможно, вылечить достаточно людей – чтобы оставить ту деятельность, которая всегда казалось мне не более чем игрой. Изгои также исчезли со сцены.
С этого времени я приходил встретиться с Гурджиевым в закусочную «Чайлдс», которую он называл своим «офисом» и где любил проводить время и писать. Также я несколько раз сопровождал его в коротких морских путешествиях – обычно в Нью-Джерси.
Во время одной из таких поездок, в которой его сопровождали несколько «верующих» (как я теперь называл его последователей), он представил меня мужчине и женщине, которые, как он аккуратно отметил, не были мужем и женой. Гурджиев сказал, что этому мужчине нравится быть женатым, и он уже был женат и разведён несколько раз, но на этой женщине он ещё не женился – но уже как бы опробовал её – и поэтому она была его «носовым платком». Гурджиев пустился в долгое повествование на тему отношения полов. Он сказал, что раньше существовали отношения, редко встречающиеся в наше время, которые можно было назвать «истинным браком»; брак, к которому мы привыкли, является просто узаконенным сексуальным взаимодействием. Поскольку большинство людей, мужчин и женщин, сексуально мотивированы и по этой причине нуждаются в разнообразии, их отношения редко бывают длительными и обычно заканчиваются разводом. Есть случайные исключения из этого правила, когда глубокие и крепкие отношения развиваются из того, что было вначале чистым сексом, но такое бывает редко. Большинство отношений, неважно, официальных или нет, являются просто отношениями мужчины и его «носового платка», что и подтверждает эта конкретная пара. «Для него, – сказал Гурджиев, – это очень удобно; он неожиданно испытывает потребность или желание высморкаться, а его носовой платок всегда с ним, нет необходимости носить такое выделение в кармане. Женщина-платок всё стерпит. Очень, очень удобно для современных мужчин. Для этого мужчины это особенно удобно, потому что ему нужно высмаркиваться очень часто; это его любимое развлечение».
Гурджиев улыбнулся им обоим после такого описания, и они улыбнулись ему в ответ. Снова я был удивлён тем, как люди принимают подобные заявления. Не то чтобы я ожидал возмущённого протеста, но это покорное согласие всегда меня поражало. И это было ещё не всё – обычно такие люди толковали подобное описание себя наиболее лестным для них образом, и даже могли зайти так далеко, что повторяли свою версию его комментария (конечно же, с этой лестной интерпретацией) другим членам группы.
Подобные разговоры занимали нас большую часть пути. Когда мы прибыли в дом каких-то друзей Гурджиева в Нью-Джерси, он настоял, чтобы они проводили нас на местный рынок, где он купил несколько фунтов чеснока, необходимого для приготовления специального блюда. Когда мы вернулись в дом, Гурджиев раздал всем указания; семь или восемь человек должны были заняться очисткой и приготовлением всей этой массы чеснока. Хоть я и не отказывался с возмущением от этой рутинной работы, я просто не стал в ней участвовать. Я сел с Гурджиевым на террасе, и мы стали пить яблочную водку, которую он только недавно распробовал. Через какое-то время он неожиданно и многозначительно спросил, как это так случилось, что я не помогаю чистить чеснок. Я ответил, что поехал не для того, чтобы чистить чеснок – я просто не хочу помогать. Тогда он спросил, не думаю ли я, что я выше других, и я ответил, поддразнивая его, что не считаю себя достойным такой важной работы. Гурджиев налил нам очередной стакан и произнес, что я никогда не смогу осознать, сколько у него неприятностей из-за его студентов. Не имеет значения, как тяжело он работает с ними, но когда они доходят до такой стадии, когда он думает, что может положиться на них, они тут же становятся ненадёжными и так далее. Он добавил, что в этом случае я был хорошим примером. Он потратил годы, прилагая неимоверное количество усилий, которое я не могу себе даже представить, воспитывая из меня достойного надёжного последователя, но сейчас, когда для меня было так важно помочь с чисткой чеснока, я его подвёл. Я ответил, что если я чему-нибудь от него и научился, так это тому, что на других нельзя полагаться – особенно в таких важных делах, как чистка чеснока.
Гурджиев поругал меня за непочтительную манеру разговора с ним, потом неожиданно сменил тему. Он сказал, что для него это большое удовольствие – видеть группу преданных последователей, послушно выполняющую работу, которую он им поручил. Мы помолчали, глядя как шесть или семь старательных последователей готовят чеснок, и я сказал, снова наполняя наши стаканы, что я легко понимаю это его удовольствие, и поэтому в данный момент мне приятно сидеть рядом с ним и разделять эту радость. Гурджиев снова выругал меня за недостаток серьёзности, но, несмотря на это, он рассмеялся, и мы продолжили вместе пить. После довольно долгого молчания он неожиданно спросил меня, почему я не ходил регулярно на встречи группы, чтения и прочее, и я ответил, что меня вряд ли можно отнести к примерным последователям из-за моего отношения. Мне претит общее чувство преклонения перед ним, которое испытывает большинство членов нью-йоркской группы – или любой другой группы – и мне некомфортно с ними.
Гурджиев очень серьёзно посмотрел на меня и сказал: «Вы помните, я говорил вам, что то, чему я вас научил, уже у вас в крови; что вы не сможете это забыть, как бы ни пытались?»
Я сказал, что помню, и он добавил: «То, что вы сейчас сказали мне, лишь подтверждает мои слова. Работа группы важна. Когда люди работают вместе, они могут помочь друг другу, могут сделать работу легче. Но с тех пор, как у вас сложились неправильные отношения с группой, вы стали несознательно создавать для себя трудности и страдания. Из-за того, что вы учились у меня ранее, сейчас вы создаёте для себя дополнительную борьбу. Это может быть хорошо для вашего будущего, но это очень тяжело. Вы отравлены на всю жизнь».
Гурджиев больше ничего не сказал, и мы продолжили пить в тишине, пока весь чеснок не был готов. Затем он распорядился замочить чеснок в бочке в некоем растворе и пообещал, что ещё вернётся, чтобы закончить приготовление. Я, во всяком случае, никогда больше не слышал о чесноке.
Глава 7
Гурджиев посещал Соединённые Штаты более десяти лет и стал известен довольно большому количеству людей, в основном в Нью-Йорке. Поскольку информация о нём передавалась из уст в уста, у людей неизбежно сложилось о нём несколько различных мнений. Кроме того, что его знали как серьёзного философа и мистика, он также «прославился» как шарлатан, знахарь и тому подобное. Из-за такой репутации, а также из-за неправильных представлений о нём и его работе, Гурджиева стали разыскивать и посещать люди самых разных сословий по разнообразным причинам, которые не имели отношения к его главной цели. В определённые периоды Гурджиев уделял этим людям немало времени, также как во времена, когда ради денег он проводил «лечение» пациентов, или, по крайней мере, давал им какие-то рекомендации.
Хотя я часто думал, что некоторых из этих встреч можно было бы – и, возможно, лучше было бы – избежать, было сложно и, возможно, нечестно пытаться оценить причины, из-за которых он общался с таким большим количеством различных людей. В то время мои размышления над этим вопросом были достаточно просты. Я полагал, что Гурджиев был, в некотором смысле, захвачен своим, бесспорно, искренним интересом к людям, и столь же искренним желанием помочь каждому, кто столкнулся с той или иной проблемой. Он был, с одной стороны, лёгкой мишенью. Но, учитывая его сложную натуру, он, конечно же, также порадовал себя большим количеством «игр», в которые он играл с людьми.
У большинства из тех, кто приходил тогда к Гурджиеву, несомненно, были проблемы. Часто этих людей направляли к нему доброжелательные члены одной из американских «групп». Почти во всех случаях «проблема» была психосоматической природы, и его рекомендации не всегда приводили к исцелению, в основном, из-за недостатка сотрудничества со стороны просящих.
В одном случае группа доброжелателей попросила его помочь женщине, которой было за пятьдесят и которая в течение нескольких лет много пила – по крайней мере, по мнению окружающих. Когда она обратилась за консультацией к доктору по причине некоего нездоровья, не связанного с её «алкоголизмом», частью рекомендаций доктора был запрет употребления алкоголя в любом виде. Гурджиев сказал, что ему необходимо увидеть эту женщину для того, чтобы решить, что для неё можно сделать. После того, как он встретился с ней и задал ей несколько вопросов, он сказал, что в принципе у неё всё в норме, кроме того, что у неё период химического дисбаланса, совершенно нормальный для женщины её возраста. Однако он добавил, что её длительное употребление алкоголя не было алкоголизмом. Фактически, у неё была свойственная данной местности нужда в некотором количестве алкоголя и полный отказ от него может привести к очень серьёзным последствиям, даже фатальным. Гурджиев прописал ей количество алкоголя, которое она должна употреблять ежедневно, и сказал, что за исключением абсолютно нормальных симптомов, которые приходят с климаксом и скоро закончатся, она была полностью здоровой. Он добавил, что есть несколько причин, по которым нужно следовать его совету, и что это не нужно раскрывать доктору. Ещё он хочет видеть её время от времени, и в конечном итоге её потребность в алкоголе будет постепенно снижаться сама по себе, но он хотел бы контролировать процесс. Что касается причин, по которым не следует говорить доктору о его совете, он сказал, что доктора, в общем, не любят, когда пациенты ходят «за их спиной» на консультацию к другим докторам или консультируются с кем-то, вроде него, кто не был юридически признанным врачом, что неизбежно приведёт к тому, что любой доктор немедленно отвергнет его советы и предписания.
Женщина, конечно же, была довольна его советом, и её здоровье стало немедленно улучшаться. Как указал Гурджиев, это было, в основном, связано с тем, что он, по сути, подтвердил её собственное мнение о своём состоянии. Он добавил, что это, конечно же, не всегда работает, но конкретно эта женщина была, в общем, «очень чисто настроена на свою систему». Он убедил её в том, что когда она заболевает, ей нужно следовать собственным инстинктам, а к врачам обращаться только при крайней необходимости или при несчастных случаях, которые не имеют ничего общего с её здоровым физическим состоянием.
Женщина оставалась в добром здравии несколько месяцев, пока её ложно-доброжелательный друг не захотел заинтересовать доктора Гурджиевым и доказать, что Гурджиев был по всем статьям лучшим специалистом, чем любой другой доктор. Этот друг известил доктора, что улучшение состояния женщины было результатом выполнения советов Гурджиева, полностью противоположных его рекомендациям. Доктор среагировал точно так, как и предсказывал Гурджиев. Он убедил женщину, что она медленно отравляет себя алкоголем, а Гурджиев, на самом деле, шарлатан. Он положил её в больницу, настрого запретив употребление алкоголя в любом его виде. Вскорости эта женщина умерла.
Гурджиев очень страдал, узнав о её смерти, и сказал, что хотя женщина действительно была «чисто настроена» на своё физическое состояние, она не была очень умной или мужественной и ей недоставало стойкости, чтобы сопротивляться привычному доверию к общепризнанным «докторам». Он добавил, что это был хороший пример того, что будет неизбежно происходить, когда люди советуются с ним и следуют его советам – часто радикальным – но в то же время не могут довериться ему полностью.
Похожий случай был с женщиной, которая, к большому расстройству её друзей, медленно умирала в больнице. Гурджиева убедили посетить её, и после встречи он сказал, хотя и не ей лично, что это не физическая болезнь. Эта женщина просто хочет умереть – она жаждет смерти, как мы это называем. Ей нужно что-то, во что верить и ради чего жить, а также немедленное лечение. Вероятно, Гурджиев смог убедить её, что есть причины, чтобы жить дальше, и порекомендовал ей ежедневные клизмы с оливковым маслом, которые нужно было ставить без ведома её докторов. (Женщина могла это делать, используя маленькую детскую спринцовку и принесённое ей небольшое количество оливкового масла). Гурджиев сказал, что причина такого предписания в том, что её состояние можно описать, как длительный запор из-за её нервного и эмоционального расстройства, и её кишечник был покрыт тяжёлым сухим грязным веществом, которое оливковое масло постепенно разобьёт, растворит и выведет.
Женщина взялась за дело с энтузиазмом, в основном из-за того, что Гурджиев заинтересовался ею. Лечение сработало, её состояние стало быстро улучшаться. Но как только она похвасталась перед докторами медицинскими способностями Гурджиева, это лечение было тут же прервано. Однако в этом случае женщина осталась жива. Но уже за стенами больницы она очень ругала Гурджиева за то, что «он стал причиной её проблем с докторами». Гурджиева это развеселило, и он заявил, что теперь у неё есть то, что ей действительно необходимо. Её ненависть к нему стала хорошей причиной, для того чтобы жить, даже если со временем эта ненависть утихнет.
Хотя было много разговоров об этих двух случаях – за и против – среди членов группы и других людей, знавших о Гурджиеве, ни один из них не создал ему каких-либо неприятностей ни с врачами, ни с властями.
Была, однако, одна история, которая причинила ему существенные неприятности и которая, в конечном счёте, сделала для него сложным пребывание в Соединённых Штатах и затруднила повторные визиты. Эта история, как и другие, была связана с женщиной. Как я помню, эта женщина – довольно молодая – встретила Гурджиева в Чикаго. Помимо интереса к его идеям, она очень увлеклась им как мужчиной. Он обсуждал её случай однажды в моём присутствии и сказал, что она была несчастной жертвой современного общества. Её плохо принимали другие люди из-за того, что она была внешне непривлекательна. Ей было сложно общаться, и её врождённая застенчивость вызывала у неё некоторые проявления, которые были неприятны другим людям. Гурджиев сказал, что это естественно, что она «влюбилась» в такого человека, как он, принявшего её с добротой и уважением. Хотя это будет сложно, но если он сможет поработать с ней лично несколько месяцев, он многое для неё сделает, и она будет автоматически расти из-за её увлечения им.
Основной трудностью в этой задумке было то, что семья молодой женщины считала её полуинвалидом и была против её общения с Гурджиевым. Несмотря на это, молодая женщина смогла вырваться от своих родителей и последовала за Гурджиевым в Нью-Йорк, где регулярно встречалась с ним и сопровождала его, как заблудшая овца.
Со временем она стала объектом насмешек для членов нью-йоркской группы, и было много недвусмысленных предположений о её отношениях с Гурджиевым. Многие, даже так называемые последователи, казалось, были только рады ухватиться за любые необычные отношения Гурджиева, как за хорошую тему для слухов и домыслов. Гурджиев заметил мне по этому поводу, что это очень глупая, но, как правило, неизбежная реакция людей против кого-то, кем они притворно восхищаются.
Хотя я ничего не знал о том, какими были эти отношения на самом деле, я знаю, что они были неожиданно и грубо прерваны появлением родственников этой женщины, которые начали обвинять Гурджиева в «аморальных сексуальных отношениях» с ней, и за этим обвинением последовало то, что её заперли в психушке.
До сих пор, из-за того, что не было никаких доказательств, подтверждающих обвинения, это всё было не очень серьёзным, хотя многие из нас беспокоились о возможных сложностях для Гурджиева в том, чтобы «заниматься медицинской практикой без лицензии» и из-за его статуса временно проживающего в Соединённых Штатах.
Однако после того как несчастная молодая женщина снова вернулась к своей жизни после недели заточения в клинике, тучи стали сгущаться. Из-за возобновившихся обвинений против Гурджиева – достаточно странных и раздутых его пылкими мнимыми последователями – он был арестован и помещён на Эллис Айленд на 10 дней. За это время я услышал все возможные обвинения в его адрес, словно разразился большой шторм из слухов и домыслов, а также все аргументы оппозиционной группы, которая поставила себе целью очистить его имя. Эта группа в конце концов, используя различные методы, одержала победу, но имя Гурджиева, насколько мне известно, никогда не было очищено полностью, и этот инцидент остался на нём чёрной меткой. В результате его пребывание в Америке было сокращено, и после его отъезда нью-йоркская группа оказалась расколотой на части.
Много лет спустя он упомянул этот эпизод и сказал, что он привёл к очень хорошему результату, поскольку послужил как шок, который отделил «зёрна от плевел» в его американских единомышленниках.
Глава 8
В один из многих визитов Гурджиева в Америку, как я помню, он очень часто ходил в кино. Он говорил, что ему, с его восточным темпераментом и характером, было очень сложно понять суть западной ментальности. Хотя многие западные люди утверждали, что фильмы представляют собой преувеличенные картины американской жизни и не показывают настоящую Америку, он с этим не соглашался. Активное физическое поведение, представленное в фильмах, было, конечно, преувеличено, однако основные побуждения – надежды, мечты и желания американцев – изображены очень точно. Гурджиев говорил, что только в фильмах общепринятое американское отношение, например, к сексу, показывалось именно таким, каким оно есть на самом деле. Он продолжал, что его утверждения, в любом случае, не могут быть оспорены, потому что интеллект создателей фильмов, очевидно, был таков, что они не могли ничего создать, но только скопировать – и порой исказить – ту жизнь, которой они, по его мнению, живут.
Когда Гурджиев развивал тему секса, показанную в фильмах, он говорил, что хотя секс изначально был только залогом воспроизведения и продолжения человеческого рода, совершенно очевидно, что он стал чем-то совсем другим, с тех пор как стал «цивилизованным» в Америке и где-либо ещё в западном мире. Секс, будучи по сути источником всей энергии, – и поэтому являясь потенциально неиссякаемым источником, например, искусства, – также стал для большинства людей не более чем наиболее возбуждающим развлечением из всех, известных современному человеку. Из-за этого энергия, которая была предназначена и могла быть использована для серьёзных и высоких целей, просто расходовалась, растраченная в неистовой погоне за удовольствиями. Хотя Гурджиев не осуждал другие цивилизованные привычки, он критиковал их с той точки зрения, что любая растрата была неправильной для человека.
Он намекал, что человеческие потребности в целом не были неким «извращением», как в случае секса. Потребность в еде, потребность удалять ненужные вещества из тела, спать и так далее сами по себе являются достаточно сильными. По сути, если конкретный человек имеет достаточно сильное желание пойти в туалет – или умирает от жажды или голода – никакая сексуальная неудовлетворённость не сможет взять над ним верх. Удовольствие от питья воды, когда действительно испытываешь жажду, конечно же, отличается от сексуального наслаждения, но имеет такую же силу. Извращённое понимание секса может быть успешно изучено и исследовано, и любое направление сексуальной силы в более творческие каналы, чем чистое удовольствие, будет полезной задачей для любого человека.
Люди часто спрашивали Гурджиева, как именно «искажён» секс, но он уходил от этих вопросов, как от незначительных. Искажение было искажением и не имело значения, какую форму оно может принимать – вопрос «хорошего» и «плохого» искажения не стоял. Секс, в общем, искажён всякий раз, когда служит для чего-то ещё, кроме основных намерений природы: творить детей и творить энергию, которая может быть использована для более высоких целей, чем физическое или эмоциональное наслаждение. Неправильное использование этой энергии в любом случае было пагубным.
Гурджиев часто использовал секс, как некий шок-фактор в обращении с людьми. Я помню случай с одной молодой женщиной, танцовщицей, которая хорошо подходила для работы Гурджиева. Так как она была хорошей танцовщицей и хорошим учителем, ей было позволено вести группу «гурджиевских» танцев для новичков. Однако её интерес в этой работе не пошёл дальше удовольствия от того, что она заняла позицию некоего авторитета. Когда она однажды поставила под сомнение одно из утверждений, сказанное Гурджиевым на лекции, он сказал ей, что даст личный ответ на её вопросы, и договорится с кем-то, чтобы её привели к нему, когда он будет свободен.
Той же ночью, после лекции, он сказал мне пойти к этой женщине и пригласить её прийти в его комнату в три часа утра. Он также просил передать ей, что он покажет ей некие чудесные вещи – которые она не может даже представить. Когда я передал ей это послание, она презрительно выслушала и, демонстрируя праведный шок и злость, сказала мне ответить Гурджиеву, что она осознаёт «предложение», которое только что услышала, и не только не придёт в его комнату, но и не желает больше иметь ничего общего с его работой.
Гурджиев очень развеселился, когда я передал ему этот ответ, и сказал, что она сделала неудачный для неё, но хороший для него выбор. Её озабоченность сексом была такой, что она больше не могла быть хорошим учителем его танцев, и он выбрал этот способ – сохраняющий её лицо – для её увольнения. Однако он добавил, что было время, когда он был не прочь «развлечься» в современном американском стиле, и они оба не пожалели бы, если бы она согласилась его посетить. Так, как всё случилось – это тоже хорошо, потому что у него на самом деле нет времени, чтобы работать потом с отголосками, которые неизменно последовали бы, если бы она приняла его «предложение». Также он сказал, что её отказ послужит ей темой для размышлений и работы воображения до конца её жизни. С одной стороны, она сможет говорить, что «отвергла» активные ухаживания Гурджиева, с другой стороны, она будет размышлять, как бы это было, если бы она согласилась. Я помню реакцию одной женщины на этот инцидент, поскольку танцовщица, естественно, не замедлила распространить эту историю. С огорчённым взглядом она сказала мне: «Если бы это только была я! Какая возможность! Можете ли вы организовать мне такое свидание?» Я посоветовал ей обратиться к Гурджиеву лично и дать ему знать о своём существовании, но, столь же печально, она признала, что «у неё не хватит мужества».
Казалось также, что Гурджиев развлекался тем, что описывал, обычно в точных деталях, сексуальную жизнь или сексуальные истории из жизни людей, приходивших к нему за советом. Он говорил, что поскольку секс, в силу самой своей природы, допустим только в очень ограниченных формах, довольно просто отследить конкретные формы удовлетворения, которые привлекают определённые характеры или темпераменты. Описания были неизменно вульгарными и часто забавными.
Я слышал очень много историй и огромное количество слухов про предполагаемые сексуальные практики Гурджиева. Большинство из этих слухов были явной неправдой и, казалось, являлись результатом того, что некто, кто поставил себя в роль лидера или у кого есть «школа» необычного типа, должен также, более или менее автоматически, иметь необычную и разнообразную сексуальную жизнь. Единственная несколько необычная правда об этой стороне его жизни, известная мне, состояла в том, что у него были дети от разных женщин, с которыми он не состоял в браке – но это нормальное и в целом принимаемое обществом поведение, далёкое от слухов про практики, ритуалы и оргии, которые, как я слышал, ему приписывали.
Даже сейчас, через много лет после его смерти, я сталкиваюсь с тем, что очень часто люди, которые знают о нём по слухам, спрашивают про его сексуальные практики, часто намекая, что они должны быть не только очень интересными и необычными, но также являются и частью его учения. И, между прочим, по их мнению, я либо точно принимал участие в этих практиках, либо, по крайней мере, всё знаю о них. Такие люди всегда разочаровывались (можно даже сказать, что их иллюзии рушились), узнав обратное, а именно, узнав, что он был женат, реагируя на это чуть ли не так, как если бы это был последний грех для такой «своеобразной» натуры.
Глава 9
В беседах о современной Америке Гурджиев иногда упоминал «новых американских богов», учёных, и, в частности, личных богов – врачей и психиатров. Он, казалось, чувствовал, что врачи были опасной породой, потому что, даже если они часто движимы высокопарными принципами, наподобие «посвятить себя спасению человеческих жизней», они слишком мало знают о человеке, почти ничего не знают о взаимосвязи мозга, эмоций и тела, и их цель, в общем, не в том, чтобы помочь человеку или спасти его, но просто истребить болезнь. Человек – это не только высший, но, возможно, единственный организм, который постоянно и коренным образом противоречит балансу природы своей очень вредной деятельностью в любых обстоятельствах. Это особенно опасно, потому что люди не знают, что они делают и даже не принимают природу во внимание. Природа бесконечно терпелива, постоянно адаптируется к нагрузкам, навязанным ей человечеством, особенно учёными, но, в конце концов, она будет вынуждена «расквитаться», как это и происходит, и вынудит человека к надлежащему балансу и гармонии.
Что касается докторов и болезней, то будет неверным заявлять, что Гурджиев оправдывал эвтаназию или считал профилактику болезней плохой целью, но бесспорно, что продление человеческой жизни в любых обстоятельствах и любой ценой было, по его мнению, бесполезным и объективно аморальным. У каждой жизни, согласно Гурджиеву, своя цель и собственный ритм, и только наш ненормальный страх смерти и то, что мы рассматриваем её не только как что-то ужасное, но и плохое, вынуждает нас к продлению физической жизни любой ценой. Это бессмысленно, поскольку жизнь, как мы её понимаем, не имеет никакого значения или сознательной цели даже для тех, кто полностью здоров и кому ни в коей мере не угрожает болезнь или смерть. Гурджиев интересовался статистикой основных заболеваний – главных убийц – и считал, что повсеместное распространение сердечных болезней и рака хорошо для той цивилизации, которую мы создали и в которой живём. Эти две «болезни», наравне с менее опасными заболеваниями, такими как язва, были почти всегда неизбежным результатом жизни в дисгармоничной атмосфере постоянного напряжения и стресса.
Многие приверженцы Гурджиева были подавлены его часто повторяемым категоричным утверждением, что человек способен к реальной учёбе и «изменениям» только до достижения некоего вида зрелости – обычно лет в двадцать или около того: момента, когда он прекращает расти автоматически. После достижения этой точки жизнь не будет представлять из себя ничего более чем «скатывание вниз», подобно разжимающейся пружине, и ничего нового уже не будет воспринято, ничему новому нельзя будет научиться. Поскольку многие приходили к Гурджиеву намного позже достижения этой «зрелости», они бывали удручены этой теорией и часто видоизменяли её, придавали ей другое значение, которое позволяло именно им продолжать надеяться и не падать духом.
Однажды я отметил, что люди, которых я видел в Приоре, в различных группах и сейчас в Нью-Йорке, на мой взгляд, толкуют идеи Гурджиева таким образом, чтобы обнадёжить себя или поддержать, и зачастую при помощи подобных толкований избегают простой правды или того факта, который он утверждал. Гурджиев ответил, что это болтовня, важно не быть жестоким к людям, что нельзя скупиться на надежду для них, и если благодаря таким трактовкам они могут удерживаться в его учении, у них есть шанс впитать нечто ценное – если не для этой жизни, то хотя бы для следующей. Эта тенденция к «толкованию» – для того, чтобы сделать его теории «легко усваиваемыми» – была показателем того, как сильно люди нуждаются в поддержке, руководстве или обучении разного рода, и эту потребность нельзя презирать. Гурджиев добавил, что поскольку один человек может лишь незначительно повлиять на большое количество других людей, в конечном счёте этот человек может передать то знание, которое он получил, лишь какому-то одному человеку, и это было сложной задачей для учителей на протяжении всей истории. Если расти и учиться в жизни, то можно прийти к знанию, что собственные страдания – ничто по сравнению с неизбежным наблюдением очевидно ненужных страданий других. До известной степени самое трудное испытание в жизни – это невозможность облегчить страдания других. И хуже всего то, что большинство людей страдает бессмысленно, их страдание никогда не послужит какой-либо полезной цели. Вместо «использования» своих страданий для развития высшего сознания, люди проводят своё время, используя все возможные способы, чтобы облегчить эти страдания, которые в любом случае не могут быть облегчены. Гурджиев продолжил – и повторял это в своих книгах – что если конкретный человек может научиться жить с постоянным сознанием неизбежности своей собственной смерти, он уже достигнет многого на пути роста и подготовит себя к реальному обучению. Но, согласно Гурджиеву, печально то, что состояние нашего сознания, в общем, таково, что даже такое осознание в принципе невозможно. В некоторых человеческих организациях люди могли стремиться к смерти, к тому, чтобы завершить жизнь в сражении, но это совсем не то же самое, что сознательное принятие безжалостной, неумолимой, неизбежной смерти самого себя. Возможно вообразить чужую смерть, даже смерть тех, к кому очень привязан, но свою – никогда.
В течение этого периода в Нью-Йорке я помню ощущение того, что хотя Гурджиев казался мне пророком гибели, катастрофы и безнадёжности, он также вселял и надежду. Когда я сказал ему об этом парадоксе, он напомнил мне, что часто говорил мне смотреть на вещи «вверх ногами» или «с другой стороны медали», и этот большой парадокс, эта «палка о двух концах», хотя потенциально и опасная вещь, но также очень полезный инструмент, благодаря которому можно найти энергию и силу работать против трудностей, которые кажутся непреодолимыми. Он также сказал, что любые усилия, меньшие чем «сверхчеловеческие», не имеют никакой ценности, снова делая акцент на том, что единственная надежда человека – это бороться, чтобы достичь «невозможного». Единственное, что нужно сделать – это сделать невозможное.
Глава 10
Возможно, из-за сути его работы и затруднений его студентов, Гурджиев часто поднимал тему добра и зла. Он часто утверждал, что по существу, таких вещей, как добро и зло, нет вообще, они существуют только в форме нравственных понятий в человеческом уме. Но поскольку его работа была связана с людьми, и поскольку люди сами по себе озабочены добром и злом, именно по этой причине добро и зло реальны – в том смысле, что если кто-то верит в существование чего-то, для него оно существует, ум делает это реальным.
В объективном смысле Гурджиев продвигал то, что он называл «объективной моралью» – нравственность, базирующуюся на индивидуальной совести, а не на общественных определениях добра и зла. В этом смысле зло определяется как некая неправильная функция или проявление человека – то, что причиняет вред самому индивидууму и его близким. Гурджиев настаивал, что если добро и зло существуют, то есть если мы считаем, что они реальны, то потенциальная способность человека утверждать добро и зло всегда одинаково сильна, и она действительно возрастает, когда человек растёт и развивается. Хотя я часто слышал возражения против этой теории, она мне казалась простой и достаточно логичной. Когда человек учится и растёт, его общий потенциал и его сила возрастают. Это казалось естественным, поэтому если присоединяться к моральным идеям, описанным словами «добро» и «зло», потенциал человеческого действия в любом смысле автоматически возрастает. Однозначно, Гитлер и Сталин, вместе с миллионами их последователей, были убеждены, что их цели, – и поэтому средства для их достижения, – были «добрыми».
В дискуссиях по этому поводу было очень много недоразумений, в основном из-за того, что для любой большой группы людей оказывалось сложным определить, что хорошо, а что плохо, а поэтому – принять эти определения. Мне казалось, что когда Гурджиев использовал эти термины, он использовал их в особом и довольно узком смысле: имеющем отношение к созидательным и разругайтельным силам в человеке по отношению к его собственному развитию и росту. К примеру, он часто предупреждал, что чем больше работаешь, тем сложнее становится работа; другими словами, по мере роста не достигаешь большего покоя и не получаешь никакой видимой или явной награды, не становишься очевидно «хорошим», но борьба между возможностями для проявления «добра» или «зла» усиливается. Сам Гурджиев был интересным примером этой теории, и я часто думал, что его личная сила была такой, что он мог очень легко сделать столько же зла, сколько делал добра. Когда он советовал женщине бросить её хорошо оплачиваемую должность и влезть в долги, чтобы освободить себя, наконец, от озабоченности финансовой безопасностью, многие люди считали, что этот совет был «плохим», но были и те, кто считал его «хорошим». Это зависело от того, как женщина отнеслась к этому совету, в смысле того, как он на неё повлиял. (Кстати, она последовала этому совету и много лет боролась, чтобы погасить долги; она сочла, что получила опыт, который поспособствовал её росту и пониманию жизни и людей, а также освободил её от несознательного стремления к безопасности).
Из-за того, что Гурджиев производил впечатление на людей, ему приходилось иметь дело с большим количеством ярлыков, навешиваемых на него из-за того, что многие люди приходили к нему с предвзятыми фантазиями о его возможностях и его учении. Такие «мнения» обычно не были основаны на правде или каких-то фактах и только разрастались после того, как человек встречался с Гурджиевым. Из-за его репутации люди редко шли на встречу с человеком по фамилии Гурджиев – они встречались с его образом, который заранее сформировался в их уме. Человек, который был убеждён, что Гурджиев имеет дело со «злобной», чёрной магией, при встрече с ним будет истолковывать всё сказанное им как подтверждение того, что он действительно «чёрный маг».
Много лет назад Алистер Кроули, который создал себе имя в Англии как «маг», который среди прочего хвастался тем, что подвесил беременную жену за большие пальцы рук, чтобы создать ребёнка-монстра, совершил непрошеный визит к Гурджиеву в Фонтенбло. Кроули был твёрдо убеждён, что Гурджиев «чёрный маг», и очевидным предлогом его визита было вызвать Гурджиева на дуэль магов. Визит не имел результата, потому что Гурджиев, хотя и не отрицал знания неких сил, которые могут называться «магическими», отказался их демонстрировать. В ответ Кроули тоже отказался «открыть» свои возможности; к большому разочарованию зрителей, мы не стали свидетелями каких-то сверхъестественных подвигов. Но Кроули уехал с впечатлением от Гурджиева, что тот был либо (а) обманщиком, либо (б) более слабым чёрным магом.
Гурджиев использовал термины «хороший» и «плохой» в очень простом, прямом смысле, когда говорил, что для человека плохо не уважать своих родителей, что «хороший» человек обязательно должен их уважать. Я думаю, что убийство он также отнёс бы к «плохому», но помимо этих очевидных примеров он никак не пояснял ни то, ни другое. Определённо, весомая часть его учения была попыткой помочь ученикам избавиться от обыденных понятий (моральных) добра и зла, и заменить их привычную нравственность объективной моралью, которая базировалась бы на потребностях и требованиях совести, что было правильно и естественно для человеческой индивидуальности. Однако он настаивал, что нужно прожить жизнь полно – в обществе – и для того, чтобы этого достичь и не выделяться, необходимо разделять, по крайней мере официально, преобладающую мораль общества. Другими словами, необходимо «сыграть» роль на подмостках жизни, но всегда быть способным различать внешнего «играющего роль» и внутреннего «реального» человека. Гурджиев отметил, что это очень сложно сделать правильно, поскольку трудно разделить себя – большинство людей «играют роли» всю свою жизнь, имитируя, что они живут, когда они фактически только реагируют на жизнь, которая происходит с ними. В противоположность принципам, выраженным в «Нагорной проповеди», как её часто понимали, нужно «зарыть свой талант в землю» от невежд и непосвящённых, поскольку они могут только полностью автоматически пытаться уничтожить любой «талант» или «знания»; однако точно так же было важно не прятать это знание или «талант» от себя и от тех, кто работает серьёзно и честно для достижения тех же целей саморазвития и правильного роста.
Глава 11
Гурджиев вернулся в Европу в конце тридцатых, и мы не виделись после этого много лет, хотя в тот момент я об этом ещё не подозревал. Я регулярно виделся с ним в Нью-Йорке, когда он был там, но у нас не было серьёзных личных бесед. Однако перед его отъездом у нас состоялся длинный разговор, в котором он снова повторил, что мне необходимо опытным путём исследовать мир; что не имеет значения, знаю ли я об этом или нет, но я «впитал» достаточно материала – по крайней мере на первое время – и что для меня важно прожить жизнь и использовать этот материал в различных ситуациях. Гурджиев не дал чёткого совета отстраниться от его работы или от американских групп, но когда я спросил его об этом, он ответил, что этот вопрос разрешится сам собой, если я буду делать то, что я чувствую, что я должен делать.
В последующие годы я время от времени участвовал в групповых встречах и иногда присутствовал на чтениях его книг, но недолго и не постоянно. Несмотря на это, его влияние на меня оставалось бесспорным. Так же как ребёнок, который рассматривает родителей как окончательный авторитет, я понял, что никогда не приму какого-либо важного решения без попытки соотнести его с точкой зрения учения Гурджиева. Я обнаружил в себе то, что удивило меня самого, – я стал склонен судить себя и других со строго нравственной и довольно «пуританской» точки зрения. Я ещё был молод и относительно неопытен, и мои суждения склонялись к жёсткости и великой строгости. Было ли это результатом моей связи с Гурджиевым (который был намного более «пуританином» и «благочестивым» в большем количестве смыслов, чем это можно было себе представить), или просто обнажение моего пуританского средне-западного американского происхождения, я не уверен, но время шло, и я начал чувствовать, что большинство из моих суждений были результатом неосознанного протеста против его авторитета и от столь же неосознанной попытки с моей стороны освободить себя от его сильного влияния. В любом случае, это была искренняя борьба, состоящая из моих сильных чувств к Гурджиеву как к человеку и, если можно так сказать, к родителю, и столь же сильного «осуждения» поведения многих из его последователей.
Примером моего внутреннего конфликта было то, что хотя я отверг большинство его последователей и не посещал их встреч, я продолжал, хотя и не зная этого, почитать лично Гурджиева. Лучшей иллюстрацией этого была моя встреча с П.Д. Успенским, в прошлом учеником Гурджиева, который проводил лекции и встречи в Нью-Йорке. Мне сказали, что он объявил об особой серии лекций для людей, которые в то или иное время были связаны с Гурджиевым, и меня уговорили прийти на предварительную лекцию, которая была своего рода вступлением ко всей серии. Я пошёл, хотя и вопреки здравому смыслу.
Большая группа последователей Гурджиева встретилась с Успенским на квартире в Нью-Йорке, где мы прослушали бесконечное чтение – слишком малопонятное для меня – после чего Успенский объявил, что будет отвечать на любые вопросы, которые возникнут у нас перед тем, как мы «запишемся» (или не запишемся) на последующую серию лекций. Были даны ответы на различные вопросы, но единственный вопрос, который был интересен лично мне: «Почему Успенский «порвал» с Гурджиевым и публично отделил себя от гурджиевской работы?» Для того чтобы прояснить возможные недоразумения, я хотел бы заметить, что ходили слухи, будто Гурджиев «отстранил» Успенского; но в начале этой «предварительной лекции» Успенский заявил, что он сам оставил Гурджиева. Гурджиев, что характерно, никогда ничего не говорил об этом разрыве. Успенский улыбнулся на вопрос и сказал, что ответ был очень прост: когда он понял, что «Гурджиев не прав», он принял решение оставить его – добавив, что детали этого открытия будут рассмотрены в последующих лекциях. Я ответил, с гораздо большим чувством, чем я от себя ожидал, что я услышал достаточно. Для меня было открытием, что я столь неистово верен Гурджиеву и точно уверен, что он не может «быть неправым» ни в чём. Я не посетил ни одну из последующих лекций Успенского, а те, кто посетил, сказали только, что лекции были очень интересными, и я не должен был их пропускать.
Несколько лет спустя состоялось примирение между «фракциями» Гурджиева и Успенского, и я думаю, что книги Успенского – особенно «В поисках чудесного» – были рекомендованы к прочтению будущим ученикам Гурджиева. У меня нет информации об этом примирении, я не присутствовал, когда это случилось, и никак не общался с гурджиевскими или иными группами около пятнадцати лет. Книги Успенского, особенно «В поисках чудесного» и «Четвёртый путь», были бесспорно необходимы к прочтению для любого, кто интересовался Гурджиевым, но, возможно, нет нужды добавлять, что опубликованные книги самого Гурджиева – предполагая, что есть достаточный интерес и решимость действительно прочесть их – единственные книги, которые передают подлинную суть человека и его учения.
Хотя я поставил Гурджиева выше Успенского, постепенное осознание моей вспышки преподнесло мне некий сюрприз: я устал, и меня тошнило от всевозможных мессий, пророков и мистиков – от Халиля Джебрана и Уильяма Блейка (всегда связанных в моём сознании из-за их рисунков) и до – включительно – Успенского, Гурджиева, Будды и самого Иисуса Христа. Это была хорошая, здоровая и злобная реакция, и она была – по крайней мере, на мгновение – освобождающей. Однако мудрость, всевидение и влиятельность этих людей могли бы (это было, в конце концов, необходимо, или я так считал) быть оценены более тривиальными и практичными истинами, чем те, которые они сами иногда цитировали. «Два сапога пара…», «… рыбак рыбака видит издалека» и прочее сейчас кажется мне намного более честной точкой зрения: мне были понятны их реальные достижения. Я знал, что возможно, если не вполне вероятно, я просто не мог оценить их – другими словами я не был хорошим учеником какой-либо философии – но я должен был сделать эту оценку для себя. Поскольку я оценивал их только для себя, это не могло отозваться для кого-нибудь в будущем какими-либо вредными или полезными последствиями.
Я не пытался оценивать умерших. Основной моей целью были «провидцы», которых я знал лично; Успенский (я познакомился с ним ещё в Приоре, и виделся позже на встрече в Нью-Йорке) и Гурджиев. Я понял, что я слишком мало знаю об Успенском, чтобы сделать какие-то выводы о его значении. Я обнаружил, что «Tertium Organum», «Новая модель Вселенной» и другие книги его авторства – чрезмерно интеллектуальные и в общем малопонятные, а это значит, что лично для меня неинтересные. Я не сужу об их возможной ценности.
Что касается Гурджиева, то я заметил, что не критиковал его с обычной точки зрения. Я не беспокоился по поводу его некоторой безнравственности; для меня не имело значения, что у него были незаконнорождённые дети, что он много пил, или что он мог быть «магом» или «шарлатаном», или, как он сам себя называл, «дьяволом». Но если, в конечном счёте, рост зависел от личных усилий, если всё это было в любом случае «на ваше усмотрение», тогда почему он был мессией? Кто, кроме Гурджиева, думал или знал, что он был избран или что он не мог быть никем, кроме как учителем? Как человека я знал его достаточно хорошо, чтобы быть сильно и искренне привязанным к нему. Что касается учителя… что же, это совсем другой вопрос. Я мог принять его в этой роли, как если бы я был ребёнком, а он родителем, который меня «учит». Для родителя естественно учить ребёнка, потому что это его ребёнок. Но быть предводителем человечества? Я пришёл к выводу, что в этом случае Гурджиев должен был быть таким же фанатиком или благоговеющим перед знаменитостями (хотя бы перед кем-то), как и его ученики. Может быть. Может быть и нет. Мои размышления не привели меня ни к чему, кроме как к заключению, что у меня нет должной «веры» или – в отношении Гурджиева – «понимания». Но в борьбе с этой проблемой мне стало легче. Как-то странно, но он перестал мне нравиться как личность, даже более того, он стал казаться мне в буквальном смысле олицетворением превосходного выражения «настоящий честный жулик». Я чистосердечно принял то, что Гурджиев вырос подобным путём, добро и зло внутри него развивались одинаково. Но я не принимал такого развития для себя. Я был на стороне чего-то, и даже сам не знал, чего именно. Я хотел верить в «добро», и хотел бороться за него. Возможно, это было чем-то похоже на неожиданное понимание того, что вы верите в Бога.
Это моё «состояние бытия» продолжалось недолго. Простой факт начала Второй мировой войны оборвал почти все мои «религиозные» чувства, и не только их. Несмотря на это, где-то в конце войны состоялась моя наиболее важная встреча с Гурджиевым.
Глава 12
Даже сейчас мне сложно описывать мою следующую встречу с Гурджиевым в конце лета 1945 года, за несколько недель до сброса первой атомной бомбы в Японии. Это описание нужно предварить пояснениями причин моего состояния в то время.
Я работал с 1940 по 1942 годы в Нью-Йорке и Вашингтоне – в основном на английское правительство – и был эмоционально очень вовлечён в «военное напряжение». Ко времени моего призыва у меня была возможность получить отсрочку, но я чувствовал, что для меня будет «неправильным» избегать опыта реальной войны, и я оставил всё как есть.
Армейская жизнь поглотила меня достаточно быстро, я был шокирован ею и теми людьми, с которыми мне пришлось общаться. Я знал, что каждый человек стремится провести свою жизнь в рамках маленького социального круга, своего типа и класса. Я бы никогда даже не узнал о существовании столь многих типов и классов людей, которых я встретил на службе в течение первых нескольких недель.
Ужас от последствий войны пришёл ко мне за рубежом. Я не был готов к массовым бомбардировкам и другим подобным кошмарам. На момент поступления на службу я толком ничего об этом не знал. Я считал, что у меня хорошая заграничная секретарская работа, и был доволен тем, что выполняю целесообразный труд и тем самым принимаю участие в войне. Несмотря на то, что служба была прежде всего скучной, я был счастлив быть настолько занятым, чтобы у меня не было времени на любое активное размышление. Но сильные, даже если и подавленные чувства должны были найти какой-то выход, и через несколько месяцев я соскользнул в долгосрочную депрессию. Из-за этого я стал много есть и набирать вес. Это было следствием того, что было для меня намного более страшным, чем любая депрессия. У меня была серия, как мне казалось, сверхъестественных спасений, случившихся при зловещих обстоятельствах. Я опишу два из них. Как-то раз, во время манёвров в Англии, я работал за своим рабочим столом в «штабной» палатке в компании нескольких офицеров – их было девять или десять. В этот момент началась воздушная атака, но никто не обратил на это особого внимания. Я вышел, чтобы пойти в полевую уборную, и во время моего короткого отсутствия в палатку попала бомба и всех, кто там был, разорвало на кусочки. Я увидел свою пишущую машинку в нескольких футах от меня – в идеальным состоянии, что показалось мне просто сверхъестественным.
В другой раз я поехал на выходные в Торки на южном побережье Англии. Вместе с ещё одним солдатом мы остановились напротив какого-то здания, чтобы посмотреть на парк под нами. Неожиданно мы были обстреляны шестью германскими боевыми самолётами, которые прошли «под радаром», почти на уровне моря. Это случилось настолько быстро, что ни мой друг, ни я ничего не могли сделать, и просто застыли ошеломлённые. В парке было убито много людей, и когда один из самолётов обстрелял здание, возле которого мы стояли, мой друг был разорван пулями, которые прошли от меня в нескольких дюймах, хотя мы были не далее трёх футов друг от друга.
Как я уже упоминал, это только два случая, – а было их намного больше, – которые оказали на меня зловещее воздействие. Во-первых, моя реакция была довольно странной – почему так случилось, что я был человеком, который не должен быть убит? Был период, когда я почти верил в то, что «заколдован» и в некотором смысле избран. Но время шло, случалось всё больше и больше подобных счастливых исходов, и я начал активно возмущаться из-за этого. Вокруг меня так часто погибали мои соратники, что я начал желать умереть вместо них. Гнусность войны – что очевидно – была большей, чем я мог понять, и поскольку она продолжалась, бессмысленно и бесконечно, жизнь сама по себе утратила любой смысл, который у неё когда-либо был – и я вообще не был уверен в том, что он был. Не было никаких чувств справедливости, патриотизма или верности, которые могли бы оправдать массовые убийства, и у меня были очень серьёзные сомнения по поводу смысла человеческого существования. Я часто думал о Гурджиеве в эти дни, пытаясь представить, как бы он объяснил, если бы мог, военные действия, но не мог вообразить никаких ответов или объяснений, которые он мог бы дать.
В конце концов, после «дня Д» – высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года – эта проблема стала для меня настолько важной, что я не мог больше ни о чём думать и подошёл очень близко к грани полного нервного срыва. Когда меня госпитализировали, я как-то смог, в своём чрезвычайно нервном состоянии, убедить моего генерала дать мне возможность съездить в Париж, где я мог бы, как я надеялся, увидеть Гурджиева. Даже сейчас я не знаю, как я смог убедить генерала. Мы располагались в то время в Люксембурге, и был регламент, что никто из этой местности не может получить никакого увольнения в Париж, кроме как по крайне важным причинам. Хотя я и не знаю, какие причины были указаны в моём случае, но я, несомненно, произвёл впечатление на генерала, раз он дал мне особое разрешение.
К моменту отъезда в Париж я не спал несколько дней, много потерял в весе, у меня пропал аппетит, и я был в состоянии, очень близком к тому, которое можно назвать некой формой сумасшествия. Даже сейчас я могу живо вспомнить долгое путешествие на поезде (все железнодорожные линии подвергались бомбежкам, и мы передвигались взад и вперёд по большой части Бельгии и Франции для того, чтобы просто добраться до Парижа). Особенно хорошо я помню моё убеждение, что если я не увижу Гурджиева, то не смогу жить дальше. После бесконечной поездки мы наконец добрались до Парижа. Я благодарен сержанту, который ехал со мной в купе, сумел устроить кофе и бренди и поправлял моё одеяло в течение всей ночи. В каком-то смысле Париж, который я научился любить ребёнком, был в некотором роде тонизирующим средством и дал мне прилив энергии, достаточной для того, чтобы я помог сержанту найти комнату в отеле и начал поиски Гурджиева, хотя я не имел никакого понятия, где он живёт. Телефонная книга не помогла мне, и в моём специфическом состоянии я начал впадать в отчаяние. Я смог не потерять голову и хорошо отобедал. После этого я стал методично вспоминать имена некоторых из его учеников, которых я знал в прошлом и кто мог быть сейчас в Париже.
Я приехал в Париж около пяти часов вечера, и было немногим более девяти того же вечера, когда я наконец определил местонахождение одной пожилой женщины, которая была в Приоре, когда я был там ребёнком. Она не только заверила меня, что Гурджиев находится в Париже, и что я смогу увидеться с ним уже на следующий день, но и предложила мне комнату на ночь. Я с благодарностью принял предложение, и мы проговорили с ней допоздна, что в некоторой мере облегчило мою нервозность. Даже тогда я ещё был убеждён, что должен увидеться с ним прежде, чем смогу расслабиться, и плохо спал этой ночью.
Утро я провёл, вертляво и тревожно, в компании моей благодетельницы, так как она заверила меня, что я не смогу встретиться с Гурджиевым – я сейчас уже не помню, почему – до полудня. В 11 часов она дала мне два адреса: адрес кафе, где он имел привычку пить кофе поздним утром, и другой – его квартиры. Я пошёл сначала на квартиру, но его там не было. Тогда я отправился в кафе, но там его тоже не оказалось. Я очень расстроился и начал думать, что заблудился в Париже (если не в собственном уме), поэтому я позвонил леди, сказал ей, где я и что я не могу найти Гурджиева. Она сделала всё возможное, чтобы успокоить меня и предложила мне вернуться на его квартиру и подождать его там. Я последовал этому совету. В квартиру попасть я не смог, но пожилой консьерж обеспокоился моим отчаянным видом и поведением, принёс в холл кресло и поставил его так, чтобы я сидел лицом ко входу, и попросил успокоиться – Гурджиев, конечно же, скоро придёт.
Мне казалось, что я прождал бесконечно долгое время, вынуждая себя сидеть в кресле и пристально глядеть на вход. Прошло, может быть, немного больше, чем час, когда я услышал звук трости, постукивающей по тротуару. Я вскочил, и Гурджиев – я знал, что это должен был быть он, хотя я и не знал, что он пользуется тростью – вошёл в двери. Он подошёл ко мне без какого-либо намёка на то, что он меня узнал, и я просто назвал своё имя. Секунду он пристально смотрел на меня, потом бросил трость и громко воскликнул: «Сын мой!» Импульс нашей встречи был таким, что мы обняли друг друга, шляпа слетела с его головы, и консьерж, который всё это наблюдал, засмеялся. Я помог Гурджиеву поднять шляпу и трость, он положил руку на моё плечо и повёл меня по ступенькам, говоря: «Не разговаривайте, вы больны».
Когда мы пришли в его квартиру, он провёл меня через длинный холл в тёмную спальню, указал мне на кровать, сказал лечь и добавил: «Это ваша комната, на столько времени, сколько вам нужно». Я лёг в кровать, и он вышел из комнаты, но не закрыл двери. Я чувствовал такое облегчение и волнение от встречи с ним, что начал неконтролируемо плакать, и тогда в моей голове начало стрелять. Я не мог лежать, встал и пошёл на кухню, где увидел Гурджиева сидящим за столом. Он обеспокоился, когда увидел меня, и спросил, что случилось. Я сказал, что мне нужен аспирин или ещё что-нибудь от головной боли, но он кивнул головой, встал и указал на другой стул возле кухонного стола. «Никаких лекарств, – сказал он жёстко. – Я дам вам кофе. Пейте его как можно более горячим». Пока Гурджиев варил кофе, я сел за стол. Потом он подал его мне, пересёк небольшую комнату, встал напротив холодильника и взглянул на меня. Я не мог поднять на него глаз и осознал, что он выглядел невероятно усталым – я никогда не видел, чтобы кто-нибудь был столь изнурён. Я помню, как я склонился над столом, потягивая маленькими глотками свой кофе, когда почувствовал странное возрастание энергии внутри себя. Я пристально взглянул на Гурджиева, автоматически выпрямился, и мне показалось, будто сильный электрический голубой свет исходит от него и входит в меня. Как-то я смог почувствовать, что усталость высосалась из меня, но в тот же момент тело Гурджиева обмякло, его лицо посерело, как будто из него отошла жизнь. Я поражённо смотрел на Гурджиева, и когда он увидел, что я сижу прямо, улыбающийся и полный сил, он быстро сказал: «Вы сейчас в порядке – присмотрите за едой на плите – я должен идти». Было что-то очень срочное в его голосе, я вскочил на ноги, чтобы помочь ему, но он знаком отстранил меня и медленно похромал из комнаты.
Прошло, возможно, минут пятнадцать, пока я помешивал блюда, чувствуя себя сбитым с толку и поражённым, потому что я никогда не чувствовал себя настолько хорошо. Я был убеждён тогда – и убеждён сейчас – что Гурджиев умел передавать энергию от себя другим, я также понял, что ему это дорого далось.
Через несколько минут стало ясно, что Гурджиев также знает, как быстро восстановить свою энергию. Я был не менее поражён, когда он вернулся в кухню. Он выглядел так, словно снова помолодел; улыбающийся, готовый к действиям, лукавый и с хорошим настроением. Гурджиев сказал, что это очень счастливая встреча, и хотя я заставил его сделать почти невозможное усилие, это было – как я мог видеть – очень хорошо для нас обоих. Затем он объявил, что мы будем обедать вместе – одни – и мне нужно будет выпить «настоящую мужскую дозу» прекрасного старого арманьяка.
Когда мы ели огромный обед, пили стакан за стаканом арманьяк, он попросил меня рассказывать, в частности, рассказать обо всём, что меня беспокоит. Мне было трудно начать этот рассказ, потому что в тот момент я не беспокоился вообще ни о чём. Я чувствовал себя прекрасно. Но всё же я смог рассказать ему всю свою историю с того момента, как я видел его в последний раз, легко подводя итоги, используя некоторые «выражения», которые были вполне естественны для нас обоих. Гурджиев слушал без комментариев, и наконец сказал, что всё то, что я ему рассказал, не было по-настоящему важно – нет смысла беспокоиться об этом – и спросил меня, сколько времени я могу пробыть в Париже. Я ответил, что у меня есть три дня, и он предложил мне приходить к нему на квартиру на обед и на ужин каждый день, но в остальное время я должен уходить и «играть». «То, чему вы никогда не учились, – сказал он тихо и ласково, – это играть, хотя я пытался научить вас этому, когда вы были ребёнком. Сейчас вы уйдёте отсюда и будете делать всё, что угодно, что вас позабавит, всё равно что, и затем вернётесь сюда в десять часов». Я спросил его, что планируется до десяти часов, и Гурджиев ответил, что будет встреча с учениками. Когда я попросился прийти, он ответил, смеясь: «Нет, не приходите. Это не игра, а вы и так сейчас слишком серьёзны». Он сказал, что я, конечно же, могу занять комнату, которую он предложил мне, но если мне есть, где остановиться, это будет ещё лучше, поскольку в любое время в его квартиру приходят и уходят очень много людей, и он знает, что я могу найти себе другое место для жилья.
Я ушёл, договорился с хозяйкой, у которой останавливался прошлым вечером, чтобы остаться у неё, и, следуя его совету, играл весь остаток дня.
Глава 13
Возвращение энергии не было кратковременным. Я чувствовал себя прекрасно, когда вернулся на квартиру Гурджиева в десять часов вечера. Гурджиев представил меня большой группе учеников как своего «настоящего сына», который учился в «настоящей школе», и немедленно отправил меня работать на кухню. Снова он выглядел очень усталым, и ушёл, поручив мне готовить еду, пока он «отдохнёт». Второй раз за день он отсутствовал около пятнадцати минут, и когда вернулся, я снова был поражён его вернувшейся силой и энергией.
У нас был очень яркий и – для меня – очень забавный ужин. Мы всё ещё продолжали общаться друг с другом своего рода «условными выражениями», которые нас забавляли и раздражали остальных гостей; раздражали, в основном, потому, что к видимому удовольствию Гурджиева, я находил большинство его речей крайне забавными и не мог сдержаться от смеха, который ещё больше его развлекал. Гости были сбиты с толку, потому что его замечания не казались им смешными. Одна женщина казалась особенно раздражённой нашим смехом. Большую часть времени она спрашивала совета Гурджиева по поводу различных серьёзных проблем. Когда он слышал её вопрос, то подмигивал мне и сначала обращался ко мне на русском, и если я внимательно слушал, то мог узнать, какой смешной могла быть «правда». Дама сказала, помимо всего прочего, что, будучи обеспеченной, ей сложно заниматься его работой, как она её понимала, и ей часто кажется, что её так называемые друзья не будут любить её по-настоящему, если у неё не будет денег.
Гурджиев сказал, что решение этой проблемы достаточно простое: 1) она может отдать ему свои деньги, зная, что он использует их наилучшим образом; 2) она может начать жить среди бедных и очень быстро узнать – поскольку у неё нет денег – есть ли у неё настоящие друзья. Что касается «понимания» его работы, он сказал, что сначала нужно научиться понимать. Его ответы были столь очевидны и типичны для него, что когда люди настаивали на том, чтобы задавать ему вопросы, это всегда развлекало его, а я не мог сдержать смех, который, опять же, очень его забавлял. Когда дама возмутилась нашим смехом, Гурджиев сказал, что ей следует узнать то, что я узнал только недавно: смех является истинным и очень хорошим лекарством.
Когда ужин закончился, Гурджиев отпустил всех, но попросил меня остаться и помочь ему вымыть посуду. Мы мыли посуду вместе, а затем ушли в маленькую комнату – кладовую с различными припасами и травами, висящими под потолком и хранящимися на полках – где мы пили кофе и он играл на своей гармонике. Он в основном играл музыку, которую я слышал в Приоре, и хотя мы поначалу были немногословны, это было очень сентиментальным и эмоциональным воссоединением. Когда Гурджиев закончил играть, то неожиданно разбил это настроение, спросив меня, не нужно ли мне немного американских сигарет. Снова я начал смеяться, поскольку в армии в то время сигарет было не просто много – они также были очень дешевы. Он засмеялся вместе со мной и сказал, что это большое удовольствие снова разделять с кем-то смех, и что один из самых печальных аспектов его жизни – в том, что его ученики находятся под таким впечатлением от него, что не могут унизиться до того, чтобы смеяться. Я сказал, что согласен с этим, но я, кажется, уже говорил ему раньше, что его собственный недостаток в том, что он зажигает «звёзды в их глазах». Он охотно согласился и казался удовлетворённым тем, что я тоже могу «разыграть» его. Я добавил, что хотя я отказался от сигарет, мне хотелось бы предложить ему несколько тысяч франков, которые я «сделал» на чёрном рынке, торгуя различными валютами; искусство, которому я только недавно научился. Гурджиев мельком взглянул на деньги и серьёзно спросил: «Почему вы мне это даёте?»
Я ответил, что это была сумма, которую я «заработал ни с того, ни с сего» и нелегально, и думаю, что она ему принесёт больше радости, чем мне. Он улыбнулся на мою реплику и сказал, задумчиво, что ему кажется, будто я подразумеваю под этими деньгами «плату» за что-то. Я быстро сказал, что считаю, что деньгами можно платить только за «вещи», но эти деньги, из-за их происхождения, из-за способа, которым я их получил, были настоящими «игровыми» деньгами и хотя я определённо нуждаюсь в игре – он в ней тоже нуждается. Гурджиев был удовлетворён и согласился принять их с этими условиями, но только если я приму пачку сигарет. Я засмеялся и сказал, что приму, и он сказал, что время от времени важно обмениваться «бесполезными подарками».
Затем он коснулся своего общения с дамой за ужином и сказал: «Вы видите, какие проблемы у меня с учениками? Она задаёт дурацкие вопросы, и я даю дурацкие ответы, но хотя они и дурацкие, они честные. Но то же самое верно, когда кто-нибудь – очень редко – задаёт искренние вопросы. Когда я даю настоящий ответ, она неосознанно знает, что ответ правильный, потому что если неосознанно не знать ответа, то нельзя и задать вопрос. Но даже тогда она думает, что я шучу, и поэтому не слушает. В обучении необходимо помнить, что никто на самом деле не задаёт вопросов. Невозможно задать вопрос, не имея идеи о чём-то, о чём вы ничего не знаете. Поэтому я даю только те ответы, которые она уже знает. Каждый уже знает ответы на такие вопросы. Обычно, когда человек задаёт мне вопрос, то уже знает два ответа: один приятный, а другой неприятный. Вопрос озвучивается не для того, что человек хочет подтверждения, а потому, что хочет получить приятный ответ от кого-то другого, не от себя, поскольку уже знает, что приятный ответ неверен. Но… если другой человек, например я, даёт приятный ответ, то можно сказать себе, что это я дал такой ответ, и поэтому нет необходимости беспокоиться о сознательности из-за моей ошибки. Для серьёзного человека нет необходимости искать новые ответы, но нужно искать новые вопросы. Если вы задали вопрос, то это значит, что у вас уже есть очень хорошая идея по поводу ответа. Для учителя очень важно побудить ученика задавать новые вопросы. Вот причина, по которой обучение в вашей стране в современное время перевёрнуто с ног на голову. Учитель в школе никогда не побуждает ученика задавать новые вопросы или пытаться узнать что-то новое. Только ответы на старые вопросы, на которые уже каждый может ответить без особого усилия».
Гурджиев снова налил нам кофе и арманьяк и продолжил: «Эта женщина не приняла меня всерьёз и поэтому не узнает ничего нового. Всё, что я сказал ей – правда. Если бы она смогла отдать деньги и пожить как бедняк, она, во-первых, обнаружила бы, что другим людям нравится, как они живут, и, во-вторых, многое узнала бы о себе: что она глупая, человек-дерьмо, и единственная её ценность – это её деньги. Не может быть понимания между бедным и богатым, потому что оба – бедный и богатый – понимают только деньги. Понимают жизнь с деньгами и презирают людей без денег. Эта женщина сейчас ненавидит себя, обвиняет себя в том, что богата. Бедный человек ненавидит себя – и иногда ненавидит жизнь – потому что чувствует вину за то, что у него нет денег, и он чувствует, что мир его обманывает, надувает. С таким ненастоящим, фальшивым отношением, невозможно понять ни одну серьёзную вещь, тем более мою работу. Например, эта женщина утверждает, что я оказал важное влияние на её жизнь, но для неё невозможно отдать мне свои деньги – поэтому, очевидно, она говорит неправду. Для её жизни важен не я, а только деньги. С бедным человеком может быть та же история. Можно поверить в меня и в то, чему я учу, только если я сначала научу делать деньги – так думает бедный человек. Но всё по-другому. Если я научу его делать деньги, то он только получит другую проблему – он не сможет жить без этих денег. Но эти люди могут научиться важному пониманию, если сделают усилие и будут отдавать деньги – или, если ты беден, жертвовать жаждой денег. Невозможно заниматься моей работой с полной отдачей, если также быть увлечённым деньгами. Но такое понимание очень сложно для ваших современников. Они не только не могут сделать это, они не могут даже понять, почему вопрос денег так важен. Такие люди никогда не примут настоящее учение или реальную возможность узнать что-нибудь».
Он улыбнулся мне, вспомнив о чём-то, и продолжил: «Вы помните Приоре, и как часто мне приходилось добывать деньги. Я не делаю деньги так, как другие, и когда у меня слишком много денег, я их трачу. Но я никогда не нуждаюсь в деньгах для себя и никогда не зарабатываю деньги, я прошу о деньгах, и люди всегда дают, и из-за этого у меня есть возможность учить. Но даже когда они дают мне деньги, для них по-прежнему невозможно научиться чему-нибудь. Они уже думают о награде… сейчас я уже должен им что-то, потому что они дали мне деньги. Когда человек думает о награде, ему невозможно чему-то научиться от меня».
Глава 14
За исключением того, что не было земель и садов, на которых могли бы работать ученики Гурджиева, «обучение» его ^ методу не показалось мне сильно изменившимся. Продолжались чтения, лекции, танцевальные группы и собеседования с отдельными учениками. Единственное, чего не хватало в общей обстановке, так это самого «Приоре». С другой стороны, было изменение – по крайней мере для меня это было новым – в некоторой деятельности самого Гурджиева.
Я заметил почти немедленно, что днём к нему в квартиру приходили пожилые люди, большинство из которых явно приходили не для того, чтобы сделать хоть что-то для его «работы». Они были не только старыми, но и бедными. Отношение Гурджиева к этим людям мало походило на его обращение с теми, кто принадлежал к числу его учеников. Он обращался с ними с вежливостью, добротой и великодушием. Во время одной из наших приватных бесед в «комнате для кофе» я высказался, довольно опрометчиво, про эту «свиту» и про то, что Гурджиев, на мой взгляд, помогает, если не поддерживает, слишком многим, и эти люди не кажутся мне вовлечёнными в его работу. Я не помню моих точных слов, но я помню, что подразумевалось, что он помогает людям, которые были, если только я правильно понял в прошлом, ничем кроме «удобрения» без каких-либо особых «возможностей».
Гурджиев не был позабавлен, но и не разозлился. Снисходительно, хотя я и уловил нотку раздражения в его голосе, он объяснил, что я был сбит с толку результатом, и что я не полностью понял его в прошлом. Во-первых, удобрение само по себе не является плохим, и каким ещё можно быть, если в этой жизни у них нет никакой иной возможности, и, существенное замечание, если конкретный человек не стремится к какой-то другой судьбе. «Вы не только этого не поняли в моей работе, – сказал он. – Вы ещё не поняли, что я за человек».
Он налил ещё кофе, взглянул на меня задумчиво и сказал: «Я играю много ролей в жизни… это часть моей судьбы. Вы думаете обо мне как об учителе, но на самом деле я также ваш отец… ваш родитель во многом, чего вы не понимаете. Я ещё «учитель танцев», и у меня много занятий: вы не знаете, что я владею компанией, которая делает накладные ресницы, и также у меня хороший бизнес по продаже ковров. Таким образом я делаю деньги для себя и для семьи. Деньги, которые я «состригаю» с учеников, идут на работу. Но кроме этого, я ещё делаю деньги для своей семьи. Моя семья очень большая, как вы видите – потому что эти добрые старые люди, которые приходят каждый день в мой дом, также моя семья. Они моя семья, потому что у них нет другой семьи».
«Я приведу вам хороший пример, почему я должен быть семьёй для таких людей. Вы не знаете, хотя слышали об этом, какова жизнь в Париже во время войны, при немцах. Таким людям – которые сейчас приходят повидать меня каждый день – было невозможно найти пропитание. Но у меня другая жизнь. Мне не интересно, кто выиграет войну. У меня нет патриотизма или высоких идеалов о мире. Американцы, с идеалами, убивают миллионы немцев, немцы убивают – со своими идеалами – англичан, французов, русских, бельгийцев… у всех есть идеалы, у всех миротворческая цель, все убивают. У меня только одна цель: существование для себя, для учеников и для семьи, даже этой большой семьи. Поэтому я делаю то, чего они не могут: я веду дела с немцами, с полицейскими, со всякого рода идеалистами, которые составляют «чёрный рынок». Результат: я хорошо ем, у меня по-прежнему есть табак, алкоголь и то, что необходимо для меня и многих других людей. Тем, что я делаю эту работу, очень сложную для многих, я также могу помочь многим людям».
Я упорствовал: «Но почему вы это делаете? Почему для них?»
Гурджиев улыбнулся: «Вы всё ещё глупы. Если можешь сделать это для себя и учеников, то можешь также и для других, кто не может этого». Он сделал паузу и добавил, загадочно улыбаясь: «Спросите себя, почему старая леди, совсем небогатая, каждый день кормит птиц в парке. Эти люди – эта семья – мои птицы. Но я честен: я сказал, что делаю это для людей, но также и для себя. Это приносит мне удовольствие. Женщина, которая кормит птиц в парке, не говорит правду. Она говорит, что делает это только для птиц, потому что она любит птиц. Она не говорит, что ей это нравится».
Теперь мой вопрос показался мне дурацким, и я извинился за то, что спрашивал про «пожилых» людей.
Он кивнул головой: «Нет необходимости сожалеть. Вы не задали мне плохого вопроса. Но по этому вопросу можно сказать ещё одно. Вы заметили, что все люди, которые приходят сюда, уже стары. Без меня у них нет возможности умереть подобающим образом. Кроме меня, у этих людей нет семьи, и в будущее они могут смотреть только в направлении смерти. Если я помогу этим людям умереть на правильном пути, это может быть очень важным и очень хорошим делом. Однажды вы это лучше поймёте, но вы ещё молоды».
Глава 15
Хотя в течение моего пребывания в Париже я постоянно проводил время с Гурджиевым, он больше не вспоминал о моей «болезни» – по крайней мере, при мне. Он просил меня остаться, одного, после обедов и ужинов, на которых всегда было очень много гостей, но наедине мы обсуждали его проблемы с учениками или его сложности с ними. Гурджиев сказал, что мне будет интересно побыть в Париже в это время, что он уже намекал нескольким своим ученикам, что война и её последствия создают подходящий климат, чтобы научиться важности жизни в настоящем моменте. В основном из-за привычек и предубеждений, людям очень сложно понять, что означает «жить в настоящем моменте». Слишком многие понимают это как повод для отбрасывания предусмотрительности, и решают жить «опасно», не думая о будущем. Под «жизнью сейчас» Гурджиев имел в виду использование всей энергии на проживание настоящего момента, ощущая жизнь так полно, как это только возможно, осознавая, что этот момент – это сейчас – больше никогда не повторится. Для многих людей жить полно, кажется, означает просыпаться слишком поздно, пить слишком много или принятие позиции «ешь, пей, веселись, ибо завтра мы умрём» – а это вовсе не то, о чём говорит Гурджиев.
Это правда, что для того, чтобы жить полностью в данный момент, необходимо осознавать неизбежность собственной – возможно надвигающейся – смерти. Но такая осознанность – это не предписание испытать как можно больше, или сделать как можно больше за свою жизнь, но нужно быть сознательным в том, что делаешь и пытаться действовать «правильно» – тогда переживание будет способствовать росту.
Хотя Гурджиев не определил чётко «правильную» деятельность – «правильное» переживание и «полезную» деятельность нужно определить для себя самостоятельно – он посоветовал несколько упражнений, которые могли бы помочь любому человеку в концентрации на сознательной работе. Все эти упражнения были, так или иначе, формой познания чего-то нового о себе. К примеру, общим заданием было создание для себя программы работы на день, и нужно было быть способным предвидеть и учесть неизбежные перерывы и отвлечения, и, в особенности, спланировать нужное количество «работы и игры» в данный период времени. Гурджиев сказал, что часто полезно «перестараться» – сделать больше, чем «можешь», но нужно уметь сознательно не перерастратить энергию и мощность, пока не узнаешь, с помощью этого упражнения, каким количеством энергии располагаешь, насколько велика мощность, и насколько способен концентрироваться, чтобы быть «готовым к действию». У любого человека в известном смысле имеется бесконечное количество энергии, но эта энергия недоступна ему, поскольку его привычки, приобретённые с детства, не позволяют ею пользоваться – привычка спать, преувеличенная потребность в еде и прочее. Почти каждый несознательно приучен к такому «неиспользованию» всей своей энергии, поэтому невозможно ни с того ни с сего начать ею пользоваться. Делая упражнение «планирование собственной деятельности», можно многое о себе узнать. Обычно человек будет стараться сделать слишком много, это не всегда плохо, потому что иногда можно сделать «слишком много» без плохих последствий и можно узнать, (а) что планирование было неточным, и (б) что в наличии намного больше энергии, чем казалось. Однако в начале цель упражнения в том, чтобы планировать точно – делать точно то, что запланировали, сделать слишком много будет неправильно; и нужно наказывать себя за то, что сделал «слишком мало» или сделал «слишком много». Я спросил, каким должно быть наказание, и Гурджиев сказал, что наказание «должно соответствовать проступку», и что хорошим наказанием будет само это упражнение. Но было очень важно не перенаказать себя.
Что касается жизни в настоящем моменте или «жизни сейчас», Гурджиев сказал, что если я смогу честно отчитаться перед собой, что я делал в течение определённого периода времени – чем бы я ни занимался – у меня не будет времени думать о чём-то ещё, кроме того, что я делаю, я буду переживать концентрацию и полную вовлечённость в настоящий момент. Он добавил, что для молодых людей, пока они не загрязнились, сексуальный опыт может быть использован как хороший пример «жизни сейчас» и бытия «полностью вовлечённым», но по мере обычного взросления даже секс перестаёт быть захватывающим и всепоглощающим и больше не забирает на себя всю энергию и внимание. Однако Гурджиев чётко пояснил, что использовал секс только как пример описания приблизительного соответствия полной поглощённости моментом. Сексуальная вовлечённость является несознательной – необходимо целеустремлённо и сознательно достичь в жизни подобной степени концентрации и сосредоточенности в данный момент времени.
Когда я спросил его, считает ли он, что мне нужно делать эти упражнения, он только улыбнулся и сказал, что когда человек находится в огороде, он будет есть овощи по нескольким причинам: из-за того, что он голоден, из-за того, что он прожорливый, из-за того, что ему нравятся овощи или ещё по каким-то другим причинам. Это зависит от человека и от его потребности или любви к овощам; сами же овощи, если их съесть, всегда будут питать того, кто их съел – даже в том смысле, что сделают его больным, если он не знает, когда остановиться.
Глава 16
В мой последний день в Париже Гурджиев наконец-то вернулся к причинам, по которым я приехал повидать его или, точнее, к моему состоянию, в котором я был, когда приехал. Он сказал, что наше воссоединение – хорошо и необходимо для меня, и он рад тому, что я приехал. Что касается моего «состояния», то перед тем как обсудить его детально, ему нужно точно знать, смогу ли я вернуться в Париж в ближайшее время. Хотя я даже не имел представления, как сложно это может быть, я заверил его, что вернусь примерно через месяц, поклявшись про себя, что я попаду в Париж даже в том случае, если у меня не будет нужных отпускных документов.
После этих заверений Гурджиев сказал, что моё «состояние» было, возможно несознательно, естественным для меня по многим причинам, включая тот факт, что я был, как он говорил мне в прошлом, «отравлен для жизни» им и его учением. Однако, хотя такие состояния могут быть естественными для меня, они могут быть неправильно восприняты большинством людей, и могут быть определены как болезнь. На самом деле, такие состояния являются формой того, что Гурджиев называл «нервный перерасход». От накопившейся усталости (и он сказал, что это так для многих людей) моя «кожа» стала как бы тонкой. Я утратил тот защитный слой или «панцирь», который естественно приобретают все люди в течение жизни. Он сказал, что может быть очень хорошо уметь «сбрасывать панцирь» или «защитный слой» по собственному желанию, но нужно знать, когда и как это делать, и не позволять, чтобы это случилось в условиях стресса.
Гурджиев дал мне несколько «секретных» упражнений («секретных» в том смысле, что они были предназначены строго для меня одного, и могли бы быть вредными, если их будут делать другие люди) и два или три чётких указания. Одно из них было в том, что я должен был пить определённое опытным путём количество крепкого алкоголя каждый день – в зависимости от моего «состояния» в конкретный момент, которое мне нужно научиться точно оценивать. Он сказал, что настаивал на том, чтобы я пил очень много, пока был в Париже, именно для того, чтобы он мог пронаблюдать меня и определить химическую реакцию на крепкие напитки. Следующее предписание было в том, что я должен был принимать некоторое лекарство каждый день и отчитаться ему, когда увижу его в следующий раз, о своей реакции на это лекарство, и он дал мне несколько доз таблеток. Он настаивал на том, что я не должен был употреблять никаких других лекарств ни при каких обстоятельствах, но если меня заставят принять что-то ещё, то я немедленно должен прекратить принимать его лекарство.
Он сказал, что очень плохо для меня, что я должен вернуться в армию именно сейчас – и если бы у него была возможность держать меня возле себя от трёх до шести месяцев, он смог бы научить меня, как контролировать и использовать свою нервную систему и мои «состояния» правильным образом, но поскольку я не могу остаться с ним, мне нужно научиться делать это самостоятельно, но он предупредил меня, что это может занять много лет. Он также предупредил, что упражнения, которые он мне дал, были не только секретными, но также опасными, и что при нормальных обстоятельствах он не позволяет кому-то делать их без надзора. Затем он сказал, что я должен помнить, что когда он использует слово «опасный» для описания упражнения, он подразумевает, что это упражнение может привести к смерти, что может показаться мне чрезвычайно привлекательным в некоторых обстоятельствах, когда я «буду во власти» нервного «состояния». Он заставил меня записать упражнения и «правила», которые он мне дал, и сказал, что я должен буду выучить их – «выжечь их в мозгу» – настолько быстро, насколько возможно, а потом уничтожить все сделанные записи.
Последнее особое предупреждение он дал мне касательно того, что моё хорошее самочувствие, которое я ощущал с тех пор, как увидел его в Париже, будет продолжаться только около недели или дней десять, после которых наступит общее ухудшение; поэтому очень важно, чтобы я кропотливо работал в этот короткий период времени, чтобы утвердить временный эффект, который я получил, чтобы хотя бы попытаться «смягчить» ухудшение, которое может быть очень сильным.
После этого Гурджиев сказал, что ему очень жаль, что он больше ничего не может сделать в данный момент, но что я не должен забывать моё обещание вернуться в Париж так скоро, как я только смогу, и точно не позже, чем через месяц. «Ваше обещание также важно для вас, – сказал он, – как разница между надеждой и отсутствием надежды».
Глава 17
Накануне моего отъезда из Парижа состоялся обед, на котором Гурджиев побаловал себя одним из любимых развлечений: он заставил одного из присутствующих рассказать «анекдот» про случайную встречу Гурджиева с потенциальной ученицей. В изложении самодеятельного сказителя история оказалась типичной иллюстрацией того, что думают многие люди о непорядочных и раздражающих методах Гурджиева.
История была об англичанке, богатой и хорошо известной, которая подошла к Гурджиеву, когда он, по своему обыкновению, в окружении нескольких своих последователей сидел в парижском «Кафе де ля Пэ». Англичанка представилась и была приглашена Гурджиевым за стол. Она прямо изложила своё дело: ей сказали, что Гурджиеву известен «секрет жизни», и она целенаправленно разыскала его, чтобы узнать, что это за секрет. Как приманку, она показала Гурджиеву чек на 1000 фунтов, который она обещала ему передать, когда секрет будет ей открыт.
Гурджиев, как обычно, выразил свой интерес к чеку и затем согласился продемонстрировать секрет жизни этой англичанке. Он встал из-за стола, подошёл к хорошо одетой «даме», которая обычно прогуливалась по тротуару напротив «Кафе де ля Пэ» – это был её «рабочий участок» – и с низким поклоном спросил её, окажет ли она ему честь, позволив ему купить ей выпить. Дама много раз его видела и, казалось, не думала о нём, как о потенциальном клиенте, но, не имея ничего лучшего на данный момент, она приняла его приглашение, хотя и казалась немного удивлённой его многочисленными компаньонами. Гурджиев предложил ей стул и затем сел напротив, спросив, что она хочет выпить, и заказав это. Что-то дорогое.
Когда та получила свой бокал, Гурджиев снова поблагодарил её за то, что она оказала ему честь своим присутствием, и затем сказал, что видел её много раз и знает о её здравом смысле и многочисленных достоинствах, и по этим причинам он решил ей объяснить кое-что. Он начал говорить, что, несмотря на её знания и опыт, он может держать пари, что она не может даже догадаться, кто он и откуда. Дама предположила, что он, возможно, откуда-то из России, но Гурджиев заверил её, что это не так, его заметный русский акцент – это часть маскировки. Он прибыл не только не из России, но и вообще не с этой планеты – не с Земли.
Дама никак не прокомментировала услышанное, но просто взглянула на свой бокал, на Гурджиева, на присутствующую группу и, казалось, решила мириться с его разговорами в обмен на выпивку.
Гурджиев продолжал, что прибыл с планеты, которая ей неизвестна, и вообще никому неизвестна на Земле, и эта планета называется «Каратас».
Поскольку дама продолжала молчать, Гурджиев пустился в долгие, многословные объяснения на этот раз о трудностях – для жителя планеты Каратас – связанных с жизнью на планете Земля. Одной из основных проблем для таких существ, как он, был вопрос питания, так как большая часть еды, произведённая на Земле, полностью непригодна для организмов с других планет. По этой причине для него необходимо с большими расходами и трудностями получать особую еду, ежедневно присылаемую с планеты Каратас.
Дама закончила свой напиток и собиралась уходить, судя по выражению скуки на её лице, но Гурджиев заказал ей ещё бокал и заверил, что не задержит её слишком долго и в достаточной степени компенсирует её время. Дама осталась, но по-прежнему не комментировала его очевидный взлёт фантазии. Она внимательно изучала его компаньонов, и выражение её лица ясно показывало, что она непреднамеренно связалась с группой «чокнутых».
Затем Гурджиев спросил, хотела бы она увидеть кое-что из еды, которую он ежедневно получает с Каратаса, и она пожала плечами. Он достал бумажный пакет, из которого извлёк несколько вишен. Он сказал, что хотя эта «еда» имеет некое сходство с растением, которое произрастает на планете Земля, на самом деле она сильно отличается. Дама закончила второй бокал и продолжала пристально на него смотреть.
«Не были бы вы столь великодушны и столь добры, – продолжал он, – оказать мне большую честь, попробовать этот великолепный фрукт и сказать мне, как вы его находите? На что он похож?»
Без единого слова женщина взяла две вишни с руки Гурджиева, положила их в рот и медленно съела. Она выплюнула косточки и бросила их на блюдце на столе. С нескрываемым сарказмом она пристально взглянула на него и сказала, медленно и отчётливо: «Мне кажется, это вишни». Затем она протянула руку.
Гурджиев быстро положил несколько банкнот в её руку, встал, поклонился ей ещё раз, провёл её обратно на тротуар, пожелал всего хорошего и снова поблагодарил за то, что она оказала ему большую услугу. Она бросила долгий взгляд на всех его компаньонов, пожала плечами и медленно пошла прочь, положив в карман полученные от него деньги.
Гурджиев вернулся к англичанке, улыбнулся ей и просто сказал: «То, что вы видели, и есть секрет жизни».
Англичанка бросила на него взгляд, полный отвращения, назвала его шарлатаном и ушла, после чего Гурджиев взорвался смехом и вернулся к своим писаниям. Это может показаться невообразимым, но позже в тот же день англичанка вернулась в «Кафе де ля Пэ», передала Гурджиеву чек, поблагодарила за то, что он сделал для неё и затем стала пылким последователем его «системы».
Эта история, как обычно, сопровождалась смехом, но один из присутствующих спросил, довольно серьёзно, почему такое знание – гурджиевское знание – должно быть представлено в такой странной, обходной и секретной форме, почему его нельзя сделать доступным для всех, таким образом принеся пользу всем и способствуя совершенствованию мира во всех отношениях.
Как обычно, Гурджиев не стал обсуждать свои «окольные» методы, но сделал заявление о знании.
«Также как почти все люди, вы не понимаете природу знания, – сказал он. – Знание редко, как очень хорошее французское шампанское. Его существует только определённое количество – и его невозможно увеличить. Если вы дадите каждому в мире по капле шампанского – ничего не изменится, никто этого не оценит. Но люди, которые разбираются во французском шампанском, ценят его, когда его пьют; а также у них есть деньги, чтобы его купить. Но даже если у каждого будет достаточно денег, чтобы купить подобный напиток, даже тогда они его не купят. То, что я сказал – правда. Количество знания ограничено; и восприимчивость к знанию тоже ограничена». Гурджиев отказался добавить что-то ещё, и тот человек только заметил, что он по-прежнему темнит, как и прежде.
Глава 18
Я приехал в Париж через месяц, чтобы снова увидеть Гурджиева – но за этот период я пришёл к выводу, что он заранее точно знал, что произойдёт со мной за это время. Детали не представляют особого интереса, но среди «наиболее ярких» фактов было то, что предсказанное им ухудшение было тяжёлым, меня положили в госпиталь (где, что странно, моё лечение поначалу состояло из ежедневного питья большого количества коньяка), и, конечно же, я не мог принимать лекарство Гурджиева более десяти дней. В любом случае я не беспокоился о лекарстве, потому что у меня не было на него абсолютно никакой реакции. Я продолжал делать упражнения, которые Гурджиев мне предписал и, конечно же, прошёл через «опасный» период – оценка себя и мира будто расшатала мои принципы – и в этот период предсказанное «желание смерти» было очень сильным. Моей защитой оказался скептицизм, я удивлялся тому, насколько я поддался внушению, пока был в Париже с Гурджиевым. Создавал ли я таким образом несознательно кризисы, которые были предсказаны? Даже если у этого вопроса и не было ответа, он помог мне удержаться в некотором балансе и беспристрастности, и я не был особенно заинтересован в том, чтобы найти на него ответ.
Когда я вернулся в Париж, я позвонил Гурджиеву, и он назначил мне встречу в кафе чуть позже тем же утром. Пока мы пили кофе, к нам приблизилась пожилая женщина, которая завела с Гурджиевым длительную беседу на русском языке. Я понял достаточно из их общения, чтобы утверждать, что оно в первую очередь касалось проблем здоровья, денег и сложности прокормиться в Париже в то время. Чёрный рынок процветал, и хотя продукты можно было достать, они были ужасно дороги.
В конце беседы женщина развернула газетную упаковку, достала из неё маленькую писанную маслом картину и показала её нам. Гурджиев задал ей несколько вопросов о картине: когда она её нарисовала и так далее и, в конце концов, заплатил за эту картину несколько тысяч франков. Женщина горячо его поблагодарила, и я понял, что благодаря его покупке, она могла обеспечить себя едой ещё на несколько дней.
Когда она ушла, Гурджиев вздохнул, передал картину мне, попросил отнести её к нему на квартиру и повесить на стену, которая была уже увешана подобными произведениями от пола до потолка. Когда я повесил картину, он спросил меня, помню ли я Джейн Хип («мисс Забота, miss Keep», как он называл её). Я сказал, что, конечно же, помню, и он заметил: «Вы знаете, мисс Заботе совсем не нравятся мои рисунки. Когда она приходила сюда в последний раз, я спросил её, что она думает о них, и она ответила: «Мистер Гурджиев, у вас здесь всё, что угодно, кроме искусства». Мисс Забота не оценила то, что я делаю».
Я не смог разделить его иронию над ремаркой Джейн, но был заинтересован, что он хотел этим сказать. Он немедленно начал долгую речь об искусстве и творческом импульсе, указывая, что художнику чрезвычайно сложно заработать деньги во время войны, и столь же сложно это сделать сейчас, когда война вот-вот закончится. Гурджиев сделал акцент на том, что он не коллекционирует предметы искусства из любви к ним, но делает это только из великодушия и желания помочь несчастным художникам. Он сказал, что это очень важно… для той старой леди… что кто-то может купить её картины… потому что, несмотря на то, что мисс Забота, или я, или ещё кто-нибудь может подумать о качестве её работ, она рисует картины всем своим существом – от всего сердца – и очень плохо для такого творчества не найти выхода, или, как говорят – публики, покупателя.
«Я также выигрываю от её творчества, – продолжал Гурджиев. – В моём доме многие видят её работы, также как и работы других столь же несчастных людей. Говорят, что у меня самая плохая коллекция картин во всём Париже – возможно, что и во всём мире. Я уже уникален для большинства людей, которые меня знают, но благодаря моей коллекции плохого искусства люди видят, что я ещё более уникален… но в другом смысле».
После этой «шутки» он сказал более серьёзно: «Но на самом деле людям есть чему учиться у этой старой леди. В отличие от других, которые знают, что я великодушен и помогаю нуждающимся, она никогда не просит деньги, но всегда приносит мне свои картины. Она уже поняла то, что многие «интеллектуалы» на самом деле не понимают. Если ты получил деньги, то должен что-то дать за это».
После этой лекции мы приготовили обед, и наш первый тост был, вопреки обычаю, тостом за здоровье и процветание маленькой старой леди-художницы.
Глава 19
Этот визит к Гурджиеву, состоявшийся благодаря поддержке понимающего военного доктора, был очень похож на предыдущий, за исключением того, что Гурджиев останавливался на моём состоянии намного дольше, чем ранее. Он сказал, что то, что у меня не было никакой реакции на его лекарство, только подтвердило для него, что у меня гигантская естественная сопротивляемость к лекарственным препаратам, и поэтому мне нужно всячески избегать их употребления. Что касается выпивки, то он рекомендовал продолжать пить, но «сознательно» – в том смысле, что мне нужно узнать меру точно в соответствии с потребностями моего организма в алкоголе. Он настаивал на том, что у меня есть такая потребность, но она периодическая, и предрекал, что если я определю эту потребность правильно, у меня будут периоды, когда я буду пить очень много, либо испытывать сильную тягу к алкоголю. Но также будут длительные периоды, когда мне не нужно будет пить вообще; фактически в такое время я приду к выводу, что алкоголь может быть для меня даже вредным. «Помните, – добавил Гурджиев, – что тело способно изменить свою химию без вашего ведома. Может наступить время, когда вы никогда больше не станете пить. Нужно пытаться жить чётко в соответствии с физическим «я» и сознавать все химические изменения в себе».
Когда он заговорил об упражнениях, которые дал мне, он заставил меня детально рассказать, как часто я делал каждое из них и также описать мою реакцию на них. Затем он сказал мне прекратить их выполнять и дал мне два новых упражнения, тоже секретных. Когда я начал делать записи, он остановил меня и велел порвать бумагу. «Эти упражнения вы должны запомнить своим сердцем, навсегда, – сказал он. – Будет время, когда вы будете нуждаться в них, а у вас не будет ничего – даже клочка бумаги. Поэтому нужно сейчас выучить эти упражнения как нечто самое важное в вашей жизни. Я говорю правду – придёт время, когда без этих упражнений вы умрёте. Даже с упражнениями жить вам будет очень тяжело».
Меня не нужно было больше предупреждать, но всё равно он заставил меня несколько раз подробно повторить ему эти сложные упражнения перед тем, как я вернулся в свою часть. (Я возвращался не в госпиталь; меня выписали, но дали дополнительно три или четыре дня, чтобы вернуться в свою часть через Париж).
В тот день, когда я должен был уехать, Гурджиев сказал мне, что возможно, я больше его никогда не увижу. «Как вы сами видите, – сказал он, – я очень устал и знаю, что когда я допишу эту последнюю книгу, моя работа будет закончена. Теперь я могу умереть, потому что задача моей жизни практически выполнена». Он серьёзно посмотрел на меня и продолжил: «Это также значит, что я больше ничего не могу для вас сделать. Я знаю, что сейчас, в своём сердце, вы уже думаете о возможности остаться со мной здесь, в Париже, после того, как уйдёте из армии, но вам нужно забыть об этом. Я больше не могу вам помочь; кроме того, вы принадлежите своей стране – Америке. Поэтому, когда уйдёте из армии, не возвращайтесь сюда, а отправляйтесь домой, где вы нужны и где вас ждёт много работы и новый опыт».
Почему-то это был не подходящий момент для эмоций. Гурджиев был очень серьёзным, очень холодным и говорил без каких-либо видимых чувств – это было похоже на то, что он думал вслух. Он говорил о своей смерти с такой отстранённостью, и так убедительно, будто бы он говорил о ком-то другом. Таким образом, без какого-либо выражения чувств он окончил свою речь, и мы отправились на традиционный огромный обед со множеством гостей. Во время обеда Гурджиев рассказывал очень много историй, и снова он и я много смеялись. Он заставил одного из студентов рассказать мне историю посещения с ним американского посольства в Париже из-за неких сложностей с получением визы для Гурджиева. Это выглядело так, что группа студентов отправилась вместе с ним в посольство, держа в руках различные документы, которыми они надеялись доказать, что у Гурджиева есть очень важная причина для посещения Соединённых Штатов. Когда они прибыли, им всем сказали подождать, и после короткого ожидания Гурджиев встал и прошёлся по офису, раздавая карамель (из пакета, который носил в кармане) всем стенографисткам и клеркам. Это «одаривание конфетами» привело к значительному столпотворению в офисе, и, конечно же, служащий, который рассматривал его заявление, оказался в самом центре. Таким образом, виза была получена, но только после нескольких интервью и дорогой ценой для нервной системы тех, кто сопровождал Гурджиева.
Гурджиев взорвался смехом после этой истории и сказал, что это подтверждает тот факт, что мир сумасшедший. Всё, что он сделал – это любезно предложил сладости нескольким очаровательным американским девушкам, и это едва не стоило ему визы.
В конце обеда настроение Гурджиева очень резко изменилось, и когда он встал из-за стола, я очень волновался за него. За несколько минут он стал выглядеть очень больным. Несмотря на это, одна женщина за столом, одна из «работниц», вскочила на ноги и бросилась в его сторону, чтобы задать ему вопрос о какой-то работе – возможно, о переводе, – которую она делала для одной его книги. Гурджиев, опираясь на стул, медленно и кратко ответил на её вопросы. Но пока он говорил, произошло чёткое изменение в атмосфере комнаты. Все – а там присутствовало около двадцати человек – одним движением поднялись со стульев. Мы все молча чего-то ожидали. Когда он закончил общаться с женщиной, то поднял руку и широким жестом обвёл комнату, будто бы требуя внимания всех нас.
«Должен сделать объявление, – драматично сказал он на английском (присутствующие были разных национальностей, но все, как мне было известно, говорили на английском или понимали его). – Моя работа над книгой завершена, за исключением работы редактора». Он сделал паузу и осмотрел комнату, будто бы внимательно экзаменуя каждого в отдельности, и затем продолжил: «Это означает, что моя работа совершенно закончена. Это также имеет очень важное значение для меня. Это значит, что, наконец, я могу умереть…» Последовала очередная пауза, но его интонация говорила о том, что предложение не закончено, «…но не только потому, что книга закончена. Единственная необходимость в жизни – это найти другого человека, кому можно передать накопленное знание. Когда найден такой хранитель, тогда возможно умереть». Он тепло улыбнулся и продолжил: «Поэтому сейчас я рад двум хорошим новостям. Я закончил работу и нашёл человека, которому можно передать результаты работы моей жизни». Он снова поднял руку и начал двигать ею по комнате, на этот раз с указующим пальцем, и остановился, когда его палец был направлен точно на меня.
В комнате стояла страшная тишина, Гурджиев и я смотрели друг на друга в упор, но несмотря на это, я уже знал, что один или двое уже повернули голову в мою сторону. Напряжение в атмосфере не уменьшалось, пока Гурджиев не опустил свою руку, повернулся и вышел из комнаты. Остальные, казалось, на мгновение онемели; наконец, я разбил общее оцепенение и пошёл к выходу. Но неожиданно кто-то взял меня за руку. Это была женщина, одна из «инструкторов». Она крепко сжала мою руку, посмотрела на меня со злорадной, издевающейся улыбкой и сказала: «Вы никогда не дорастёте, не так ли?»
Я осторожно освободил свою руку. «Что это значит?»
Она засмеялась. «Каково это – чувствовать себя избранным? – требовательно спросила она. – Только взглянув на ваше лицо, я могу сказать точно, что вы чувствуете. Он ведь указал на вас, не так ли? И сейчас – с вашим колоссальным эго – вы маршируете из комнаты… торжествующий преемник».
Должен признать, что я чувствовал себя хорошо. Я улыбнулся ей в ответ, принимая на себя чувство искреннего триумфа, и сказал: «Ваше предположение также хорошо, как и моё». И покинул квартиру.
В тот же день я уехал из Парижа и вернулся в свою часть.
Глава 20
После возвращения на службу я много думал об этих последних визитах к Гурджиеву в Париж, но должно было пройти два или три дня после моего драматичного ухода из его квартиры перед тем, как я хотя бы попытался оценить мои отношения с ним или суть всего этого финала. Когда я внутри себя снова вернулся к сцене «прощания», то был вынужден согласиться, что я чувствовал себя, по крайней мере, на тот момент, избранным. И продолжаю так себя чувствовать. Мне было приятно моё поведение тогда – я узнал достаточно от Гурджиева, чтобы быть осторожным, когда меня обвиняла та женщина, но триумф был не полон, меня одолевали вопросы и сомнения. Я даже зашёл так далеко, что составил список своих сомнений, в котором попытался вспомнить весь свой опыт с этим человеком. Список начинался примерно следующим образом:
1. По крайней мере, возможно то, что он на самом деле упомянул меня, как своего «преемника». Причинами этому могли быть:
а) это было правдой;
б) это было намерением «показать» мне моё эго;
в) это было намерением вызвать у других людей различные реакции;
г) это была большая шутка над благочестивыми последователями.
2. Достаточно ли я подготовлен для подобного «избрания»?
а) Если быть полностью честным, я вынужден признать, что я не знал, в чём заключалась «работа» Гурджиева. Как тогда я мог её вести?
б) Чем я отличался от других членов его групп, если вообще отличался? Очевидно, только тем, что я всегда чувствовал себя «одиноким волком», и никогда не мог принять от всей души участие в чтениях и другой групповой деятельности.
3. Хочу ли я (при условии, что я могу) – «вести» работу Гурджиева, чем бы она ни была?
а) Да, до определённого момента. Группы, танцы, чтения – нет. Но если бы был какой-нибудь способ, с помощью которого я мог бы «отделить» то, что казалось ценным для меня, от того, что казалось, если не бесполезным, то, по крайней мере «малопонятным», то я хотел бы им воспользоваться.
Было намного больше вопросов – фактически они всё возникали и возникали – и намного меньше не очень уверенных ответов. К окончательному ответу я пришёл через несколько лет, и он есть в том списке, который я процитировал выше; однако в то время я был только сбит с толку и стремился выводить все вопросы строго из своего разума. Я осознавал, что я взволнован, смущён и озадачен этой последней встречей, и в результате решил, что мне надо каким-то образом ещё раз вернуться в Париж перед возвращением в Соединённые Штаты.
Война в Европе закончилась, и вскоре, к ужасу большинства из нас, находящихся здесь, на Японию были сброшены две атомные бомбы. Как и у всех солдат, большая часть моего времени ушла на попытки ускорить отъезд и возвращение в Америку. Это было не так просто, поскольку, хотя у меня было много «заслуг» – больше, чем было необходимо, чтобы вернуться – я не был женат и в то время был штабным офицером. Приоритет отдавался женатым и не штабным. Однако при помощи некоторой хитрости я смог вставить себя в список командированных, а также сам написал приказы о своей поездке, выбрав маршрут через Париж по некоему несуществующему «служебному» делу. Такова была повсеместная для того времени традиция – обязательный «последний бросок» в Париж, даже если это было непросто осуществить.
В результате я снова увидел Гурджиева, но это совсем не напоминало мои прежние визиты. Я застал его одного в квартире. Он сам открыл мне дверь, и был одет в ночную сорочку, выглядя довольно заспанно. Он бросил на меня то, что я могу описать, как «холодный» взгляд и спросил, что я здесь делаю. «Я уже сказал вам до свидания и думал, что вы уже в Америке. Почему вы пришли?» Я был очень «задет» и сказал, что я на пути в Америку, и я только пришёл попрощаться. Он снова посмотрел на меня, по крайней мере, без враждебности, и сказал: «Нельзя попрощаться дважды – это уже сделано». Затем он протянул руку для безличного последнего рукопожатия. Я больше ничего не сказал, и поскольку он не предложил мне войти, я развернулся, чтобы уйти. Гурджиев жестом остановил меня и сказал прямо, с улыбкой на лице: «Американцы сбросили бомбы на Японию, не так ли?» Я кивнул, и он продолжил: «Что вы теперь думаете о вашей Америке?» Я собрался было отвечать, но он закрыл двери прямо перед моим носом.
Явно было не время для вопросов. И стоя возле закрытой двери, я знал, что его уже никогда не будет. Если я когда-нибудь что-либо знал заранее в своей жизни, так это то, что я больше никогда не увижу Гурджиева. Так и оказалось.
В тот конкретный момент, когда я уходил от его квартиры, передо мной возник громадный вопрос: «Что ты вынес из общения с Гурджиевым? Как он повлиял на твою жизнь? Чему ты научился от него?» Я выразил это тремя вопросами, но он был, по сути, один. Я намеренно отложил его в сторону. По крайней мере, на тот момент он вообще не имел ответа. Он оставался без ответа много лет – пока неотвратимо не заявил о себе снова.
Глава 21
Когда я вернулся в Америку, я объединился с несколькими членами нью-йоркской группы. К тому же, как и предсказывал Гурджиев, целью моей жизни стало получение опыта. Но мои вопросы, хотя я и не позволял им «всплывать», были со мной, ожидая ответа.
Впервые я осознал, что они по-прежнему при мне, в момент смерти Гурджиева. Моё членство в гурджиевской группе Нью-Йорка пришло к довольно неожиданному концу и, как всегда, к этому привело отношение его «учеников», которое казалось мне причиной моего отстранения от всего, что касалось его «работы». Так или иначе, кто-то смог найти меня и сообщить о смерти Гурджиева, а также пригласить на панихиду, которая должна была состояться в Нью-Йорке. У меня были сомнения по поводу моего решения, но оно было немедленным. Я не пошёл; это «действо» казалось мне в лучшем случае пустым, а Гурджиев умер для меня, когда я в последний раз видел его в Париже.
После этого мгновенного и короткого пробуждения моих вопросов я снова их отложил – в смысле попытки на самом деле найти на них ответы. Я не мог отложить все мои мысли о Гурджиеве, потому что я часто и с большой приязнью думал о нём. Я начал понимать, что какая-то часть моего сознания вернулась в ту старую твёрдо установившуюся рутину поклонения. На самом деле, сейчас я почитал его намного сильнее, чем когда-либо раньше. Моё отношение к Гурджиеву стало выражаться в некоторой сдержанности. Я не упоминал его имя и не отождествлял себя с его работой, кроме редких случаев, когда я виделся с людьми, которые знали о моём общении с ним. Но неизбежно другая часть меня, по крайней мере бессознательно, пыталась хотя бы частично ответить на прежние вопросы. Состоялось главное изменение в моём мышлении, которое свалилось на меня «как снег на голову», – удивительная вспышка правды, которая часто сопровождает неожиданные прозрения. Я понял, что я не «преемник». Но даже это неожиданное знание, после того как момент озарения прошёл, начало меня беспокоить. Может быть, я был на самом деле преемником, и просто отказываюсь это принять? Я смог найти только неполный ответ: даже после смерти Гурджиев продолжал оказывать на меня огромное и тревожное влияние. Я достаточно узнал от него про нерешительность (не только в уничижительном смысле), ум и хитрость, чтобы обнаружить, что я кручусь вокруг да около своих сомнений и вопросов. Однако мало-помалу я начал пытаться взглянуть на Гурджиева по-другому, не только как на личность – развеять, насколько возможно, силу его всё ещё мощного магнетизма. Я начал смотреть на него иначе. Но «свет» был ещё слишком силён, чтобы можно было делать что-то ещё, кроме как смотреть на грани человека и его работы. Я пытался рассмотреть человека в Приоре – в самом сердце его деятельности – но в этой картине он был ещё слишком силён, слишком вездесущ. Я решил двигаться с внешней стороны. Как, к примеру, я мог бы говорить о нём и его работе с незнакомцем? Это оказалось проще, и моё «объяснение» состояло в том, что я стал пытаться анализировать и двинулся вдоль следующих линий.
Помимо Института в Фонтенбло были так называемые «гурджиевские группы» в Лондоне, Нью-Йорке и Чикаго, и, наверное, где-то ещё. Существование этих групп было, вероятно, частью плана по распространению его учения – в конечном счёте – по всему миру. Были даже маленькие собрания, которые на самом деле нельзя было назвать «группами», поскольку в них обычно не было постоянного лидера, в таких культурно и территориально отдалённых районах, как Нью-Мехико. Из-за того, что в этих группах не было лидеров, деятельность которых, якобы, была одобрена самим Гурджиевым, встречи, в основном, состояли из регулярных чтений его книг, которые до публикации были доступны в виде ротапринтных оттисков. В отдаленных районах Соединённых Штатов участники групп обычно получали чьё-то разрешение (например, лидера нью-йоркской группы), чтобы читать рукопись «Всё и Вся». Было только чтение – ни вопросов, ни комментариев, ни упражнений, ни танцев.
Группы в Нью-Йорке и Лондоне были на тот момент лучше организованы, чем группа в Чикаго. Кроме чтения, были танцы и группы гимнастики и даже лекции или толкования учения Гурджиева «лидером» группы. Единственное, что объединяло эти второстепенные группы – это недостаток присутствия Гурджиева, и это был существенный недостаток. Чтения, учитывая стиль его письма, имели ценность по той простой причине, что нормальный человек – независимо от того, насколько сильно он интересуется данным предметом – редко мог действительно прочесть его книгу до конца, если брался за это дело самостоятельно. В общем, книга была практически непонятна при первом прочтении. Проще ломать над ней голову в группе, и в большинстве случаев только при этих обстоятельствах книга могла быть дочитана до конца. В начале книги были рекомендации читать её трижды, и некоторые из маленьких групп даже смогли совершить такой подвиг. Книга оказывала сильное влияние, которое ощущалось при погружении в неё; в самом деле, она пробуждала внутри человека какую-то силу. Однако я не знаю, что могло быть впереди у этих читателей, кроме дальнейшего чтения его последующих книг.
По крайней мере большие группы, в то время, когда я с ними общался, существовали не только благодаря чтению и прочему, но также и тому, что в любой момент была возможность увидеть Гурджиева лично – либо они могли поехать во Францию, либо (в случае Нью-Йорка), он мог приехать повидаться с ними. Хотя в этих группах было много верных и даже пылких последователей, но все они казались лишь копией чего-то реального. Было даже что-то заразное в том, что люди общались с Гурджиевым только через его книги. Если через какое-то время он сам и его идеи не отвергались, то они принимались в очень странной форме. Гурджиев становился (для его последователей) истинным пророком – каким-то Мессией, если не Богом. Было просто невозможно «только интересоваться». В конце концов, это происходило почти автоматически – человек убеждался или утрачивал интерес; мне кажется, это было просто разрастание обычного религиозного чувства. В любом случае, было ужасно скучно присутствовать на гурджиевских встречах без настоящей убеждённости.
Какова была цель Гурджиева, и как он пытался её достичь?
Перед тем как обсуждать любой из этих вопросов – не говоря уже о том, чтобы ответить на них – возможно, необходимо подчеркнуть тот факт, что у него не было целей, понятных для среднего, относительно удовлетворённого человека. Предварительным условием хоть какого-то понимания его целей и хотя бы относительного принятия его средств должна быть неудовлетворённость существующим положением дел в личном смысле и неудовлетворённость или неверие в положение известной нам цивилизации. Открыто заявленной целью Гурджиева, как утверждается в книге «Всё и Вся», было «разрушение» современных привычек, мнений, предубеждений и пр., касающихся человеческой жизни; такие разрушения – обязательное условие для принятия и приобретения полностью новых концепций о возможностях человеческого существования.
В одном из нескольких «политических» утверждений, которые были сделаны в моём присутствии, Гурджиев сказал, что если не приспособить и гармонично не использовать «мудрость» Востока и «энергичность» Запада, мир разрушится. Возможно, в этом утверждении много правды; в любом случае, принимая во внимание политические события нашего времени, это не кажется чрезвычайно радикальным или неправдоподобным. Однако в то, что только у Гурджиева есть ключ от системы, или учение, которое может объединить Восток и Запад, поверить было сложнее. Краеугольным камнем его учения, конечно же, было то, что нет никакого прогресса – человечество не развивается; развитие возможно только на индивидуальном уровне. Групповая работа ценна только в том смысле, что она помогает совершенствоваться отдельному человеку. Вся группа вовсе необязательно чего-то достигнет как группа.
Гурджиев сравнивал нынешнее человеческое существование с личиночной стадией органического развития; заявляя, что как личности, мы не имеем понятия о возможностях человеческого развития, и каждая привычка, обычай, традиция и доктрина, согласно которых живёт цивилизованный человек, откровенно говоря, не только бесполезна, но даже вредна или, по крайней мере, дурна. Он отвергал все существующие религии, философии и прочие системы мышления из-за их практической бесполезности.
Ввиду этой всеобъемлющей критики известного нам человеческого существования у него не было огромного количества последователей. Но нужно помнить о том, что он и не хотел большого количества. Со всей серьёзностью он уподоблял человеческую жизнь любой другой органической жизни – растения или животного. Природа была расточительна, поэтому, с его точки зрения, не нужно было рассчитывать на то, что многие люди имеют право ожидать какой-то судьбы, отличной от судьбы органического удобрения для общего блага планеты. Он признавал, что у человечества, в отличие от растений или животных, есть возможность достичь высшего уровня; или, как он говорил это, «приобрести» четвёртое тело – или, ради удобства в терминологии, душу. Но он не требовал этого ни от кого, даже от своих учеников. В том смысле, что у каждого семени каждого цветка есть скрытая возможность расцвести, только в этом смысле у каждого человеческого зародыша есть потенциальные возможности «создать» или «приобрести» душу. В этой связи необходимо иметь в виду количество семян, которые даже не дадут ростка.
Очевидно, эти взгляды не особенно льстили человеческому эго, коллективному и индивидуальному. Несмотря на это, учитывая моё общение с Гурджиевым, я не считал особенно сложным принять эти идеи. Есть очевидная логика в природных циклах для всех других форм жизни: почему же человек должен быть исключением или как-то отличаться? Цветок по-своему может сознавать возможность того, что он способен зацвести, или, возможно, семя, дающее росток, страдает в невыразимой агонии во время этого процесса. Большинство людей, которые как-то познакомились или столкнулись с идеями и теориями Гурджиева, либо полностью их отвергали, или, я полагаю, признавали, что лично они, по крайней мере через контакт с ним, имеют возможность зацвести, то есть развиться в то, что Гурджиев называл надлежащим состоянием человека.
Для того чтобы смочь что-нибудь сделать с такой системой идей, необходимо поверить в эти базовые концепции и принять тот взгляд, что у нас есть только два варианта: общая судьба «корма для скота» или «удобрения», либо маленький шанс «созреть». Я сказал «маленький шанс» намеренно, потому что природа есть природа, только очень у малого процента из целого есть незначительная возможность роста – и не имеет значения, насколько сильно этого хочется.
Если принять эту точку зрения или оценку состояния человека – здесь включён некий процесс отсева – необходимо принять, что только Гурджиев знает путь дальнейшего развития или прогресса и метод достижения этого. Если вы заходите с ним так далеко, то становится сложно возразить, что у него этого ключа нет. Другими словами, становится необходимым полностью верить в Гурджиева. Коварный и интригующий аспект заключается в том, что приняв однажды его точку зрения, потом уже почти невозможно отвергнуть её или спорить с ней. Кто может прямо сказать, что его взгляд на Природу и место человека в ней неверен? Если взглянуть на Природу объективно, если изучить животных, растения, птиц, эволюцию, и найти естественную логику в различных процессах роста, тогда на основании чего человек ожидает, что он автоматически или по своей сути божественен или, используя более простые слова, отличен от них? Гурджиев не отрицал потенциальную божественность человека (хотя он не использовал такое слово), он только утверждал, что она должна быть наработана путём сознательного усилия и тем, что он называл «намеренное страдание» – процесс, который почти сразу же оценивается большинством людей с подозрением. Слово «страдание», особенно для западного мира, означает нечто такое, чего нужно избегать. Страдания, особенно «намеренного страдания», согласно Гурджиеву, не только не нужно избегать, но, о чём и говорит само выражение, его нужно искать.
Но один из наиболее убедительных аргументов в его пользу так и не был озвучен. Очевидно, что Гурджиев не собирался спасать мир; его не заботило, насколько люди интересуются тем, что он предлагает. Более того, он часто говорил, что только очень немногие люди могут как-либо развиваться, – подчеркивая «очень немногие». И очень заманчиво включить себя в число этих немногих.
Вряд ли меня можно рассматривать как убеждённого ученика, поскольку я пробыл в школе Гурджиева четыре года, и моё обучение началось, когда мне было одиннадцать лет. Я думаю, что Гурджиев не считал учениками ни меня, ни моего брата, ни кого-то из других детей (большинство из которых находились в школе из-за обстоятельств рождения). Мы принимали участие (настолько, насколько могли) в ежедневной работе школы, но не были учениками ни в каком смысле. Мы не ходили регулярно на чтения и не слушали лекции – просто не было правил по этому поводу, и никто не возражал, если случалось так, что мы присутствовали. Но даже в том возрасте я прекрасно понимал, что Гурджиев вынуждает своих учеников к «сознательному усилию» и «намеренному страданию», или правильнее, что они подвергались этому. Для среднего человека это в основном заключалось в участии в достаточно тяжёлом ручном труде в группе. Это могло быть что угодно – от постройки дома до работы в саду – и вначале это была просто тяжёлая работа, и предполагалось, что она должна быть сделана добросовестно. Через время ты сознаёшь, что тебя затолкали в некие разочаровывающие обстоятельства, связанные с выполнением работы – например, ты вынужден работать с кем-то, с кем возникают конфликты; или тебя отстраняют от работы, как только ты стал ею интересоваться, и прочее. Большинство из новоявленных учеников проходили через период целенаправленного доведения до разочарования. Неизбежно, принимая во внимание репутацию школы и цели, которые она утверждала, ученики начинали сомневаться в том, что здесь есть что-то большее, чем простой физический труд. Это разочарование обычно возрастало, потому что никто, включая Гурджиева, не отвечал на их вопросы – им просто говорили, что сейчас им нужно делать то, что им говорят. Когда они достигали некоего кризиса, им неожиданно давали упражнение – обычно говорили, что нужно сознательно наблюдать себя во время работы и узнавать о себе больше. Если ученики не уходили, то постепенно их начинали вводить во внутренний круг, где они посещали чтения, слушали лекции, занимались упражнениями, гимнастикой или танцами, которые имели целью научить их одновременной ментальной, эмоциональной и физической координации. После этого… откровенно говоря, я не знаю. Большинство людей, которые оставались надолго, начинали время от времени лично общаться с Гурджиевым, и я не знаю, о чём были эти беседы. Я знаю, что к тому времени такие люди, как правило, были убеждёнными последователями. Они были зачарованы бесспорным экстраординарным магнетизмом и проницательностью самого Гурджиева. Как однажды отметила Кэтрин Мэнсфилд: «…он всегда делал именно то, что нужно в данный момент. Вот что непостижимо…»
Бесспорно, это было так. Бесспорно, у Гурджиева было невероятное знание о других людях (если вы с этим сталкивались). Это знание не ограничивалось чтением мыслей или их передачей. Казалось, он знает так много о человеческих процессах, про внутреннюю логику человека, что он сознательно может наблюдать всё, что происходит внутри любого. Это был своего рода дар, и даже хорошо обученный психиатр проигрывал по сравнению с Гурджиевым. Уровень Гурджиева был высок, и я никогда не сталкивался с тем, чтобы он ошибался – касательно меня или касательно других людей, которых я знал. Было сложно сопротивляться столь очевидным знаниям или «силе» и, на самом деле, не было смысла сопротивляться. Вопреки сплетням о нём, не было доказательств, что он делает что-то для кого-то, что может быть расценено, как «зло». Подобные утверждения о «зле» порождались неприятием. И многие из его студентов грешили этим. Я не знаю лучшего способа создать столь яростную «оппозицию» и критику, как поддержание блаженной тайны. Ученики Гурджиева с довольной высокомерной улыбкой провозглашали, что они, наконец, нашли «нечто подлинное» или «великое учение» и пр., но потом были совершенно неспособны объяснить, что это и как это работает. Я не думаю, что это «непонятно», но думаю, что «метод» его «учения», или то, что было «ценным» в его работе, просто не может быть передано людям, у которых нет собственного подобного опыта. Это прежде всего вопрос оценки; люди, которые хвалили Гурджиева, бесспорно совершали ошибку, забывая о том, что они не делали этого, пока не оказались под его влиянием через работу с ним в течение довольно долгого времени. Эмоциональный опыт большинства людей, связанный с Гурджиевым и его работой, нельзя было логически и убедительно объяснить. Гурджиева боготворили, в него верили, его обожали – или ненавидели и бесчестили. Ничего из этого не годится, чтобы объяснить его. Я думаю, что, скорее всего, о нём можно сказать, что он был истинный «мистик». Но что это значит, за исключением того, что мистицизм это нечто стоящее?
Что касается критиков и обвинителей Гурджиева – их было слишком много, и их имена ничего не дадут, кроме длинной библиографии – большинство из них относились к одной из двух категорий: они полагали, что являются учениками, и поэтому критиками любого учения, которое имело дело с тайной; или они были разочарованными учениками, иллюзии которых разбились об его метод. Те, кто относились к первой категории, как мне кажется, придирались к нему, потому что он не жил согласно их догматическим концепциям; что касается разочаровавшихся или «оскорблённых» учеников: если я обнаружу, к примеру, что христианство мне не подходит, мне будет трудно винить в этом Папу или Библию.
Глава 22
Я почувствовал, что погрузился в собственные размышления. Я уже мог взглянуть на мой личный опыт в Приоре с некой отстранённостью. Суждения других людей заставили меня задуматься над своими вопросами. Несколько «хорошо осведомлённых» или «искушённых» людей (Гурджиев иронически называл их «интеллигенцией») кое-что знали о Гурджиеве, и почти все они знали, к примеру, что Кэтрин Мэнсфилд, А.Р. Орейдж и П.Д. Успенский общались с ним в то или иное время. Многие из этих людей при упоминании имени Гурджиева скажут: «Ах да, это тот человек, который убил Кэтрин Мэнсфилд!» Это точная цитата и, как ни странно, суждения почти всегда выражаются точно в этих словах. Это общее популярное мнение о Гурджиеве кажется неплохим поводом для того, чтобы взглянуть на него по-другому. В первую очередь позвольте мне сказать, что я не чувствую сильного порыва очистить Гурджиева от этих обвинений (которые, возможно, просто удобный и довольно театральный способ его запомнить); в любом случае у меня нет точной информации об отношениях Гурджиева и Мэнсфилд. Она умерла в Приоре до того, как я там оказался; и умерла она на руках других людей, возможно, обвинения исходят от них. Также я не думаю, что Гурджиев когда-либо убивал кого-либо.
Я поднял вопрос Кэтрин Мэнсфилд потому, что с ним связана дурная слава. Самый верный и быстрый подход к отношениям Гурджиева и Мэнсфилд, по моему мнению, должен исходить из слов самой мисс Мэнсфилд. К сожалению, Гурджиев не оставил никакой информации по этому поводу.
Поэтому цитирую Кэтрин Мэнсфилд[2]:
«Я собиралась в Фонтенбло на следующей неделе, чтобы увидеть Гурджиева. Я хочу сказать тебе об этом. Почему я еду? Среди всех людей, о которых я слышала, он единственный человек, который понимает, что нет разделения между телом и духом, кто знает, как они соотносятся. Ты помнишь, я всегда говорила, что доктора лечат только половину А ты отвечал: «Ты должна сделать остальное». Это так. Это правда. Но сначала я должна узнать, как. Я верю, что Гурджиев может меня научить. Что говорят другие люди – не имеет значения. Другие люди вообще ничего не значат».
Я могу сделать только один комментарий конкретно к этому письму. Очевидным является то, что упоминание других людей в последнем предложении, показывает знание Кэтрин о том, что её решение будут критиковать, а также о том, что Гурджиев кажется «подозрительным» «другим людям» или, возможно, только Джону Миддлтону Марри. В любом случае мало сомнений в том, что Гурджиев был и остался подозрительным, ибо любое учение становится подозрительным только по той причине, что оно не защищено широкой общественностью или религией. Мы подозреваем всё, что не можем тут же взять под контроль. Собственные литературные работы Гурджиева способствовали этой «подозрительности», будучи большей частью непонятными среднему читателю. Но вернёмся назад к Кэтрин Мэнсфилд:
«Гурджиев вовсе не такой, как я ожидала. Он действительно тот человек, которого хочешь найти. Но я абсолютно уверена, что он может направить меня на верный путь, лично или другим способом».
«Я верю, что Гурджиев – единственный человек, который может помочь мне. Это большое счастье – быть здесь. Некоторые люди незнакомы, как всегда, но я чувствую их близость, и они не чужие мне. Так я чувствую. Такого приятного понимания и симпатии я никогда не знала во внешнем мире».
«Здесь совсем другое чувство – Дружба. Настоящая дружба, о которой мы с тобой мечтали. Здесь она есть между двумя женщинами или между мужчиной и женщиной, и её неизменно чувствуешь, и живёшь так, как невозможно жить где-то в другом месте.
Я ещё не могу сказать, что теперь у меня есть друзья. Я просто не готова к ним. Я недостаточно знаю себя, чтобы доверяться на самом деле, и я слаба там, где эти люди сильны. Но даже те отношения которые есть, намного более близки, чем любая дружба, когда-либо бывшая ранее».
«Иногда я поражаюсь, если мы сталкиваемся с удивительным пониманием Гурджиева. Но всегда есть новые примеры этому И он всегда делает именно то, что нужно в данный момент времени. Это так непостижимо…»
«Это место показало мне, насколько же я нереальна. Оно отнимало у меня одно за другим (но ничего из этого не было моим), и в этот момент единственное, что я знаю по-настоящему, это то, что я не уничтожена, и что я надеюсь – более, чем надеюсь – верю».
Конечно же, в той книге написано больше о Гурджиеве и об Институте. Я не смог в ней ничего найти, что «умаляло бы заслуги» Гурджиева. Кэтрин писала о страданиях и трудностях, с которыми сталкивалась в Институте время от времени, но для любого объективного читателя кажется невозможным сделать вывод, что мисс Мэнсфилд не желала такого опыта. Ей казалось, что в этом есть реальное содержание, цель и смысл.
Помимо «показаний» мисс Мэнсфилд по делу Гурджиева, есть уместная и интересная редакторская заметка Джона Миддлтона Марри в эпилоге данной книги:
«Это не для меня – судить гурджиевский Институт. Я не могу сказать, укоротила ли Кэтрин свою жизнь пребыванием там. Но я убеждён в следующем: Кэтрин сделала его инструментом для процесса самоуничтожения, которое необходимо для духовного возрождения, посредством чего мы вошли в Королевство Любви. Я уверен, что она достигла своей цели, и Институт помог ей в этом. Больше я не смею, а меньше не могу сказать».
Какие бы цели не преследовал мистер Марри – однозначно, в этом абзаце он не судит. И довольно странно – и необычно – то, что в этом и состоит суждение. Для вдумчивых людей вхождение в Королевство Любви не представляется нежелательным – можно сказать, что это нечто наиболее желанное на свете, и такой же комментарий можно сделать о «духовном возрождении». Что нам оставляют слова «процесс самоуничтожения»? Если «самоуничтожение» означает только то, что приводит к «духовному возрождению», то я могу только одобрить этот процесс. Если же, с другой стороны, Марри намекает (и общий смысл процитированного абзаца приводит меня к выводу, что это так и есть), что то, чего достигла Кэтрин Мэнсфилд, – это физическая смерть (то есть некая форма самоубийства) – тогда, возможно, это нужно поставить под сомнение. Читатели могут сами сделать свои выводы по поводу этого – и многие это сделали.
Но… Конечно же, есть «но». Кэтрин Мэнсфилд была очень серьёзно больна, когда прибыла в Приоре. Её отношения с мужем, мистером Марри, длительное время, как показывают «Письма», были как минимум «сложными». Даже в таком случае я могу понять, что Марри не хотел, чтобы его жена умирала. С другой стороны, хотела ли Кэтрин Мэнсфилд умереть естественной смертью от старости? Я сомневаюсь, что следует делать завуалированное обвинение, то есть вывод о том, что Гурджиев или Институт как-то поспособствовали её смерти или стали желанным средством для самоубийства. Таким образом, на мой взгляд, весь вопрос сводится к довольно простой констатации: очень жаль, учитывая наш обыденный взгляд на мир, что талантливая писательница Кэтрин Мэнсфилд умерла такой молодой.
На самом ли деле так жаль? Можем ли мы сожалеть о книгах, которые никогда не будут написаны? Можем ли мы сожалеть о непрожитой жизни? Может быть, логически рассуждая, мы можем сожалеть об этом, когда речь идёт о несчастных случаях: авариях на поездах и машинах, убийствах. Но сомнительно, что мы можем так сожалеть даже в случае самоубийства, которое – по крайней мере, возможно – является частью портрета и характера живого человека. Но если мисс Мэнсфилд вошла в «Королевство Любви» или достигла «духовного возрождения» (и заметьте, пожалуйста, Марри утверждает: «Я убеждён, что она достигла своей цели»), тогда мой единственный вопрос таков: было ли что-то ещё, чего она могла достичь? Есть ли у того, кто обдумывает такие вопросы, более предпочтительная альтернатива? Так что утверждение Марри может быть отмечено, как необычная дань христианина Гурджиеву – однако я вовсе не уверен, что он этого заслуживает.
Я меньше, чем мистер Марри, убеждён в том, что мисс Мэнсфилд «вошла в Королевство Любви» в загробном мире, и я подозреваю, что это его личные выводы. Я уверен, что её собственные слова показывают, что она нашла не Королевство, но мир «дружбы» и «истинности», что было для неё очень важно. Не имеется в вид у достижение.
Помимо «свидетельств» мисс Мэнсфилд и Марри, П.Д. Успенский, который не остался навсегда «увлечённым» Гурджиевым, в своих книгах свидетельствует по делу мисс Мэнсфилд и Гурджиева[3]:
«Впервые я приехал в «Аббатство» в конце октября – начале ноября 1922 года. Помню один разговор с Кэтрин Мэнсфилд, которая в то время жила там. Дело происходило примерно за три недели до ее смерти. Я сам дал ей адрес Гурджиева. Она посетила две-три мои лекции, а затем пришла ко мне и рассказала, что едет в Париж, где какой-то русский врач лечил туберкулез, облучая селезенку рентгеновскими лучами. Конечно, на это я ничего не мог ей сказать. Она уже была на полпути к смерти и, кажется, сама это сознавала. Но при всем этом поражало ее горячее желание наилучшим образом использовать даже последние дни, найти истину, присутствие которой она чувствовала, но к которой не могла прикоснуться. Я не мог отказать ей, когда она попросила у меня адрес моих друзей в Париже, с которыми она могла бы поговорить о тех же самых вещах, что и со мной, но не думал, что увижу ее еще раз. И вот я опять встретил ее в Аббатстве. Вечером мы сидели в одном из салонов, и она говорила со мной слабым голосом, который, казалось, шел откуда-то из пустоты:
«Я знаю, что здесь истина, что другой истины нет. Понимаете, я давно смотрю на всех нас как на людей, которые потерпели кораблекрушение и попали на необитаемый остров, но еще не знают об этом. А здешние люди это знают. Другие, там, в жизни, все еще думают, что за ними завтра придет океанский пароход, и все опять вернется к старой жизни. Эти уже знают, что старого пути не будет. Я так рада, что оказалась здесь!»
Вскоре после возвращения в Лондон я услышал о ее смерти. Гурджиев был очень добр к ней и не настаивал на ее отъезде, хотя было ясно, что она не выживет. Это вызвало со временем немало лжи и клеветы».
По моему мнению, Успенский, невзирая на моё личное несогласие с ним и пренебрегая тем, что его книги слишком «интеллектуальны» для меня, один из наиболее беспристрастных объективных критиков Гурджиева, о чём свидетельствует его утверждение в той же книге:
«В течение этого периода Гурджиев несколько раз приглашал меня приехать пожить в Аббатстве, что было сильным для меня искушением…. В то же время я не мог не видеть, как видел уже в 1918 году в Ессентуках, что в организации самого дела заключено много разрушительных моментов, что оно должно развалиться».
В последней попытке быть полностью честным по отношению к Марри и тем, кто до сих пор утверждает, что Гурджиев убил мисс Мэнсфилд, позвольте вернуться в Приоре и к самому Гурджиеву.
Когда я впервые работал в конюшне, ухаживая за лошадью и ослом, я, как и любой ребёнок, интересовался узкой деревянной лестницей, ведущей на маленькую площадку над стойлами. Там, под потолком, были многочисленные рисунки животных и птиц, карикатуры на всех друзей Кэтрин Мэнсфилд в Приоре, нарисованные, как мне сказали, Александром де Зальцманом. Поскольку многие люди, изображённые на карикатурах, ещё были учениками Приоре, я очень хотел опознать их, но никто не хотел помогать мне в этом. Было забавно представлять себя в роли инвалида, лёжа на узкой кровати Кэтрин, слыша и чувствуя запах животных внизу и отгадывать изображённых персонажей.
Даже в возрасте одиннадцати лет я слышал обвинения в адрес Гурджиева на тему того, что «он убил Кэтрин Мэнсфилд», и я был очень удивлён, узнав, что все старшие студенты и сам Гурджиев отзывались о ней с большой теплотой, дружеским расположением и сожалением. Таким образом, одной из первых моих экскурсий по землям Приоре был визит на могилу Кэтрин Мэнсфилд на маленьком кладбище в Авоне. Я посетил это место с несколькими новыми друзьями. Мне трудно было поверить в то, что Кэтрин Мэнсфилд могла быть в Приоре несчастна. Но это, конечно же, не могло опровергнуть возможность того, что Гурджиев её убил. Сам он никак не пытался развеять существующие подозрения, касающиеся её смерти, и я предполагал, что он знает о критике в свой адрес. Он говорил о Кэтрин в моём присутствии, но только так, как можно говорить о покойном друге или родственнике – с теплотой, и как мне казалось, с большой долей «сентиментальности».
Я честно могу сказать, что моё положение в Приоре было уникальным. Уникальным в том смысле, что у меня не было «потребности» там находиться. На самом деле, я был там против своего желания – вряд ли у меня был выбор. Из-за этого я рассматривал Гурджиева, как человека, у которого есть власть. В общем, он был совсем другим взрослым – располагающим такими же полномочиями, как директор школы. Единственное, что может показаться «необычным», так этот то, что он внушал намного больше трепета и уважения, чем любые другие директора. Сравнение Гурджиева с «директором школы» или «любым взрослым» кажется «наивным» и «смешным». Я могу только сказать, что Гурджиев не был более странен, чем, к примеру, Джейн Хип, Маргарет Андерсон, Гертруда Стайн, Бранкузи и прочие. Более внушительным, если так угодно, но не странным.
Я думаю, важным будет подчеркнуть, что я не прибыл в Приоре в поисках чего-то. Кто-то в моём присутствии недавно сказал: «Гурджиев – это для неудачников. У него была некая система, рассчитанная на нервных и неудовлетворённых людей, которые не могут найти ответов или утешения в религии, философии и прочем». Я не спорю с подобным утверждением. Большинство из «последователей» или жителей Приоре были «неудачниками» в том смысле, что они искали некий ответ, какую-то причину, и были не удовлетворены всем, с чем сталкивались до первого знакомства с Гурджиевым. Хотя он постоянно объяснял, что неудовлетворённость была практически необходима для кандидатов в последователи его метода, я был этим очень удивлён.
Как ребёнок я не сознавал ничего «необычного» в Приоре, в то время как людям, которые слышали о Гурджиеве и его методе, претило то, что жизнь в Приоре не соответствует их установкам о том, какой должна быть жизнь в «Институте Гармонического Развития Человека». По крайней мере для ребёнка обыденная жизнь в Приоре была простой, даже элементарной. Наши занятия, в основном, были связаны с выращиванием еды для собственного использования, поддержанием порядка на территории и тому подобным. Для меня ученики были похожи на людей, которые заняты этим обслуживанием. Проще нас можно было назвать организацией дворников, садовников и прислуги. Мои личные отношения с Гурджиевым, конечно же, прояснили для меня, что здесь происходит нечто большее, чем просто «обслуживание» – но по сути эти отношения были не более поражающими или необычными, чем отношения ребёнка и незаурядного родителя. Гурджиев был своеобразен. Но в том возрасте большинство взрослых казались мне своеобразными – у него была просто другая степень своеобразности.
Таким образом, Приоре было для детей приятным, счастливым местом. От каких бы мук ни страдали его обитатели и взрослые посетители, это не было понятно детям. К нам относились как к детям, с большой любовью и теплотой. Гурджиев же был «боссом», и с ним надо было обращать внимание на своё поведение и слушаться его. Мы думали о нём, как о некоем боге, или по меньшей мере как о всесильном короле. Определённо властном, но также комичном, добром, любящем и очень часто смешным. Более того, он казался нам заслуживающим абсолютного доверия, разумным и справедливым. Если бы в одиннадцать лет я смог понять то, чему якобы учили в Приоре, я был бы озадачен и сбит с толку. Поскольку я этого не понимал, я знал только, что нахожусь в «хорошем» месте с хорошим человеком. Необычным, если желаете, но намного лучшим, чем другие. Я, естественно, по-детски уважал его бесспорный авторитет и его своеобразность – это просто делало его ещё более интересным. Хотя он был непредсказуем, но вовсе не был устрашающим, вопреки популярным мнениям. Эта непредсказуемость стимулировала сильнее, чем деятельность любого из предсказуемых взрослых. Большинство взрослых, хотя они и предсказуемы, непонятны и довольно скучны: факт, который мы понимаем только в детстве и в старости. Но с Гурджиевым мы никогда не знали, что он сделает в следующий момент… и когда он это делал, это всегда было волнующим и почти всегда забавным; иногда он создавал чудесный мир для детей… представьте себе человека, настолько сумасбродного и изумительного, чтобы купить две сотни велосипедов и всех заставить на них ездить. Какой ребёнок сможет сопротивляться этому?
Если это отступление кажется слишком долгим, я могу оправдаться тем, что я пытался воссоздать картину жизни в Приоре, как я видел и знал её ребёнком почти через год после смерти там Кэтрин Мэнсфилд. И чтобы снова вернуться к этой смерти, укажу на важную вещь – отношение Гурджиева к смерти вообще. Мистер Марри мог быть прав, – по сути, я думаю, что он и был прав, хотя бы частично, – в своём суждении об Институте, когда сказал, что «Институт посодействовал» ей в её жажде смерти. Гурджиев, очевидно, не видел особой ценности в продлении жизни конкретного человека. Он настаивал на необходимости постоянного сознания своей смерти, и это, конечно же, опасно для многих людей. Если жажда смерти так сильна, как нас пытаются убедить некоторые психологи и доктора, его требование «взглянуть ей в глаза» может только усилить это желание. Но подобная мысль не признаёт совершенно очевидный факт того, что все, так или иначе, движутся к смерти, и почему тогда не принять это и не жить с этим?
Моё мнение по поводу кончины Кэтрин Мэнсфилд, составленное частично из писем и мнений других людей, цитированных ранее, частично из моего знания Института и Гурджиева, таково: она была мертва – скорее психологически, чем физически – когда приехала к Гурджиеву в первый раз. Кто-то другой, не Гурджиев, мог бы приложить значительные усилия, чтобы сохранить ей жизнь или продлить её – в этом я согласен с Марри. Гурджиев этого не сделал и, по-моему, точно отказался сделать это. Но мне сложно не согласиться с тем, что он делал. Она умерла, или по крайней мере подготовилась к смерти, в более мирном и счастливом состоянии, чем то, в котором она жила. Кто точно знает, что принятие – в некоторой степени – смерти не является желанным? Я снова делаю акцент на том, что не общался лично с мисс Мэнсфилд и не присутствовал во время её смерти – несмотря на это, я убеждён, что гурджиевская работа в её случае только помогла ей на пути к «правильной» смерти. В конце концов, позвольте не отнимать у мисс Мэнсфилд её образа человека и писателя предположением, что она ничего не понимала в последний месяц своей жизни. Она выбрала быть здесь. Её письма, определённо, не являются письмами женщины, которая была постепенно «убита».
Глава 23
Критика в адрес Гурджиева и его метода была по большей части на удивление мстительной и личной. Мне сложно понять такую критику по той простой причине, что она никогда не принимает в расчёт, что тут не может быть никакой личной ответственности самого Гурджиева. Люди обычно опускают возможность этого или избегают её, утверждая или подразумевая, что Гурджиев настолько «гипнотизирующий» или «подчиняющий» (или в его работе есть нечто, что делает его неотразимым), что люди не могут защититься от него.
Я признаю личный магнетизм Гурджиева; с другой стороны, большинству людей он очень усложнял путь в члены группы. Я чётко помню один случай: к Гурджиеву обратилась за помощью пара американцев среднего возраста. Мужчина был частично парализован, и в их запросе предполагался допуск в Приоре. Они надеялись, что «работа» Гурджиева может что-то сделать с этим состоянием. Гурджиев чётко заявил в моём присутствии, что ни один аспект его работы не может ничего сделать с реальным физическим состоянием человека (может только помочь принять его), но он не возражает против того, чтобы они приехали в Приоре, на то время, которое им нужно, чтобы понять, что ничего здесь не может помочь или облегчить паралич. Беседу, которая происходила в Приоре, он начал с того, что отказал им в предоставлении статуса учеников. Только после того, как он прояснил свои условия – касающиеся физических недомоганий – им позволили остаться.
Я хорошо узнал эту пару, пока они находились в Приоре – мне тогда было тринадцать лет, и мне была поручена уборка их комнаты. Это было неслыханно, – поскольку каждый сам убирал свою комнату, – но в их случае было сделано исключение, как некая любезность, поскольку мужчина был прикован к инвалидной коляске, а его жена почти всегда была с ним. Она возила его по поместью, чтобы он мог если не участвовать, то хотя бы наблюдать работу, которая ведётся вокруг. Они оставались в Приоре примерно два месяца, насколько я помню, и именно жена, казалось, почувствовала, что «что-то получила» от присутствия там. Я не знаю, что чувствовал по этому поводу её муж. Я знаю, что когда они покинули Приоре, то объявили (более точно, она объявила), что намерены продолжать его работу в Нью-Йорке с группой.
Через девять или десять лет я снова встретился с этой парой. Они совершили некоторые усилия, чтобы разыскать меня. Я был очень удивлён, услышав о них, и был очень рад их видеть, поскольку в детстве очень любил их обоих. К моему полному удивлению, когда я встретился с ними в Нью-Йорке, они говорили о Гурджиеве с огромной ненавистью. Я был настолько поражён, что не мог ничего сказать и не знал, как защитить его. Но я выслушал их, и их длинная, полная ненависти речь касалась того, что Гурджиев был «мошенник», «шарлатан» и «дьявол» в основном потому, что не сделал ничего для здоровья мужчины.
В своей простодушной манере я напомнил им, что Гурджиев предупреждал их в моём присутствии, что он ничего не может сделать с его состоянием, но с таким же успехом я мог бы убеждать их на иностранном языке. Ненависть просто не реагирует на убеждения. Это был мой первый связанный с Гурджиевым опыт столкновения с полностью эмоциональной точкой зрения; настолько эмоциональной, что разумными доводами пренебрегали. После этого я часто сталкивался с подобным отношением.
Почему даже спустя годы после смерти Гурджиева основная масса критики в его адрес полностью эмоциональна и очень редко основана на реальных фактах? По-моему, это подтверждает слова самого Гурджиева про «дикость» того, что он называл «чувственным» или «эмоциональным» центром человека. Мой собственный опыт, никак не связанный с Гурджиевым, постоянно ужасал меня мощностью эмоциональных реакций в людях и слабостью доводов их разума в эмоциональных ситуациях. Я не думаю, что причиной путаницы были магнетизм Гурджиева или его сила. Я считаю, что причиной были ожидания людей, которые приходили к нему. Я не знаю никого, кто мог бы приблизиться к нему или оценить его с отстранённой, разумной точки зрения. Даже, казалось бы, беспристрастные поклонники (хотя как они могли быть «беспристрастными» и «поклонниками» одновременно?) иногда ужасались или предвзято смотрели на него, потому что он был, по их мнению, «грязный» и «нечистоплотный». Я убирал его комнату два года, будучи ребёнком, и знаю, что он мог быть грязным и «негигиеничным» по западным стандартам, но это на меня повлияло не больше, чем то, что он был определённого возраста и определённого роста. Как его гигиенические привычки могли отразиться на его знаниях и способностях учителя? Когда я задавал этот вопрос, ответ всегда был такой, что великий учитель обязательно должен быть чистым. Это мне кажется равноценным тому, чтобы принять христианство только после расследования банных привычек Иисуса Христа. Или же «чистота – залог благочестия»? И относится ли это старое выражение к чистоплотности?
Я уже говорил в этой книге, что у меня нет особого желания защищать Гурджиева, но допускаю, что не всегда придерживался этого утверждения. Если моя книга может показаться защитой его от подобных осуждений некоторых последователей и клеветников, то это из-за моего неприятия отсутствия бесстрастного мышления у некоторых подобных людей. Они будто бы смотрят и оценивают Гурджиева через эмоциональную призму своих желаний и надежд, и никогда не смотрят чётко. Неужели учитель виноват в том, что ученику ничего не понятно?
Всё, что предлагал Гурджиев, насколько я знаю, было учение, которое базировалось на многих других учениях, не обязательно новых. Если в самом его учении не было ничего нового, то новым был метод его обучения. Но мой вопрос к его критикам таков: что сложного в том, чтобы принять или отвергнуть Гурджиева и его учение? Почему им нужно столь сильно эмоционально вовлекаться в него? Я признаю сразу же, что я был эмоционально увлечён Гурджиевым как человеком, и он оказал огромное влияние на мою жизнь; но я был эмоционально увлечён практически каждым, кого хорошо знал. Почему же Гурджиев должен быть (и как он может быть) исключением? Эмоциональное увлечение не устраняет моего знания того, что у того или иного человека могут быть привычки или особенности, которые мне не нравятся, и которые я могу даже «осуждать». Но разве моё одобрение и любовь базируется на наблюдении за такими привычками? По сути, имею ли я право одобрять кого-либо?
Конечно же, я тоже эмоционально реагирую на людей. Но такие реакции не унижают личность или «целостность» этих людей. Они живут такой жизнью, которую они выбрали – или так, как с ними случается – и я не могу это изменить, даже если и захочу. Единственное, что я могу сделать, это принять или отвергнуть этих людей. Жизнь кажется мне хищнической, и если человек не «полезен» (в том смысле, что есть некий взаимовыгодный обмен на любом уровне), зачем иметь отношения с этим человеком? Жестоко? Если хотите, но разве само выражение «жестокий» не чисто эмоциональное? Если это возможно, я могу что-нибудь сделать для своих приятелей (почему нет?), но это не должно пониматься как «альтруистическое» заявление. Альтруизм, как правило, имеет сомнительные мотивы, при этом обычно эмоциональные. В мои периоды «любви к миру» и «альтруистических» чувств я обнаружил, к своему сожалению, что я вообще ничего не могу сделать для другого человека. Ничего в смысле помощи. Я могу разделить их жизнь, но лишь настолько, насколько подобное разделение взаимовыгодно (или приятно, или полезно). Можно ли жить с людьми по-другому?
Глава 24
Как бы я не протестовал, я, наверное, не смогу взглянуть со стороны и беспристрастно оценить мой опыт с Гурджиевым. Ребёнком я был настолько поглощён этим человеком и жизнью в Приоре, что для меня сделать такую оценку всё равно, что для рыбы оценить, как на неё повлияла жизнь в воде. Но я всё равно попытаюсь это сделать.
В первую очередь мне кажется важным подчеркнуть, что я увлекался и интересовался человеком, а не его учением. С другой стороны, я думаю, что невозможно быть связанным с ним и не поддаться влиянию его учения – он сам воплощал собой своё учение. Если мне и известен стойкий результат влияния на меня Гурджиева, так это осознание общей нелепицы. Двойственность человеческой природы (которая проявляется во мне или в ком-либо другом) благодаря Гурджиеву кажется состоянием, которое я никогда не смогу забыть. Простой пример (но одновременно и сложный), который я могу привести – это то, что есть часть меня, которая не повзрослела и никогда не повзрослеет в обыденном смысле этого слова. Я приписываю это Гурджиеву, потому что мне кажется, что одна из его целей была в том, чтобы способствовать сохранению в людях некой детской наивности. В своих книгах он говорит о необходимости «быть способным сохранить нетронутыми волка и овцу» в самом себе. В грубом переводе, по-моему, этот процесс состоит в сохранении «доверчивости» («невинности», «наивности») и в то же время в приобретении «опыта» («приземлённости», «скептицизма»).
Гурджиев часто говорил о необходимости «жить в иллюзиях» и «совсем не иметь иллюзий», и когда он мне в первый раз сказал об этом, когда я ещё был ребёнком, я понял это так, что человек должен, в конце концов, разрушить все свои иллюзии. Со временем это приобрело другое значение. Это не столько описание процесса, как я его теперь вижу, сколько описание состояния, которое должно поддерживаться. Если можно сохранить способность «заблуждаться» (насколько это возможно), то не имеет значения, насколько скептичным может стать разум, поскольку всё это нужно для того, чтобы наиболее полно переживать жизнь и сближаться с людьми. Это значит сохранить в себе то, что можно назвать «полным легковерием».
Для пояснения я скажу, что верю в то, что каждый всегда говорит правду. Даже когда я знаю, что мне лгут, я верю, что мне говорят правду. Если это утверждение кажется противоречивым или парадоксальным, я добавлю, что «вера» и «знание» – это две разные вещи, и их не следует путать. Получившееся противоречие (между верой и знанием) порождает беспристрастный взгляд на происходящее и ведёт к «пониманию», лежащему где-то между верой и знанием. Для меня ценность этого в том, что из-за этого конфликта я вынужден оценивать не только другого человека, но, неизбежно, и себя самого. Благодаря именно этому я участвую в жизни.
Если это кажется бессмысленным или непостижимым, то я мало чем могу прояснить это. Кажется, это сводится к необходимости верить в людей непосредственно, как бы они себя не проявляли, и также снова и снова открывать то, что жизнь (как и природа) полна чудес – всегда удивительных.
Основная сложность писать о Гурджиеве или пытаться «объяснить» его, в том, что большинство людей воспринимает его и его работу слишком серьёзно. За или против него, они одинаково серьёзны. Я полагаю, что основная «важность» этого предмета – как усовершенствовать себя до настоящей зрелости (так можно было бы описать работу Гурджиева) – определённо требует серьёзности. Но, возможно вновь парадоксально, сильная вера Гурджиева в «цельного» человека и в развитие всех граней его существа предполагает, что нужно в то же время сознавать, насколько комичен весь этот процесс. Эта «серьёзность», которая в его учениках выражалась как почтение, основная причина того, что Гурджиев был предметом споров в кругах, изображающих интерес к нему. Его «философия» почти всегда критиковала «фальшивое» или «бесчеловечное» бытие и стояла на страже «истинного пути», если не единственного истинного пути. В пылу полемики, по-видимому, остаётся незамеченным или забытым тот факт, что помимо всего прочего Гурджиев был человеком – в совершенно обычном смысле. Что касается его учения, то оно, по его утверждению, основывалось на различных древних и секретных «учениях», и не выдумано им. Таким образом, по его собственному определению, он был «смутьян». Из-за его личной борьбы за сохранение своей двойственности – поскольку двойственность и появляющийся в результате конфликт определённо важны, по его мнению, для развития человека – должны были быть периоды, когда он тоже принимал себя слишком «серьёзно». Даже если и так, он восстанавливался, и его спасительной благодатью как человека, так и учителя, было присущее ему чувство юмора со всеми вытекающими последствиями.
Хотя очень сложно дать какие-то общие примеры метода обучения Гурджиева, я помню один случай, который кажется мне воплощением огромного множества аспектов той манеры, в которой он работал. Однажды в общей дискуссии на тему «деградация знания и науки» в современном мире, Гурджиев поднял вопрос об астрологии. Он заявил, что много столетий назад она была «истинной наукой» и очень отличалась от современной концепции астрологии. Он привёл пример, каким образом она «приобщилась к цивилизации и неверно истолковывалась». Астрологические знаки изначально «ввелись» для того, чтобы синтезировать конкретные характеристики, против которых данный человек будет бороться в течение жизни.
Он сказал, что человек, рождённый под знаком Овна должен помнить, что Овен – это символ характеристик его природы, против которых он должен бороться для того, чтобы достичь гармонии и баланса внутри себя.
Скорпион по этой трактовке (самка убивает самца, когда спаривание завершено), может в общем интерпретироваться как «убийственный» знак, хотя это не означает убийства в физическом смысле. Рыбы и Близнецы – это два очевидно дуальных знака, но они изображают два разных типа дуальности. В Рыбах это противоречивая дуальность – две рыбы, связанные вместе (как они иногда изображаются на старинных гравюрах и рисунках), но борющиеся, чтобы разорвать эту связь. Другими словами, представители знака Рыб должны бороться против стремления к внутреннему расколу. Близнецы, напротив, изображают объединённую дуальность, и борьба должна быть против срастания и за разделение. Стрелец должен бороться против разрушительных действий (стрелы, направленные против мира)… и прочее. Честный, простой метод состоит в том, чтобы найти то, что символизирует ваш знак в вашем сознании и установить контакт с вашими естественными характеристиками.
Гурджиев не обсуждал все знаки подробно, но предложил каждому понять для себя, что символизирует его знак и как он представлен, исследуя свои характерные черты или побуждения. Затем нужно напомнить себе, что подобное обобщение показывает те элементы, против которых нужно бороться в течение жизни – это можно назвать «встроенными препятствиями» собственной природы, которые были частью ключа к «самосовершенствованию» или росту; необходимые препятствия, стоящие на пути к развитию. Гурджиев добавил, что в великих древних науках урок никогда не устанавливался чётко, но он мог быть выучен через усилие, и основная часть проблем в астрологии заключалась в личной интерпретации значения своего знака. Вернувшись к Овну, как к подходящему примеру, Гурджиев сказал, что люди, рождённые под этим знаком, должны не только бороться против склонности «пробивать лбом» различные обстоятельства и ситуации, но эта борьба также зависит от того, что они понимают под «пробиванием лбом», и от их личного анализа и понимания способов, которыми выражается эта характерная черта. Знак, другими словами, был ключом – указанием – для всех людей, рождённых под ним, но поскольку каждый человек индивидуален, то необходимо найти в себе конкретные особенности, которыми знак выражается в индивидуальности.
Гурджиев предупредил, что в индивидуальном анализе таких качеств путеводную нить обычно можно найти, если быть способным наблюдать в себе характерные черты, которые импульсивно проявляются. Хотя это очень тяжело – объективно наблюдать свои предубеждения и «приятные характеристики», тем не менее это необходимо делать, чтобы оценивать себя безошибочно. Для этого могут быть полезны другие люди, потому что благодаря им возможно наблюдать следствия своих повторяющихся проявлений. Способ обнаружить внутри себя то, чем мы связаны, что мы любим и чем гордимся (хотя, возможно, бессознательно) – это частота проявления этих черт в связи с поведением других людей. Такие периодически повторяющиеся «особенности» могут быть первым ключом к нашему «самолюбию», которое, в свою очередь, должно рассматриваться в связи с характеристиками астрологического знака.
Стремясь привести простой, понятный и наглядный пример, Гурджиев сказал, что если человек отследил, как в общении с другими людьми он явно, стойко, из раза в раз «настаивает на своём», и оказывается, что такой человек рождён под знаком Овна, то вывод очевиден – нужно сознательно научиться не настаивать. Если в этом же случае «настаивает» человек, рождённый под знаком Рыб, то эту настойчивость можно рассмотреть, как «одностороннюю» настойчивость, и необходимо сознательно научиться «настаивать» с другой стороны своей натуры.
Если человек, рождённый под знаком Овна, научится не настаивать в общении с другими людьми (предположим, что он уже осознал, что он это делает), он как минимум получит возможность не быть настойчивым в своей личной борьбе за рост или развитие. Любое повторяющееся проявление (или несознательная привычка) неизбежно является формой слепоты, в том смысле, что оно предотвращает сознательную деятельность.
На основании этой довольно общей беседы о гурджиевской «работе» и его «методе» я могу сделать вывод, что это абсолютно ясный пример его учения. Это обсуждение, как мне кажется, подчёркивает необходимость создания постоянной борьбы внутри человека, которая, в общем, является основой метода Гурджиева – всё, что угодно, лишь бы поддерживать кипение внутри. Всё, включая астрологию.
Простой указатель, которой он дал в этом обсуждении астрологии и знаков Зодиака, был в том, чтобы видеть в себе то, что ты «любишь» – физические, эмоциональные или ментальные проявления, зависимости, привычки или характерные черты (можно выбрать любой термин). Если вам нравятся свои руки, как физическая особенность – это своего рода ключ; работайте руками. Если вы «любите» и «лелеете» свою склонность к красноречию – это другой ключ. Если вы любите или гордитесь тем, что всегда «честны» – ещё один ключ. И так далее. Не так-то много ответов, но, как постоянно напоминал Гурджиев, ответов не существует, кроме тех, которые вы найдёте внутри себя.
Для того чтобы подвести итог этого отчёта о Гурджиеве как об учителе, я скажу, что он, бесспорно, был фанатиком в том смысле, что каким бы сознательным он ни был, его стремление распространить свой метод обязательно должно рассматриваться, как навязчивое. (Если кто-то хочет изучить астрологические соответствия – Гурджиев праздновал свой день рождения 1 января). Рассмотрение его как страстно увлечённого человека автоматически порождает противоречие. Метод Гурджиева базировался на том, чтобы стать «сознательным», как противопоставление «ведущему», «подталкивающему» или «вынуждающему»; и всё это вполне логично подводит к вопросу: а почему же он тогда учил? Будет ли полностью сознательный человек – сознающий, к примеру, то, что он может только служить своей собственной судьбе (если это возможно) – посвящать свою жизнь попытке научить других? Я могу только повторить своё убеждение, что он однозначно должен был быть учителем, и поэтому он был неким самосозданным Мессией – и это, как мне кажется, и возвращало его обратно, к уровню обычного человека. Насколько он был беспристрастен, настолько ж с увлечённо он должен был учить.
Таким образом, будто слепо притянутая некой магнитной силой (силой, которая сильнее его), главная деятельность Гурджиева, как учителя, долгое время велась в Америке. Как мне кажется, это очень подходяще – где ещё поиск Бога, авторитета, руководства выражался так явно, где ещё в этом так отчаянно «нуждались»? Конечно же, был истинный интерес ещё во Франции и Англии, Германии и России, но кажется важным то, что большая часть его наиболее пылких приверженцев была в Соединённых Штатах. Ищите и обрящете. Гурджиев был первым, кто указал, что учитель нуждается в учениках. Мне кажется, что он сделал единственную в своём роде работу для тех, кому довелось нуждаться в нём. Очевидно, это была особая нужда. Также очевидно то, что он был «особым» человеком. Последняя цитата самого Гурджиева: «Очень важно правильно найти призвание в жизни. Только так можно следовать своей судьбе». Бесспорно, он верно нашёл своё призвание. Я могу только предположить, что он также следовал своей судьбе.
Эпилог
Спустя несколько дней после завершения рукописи я пере читал, благодаря неожиданному случаю, прилагаемые от рывки из «Tertium Organum»[4]:
«Во всей живой природе (и, возможно, также в том, что мы считаем мёртвым) любовь – это движущая сила, возбуждающая творческую деятельность в самых различных направлениях».
«Весной, с первым пробуждением любовных чувств, птицы начинают петь и строить гнёзда».
«Конечно же, позитивист будет стремиться объяснить это очень просто: пение привлекает самцов или самок и прочее. Но даже позитивист не сможет отрицать, что в этом пении есть много чего ещё, что необходимо для «продолжения рода». На самом деле, для позитивиста «пение» – это просто «случай», побочный продукт. Но на самом деле может быть, что это пение главная функция данного вида, реализация его существования, цель, которую преследовала природа при создании этого вида; и это пение необходимо не столько для того, чтобы привлечь самку, сколько для общей гармонии природы, которую мы чувствуем очень редко и несовершенно.
Таким образом, в данном случае мы наблюдаем, как появившаяся вспомогательная функция любви может служить основной функцией вида.
Птенцов ещё нет; нет даже намёка на них, но тем не менее для них готовятся «дома». Любовь вдохновляет на разгул этой деятельности и ею привит инстинкт, потому что это целесообразно с точки зрения видов. С первым пробуждением любви начинается эта работа. Одна и та же жажда творчества нового поколения и тех условий, в которых будет жить это новое поколение. Одна и та же жажда подгоняет вперёд творческую деятельность по всем направлениям, сводит вместе пары для рождения нового поколения и заставляет их строить и творить для этого нового поколения.
То же мы наблюдаем в мире людей: тут любовь также творческая сила. И творческая деятельность любви не проявляет себя только в одном направлении, но во многих. Может быть действительно, под влиянием любви, Эроса, человечество пробуждается для выполнения своей главной функции, о которой мы ничего не знаем, только временами смутно воспринимаем её проблески.
Но даже не упоминая цель существования человечества, в рамках известного нам, мы должны признать, что вся творческая деятельность человека – это результат любви. Наш внутренний мир вращается вокруг любви, как вокруг своего центра.
Любовь раскрывает в человеке те особенности, которых он никогда за собой не замечал. В любви много чего из каменного века и ведьминского шабаша. Многих людей что-то меньшее, чем любовь, не может подвигнуть на преступление, предательство, возрождение в себе таких чувств, которые, как они думали, давно уже были похоронены. В любви скрывается бесконечность эгоизма, тщеславия и себялюбия. Любовь – это могущественная сила, которая срывает все маски, и люди, которые бегут от любви, делают это для того, чтобы сберечь их. Если творчество, рождение идей, это свет, исходящий от любви, тогда этот свет исходит от великого огня. В этом вечно горящем огне, в котором человечество и весь мир непрестанно очищается, все силы человеческого духа и гения эволюционируют и совершенствуются; и возможно, что из подобного огня или с его помощью возникнет новая сила, которая всех, кто за ней следует, освободит от оков материи. Говоря не образно, а буквально, можно сказать, что любовь, будучи наиболее сильной из всех эмоций, раскрывает в душе человека все её качества, явные и скрытые; и она также может развернуть эти новые потенции, которые даже сейчас являются объектами оккультизма и мистицизма – развитие сил в человеческих душах, настолько глубоко скрытых, что большинством людей существование этих сил отрицается…
В любви наиболее важный элемент – тот, которого нет, который абсолютно не существует с обычной материалистической точки зрения».
Эти слова Успенского не только глубоко поразили меня – они оказались недостающим элементом, который объяснил мне причины конфликта, который одно время существовал между Гурджиевым и Успенским. Когда Успенский впервые заинтересовался «идеями» Гурджиева, тот сказал ему, что если бы он, Гурджиев «знал так много», как Успенский, он на самом деле был бы великим учителем. Утверждение заставляло меня ломать голову даже после того, как Гурджиев много раз объяснял мне, что «знание – это мимолётное присутствие».
Хотя Успенский знал в уме, что «Любовь – это могущественная сила, которая срывает все маски, и люди, которые бегут от любви, делают это для того, чтобы сберечь их», Гурджиев это понимал. Разница между знанием и пониманием в наше время чем-то близка разнице между знанием, как сделать водородную бомбу и как её использовать. Успенский, в относительном смысле, может только общаться на интеллектуальном уровне – его книги намного более интересны и читабельны, чем любая книга, когда-либо написанная Гурджиевым. Однако это не делает их автоматически более содержательными.
Возможно, есть много «учеников» Гурджиева, которые чувствуют или могут почувствовать, что я опорочил их своими воспоминаниями о жизни Гурджиева. Я не извиняюсь перед ними за свои наблюдения за их поведением – поведение людей под влиянием, бесспорно, экстраординарного человека, который любил их, непредсказуемо, да это и не важно.
Что я узнал ребёнком, я начал понимать, будучи взрослым. Гурджиев практиковал любовь в той форме, которая почти никому не известна – любовь без границ. В гурджиевском смысле «быть или не быть» – это не вопрос поиска души. Это заявление о необходимости решения. Зная Гурджиева, есть только один-единственный возможный ответ – и, таким образом, вопросов нет вообще.
Примечания
1
См. также книгу Маргарет Андерсон в предыдущей книге серии. (Женский сборник. Серия «Гурджиев. Четвертый Путь». Андерсон М. Непостижимый Гурджиев, Халм К. Неизведанная страна, Бутковская А. С Гурджиевым в Санкт-Петербурге и Париже: пер. с англ. – М.: Эннеагон, 2013. – 488 с.)
(обратно)2
Все цитаты из «Писем Кэтрин Мэнсфилд Джону Миддлтону Марри, 1913–1922.
(обратно)3
П.Д. Успенский. «В поисках чудесного: фрагменты неизвестного учения» (перевод Н.В. фон Бока).
(обратно)4
П.Д. Успенский. «Tertium Organum».
(обратно)



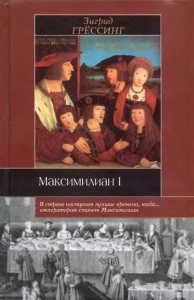

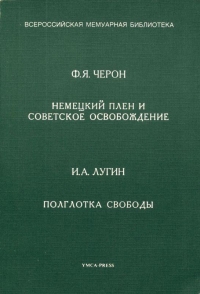
Комментарии к книге «Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева (сборник)», Фриц Питерс
Всего 0 комментариев