Миясат Нажмудтиновна Шурпаева Предания старины глубокой
Посвящаю светлой памяти отца своего Шурпаева Нажмутдина Гаджиатаевича и трагически погибшего племянника, журналиста, Ильяса Шурпаева.
Миясат Шурпаева и ее книга
Лакская поэтесса и писательница Миясат Нажмудтиновна Шурпаева, уроженка старинного и известного селения Кази-Кумух, начала литературную деятельность еще в школьные годы, первые стихи опубликовала будучи ученицей десятого класса. Когда она училась в Дагестанском государственном университете, нередко в альманахе “Дусшиву” (“Дружба”) и в журнале “Зунттал хъами” (“Горянка”) появлялись ее стихи. Впоследствии она их издала отдельной книжкой. Но подлинное свое место в литературе она нашла, когда опубликовала книгу документально-художественных рассказов “Годекан отцов” (1980 г.) на лакском языке. Книга моментально исчезла с прилавков, получила довольно широкий отклик читателей и критики.
В своих рассказах Миясат Нажмудтиновна как бы ощутила твердую почву под ногами. Речь ее зазвучала уверенно, убедительно, она нашла свою тему, своего героя, тональность повествования. М. Шурпаева избрала весьма популярный на Востоке жанр устного рассказа, позволяющий свободно распоряжаться жизненным материалом, вступить в доверительные отношения с читателем.
Пожалуй, до Миясат Нажмудтиновны никто из литераторов Дагестана всерьез не обратил внимания на золотые россыпи народной памяти. Конечно, фольклор собирали у нас не только профессионалы, но и многие писатели. Более того, писатели нещадно эксплуатируют устное народное творчество, обрабатывая его и включая в свои произведения. В данном случае речь идет о другом – о судьбах людей, реальных лиц, порой весьма крупных исторических деятелей, о которых наши велеречивые и многословные писатели не писали, а если писали, то напускали такой романтический туман, что читатель ему не верил.
В рассказах М. Шурпаевой действуют не вымышленные, а реальные герои. Это главная особенность их. Шурпаева сумела найти такой ключ к раскрытию их судеб и внутреннего мира, что рассказы читаются с неослабевающим интересом. Автор очень часто доверяет повествование человеку, который был свидетелем тех или иных событий, либо был наслышан о них. Нередко она приводит беседы своей бабушки, мастера устного слова. Эта форма подачи материала нередко приводит к экспансии фольклорной поэтики. Как и в народной сказке, в рассказах Шурпаевой действуют исключительно красивые, благородные, умные и находчивые герои.
Следует отметить, что автор не всегда довольствуется услышанным, она опирается и на письменные источники, документы, архивные материалы, но от этого они не перестают быть устными рассказами, от которых нельзя требовать полноты материала и непременной достоверности во всех деталях. Устные рассказы могут быть и достоверными, и достаточно мифологизированными. Попробуй проверь рассказчика!
Не претендуя на истину в последней инстанции, М. Шурпаева повествует о людях, на долю которых выпала необычная судьба. В книге несколько пластов истории лакского народа. Один из ее пластов составляют исторические рассказы, в которых впервые повествуется о деятелях средневековой эпохи. К примеру, в одном из рассказов выступает легендарный Сурхай-хан I, о котором имеется обширная, но по ряду причин недоступном для широкого читателя литература. Поэтому рассказ о нем в книге М.Шурпаевой вносит свою лепту в раскрытие одной из ярких страниц нашего народа. То же самое можно сказать о рассказе о наставнике имама Шамиля Джамалутдине из Кумуха. О шейхе также написано немало. Так, в рукописи арабиста Гасанилау Гимринского “Ключи от утвердившегося газавата”, в которой дается биография первого имама Дагестана Гази-Магомеда, приводятся те же факты ясновидения шейха Джамалудтина, что и в рассказе М. Шурпаевой. Если раньше мы подходили к рассказам о подобных чудесах с недоверием, рассматривая их как легенды, призванные укрепить авторитет веры, то в наш век экстрасенсов мы как-то иначе переосмысляем их, с большим доверием относимся к ним.
По-новому предстает жизнь казикумухских феодалов в рассказах Шурпаевой. Мы привыкли к изображению их как эксплуататоров и насильников, и сознательно обходили другие стороны их жизни.
А в ней все переплетено: жестокость и милосердие, благородство и низость…
Трогательны рассказы о горянках, о любви и влюбленных, о талантливых и стойких лакских женщинах. Верность любви, твердость и благородство проявляют дочь шейхи Джамалутдина Шуанат, Уммукусюм Калияева, Балахалун, Саду Тутунова и другие. Сродни подвигу декабристок благородный поступок Патимат Рашкуевой и Муминат из Караши, последовавших за мужьями в Сибирь.
Особый пласт составляют рассказы, в которых воссозданы судьбы М.Чаринова, Ш. Рашкуева, А. Амирова, братьев Сеид-Гусейновых, репрессированных в 30-е годы. У читателя невольно сжимается сердце, когда он читает страницы о произволе и беззаконии тех трудных лет.
Книга написана живым разговорным языком (к сожалению, не всегда перевод адекватен оригиналу). В ней использованы не только народные изречения, но и приметы горского быта, этнографические детали. В результате рассказы превращаются в своего рода школу по изучению жизни и быта прошлых лет.
Не сомневаюсь в том, что читатель с большой пользой для себя прочитает рассказы Миясат Шурпаевой, узнает много нового о прошлом своего народа.
Сулейман Ахмедов.
Доктор исторических наук, профессор.
Серажутдин – везир шаха Пехлеви
В 1947 году к Правительству СССР обратился шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви с просьбой найти близких родственников погибшего его везира Серажутдина Гаджи-заде из Дагестана, которые по завещанию являются наследниками части его состояния. Поиски привели в маленькое селение Муккур Лакского района. Из близких родственников погибшего везира тогда была жива только одна сестра Хадижат. Она и была признана наследницей миллионного состояния золотом, но была предупреждена органами СССР, что наследство будет выплачено ей постепенно и бумажными деньгами. Так Хадижат много лет подряд получала по тысяче рублей в месяц.
Серажутдин Гаджиев родился в 1890 году в селении Муккур Кази-кумухского округа. Как и все мужчины по линии отца, он стал ювелиром и работал в городе Баталпашинск (Черкесск), где его дядя Магомед имел свой дом и ювелирную мастерскую. Вместе со своим двоюродным братом Эфенди он окончил гимназию в этом же городе на русском и французском языках. В свое время сам Эфенди Магомедович рассказал мне о своем необычайно талантливом брате Серажутдине, который уже в 17 лет стал самым искусным мастером гравировки, умел изображать на драгоценных камнях ювелирных изделий портреты заказчиков.
Как-то Серажутдин увидел в продаже чертежи самолета братьев Райт из Америки и решил по этим чертежам сконструировать самолет. Работал он упорно и кропотливо несколько месяцев и в один из летних дней объявил всем горожанам, что он будет демонстрировать полет своего аэроплана. На окраину города Баталпашинска вышло много народу. Серажутдин поднял самолет в воздух, сделал в небе один круг и посадил его благополучно. Полет длился не более минуты, но вызвал много шума, и изумление в толпе. Люди стали молиться прямо на поляне. Православный священник Баталпашинска объявил Серажутдина еретиком, которого следует немедленно сжечь на костре. За ним погнались фанатики. Серажутдин чудом спасся, проникнув в дом друга своего дяди, казачьего атамана, и ночью тайком покинул город. Случилось это в 1908 году. Серажутдин приехал в Баку и стал работать в ювелирной мастерской братьев Рашкуевых. В наши дни у Бук-Магомеда Рашкуева хранится фотография, где девятнадцатилетний Серажутдин снялся с его отцом Г.М. Рашкуевым и ювелирами-земляками, работавшими в 1909 году в городе Баку. В 1910 году Серажутдин участвовал в выставке ювелирных изделий в Санкт-Петербурге и был награжден личным клеймом Фаберже. Покойный Дауд Кажлаев, будучи директором Дагестанского объединенного краеведческого музея, в 1970-х годах побывал в Эрмитаже и в списках ювелиров, награжденных личным клеймом Фаберже, обнаружил имя нашего земляка Серажутдина Гаджиева и опубликовал это в газете “Дагестанская правда”.
Поработав несколько лет в Баку Серажутдин по приглашению своего брата Ванати уехал в Среднюю Азию, в Бухару, где он очень быстро завоевал популярность. Здесь Серажутдин сконструировал мотоциклет, который он в свое время увидел в Санкт-Петербурге, гнал его по всему городу, вызывая ужас и оцепенение у прохожих. Горожане пожаловались бухарскому эмиру Алиму и тот конфисковал у Серажутдина мотоциклет, а самого юношу несколько дней держал в своей крепости. Эмир Алим понял, что он имеет дело не с простым нарушителем и дал задание своим придворным разузнать, кто он такой и собрать все сведения о нем. Когда же эмир узнал, что его пленник умен и образован, к тому же искусный ювелир, он приблизил его к себе. Когда в России произошла февральская революция, двоюродные братья Серажутдина, Эфенди и Сайпуллах, а также друзья-ювелиры, Курбанмагомед из Унчукатля и Курбанисмаил Унчиев из Кумуха, из Баталпашинска перебрались в Бухару. К тому времени эмир бухарский и Серажутдин стали большими друзьями. Как-то пришли к Серажутдину знакомые молодые люди и заказали ему пару винтовок за хорошую цену для охоты, попросили держать заказ в тайне. Серажутдин выполнил просьбу. Через некоторое время заказы стали нарастать.
Ветер революции дошел и до Бухары, эмир, бухарский не на шутку забеспокоился. Однажды, играя в шахматы с Серажутдином, эмир высказал свое возмущение по поводу того, что какой-то негодяй делает оружие для бунтовщиков и попросил Серажутдина выследить этого предателя, которого он намерен повесить на площади перед всем народом. Серажудин понял, кто и для чего заказывал ему винтовки, и прекратил выполнять эти заказы.
Однажды утром жители Бухары обнаружили разбросанные по всему городу листовки. Текст был написан на русском языке, и никто его не мог прочесть. Кто-то из дагестанцев стал читать и переводить текст. Его попросили подняться на крышу и прочесть во всеуслышание, что тот и сделал. Через некоторое время всадники бухарского эмира стали громить дома и мастерские дагестанцев, а тех, кто попадал под руку, насмерть избивали. Всем дагестанцам пришлось бросить свои дома и мастерские и бежать, спасая себя. Серажутдин с братьями тоже убежали. Когда они добрались до Афганистана, братья Серажутдина и все дагестанцы решили через Азербайджан вернуться в Дагестан. Но Серажутдин не захотел вернуться домой с пустыми руками и остался там же на заработках. В поисках работы Серажутдин попал в Тегеран, где предложил свои услуги хозяину одной ювелирной лавки. Тот сначала предложил ему показать свои способности, дал золото и камни и посадил в своей мастерской. Когда же Серажутдин за сутки превратил металл в изумительный браслет, хозяин его посадил в отдельную комнату за работу и запер. Так хозяин его не выпускал несколько месяцев, а его работы продавал по баснословным ценам. Серажутдин не знал, как ему выбраться из этого плена, и он решил на своих изделиях ставить свое клеймо и гравировать на драгоценных камнях портреты. Он был уверен, что его друзья-ювелиры найдут его по изделиям. Хозяин же попросил его сделать мужской перстень с портретом шаха Реза Пехлеви, надеясь на этом заработать большие деньги.
Серажутдин с большим старанием выполнил этот заказ. Хозяин понес перстень во дворец и предложил шахским визирам купить его для своего правителя. Как раз в это время шах хотел сделать себе золотую корону, дал заказ своим ювелирам, а те по разным эскизам каждый отдельно выполнили заказ шаха. Один из пожилых визиров понес шаху перстень с изображением его портрета и сказал: “Тот, кто владеет этим талантом, не изведает смерти. Вот кто сможет сделать тебе корону, которой будет восхищаться весь мир!”
Шах велел привести к нему ювелира и спросил его, чья это работа. “Моя”, – ответил ювелир.
– Тогда садись в мою мастерскую, тебе дадут все необходимое и сделай еще один такой же перстень, – предложил шах.
Ювелиру ничего не оставалось, как признаться, что у него прячется беглый дагестанец, который не хочет, чтобы его обнаружили, он и сделал этот перстень. Шахские нукеры вызволи из заточения Серажутдина.
Шах Реза Пехлеви ему тоже предложил повторить свою работу, что Серажутдин сделал с большим удовольствием. После этого шах велел казначею выдать Серажутдину столько золота и драгоценных камней, сколько он запросит, и посадить за работу в придворной мастерской. Через месяц небольшим заказ шаха был выполнен. Была изготовлена такая корона, которая по красоте и изяществу превосходила все короны, доселе существующие в мире. Сами придворные ювелиры не могли распознать тайну тончайшей филиграни и искуснейшей гравировки, так удачно сочетающихся с блеском драгоценных камней. Любоваться короной шаха Реза Пехлеви заходили все гости иранского шаха.
В 1980-х годах внучатая племянница Серажутдина, Алиева Салихат, проживающая в Баку, увидела, как по азербайджанскому телевидению показывали и рассказывали об уникальной короне иранского шаха работы Серажутдина Гаджи-заде. После этого она ездила в Тегеран и разузнала подробности жизни, деятельности и гибели знаменитого деда.
Академик историк-востоковед из Санкт-Петербурга М.Дандамаев тоже пишет, что он, будучи в Иране, побывал в государственной сокровищнице и видел там эту корону. Со временем шах Реза Пехлеви убедился в том, что его придворный ювелир лучше всех инженеров разбирается в технике, в строительстве, что он умен и образован, свободно решает любые финансовые вопросы, и приблизил его к себе – назначил своим казначеем, затем министром департамента финансов. Серажутдин подружился в Тегеране со всеми выходцами из Дагестана, особенно сблизился с ювелиром из Кумуха Абдулмеджидом, по соседству с которым купил себе дом, сделал предложение одной из его дочерей по имени Басират. Ей было 16 лет, а ему уже за 40, из-за большой разницы в возрасте Абдулмеджид не решился выдать дочь за него. Впоследствии жена Абдулмеджида Гульзар с дочерью тайно пересекли границу вернулись на Родину, где их арестовали. После освобождения Басират вышла замуж в Кумухе, где проживают в наши дни ее дети.
Родственники же иранского шаха были обижены тем, что шах приблизил к себе чужеземца и невзлюбили Серажутдина. Они не раз покушались на его жизнь. Однажды бросили бомбу в его машину. Серажутдин с тяжелыми ранениями чудом остался жив. Тогда он решил вернуться на Родину и стал ходатайствовать перед правительством СССР о разрешении ему вернуться. Но был удивлен, узнав, что он в органах СССР числится белогвардейцем, и его здесь ждет суровое наказание.
После этого Реза Пехлеви отправил Серажутдина послом Ирана в Индию, где он и женился на француженке по имени Лаура.
В 1941 году шахом Ирана стал сын Реза Пехлеви, Мохаммед Реза Пехлеви, который по-сыновьи почитал Серажутдина и восторгался им. Он и вернул его ко двору в должности своего первого визира. Серажутдин с женой стали жить в своем старом особняке с многочисленной прислугой и охраной. Родственники Абдулмеджида, вернувшиеся из Ирана в Дагестан, рассказывали о богатом убранстве дома Серажутдина, в этом доме все дверные и оконные ручки были изготовлены из чистого золота.
Серажутдин владел многими языками: персидским, русским, французским, английским, индийским, вел государственные переговоры.
В 1947 году нанятые недругами бандиты проникли в дом Серажутдина и зарезали его ножами. Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви был – очень расстроен и похоронил его с большими почестями. После его смерти и обнаружили завещание, оформленное Серажутдином еще после первого покушения на себя, где он просил часть наследства доставить его близким, родным в Дагестан. Детей своих Серажутдин не имел.
Боевые кресты полковника Сурхайханова
В 1904 году, когда началась русско-японская война, Шейх-Ахмед-бек в числе других состоятельных, уважаемых людей Дагестана был приглашен в Темир-Хан-Шуру к генерал-губернатору Дагестана, где всем им было предложено добровольно выйти на защиту царя и Отечества. Каждому выделялась необходимая сумма денег, чтобы собрать для себя отряд добровольцев. Отозвались только Шейх-Ахмед-бек Сурхайханов и один майор жандармерии из Хунзаха, остальные не высказали такого желания. Собрав в течение недели отряд в сотню всадников, Шейх-Ахмед-бек прибыл в Темир-Хан-Шуру и оттуда поездом отправился на Дальний Восток. В 1906 году он вернулся полным кавалером всех трех степеней Георгиевского креста, в чине подполковника и в том же году был приглашен императором Николаем II в С-Петербург на аудиенцию.
Шейх-Ахмед-бек был внуком Кюринского хана Юсуф-бека, двоюродного брата Агалар-хана, корни которых исходят от Чолак-Сурхай-хана, через его сына Магомед-хана.
В 1840 году император Николай I издал Высочайший указ об утверждении Юсуф-бека ханом Кюринским, наградив при этом его чином подполковника свиты Его Величества. Церемония вручения проходила при большом стечении народа и с особыми почестями. Через шесть лет, в 1846 году, император решил назначить ханом Кюринским брата Юсуф-хана, Гарун-бека, который служил тогда в императорской свите. Но через два года Гарун-хан скончался, и на престол вернули Юсуф-хана, на этот раз наградив его чином полковника свиты Его Величества.
В 1859 году скончался хан Кази-Кумухского округа Агалар. Ханство было упразднено, и управление округом возложено на начальника русского гарнизона в Кази-Кумухе. Юсуф-хан Кюринский насторожился – не постигнет ли и его самого такая же участь? Но 1 2 октября того же года был получен Высочайший указ о произведении Юсуф-хана в генерал-майоры свиты Его Величества и утверждении ханом Кюринского округа. Юсуф-хан управлял Кюрой до самой своей смерти в 1864 году. Хотя у хана было восемь сыновей-наследников, ханство было упразднено, и образован особый округ Кюринский под начальством русского офицера.
Шейх-Ахмед-бек был внуком Юсуф-хана, через его сына Омар-бека и жил вместе с родителями в своем фамильном доме в Кази-Кумухе. В детстве он слыл отчаянным драчуном. Родители всех ребят, с кем он обучался в медресе, жаловались Омар-беку на сына-забияку, и отцу пришлось после окончания медресе отправить сына в подмастерье с кумухскими ювелирами в Россию. Обучившись ремеслу и русскому языку, Шейх-Ахмед-бек вернулся в Кумух возмужавшим юношей, но дальше заниматься ювелирным делом наотрез отказался. Он сдружился с русскими офицерами гарнизона, расположенного в крепости в Кумухе, участвовал в состязаниях, учениях и намеревался служить в этом гарнизоне. Однако его старшие женатые братья, Якуб-бек и Казим-бек, забрали его в Баку, где они имели свои дома и ювелирные мастерские. Шейх-Ахмед-бек стал ездить по зарубежным странам, сбывая ювелирные изделия, отец женил его на двоюродной сестре, Габибат-бике. Тогда ханы и беки не имели право брать себе жену по любви. Первая жена обязательно должна была быть из своего сословия. Замечу, они имели по нескольку жен. Оставив молодую жену в Кумухе, как и братья, снова уехал в Баку, но время от времени приезжали в Кумух, ибо у них семьи были в Кумухе, и у каждого были свои земли, пастбища, отары овец. Шейх-Ахмед-бек любил лошадей и хорошо разбирался в них. В местности Гурда-кала, в окрестностях Кумуха, он построил большую конюшню и стал закупать породистых скакунов. В семье у него росли две дочери и один сын.
Однажды Шейх-Ахмед-бек собрался в гости в селение Чаравали к своему кунаку Газали, который разводил овец и лошадей особой породы. Газали организовал хороший прием, собрал музыкантов и певцов на торжество. Вдруг Шейх-Ахмед-бек увидел на пороге комнаты девочку изумительной красоты лет тринадцати.
– Кто та девочка? – спросил он у сына кунака, Магомеда, сидевшего с ним рядом.
– Моя младшая сестра, – сказал Магомед.
– Так пригласи ее, пусть зайдет к нам, – сказал бек.
– Нину, заходи, заходи! – окликнул ее брат, но та, заметив гостя, глазевшего на нее, убежала. Когда он собрался домой, стал просить Магомеда прислать свою сестру в Кумух на обучение и воспитание с бекскими девочками. Магомед призадумался, пошел поговорить с матерью, но та наотрез отказала.
Вернувшись, Шейх-Ахмед-бек ходил сам не свой. Через несколько дней Габибат-бике спросила мужа, что с ним стряслось. Он признался жене и молча тяжелыми шагами стал ходить по комнате.
– Не переживай, мой Лев (так она называла мужа), не бывает такого замка, к которому невозможно было бы подобрать ключ. Поедем вместе в Чаравали! – сказала жена. Габибат – бике открыла свой сундук, выбрала ценные подарки и вместе с мужем отправилась в Чаравали. На этот раз им улыбнулась удача. Девочку Нину отпустили на учебу в Кумух. Габибат-бике обещала кунакам, что у девочки не будет других обязанностей, кроме учебы, у нее будут свои служанки, прачки и повара. Девочку одели, как свою, определили вместе с ними на учебу, на рукоделие, стали обучать хорошим манерам.
Мать Шейх-Ахмед-бека, Ажа-бике, не переставала восхищаться девочкой, ее умом и покладистым характером и все повторяла: “Я эту девочку никому не отдам, непременно возьму за своего сына!”.
А Нину думала: “Если у нее есть неженатый сын, так почему же он никогда не приезжает домой?”.
Однажды Нину услышала, как старшие снохи Ажа-Бике разговаривали между собой: “Шейх-Ахмед-бек без памяти влюблен в юную красавицу, теперь и свекровь наша влюбилась в нее, быть ей нашей невесткой!”.
Эта новость поразила девочку. Дождавшись базарного дня, когда ее односельчане приезжали в Кумух, Нину убежала с ними домой. В доме Сурхайхановых все всполошились, но получилось так, что в тот день мужчин дома не было. Пришлось Ажа-бике и Габибат-бике поехать за девочкой в Чаравали. Уговорами и обещаниями беглянка была возвращена. Когда Нину исполнилось пятнадцать лет, она хорошо владела арабским и турецким языками, читала и переводила Коран, лучше всех вышивала золотыми нитками по шелку и бархату, была украшением всех торжеств в доме Сурхайхановых.
Через год состоялось сватовство. Сыграли пышную свадьбу, и Нину стала второй женой Шейх-Ахмед-бека. Прошло десять лет, Нину растила четырех сыновей-красавцев. В Кумухе поднялся бунт. Хоть Шейх-Ахмед-бек и был в большой дружбе с начальником и офицерами русского гарнизона, ему пришлось встать на сторону бунтовщиков, ибо все руководители бунта были его родственники, ханы и беки. А его старших братьев тогда не было в Кумухе. Когда бунтовщики убивали не только офицеров царского гарнизона, но и их жен и детей, Шейх-Ахмед-бек кричал на них, приказывал оставить их в покое. Но бунтовщики не слушались. Когда начальника крепости Чембера арестовали, Шейх-Ахмед-бек поскакал к его дому и тайком забрал его жену и малолетнюю дочь, спрятав их под буркой за своим седлом. Привез их к себе домой. А ночью таким же образом отвез их в Согратль к своим друзьям. После подавления бунта генерал Меликов организовал суд над бунтовщиками. Всех ханов и беков как главарей велено было казнить, а остальных сослать на пожизненную каторгу. Приехали из Баку Якуб-бек и Казим-бек, чтобы спасти своего брата, но никто их не слушал. Шейх-Ахмед-бека вместе с другими повезли в Согратль на казнь. Когда подошла очередь Шейх-Ахмед-бека, подвели его к виселице, накинули петлю и велели высказать свое последнее пожелание. Таков был закон.
– Свое последнее пожелание я могу сказать только жене начальника Чембера, Наталье, передайте ей об этом, – сказал бек. Когда Наталье передали слова бека Сурхайханова, она выглянула с балкона на площадь и тут же босиком побежала к виселице, припала к ногам Шейх-Ахмед-бека:
– Это же наш спаситель! Ни меня, ни дочери не было бы в живых, если бы не он! Этот человек спас нас. Богом прошу, сжальтесь над ним! – причитала она. Шейх-Ахмед-бека освободили и разрешили идти домой. Прошло еще несколько лет. Начальство в Кумухе сменилось, Наталья с дочкой уже давно уехала в Петербург, а новому начальнику стали доносить, что Шейх-Ахмед-бек был приговорен к повешению, однако же его не только не повесили и не сослали, а отпустили на волю. Его стали снова судить как одного из главарей бунта и сослали в Сибирь на пять лет. С ним поехала Нину с сыновьями. Когда в Кумухе получили от Шейх-Ахмед-бека письмо из Екатеринбурга, все родные стали упрекать его старшую жену Габибат-бику за то, что не она поехала с мужем, ведь он ей не только муж, но и двоюродный брат. Через год, в августе, взяв с собой восемнадцатилетнего сына Исмаила, Габибат-бике тоже отправилась в Сибирь. В сентябре в Екатеринбурге их застали морозы. Надо было ехать еще дня два в глубь губернии, где было поселение каторжан. Габибат-бике по дороге простудилась и по приезде умерла. Многие каторжане не выдерживали сибирских морозов и погибали. Нину сумела спасти своих детей и мужа, помогала и другим ссыльным. Там у супругов родилась дочь Айшат. Дочь Айшат, Нафисат Сурхайханова, в наши дни проживает в Кумухе. В 1882 году по указу нового императора Александра III все каторжане были освобождены. Приехал домой с семьей и Шейх-Ахмед-бек. Он был рад, что в его отсутствие братья сберегли его хозяйство, а в конюшне прибавилось новых скакунов!
Сыновей своих Шейх-Ахмед-бек послал в Баку заниматься магазинами, а сам остался в Кумухе управлять хозяйством. Он стал в округе самым почитаемым и самым влиятельным человеком, с его мнением считался не только народ, но и русское начальство крепости.
В начале 1904 года к генерал-губернатору Дагестана в Темир-Хан-Шуру пригласили всех влиятельных и состоятельных людей со всего Дагестана. От Кази-Кумухского округа был приглашен Шейх-Ахмед-бек. Губернатор сообщил собравшимся, что началась война: Япония вероломно напала на Россию, и необходимо выйти на защиту царя и Отечества, создать добровольческие отряды. Все молчали. Тогда Шейх-Ахмед-бек встал и объявил, что он готов собрать отряд, обмундировать их и выехать на фронт. Губернатор пожал ему руку и обещал всем добровольцам денежное вознаграждение в тысячу рублей. Это были большие деньги, тогда хороший бык стоил три рубля. Вызвался еще один майор милиции из Хунзаха, и больше никто. Через неделю Сурхайханов со своей конницей прибыл в Темйр-Хан-Шуру и оттуда на поезде уехал на Дальний Восток. Когда они доехали до Порт-Артура, там уже шли ожесточенные сражения, дагестанцы показывали чудеса храбрости. Шейх-Ахмед-бек командовал отрядом дагестанцев в 200 всадников. За проявленную храбрость в боях возле Порт-Артура Сурхайханов был награжден Георгиевским крестом III степени. В начале 1905 года отряд Сурхайханова участвовал в жестоком сражении под Мукденом. Перед его конницей бывали бессильны во много раз превосходящие по численности противники. Командование ставило в пример Сурхайханова и его отряд, да и сам Шейх-Ахмед-хан ругал отступающих. В этом бою он получил тяжелые ранения и был доставлен в госпиталь. В госпитале ему вручили Георгиевский крест II степени за проявленные мужество и храбрость. После выздоровления он снова возглавил свой отряд и в самом конце войны, осенью 1905 года он вновь попал в госпиталь с тяжелым ранением. Там он узнал о Порт-Артурском мирном договоре и о том, что его наградили Георгиевским крестом I степени и возвели в чин подполковника. Награда его не обрадовала. Он считал мирный договор позорным. С таким настроением возвращался он домой после госпиталя.
Генерал-губернатор Дагестана был оповещен о подвигах Шейх-Ахмед-бека Сурхайханова и его бойцов. Приказано было встретить их с подобающими почестями в Темир-Хан-Шуре. Губернатор сообщил также в Кумух, чтобы героев войны встретили торжественно с музыкой. Их встречали в Дженгутае, Левашах, Цудахаре. А в Кумухе состоялись большие торжества.
После этого Шейх-Ахмед-бек отправил благодарственное письмо императору за оказанную честь и внимание, где написал, что хотел бы увидеть своими глазами человека, который управляет такой огромной по своим масштабам империей. В ответном письме император пригласил Сурхайханова в С.-Петербург. Летом 1906 года Шейх-Ахмед-бек с сыном Дауд-беком поехал в Петербург. Император организовал обед в его честь, наградил его чином полковника свиты Его Величества и царской грамотой, дающей ему право беспошлинного пользования всеми земельными угодьями, его детям обучаться в российских учебных заведениях за счет царской казны.
Все эти награды свято берегли в семье Сурхайхановых, но в 1930-х годах, когда их стали ссылать, как кулаков, все было уничтожено. Чудом уцелели Георгиевские кресты Шейх-Ахмед-бека. Он скончался в 1914 году, до начала Первой мировой войны.
Шейх Джамалутдин Кази-Кумухский
Много легенд и преданий живет в народе о шейхе Джамалутдине, устазе (учителе) имама Шамиля. Он был истинным идеологическим вождем мусульман Северного Кавказа середины 19 столетия.
В разное время и от разных людей слышала я эти легенды, записывала их, перечитала массу материалов о той поре. Решила изложить их в хронологической последовательности.
Зимой 1920 года под натиском многочисленной банды Гоцинского Кази-Кумухские большевики отступали разными дорогами.
Одна группа из шести-семи человек в маленьком автобусе Чанху Хутинского, который первый раз приехал в Кумух, направилась в сторону Темир-Хан-Шуры. При подъезде к Хаджалмахи попали в окружение. Трезво оценив обстановку, они решили столкнуть автобус в ущелье, чтобы не достался врагам, и скрыться. Уйти не удалось. Они попали в руки гоцинцев. В этой группе были известные тогда революционеры: Абдурахман Габиев, Вали и Шарафутдин Рашкуевы, Амужад Сеид-Гусейнов и его отец Гази, Омар Чутуев и невеста Гаруна Саидова Хадижат Сеид-Гусейнова. В народе ее называли Ачуна.
Гоцинцы торжествовали – в их руках ядро кази-кумухских большевиков! И единственное, что тут же хотелось сделать гоцинцам, расстрелять их всех. Но… не имели права, без разрешения местного исламского лидера. Пошли за разрешением к шейху. Тот подробно расспросил о большевиках: кого и как зовут, из какого тухума каждый из арестованных. А когда услышал, что среди них есть и молодая девушка, очень удивился и стал спрашивать о ней. Девушка очень молодая и красивая, ответили шейху, но кто она – узнать не удалось. Шейх велел привести девушку к нему.
В открытые двери девушка увидела сидящего во внутренней комнате на тахте белобородого шейха с четками в руках. Переступая порог его комнаты, Хадижат произнесла традиционное изречение: “Бисмиллахи, Рахмани Рахим!”, поклонилась ему согласно мусульманскому обряду встречи с шейхом. Удивился шейх, ибо по его мнению все большевики были безбожники.
– Откуда ты и почему оказалась вместе с большевиками? – спросил шейх по-лакски, чем тоже немало удивил Хадижат.
– Я из Кумуха, внучка шейха Джамалутдина.
От неожиданности шейх словно застыл с широко раскрытыми глазами. Очнувшись, мягко, по-отечески, сказал:
– Пусть озарит всемогущий Аллах имя шейха Джамалутдина, аммин! У шейха было шестеро сыновей и две дочери, чья же ты?
– Я дочь Магомеда-Эфенди.
Тут шейх протянул к девушке руки, попытался приподняться. Хадижат подошла к нему, и шейх взял ее за плечи и поцеловал в лоб.
– Дочь моя, где же сейчас твой отец, в Кумухе или в Темир-Хан-Шуре?
– Отец в Шуре, вся наша семья там. Я еду к ним.
– Но зачем же, дочь моя, ты вышла в дорогу с этими гяурами? Тебя же могли убить!
– Они не гяуры, отец мой, они все мои родственники, и тоже едут к нам в Щуру, – сказала Хадижат и стала рассказывать о каждом попутчике, о степени их родства. Помрачнел шейх, выслушав ее, затем подозвал стоявших в передней мужчин, велел освободить девушку и отвести в его дом, а мужчин пока держать под стражей, но не убивать.
– Одна я никуда не пойду, – сказала Хадижат.
– Я тебя одну и не пошлю! Сейчас ты пойдешь к моей жене, она тебя накормит и обогреет, а утром с кем-нибудь отправлю тебя к отцу, – сказал шейх.
– Без родственников я никуда не пойду… Отец мой, если вы считаете, что они в чем-то виноваты, то и я виновата столько же, сколько и они. Как я гляну в лицо отцу своему и родным, если оставив их здесь, как предательница, явлюсь домой одна? Посадите и меня вместе с ними!
Шейх задумался. Потом, поговорив, посоветовавшись со своими людьми, велел освободить всех. С шейхом спорить не принято и все стоявшие вокруг молча посмотрели на шейха, не торопясь выполнить это распоряжение. Тогда шейх сказал:
– С тех пор, как Аллах создал на земле человека, жизнь людей проходит в постоянных войнах и распрях. Одни выигрывают, другие проигрывают… И кроме Аллаха всемогущего никто не знает, кто прав, победитель или побежденный. И во имя Аллаха я прошу вас отпустить всех пленных с миром. Пусть идут своей дорогой.
Опустили головы мужчины, взяли с собой Хадижат и пошли выполнить волю шейха. Никто из них не осмелился возразить ему.
Так популярно и почетно было в то время среди мусульман Дагестана и всего Кавказа имя шейха Джамалутдина Кази-Кумухского.
Год рождения шейха Джамалутдина точно не установлен, но безошибочно можно сказать, что он родился в самом конце семнадцатого столетия в Кази-Кумухе, в тухуме Сеид-Гусейновых. Генеалогические корни этого тухума идут от правнука пророка Мухаммеда по дочери его Патимат. Вместе с Абу-Муслимом, прибывшим в восьмом веке в Дагестан, чтобы огнем и мечом установить ислам, был и правнук пророка Мухаммеда Сейд-Гусейн, который впоследствии и обосновался в Кумухе. Это подтверждал в свое время и известный ученый Замир-Али:
У Макабуты Сеид-Гусейнова было двое сыновей: старший – Курбан-Магомед и младший – Джамалутдин. Отец заметил незаурядные способности младшего и рано отдал его в учение к местным кадиям. После учебы в Кумухе мальчика отправили к другим арабистам. Учился он не только в Дагестане, но и в Астрахани, и в Турции.
Вернувшийся в Кумух шестнадцатилетний Джамалутдин был широко образованным, владел почти всеми дагестанскими языками, он знал еще арабский, турецкий и русский. Среди своих сверстников юноша выделялся умом и образованностью, владел ораторским искусством, он к тому же обладал прекрасным голосом. Был обходительным и обаятельным. Когда Джамалутдин напевно читал Коран, люди зачарованно слушали его. (До сих пор среди старожилов Кумуха передается друг от друга стиль чтения Корана шейха Джамалутдина).
Приглянулся юноша тогдашнему правителю Кази-Кумухского ханства Аслан-хану, и пригласил он Джамалутдина работать делопроизводителем. Мечтавший об учебе в Каирском университете Аль-Азхар, Джамалудтин огорчился, не обрадовало предложение хана и его отца – Макабуту: не советовал он сыну служить при дворе, чтобы не стал невольным участником ханских злодеяний и разгулов, не впал в грех. Но Аслан-хан настаивал и, чтобы не нажить неприятностей себе и семье, Джамалутдин согласился поработать у хана.
Аслан-хан и Джамалутдин
Аслан-хан правил тогда обширным ханством, в которое, кроме Кази-Кумухского, входили Кюринский округ и некоторые аварские и кумыкские местности.
Приняв подданство русского царя, Аслан-хан получил чин полковника, был обласкан им. Любопытно письмо царского наместника в Тифлисе генерал-лейтенанта Ртищева к генералу Хатунцеву.
Господину генерал-майору и кавалеру Хатунцеву. Препровождая при сем к Вашему превосходительству Высочайше утвержденную грамоту, Всемилостивейши пожалованную кюринскому владельцу Аслан-хану, и знаки инвеституры, состоящие в знамени с гербом российской империи и сабли, я поручаю вам немедленно сие к нему доставить, вместе с письмом моим, при сем прилагаемым. Высочайше утвержденная грамота, знамя с гербом Российской империи и сабля должны быть поднесены хану торжественно, со всеми приличествующими почестями, следующим образом: Начальник гарнизона Кюринской крепости, коль скоро они к нему доставлены будут, должен тотчас уведомить Аслан-хана о присылке сих знаков Высочайшего к нему благоволения Его Императорского Величества и просить его, чтобы он назначил день, в который грамота иметь быть поднесена ему торжественно. Между тем хан должен собрать к себе сколько может почтенейших кюринских старшин и в назначенный день с ними явиться в избранное им самим публичное место, при собрании народа. Тогда начальник гарнизона при своей квартире устроив воинскую команду из ста человек рядовых с нужным числом офицеров, сам на богатой подушке, которую нарочно при сем посылаю, вынесет из своей квартиры Высочайшую грамоту, а за ним два обер-офицера должны нести – один знамя с гербом империи, распущенное, а другой саблю, лежащую в открытом футляре. При появлении его воинская команда должна тотчас отдать следующую честь при барабанном бое и с музыкой, будя оная там есть, а потом следовать с народом также при барабанном бое за Высочайшею Грамотою до публичного места, где хан с чиновниками своими и народом будет находиться. При приближении же к хану воинская команда станет во фронт. В то же время начальник гарнизона, поднеся ему Высочайшую грамоту, скажет приличное приветствие и вручит оную хану, который приняв оную, в знак почтения своего должны поцеловать и потом отдать первому чиновнику: за сим знамя и сабля таким же образом должны быть поднесены, приняты ханом и вручены его чиновникам. Между тем, как сие будет происходить, воинская команда сделает на караул и барабанный бой должен продолжаться при трех в крепости выстрелах пушечных. После сего ханские уже чиновники с публичного места понесут грамоту, знамя и саблю в дом хана, который с русскими офицерами и своими чиновниками должен идти за ними, в провожании всего собрания и воинской команды с прежнею церемонией. В доме же своем хан, приняв от чиновников сии знаки Монаршей милости, положит оныя на приготовленных нарочно для сего местах. После чего воинская команда возвратится на место.
Церемония сия я полагаю нужным для того, чтобы сие произвело впечатление в народе, который сам увидит особенную милость Государя Императора к их хану и торжественное утверждение его владетелем над ними.
В Кумух был прислан гарнизон царских войск, который постоянно находился в крепости. Аслан-хан вел деловую переписку с царским правительством и потому ему крайне был необходим грамотный и владеющий русским языком Джамалутдин. Хан был наслышан о тонком уме и грамотности Джамалутдина, а также о его даре предсказателя, в чем хан сомневался. Он предполагал, что Джамалутдин, имея обширные знания, может ввести в заблуждение менее грамотных людей.
Когда Джамалутдин, работая у хана, стал предсказывать довольно точно исход того или иного дела, отношение к нему изменилось, хан стал даже советоваться с ним.
Рассказывают, как Джамалутдин предсказал хану рождение сына. Это было так. Аслан-хан велел позвать к себе Джамалутдина, который занимался своими делами на нижнем этаже дома. Джамалутдин поднялся на второй этаж и проходя по коридору к ханскому покою, встретился с ханшей Умукусюм. Аслан-хан услышал, как Джамалутдин в коридоре обратился к кому-то с приветствием: “Салям алейкум!”, причем, было произнесено это приветствие как-то нерешительно и негромко. Хан посмотрел в коридор и никого из мужчин там не увидел, только жена его прошла, но так приветствовать женщин не принято по мусульманскому обычаю, так приветствуют только мужчину.
– Что это ты, Джамалутдин, хочешь ввести новый мусульманский обычай, говорить “салам алейкум” женщинам? – удивился хан.
– Нет, мой высокий хан, я отдавал салам не твоей жене, а сыну твоему, что скоро появится на свет, – ответил Джамалутдин.
– Что ты говоришь?! Кому ты еще сказал об этом? – спросил пораженный хан и велел Джамалутдину плотно прикрыть дверь комнаты.
– Нет. Я только ответил на твой вопрос.
– Тогда, пожалуйста, никому не говори! Мало ли у меня недругов! Если же то, что ты сказал, свершится, я щедро одарю тебя, – пообещал хан.
У Аслан-хана тогда не было сына, а только дочери, и сын был его сокровенным желанием, как у всякого хана. Прошло несколько месяцев и у Аслан-хана родился сын, прозванный Нуцалом. Хан сдержал своё слово – подарил Джамалутдину три селения в Кюринском округе.
Сон Джамалутдина
В те времена сыновей женили рано, а дочерей выдавали еще раньше. Родители Джамалутдина напомнили восемнадцатилетнему сыну, что ему пора обзавестись семьей. Собрался семейный совет, чтобы обсудить женитьбу Джамалутдина. Называли имена разных возможных невест. Наконец Джамалутдин сделал выбор сам, остановился на одной из своих родственниц. Решили послать сватов к невесте. Но в ночь перед назначенным днем Джамалутдин увидел странный сон. Как будто очутился он в доме своего устаза в Согратле. На веранде стояла дочка устаза, белолицая и черноволосая красавица, и то целовала, то облизывала поочередно свои руки.
– Что ты делаешь? – удивился Джамалутдин.
– Вот уже три года я слизываю капли воды, падающие на мои руки с твоих рук, когда ты умываешься, – ответила девушка.
Джамалутдин проснулся. Странный сон взволновал его, он так и не заснул до самого утра. Аварские женщины, даже девочки не показывались мужчинам, иначе, как с закрытым лицом. Потому ни жен, ни дочерей своего устаза Джамалутдин не видел в лицо. Они приносили кувшин с водой и тазик для умывания, но ни общаться, ни видеться с ними ему не доводилось. “Что бы это значило?” – подумал Джамалутдин и решил поехать в Согратль.
Поднялся он спозаранку и велел работнику оседлать коня. На шум вышла мать. Джамалутдин сказал ей, что должен по неотложному делу съездить к своему устазу и, чтобы подождали со сватовством до его возвращения. С отцом он не виделся, да и видеться с ним ему не хотелось, ибо отец всегда вникал в самую суть дела, пришлось бы Джамалутдину сказать о цели поездки, а мать без лишних вопросов довольствовалась тем, что ей скажет сам сын.
Дорога была дальняя, но хорошо ему знакомая, понимал он и аварскую речь, почти в каждом селении у него были кунаки. Но нигде не останавливался Джамалутдин и только при встрече с людьми просил передать привет своим знакомым.
С приближением к Согратлю Джамалутдин заметил, что им овладевает странное чувство то ли тревоги, то ли волнения. У ворот своего учителя он спрыгнул с коня, невольно поднял голову и увидел в окне лицо девушки, удивительно напоминающее то, что увидел во сне. Девушка мигом исчезла и больше не показалась.
Устаз был безмерно рад приезду Джамалутдина, не знал, чем его угостить, где его посадить и все повторял: “Говорил же я, что сегодня ко мне явится желанный гость!”
После традиционных распросов и угощения Джамалутдин объяснил устазу истинную цель приезда: рассказал свой сон.
– Это не вещий сон, это чертов сон! Когда ты находился у меня, дочь моя была еще ребенком, вряд ли она тебя вообще помнит. К тому же она уже засватана, скоро свадьба. Выдаем за родственника, хороший парень, хорошие люди…
– Один Аллах знает, кому, что суждено, учитель. Мы не можем изменить предначертавшую нам судьбу, – сказал Джамалутдин. Тревожно у него прошла ночь, а утром, собираясь в обратный путь, Джамалутдин почувствовал, что ноги его отяжелели, а в душу снова закралась тревога. Вместо слов прощания Джамалутдин сказал:
– Отец, не могу я уехать обратно… Не хотят идти мои ноги, пока вы не спросите дочь свою, как она расположена ко мне.
Устаз подозвал свою жену и велел ей поговорить с дочкой. Ответ был неожиданный для родителей, но однозначный: “Если Джамалутдин согласен взять меня в жены, я не выйду за другого, даже если сам пророк придет меня сватать!”
– Все. Значит это воля Аллаха. Если она согласна, я тоже не женюсь на другой. А теперь я отправлюсь домой и улажу свои дела, – сказал Джамалутдин и, вытянув руки вперед, начал читать молитву. Вместе с ним молился и устаз.
Через несколько недель Джамалутдин женился на дочери своего устаза.
Шейх Магомед-Яраги
В те самые времена в селении Яраг Кюринского округа жил известный мусульманский шейх Магомед-Яраги (то есть Магомед из Ярага), проповедник и поклонник тариката. Была у шейха своя медресе, где обучались муталимы из разных концов Дагестана и Азербайджана. Шло тогда в Яраг много народу, кто за советом к шейху, кто за его помощью, другие – принять от него тарикат и стать его мюридами, распространять его учение у себя на родине.
Учение тариката требовало от мусульман строго придерживаться всех законов, предписанных верующим в Коране. Тарикатские шейхи в Дагестане проповедовали самый известный из четырех путей тариката – Накшубандийский, путь пророка Мухаммеда. Этот путь означает постоянное занятие лучшими молитвами, поминающими бога, искреннее раскаяние в грехах, просить прощение у обиженных, избавляться от всего, что противно богу: от дурных и низких поступков, рождаемых эгоизмом, избегать чревоугодия, лишнего сна и разговоров, прибегать в своих молитвах неуклонно следовать пути Мухаммеда, довольствоваться своим положением и своей судьбой. Накшубандийские шейхи собирали учеников и принимали от них обеты.
Тарикат вел беспощадную борьбу с проникновением в мусульманскую веру путей и обычаев другой веры. Потому и был шейх Магомед-Яраги противником принятия Аслан-ханом русского подданства, что грозило проникновением русских христианских обычаев в среду мусульман. Владетельному Аслан-хану в свою очередь не нравилось проповедование шейхом Магомедом в его ханстве учения тариката. Но хан не мог открыто бороться с Магомедом-Яраги, слишком популярен был шейх.
Однажды Аслан-хан был в Дербенте у генерала Ермолова, тот сделал ему серьезное замечание по поводу распространения тариката шейхом Магомедом-Яраги, велел найти средство, чтобы заставить шейха замолчать. На обратном пути Аслан-хан заехал в Касумкент и пригласил туда Магомеда-Яраги. Хан стал уговаривать шейха бросить проповедовать тарикат, но шейх не внял просьбе хана, ответил, что готов отдать за веру свою жизнь. Тогда хан приказал своим нукерам избить шейха кнутами.
В ту ночь Аслан-хан увидел странный сон. Во сне к нему явился его отец – Шахмардан-бек, очень сердитый на сына: отец велел тем же нукерам, что избили шейха, отхлестать Аслан-хана теми же кнутами. Проснулся Аслан-хан с болью во всем теле, вроде его действительно избили. Еле встал Аслан-хан, помолился и пошел искать шейха. Тот лежал у местного муллы. Хан стал просить у шейха прощения за вчерашнее избиение, оправдывался тем, что не смог ослушаться генерала и поступил с шейхом безнравственно.
– Я-то прощу, если Аллах тебя простит, – ответил шейх еле слышно. Аслан-хан положил возле его постели кошелек с золотыми монетами и молча удалился.
До генерала дошло известие о случившемся в Касумкенте. Вскоре в Кумух явились русские офицеры, посланцы Ермолова. Аслан-хан велел Джамалутдину поехать к шейху Магомеду в Яраг привезти его в Кумух. Джамалутдин догадался о цели вызова шейха и отказался ехать. Но на второй день Джамалутдин сам пришел к хану и сказал, что согласен ехать, ибо эта дорога предвещает ему большую удачу. Джамалутдину никогда не приходилось бывать у шейха Магомеда и впервые ехал он в тот край. К вечеру, когда до Ярага оставалось езды примерно на один час, пошел проливной дождь.
В поисках убежища от дождя Джамалутдин увидел вдалеке шалаш пастуха, из него валил дым. Джамалутдин подошел к шалашу и увидел пастуха возле очага, на котором кипел котелок. Пастух был очень бедно одет.
– Ассалам алейкум! – обратился Джамалутдин.
– Ва алейкум ассалам! – ответил пастух и внимательно посмотрел на гостя.
– Примешь нуждающегося в крыше путника?
– Войди. Ты едешь за шейхом Магомедом-Яраги? – спросил пастух. Джамалутдин вздрогнул от неожиданности. – Я вижу, ты удивлен моим вопросом. Неделю тому назад шейх пригласил меня к себе и сказал, что ко мне зайдет человек, которого послал хан с неугодными богу намерениями. Но шейх велел мне хорошо принять этого гостя, и еще сказал, что по воле аллаха гостю придется заночевать у меня, а утром я должен направить его к шейху. Уже вечер, а кроме тебя никто ко мне не заезжал, потому я и решил, что ты – тот самый гость, – сказал пастух.
– А что, все что скажет шейх Магомед-Яраги сбывается?
– Без сомнения! Но ты ошибаешься, если имеешь нехорошие мысли о шейхе. Он сразу разгадает тебя, – сказал пастух и стал поднимать рукав своей одежды, затем медленно сунул руку в жарко горевший огонь.
– Что ты делаешь?! – крикнул Джамалутдин.
Пастух молча вытащил руку из огня и показал Джамалутдину: руку не только не обожгло, не опалился даже ни один волосок на ней.
– Вот эту чудо-возможность дал мне шейх Магомед-Яраги! – сказал пастух, и тут Джамалутдин почувствовал странное ощущение в теле.
Ему показалось, что плеснули на макушку расплавленный свинец, и он, пройдя через все тело, вылился через пятки.
Пастух усадил его возле себя и собрался угощать. Джамалутдин раскрыл свои хурджины, вытащил хлеб с бараниной и сыром и угостил пастуха.
Совсем стемнело, но дождь лил, как из ведра.
– Если даже дождь перестанет, опасно на дороге после дождя, со скал падают камни, может и в голову путнику угодить, – сказал пастух, заметив, что Джамалутдину не терпится выйти в дорогу. Но необходимость здесь ночевать еще больше пугала Джамалутдина, ибо сбывалось предсказание шейха.
Все же Джамалутдину пришлось остаться в шалаше на ночь, а утром пастух проводил его в Яраг. Здесь все знали, если едет гость, то наверняка к шейху, и сразу направляли к его дому. Так было и с Джамалутдином, а у него возникло такое ощущение, что все кругом о нем все знают.
Возле дома на лавочках и на камнях сидели люди, прибывшие на прием к шейху. Джамалутдин тоже сел. Но через некоторое время вышел молодой муталим и спросил, кто приехал от хана? Джамалутдин поднялся, немало удивленный, ибо он еще никому не говорил о себе.
– Тебя вызывает шейх, – сказал муталим и пропустил его вперед. Через довольно просторную, устланную паласами комнату, муталим провел Джамалутдина к маленькой, где сидел шейх. Муталим подошел к комнате шейха, поклонился и доложил о Джамалутдине. Затем с позволения шейха пропустил вперед гостя.
– Бисмиллахи Рахмани Рахим! Можно ли войти, есть ли для меня разрешение? – обратился Джамалутдин к шейху.
– Можно, сын мой, войди, – сказал негромко и весьма доброжелательно шейх. Джамалутдин вошел и встал так, чтобы не наступить на коврик, лежащий под ногами шейха, вместе с шейхом поднял руки и прочитал молитву. В конце молитвы, сказав аммин и опустившись на колени, Джамалутдин поцеловал колени шейха и встал. Таков был обряд встречи с шейхом. Джамалутдин забыл и о поручении хана, и о цели своего визита и сказал, что давно мечтал лицезреть шейха и потому совершил такой дальний путь, ибо он сам один из многочисленных поклонников его учения.
– Вчера у тебя были плохие мысли и плохие намерения, сегодня всемогущий Аллах направил тебя на верный путь, и ты избавился от них, – сказал шейх и стал беседовать с Джамалутдином. Когда шейх удостоверился в высокой грамотности Джамалутдина, знании языков и множества религиозных книг, он проникся к нему уважением. Когда Дэкамалутдин собрался уходить, шейх сказал:
– Садись возле меня, сын мой, не уходи, ты достоен того. Выслушай жалобы и нужды людей, приведших ко мне, постарайся войти в их душу, принять их горе и нужду к сердцу своему. Ты сумеешь помочь им и понять их, ты рожден для этого.
Джамалутдин сел рядом. Один за другим входили люди, прибывшие издалека за помощью и советом к шейху, делились своим горем и несчастьем. Никогда Джамалутдин не сталкивался так близко с людским горем и нуждой, перед ним открывался неведомый для него мир. Удивляло взаимопонимание, взаимослияния шейха и народа. Иногда шейх спрашивал посетителей, поправился ли такой-то больной в их селе, курит ли еще такой-то человек гяурскую махорку, не перестал ли их сельчанин пить водку, какую помощь оказали в этом году беднякам из мечети.
Шейх держал под контролем весь Дагестан. При беседе с посетителем иногда шейх оборачивался к Джамалутдину и спрашивал, чем и как можно помочь горю или нужде этому рабу Аллаха и, выслушав ответ Джамалутдина, говорил: “Воистину ты прав, сын мой, именно так и нужно помочь этому человеку”.
Джамалутдин, пробыв у Магомеда-Яраги неделю, стал собираться домой. Прощаясь, шейх сказал: “В тебе больше духовной силы и возможностей от Аллаха, чем во мне. Ты должен непременно стать на путь служения народу.
– Я готов, отец, сделать все то, что ты скажешь. Я готов идти по твоему пути, только помоги мне встать на него, – ответил Джамалутдин шейху Магомеду-Яраги. Он совсем забыл о поручении хана и больше не думал об этом. Шейх отдал Джамалутдину две книги, которые следовало выучить за два месяца, а потом явиться к нему.
– А о ханской службе не беспокойся, она для тебя кончилась. Ты больше не пойдешь к хану, и он уже не заставит тебя служить ему, теперь ты силен, – сказал шейх, угадав появившиеся у Джамалутдина мысли.
Чудеса Джамалутдина
Вернувшись в Кумух, Джамалутдин не явился к хану. Два дня ждал его хан, но затем послал за ним нукеров.
– Ты ездил с моим поручением, почему не пришел с отчетом, почему? – спросил удивленный хан.
– Да, мой высокий хан, я ездил по твоему поручению, но задание твое не выполнил. Такова была воля Аллаха!. А насчет службы… я больше у тебя не служу, я перешел на путь религии, до конца своей жизни буду служить ей, и моя единственная просьба к тебе: не мешай мне, – ответил Джамалутдин.
– Я удивлен твоим поступком. Опечален твоим поведением. Не ожидал – сказал хан, погрустнев, – Чем ты недоволен? В чем ты нуждаешься? Что тебя заставило принять такое решение? – посыпались один за другим его вопросы.
– Жалоб у меня нет. Я всем доволен, но больше служить у тебя не могу, – не сдавался Джамалутдин.
Очень расстроили Аслан-хана решение и поступок Джамалутдина, не хотелось ему терять такого грамотного работника, а его сближение с шейхом Магомедом-Яраги пугало хана. Хан велел Джамалутдину хорошо подумать обо всем и явиться к нему, при этом он не стал скрывать своего возмущения случившимся. Но Джамалутдин так и не явился к хану, не помогли ни советы, ни уговоры ближайших советников хана, а занялся изучением религиозных книг, полученных от шейха Магомеда-Яраги. Узнав, что Джамалутдин побывал у шейха Магомеда-Яраги, деятели мусульманской религии Кази-Кумухского ханства стали приходить к Джамалутдину и спрашивать о шейхе. Одобрили они выбор пути Джамалутдином. Больше всех радовался этому отец его, Макабута.
Изучив книги, Джамалутдин отправился к шейху. На этот раз он пробыл в Яраге почти месяц. Уединяясь с ним в отдаленной, тихой комнате, шейх обучал его искусству являть чудо и предугадывать события, общаться с Богом, учил Джамалутдина управлять силой духа, вложенной в него самим Богом.
Приняв от шейха Магомеда-Яраги тарикат, Джамалутдин стал его мюридом. По учению тариката мюрид, принявший тарикат от шейха, должен стать его копией и приблизиться к шейху по степени любви к нему. Учение тариката гласит: “Ты введи шейха в свое сердце и водвори его там, и не выводи его оттуда, пока ты сам не сделаешься богознателем посредством его, потому что шейхи – суть источников Божьего вдохновения”. Через своего шейха мюрид созерцает Господа Бога, добивается не только внешнего, но и внутреннего уединения от окружающего мира по накшубандийскому тари-кату. Шейх доводит своего ученика до степени совершенства одним своим сообществом и открывает ему не только свет и красоту Всевышнего, но и тайны постижения Бога.
Так Джамалутдин стал владеть всеми знаниями и тайнами чудодействия, которыми владел его шейх. Получив у Магомеда-Яраги звание шейха, Джамалутдин вернулся в Кумух, стал проповедовать накшубандийский тарикат.
Популярность шейха Джамалутдина росла, люди к нему шли со всех концов Дагестана, принимали у него тарикат, становились его мюридами. Джамалутдин открыл в Кумухе медресе, где обучал юношей. Муталимы боготворили шейха, молодой шейх был для них образцом человека и мусульманского шейха, они рассказывали кумухским парням о великой силе духа Джамалутдина, о его таланте являть чудеса.
В Кумухе рассказывают, как ровесники Джамалутдина, не доверяя рассказам его муталимов, решили проверить, на самом ли деле Джамалутдин способен творить чудеса. Друг детства Джамалутдина, по имени Лати, предложил друзьям пойти вместе с ним к Джамалутдину и своими глазами убедиться в таланте шейха.
Когда друзья пришли, Джамалутдин на веранде делал намаз, а жена его варила на очаге кукурузный хинкал. Джамалутдин обрадовался гостям и предложил войти в дом и спросил, смогут ли они подождать, пока он закончит свое моленье.
– Нет, нет, мы не торопимся, мы просто хотели узнать у тебя, на самом ли деле шейх Магомед-Яраги может сунуть руку в огонь и не обжечься? – сказал Лати, как бы в шутку. Джамалутдин ничего не сказал, подошел к очагу, приподнял рукав и сунул в огонь руку, затем показал ее друзьям. Рука не только не обгорела, не опалился ни один волос на руке.
– Эту силу дал мне шейх Магомед-Яраги. Может ли человек отдать другому то, чего у него нет? – спросил Джамалутдин.
Пристыженные друзья собрались уходить, но Джамалутдин их остановил, сказал, что варится кукурузный хинкал и грешно уходить. Завел их в комнату…
Закончив свое моленье, пришел к ним Джамалутдин. Тут жена его принесла на круглом деревянном подносе дымящийся хинкал. Джамалутдин пригласил друзей сесть и как-будто в шутку стал водить раскрытой ладонью над подносом, читая при этом шепотом какую-то молитву. Хинкалины стали прыгать, как лягушки, и друзьям они показались лягушками. Тут Джамалутдин отвел руку: хинкал перестал прыгать и принял первоначальное положение. Друзья не столько удивились, сколько испугались этого чуда. Шейх же улыбнулся и предложил им есть. Но гости не стали есть. Тогда Джамалутдин позвал жену и попросил подать гостям другое кушанье. За бузу и чурек с сыром гости уселись с удовольствием.
Шейх Джамалутдин и Аслан-хан
Аслан-хана испугала популярность шейха Джамалутдина. Если из-за Магомеда-Яраги он получил серьезное замечание от царского генерала, то за Джамалутдина, развернувшего деятельность у него под боком, он мог пострадать еще больше. Хан решил сначала по-хорошему поговорить с шейхом Джамалутдином, пригласил своих ближайших советников и послал нукеров за шейхом. Встретил его Аслан-хан с почтением, стал разговаривать с ним весьма доброжелательно. Не выдавая своего недовольства и как бы по-дружески советовал прекратить распространение тариката в его ханстве. Он обещал Джамалутдину любую материальную помощь, если он нуждается. Но шейх ответил:
– Я проповедник учения пророка Мухаммеда и раб Аллаха, и больше никому я не подвластен: В помощи не нуждаюсь, сам в состоянии помочь любому…
Через некоторое время прибывшие в Кумух царские офицеры потребовали расправы с шейхом, и Аслан-хан вынужден был согласиться. Хан послал за шейхом и тем временем подготовил подвыпивших нукеров для расправы с ним. По сигналу хана они должны, были кинуться на шейха.
Нукеры вернулись одни, сказали, что шейх провожает гостей, прибывших к нему из Дженгутая, обещал подойти попозже. Через некоторое время Аслан-хан увидел из окна шейха Джамалутдина вдалеке. Он шел спокойно и величественно, держа в руках серебряный жезл, подаренный ему в Согратле. При виде шейха кланялись ему даже придворные хана, а шейх легким кивком головы отвечал на их поклон. Близился вечер, почти стемнело.
Войдя в ханский двор, Джамалутдин не стал подниматься по лестнице на второй этаж, стал стучать жезлом о каменные плиты, которыми был устлан ханский двор. Как выстрел прозвучал этот стук в ушах хана. Он осторожно выглянул и увидел шейха, стоящего во дворе. Пальцы его правой руки, в которой он держал жезл, сияли как свечи, и от этого сияния осветилось все лицо шейха. Раздался голос шейха, требовавшего доложить о его приходе. Тревога и волнение объяли Аслан-хана, он не мог говорить и руки у него тряслись. Между тем нукеры ждали сигнала к расправе. Но вместо сигнала поступило повеление хана: отошлите шейха, скажите ему, что надобность в нем отпала.
Все были удивлены, удивился и сам шейх. Когда он вышел со двора, увидел множество людей, молча и тревожно стоявших возле ханского дворца. Понял Джамалутдин, что ему угрожала опасность.
Когда же русские офицеры и подвыпившие нукеры стали упрекать хана в нерешительности, он ответил, что бессилен был даже двинуться и предпринять что-либо против шейха. Сам Аллах вмешался предотвратил убийство.
Возможно все так и было, а возможно, что Аслан-хан был все же самым сердобольным и миролюбивым. В течение двадцати лет своего правления он не допустил ни одной кровопролитной войны, берег народ и страну. Чтобы уберечь свой народ и землю, он принял и подданство русского царя. Дорожил миром и спокойствием как мог, а если же противостоял тарикатским шейхам, то и это делал ради спасения людей от кровопролития, чтобы не допустить газават.
Рассказывают, что имамы газавата Гази-Магомед и Шамиль хотели познакомиться с шейхом Джамалутдином и взять у него разрешение на священную войну. Сначала появился в Кумухе по своим делам Гази-Магомед и решил зайти к шейху. Причем в Кумухе не знали, кто он такой. Гази-Магомед вместе с товарищем договорились не сообщать о себе шейху и пойти к нему как обыкновенные прихожане. Когда вошли в дом, Гази-Магомед послал вперед своего попутчикам сам присел перед комнатой шейха, ожидая пока выйдет попутчик.
Шейх Джамалутдин принял гостя, посмотрел на него внимательно и спросил, что его привело к нему. Гость ответил, что хотел бы принять от него тарикат и стать его мюридом.
– Нет у тебя никакой надобности ко мне, вон, в той комнате сидит человек, который пришел ко мне, пригласи его сюда, – громко сказал шейх.
Не ожидавший такого оборота, Гази-Магомед даже вздрогнул от удивления. Он невольно встал и медленно направился в комнату шейха.
– Зайди, Гази-Магомед, – твое место не там, а здесь, возле меня, – доброжелательно сказал Джамалутдин.
Гази-Магомед прочитал молитву, поклонился шейху, а затем спросил, откуда шейху известно его имя.
– Это вовсе нетрудно узнать, – сказал шейх и обратился к его спутнику:
– Ты говоришь, что пришел принять у меня тарикат, стать моим мюридом. Заслуживаешь ли ты этого? Прежде, чем явиться ко мне, ты должен был сходить к отцу своему, с которым ты в ссоре вот уже три года. Из-за пустяка ты крепко обидел своего отца и с тех пор ни разу не вспомнил о том, что тебе надо попросить у него прощения. За это время было много праздников и много случаев, по поводу которых тебе следовало бы зайти к своему отцу. Иди! Сначала сходи к отцу своему, скажи, что бог тебя простил и он пусть тоже тебя простит.
Пристыженный гость молча удалился. Гази-Магомед, не знавший о своем попутчике таких подробностей, был смущен.
Шейх Джамалутдин обычно со всеми гостями разговаривал на их родных языках, ибо множеством из них он владел в совершенстве. С Гази-Магомедом шейх разговаривал на его родном – аварском языке.
Гази-Магомед был известным по тем временам арабистом и шейх Джамалутдин знал о нем. Встреча двух алимов оказалась плодотворной, Гази-Магомеда радовала и эта встреча, и знакомство. В следующий раз Гази-Магомед приехал к шейху с Шамилем, и они стали большими друзьями.
Новые знакомства шейха еще больше настораживали хана. Ни для кого не было секретом, что Гази-Магомед и Шамиль проповедуют газават с русскими, неудивительно, что встревожились и русские офицеры, проживающие в Кумухской крепости. Они потребовали у хана, чтобы он расправился с шейхом Джамалутдином, обвинив его в шарлатанстве. Аслан-хану пришлось согласиться. Чтобы предъявить шейху это обвинение, он пригласил его к себе. Во дворе хана находилось много придворных и русских офицеров, ожидавших шейха.
Был солнечный летний день. Весть о том, что шейха Джамалутдина вызывают к хану на расправу, мгновенно облетела Кумух. Не успел шейх еще и выйти за ворота, как люди высыпали на улицу, вышли на веранды и поднялись на крыши домов. Обычно, когда хан посылал нукера за кем-нибудь, нукер непременно возвращался вместе с ним. Но с шейхом Джамалутдином поступали иначе: нукеры передавали шейху приказ хана через муталимов или его домашних, а сами немедленно уходили. Шейх никогда не подводил и являлся вовремя.
Как всегда, в черной опрятной одежде, с жезлом в руках направлялся шейх к ханскому дворцу. Люди провожали его сочувственными взглядами и читали вслед ему молитвы. О том, что шейх идет во дворец, хану уже сообщили. И волнение охватило хана. При появлении шейха все придворные поклонились ему, не смог поступить иначе и Аслан-хан, а вслед за ним поклонились и русские офицеры.
Аслан-хан передал шейху претензии русских офицеров на то, что мол, шейх обманывает и вводит в заблуждение народ. Они его подозревают в шарлатанстве и потому шейху необходимо в присутствии этих офицеров опровергнуть обвинение. В противном случае шейха ожидает наказание. Вас не столько волнует народ, ибо вы не заступники народа, сколько ищите повода расправиться со мной, – сказал Джамалутдин, – но учтите, кто умирает за веру, за Аллаха, того во веки веков не забывают, и в земле он не тлеет. Четырнадцать поколений тому назад, когда язычники завоевали Кумух, начальнику вражеских войск очень понравилась красавица из Кумуха. Девушка была мусульманкой и это не позволяло вражескому начальнику жениться на ней, пока она не примет языческую веру. Девушка не соглашалась. Тогда заперли ее в хлеву, решили одолеть голодом и жаждой. Но ничего не вышло. Затем повелитель язычников решил взять ее испугом. Поставили ее на холм и стали пускать в нее стрелы, но так, чтобы раны были не опасные. Ноги и руки девушки истекали кровью, но она была неумолима. Рассвирепевший начальник приказал убить ее. Несколькими стрелами в грудь девушка была убита. Под тем же холмом и похоронили ее. Пойдемте, я покажу вам это чудо, только дайте мне нескольких работников с лопатами и кирками.
Шейх Джамалутдин вышел из ханского двора в сопровождении придворных и русских офицеров. Пришли они на площадку под горкой, куда сельчане обычно вывозили мусор. Шейх указал жезлом на одну из куч мусора и велел убрать ее. Затем на месте этой кучи начертил жезлом четырехугольник и велел копать здесь до глубины пяти локтей.
Никто и не верил всерьез, что здесь, где не было никаких следов могил, мог быть похоронен человек. Стали копать и обнаружили могилу. Прежде чем раскрыть могилу, шейх Джамалутдин велел позвать Аслан-хана. Хан с нукерами явился и шейх велел поднять надгробные плиты. И под ними все увидели тело девушки с ясным лицом. Глядя на нее – казалось, будто вчера ее похоронили. Одежда ее и все покровы превратились в тлен, а на груди ясно были видны следы стрел. При виде этого чуда остолбенели офицеры, а хану стало плохо, и нукеры на руках понесли его домой. Когда хан пришел в себя, все повторял: “Оставьте шутки с шейхом Джамалутдином! Оставьте шутки с шейхом Джамалутдином!
В тот же вечер жена Аслан-хана Умукусюм-бике явилась к шейху и слезно его молила простить мужа за действия неугодные Аллаху и шейху, стала оправдывать мужа, что в его действиях нет его вины. Она также просила шейха оставить Кумух и перебраться в другое, более спокойное место, ибо тут царские офицеры будут беспокоить и шейха, и хана. Уходя, Умукусюм-бике оставила шейху кошелек с золотыми монетами, чтобы он раздал их своим бедным муталимам.
Газават
В своем доме, в своем очаге шейх Джамалутдин уже не мог спокойно жить и работать. Утомляли преследования и придирки хана и царских офицеров. Было у него в Кумухе много родных, много друзей, были преданные ему и тарикату муталимы, а еще очень большая и богатая библиотека. Без всего, что его окружало, он не мыслил себе полноценной жизни. Но судьба вынуждала шейха покинуть родные места. Таким местом, по его мнению, был Цудахар, ибо цудахарцы были тогда вольными людьми и никому не подчинялись. Так шейх Джамалутдин покинул свое обжитое гнездо и перебрался в Цудахар.
Здесь встретили шейха Джамалутдина с большим почтением, выделили ему хороший дом, прислугу. Вскоре вокруг него собралось много религиозных деятелей, появились и новые ученики. Сюда к нему стали приходить люди со всего Дагестана. Спокойнее и безопаснее чувствовал себя шейх, его дружба с Гази-Магомсдом и Шамилем крепла: они часто навещали его. Когда у Шамиля умерла первая жена, оставив малолетних детей, шейх Джамалутдин отдал ему в жены свою старшую дочь Загидат, которая была красива, умна и образованна. Загидат стала главной хозяйкой в доме Шамиля. Он считался с ней и советовался, все хозяйственные заботы легли не ее плечи. Даже тогда, когда имам имел других жен, Загидат оставалась главной хозяйкой в доме, не посоветовавшись с ней, без ее разрешения ни одна жена Шамиля даже платье себе не шила. Ум и практичность Загидат признавали все родственники и друзья Шамиля. Попав в дом мужа семнадцатилетней, она сумела стать заботливой матерью для его малолетних детей. Она заботилась не только об их одежде и еде, но и следила за их обучением и развитием. Когда она пожелала, чтобы дочери имама получили образование, ей ответили родственники мужа, что у аварцев не принято, чтобы женщины учились.
– Еще ни одной женщине на свете грамотность не принесла вреда! – сказала Загидат и стала обучать грамоте своих падчериц.
Впоследствии Загидат решила женить своих братьев Абдурахмана и Абдурагима (сыновей шейха Джамалутдина) на своих падчерицах и к ее слову прислушались все. До конца дней своих Загидат мужественно делила все тяготы и перипетии судьбы со своим мужем, всегда была для него опорой и добрым советчиком.
Прежде чем объявить газават, Гази-Магомед и Шамиль пришли к шейху Джамалутдину за разрешением и советом.
– Нет, – сказал им шейх, – я вам не советую начинать газават и не могу дать разрешение. В Коране сказано, что газават надо начинать тогда, когда враг ваш в несколько раз слабее вас, а наш враг, наоборот, гораздо сильнее нас. Но я предчувствую – вы начнете газават, много прольете крови и с нашей и с их стороны, будет долгая, затяжная, кровопролитная война, но ничего вы не добьетесь.
От шейха Джамалутдина Гази-Магомед и Шамиль пошли к шейху Магомеду-Яраги. Узнав о том, что шейх Джамалутдин не одобрил их замысла, он тоже не решился дать им позволение на газават, посоветовал обратиться к Исмаилу Кюрдамирскому. Тот долго думал, вычислил все за и против и сказал:
– Шариат ослаб. Люди занимаются недостойными для мусульман вещами: пьют гяурское питье, курят махорку и совершают много других недостойных поступков. И для того, чтобы сберечь чистоту нашей веры и народа, надо начать газават.
Исмаил Кюрдамирский созвал народ на площадь перед мечетью, надел на Гази-Магомеда чалму имама, объявил о начале газавата и о том, что Гази-Магомед провозглашен имамом.
Шейх Джамалутдин и грузинские князья
Среди войск, воевавших в Дагестане, были грузинские князья Орбелиани и Чавчавадзе, которые сыграли немалую роль в этой войне. В отместку им мюриды Шамиля совершили набег на поместья Орбелиани и Чавчавадзе в Грузии, разграбили их дома, взяли в плен их семьи с малолетними детьми. Сурово обращались мюриды с пленниками в пути. Шамиль, узнав об этом, отругал мюридов и взял пленных под свое личное покровительство, стал контролировать, как их кормят и содержат. Историки отмечают, что Шамиль всегда отличался милосердием к пленным. Князья Орбелиани и Чавчавадзе стали искать пути и возможности освобождения своих семей. Царь предлагал имаму Шамилю в обмен семьи князей вернуть сына Шамиля Джамалутдина, в свое время отданного в аманаты русскому царю, и еще сорок тысяч рублей в придачу.
Участники же набега, а их было 1100 мюридов, ставили единственным условием уплату миллиона рублей, в расчете поделить эти деньги между собой, как военную добычу. Шамиль оказался в большом затруднении: с одной стороны ему очень хотелось выручить из плена своего сына, с другой – он не считал себя в праве лишить мюридов их заслуженной добычи. В это трудное для него время пришел к нему шейх Джамалутдин и предложил свою помощь в переговорах с мюридами. Он выступил посредником между имамом и мюридами. Шейх велел собрать всех мюридов и, явившись на собрание, обратился к ним со следующими словами:
“…Мюриды, вы все толкуете про миллион. А умеете ли вы сосчитать такие деньги? В Дагестане не найдется никого, кто бы справился с такой задачей! Да и где же набрать такую сумму князю Чавчавадзе? Ведь вы разграбили и уничтожили все его имущество, и он теперь остался гол, как сокол, и без семьи, и без имущества. Если же вам предлагают сорок тысяч рублей и сына имама, то это потому, что царю стало жалко князей, и он от себя дает эти деньги. Вы же это предложение отклоняете. Вы не хотите утешить своего имама, не хотите выручить от гяуров его сына, которым имам для вас же и пожертвовал, оставив его аманатом в Ахульго. Стократ непростительно честному горцу оставлять мюрида гибнуть среди гяуров! И все из-за нескольких лишних монет! Посчитайте хорошенько: много ли их достанется на брата. Ведь пожалуй не больше чем по пятьдесят рублей, так как львиная доля должна отойти к имаму и нам. Я, хотя и не участвовал в набеге, но как сейид получу со своим семейством не менее 50000 рублей. Однако я, ни минуты не колеблясь, откажусь от этого дара! Вы же не хотите пожертвовать копейками ради сына нашего имама! Еще раз повторяю: стыдно, мюриды!”
Шейх Джамалутдин говорил проникновенно, его голос обладал магической силой. Слова Джамалутдина взволновали горцев, и они в один голос закричали: “Нам ничего не надо! Давайте только назад сына нашего имама! Мы готовы пожертвовать и семьями своими, чтобы вернуть сына имама от гяуров!” И, прославляя мудрость Джамалутдина, все с радостью разошлись по домам. Обмен, таким образом, состоялся на условиях, предложенных русскими.
Подходила к концу долгая и кровопролитная война. Шейх Джамалутдин предвидел ее исход. Он знал, что ему уже не придется побывать в родном Кумухе, ибо семья имама и шейха были переплетены тесными узами и ожидала их одна и та же участь.
После окончания войны и пленения Шамиля, князь Чавчавадзе, служивший тогда в Дагестане, не стал высылать шейха Джамалутдина, а отправил его со всем семейством в Тбилиси, к князю Орбелиани, с сопроводительным письмом, где просил принять шейха с должным почтением. Орбелиани выделили для шейха и его семейства прекрасный дом, слуг, поваров, обеспечили всем необходимым. Имам же в это время был выслан в Калугу с сыновьями, зятьями и несколькими мюридами, обслуживающими их, а женская половина его семьи жила еще в Дагестане. Оба сына шейха Джамалутдина, зятья Шамиля, тоже были в Калуге.
Шейх Джамалутдин имел намерение из Тбилиси выехать в Турцию, хлопотал разрешение на выезд, но услышав, что в Калугу к Шамилю отправляют всю женскую половину семьи имама с детьми, шейх обратился к князю Орбелиани с просьбой разрешить ему выехать в Дагестан, чтобы попрощаться с дочерью – женой имама и с внуками. Получив разрешение, шейх Джамалутдин с семьей выехал в Темир-Хан-Шуру, куда в это время доставил семью Шамиля его наиб Кибит-Магома.
В Темир-Хан-Шуре Джамалутдину пришлось войти в переговоры с родителями снох имама, ибо они категорически были против, чтобы их дочери ехали в Калугу. После вмешательства шейха все уладилось и вся женская половина семьи имама с детьми выехала в Калугу.
Шейху Джамалутдину не пришлось тут же вернуться в Тбилиси. Гази-Шамхал Абу-Муслим-хан из Казанища пригласил его к себе погостить, заранее получив разрешение князя Чавчавадзе на этот выезд.
Как и везде, в Казанище шейха встретили тепло и радушно, окружили его заботой и вниманием, к нему как и прежде стали стекаться религиозные деятели со всего Дагестана. Уже два месяца гостил шейх у хана, а тот и не думал расставаться с ним. Но случилось так, что Абу-Муслим-хан неожиданно умер. Шейх Джамалутдин организовал достойные похороны хана, семь дней шейх читал Коран на его могиле. Затем обратился с просьбой к князю Чавчавадзе разрешить ему с семьей выехать в Турцию. Как и прежде, в Тбилиси шейха встретили с подчеркнутым вниманием и уважением. Погостив в Тбилиси двадцать пять дней, шейх со всем семейством и прислугой отправился в Турцию.
Уезжая в Турцию, шейх Джамалутдин пишет прощальное письмо имаму Шамилю в Калугу.
Одна из дочерей шейха Шуанат, которая в свое время была похищена Аминтаевым и не получила ни благословения, ни прощения отца, оставалась в Кумухе. Шейх не общался долгие годы ни с дочерью, ни с зятем, но не было дня, чтобы шейх не вспомнил о своей любимой дочери и не тосковал бы о ней.
Во времена правления Агалар-хана в Кази-Кумухском ханстве границы были закрыты и многочисленная стража не пускала кого бы то ни было за пределы ханства без особого разрешения на то хана.
Дочь шейха несколько раз обратилась с просьбой к Агалар-хану разрешить ей выехать свидеться с матерью, отцом, братьями и сестрой, но хан ответил отказом.
Теперь шейх решил проститься с Шуанат. И он написал Агалар-хану Кази-Кумухскому письмо с просьбой: “… Сын мой, ни для кого не секрет, что я не из тех людей, которые хотят сделать человеку неприятное. И после отъезда от вас я живу, оберегая людей от распрей и несчастий и от всего противочеловеческого. В настоящее время я выезжаю на могилу шейха Магомеда-Яраги, и у меня есть намерение встретиться там со своей дочерью. Я надеюсь, что на этот раз ты разрешишь ей со мной встретиться. Если ты не будешь препятствовать этому моему желанию, ты окажешь мне большую услугу, и я бы на всю жизнь остался твоим должником…”
Шейх Магомсд-Яраги был похоронен в Согратле и Джамалутдин отправлялся туда. Получив письмо шейха, Агалар-хан наконец-то разрешил ему встретиться с Шуанат. Известно, что Шуанат вернулась из Согратля весьма разбитая и подавленная. Встреча с отцом и близкими была не только трогательной, но и печальной, ибо жизнь не давала им малейшей надежды на другую встречу.
Так оно на самом деле и вышло – они больше не свиделись.
“От дряхлого старика Сейида Джамаль-ад-Дина к его дорогому сыну славнейшему и благороднейшему Шамилю и к остальной семье. Мир над вами, милость и благословение Аллаха всевышнего! А затем. С того времени, как мы узнали о вашем положении и ваших делах, мы часто восхваляли за это Аллаха Всевышнего, восхваляйте же и благодарите его за то, что он оказал вам великие милости. И желал добра царю. Мы уже слышали о великом его милосердии и хороших поступках с многочисленными милостями к вам. Несмотря на то, что вы были в отношении его злодеяниями, с какими благодеяниями он отнесся к вам?! И если он так относится к злодеятелям, то каковы же поступки его в отношении добродеятелей?!
Нет сомнения в том, поступок благородных благороден, их добродеяния совершенны.
Надлежит вам и нам благодарить его милости и в любое время желать ему добра, возвеличивая его достоинства. Ибо, кто не благодарит созданных, тот не благодарит создателя.
Из турецкого города Каре, где он проживал некоторое время, шейх Джамалутдин пишет письмо в Дагестан князю Чавчавадзе:
“Дорогому сыну, князю Чавчавадзе, начальнику дивана всего Дагестана, да будет долговечна его слава! А затем вы осведомлялись о наших делах. Милостью Аллаха всевышнего с того времени, когда расстались с вами, мы не встречали ни от кого из русских начальников ничего иного, кроме крайнего уважения, и так до тех пор, пока мы не прибыли в город Тифлис к его величеству генералу от инфантерии князю Орбелиани. Он поместил нас в хорошем жилище и оказал нам самое лучшее почтение и уважение такое, подобным которому не был почтен ни один из благородных эмиров и великих ученых. Мы находились у него двадцать пять дней. Ели, пили, наслаждались. Когда же мы задумали отправиться в город Каре, то он дал нам 400 динаров на расходы на пути и доставил нас в Каре целыми и невредимыми на почтовых лошадях и это по милости Аллаха всевышнего, во-первых, и по твоему благодеянию, во-вторых. Мы написали это для того, чтобы сообщить вам наше настоящее положение. Не забывайте нас во все времена. Мы намерены, если Аллах всевышний захочет, остаться здесь на зиму. Когда же придет весна, то сделаем то, что прикажет нам Аллах всевышний. И мы не забудем желать вам в молитвах всякого добра, если захочет Аллах всевышний.
Последние годы жизни
В Турции шейха Джамалутдина встретили с особым расположением к нему, почтительно отнеслись и к его сану, и к его имени. Султан не только выделил шейху хороший дом с прислугой, назначил пожизненную пенсию из своей казны – пригласил Джамалутдина к себе в гости.
В Турции проживало много дагестанцев, и все они считали своим долгом побывать у Джамалутдина, оказать ему знаки внимания и уважения. Почти всегда его окружали молодые муталимы, которых он обучал.
Несмотря на свою немощь и болезнь, шейх не прекращал большой общественной и просветительской работы, был мудрым советчиком и интересным собеседником. Рассказывают, как к шейху Джамалутдину пришел престарелый сын Сурхай-хана Кази-Кумухского, проживающий в Турции и, не скрывая своего удивления и восхищения, расспрашивал, как они смогли столько лет воевать, и столько лет подряд поднимать на войну народ, когда мы, говорил он, в свое время в одной руке держали мешок с золотыми монетами, а в другой – саблю, сколько мы поднимали мужчин на войну, так и не могли их поднять?
– В наших руках была большая сила – религия, которая поднялась против чужой веры. Ни золото, ни оружие не сделает того, что сделает сила религии! – ответил шейх.
В Стамбуле шейх Джамалутдин пользовался особым уважением и поклонением мусульман и жил обласканным и возвеличенным турецким правительством. Когда в 1866 году шейх Джамалутдин скончался, с минаретов всех мечетей Стамбула возгласили глашатаи: “Сегодня под утро великий шейх Дагестана и всего мусульманского мира Джамалутдин переселился к милости Аллаха всевышнего! И раздавались напевы похоронных молитв. Весь Стамбул был в трауре, со всех концов Турции прибыли сюда шейхи и алимы. Похоронили шейха Джамалутдина с большим почетом, при стечении множества народа, на самом известном стамбульском кладбище “Каража-Ахмад”. Над местом его погребения построили мазар.
На этом же кладбище, возле него, похоронена его жена, умершая в 1875 году и сын Ахмади-Бадави, скончавшийся в 1884 году.
Непокорная Шуанат
Дочь шейха Джамалутдина, Шуанат, была самой младшей из детей и самой любимой дочерью отца. Она, как и ее старшая сестра – жена имама Шамиля Загидат, была умна, образована, обучала в медресе кумухских девочек грамоте. Но Шуанат была гораздо красивее и обаятельнее, чем Загидат, в нее влюблялись все муталимы ее отца. В умении же изящно и со вкусом одеваться не было ей равных в Кумухе. Заметив на Шуанат какое-нибудь платье, которое сидело на ней великолепно, дочери богатых посылали своих портных снять его фасон и сшить точно такое же. Портнихи добросовестно выполняли заказы, но самые точные копии платья на их госпожах смотрелись далеко не так, как на Шуанат.
У Шуанат не было отбоя от женихов, но занятый по горло делами газавата, шейх не спешил с устройством семейного очага младшей дочери.
В то время в Кумухе жил парень по имени Аминта. Еще в раннем детстве он был пленен из Грузии ханскими воинами, принял мусульманскую веру и, как все кумухские ребята, обучался Корану, а повзрослев, выучился ювелирному мастерству и другим ремеслам. Ребенком он жил при ханском дворе, а повзрослев, стал жить и работать самостоятельно, в маленькой хибарке неподалеку от ханского дворца. То ли от того, что он принял мусульманскую веру, а его сородичи были христианами, то ли потому, что не знал места своего рождения и своих родителей, Аминта не собирался уезжать из Кумуха и никогда не говорил об этом. Кумухцы его уважали не только за мастерство, кого им тут удивишь: в Кумухе каждый второй был искусный мастер, а потому, что умным и добрым был этот парень, всегда собран и опрятен. Хоть и не было у него в доме женской руки, черкеска на нем смотрелась, как вчера сшитая, сапоги блестели, а усы и шевелюра – ровно и аккуратно подправлены. Никто не видел Аминту кое-как одетым, слонявшимся без дела. И внешним видом, и манерой держаться он выгодно отличался от кумухских парней. А любой приезжий с первого взгляда узнавал в нем грузина. Аксакалы Кумуха, любуясь им, покачивали головой: “Вот как всемогуща воля Аллаха! Все в человеке заложено с самого рождения. Переложи орленка хоть в гнездо курицы, он все равно вырастет орлом!”
Аминта был веселым и жизнерадостным человеком, никогда не делал проблем из мелочей, а любую ссору еще вначале умел обратить в шутку. Любил петь и красиво танцевал. На кумухских свадьбах тамада обязательно его назначал своим ясаулом.
Как и все кумухские парни, Аминта был знаком с шейхом Джамалутдином, а однажды по заказу шейха сделал несколько кожаных переплетов к его книгам.
Шуанат влюбилась в Аминту, но не смела девушка об этом заикнуться даже своим близким подружкам: при всех своих достоинствах Аминта оставался безродным чужеземцем. Аминта был явно к ней неравнодушен, он часто по памяти рисовал ее портреты и самые удачные посылал ей.
Повзрослев и набравшись сил, Аминта разобрал свою старую хибарку и начал строить новый дом. Работал он увлеченно, мастерски: глина и камень в его руках будто играли, кумухцы любовались его работой, а друзья помогали ему. Рассказывают, что вырезая из камня цветок, чтобы украсить им стену у ворот, Аминта несколько раз разбивал оземь почти готовую работу, ибо она ему казалась недостаточно красивой. При этом не нервничал парень, не злился, а улыбался да напевал потихоньку. Так и вырос за несколько месяцев аккуратный домик из двух комнат с верандой.
В ту пору кумухцы готовились к свадьбе Агалар-хана. Задолго до нее девушки начали шить себе новые наряды, мужчины изготовляли серебряные пояса и сбрую для своих коней. Каждый хозяин приводил в порядок фасад своего дома и прилегающую улицу, особенно там, где должна была проходить свадебная процессия.
И вот наступил день ханской свадьбы. Шамай-бике – внучка Аслан-хана выходила замуж за Агалар-хана. Все люди от мала до велика высыпали на улицу. Приехали гости из окружных сел. С музыкой, на широких подносах, поднятых на голову, несли свадебные подарки – чтобы, все увидели их и оценили.
День был теплый и солнечный. Торжественная и пышная процессия дошла до площади перед ханским дворцом, началось свадебное торжество, массовые пляски, хоровое пение, показывали ловкость и остроумие клоуны, одетые в шкуры животных.
На краю площади был крытый ханский родник, и Аминта с друзьями поднялся на его крышу, чтобы получше рассмотреть все, что происходило в центре площади. В белой черкеске, белолицый и черноглазый Аминта выделялся среди друзей. Серебряный пояс и чеканенное серебром оружие собственного изготовления не только украшали парня, но и говорил и о большом мастерстве его рук. Люди любовались им, особенно часто девушки бросали взгляд в сторону ханского родника. Обратили на Аминту внимание и гости, стоявшие с ханом на балконе дворца. Один из гостей, указав на Аминту, спросил хана, кто он такой, видимо полагая, что парень какой-нибудь бек из ханского тухума. Агалар-хан глянул на Аминту и побагровел от злости.
– Несчастный ясир! Кто из нас сегодня жених, он или я? – вскрикнул хан и велел немедленно привести Аминту.
Нукеры тут же побежали, стащили с крыши Аминту и поволокли его в ханский двор. Народ встревожился. Хан же приказал нукерам отрезать Аминте уши, чтобы он впредь помнил, кто он такой. Нукеры пожалели Аминту и отрезали только верхние части ушей. Прикрыв руками окровавленные уши, Аминта кинулся домой по окраине селения. Весть о том, что Аминту отрезали уши, разлетелась мгновенно. Настроение у людей омрачилось, торжество погасло, и каждый возвращался домой с тяжелым сердцем.
Как громом поразило Шуанат это известие. Она металась по дому, не находя себе места, и слезы градом катились по ее щекам. Она не могла заняться никаким делом, а ночью сон бежал от нее.
На улице, на годекане, у родника все только и говорили про беду Аминты. Парень не выходил из дома. Женщины, что носили Аминте хлеб и молоко, слышали только его голос, а сам он им не показывался. В Кумухе тогда был хороший обычай: одиноким мужчинам и старикам люди носили часть своего свежеиспеченного хлеба, крынку молока, а по четвергам готовили специально для них особенно вкусную еду. Ни платить, ни отказываться от угощения не полагалось: случаи отказа считались большим грехом и для хозяина, и для угощаемого.
…Как-то ранним утром Кумух поразила новость: “Дочь шейха Джамалутдина ушла к Аминте!” Нет – нет! Он ее не похитил, сама по собственной воле вошла в его дом. Изредка кумухские девушки так и поступали, чтобы соединить свою судьбу с любимым человеком. Но то были обычные, рядовые девушки. А тут из ряда вон случай: дочь шейха бежала из родного дома к ясиру, ханом униженному.
Шейх Джамалутдин обычно никогда не унывал и не позволял членам семьи и приближенным падать духом при любом несчастье. Но в этот день он заплакал. Не стал ни с кем говорить, Джамалутдин не позволил сыновьям принимать какие-либо меры, в тот же день он собрался и уехал в Цудахар, где и раньше находил приют, когда не ладил с кумухскими правителями. Из Цудахара шейх-вскоре уехал к имаму Шамилю. Как оказалось – насовсем! Забрал к себе и всю семью, кроме Шуанат. И не суждено ему было вернуться в родной Кумух.
Пожилая родственница Шуанат, благодарная и смелая женщина Ажа Сеид-Гусейнова, заступилась за нее, взялась за организацию ее семейного очага. Но сколько Ажа ни просила кумухских религиозных деятелей, ни один из них не соглашался скрепить брак молодых по шариату: боялись ханского гнева. Тогда Ажа отправилась к главному кадию Кумуха – Осман-кади, он был не в ладах с ханом и не считался с ним. Согласился Осман-Кади оформить брак Аминты и Шуанат, велел привести свидетелей со стороны жениха и невесты, и по всем правилам шариата оформил брак. Мужественная Ажа организовала в доме Аминты свадебный пир.
Так Аминта и Шуанат стали мужем и женой. От них и пошел род Аминтаевых, умных, красивых и одаренных мужчин, обаятельных, изящных женщин, законодательниц моды во всем округе.
Старожилы Кумуха помнят одного из внуков Аминты и Шуанат – Расула, который, говорят, как две капли воды был похож на самого Аминту не только внешностью, но и манерами и характером. Дети и внуки Аминты и Шуанат стали известными людьми не только в Дагестане, но и на всем Кавказе, славились предприимчивостью, умением вести торговое дело. Один из правнуков Аминты и Шуанат – Наби Аминтаев еще до войны, стал чемпионом мира по парашютному спорту. Он был одним из основоположников парашютного дела в вооруженных силах, что отмечено высокой наградой – орденом Ленина. Погиб он при испытаниях в 1945 году.
Другой правнук, Ибрагим Аминтаев, был известным революционером, погиб в 1921 году. В доме Аминтаевых в Кумухе установлена в его честь мемориальная плита.
… Шейх Джамалутдин не виделся с Шуанат пятнадцать лет. Он и все его дети были в гуще газавата, поднятого Шамилем. Когда понял шейх, каким будет конец их великой многолетней войны и какая участь ожидает имама Шамиля и всех его сторонников, а значит и его семью, он решил увидеться с Шуанат и проститься с ней, прежде чем покинет Дагестан. Шейх обратился с письмом к Кази-Кумухскому хану Агалару, с просьбой разрешить его дочери приехать из Кумуха в Согратль на встречу с ним. Хан разрешил. Шуанат с Аминтой поехала в Согратль. Шейх не только простил Шуанат и Аминту, но и благословил их. Это была последняя их встреча, больше им не суждено было увидеться. Шейх закончил свои дни в Стамбуле, похоронен там же. А прах Шуанат покоится в Кумухе.
Письмо старой ханши
В поисках сведений о шейхе Табахлинском я обратилась к его внучатому племяннику Сайду Мусалову, который любезно предложил мне книгу шейха и некоторые его письма. На одном из писем я обратила внимание на перстневую печать “Уму-Кусум-бика”. Неужели печать известной лакской ханши! Письмо было написано на арабском языке. Профессор А. Р. Шихсаидов и сотрудница ДНЦ РАН Д.X. Гаджиева подтвердили мои догадки и перевели письмо.
Действительно, оно было написано в 1842 году женой Аслан-хана Кази-Кумухского Уму-Кусум-бика к Абдурахману. Письмо, конечно же, представляет определенный интерес для читателя, но сначала мне хотелось бы рассказать о предыстории письма.
В 1836 году неожиданно для всех умер могущественный правитель Кази-Кумухского ханства Аслан-хан. Правил он ровно двадцать лет, заботился о своем народе, оберегал его от кровопролитных войн. Хоть и принял подданство России, потому был им любим и почитаем. Аслан-хану не было еще шестидесяти, был он крепок и здоров, его неожиданная болезнь и скорая смерть явились для всех загадкой.
В то время его старший сын Нуцал служил в русской армии в чине майора. Приехал Нуцал-хан на похороны отца уже законным ханом, назначенным русским царем. То ли оттого, что он приехал в форме русского офицера, то ли потому, что в Кази-Кумухе шла молва о его расположенности к России, уздены Кази-Кумухского ханства, возмущенные его назначением, вышли на базарную площадь. Мать Нуцал-хана Уму-Кусум-бика слыла умной, и по тем временам образованной женщиной. Она владела, несколькими языками, читала и писала по-арабски. Узнав о народном волнении, она вызвала к себе сына и поговорила с ним. Нуцал-хан быстро переоделся в черкеску, надел отцовский пояс с оружием и пошел к народу. Гордые, свободолюбивые уздены возмущённо кричали, размахивая кулаками. Казалось, вот-вот они набросятся на молодого хана. Нуцал-хан отстранил своих нукеров, которые плотным кольцом окружали его, и поднялся на возвышение.
– Братья мои, отцы мои, – обратился он к собравшимся спокойным, громким голосом. – Я вижу ваше возмущение, и понятны мне ваши подозрения. Если я служил в русской армии и носил их форму, значит ли это, что я забыл вкус материнского молока и тепло той земли, что вскормила и взрастила меня? Цель моя – ваше благополучие, ваш покой. По такому пути шел мой отец, и вам неплохо жилось при нем, и я клянусь вам не свернуть с этого пути! Толпа молчала, осмысливая услышанное.
– Да, умен молодой хан, – говорили одни.
– Может, и хитер? – отвечали другие.
Но как бы то ни было, толпа успокоилась, и все постепенно разошлись. Тогда в Кази-Кумухское ханство входили Лакия, Авария и Кюра. В Кюринском ханстве правил сын Тагир-бека (брата Аслан-хана), Гарун-бек, в Аварии – второй его сын Гаджи-Яхъя. Уму-Кусум-бика открыла сыну глаза на то, что народ еще плохо знает его, людей будоражат его двоюродные братья, которые претендуют на престол. Среди них были сыновья и второго брата Аслан-хана Омар-бека, и потому Нуцал-хану следует любой ценой найти общий язык с народом и опираться только на него, что и делал его отец. Через некоторое время, получив поддержку народа, Нуцал-хан снял правителя Аварии Гаджи-Яхъю и назначил на его место своего младшего брата Магомед-Мирзу. Но претенденты на Кази-Кумухское ханство, считавшие, что в свое время престол был захвачен Аслан-ханом не по праву, теперь стали предъявлять свои права. Среди претендентов выделялись сын Омар-бека Абдурахман-бек и сын Тагир-бека Гарун-бек, правитель Кюринского ханства.
В том же 1836 году, в августе, неожиданно для всех умер и Нуцал-хан. Умер он от непонятной, мучительной, скоротечной болезни. Возникло подозрение, что хан был отравлен. В народе началось сильное волнение. Брат Нуцал-хана Магомед-Мирзахан срочно явился из Аварии и своими обещаниями успокоил народ. Несмотря на свою бесхарактерность, Магомед-Мирза был назначен ханом Кази-Кумухским. Он получил чин полковника и инвеститурную грамоту от русского царя. Правил Магомед-Мирза-хан почти два года. Однажды, будучи по своим делам в Кюринском округе, он неожиданно заболел и умер – точно так же, как и старший брат. Внезапная смерть миролюбивого хана произвела сильное впечатление на народ.
Теперь уже не оставалось сомнений в том, что, как и Аслан-хан, его сыновья были умерщвлены политическими противниками. Из семьи Аслан-хана теперь остались Уму-Кусум-бика и малолетняя дочь Нуцал-хана Шамай-бика. Племянники Аслан-хана не замедлили предъявить свои права на престол и теперь уже не сомневались в своей победе. Но народ отверг их притязания и изъявил желание подчиниться только старой ханше. А та была убита горем, ей было не до ханства. В течение двух лет она, потеряла мужа и двоих сыновей. Уму-Кусум-бика сидела взаперти с преданными людьми и не подпускала к себе никого, боясь насилия со стороны претендентов. Старой ханше сочувствовал весь народ.
Несколько месяцев народ протестовал против разных кандидатур, выдвигаемых корпусным генералом Головиным. Тогда вакилы джамаата и Высшего духовенства явились к Уму-Кусум-бика и от имени народа просили ее взяться за государственные дела и в помощь ей выделили племянника Аслан-хана Махмуд-бека, самого лояльного из всех племянников. А в Кюринском ханстве оставался тот же Гарун-бек. Старая ханша приняла предложение народа. Абдурахман-бек и Гаджи-Яхъя, недовольные таким исходом дела, стали вновь волновать народ, за что Абдурахман-бек был вызван Головиным в Дербент и отправлен на жительство в селение Зухуль под надзор военно-окружного начальства. А Гаджи-Яхъя дал слово жить спокойно и никуда не выезжать, но впоследствии сбежал к имаму Шамилю и стал одним из его наибов.
Махмуд-бек, пользуясь тем, что старая ханша была занята оплакиванием сыновей и была не в силах взяться за государственные дела, всю власть сосредоточил в своих руках. Уму-Кусум-бика знала, что народ не любит Мзхмуд-бека, она также видела, что среди всех племянников самым подходящим и самым весомым был сын Омар-бека Абдурахман-бек. Он был грамотен, умен, образован и трезв, но честолюбив. В то время Абдурахман-бек был в изгнании. Он был не только племянником Аслан-хана, но и сыном родной сестры ханши Рукижат-бика. Рукижат-бика стала убеждать сестру, что Абдурахман-бек не имел против нее злого умысла, наоборот, хотел ей помочь. Она стала просить сестру о том, чтобы та ходатайствовала перед русским генералом об освобождении Абдурахман-бека и возвращении его в Кумух.
Уму-Кусум-бика обратилась с просьбой к главнокомандующему о назначении ханом Кази-Кумухским Абдурахман-бека. Но в этом ей было отказано. Главнокомандующий через майора Корганова предупредил старую ханшу о честолюбивых замыслах племянника. Тогда Уму-Кусум-бика стала просить о возвращении его из изгнания. В то время, пока велись эти переговоры, неожиданно умерла молодая, любимая жена Абдурахман-бека и он самовольно приехал в Кумух на похороны жены. Было это в 1841 году. После похорон майор Корганов предложил Абдурахман-беку покинуть Кумух, тот ответил дерзким отказом и оскорбил Корганова. На стороне Абдурахман-бека было немало влиятельных людей Кумуха. В это время тяжело заболела старая ханша. Все ждали ее смерти. Абдурахман-бек со своими сторонниками взял власть в свои руки и распорядился не выпускать никуда Махмуд-бека. Но старая ханша поправилась. Свое поведение в отношении Махмуд-бека Абдурахман-бек объяснил тем, что оберегал его от народного гнева.
Ханша успокоилась, но майор Корганов не забыл нанесенное ему оскорбление и сообщил о поведении Абдурахман-бека главнокомандующему, Абдурахман-бека вызвали в Тифлис. Но он не хотел ехать. Уму-Кусум-бика обнадежила его, что на этот раз он не пострадает, ибо она написала главнокомандующему в его защиту, теперь только самому Абдурахман-беку надо суметь оправдаться. А Гаджи-Яхъя тем временем, находясь под защитой имама, вел переговоры с Махмуд-беком об оказании со стороны Кази-Кумуха помощи имаму, чтобы изгнать русских из Дагестана. Майор Корганов узнал об этих переговорах и донес генералу Головину и еще добавил, что народ недолюбливает Махмуд-бека. Уму-Кусум-бика снова обратилась к главнокомандующему с просьбой о назначении Абдурахман-бека ханом Кази-Кумухским. Тогда-то она и обратилась с вышеупомянутым письмом к Абдурахман-беку в Тифлис. Вот оно:
“Вассалам от благородной правительницы Уму-Кусум-бика дорогому сыну Абдурахман-хану. Мир тебе и, милость Аллаха! Когда я добралась до наших дел и взяла в свои руки бразды правления, я была весьма довольна и бесконечно рада. Но и ты был чрезвычайно рад этим. Да порадуется тобой Аллах! Я надеюсь на твою руку, на твою поддержку. Ты должен был бы подумать в пользу моих дел, и указать мне на них, и направить меня. Прошу тебя, сын мой, не будь небрежным к моим делам, к моим правам. Мой успех, мои дела непосредственно зависят от тебя… Ты душа в моем теле, ты моя надежда и кисть руки моей. Да поддержит и подкрепит тебя Аллах всевышний славной и ясной победой, ибо побеждает только один Аллах!”
Махмуд-бек был отстранен от власти, и на его место назначен Абдурахман-бек, чтобы укрепить свое право на престол, Абдурахман-бек женился на дочери Нуцал-хана Шамай-бика. Став ханом, честолюбивый Абдурахман-бек не стал считаться с приближенными, много кутил и гулял, только считался со старой ханшей, ибо ему еще нужна была ее поддержка. Неизвестно, как бы он кончил, если не один случай. Летом 1847 года приехал из Петербурга в Кумух младший брат Абдурахман-хана Агалар-бек в чине штаб-ротмистра гвардии Его Величества. И как раз в эту пору генерал Аргутинский стоял с войском на горе Турчи-Даг, ожидая битвы с Шамилем Абдурахман-хан и Аглар-бек с войском тоже пришли на помощь генералу, чтобы не дать возможность мюридам прорваться в сторону Кумуха. Началось сражение, все усилия Шамиля были тщетны. Русские успешно отбивали все его атаки. Тогда Шамиль решил вести переговоры с Абдурахман-ханом, и велись эти переговоры совершенно секретно. Абдурахман-хану предлагалось в решающий момент ударить русских с тыла, Абдурахман-хан имел неосторожность поделиться этим с Агалар-беком, а тот не замедлил сообщить об этом Аргутинскому. Прямо на поле сражения Абдурахман-хан был отстранен от командования. Но хан не знал о предательстве брата, не знал он об этом и тогда, когда его вызвали в Тифлис к главнокомандующему. Хан не хотел ехать, но Уму-Кусум-бика, которая ничего не знала о случившемся, уговорила племянника поехать. Через месяц после отъезда Абдурахман-хана, в сентябре, Агалар-бек был назначен ханом Кази-Кумухским.
Через несколько месяцев в Тифлисе заболел и умер Абдурахман-хан. А в 1849 году скончалась много видевшая и много пережившая на своем веку старая ханша Уму-Кусум-бика.
Ханша Баху-Бике Хунзахская
“Отец мой, Сулейман Аминбину из славного рода Кадиевых, был мюридом имама Шамиля, телохранителем наиба имама Бук-Магомеда, который доводился ему двоюродным братом. После разгрома отряда Бук-Магомеда в Хайдаке отец мой был взят в плен русскими и сослан в Сибирь. Тогда ему было 19 лет. Вернулся же отец мой из Сибири в возрасте сорока двух лет. История Баху-бике Хунзахской написана мной со слов отца моего, Сулеймана”.
Аслан-хан Казикумухский и Баху-бике Хунзахская были близкими родственниками. У них был общий дед по имени Нуцалхан. Так что и у Аслан-хана, и у Баху-бике сыновья носили это имя.
Сыновья Аслан-хана и Баху-бике были очень дружны, жили то в Кумухе, то в Хунзахе.
В то время кази-кумухские и хунзахские ханы были в подданстве русского царя, получали от него чины, звания и денежную помощь. Когда имам Гази-Магомед начал газават, кази-кумухские и хунзахские ханы не поддержали его. Когда Гази-Магомед шел на Хунзах, тут же на помощь Хунзаху приходили отряды кази-кумухцев, и Гази-Магомед всякий раз проигрывал сражения с хунзахцами.
Баху-бике была дочерью Умахана Аварского и женой Султан-Ахмеда из рода таркинских шамхалов. Когда умер ее отец Умахан, за неимением у него наследников мужского пола по просьбе Баху-бике ханом был назначен ее муж, Султан-Ахмед, но владельцем земель и многих прав осталась сама ханша. Она была женщиной красивой и величавой, магнетического обаяния и очень хлебосольная, за что ее почитали хунзахцы, и не только они одни.
Султан-Ахмед правил недолго, через шесть лет правления в 1823 году скончался. Правление взяла в свои руки ханша Баху-бике. Когда ее старший сын Нуцал стал совершеннолетним, он был объявлен ханом Аварии. У него было еще двое братьев, Умахан и малолетний Булач. Была еще дочь по имени Султанат, такая же обаятельная, как и ее мать. Ее любил сын Аслан-хана Магомед-Мирза, и между Аслан-ханом и Баху-бике был уговор поженить Магомед-Мирзу и Султанат.
Нуцал-хан женился на дочери Кара-Мехти, шамхала Таркинского. После этого сын Кара-Мехти, Абу-Муслим тоже влюбился в Султанат, и подумывал на ней жениться. Кара-Мехти стал просить ханшу отдать дочь за его сына.
Услышав об этом, Аслан-хан послал к Баху-бике сватов с дорогими подарками для невесты и велел назначить день свадьбы их детей. Баху-бике же встретила гостей не совсем дружелюбно, велела их угостить кукурузным хинкалом, что не в чести у ханов. Сваты ушли обратно, не получив от ханши определенного ответа. Аслан-хан серьезно обиделся, и брат его жены, ханши Умукусум-бике, отправился в Хунзах, чтобы потребовать от ханши объяснения. На что Баху-бике ответила, что Магомед-Мирза слаб здоровьем и потому она воздерживается от этого брака. Тогда Аслан-хан объявил, что он порывает с ней всякие отношения и она сделается костью для кровожадных псов. Баху-бике же надеялась, что Кара-Мехти защитит ее при необходимости, ведь его дочь была ее снохой, теперь и его сын станет ее зятем. К тому же она надеялась этим браком вернуть земли и села ее ханства, в свое время отторгнутые от нее русскими, и переданные на владение Кара-Мехти. Султанат выдали за сына кара-Мехти. Баху-бике, подозревая, что теперь Гази-Магомед, услышав о ее размолвке с Аслан-ханом, снова станет штурмовать Хунзах, послала Нуцал-хана в Тбилиси к наместнику Кавказа просить помощи. Наместник же оказал только денежную помощь.
К тому времени имам Гази-магомед был убит в одном из жестоких боев с русскими, а его военачальник Шамиль получил тяжелые ранения. Имамом был назначен Гамзат-бек, по происхождению чанка из Гоцатля, но весьма грамотный молодой человек. Баху-бике обрадовалась этому назначению, ибо Гамзат-бек доводился родственником ее сыновей и, будучи мальчиком, обучался в Хунзахе и жил у нее. Теперь ханша надеялась, что новый имам оставит их в покое. А Гамзат-бек же не замедлил послать к ханше мюридов с теми же требованиями. По совету кадия хунзахская ханша послала Гамзат-беку ответ, мол, мы согласны принять шариат, но отвернуться от русских не советуют аксакалы Хунзаха. Услышав ответ ханши, Гамзат-бек потребовал, чтобы ханша отдала ему в аманаты одного из своих сыновей. Баху-бике, уверенная, что после этого Гамзат-бек оставит их в покое и не навредит ее сыну, отправила к нему самого младшего восьмилетнего Булача вместе с кадием хунзахским.
Но через некотрое время Гамзат-бек разбил лагерь недалеко от Хунзаха, возле реки, и послал мюридов заявить ханше, что ему недостаточно то, что они примут шариат, необходимо, чтобы хунзахцы отвернулись от русских и вместе с ними начали газават против русских, чтобы очистить Аварию от неверных.
Теперь Баху-бике поняла, какая опасность угрожает ее малолетнему сыну Булачу, находящемуся в руках врагов. Ханша велела Нуцал-хану немедленно отправиться на выручку брата. Нуцал-хан же ответил, что нельзя идти к имаму без сильного отряда, надо собрать такой отряд. Присутствующий при этом шестнадцатилетний Умахан поспешно вышел и поскакал в сторону лагеря имама, уверенный в том, что он привезет брата обратно. Но мюриды имама взяли его в плен и обезоружили. Гамзат-бек обрадовался такому случаю и потребовал от ханши прислать к нему Нуцал-хана для переговоров. В это время Нуцал-хан собирал отряд для сражения с имамом. Мать стала требовать, чтобы он отправился к имаму на переговоры и освободил братьев.
– Ты еще не поняла коварство Гамзат-беха, он хочет заманить нас всех в ловушку. Нам нельзя с такими малыми силами идти к нему, дай мне время собрать силы, – настаивал Нуцал-хан.
– Ты трус и потому медлишь. Я видела плохой сон, они там убьют твоих братьев, пока ты будешь собирать войско. Если ты немедленно не отправишься выручать братьев, тебе не будет халал мое молоко, которым я вскормила тебя! – закричала ханша. Она металась в гневе и в слезах.
– Ну что же, будь по-твоему, но теперь ты можешь потерять всех сыновей! – сказал Нуцал-хан и велел нукерам спешно собрать отряд всадников. Несколько дней ожидавшему вестей из Хунзаха Гамзат-беку стража сообщила, что на дороге из Хунзаха появился небольшой отряд всадников и направляется к ним. Гамзат-бек отослал мюридов и стал советоваться с Шамилем. Затем вышел навстречу хунзахцам и с виду радушно принял Нуцал-хана. Булач и Умахан обрадовались появлению брата. Гамзат-бек пригласил Нуцал-хана и кадия хунзахского в шатер, где находился раненый Шамиль и начал переговоры.
– Мы отдаем тебе все свои силы и объявляем тебя имамом, – начал гамзат-бек, – а я же вместо тебя пойду в Хунзах.
– Я не хапиз, не так силен в Коране, какой же из меня имам? – возразил Нуцал-хан.
– Причина не в этом, а в том, что вы неверные капиры! – воскликнул Шамиль.
Тут Гамзат-бек вскочил:
– Пора обеденного намаза, пойдемте к реке!
Все пошли к реке. А там уже совершали омовение тысячи мюридов имама. Совершив там же намаз, все пошли обратно к шатрам. По дороге Гамзат-бек хунзахских ханов называл врагами шариата и ислама, обзывая и оскорбляя их. Тут Нуцал-хан не выдержал и вытащил саблю из ножен.
– Ты посмел обнажить саблю на имама! – воскликнул телохранитель имама и выстрелом в упор свалил Умахана, идущего рядом с братом. Начался неравный бой. Нуцал-хан и его нукеры дрались отчаянно. Нуцал-хану снесли, ударом сабли левую щеку. Прикрыв истекающее кровью лицо одной рукой, Нуцал-хан продолжал сражаться. Силы были неравны, хан получил множество ранений, его нукеры были перебиты, и обескровленный и обессиленный он упал. Мюрид по имени Чупан отвез восьмилетнего Булач-хана в селение Гимры, а Гамзат-бек тут же отправился в Хунзах. В это время с крыши ханского дома ханша Баху-бике с домочадцами смотрела на дорогу, где должны были появиться ее сыновья. Когда на дороге появился Гамзат-бек с мюридами, ханша спустилась с крыши. Мюриды без всякого препятствия со стороны хунзахцев подошли к ханскому дому. Баху-бике в черной одежде, величавая и встревоженная, вышла навстречу Гамзат-беку.
– Поздравляю, сынок, тебя с высоким чином и титулом, – начала ханша, еле улыбаясь. – Ты ведь для меня, как сын…
Тут Гамзат-бек сделал знак мюриду, стоящему с правой стороны ханши, и тот одним взмахом сабли снес ей голову. Все еще улыбающаяся голова ханши покатилась к ногам Гамзат-бека.
– У нас не было уговора уничтожать хунзахских ханов, почему ты поспешил? – возмутился Шамиль.
– Иначе нельзя, – был ответ имама.
– Теперь у тебя много врагов в Хунзахе, они любили ханшу и ее сыновей, тебе нельзя оставаться здесь, езжай к себе в Гоцатль, а я здесь останусь, – предложил Шамиль.
– Кто должен владеть богатством хунзахских ханов, ты или я? – возмутился Гамзат-бек.
Решено было все богатство ханов перевезти в Гоцатль. Но ханская казна оказалась пустой, а все остальное перевезли в Гоцатль на арбах.
Через некоторое время Гамзат-бек снова появился в Хунзахе.
– Мне легче вести газават из Хунзаха, чем из Гоцатля, я хочу остаться в Хунзахе, – заявил он.
– Ты выжил из ума, если решил осесть в логове кровников своих, одумайся! – советовал ему Шамиль.
– Я их уже поставил на колени, они не посмеют поднять руку на меня! – не сдавался Гамзат-бек.
– Раз так, оставайся ты здесь, я же уйду, – сказал Шамиль и ушел со своим отрядом.
Однажды в Хунзахе один старик по имени Мусалав сидел возле окна и прикуривал трубку, а его взрослые внуки Осман и Хаджи-Мурад в глубине комнаты хвастали, что они самые ловкие и самые сильные, что никто не сможет победить их в состязаниях.
– Вы разве мужчины, что вы можете? – сказал им старик с издевкой. – Ведь сын Баху-бике, Умахан, приходится вам молочным братом, а вы работаете с убийцами своего брата. Я хоть и старик, покажу вам как следует поступать с кровниками!
– Успокойся, дед, пока мы живы тебе нет необходимости браться за оружие, – сказали внуки и в тот же вечер обошли все дома хунзахских мужчин. Решено было расправиться с имамом, когда тот придет в мечеть. Среди хунзахцев был родственник Гамзат-бека, который и предупредил имама о готовящемся заговоре. Гамзат-бек приказал мюридам не пропускать в мечеть никого с оружием. Мюриды были бдительны. В одну пятницу хунзахские мужчины заранее спрятали в мечети оружие, а на пятничную молитву явились в бурках. Когда появился во дворике мечети Гамзат-бек, Осман крикнул:
– Мусульмане, что же вы не встаете, когда появляется имам?!
Все вскочили. Выстрелом в упор Осман убил имама, но и его самого свалили мюриды. Началось сражение. Остатки мюридов укрепились в ханском доме. Хунэахцы обложили дом соломой и подожгли. Мюриды выскакивали из окон. Хунзах был очищен от мюридов. Желая отомстить за имама, мюриды поскакали в Гимры за малолетним Булач-ханом. Чупан не хотел отдавать мальчика, напоминал, что Коран запрещает поднимать руку на детей, но мюриды забрали мальчика. Повели его к реке. А там купались ребята. Мюриды велели им затащить Булача в воду, знали, что мальчик не умеет плавать. Ребята затащили Булача на середину бурной реки и бросили. Булача стали накрывать бешеные волны.
– Мама! Мама! – кричал, мальчик, когда его голова оказывалась поверх воды. Но никто не поспешил на его крики.
Так мюриды расправились с последним наследником хунзахских ханов.
Вскоре наместник Кавказа в Тифлисе назначил молодого Хаджи-Мурада временным правителем Хунзаха, хоть он и был по происхождению простым узденем.
Супруга майора
Из истории лакского и аварского народов, из стихов Щазы курклинской дошло до нас имя Шагун – прекрасной женщины Кази-Кумухского округа второй половины XIX века.
Рассказывают, что в середине прошлого века в Кумухе жил известный и искусный ювелир – Абдулгафур из тухума Халиловых, начало которого идет от эмиссара Аль-Халила, прибывшего в эти края из Египта еще за несколько веков до этого. После смерти отца Абдулгафур содержал мать и двух молодых сестер, Муслимат и Мукминат, свою жену и пятерых детей. Он ездил по Кавказу и за границу продавать свои изделия и возвращался с новыми заказами.
После смерти Агалар-хана, Абдулгафур вернулся в Кумух. Сестру Муслимат нашел к тому времени овдовевшей с тремя детьми, в большой нужде. Абдулгафур забрал ее с детьми к себе. Так сыновья Муслимат Минкаил и Махдимагомед и ее дочь Шагун стали жить в семье дяди.
После окончания Кумухского медресе обоих племянников и своих сыновей Ибрагимхалила и Юсуфа Абдулгафур устроил в реальное училище в Темир-Хан – Шуре, записав их на фамилию Халиловых. Через два года повез туда же, в женскую гимназию и Шагун, а своих троих дочерей выдал замуж. После окончания реального училища Юсуф захотел стать ювелиром, а остальных ребят Абдулгафур повез в Париж на учебу. Минкаил и Махдимагомед стали учиться там в военной академии, а Ибрагимхалил – в инженерном институте. Кстати, с Минкаилом вместе учился и Ататюрк, сохранилась их совместная фотография.
Но нас больше интересует судьба Шагун. После окончания женской гимназии братья забрали Шагун в Париж в пансион благородных девиц. Окончив учебу в Париже, братья стали служить в русской армии, а сестру привезли в Кумух.
Вскоре Шагун стала в Кумухе любимицей всех девушек. Она обучала их грамоте, рукоделию, манерам хорошего тона. Тогда в Кумухе еще не знали, что такое театр, потому Шагун стала обучать девушек ставить маленькие сценки и показывать их кумухским женщинам, которые нередко собирались к ним на вечерние посиделки. Была Шагун и прекрасной хозяйкой, умела готовить, шить, принимать гостей.
В это время в Кумухе жил овдовевший сын шейха Джамалутдина – майор Абдурагим, бывший зять имама Шамиля. Работал он шариатским судьей округа. Весной, когда Абдулгафур вернулся из очередной своей поездки домой, по местному обычаю вместе с другими кумухскими мужчинами зашел к нему и Абдурагим. Увидев перед собой блюда, которые он видел в домах русских аристократов, а в Кумухе никогда их не готовили, майор спросил Абдулгафура, откуда он привез себе повара. Сидящие рядом мужчины рассказали ему, что эти блюда готовит его племянница Шагун, обучавшаяся в Париже. Вскоре он нашел возможность познакомиться с самой Шагун. Ее ум, начитанность и обходительность покорили его. Решив на ней жениться, послал он к ней свою родственницу, чтобы узнать ее мнение. Шагун ответила, что она поступит так, как ей скажет Абдулгафур и ее братья.
Абдулгафур и братья Шагун тоже дали согласие, и Сеид Абдурагим женился на ней. Но прежде чем привести молодую жену в свой дом, он привез в дом мебель и утварь, которыми пользовались русские аристократы. Племянница Шагун, Асват Халилова, которая сейчас живет в Махачкале, рассказывает, что все кумухцы ходили к Абдурагиму и Шагун полюбоваться новой обстановкой.
Абдурагим очень любил Шагун. Сохранилась их совместная фотография, на которой рукой Абдурагима написано: “Не чудо ли твоя высота и благородство, не волшебство ли моя любовь к тебе?!”
Однажды Абдурагим и Шагун услышали о талантливой девушке – певице Щазе, которую братья выгнали из родного аула Куркли и которая теперь жила у знакомых в соседнем селе. Супруги решили взять эту девушку к себе. Щаза была очень талантлива, сама сочиняла слова на свои песни и бесподобно их исполняла. В доме майора собирались люди слушать песни Щазы. Однажды супруги получили письмо из Парижа от Даллаевых, которые имели там свой посудный магазин. Они просили Абдурагима и Шагун приехать к ним в гости и непременно привезти с собой Щазу. Вскоре в Париже все лакцы и дагестанцы собирались слушать песни Щазы, дарили ей много подарков.
Лет пятнадцать прожили Шагун и Абдурагим в любви и согласии, пока майор внезапно не скончался. Через год Шагун по просьбе братьев и их семей переехала жить в Темир-Хан-Шуру. Ее брат Минкаил Халилов был тогда уже в чине генерала и пользовался большой популярностью в Дагестане и в России, женат он был на дочери чеченского правителя генерала Алиева Хабире, которая тоже получила европейское образование. Шагун жила в Темир-Хан-Шуре в особняке. Ее часто навещали братья с семьями. К ней ходили за помощью – написать письмо, прочитать и составить заявлении или документ и просто за советом. По соседству был дом начальника почтовой связи Дагестана Ризвана Мавраева. Он жил там одни с прислугой, а жена Хадижат с детьми жила в Чохе. Как раз в то время он занимался делами своего племянника Магомед-Мирзы, который решил открыть типографию в Темир-Хан-Шуре, и Минкаил Халилов помогал ему с переговорами с русским правительством. Бывая с Минкаилом в доме Шагун, Ризван влюбился в нее. Дочь Ризвана Тавус – ей уже более 90 лет, которая сейчас живет в Махачкале со своей дочерью по имени Шагун, вспоминает, что ее родителей, Ризвана и Хадижат, поженили без их согласия и любви. Мать так и не переехала к мужу в город, и у них были весьма холодные отношения, что и послужило поводом к тому, что ее отец так серьезно влюбился в Шагун. Но Шагун после смерти мужа не думала о замужестве и несколько лет возвращала всех сватов, которых посылал Ризван. Лишь после многих уговоров уважаемых ею людей она наконец дала согласие.
Дети Ризвана очень любили мачеху. Она была добра и великодушна, умна, обучала всех их грамоте, они учились в реальном училище и жили с отцом в Темир – Хан – Шуре, как рассказывает Тавус, и из-за большой любви к ней она дала уже своей дочери имя Шагун.
В годы революции братьев Шагун преследовали. Минкаил уехал за границу, его пригласил к себе Ататюрк. Семью с детьми он не смог забрать к себе, ее сослали. Других братьев арестовали, и они пропали без вести. Такие удары судьбы не выдержало сердце Шагун, и она умерла. Ризван похоронил ее в Темир-Хан-Шуре.
Бегство из Тегерана
В начале прошлого столетия много дагестанских мастеров работало в Средней Азии. Известный тогда ювелир Абдулмеджид Мамедов из селения Дучи Кази-Кумухского округа работал в Ашхабаде, имел там свой особняк с большим садом, бассейном и зоопарком.
Рядом с домом располагались ювелирные мастерские и магазины. Владея несколькими языками: русским, персидским, турецким, арабским, Абдулмеджид свободно общался с людьми разных национальностей, имел много друзей, в том числе и из высокопоставленных чиновников. Все его друзья и знакомые приводили своих детей полюбоваться диковинными птицами и зверями его домашнего зоопарка.
А своих детей у Абдулмеджида было семеро: четверо дочерей – Абидат, Басират, Фируза, Айшат, и трое сыновей – Шевкет, Хаджимурад и Чингиз, старшие из которых обучались в светской и мусульманской школах. В начале века произошла революция в России, затем и в Средней Азии, новые власти конфисковывали все ювелирные магазины, мастерские, всех имущих раскулачивали, ссылали. Благодаря влиятельным друзьям Абдулмеджид с семьей остался на свободе, хотя лишился магазина и мастерских. Частенько к ним являлась милиция, требуя золота и денег, делала обыски и, когда ничего не находила, отбирала то, над чем в тот момент Абдулмеджид работал. Жена Абдулмеджида, Гулизар была искусной швеей, сама обшивала всю семью и в одежду детей зашивала драгоценности. Пуговицы же на платьях дочерей и на своих платьях она делала из драгоценных камней, сверху обшитых материей. Когда же милиция являлась с обыском, она быстро одевала детей и со словами: “Идите, погуляйте и не мешайте гостям!” – отправляла их на улицу.
Однажды, поздным вечером к Абдулмеджиду пришел его друг начальник НКВД. Самовар на столе все еще кипел, Гулизар стала накрывать на стол. Когда Абдулмеджид жестом пригласил гостя к столу, тот тихо сказал:
– У меня нет времени. Абдулмеджид, я получил приказ о твоем аресте. Теперь я ничем помочь не смогу, разве только тебе с семьей исчезнуть. В эту же ночь вам нужно уйти из города, лучше всего перебраться в Иран, а провожатых я к тебе пришлю через час.
Гость тут же ушел. Абдулмеджид был готов на все ради спасения семьи, и потому велел всем быстро собраться в дорогу. Вскоре пришли четверо провожатых, которые в один миг сняли ковры со стен, закатали в них младших детей и каждый понес по ковру с ребенком, а остальные взяли в руки то, что сумели нести, и вышли, оставив горящие лампы, накрытый стол и питомцев зоопарка.
Ночь была темная, все шли быстро и молча. Через некоторое время ребята заметили, что за ними бежит их любимая собака. Один из провожатых вынул нож и со словами: “Она нас выдаст!” – пошел к ней. Но ребята обняли пса и Абдулмеджид велел попутчику спрятать нож. Так собака молча следовала за ними, как будто понимала смысл происходящего.
Через несколько дней они дошли до границы Ирана. Поднявшись на гору, провожатые сказали, что дальше простирается иранская земля, а они должны вернуться назад. Абдулмеджид расплатился с ними, а потом спустились с горы, внизу расстелили ковры, сели отдохнуть до утра.
Шел 1930-й год. Много народу из Средней Азии таким способом переходило границу. Добравшись до ближайших деревень, Абдулмеджид без труда нашел таких же беженцев, как и они сами, которые тепло их приняли, даже уговаривали обосноваться возле них. Абдулмеджид же непременно хотел добраться до Тегерана, ибо знал, что его друг, известный ювелир Сиражутдин Гаджиев в то время работал при дворе иранского шаха Реза Пехлеви. Тогда на Востоке шла молва о шахской короне изумительной красоты, изготовленной Сиражутдином. Эта корона и в наши дни находится в экспозиции музея в Тегеране и значится как работа мастера Сиражутдина Гаджи-заде.
Абдулмеджид нанял два фаэтона и отправился в Тегеран. Там тоже без труда нашел знакомых, у которых остановился временно, а следующим утром отправился во дворец Реза Пехлеви в поисках друга. Сиражутдин встретил его радушно, пригласил с семьей к себе в дом, расположенный в десяти минутах ходьбы от шахского дворца. Через некоторое время Абдулмеджиду удалось купить дом в том же районе, где можно было разместить и мастерскую, и магазин.
Гулизар настояла на том, чтобы непременно был организован для нее швейный цех. Приобрели швейные машины пригласили опытных мастериц, стали на заказ обшивать иранских аристократок. Швейный цех стал приносить доход. Абдулмеджид же открыл ювелирный цех, где работали наемные мастера и его сыновья. Он намеревался отдать детей учиться, но необходимо было в совершенстве владеть персидским языком, и потому наняли репетиторов для обучения детей языку. Через год старшие дочери Абидат и Басират пошли учиться в медицинский колледж, сыновья стали учиться в светской школе, младших девочек отдали в мусульманскую школу.
Через несколько лет жизнь семьи Абдулмеджида наладилась, у них появилось много друзей и знакомых, но Гулизар не переставала напоминать мужу, что им необходимо вернуться на родину к своим родным, и дочерей выдать замуж за своих, и сыновей женить на своих. Они надеялись, что в России жизнь наладится, и все станет на свои места, но вести, которые доходили до них из России, были неутешительные.
Когда их старшую дочь Абидат стал сватать иранец, Гулизар наотрез отказала и сказала всем дочерям, что они должны создать семьи только на родине. Через несколько месяцев иранец похитил Абидат, и родителям в чужой стране ничего не оставалось, кроме как согласиться на их брак. Замужество дочери сильно расстроило родителей, и Абдулмеджид стал искать возможности возвращения на родину.
Сиражутдин частенько заходил к ним, и при его появлении Абдулмеджид выходил ему навстречу со словами:
– Вот и появился наш друг, как солнце в пасмурный день, теперь и у нас станет тепло! – И тут же ребята ставили самовар, девочки накрывали на стол, во всем доме звучала лакская речь и лакская музыка. Абдулмеджид и Сиражутдин хорошо играли на струнных инструментах. Сиражутдину в то время было за сорок, и он не был женат. Ему нравилась вторая дочь Абдулмеджида Басират, которой тогда исполнилось только шестнадцать лет. Но гулизар напоминала мужу, что она не собирается оставлять в Иране ни кого из детей, даже замужнюю Абидат. Мать смущала и большая разница в возрасте ее дочери и Сиражутдина. Впоследствии вышедшая замуж за парня из Кумуха Басират, говорят вспоминала, как на одном из торжественных вечеров в Иране, где присутствовала и их семья, Сиражутдин пригласил ее танцевать. Тут же строгий взгляд матери вынудил ее отказать Сиражутдину, и она обеими руками вцепилась в стул, на котором сидела. А Сиражутдин поднял ее вместе со стулом и понес в танце по всему залу.
Сиражутдин тоже стал искать пути для возвращения на родину, но ему сообщили влиятельные друзья, что он числится в списках КГБ как белогвардеец и изменник родины. По возвращении на родину его могли расстрелять.
В Советской России началась Великая Отечественная война. Иранское правительство назначило Сиражутдина своим послом в Индию. После окончания войны в России при сыне шаха Реза Пехлеви, Мухаммеда Реза Пехлеви, Сиражутдина отозвали из Индии, и шах его назначил своим первым визирем и советником. Не прошло и полгода, как в его машину бросили бомбу, в результате чего погиб шофер, а сам он с тяжелыми ранениями попал в госпиталь.
Абдулмеджид был сильно встревожен случившимся, стал подумывать о возвращении на родину. Сиражутдин поправился, стал заниматься своими делами, но его теперь не покидала мысль, что покушение на него могут повторить, и потому составил завещание, в котором половину своего состояния завещал своим братьям и сестрам, проживающим в Дагестане. Гулизар отправила старшего сына Шевкета и дочь Фирузу с двумя таджиками, направляющимися нелегально в Среднюю Азию, и велела им сообщить ей любым способом о своей судьбе. Через два месяца Гулизар получила весть от детей. Те давали понять, что там холод и голод, нелегальных эмигрантов сажают, и им приходится выдавать себя за дагестанцев, прибывших на заработки.
Однажды ночью Абдулмеджида разбудили соседи и сообщили страшную весть. Его друга Сиражутдина зарезали бандиты. Это зверское убийство всколыхнуло весь город. Шах объявил траур и организовал пышные похороны. Это случилось в мае 1947 года. В эти же дни Гулизар стала собирать всю семью в дорогу. Сколько ни уговаривал ее Абдулмеджид подождать хоть несколько месяцев, пока он добьется разрешения на легальное пересечение границы, Гулизар не прислушалась. Она была убеждена, что ее взрослые сыновья Чингиз и Хаджимурад сумеют их защитить. Абдулмеджиду пришлось срочно искать провожатых до границы. К нему прислали двух иранцев, знающих дорогу. Он оплатил им часть положенной платы, остальные обещал отдать, когда он получит знак о пересечении границы его семьей. Абдулмеджид дал сыновьям карманные часы с крышкой с тем, чтобы они отправили их обратно к нему в знак благополучного перехода границы. Если же провожатые станут их беспокоить, то нужно было загнуть одну стрелку часов, и он поймет все. Самому Абдулмеджиду необходимо было остаться, чтобы продать дом, магазин и мастерские. Он просил жену оставить с ним хотя бы одну из дочерей. Но Гулизар не согласилась, она забрала даже замужнюю дочь Абидат с двумя маленькими дочерьми. До пограничных гор Абдулмеджид нанял им фаэтоны, а по горам их должны были провести провожатые.
Гулизар велела детям разговаривать между собой только на лакском языке и стараться не дать понять провожатым, что они владеют персидским. Когда слезли с фаэтонов, каждый понес поклажу, стали подниматься по горным тропам. Гулизар услышала, как провожатые разговаривали между собой на персидском языке о том, что надо бы их всех переутомить, чтобы они заснули крепким сном. Она поняла, что их хотят зарезать. Предупредила сыновей, чтобы они были начеку и спали по очереди. Когда они заметили, что провожатые их ведут вокруг одной и той же горы в третий раз, Гулизар отдала им золото, чтобы они не мучили их. Так они добрались до пограничной горы, провожатые показали вдалеке – советский погранпост. Чингиз загнул обе стрелки отцовских часов и отдал провожатым, чтобы те передали отцу, чтобы тот расплатился с ними. Когда провожатые ушли, мать посоветовала всем отдохнуть, дождаться ночи. Но мучимые жаждой дети увидели внизу, в ущелье, длинные желоба с водой и помчались напиться. Не успели все спуститься к воде, как услышали где-то сбоку громкий окрик:
– Стойте, стрелять буду!
Это оказались советские пограничники, которые шли напоить своих лошадей. Чингиз и Хаджимурад объяснили им на русском языке, что они бывшие жители Ашхабада и направляются туда, ибо там их дом.
– Ашхабада нет, разве вы об этом не знаете? – сказали пограничники и повели их на заставу. Мать успокоила детей, сказала, что русские их не убьют, если бы они попали на заставу персов, то их бы наверняка уничтожили и ограбили. На заставе их покормили, выделили комнату для ночлега. Они были удивлены, что пограничники их даже не обыскали, только отняли кинжалы у ребят.
На следующий день их отправили в город, где должен был состояться суд. И на суде они рассказали о том, что они бывшие жители города Ашхабада, уезжали в Иран на заработки и теперь возвращаются обратно. На суде им объяснили, чтобы проверить правдивость их показаний, нужно время, и потому они должны пока сидеть в тюрьме. Прошло две недели, и их снова повели на суд, где им вынесли приговор: два года тюремного заключения всей семьей. Гулизар, наслышанная о тюремных беззакониях, стала плакать и просить, чтобы для всей семьи выделили одну камеру. Но тюремное начальство стало распределять их в разные камеры. Гулизар сняла с себя и дочерей драгоценности и положила на стол начальника тюрьмы. Это возымело действие: для женской половины семьи выделили одну камеру, а парней посадили в другую.
В женской половине тюрьмы работали женщины, очень грубые, в кирзовых сапогах и в мужских фуфайках. Они с удивлением рассматривали шелковые чулки и изысканную одежду новых арестанток. Чтобы их задобрить, Гулизар отдала им кое-что из своей одежды, даже удалось договориться с одной из них отправить о них весточку в Иран к Абдулмеджиду, обещав за это услугу золотую монету.
Абдулмеджид к тому времени продал всю свою недвижимость и хлопотал о выдаче ему разрешения для поиска семьи. Он услышал, что в горах на границе зарезали какую-то семью, но когда получил известие, что его семья арестована, даже обрадовался этому. В конце концов Абдулмеджид всеми правдами и неправдами добился разрешения на легальное пересечение границы.
Впоследствии их дочери вспоминали, как мать, которая в своей жизни не проронила слезинки и держала бразды правления семьи в своих руках, при появлении возле тюремной камеры мужа бросилась к нему и навзрыд заплакала:
– Абдулмеджид, ради Аллаха, спаси нас! – повторяла она.
– Ты бежала сюда, чтобы бросить моих детей в тюрьму!? – отчитывал ее Абдулмеджид.
Абдулмеджид добился, чтобы всю семью перевели на вольное поселение, на сельскохозяйственные работы. Затем разыскал Шевкета и Фирузу и поехал с ними в Ашхабад, там, в своем доме, перед бегством в Иран он зарыл часть золота и надеялся теперь найти его. Хотя и слышал он о землетрясении, в Ашхабаде, но не думал, что там все стерто с лица земли. То, что он увидел на месте когда-то красивейшего города, его потрясло. Не было ни домов, ни улиц, все в развалинах и ямах. Он не смог даже приблизительно найти ту улицу, где был его дом. А город собирались восстанавливать, Абдулмеджид тоже решил вновь обосноваться в нем. За несколько лет ему удалось построить дом и собрать всю семью. Поскольку здесь иранские дипломы не признавались, пришлось детям заново учиться и получать советские дипломы. Басират и Айшат выдали замуж за родственников в Кумух, остальные дети обустроились там же.
В наши дни в Кумухе живут дети и внуки Басират и Айшат.
Шейх-Райханат
Четырнадцать поколений тому назад, как гласит народное предание, на Дагестан напали племена Гоги-Магоги. Укрепление за укреплением захватывали они в горах. Когда страшные племена подошли к Кумуху, все мужчины и юноши старше четырнадцати лет с оружием в руках вышли на базарную площадь Кумуха, что была расположена как раз над той дорогой, на которой должен был появиться враг. А на крышах кумухских домов выросли горки камней, которыми женщины и дети собирались закидать врагов. Над площадью, возле озера, жила женщина по имени Райханат, мать четырех сыновей, самому старшему из них было двадцать четыре года, а самому младшему – четырнадцать лет. Муж ее давно погиб, и Райханат одна растила и воспитывала сыновей. И в тот день все ее сыновья вышли на поле сражения, а мать с Кораном в руках стояла на улице, молитвой провожая своих и чужих сыновей, подбадривая их, вселяя в их души волю к победе. Но вот на противоположной стороне Кази-Кумухского Койсу в местности Яртаар показались несметные полчища завоевателей, однако никто из кумухцев не дрогнул.
Райханат поднялась на крышу своего дома, стала молиться, прося помощи Аллаха защитникам родной земли и родного очага.
Когда враги стали подниматься из ущелья, в них полетела лавина глыб и град камней. Стеной стояли кумухцы, поражая врагов своей храбростью и отвагой.
Сыновья Райханат из огня сражения видели свою мать, стоящую, словно знамя, на крыше дома. Через некоторое время с поля сражения принесли тело убитого сына и положили во дворе ее дома. Райханат увидела это, однако с крыши не спустилась. Не прошло и часа, принесли тело второго ее сына, положили возле первого. Райханат продолжала свою молитву. Женщины удивленно смотрели на нее, поражаясь ее терпению и воле. Затем принесли тело и третьего сына. Но и тогда Райханат не спустилась с крыши. Наконец, одна из женщин, не выдержав, крикнула ей:
– За кого же ты молишься, горемычная, на кого ты смотришь, ведь тела твоих троих сыновей лежат у тебя во дворе?!
– На поле сражения моих сыновей еще много, за них я молюсь, на них я смотрю, они не должны знать о том, что их братья погибли! – ответила Райханат.
На закате принесли тело и последнего сына. Тут Райханат молча спустилась с крыши, взяла в обе руки сабли своих мертвых сыновей и вышла со двора, причитая: “Аллах всемогущий, ты мне помоги! Аллах всемогущий, ты мне помоги!” Она бежала к полю сражения, размахивая саблями, глаза и лицо ее горели огнем ненависти и мести. Она не слышала ни удивленных возгласов женщин, ни предостерегающих окриков мужчин. Усталые изможденные враги поразились, увидев женщину, сметающую все на своем пути. Аллах ли ей помогал или какая другая сверхъестественная сила в нее вселилась, она крошила врагов направо и налево.
С головы Райханат слетело покрывало, затем и волосник, изодралась вся одежда, лицо ее и руки стали красными от крови, но она отчаянно продолжала драться. Когда же Райханат получила тяжелое ранение и уже не могла больше держаться на ногах, она повернулась к селению и крикнула женщинам:
– Сестры! Возьмите же саблю из моих рук, не дайте ей упасть!
И в одно мгновение все женщины с криками и проклятьями бросились на поле сражения, схватив оружие погибших мужчин. Они дрались смело и отчаянно. Увидев это и мужчины с новой силой обрушились на захватчиков. Те, не выдержав такого натиска, бросив все, побежали вниз к ущелью. За ними полетели тела их мертвых соплеменников.
Райханат вынесли с поля сражения и принесли домой. Рана была смертельной, но, благодаря своему крепкому здоровью, она прожила еще несколько дней. Народ похоронил ее как святую, как шейха, и на могиле поставили памятник для поколений. С тех пор ее называют Шейх Райханат.
“Женщины любят храбрых, а храбрые ласкают меч”
Профессор Солтанмурад Акбиев на страницах “Дагправды” рассказал о жизненном и творческом пути братьев Мусаясул Манижал из Чоха, я же хочу рассказать о родственных связях Мусаясул с Кази-Кумухскими ханами и беками.
В 1844 году Умму-Кюсум-бика (вдова Аслан-хана) обратилась с ходотайственным письмом к наместнику русского царя на Кавказе графу Воронцову в Тифлисе о пожаловании Абдурахман-хану, правившему тогда в Кази-Кумухе, высочайшей грамоты на ханское достоинство. Письмо это в переводе с арабского профессором Амри Шахсаидовым я опубликовала в 1993 году в “Дагестанской правде”.
Абдурахман-хану было отказано. Более того – он был вызван в ставку Воронцова и взят под стражу. Оказывается, графу стало известно о тайных связях Абдурахман-хана с имамом Шамилем.
Младший брат Абдурахман-хана, ротмистр гвардии Его Величества Агалар-бек поехал в Тифлис, чтобы вызволить брата, но, встретив там на службе у графа своего знакомого Магомед-бека Манижал из Чоха, с которым в Тифлисе он еще ближе сдружился, стал просить его походатайствовать перед графом о назначении ханом Кази-Кумухского ханства себя. Пробыв в Тифлисе несколько месяцев и не получив определенного ответа, Агалар-бек уехал в Петербург.
Абдурахман-хан умер в заточении в Тифлисе. В 1847 году благодаря стараниям Магомед-бека Манижал Агалар-бек стал правителем Кази-Кумух-ского ханства. Вскоре приехал в Кумух поздравить Агалар-бека с высоким назначением офицер царской армии, близкий друг Магомед-бека Манижал Чарин Чаринов. Он же сообщил хану о прибытии Магомед-бека в Чох. Тут же Агалар-хан с Чарином и с большой свитой нукеров поехал в Чох. Там хан преподнес в дар Магомед-беку несколько десятков гектаров земли в окрестностях селения Ури, на границе с Аварией. Эта земля и нынче называется землей Манижал Чохского.
Узнав в Чохе, что у Магомед-бека есть сестра необыкновенной красоты, Агалар-хан как бы в шутку намекнул ему, что хотел бы с ним породниться. Получив в ответ молчание, Агалар-хан по возвращению в Кумух послал в Чох знатных людей просить руки сестры Магомед-бека красавицы Мури. Хан получил согласие, и вскоре состоялась свадьба, по тем временам весьма пышная.
Но ханская родня не была в восторге от этого брака. Дело было в том, что Умму-Кюсум-бика после смерти Абдурахман-хана напомнила Агалар-беку, что он, по общепризнанному адату, теперь должен жениться на вдове Абдурахман-хана, дочери Аслан-хана и Умму-Кюсум-бике, Шамай-бике. Не прошло и года после свадьбы, как Мури умерла скоропостижной, загадочной смертью. Похоронили ее в Кумухе на ханском кладбище. А в народе шел шепот об ее отравлении. После этого Агалар-хан женился на Шамай-бике.
В 1877 году в русско-турецкой войне, при взятии крепости Каре, Магомед-бек пал смертью храбрых. Участник этого сражения Чарин Чаринов рассказывал впоследствии близким о его героической смерти. Кавалер орденов Георгия и Владимира Магомед-бек Манижал был похоронен с высокими воинскими почестями. На его сабле, говорят, была надпись: “Женщины любят храбрых, а храбрые ласкают меч”.
У Магомед-бека Манижал было двое сыновей – Исрафил-бек, Джофар-бек и дочь Мури, названная именем его сестры, умершей в Кумухе. Оба его сына несли службу в гвардии Его Величества. Исрафил-бек, как и отец, был награжден орденами Георгия и Владимира. По установленному российским правительством правилу жаловать потомственное дворянское звание лицам, награжденным высокими военными орденами, семья Манижал Мусаясул из Чоха тоже получила потомственное дворянское звание со всеми надлежащими привилегиями.
У Исрафил-бека было пятеро сыновей: Махмуд-бек, Халил-бек и другие и дочь Патимат. Сыновья обучались в кадетских корпусах и в военных училищах, как дворяне за казенный счет. По окончании службы в Петербурге Исрафил-бек был направлен работать наибом Кази-Кумухского округа. Там он отдал свою дочь Патимат замуж за известного на Северном Кавказе оружейника, у которого были свои мастерские во Владикавказе, – Магомеда Гузунова. Их правнуки здравствуют и ныне. Одна из них – мать известного профессора Гамида Рашидовича Аскерханова. Халил-бек Мусаясул тоже жил в Кумухе, сдружился с Мугутдином Чариновым.
В 1901 году от скоротечной легочной болезни скончался в Кумухе Исрафил-бек. Похоронили его в Чохе. В год смерти Исрафил-бека в Кази-Кумух был направлен наибом его младший неженатый брат Джофар-бек. В то время в Кумухе жил известный ювелир из знатного рода Баратовых, Давуд, который имел свой ювелирный магазин в городе Саратове. Своих дочерей: Пирдаус, Рукижат и Сахив он отдал учиться сначала в Кумухскую светскую школу, затем в гимназию в Темир-Хан-Шуре. Жену Тату-биче и дочерей одевал по-царски. Давуд имел в Кумухе земли и одну пашню ежегодно он отпускал под зеленый горох, для съедения всем желающим.
Однажды Пирдаус с сестрой пошли угощать своих гостей зеленым горохом в поле. Когда они ели горох, мимо них на коне проезжал наиб Джофар-бек. Он обратил внимание на изящно и со вкусом одетую красивую девушку, слез с коня и спросил, чье, мол, это поле. Ему ответила Пирдаус. Наиб нарвал пригоршню гороха и пошел дальше, придерживая коня за уздечку. После этого наиб стал появляться в окрестностях дома Баратовых. По приезду из Саратова Давуда наиб зашел к нему и намекнул о дочери. Но Давуд определенного ответа не дал и вскоре уехал обратно. Наиб послал сватов к Давуду в Саратов. Оттуда наиб написал жене, чтоб засватали Пирдаус за того, за кого она желает, перечислил всех, кто ее сватает и обещал приехать через пару месяцев.
Пирдаус выбрала Джофар-бека. Приехали чохцы с музыкой, в свадебных нарядах, одна женщина несла серебряный поднос, полный золотых украшений. Совершив обрядовый танец возле дома Давуда, они вошли в дом и сказали, что пришли не удивить кумухцев, которые имеют ювелирные магазины, этими украшениями, а пришли положить золотую монету на язык той девушки, которую полюбил Джофар-бек и которая ответила ему согласием. Сыграли свадьбу и зажили они счастливо, но через год от несчастного случая погиб Джофар-бек. Хоронили его в Чохе. Когда через несколько месяцев Пирдаус с матерью собралась ехать обратно в Кумух, родственники Джофар-бека запричитали, как в день похорон его. Пирдаус уехала, но чохцы частенько навещали ее, заехал к ней прибывший из Петербурга полковник русской армии молодой Магомед-бек, старший брат Халил-бека Мусаясул. Магомед-бек в свое время окончил кадетский корпус, затем Александрийское военное училище, в первую мировую войну командовал Новобаязетским полком в составе Брусиловского соединения, который во главе с отважным командиром – дагестанцем совершал героические подвиги и смелые рейды на позиции противника. В знак успешного прорыва соединения и проявленную храбрость полковник Магомед-бек Мусаев был награжден орденом Владимира 1-й степени. Магомед-бек был ранен в боях трижды пулей и дважды штыком. В дальнейшем он был награжден почти всеми орденами и крестами русской армии; теперь Магомед-бек был направлен командиром Шамилевского полка, дислоцированного в Темир-хан-Шуре. Когда родные предложили Магомед-беку обзавестись семьей, он ответил, что ему нравится Пирдаус и женится только на ней. Ей было тогда всего 18 лет, а ему – 30. Чохцы снова поехали в Кумух сосватать Пирдаус за Магомед-бека. Так Пирдаус теперь стала женой Магомед-бека Мусаясул. Они стали жить в Темир-Хан-Шуре. Там же жил и работал главным художником в типографии Магомед-Мирзы Мавраева и Халил-бек Мусаясул. Он часто навещал семью брата и был рад, что они живут счастливо.
Когда в Петербурге начались революционные события, Халил-бек поехал в Мюнхен продолжить свою прерванную учебу в Мюнхенской королевской академии художеств. После октябрьского переворота эмигрировал и Магомед-бек. В 1920 году он прибыл в Турцию, как раз в тот трагический период, когда в Турции шла национально-освободительная война. По прибытии он был принят вождем турецкого народа Мустафой Кемалем Ататюрком. По просьбе Кемаля Магомед-бек поступил на службу в генеральный штаб турецкой национально-освободительной армии. Ему было присвоено звание генерала. Сначала он командовал бригадой, затем дивизией турецкой армии. В сражении у крепости Иненю возглавляемая им турецкая армия нанесла сокрушительное поражение греческим войскам. После этого в одном из сражений генерал Магомед-бек был тяжело ранен и через несколько месяцев в марте 1922 года в возрасте 39 лет скончался. Весь турецкий народ оплакивал смерть Магомед-бека. Горько прощался со своим отважным соратником-дагестанцем вождь турецкого народа Мустафа Кемаль. На похороны смог приехать только Халил-бек из Германии. У племянника Халил-бека Мусаясул Магомеда Каировича сохранились письма Халил-бека. В одном из них, написанном в мае 1923 года своему брату Абдул-Каиру в Чох, он пишет:
“Дорогой Каир! Я знаю, что эта ужасная весть о смерти нашего дорогого и любимого брата на всех родственников подействует тяжело. Что же поделаешь, дорогой брат, поперек кисмета не пойдешь. Сколько бы мы ни волновались, сколько ни лили горьких слез, тяжелый факт свершен. Как ни грустно, как ни тяжело, приходится мириться и мужественно перенести горе. Это тяжелый удар не только для нас, братьев, любивших его, но и для всей нашей фамилии.
В Константинополе, когда брат лежал в лазарете “Юлдуз”, я ходил прощаться с ним. Мы обнимались, и он обещал мне, как только станет лучше ему, сразу же приедет в Германию. Я почувствовал, что ему тяжело было расстаться со мной…
Боялся он, чтобы Пирдаус не причиняли бы неприятности, как его жене. Но я его успокаивал, говоря, что есть еще настоящие мужчины, горцы, которые не позволят обидеть беззащитную женщину. Он ее часто вспоминал и просил меня нарисовать ее, так как карточка, которая с ним была, была неважная.
Я очень рад, что Пирдаус у тебя (в Чохе) живет. Ведь я ей писал, видно, бедная, не получила письмо. После того, как вы объявите ей о смерти Магомед-бека, тогда я еще раз напишу ей. Бедная Пирдаус, ей тяжело будет перенести этот удар. Я знаю, как она Магомеда любила, и он ее. Таких супругов редко можно было встретить…
Все это как будто вчера было, как закрою глаза, вижу целый мир радостных дней вместе, и до боли обидно, что внезапно так рано ушел любимый брат, и никогда больше не видать нам его. Потеря имущества и тому подобное – это такое ничтожество перед тем, чем может быть человек…”
Пирдаус, действительно, беспокоил НКВД в Темир-Хан-Шуре. Часто вызывали на допрос, и, чтобы ее долго не терзали, ей приходилось каждый раз оставлять там то дорогое кольцо, то браслет, то брошь. Зная, что у нее есть богатство, они тянули из нее все, что могли.
В 1937 году был расстрелян брат ее мужа, известный просветитель Абдул-Каир Мусаясул. Сама Пирдаус скончалась в 1940 году.
Изажа на холме
В стародавние времена, когда еще в Кумухе не было ханов и были избранные народом халклавчи, жил некий Омахан Яртринский. У него была очень красивая дочь, по имени Изажа, единственная сестра четырех братьев. Народное предание гласит, что однажды в Кумух прибыл душетский хан по своим торговым делам. Тогда Кумух был торговым центром всего нагорного Дагестана. С ханом приехал и его молодой сын. Неизвестно, сколько они пробыли в Кумухе, где и как увидел сын хана Изажу, но предание гласит, что он безумно в нее влюбился. Кази-Кумухцы тогда были мусульманами, а душетцы-христианами. Поэтому по религиозным законам обоего народа брачная связь между девушкой и парнем была невозможна. Душетский хан, надеясь, что Изажа примет христианскую веру, попросил ее отца Омахана выдать замуж свою дочь за его сына. Омахан же вовсе не был склонен нарушать никакие законы веры. Но, зная коварный характер душетского хана, который любой повод мог превратить в кровопролитие, кумухские старшины посоветовали Омахану попросить у душетца срок на размышление, а тем временем, может, сын хана забудет Изажу, может она выйдет замуж за кумухца. Так и поступил Омахан, назначив хану срок ответа через несколько месяцев. Душетцы уехали, но не прошло и месяца, как они появились вновь. Теперь уже хан приехал с дружиной, с богатыми подарками и с намерением не уезжать обратно без Изажи.
Когда Изажа увидела, как много золота, серебра, коней и других подарков принесли душетцы ее отцу, она поняла, что это выкуп и судьба ее решена. Девушка убежала из дома и скрылась в поле, среди спелой пшеницы. Тем временем, старшины Кумуха и близкие родственники собрались на совет и решили выдать Изажу замуж за душетца. Омахан, обнаружив, что дочь исчезла, велел сыновьям разыскать ее, и они нашли. Ее насильно привели домой и объявили, что отец решил выдать ее замуж за сына душетского хана.
В народной песне, дошедшей до наших дней, приводится плач Изажи:
Как я буду совершать моленье пять раз в день на шкуре собачьей? Как я буду держать целый месяц уразу, питаясь свининой?
И далее она просит отца и братьев не отдавать ее душетцам. Но на нее надели одежду невесты, сотканную из тонких кружев, и против воли посадили на коня. По кумухскому обычаю на пути невесты зажгли костры, и свадебная процессия торжественно шла мимо них. Изажа решила, что лучше сгореть в огне, чем покинуть родную землю, и бросилась в костер. Но жених ее оказался смелым и ловким и спас невесту:
Я решила сгореть в огне на родной земле, Чем покинуть ее. Но сын душетского хана, видимо, рожден из вихря. Не смогла я все понять. Не успела кисея моей одежды пожелтеть от огня. Как он выхватил меня. Переходя через мост, Изажа сделала вторую попытку лишить себя жизни, И бросилась в реку: Чтобы не ступать ногой на чужую землю, Я решила утонуть. Из брызг ли воды был создан ханский сын? Не успели намокнуть мои башмачки, Как он вытащил меня. Не нашла я смерть на земле родной И оказалась в Душетии.В Душетии их встретили с большими почестями и накрытыми столами. Изажа увидела на накрытых столах жареных поросят и отвернулась от еды. Ведь мусульмане не едят свинину. Она как прежде молилась и исполняла мусульманские обряды. Не зная ее языка, душетцы не могли с ней поговорить, не могли понять, что же все-таки она ест, почему отвергает еду, кроме хлеба и сыра. Они приставили к ней служанку, и та добросовестно носила ей разные блюда. Но Изажа все равно их не ела. Однажды Изажа отрезала уши с головы жареного поросенка и больше ни к чему не притронулась. Душетцы решили, что она любит уши жареных поросят, и стали каждый день посылать ей жареного поросенка. И каждый день Изажа отрезала только уши. надевала их на ниточку и сушила тайком. Затем эту гирлянду из свиных ушей послала с умыслом в Кумух к своему отцу: вот, мол, чем я здесь питаюсь. Она там сильно похудела и даже заболела, но от веры своей не отказалась. Омахан же, получив гирлянду свиных ушей, понял положение и состояние дочери, живущей среди христиан и не принявшей их веру. Он послал ей весточку с предложением убежать оттуда с кем-нибудь, отправляющимся в родную сторону.
Получив весточку от отца, Изажа не стала ждать, пока появится попутчик. Подкупив золотом свою служанку, она убежала одна. Когда же обнаружили ее побег, Изажа была уже далеко. Стояла осень, и солнце не так припекало. Начав свой путь с рассветом, она ни разу не останавливалась ни отдохнуть, ни водички попить, а все шла и шла. Когда солнце стояло в зените, Изажа услышала далеко сзади конский топот. Она догадалась, что это может быть погоня, и спряталась в кустах шиповника, так как другого места для укрытия возле дороги не оказалось.
Через некоторое время мимо нее проскакали несколько всадников, они тщательно осматривали местность, что-то спрашивали, окликая работающих на поле крестьян. И тогда Изажа поняла, что ей опасно идти днем, любой прохожий может ее увидеть и выдать. До наступления темноты она просидела в кустах, когда же всадники прошли назад, она ночью продолжила путь. Так ей пришлось днем прятаться, а ночью идти. От колючих кустов одежда ее разорвалась, от острых камней башмачки порвались, усталая и изможденная, Изажа все шла и шла.
По мусульманскому обычаю с рассветом в каждом населенном пункте мулла с минарета поет акбар, который слышен далеко в окрестности.
Изажа прислушивалась, не слышен ли акбар, не дошла ли она до своих мест, но акбар слышен не был. “Дай возможность, всемогущий Аллах, один раз услышать акбар, затем мне и смерть не страшна!” – молилась она всю дорогу. Наконец-то, в одну лунную, светлую ночь, поднявшись на гору, Изажа заметила на той стороне ущелья знакомый холм, закрывающий от нее ее родной Кумух. Забыв всякую усталость, голод и жажду, она побежала вниз в ущелье и также проворно стала подниматься наверх. Когда она уже не могла стоять на ногах, она стала карабкаться на четвереньках. Ребята, стерегущие на холме табун коней, с удивлением следили за этим существом, изодранным и лохматым, карабкающимся на холм из ущелья.
Изажа поднялась на холм, выпрямилась, и в этот момент с крыши минарета раздался громкий напев акбара.
– Слава и спасибо тебе, мой Аллах! – сказала Изажа громко, протянув руки к небу, и тут же свалилась на землю. Подбежавшие ребята нашли ее уже мертвой.
Кумухцы, узнавшие о ее муках и страданиях, решили похоронить ее как святую на том же месте, где она умерла. На ее могиле соорудили камень с вечным огнем. На камне сделали углубление для масла, куда был вставлен фитиль, и каждый вечер с наступлением темноты жители зажигали этот чирак. На многие века к кумухским людям пришел обычай зажигать чирак на могиле Изажи. Чаще тот, кто отправлялся в дальний путь, приходил на могилу перед дальней дорогой, подливал масла в чирак и зажигал его. С просьбой-молитвой он обращался к Аллаху, чтобы тот не лишил раба своего возможности вернуться обратно. Этот обычай существовал у кумухцев даже в первые годы Советской власти. 90-летняя Мисиду Чаргиева вспоминает, как она выходила замуж в город Харьков и перед отъездом из Кумуха ходила зажигать чирак на могиле Изажи. Но в наши дни наше поколение забыло этот обычай, который исполняли предки многие столетия.
История большой любви
В дагестанском рукописном фонде ИИЯЛ хранятся стихотворные письма, написанные на аджаме в 80-х годах девятнадцатого века. Эти полные страсти и любви строки захватывают и сегодня. Но известно, что за ними стоит и трагедия. Любовная переписка Патимат Кумухской и Маллея Балхарского стали классикой лакской поэзии.
Голос муталима
В девятнадцатом веке Казикумух считался культурным и научным центром нагорного Дагестана. Некто Бейту-Мамма из Балхара в один из погожих дней привёз сюда на учёбу своего родственника. Молодой человек, которого все называли Маллей, выказывал желание учиться, а это благое дело. Юноше шёл тогда семнадцатый год, и у него действительно был великолепный голос, что было немаловажно для религиозного образования.
Рашку-кади, старший кади Кази-Кумухской Джума-мечети, услышав голос Маллея, поручил ему ежедневно петь азан с крыши мечети.
Однажды в Джума-мечети проводился мавлид в честь отъезжающих в хадж паломников, и на этот мавлид в первую очередь были приглашены люди состоятельные, причислявшие себя к ханскому роду. Они приходили и делали свои пожертвования в пользу муталимов медресе и сирот округа. Пришла на мавлид и вдова Яхъя-хана Аймисей со своей четырнадцатилетней дочерью Патимат и служанкой по имени Зулейхат.
Когда же при гробовой тишине в набитом прихожанами зале мечети раздался изумительно красивый голос Маллея, у многих навернулись слезы на глаза. Патимат вздрогнула, и сердце её остановилось. Этот божественный голос пленил душу юной девушки. Когда по окончании мавлида Патимат вернулась домой, она велела Зулейхат разузнать все об этом удивительном чтеце.
На следующий день Зулейхат принесла госпоже сведения о Маллее. Да, он выходец из бедной семьи, его отец Махмуд умер, когда ему было всего четыре года, оставив сиротами пятерых детей, самым младшим из которых был Маллей. Его подлинное имя было Магомед, но с малолетства его звали Маллеем. Так это имя и пристало к нему навсегда.
Продавец книг
После услышанного в Джума-мечети Патимат не могла найти себе покоя. Она вставала рано и выходила на балкон, чтобы услышать азан Маллея. Ей очень хотелось ещё раз встретиться с ним, но как это сделать, она не знала, ведь девушки из ханского тухума не могли свободно выходить на улицу. Её всегда сопровождали взрослые или прислуга. Мать Патимат была дочерью Тарковских шамхалов и строго придерживалась установленных веками правил.
Девушка лишилась сна, а днём не находила себе ни дела, ни места. Её состояние заметили домочадцы, и в семье забеспокоились о её здоровье. Единственной, кому решилась доверить свои страдания Патимат, была Зулейхат. Она попросила служанку придумать что-нибудь, чтобы она могла хоть раз свидеться с Маллеем.
Зулейхат пошла на хитрость. Она решила предложить Маллею явиться к ним под видом продавца книг. В те времена не было книжных магазинов, и продавцы книг ходили по домам, предлагая свой товар. Патимат одобрила план Зулейхат.
Известная своей расторопностью Зулейхат пошла к Маллею, рассказала, что юная госпожа после мавлида в Джума-мечети только о нём и думает и хочет видеть его, а потому он должен явиться в её дом под видом продавца книг. И, разумеется, никто не должен об этом знать. Маллей, испугавшись, поначалу стал отказываться, но Зулейхат сказала, что к ним приходят все торговцы, даже гончары из Балхара. И Маллей поддался уговорам и обещал придти.
В назначенный день после обеденного намаза Малеей постучался в ханский дом. В это время Аймисей с дочерью в комнатах второго этажа занимались вышивкой золотом по бархату, а Зулейхат прислуживала им. Когда дворовый сообщил, что за воротами стоит молодой муталим и хочет показать книги, Аймисей отбросила шитьё и велела пропустить торговца наверх.
Маллей робко зашёл в комнату. На ковровой тахте, обложенной подушками, он увидел сидящих за вышивкой женщин. Его глаза устремились на девушку дивной красоты. Патимат вдруг растерялась, покраснела и, опустив голову, занялась работой.
Маллей до этого никогда не бывал в таких богато убранных комнатах, и уж тем более не стоял рядом со столь красивыми и ухоженными женщинами. Парень просто не знал, как себя вести.
– Что же ты, муталим, такой робкий? Покажи-ка, что за книги ты предлагаешь? – спросила Аймисей.
Маллей стал по одной подавать книги госпоже. Он заметил, что Патимат даже не взглянула на книги. Девушка ещё ниже опустила голову и дрожащими руками пыталась распутать нитки. Замешательство Патимат передалось и Маллею. Он не слышал, что говорила Аймисей, просматривая книги, пока его не окликнула Зулейхат и не сказала, что госпожа спрашивает цену книги о сновидениях.
Маллей неожиданно сказал:
– Не знаю… эта книга не моя, надо спросить друга, это его книга.
– Тогда иди и уточни у друга цену этой книги, я дам столько, сколько он скажет, – сказала Аймисей.
Маллей молча забрал книги и, уходя, бросил взгляд на Патимат. Их глаза встретились. Только за дверью он вспомнил, что поступил неучтиво, забыв попрощаться, но возвращаться не стал.
– Странный человек, а на мавлиде он мне показался молодцом, – сказала Аймисей, возвратившись к своей вышивке.
Патимат ждала, что Маллей появится ещё раз с обещанной книгой. Но он не приходил. Прождав напрасно три недели, Патимат написала своё первое послание к Маллею и послала его с Зулейхат:
Прими молитву и пожеланья От пленницы голоса твоего. Что за чудо творил ты на мавлиде, Что зажёг в моей душе костёр? И каждый день с высоты минарета Посылаешь страданья мне. Кто вложил в твой голос стрелы? Или в нём орудует кинжал? Душа моя истерзана до крови, Тело моё истерзано до пят!Передавая письмо Маллею, Зулейхат намекнула ему, что завтра вечером в такое же время вернётся за ответом. Прочитав послание, Маллей всерьез испугался. Он был наслышан о том, как поступают с теми, кто хоть словом или взглядом заденет ханских дочерей. Он не мог заснуть, встал спозаранку и, совершив утренний намаз, под предлогом навестить больную мать отправился в Балхар. Он рассказал о случившемся Бейту-Мамма и показал письмо Патимат.
– Письмо ведь не подписано, откуда ты знаешь, что его написала Патимат? А может, его Зулейхат написала? Может, тобой интересуется служанка, а не госпожа? – засомневался Бейту-Мамма.
– Нет-нет, – ответил Маллей, – это письмо ещё задолго до его получения я прочитал во взгляде Патимат. У Зулейхат же глаза совершенно немые.
– Хорошо, я сам отправлюсь в Кумух и очень осторожно разузнаю обо всем, а ты пока останешься дома, – сказал Бейту-Мамма…
Патимат беспокоилась. Несколько дней она не слышала азана Маллея, и Зулейхат говорит, что не смогла найти молодого человека.
Аймисей, заметив страдания дочери, подумала, что она заболела, и вызвала известную лекаршу Хадижат. Но та, не обнаружив у девушки болезни, посоветовала пить лечебные травы, почаще выходить на прогулки, ходить в гости и принимать гостей у себя.
Но Патимат не менялась, её не интересовали ни гости, ни книги, ни вышивка. Мать решила воспользоваться услугами ясновидящей, которая и раньше приезжала к ней и не обманывала её надежд. Та сказала матери, что её дочь не больна, а влюблена, и эта любовь может погубить её, если она не сможет от неё избавиться. Это известие для Аймисей было как гром среди ясного неба. Она попыталась то лаской, то хитростью выпытать у дочери, что с ней творится. Но всё было безуспешно. И Зулейхат разводила руками, изображая неведение.
Маллей пробыл в Балхаре больше месяца. Вернулся он по просьбе Гарун-бека, чтобы прочитать мавлид у него дома.
Когда к Аймисей от Гарун-бека пришёл человек с приглашением на мавлид, она обрадовалась, надеясь что это событие отвлечёт дочь.
Когда в распахнутые двери зала вошла группа чтецов мавлида, среди которых был и Маллей, все притихли. Мулла прочёл молитву, а вслед за ним и Маллей начал исполнение мавлида. Патимат заметила, что юноша отводит от неё взгляд, старается не смотреть в её сторону. Что-то внутри подсказывало, что он тоже к ней неравнодушен.
Патимат надеялась, что теперь, по возвращении в Кумух, Маллей ответит ей, но тот молчал. Патимат не выдержала и написала второе послание.
Когда Зулейхат принесла Маллею это письмо, он вытащил из кармана давно хранимый листок и протянул девушке. Там было всего две строчки:
“Боюсь я твоих близких, ханская дочь, Так широк этот мир, не смотри на меня…”Патимат не поверила написанному. Сердце твердило совсем другое.
Маллей тоже всё время думал о ней, без всякой необходимости ходил из Джума-мечети в ханскую мечеть, чтобы только пройти мимо дома девушки. В те дни он написал эти строки:
И меня грызёт любовь, ханская дочь, Как мы с тобой страдаем, не знает никто. Моя жар-птица рая, святая моя, Нет в книгах Лукмана бальзама от неё. Учёбу, молитвы – забросил всё, И сила, и воля покидают меня. Если я созову ангелов совет, Поймут ли мои муки, помогут ли мне? Никому не желаю безысходной любви, Не дай Бог страданья, которым нет конца!Маллей вложил этот стих в одну из своих книг и передал книгу Зулейхат.
Похищение
В один из базарных дней Бейту-Мамма приехал в Кумух, чтобы навестить Маллея и, увидев его в смятении, решил обратиться к друзьям, Гасану Гузунову и Шапи Башларову, за советом. Он рассказал им о любви Патимат и Маллея.
Друзья не нашли другого выхода из создавшегося положения, кроме как похитить Патимат, тем более, что в Кумухе так было принято.
Бейту-Мамма поехал в Балхар, договорился с друзьями-смельчаками похитить девушку из Кумуха. Заранее договорился и с Зулейхат, чтобы та под каким-нибудь предлогом вызвала госпожу за ворота в назначенный вечер. Балхарцы оставили своих коней за селом, а сами стали околачиваться возле источника, недалеко от ханского дома. Уже стемнело, но ворота не открывались. Спустя время они заметили, что в ворота зашёл молодой мужчина, и через некоторое время в доме поднялся переполох. Похитители поняли, что их предали.
Аймисей громко кричала, что ханской дочери не пристало думать о любви и связываться с нищими. Она устроила в доме настоящий скандал, избила Зулейхат и выгнала её вон со двора. В поисках писем Маллея перевернула вверх дном комнату дочери. За Патимат был установлен строжайший контроль. По требованию ханского тухума Маллей был изгнан из мечети.
Бейту-Мамма теперь редко стал приезжать в Кумух, разве только по необходимости на базар. Однажды, когда Бейту-Мамма отвязывал своего коня от столба, незнакомая женщина подбежала и быстро сунула что-то в его хурджины и так же проворно исчезла. Только за селом он заглянул в поклажу, где оказался свернутый лист бумаги. Это было письмо Патимат к Маллею.
– Аставпируллагь! К какой беде приведёт эта девушка парня, – сказал он вслух и решил не показывать письмо Маллею. Необходимо было поставить точку во всей этой истории. Но не доезжая до Балхара он заметил сидящего на валуне Маллея, который ожидал дядю. Маллей так жалобно посмотрел в его глаза, что Бейту-Мамма просто молча вытащил письмо.
Поскольку в Кумухе все судачили о Патимат, Аймисей решила увести дочь к своему брату, шамхалу Бий-Магомеду в Азайни (Тарки). Чтобы это не выглядело как бегство, она попросила родных прислать телеграмму. Пришла телеграмма о болезни шамхала Бий-Магомеда. Аймисей тут же, воспользовавшись этой вестью, уехала с дочерью. А ничего не подозревающему брату в Азайни сказала, что дочь её приболела и доктора ей посоветовали сменить климат.
Патимат стала искать возможности восстановить связь с Маллеем. Через прислугу она узнала, что недалеко расположены зимние пастбища балхарцев.
Она написала письмо Маллею и отправила к балхарцам с просьбой, чтобы письмо переправили к Бейту-Мамме, а за услуги заплатила серебряным рублем.
Азайнинские тетки приводили к Патимат местных лекарей, которые утверждали, что у девушки нет серьезной болезни и, если её выдать замуж, она сразу расцветёт. Патимат была единственной наследницей Яхъя-хана, и претендентов на её руку было достаточно. Жена Бий-Магомеда решилась поговорить с ней на эту тему и предложила несколько кандидатур женихов. Патимат ответила, что ни на одного из них она не посмотрит, а любит совсем другого человека.
– О какой любви может идти речь, ты забыла, чья ты дочь, чья наследница? О каком бедняке ты говоришь?! Забудь, забудь то, что ты сказала! – возмутилась тетя.
Как-то Патимат увидела во сне Маллея, и тут же написала ему послание:
Увидала во сне, мой муталим, тебя, Гулял ты по полям и ходил по горам, Бедная голубка ходила вслед, Ты же вовсе на неё не глядел. Ты говорил со звёздами и на небо смотрел, Даже песни соловья ни манили тебя. Вещий сон, похоже, увидела я, Ведь нет ответа на посланья мои. Душа моя гибнет от тоски и любви. Кто спас Мухаммеда от Абу-Джахала, Может, спасёт меня от этой беды? Кто с Даудом заставил горы молиться, Может, и для меня поищет спасенья. Кто в небесах сумел джиннов обвенчать Может, и нас на земле обвенчает. Жену хана Египта кто выдал за Юсуфа Ужели не сможет выдать меня за тебя? В Кумухе бы обвенчались, в Азайни свадьбу бы сыграли, И Бартхинский магал торжествовал бы весь.Письмо это тоже было послано к Бейту-Мамме через тех же чабанов. А в Балхаре вся родня уговаривала Маллея, чтобы он женился на другой. Получив последнее письмо, Бейту-Мамма настоял, чтобы Маллей написал ей, что собирается жениться на другой. Маллей понимал, что им никогда не быть вместе, и потому решил пойти на этот шаг:
Что ты увидела во сне, красавица, правда, И во сне, и наяву я далек от тебя. За восемь лет восемь слов мы друг другу не сказали, И полюбить меня ты была не должна. Мы с тобою рядом никогда не сидели, И скучать по мне ты была не должна. Не вспоминай меня, я не ровня твоя, ‘Я бедный муталим, и не пиши мне. Мне стыдно перед людьми, совестно перед Аллахом, Ты ставишь меня в положение сложное.Не злись на меня, чтоб Аллах не карал, прости и прощай, будь счастлива, княжна.
Девушка, получив долгожданное письмо обомлела. Она поняла, что Маллея заставили написать это письмо.
Узнав, что у шамхала Бий-Магомеда находится племянница на выданье, хунзахские родственники поспешили посвататься к ней. Но стоило им только заговорить с Патимат о свадьбе, та наотрез отказалась.
Дядя не мог понять, что происходит с его племянницей, а мать её и вовсе молчала. Маллей в Балхаре переживал, что ему пришлось послать такое письмо возлюбленной, и втайне решил поехать в казанищенское медресе, надеясь оттуда как-нибудь добраться до Азайни, чтобы повидаться с Патимат. В Азайни проживала его дальняя родственница по имени Маяхалун. По приезде в Казанище он отправился в Азайни, чтобы через неё послать весточку Патимат.
Прочитав письмо любимого, Патимат будто ожила. Она встала с постели бледная и слабая, но все же вышла на балкон. Служанка вынесла стул и посадила её. Она увидала Маллея, прислонившегося к стене мечети. По её щекам потекли слезы. Подошла тётя и стала уговаривать племянницу вернуться в дом и лечь в постель.
– Я смотрю на того бедного парня. Может, он приехал издалека и его нужно покормить? – сказала Патимат.
– Это, наверное, какой-нибудь муталим из Аварии, мы ему пошлём садака, – ответила тетя.
А Патимат все сидела и смотрела на Маллея…
Письма любимой сильно огорчили Маллея, он не видел выхода из создавшегося положения.
А тем временем в Азайни приехала родня Патимат из Куралинского ханства, чтобы сосватать её. Бий-Магомед встретил гостей радушно, накрыл щедро столы и пригласил всю свою родню. Патимат не захотела ни встретиться с ними, ни разговаривать. Но хорошо знающие ханские обычаи сватья, не спрашивая её согласия, осыпали красавицу золотыми монетами и вышли от неё с песнями совершённого обряда. В тот день плясало и пело всё шамхальство, а Патимат рыдала. Дядя почувствовал тут что-то неладное, вызвал сестру и учинил ей настоящий допрос по поводу поведения дочери. Аймисей пришлось рассказать брату о любви дочери к бедняку.
– Почему же ты так долго издевалась над своей родной и единственной дочерью, разве она не наследница самого богатого в Кумухе рода? Разве не хватило бы этого, чтобы сделать бедного муталима богачом?! – кричал Бий-Магомед в гневе. Затем он, послал фаэтон за Маллеем в Балхар.
Когда муталима стали забирать придворные шамхала, мать Маллея стала рыдать, причитать, что ее сына хотят уничтожить. Она только и успела предупредить сына, чтобы он у них ничего не пил, не ел, чтобы его не отравили.
По приезде в Азайни фаэтон остановился у ворот Бий-Магомеда, и Маллея пригласили в дом, посадили за богато накрытый стол, а сам Бий-Магомед сел рядом. Маллей ни к чему не притронулся, сказал, что он держит уразу, чтобы восполнить по необходимости пропущенные дни в месяце Рамазан. Бий-Магомед рассказал, что знает все о своей племяннице и Маллее. Он сможет их поженить, но для этого Маллей должен обосноваться или в Кумухе, или в Темир-Хан-Шуре, для него будет куплен хороший дом в эти же дни. Маллей обещал подумать и ушёл. Провожая гостя, Бий-Магомед предложил уже завтра отправиться на поиски нового дома. Ошарашенный Маллей пошёл к Маяхалун и рассказал ей о случившемся. Та очень удивилась.
– Тут какой-то подвох, – сказала она, – на той неделе из Курали приезжала сватать Патимат её отцовская родня. Она дала согласие, и сватовство состоялось, были большие торжества по этому случаю. У них уже назначен день свадьбы. Смотри, будь осторожен, они хотят убрать тебя с пути.
– Неужели Патимат дала согласие?
– А как же, дала согласие и приняла большой калым.
– Какое вероломство! – закричал Маллей. В ту же ночь он написал письмо Патимат и велел Маяхалун доставить его:
Не гордись, Кумухская принцесса, Не за тобой я приехал в Азайни. Я прислушался к совету друга, И потому оказался у вас. Для меня что женщина, что бревно – одинаково, И был наслышан о коварствах женщин, Немало знал и о кознях богачей. Какая бы ты ни была принцесса, Дал себе слово навеки забыть тебя. Прощай и забудь меня, теперь мы незнакомы, Будь счастлива с богатством большим. Нет у тебя горевать теперь причины, Земли у тебя обширные и кутаны большие. Мне же ничего лишнего и не надо. Я уезжаю, а ты забудь меня.Маллей возвращался домой пешком, была глубокая холодная осень. По дороге он почувствовал, что теряет силы, и на попутной арбе доехал до Цудахара. На второй день один из кунаков дал ему коня. Добравшись до дома, он слег. Мать лечила его как могла, как умела. За два года до этого от простуды умер его старший брат Кади, и теперь мать боялась, как бы и с Маллеем не случилась та же беда. Ему становилось все хуже и хуже. Бейту-Мамма привозил к нему лекарей из Акуша, ездил в Кумух, привозил лекарства. Узнав, что Маллей тяжело болен, Гасан Гузунов и Шапи Башларов привезли из Кумуха приезжего доктора из России, который лечил больных военного гарнизона, расположенного недалеко от Кумуха. Доктор в течение двух недель делал ему уколы, каждый день приезжая из Кумуха в Балхар.
Однажды Бейту-Мамма получил присланное на его имя письмо из Азайни от Патимат, полное слез и упрёков. Но ему показалось разумным пока не показывать письмо Маллею. Оно могло просто его убить.
Эпилог
Патимат теперь вовсе не поднималась с постели. Возле неё днём и ночью дежурили родственницы и подруги. Чувствуя близкий конец, бедняжка продиктовала своим подругам завещание, названное чёрным письмом, которое и в наши дни хранится в рукописном фонде ИИЯЛ Дагестана.
Бумага, на котором написано письмо, с обратной стороны на самом деле чёрная. Под этим письмом стоят имена её подруг и отпечатки их пальцев:
Прощайте, ухожу, оставляю белый свет, В могильной сырости найти успокоения. Враждовавшая со мной моя родная мать, Хоть теперь оставь вражду и злобу, Коль я оставляю этот белый свет. И второе, прошу, не осуждай любовь мою, Расскажи про нее балхарским алимам, Чтобы они написали о трагедии любви. Хотела скрыть любовь, но выдали меня слезы, И весь мир узнал о страданьях моих. Берегись же сама, чтобы и ты не влюбилась, На свою душу и сердце цепи наложи, И готовься любовь отогнать штыками, Любимая и жестокая жена Яхъя-хана. Вспоминай меня, гордись, что победила, Убила любовь мою, кровного врага своего. Смейся, как прежде, над ней с подружками И развлекай гостей рассказами обо мне. Чтобы писем не писала, ты ставила охрану, Теперь в мою могилу через бинокль смотри. Хватит ли тебе этих слов, княгиня? Если не хватит, в пучину моря бросайся!Патимат попросила подружек отрезать её косы на пядь своей руки и отослать их Маллею в кисете, когда-то вышитом ею самой для Маллея. Этот кисет с косами Патимат и в наши дни хранится у племянников Маллея в Балхаре.
Патимат умерла в феврале, в самое холодное время года. Перед смертью она просила вызвать Маллея, чтобы он похоронил ее. Маллей был тяжело болен. Но весть о смерти Патимат докатилась до Балхара.
Прошло несколько месяцев после её смерти, и Аймисей решила написать Маллею, чтобы исполнить просьбу дочери.
Что за разговоры, для чего теперь пересуды, Почему же ты, парень, поссорился некстати, Жизнь моя теперь словно сущий ад, Чтобы она сгорела как от засухи степь! Жизнь моя теперь бесцельна и пуста. Почему я пережила дочь свою? Ты, парень, меня прости, исполни её завещание, Появись, покажись, хоть на могилу явись, Ведь то, что ты уехал из Азайни, убило её.Когда Маллей поправился, Бейту-Мамма наконец рассказал ему о трагедии и показал письма Патимат и её матери. И в тот же день Маллей помчался в Азайни.
Его приезд превратился в панихиду. В доме шамхала поднялся плач как в день смерти Патимат. Чтобы исполнить завещание умершей, старейшины села разрешили вскрыть могилу и перезахоронить Патимат.
Когда разрыли могилу, Маллей раскрыл саван, чтобы обновить его, читая при этом молитвы, все её драгоценные украшения были захоронены вместе с ней. Маллей снял со своей руки кольцо и надел на палец Патимат со словами:
“Теперь мы с тобою обручены, жди меня, мы обязательно будем вместе”.
Когда через несколько лет Маллей приехал на могилу Патимат, он не смог найти её. Оказывается, Бий-Магомед велел убрать надгробный камень с её могилы чтобы не могли узнать, где захоронено всё богатство Яхъя-хана.
Маллей так и не женился. Когда близкие заговаривали с ним об этом, он отвечал: “Я обручен, и моя невеста и во сне, и наяву со мной”.
Когда у его сестры родилась дочь, он дал ей имя Патимат, и всё своё имущество завещал ей.
Умер Маллей в возрасте 62 лет в 1924 году.
Шейх Гази-Магомед-Эфенди Гуйминский
Шейх Гази-Магомед-Эфенди Гуйминский, уроженец селения Гуйми Кази-Кумухского округа, был известен в 19 веке во всем Дагестане не только как шейх, но и как самый приближенный наиб имама Шамиля.
Родился Гази-Магомед в семье сельского муллы и с самого раннего детства приобщился к религии. Отец его каждое утро пел акбар с крыши сельской мечети, извещая народ о наступлении нового дня. Рассказывают: будто однажды мулла был простужен, охрип и не мог спеть акбар.
Тогда он послал своего одиннадцатилетнего сына Гази-Магомеда на крышу мечети спеть акбар. Гази-Магомед выполнил поручение отца и никак не ожидал завоевать этим популярность. Но в тот же день все гуйминцы спрашивали друг друга: “Что за чудесный соловей спел нам сегодня акбар?”.
Узнав, что это был сын муллы Гази-Магомеда, люди стали просить, чтобы мальчик всегда пел по утрам акбар, ибо его пение радует людей, одухотворяет все кругом. С тех пор, если Гази-Магомед находился в селении, он обязательно пел акбар по утрам, если же акбар пел кто-то другой, люди знали, что Гази-Магомеда в селе нет.
Гази-Магомед совершенствовал свое религиозное образование у известных кадиев из других сел. Учился в медресе при Кази-Кумухской мечети. Затем по совету шейха Джамалутдина Кази-Кумухского, который был лишь несколькими годами старше него, поехал продолжать учебу к шейху Магомеду в Яраг. Шейх Магомед-Яраги (так его называли тогда в народе) с удовольствием принял в медресе умного, способного и предельно вежливого молодого человека. Гази-Магомед был не только способным, грамотным, но обладал красивой внешностью и голосом, выгодно отличался среди всех муталимов шейха.
Одной из дочерей шейха, по имени Зайнаб, понравился этот юноша, да и он стал испытывать большую симпатию к этой хрупкой и нежной девушке. Но просить ее руки не решался и по окончании медресе поехал работать муллой в селение Магарамкент, где его называли Курмолла.
Там он пользовался уважением и доверием людей. Впоследствии к его собственному имени стали добавлять почетное имя Эфенди, стали называть Магомед-Эфенди Гуйминский. И нигде, кроме как в родном селе, его не называли Гази-Магомедом. Даже некоторые ученые и в наше время склонны думать, что его так и звали Магомед, а не Гази-Магомед.
В народе рассказывают, что через некоторое время Магомед-Эфенди Гуйминский послал к шейху Магомеду-Яраги шейха Джамалутдина Кази-Кумухского и своего дядю (отца его тогда не было в живых) просить руки Зайнаб, хотя не был уверен в успехе. Шейх Магомед-Яраги ответил – Если Аллаху угодно, чтобы моя дочь стала женой Магомеда-Эфенди, я маленький человек, я раб всемогущего Аллаха и потому не смею возражать, кроме как пожелать счастья.
Гази-Магомед, не ожидавший такого для себя приятного исхода, был безмерно счастлив и, женившись на Зайнаб, еще некоторое время жил в Магарамкенте.
Затем по просьбе своей матери вернулся в родное село. Зайнаб безвозмездно стала обучать сельских ребят Корану, и гуйминцы прониклись к ней уважением и признательностью, стали прислушиваться к ее слову. А Магомед-Эфенди поехал в Шаки-Ширван и через несколько месяцев вернулся, получив звание шейха.
Шейх Магомед-Эфенди и Магомед-Мирза-хан
Популярность шейха Магомеда-Эфенди росла, к нему шли люди не только из Кази-Кумухского округа, но и со всего Дагестана, который был тогда охвачен огнем газавата. Шейхи и правители были разделены на два противоположных лагеря: одни были на стороне газавата, на стороне имама Шамиля, другие же – против газавата. К последним относился правитель Кази-Кумухского округа Аслан-хан, который тогда принял русское подданство. Он предвидел, что воевать с таким сильным и мощным врагом, как русский царь, для Дагестана бессмысленно, что война будет проиграна, и потому решил уберечь свой народ и свое ханство от кровопролития.
Историки отмечают, что в течение двадцати лет правления Аслан-хана Кази-Кумухское ханство не было вовлечено в какое-нибудь крупное сражение. Надо отметить, что Кази-Кумухские ханы, в том числе и Аслан-хан, хоть и показывали внешне русскому царю свою преданность, тайно сочувствовали и помогали мюридам. Об этом пишут и историки. Рассказывают, как однажды прибыли русские войска в Кази-Кумухское ханство и Аслан-хан запретил народу давать или продавать им продукты. Так войскам нечем было питаться, а на их жалобы хан отвечал, что народ сам живет впроголодь, им нечего продавать.
После смерти Аслан-хана ханом Кази-Кумухским стал его сын Магомед-Мирза. Народ был уверен, что сын будет продолжать политику отца. Но прошел слух, что Магомед-Мирза-хан обещал князю Аргутинскому помочь добраться до Гуниба через Кази-Кумухский округ, так как все другие дороги на Гуниб для русских были закрыты. В свое время Аслан-хан убедил русских, что добраться до Гуниба через Кази-Кумухский округ невозможно. Теперь же, когда сын его собирался изменить политике отца, народ возмутился.
Главным возмутителем народа был шейх Магомед-Эфенди Гуйминский, который не скрывал своей симпатии к имаму Шамилю. Такие же взгляды он проповедовал и своим прихожанам.
Магомед-Мирза-хан вызвал к себе шейха, сделал вид, что расположен к нему хорошо, стал угощать. Магомед-Эфенди принял угощение хана, но красное вино, которое предложил ему хан, не выпил. Это хану не понравилось. Шейх сказал, что для мусульман большой грех пить красное вино. Если положить десять чуреков друг на друга и на самый верхний капнуть вином, и тогда нельзя даже есть самый нижний чурек. Об этом и сам хан прекрасно знал. Когда же шейх выразил свое недовольство тем, что хан собирается через Кази-Кумухское ханство открывать дорогу русским на Гуниб, Магомед-Мирза-хан ответил:
– Я не могу не пропустить русские войска через свое ханство, ибо я нахожусь на службе у русского царя.
– Если ты пропустишь русские войска через свое ханство, ты безбожник! – воскликнул Магомед-Эфенди.
– Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать! – возмутился хан и велел своим нукерам избить шейха и влить ему в глотку вина.
Нукеры жестоко поиздевались над шейхом, затем по приказу хана бросили его в тюрьму.
Ночью в тюрьме шейх Магомед-Эфенди услышал чей-то голос:
– По воле Аллаха все тюремные замки открылись сами по себе, выходи, беги!
– Нет, не убегу, – ответил шейх, – что Аллахом ниспослано для меня то и будет, я его раб.
Утром явились в тюрьму нукеры хана и объявили приказ: выколоть шейху глаза и принести к нему на тарелочке. Нукеры сжалились над ним, выкололи один глаз, а другой подрезали, сверху, чтобы не повредить зрачок. Хану же понесли один глаз и сказали, что второй вытек, когда вытаскивали. Услышав о несчастье, случившемся с шейхом Магомедом-Эфенди Гуйминский, весь Вицхинский магал, куда входит и селение Гуйми, встревожился. Все, кто мог идти, пришли в Кумух и стали на площади перед ханским дворцом. Хан испугался и велел привести шейха из тюрьмы. Когда он взглянул на пленника, у него возникло подозрение, что второй глаз шейха цел. Хан написал на листке бумаги что-то крупными буквами и поднес шейху:
– На, прочитай, что я написал, покажи свои способности!
В это время ханский нукер, стоящий сзади хана, стал делать знаки руками шейху, чтобы тот не читал. Магомед-Эфенди посмотрел на лист, но не прочитал. Затем хан спросил:
– Доволен ли ты теперь, есть еще у тебя ко мне какая-нибудь просьба?
– Ты меня ослепил, думаешь, я теперь буду просить тебя сохранить мне жизнь? Нет у меня другого желания, кроме как помочь мусульманам. Мне жаль, если многочисленные русские войска истребят горстку мусульман, и ты будешь способствовать этому. Я бы хотел тебе рассказать одну притчу: как-то в лесу кошка встретила мертвую львицу и рядом с ней живого львенка, видимо только что родившегося. Кошка сжалилась над львенком, вскормила его своим молоком, вырастила, научила добывать себе пищу. Однажды зимой львенок вернулся с охоты голодный и вздумал съесть кошку. Кошка же, догадавшись о его намерениях, прыгнула на самое высокое дерево и уселась там. А львенок не смог залезть на дерево и остался внизу.
– Моя дорогая кошка, – обратился львенок к кошке, – ты меня вскормила, ты меня вырастила, научила всему, что ты сама умеешь, так почему же ты не научила меня залезать на дерево, как ты сама?
– А это я приберегла для себя, так как подозревала, что, может быть для меня наступит когда-нибудь такой час, как этот, – ответила кошка. Так что, мой высокий хан, когда русские покончат с мюридами, как бы очередь и до тебя не дошла, прибереги и для себя какую-нибудь защиту!
Хан, собиравшийся отпустить шейха домой совсем, тут же изменил свое решение:
– Нет, его нельзя освобождать! Отпустите домой временно, а когда наступит час, мы его сошлем в Сибирь!
Шейх вышел из ханского двора, к нему подбежали люди, стали справляться о самочувствии.
– Алхамдулиллах щукру, вижу свет! – сказал шейх. К нему подбежал его взрослый родственник, по имени Мудун-Магомед, и зашептал: “Замолчи, что, ты хочешь лишиться и второго глаза?!”
Шейху подали коня. По дороге Мудун-Магомед стал его упрекать, что тот не убежал из тюрьмы, когда представилась такая возможность.
– Между небом и землей еще не появился человек, сумевший уйти от судьбы своей, предначертанной Аллахом! – ответил шейх. К больному шейху стали со всех аулов ходить народные лекари, стали приезжать далекие друзья соболезновать о случившемся. Шейх Магомед-Эфенди Чаящинский прислал гонца с поручением привести шейха Гуйминского к имаму Шамилю. Но больной шейх не согласился куда-нибудь уходить из дома, сославшись на то, что от судьбы не уйдешь.
Прошло несколько месяцев, Магомед-Эфенди поправился и стал как прежде заниматься своими религиозными делами. И снова стали к нему стекаться люди со всех концов. Но вот однажды прибыли к шейху трое всадников и передали приказ хана привести его в Кази-Кумух.
– Я маленький человек и не могу ослушаться хана, сейчас помолюсь – и соберусь, – сказал шейх и велел жене покормить гостей.
Нукеры хана, видимо, проголодались в дороге. Они не отказались от еды и, пока ели, все время следили за шейхом, как-бы тот не скрылся из-под носа. Шейх с кумганом зашел в туалет, нукеры посмотрели и туда, нет ли, оттуда какого-нибудь выхода, но выхода не оказалось, кроме маленького окошечка на задней стенке туалета. Нукеры с удовольствием жевали сушеную колбасу, пили бузу, а через некоторое время кто-то из них заметил, что шейх задерживается в туалете. Открыли двери туалета, там никого не оказалось. Нукеры – всполошились, бросились его искать. Но шейха нигде не было. Через некоторое время один коварный гуйминец рассказал ханским нукерам, что шейх давно ушел в сторону селения Шуши. Действительно, Магомед-Эфенди пошел по дороге в сторону селения Шуши, оттуда можно было добраться до имама Шамиля.
Наступил вечер, пошел дождь, и пока Магомед-Эфенди дошел до речки, через которую пролегала дорога, уже совсем стемнело. В этом месте в нее вливались Гуйминские и Мукуринские потоки. Моста там не было, и люди вброд переходили реку. Но сегодня она так разлилась, разбушевалась, что перейти было невозможно. Шейх пошел вниз по берегу к мельнице. Там он встретил юношу.
– Сынок, нет ли у тебя фонаря, чтобы посветить мне, хочу перейти речку, – попросил Магомед-Эфенди.
– Смотри, смотри, отец, вот тебе сам Аллах открывает дорогу! – крикнул юноша. И Магомед-Эфенди увидел, как в одном месте поперек реки открылось дно, будто реку разрезали кинжалом. Шёйх быстро перешел на противоположный берег и стал подниматься по скалам вверх. Тут к реке подъехали ханские нукеры. Но река так разбушевалась, что они никак не могли заставить своих коней войти в воду. Сойдя с коней, стали искать брод, но не нашли. Тут один из нукеров заметил шейха, поднимающегося по скалам, как птица. Он крикнул:
– Смотрите, смотрите, как шейх поднимается по мокрым скалам, словно горный козел, его ли мы хотим поймать?!
Магомед-Эфенди хорошо знал эти места и без труда нашел укромную пещеру, где и решил спрятаться до утра. С рассветом он вышел из укрытия и пошел по дороге, ведущей в селение Шуши. Вдруг перед ним появился всадник на белом коне, как будто с неба свалился. Всадник держал за уздечку вторую оседланную лошадь, но без седока.
– Салам алейкум, шейх Магомед-Эфенди! – приветствовал его всадник.
– Ваалейкум ассалам! – ответил шейх.
– Куда путь держишь?
– Да вот иду в то селение за одним своим кунаком, с которым мы сегодня должны пойти на акушинский базар.
– Нет, не идешь ты в то селение и не идешь на акушинский базар, ты идешь к имаму Шамилю. Садись на коня, и я тебя проведу, – сказал всадник.
Магомед-Эфенди очень удивился, сел на лошадь и стал расспрашивать попутчика, кто он и откуда.
– В этот для тебя трудный час я послан тебе Аллахом, благодари всемогущего Аллаха, – ответил всадник и поскакал, давая этим понять, что нет времени для разговоров.
Ехали они быстро и к вечеру поднялись на гору, откуда было видно большое селение.
– Вот в этом селении находится сейчас имам Шамиль, доброго тебе пути! – сказал всадник и поскакал назад, так и не назвав себя и не забрав обратно свою лошадь.
Имаму Шамилю доложили о прибытии шейха Магомеда-Эфенди Гуйминского. И он велел ему зайти.
– Ассалам алейкум, вседагестанский имам Шамиль! – приветствовал с порога Магомед-Эфенди.
– Ваалейкум ассалам, славный шейх Магомед-Эфенди Гуйминский! Как же я долго тебя ждал! – сказал Шамиль и встал с протянутыми руками навстречу шейху, не скрывая своего восторга.
Разговор между имамом и шейхом был долгий. Шейх просил имама выдать ему отряд отважных мюридов, ибо он хочет сделать набег на штаб русских войск, чтобы отрезать им дорогу в сторону Кази-Кумуха. Имам выделил ему конницу. Магомед-Эфенди был не только известным шейхом, но и отважным воином, который хорошо владел техникой войны в горах. Впоследствии эти его способности очень помогли Шамилю, и перед каждым сражением имам уединялся с Магомедом-Эфенди и долго обсуждал с ним план предстоящего сражения.
Получив конницу, Магомед-Эфенди отправился к Бавтугаю, где был расположен штаб русских войск. За ночь он со своими конниками сумел незаметно, без шума дойти до русского гарнизона и с рассветом внезапно на него напал. Враг был застигнут врасплох. Но когда русские увидели, что мюридов гораздо меньше, чем им показалось, они стали драться смело и уверенно, надеясь с ними быстро расправиться. Однако через некоторое время русские заметили, что потеряли многих воинов, а мюриды все были целы. Увидев отчаянно дравшегося Магомеда-Эфенди, русский генерал кричал: “Ужель среди моих воинов не найдется храбреца, чтобы обезглавить того слепца?” И храбрец такой действительно не нашелся. Сражение становилось все более отчаянным и кровопролитным. Много погибло русских воинов. И наконец, поняв, что в этом бессмысленном бою они могут потерять половину войска, русские отступили в сторону Гергебиля, оставив раненых, бросив обоз и орудие. Некоторое время мюриды их преследовали, но затем вернулись, собрали оставленные трофеи, разожгли костры и стали трапезничать. Рассказывают, когда Магомед-Эфенди развязывал пояс, из его одежды со звоном сыпались пули, оказывается под черкеской у него была кольчуга, такие же защитные одеяния были и у других воинов.
Вернувшегося с победой Магомеда-Эфенди Шамиль поздравил и перед всеми мюридами оказал ему честь. Шейху было поручено начинать обряд моленья. Когда все мюриды молились вместе, Магомед-Эфенди, стоя впереди, начинал обряд и заканчивал.
– Во многих сражениях принимал участие Магомед-Эфенди, не раз попадал в самые сложные ситуации, но каким-то чудом выходил из этого положения.
Рассказывают, как однажды в день пятницы Магомед-Эфенди со своей конницей оказался в карачаевском селе. Оставив коней на окраине села, они зашли в мечеть, чтобы совершить священный обряд моленья. Через некоторое время им сообщили, что они окружены русскими. Магомед-Эфенди спокойно закончил обряд и сказал, что им неоткуда ждать спасения, кроме как от своих ног. Все мюриды с быстротой молнии вылетели из мечети и, пока русские спохватились, добрались до своих коней и ускакали. За ними гнались, обстреливали вдогонку, но мюриды прибыли к имаму целыми и невредимыми.
Обычно, когда Шамилю докладывали о том, что Магомед-Эфенди попал в сложные обстоятельства, что его надо выручать, Шамиль с уверенностью отвечал, что сам Магомед-Эфенди лучше чем кто-нибудь другой найдет выход из создавшегося положения. Так оно и получалось.
Мать Магомеда-Эфенди, жена его и дети тоже были вместе с ним. Иногда, собираясь в поход, он брал с собой старшую дочь, по имени Муслимат, которая готовила еду. Так вся семья Магомеда-Эфенди в течение двадцати двух лет скиталась по опасным дорогам газавата до самого последнего дня этой тяжелой войны.
В последние дни войны, когда Шамиль укрепился в крепости Гуниб, Магомед-Эфенди с другими наибами по воле случая оказался отдельно от него. Главнокомандующий русских войск, узнав о влиянии шейха на имама, пригласил его, наиба Магомеда-Тахира и его ученика Хаджиява, способного изъясняться по-русски, к себе, велел пойти к Шамилю и склонить его на переговоры. Но Шамиль впустил к себе только Хаджиява, который изъявил желание остаться с имамом в крепости. Магомед-Эфенди и Магомед-Тахир вернулись обратно.
До самого последнего часа газавата Магомед-Эфенди находился на своем посту и, когда пленили Шамиля, участвовал в переговорах. Шамиль предложил Магомеду-Эфенди ехать с ним в Калугу, но шейх просил имама простить его, сказав, что дни его теперь сочтены и он не хочет стать обузой для Шамиля.
После отъезда Шамиля вернулся Магомед-Эфенди с семьей в свое родное село Гуйми и через несколько дней скончался. После его смерти, примерно через год, собирался уезжать в Мекку его племянник, по имени Вали-Хаджи, который решил построить зиярат на могиле шейха. И вот этот зиярат, построенный тогда Вали-Хаджи, и в наши дни находится в селении Гуймй Лакского района. Вали-Хаджи впоследствии в Мекке встретился с имамом Шамилем, рассказал ему о смерти Магомеда-Эфенди. Шамиль принял это близко к сердцу, переживал и много читал молитв.
Гуйминцы свято чтут память шейха, его могилу и зиярат. Они не дали разрушить его и в те мрачные годы нашей истории. Каждый, кто уезжает из селения, обязательно перед отъездом посещает могилу шейха, а каждый, кто приезжает в село, идет туда на поклон.
В наши дни среди нас живут прямые потомки шейха Магомеда-Эфенди. Одна из них – правнучка его по дочери Муслимат – Мудунова Маазат Юсуповна, проживает в Махачкале. Правнук шейха Магомеда-Эфенди по сыну Магомеду-Гаджи – Эфендиев Камиль Магомед-Гаджиевич тоже проживает в Махачкале.
Шейх Магомед-Эфенди Чаящинский
Магомед-Эфенди был выходцем из состоятельной семьи крестьянина-земледельца. Отец его, своим трудом обрабатывающий землю, содержащим скот, хотел, чтоб сын пошел по его пути. С самого детства приучал он его к земле, к домашнему скоту. Магомед часто в детстве пас овец, участвовал вместе с родителями в полевых работах. Но стоило отцу отдать сына на учебу к местному мулле, как сын забросил все хозяйство и с головой ушел в учение Корана.
Среди населения окружных сел чаящинцы отличались тем, что не очень соблюдали законы религии и не считали обязательным совершения всех пяти намазов в день. Поэтому местного муллу удивила прилежность Магомеда в изучении Корана и в исполнении всех его законов, тогда как другие дети учились нехотя, с большим трудом.
Через полгода Магомед закончил изучение Корана, который должен был пройти за год, и приступил к изучению следующей части, которую изучал прошлогодний набор детей. Всем прихожанам мулла ставил в пример своего одаренного ученика и брал его по пятницам в мечеть на большой священный намаз.
Рассказывают, что однажды шейх Гази-Магомед Гуйминский со своим родственником, по имени Ахмед, ехал на коне на акушинский базар мимо селения Чаящи. Возле одной пашни они увидели мальчика лет девяти, совершающего намаз восхода солнца, а поодаль работали несколько женщин.
Смотри, смотри, как этот чумазый чаящинец, который ленится сполоснуть руки водой, совершает намаз восхода солнца, ах негодяй! – воскликнул Ахмед.
– Молчи, иди лучше вымой свой рот, прежде чем на этого мальчика что-то говорить! Он не такой, как ты думаешь. Я знаю, кто он! – ответил шейх.
Действительно, этот мальчик и был будущий знаменитый шейх Магомед-Эфенди Чаящинский, а рядом на поле вместе с другими женщинами работала его мать.
Через несколько лет шейх Гази-Магомсд взял Магомеда к себе на учебу. У шейха тоже были дети такого же возраста, и Магомед жил вместе с его детьми, как их сын. Его старательность, ум и одаренность очень нравились шейху. Он его ставил в пример всем своим ученикам. Однажды, предсказывая Магомеду его судьбу, шейх сказал, что он станет очень популярным и уважаемым шейхом, что одна из дочерей шейха, то есть его дочь, станет женой юноши, но их семейное счастье будет коротким.
– Откуда ты знаешь? – спросил Магомед.
– Я не знаю, я лишь прочитал то, что предначертано тебе судьбой.
– Тогда расскажи, что будет дальше.
– Дальше судьба твоя как-будто в тумане, Аллах не желает раскрыть ее тебе, – ответил – шейх.
Тогда Магомеду было всего четырнадцать лет. Он стал думать, – какая же дочь шейха станет его женой? Ему нравилась третья дочь, по имени Салихат, но она была его ровесница. И пока он вырастет, станет женихом, она выйдет замуж. В горах девушек долго не держат в отцовском доме.
Магомеду недолго пришлось учиться у шейха. Магомед-Мирза-хан Кази-Кумухский выколол глаз шейху, и тот убежал к имаму Шамилю. Через некоторое время шейх забрал к себе и всю семью. Магомед же стал продолжать учебу в медресе при Кази-Кумухской мечети. Здесь он научился арабскому и турецкому языкам. Впоследствии он изучил и все дагестанские языки. Через некоторое время у Магомеда умер отец, и ему пришлось бремя забот о семье взвалить на свои плечи.
Он слышал, как шейх Гази-Магомед Гуйминский, тогда уже наиб имама Шамиля, одну за другой выдавал своих дочерей замуж. Салихат же вышла за своего односельчанина по имени Махаммад. Когда же шейх выдавал и самую последнюю дочь, Магомед задумался: “Неужели такой святой человек ввел меня в заблуждение?”
В это время в Дагестане шла жестокая многолетняя война – газават. И только в Кази-Кумухском округе было сравнительно спокойно, хотя много людей и из этого округа стали мюридами и воевали вместе с Шамилем. Магомед же совершенствовал свои знания в религии, общался со всеми известными религиозными деятелями в Дагестане и в Азербайджане. Он стал знаменитым кадием, и к его имени стали добавлять почетное имя Эфенди. В своем селении он открыл медресе, куда принимал одаренных детей со всего округа. Народ его полюбил, с ним считались, его слушались.
Наконец-то кончилась двадцатипятилетняя война горцев за независимость. Шамиля пленили, шейх Гуйминский с семьей вернулся в родное село, что явилось большой радостью для Магомеда-Эфенди. Но шейх Гуйминский был стар и немощен. Он уже не мог вести никакие религиозные дела, не мог оказать ту помощь и поддержку, на которую надеялся Магомед-Эфенди.
Вскоре шейх Гуйминский умер, и на его похороны съехались известные религиозные деятели со всего Дагестана. Тут все убедились воочию в превосходстве над другими известными религиозными деятелями Магомеда-Эфенди в чтении наизусть священных актов Корана и в исполнении религиозных обрядов. Своим прекрасным и проникновенным голосом он приковывал внимание всех к себе и до конца его чтения люди не могли оторваться от него даже мысленно.
Когда Магомед-Эфенди увидел, что дочь шейха Салихат убивается по поводу смерти отца, он подошел и сказал ей: “Хотя высокочтимый шейх не был моим родным отцом, и я страдаю по поводу его смерти, как его родной сын. Я жил в вашей семье, вы делили со мной хлеб-соль, так позволь мне разделить с тобой твое горе, взвалить на свои плечи твою тяжесть. Я забираю твою печаль, я забираю твою боль и прошу Аллаха, коль он отнял у тебя отца, чтоб дал тебе и силу, чтоб вынести тяжесть потери”.
Говорят впоследствии Салихат рассказывала, как те слова Магомеда-Эфенди успокоили ее, высушили ее слезы, влили в нее силу духа. Много об этом человеке рассказывал народ: как он одним прикосновением руки лечил тяжело больного, как чтением молитв выявлял образы святых перед глазами молящихся, как одним словом облегчал душу страждущих. Со всех концов Дагестана люди шли к нему за помощью и находили ее.
Чаящинка по имени Мисиду, вспоминала, как однажды она, будучи молодой девушкой, шла с женщинами своего села в соседнее село Шуши, чтобы купить пчелиные улья. У выхода из селения женщины встретили шейха Магомеда-Эфенди, направляющегося в свою келью. Шейх пожелал им удачной покупки, но посоветовал первый купленный улей положить на плечи Мисиду. Объяснил он это тем, что Мисиду везучая и начатое ею дело всегда будет успешным.
Вернувшись в село, там же, на окраине, они опять встретили шейха. Он поздравил их с удачной покупкой и, обращаясь к Муслимат, сказал:
– Муслимат, ты чуть не свалилась в пропасть, но Аллах тебе помог. Женщины были удивлены: ведь никто не видел, как Муслимат поскользнулась. Женщины сели передохнуть и как бы между прочим спросили шейха:
– Магомед-Эфенди, может ты скажешь, когда наша Мисиду выйдет замуж?
– Мисиду непременно выйдет замуж в этом году и выйдет за бедного парня, который впоследствии станет самым богатым человеком в селе, – сказал шейх и удалился.
Действительно, Мисиду через несколько месяцев вышла замуж за парня по имени Махди, у которого было два барашка и один ишак. Через несколько лет после женитьбы у Махди стало пятнадцать голов овец, он купил землю, затем и волов. Так год от году он становился богаче и стал самым богатым человеком в селе. Даже в народе говорили:
– Кому принадлежит этот мир?
– Только одному Махди.
– Кто по полям гуляет?
– Сын Махдия Хула.
В соседних селениях мужчины, обращаясь к какому-нибудь гордецу, говорили:
– Что ты так вознесся, ужель ты возомнил себя Махдием Чаящинским?
Прошло несколько лет. Муж Салихат Махаммада, который ездил на заработки, возвращаясь домой, по дороге заболел и умер. У Салихат тогда было двое сыновей. Магомед-Эфенди в это время еще не был женат, и через год после смерти мужа Салихат он женился на ней. Говорят, что сам Магомед-Эфенди был очень удивлен тем, что так странно сбылось предсказание шейха Гуйминского.
После женитьбы Магомед-Эфенди поехал в Шаки-Ширван к мусульманским шейхам, а через два месяца вернулся домой уже сам в звании шейха. Магомед-Эфенди и Салихат жили очень дружно и счастливо, но счастье это было недолгим: при родах умерла Салихат. Она родила тройню: двух девочек и мальчика. Девочки тоже умерли, а мальчик остался жив. Его назвали Омаром. Сам Магомед-Эфенди был очень подавлен несчастьем. Одна пастушка стала просить Магомеда-Эфенди, чтобы ей отдали новорожденного мальчика кормить. У нее тоже был двухмесячный сын. Так маленький Омар стал жить в семье своей молочной матери до года, затем его забрала мать Магомеда-Эфенди домой и стала сама воспитывать внука.
Было тревожное время, в Дагестане назревал бунт против царского гнета. В 1877 году он вспыхнул, но очень скоро был подавлен царской армией. Участником бунта оказался весь цвет интеллигенции Кази-Кумухского округа. Однако все заговорщики были арестованы. Кого расстреляли, кого заточили в тюрьму, кого сослали в Сибирь. Наступило затишье. В это время в Цудахар на встречу с горским населением приехал царский генерал. Поехали на встречу и чиновники из Кази-Кумуха. Генерал выступал перед собравшимися и сказал, что все возмутители спокойствия народа теперь изолированы, теперь нужно жить мирно и работать спокойно.
После выступления генерала взял слово Кулибутта из Кумуха, который горел желанием показать свое знание русского языка:
– Мы осушили маленькие речушки и роднички, а море еще осталось. Море – это-шейх Магомед-Эфенди Чаящинский. Имам Шамиль и шейх Гуйминский оставили ему в наследство свою ненависть к русским, и главным возмутителем народа является именно он, ибо народ его слушает, народ за ним идет, – сказал он.
Не прошло и недели после этого, как из Темир-Хан-Шуры в Кумух прибыли царские чиновники с заданием арестовать шейха Чаящинского. Весть о том, что едут арестовывать шейха, как молния разнеслась по окружным селам. И раньше чем царские чиновники, люди из соседних, сел добрались в селение Чаящи. Все были в трауре. Когда шейха увозили, весь собравшийся народ кричал и плакал. Шейх их успокаивал, говорил, что его везут в Кумух и он скоро вернется. Пятилетний сын шейха Омар, почувствовав что-то неладное, побежал за отцом:
– Папа, ты куда идешь? Папа, ты куда идешь? – кричал и ревел малый. Отец его обнял, успокоил, сказал, что идет на базар в Кумух, что привезет ему много гостинцев. Сам шейх тоже думал, что везут его в Кумух. Так ему сказали. Когда доехали до центральной дороги, ведущей в Кумух, Магомед-Эфенди увидел повозку, запряженную двумя лошадьми и ожидающую их. Шейху велели сесть в повозку. Но к удивлению пленника повозка поехала не в сторону Кумуха, а наоборот, вниз, в сторону Темир-Хан-Шуры. Шейх попросил остановить повозку.
– Вы же мне сказали, что везете меня в Кумух? – сказал он.
– Мы исполняем то, что нам приказано свыше. Нам приказано ехать в Темир-Хан-Шуру, – был ответ.
Тогда шейх слез с повозки, и стал прощаться с людьми, вышедшими его провожать, пожал руки каждому отдельно, пожелал всем спокойствия и благополучия, просил о нем не печалиться и не беспокоиться.
– Да избавь вас Аллах от большего горя, чем это! – сказал шейх и, читая молитву, сел в повозку. Аробщик потянул вожжи, крикнул на лошадей, чтобы они пошли, но лошади не тронулись. Он стал их бить плетью, но, лошади заартачились, встали на дыбы и не тронулись с места. Аробщик еще сильней стал их бить, но тут шейх остановил его:
– Зачем издеваться над животными, подожди. Он слез с повозки, встал перед лошадьми, повел их вперед, а затем и сам сел в повозку. Теперь лошади пошли очень спокойно.
Весть о том, что арестованного шейха Магомеда-Эфенди Чаящинского везут в Темир-Хан-Шуру, быстро облетела окрестные села и пока повозка с шейхом дошла до Цудахара, все села и все дороги уже были полны народа. Вышли даже женщины с детскими люльками. Все стали кричать, что шейха не пропустят через Цудахар. Женщины плакали, громко причитая, рвали на себе волосы, и никакие уговоры, угрозы на них не действовали. Изрядно потрепав нервы себе, чиновники поняли, что все их потуги тут бесполезны, и сообщили о ситуации в Темир-Хан-Шуру. Оттуда им. велели вернуться обратно в Кумух, затем вывезти шейха тайно, ночью другой дорогой, где его не знают. Так ночью они выехали из Кумуха по дороге, ведущей в сторону города Баку, и через Баку довезли до Темир-Хан-Шуры.
Шейх магомед-Эфенди Чаящинский в тюрьме
Три года провел шейх Могомед-Эфенди в Темир-Хан-Шуре в тюрьме и за все три года ни разу не съел тюремную пищу, чтобы не впасть в грех в случае, если в пищу попали свинина или мясо нерезанной скотины, что противопоказано есть мусульманину по Корану. Люди же, в городе знали, что в тюрьме содержится известный шейх, хоть и было запрещено подходить к этому месту, какими-то своими путями передавали ему пищу. Когда же еды не было, шейх сам делал лепешки из муки и пек их на раскаленном в костре камне.
– Сколько было у нас заключенных, но такого у прямого не видели.
Всех приручили, кто к нам попадал, только его одного не смогли, – говорили тюремные надзиратели.
В священный день мусульман – пятницу – у тюремных ворот собиралось много верующих. Они читали молитвы и просили в них Аллаха облегчить участь невинного шейха. Тюремному начальству это очень не нравилось, и оно решило отправить шейха подальше от Дагестана. Всю тюрьму облетела весть, что шейха отправляют в Сибирь. Там началось большое волнение. Перед своей отправкой из Темир-Хан-Шуры Магомед-Эфенди написал письмо всем родным и знакомым.
Вместе с вицхинским магалом простите меня. Мои братья дорогие, видно так суждено, Мне приговор вынесен: отправить в Сибирь. Решением ли правосудия отправляют меня в ад? Не стану вас осуждать, не стану вас в грех вводить, Вы тоже меня не судите. Пусть мы расстались с вами по воле рока, Но я буду молиться милосердному Аллаху, Чтобы ваша печаль по мне всех вас в рай привела. В день пять раз с намазом буду просить бога, Чтобы горе, примененное мной стало вам преградой в ад. Лед растаял, все кругом расцвело. Все, что было в укрытии, вышло на солнце, Только для меня, пленника, все закрыто кругом. Приезжала мать, чтоб проститься со мной, Один раз мы с ней только увиделись, нам даже говорить не дали. Если в бренном мире ты разлучил нас, Аллах, В потустороннем мире дай нам воссоединиться. Кто по мне соскучился, идите к сыну моему. Кто хочет мне помолиться, к матери моей идите. Кто хочет со мной говорить, к брату моему идите, Кто на меня в обиде, прошу, меня простите. Если кому-то я должен, обратитесь к брату моему, Врагу моему я тоже прощаю. Всем друзьям и знакомым посылаю привет, Всем близким и родным посылаю благословение. Я с вами прощаюсь, поручаю вас Аллаху, Увидимся ли еще, этого тоже не знаю. Кому поручить сына – сироту, что без матери растет? Поклонникам Корана и религии завещаю.Шейха Магомеда-Эфенди выслали из Темир-Хан-Шуры в неизвестном направлении. И только через десять лет какой-то освободившийся из казанской тюрьмы заключенный рассказал, что шейх Магомед-Эфенди находился в казанской тюрьме лет десять, а впоследствии жил на свободном поселении, но без права выезда на родину.
В послереволюционные годы приехал в Чаящи парень, по имени Абдулахан, который выезжал на заработки, и рассказывал о странной встрече. Идя пешком из города Грозного в пригород, он увидел старика, сидящего под деревом. Юноша прошел мимо старика, но тот окликнул его:
– Что же ты парень, проходишь мимо молча, где твой салам?
– Салам алейкум, отец, извини, – сказал Абдулахан и сел возле старика.
– Откуда будешь родом? – спросил старик.
– Из Дагестана.
– Из какого села?
– Да, как сказать? Мое село мало, как голова ишака, о нем мало кто и слышал. Называется селение Чаящи Кази-Кумухского округа.
Старик долго молчал, затем начал расспрашивать обо всех жителях селения, причем, он начал с домов, расположенных в начале села, и закончил домами расположенными в самом конце. Абдулахан спросил старика, кто он и откуда знает всех чаящинцев. Старик глубоко вздохнул и не ответил ничего. После того как Абулахан расстался со стариком, он догадался, что его случайным собеседником мог быть шейх Магомед-Эфенди, потому что, когда он расспрашивал об Омаре, задавал много вопросов, интересовался его близкими.
Услышав рассказ Абулахана, Омар решил поехать на поиски отца. Почти год он колесил по дорогам Чечено-Ингушетии. Побывал и в Казани.
Но нигде не нашел отца, хотя и встретил людей, знавших его, видевших его. Они и сказали, что шейх собирался на паломничество в Мекку.
В селении Чаящи осталась келья шейха, построенная им самим в его бытность в селении. После его ареста эту келью люди превратили в место паломничества.
Когда же Чаящи переселяли на равнину, в села сосланных чеченцев-акинцев, Омар, уезжая, соорудил отцу памятник в той самой келье.
И в наши дни в народе живет память о великом шейхе. Его родные бережно хранят этот памятник. Внук Омара, Яраги, который решил идти по пути знаменитого прадеда и обучается в махачкалинском медресе, следит за тем, чтобы разрушаемое временем сооружение было в порядке и привлекало к нему всех верующих. Яраги окончил университет Аль-Азхар в Каире и ныне работает в Махачкале.
Красавица Шагун
Однажды к моей бабушке пришла ее приятельница и, убиваясь, что ее дочь выходит замуж за парня другой национальности и веры, просила поговорить с ее дочерью, призвать ее к уму, разуму.
– Милая моя, – сказала бабушка, – кто может предотвратить то, что судьбой и богом предначертано? Действительно, выходить замуж за человека другой национальности, тем более веры, нельзя. Это всегда приводило к скандалам. Сколько было у нас трагических историй, связанных с этим. Ты же, наверное, слышала о красавице Шагун, дочери Осман-Кади?
– Да, слышала, но не должны же все девушки быть такими безумными, как Шагун?!
– Милая моя, Шагун безумной не была, она влюбилась!
– А позже бабушка рассказала мне историю красавицы Шагун. Во времена правления Аглар-хана в Кумухе жил очень уважаемый кади по имени Осман. Много людей приходило к нему с окрестных сел и округов за помощью, за советом. По пятницам, чтобы слушать его проповедь, в кумухскую Джума-мечеть собирались люди. С ним считался хан, царские чиновники Темир-Хан-Шуры и все купцы, и землевладельцы округа.
У Осман-Кади было трое сыновей и одна дочь, красавица Шагун. Ее называли в Кумухе не иначе, как “красавица кадиевых”. Не было в селе парня, который бы не хотел на ней жениться, не сватал бы ее. Однако кадий считал, что пятнадцатилетнюю девочку рано еще выдавать замуж.
В это время в Дагестане шла война под руководством Шамиля, и Кази-Кумухский округ принял подданство русского царя, поэтому напротив Кумуха, через ущелье, располагалась крепость, в которой стоял гарнизон русских войск. Сыновья кумухской знати, в том числе и Османа-Кади, числились в этом гарнизоне, начальник которого общался не столько с ханом, сколько с Осман-кади. Сыновья кади приходили домой вместе с русскими офицерами, среди которых отличался молодой и красивый парень по имени Сергей. Он был в большой дружбе со старшим сыном Осман-кадия, Магомедом.
Русские офицеры могли кое-как говорить по-лакски, ходили на базар, в магазины, иногда даже на свадьбы, по-лакски здоровались со старшими. Сергей был очень молод и не женат. В доме друга он чувствовал себя свободно, садился на подушку на полу, рядом с Осман-кадием и подолгу беседовал с ним. Когда уходил, Шагун, подметая комнату, обнаруживала возле того места, где он сидел, под краешком паласа, кулечек каких-нибудь особенных конфет, которых не бывало в Лакии. Она чувствовала, что с некоторых пор какая-то неведомая тайная, невидимая волшебная нить тянется от него к ней и наоборот, что они стали понимать друг друга по движениям, взглядам, чувствуют мысли и страдания, даже не видя друг друга. Не придавая этому серьезного значения, девушка, увлекшись этой волшебной игрой, продолжала вести ее, как азартный игрок, которому пора уже остановиться, но не может.
Однажды жена кадия заметила, что дочь украдкой, через окно провожает взглядом, уходящего от них офицера. Она припугнула ее, предупредила, что если еще заметит такое, расскажет братьям, а они убьют ее. Появились стихи Шагун, которые пели кумухские девушки:
Какой же, офицер, у тебя, Волшебный разговор, Вкуснее, чем любое Райское питье. Какие бесподобные Глаза у тебя, Прекраснее всех сокровищ И фиалок на лугу!Однажды Осман-кади, возвращаясь из мечети домой, в день пятницы, заметил, что возле их ворот привязан белый конь Сергея. Он очень удивился приходу офицера в это время, когда ни кадия, ни сыновей дома не бывает. Сергей знал, что, собираясь на священную молитву по пятницам, Осман-кади брал с собой и сыновей. Отец подумал, что молодой человек пришел к нему по какой-нибудь причине, срочному делу и поспешил.
Зайдя во двор, Кадий услышал девичий смех. На самой верхней ступеньке лестницы стоял Сергей и что-то лепетал по-лакски. Кади помрачнел и безмолвно стал подниматься по ступенькам. Шагун и ее двоюродная сестра Райганат со своими вышивками быстро убежали в комнаты, а Сергей остался стоять, не имея возможности ни спуститься вниз, ни подняться вверх. Осман-кади, не сказав ни слова, молча и сердито прошел мимо него. Офицер не осмелился ни поздороваться с ним, ни подняться в комнаты без приглашения. Тем более, Осман-кади закрыл за собой дверь, давая понять, что он никого не принимает. Видимо, он предупредил и сыновей, так как они больше не приводили Сергея в дом.
С тех пор люди замечали, как Шагун с крыши своего дома часто смотрели в сторону крепости, а Сергей, приезжая в Кумух, ездил на коне мимо дома Осман-кади, но не заходил к ним.
На устах народа было стихотворение, сочиненное кем-то:
Всадник на белом коне, Что привязываешь коня у базара, Кольца ли сломались На кадиевых воротах?Когда родители Шагун поняли ситуацию, решили поскорее выдать дочку за родственника, который давно ее сватал. Не откладывая, они совершили обряд обручения, собрав всех родственников со стороны невесты и жениха. На следующее утро на кумухском базаре, у родника, на годекане рассказывали люди друг другу о сватовстве Шагун и о дорогих подарках, поднесенных родственниками парня.
Первая поздравить ее пришла двоюродная сестра Райганат, названная подружкой невесты. В дальних комнатах Райганат нашла очень растроенную Шагун.
– Слава богу, сестра, поздравляю! Хоть теперь заткнут рты уличные сплетницы, которые судачат о тебе и о русском офицере, – сказала Райганат, обняв сестру.
– Ой, молчи, Райганат, не о людях думаю, огонь у меня в душе, и тело горит! – сказала она отрешенно и глубоко, тяжело вздохнув. А потом рассказала, что впервые увидев Сергея, стоящего во дворе с плетью в руках, она была пронзена искрами его глаз, и с тех пор сердце болит, душа пылает огнем, мысли путаются, все перемешалось на свете. “Не вижу отца, не замечаю братьев, – сказала Шагун, – нет страха ни перед чем, даже перед смертью, не знаю, что говорю, что делаю, хочется подняться на Бурхай-кала и звать на помощь!” Райганат стала успокаивать ее, утешать, но Шагун так горько заплакала, что подружка не выдержала и тоже заплакала.
– В доме Осман-кади ждали окончания месяца уразы, чтобы сыграть свадьбу, к которой все было готово.
В день уразы-байрама вместе со своими старшими офицерами пришел и Сергей, чтобы поздравить Осман-кади с праздником. Мать, услышав русский разговор, прогнала Шагун в дальние комнаты. А на следующий день их соседка Муслимат, рано утром возвращаясь с мельницы, заметила Шагун, идущую к речке по окольной тропинке. Женщина подумала, что Шагун идет на мельницу или за скотом, но вспомнила, что у кадия для этих работ есть служанки, и Шагун не выходит из дому, кроме как в мечеть. Она пошла и постучалась в ворота кадия. Вышла мать Шагун. Быстро поздоровавшись, Муслимат рассказала, что видела девушку, похожую на Шагун, идущую к ущелью. Мать побежала наверх, но в комнате дочери не было. Она разбудила сыновей, думая, что Шагун пошла на речку топиться. Тот же час, даже не оседлав коней, братья поскакали в ущелье. Там нигде сестры не оказалось, тогда они бросились в погоню за ней к крепости. Здесь все еще спали, и офицеры ничего не подозревали. А Шагун, заметив погоню, спряталась во дворе крепости. Но сторож, не знающий в чем дело, показал братьям, где она спряталась. Известие о позорном поступке Шагун в тот же день облетело все село. Говорили о побеге красавицы к русскому офицеру и у родника, и на улицах, по углам, в домах – везде, лился позор на головы братьев и отца Шагун.
Поздно вечером Райганат решила пойти к сестре, чтобы разделить с ней ее горе. Двор кадия всегда сиял множеством ламп, но в этот вечер все кругом было темным темно, нигде, даже в комнатах, не было видно света.
Девушка поднялась на балкон, открыла одну из дверей и увидела посредине комнаты на полу тусклый свет какой-то лучинки, а вокруг, как на поминках, сидели Осман-кади, его сыновья и несколько близких родственников. Райганат быстро закрыла дверь и пошла к другой комнате, где обычно бывала Шагун. Открыла дверь – а там в углу – мать Шагун вся в черном и в слезах, рядом с ней несколько близких родственниц, тоже как на поминках и при тусклом свете. Девушка тихонько спросила, где Шагун. Мать ничего не ответила, только одна из родственниц жестом руки показала на нижние комнаты. Райганат спустилась вниз и стала тихонько звать сестру, но никто не откликнулся, нигде не было света. Она стала по очереди открывать двери нижних комнат и звать Шагун. В одной из комнат послышался ее голос. Райганат переступила порог, но Шагун тревожно сказала: “Ой, не свались, там на полу вырыта могила!” Подружка не совсем поняла ее, побежала во двор искать под лестницей светильник. Она зажгла его и, посветив комнату, где находилась Шагун, на самом деле увидела на полу вырытую могилу. Райганат ужаснулась и вскрикнула:
– Что это значит?!
– Меня посадили сюда и перед моими глазами вырыли мне эту могилу, сказала Шагун.
– Что ты, что ты, родная моя, это они тебя напугать решили! – сказала Райганат.
– Не знаю…, – тихо произнесла Шагун.
– Не думай, и не переживай так, люди все преувеличивают, болтают, что придет на язык…
– Не знаю, сестренка, взяла я на себя этот грех и не чувствую, что я грешна, люди наверное правы…
– Ничего еще непоправимого не случилось, а если твой жених от тебя откажется, я возьму тебя за своего брата.
– О чем ты говоришь, какое замужество! – простонала Шагун.
– Пойдем сейчас же со мной, я тебя спрячу, и ни один человек не сможет тебя найти, – стала уговаривать ее сестра, но Шагун отказалась идти куда бы то ни было.
Райганат побежала домой и бросила клич всем родным, что Шагун собираются убить. Дошла эта весть и до Агалар-хана. Послал он своих нукеров за Шагун и против воли отца и братьев, забрал ее в ханский дом. Агалар-хан велел своей жене Халле спрятать девушку и следить за ней, чтобы она не наложила руки на себя. Во дворе ханского дворца все сторожа были предупреждены, чтобы никого посторонних не впускали во двор без разрешения на то хана.
Халла заметила, что Шагун не спит ни днем, ни ночью, она даже боялась раздеться, приговаривая: “Сюда явятся братья и зарежут меня”. Халла успокаивала, стараясь развлечь ее, отвлечь от мрачных мыслей.
Так прошло несколько недель, и однажды явился к хану сам Осман-кади и стал просить отпустить его дочь домой. Агалар-хан взял с него слово, что пальцем не тронет дочку и не допустит, чтобы кто-либо из сыновей тронул ее.
– Если же с ней что случится, я лишу тебя самой дорогой жемчужины твоего дома! – пригрозил хан.
Шагун забрали домой. А Сергея в первые же дни выслали из Кумуха.
Однажды домработница Райганат, которая рано утром пошла за водой, вдруг вернулась вся в слезах, оставив кувшин у родника:
– Все женщины плачут, говорят, что Шагун убили, – сказала она и зарыдала навзрыд.
Похоронили Шагун в той же комнате, в той же могиле, что вырыли месяцем раньше, а кто и при каких обстоятельствах убил ее, никто и не знал. Одни говорили, что братья убили, другие – отец. А в народе остались стихи, сочиненные тогда кем-то:
На райском балконе редчайший цветок. Кто с корнем вырвал, кто тебя сжег? Пусть руки отвалятся: кто их поднял на тебя. Пусть в аду сгорит тот, кто замучил тебя! Сапожки сафьяновые, что были на тебе, Пусть режут на кусочки и бросят у ворот. – Платье шелковое, что было на тебе, Пусть рукава распорют и на могилу кладут.А самое странное, говорила моя бабушка, случилось позже. Казалось бы, для влюбленных девушек судьба Шагун должна стать уроком, но случилось обратное. В Кумухе до этого не было случая, чтобы девушка сама, по своей инициативе ходила к любимому, обычно парни крали любимых. Но после трагической гибели Шагун, девушки, не находившие взаимопонимания и поддержки у своих родных, сами стали убегать к любимым. И впервые на такой опасный шаг решилась самая красивая кумухская девушка по имени Балахалун.
Месть Агалар-хана
Однажды нукеры рассказали хану, что нового жеребца, которого купили в Акушах, невозможно оседлать: он не дает седоку сесть на него верхом, кидается во все стороны, прыгает, сбрасывает седока и, как бешенный, растаптывает его.
– Ага… это очень даже хорошо, – сказал Агалар и послал нукеров за Магомедом, сыном Осман-кади.
Когда нукеры пришли в дом Османа-кади, их встретил сам кади и сказал, что Магомеда нет дома, что когда вернется, он пошлет его к хану. Но в это время из комнаты вышел сам Магомед, и узнав, что за ним пришли ханские нукеры, заявил: “Я готов, идти с вами”. Осман-кади снял с головы шапку и ударил ее оземь со словами: “Сгорел теперь мой дом!”
Пока Магомед не вернулся, Агалар велел оседлать нового жеребца, но так, чтобы ремни седла не затягивали туго. Несколько нукеров еле оседлали горячего жеребца. Хан велел отвезти его на базарную площадь и туда же пошел сам. Когда подошел Магомед, Агалар сказал ему: “Говорят, ты мастер приручать жеребцов, вот тебе жеребец, покажи свою удаль!” Магомед заметил, что ремни натянуты слабо. Он просунул руку и хотел проверить упряжь. Но Агалар громко засмеялся и пристыдил его:
– Эх, что ты за молодец, что ремни примеряешь, ведь истинные джигиты скачут и без седла!
Магомед тотчас вскочил на коня и ударил плетью. Жеребец понесся вихрем. И сразу же седло сползло под брюхо коня вместе с седоком. Магомед пытался удержаться и не выпускал поводий из рук. Но стремительный бег жеребца мешал ему. Руки слабели, а измученное тело уже волочилось по земле, оставляя за собой ручеек крови. Наконец, далеко от площади обезображенное тело упало на землю, седок был мертв.
Когда ханские нукеры увели Магомеда из дому. Осман-кади решил узнать, что нужно Агалару от его сына, и пошел к хану.
По дороге ему повстречались мужчины, которые несли на руках окровавленное тело. Осман-кади остановился, как вкопанный. Он еще не знал, что это тело его сына и что так быстро можно уничтожить человека.
Но мужчины, сравнявшись с ним, сняли шапки и заплакали.
Газават девушки
Шестьдесят – семьдесят лет тому назад жарким летним днем в Кумухском озере утонул приехавший на базар паренек. Парня никак не могли найти. Пришлось выпустить воду из озера. Когда воду спустили, люди обнаружили на одной стороне озера, на дне, глубокую яму, в которую и свалился паренек. Над ямой стоял камень, вроде надгробный, а под камнем оказалась чья-то могила. Старожилы Кумуха сказали удивленным людям, что это могила Рабият Качаевой, похороненной здесь еще в 19 веке.
Пожилая родственница Качаевых Маазат Янгиева, которая нынче проживает в Кумухе, вспоминает, что когда произошел этот случай, ее бабушка рассказала ей такую историю:
В 1880-х годах в Кумухской крепости находился гарнизон царских войск под начальством некоего Подхолюзина, надменного и своенравного человека. После подавления бунта в Дагестане (1877 г.) много кумухской знати было казнено и сослано в Сибирь за участие в бунте против русского царя, много семей осиротело и почти в каждом доме был траур. Люди как-то сникли и притихли.
Подхолюзин был суров и строг, зорко следил за всем, что происходило в округе и специально изучал лакский язык, чтобы понять о чем говорят люди. Он не гнушался ничем, даже забирал к себе любую понравившуюся девушку или молодую женщину, держал у себя пока не надоест, затем отсылал домой. Он был уверен в том, что в округе не должно быть человека, который посмел бы ему перечить.
Однажды летом в Кумухе в доме Дауд-бека играли свадьбу. На свадебное торжество собралось множество гостей из Кумуха и из окрестных сел. В самый разгар торжества явился на свадьбу со своими офицерами и Подхолюзин. Чтобы оказать ему особую честь, хозяева посадили его во главе стола, возле тамады.
– Для большого начальника требуем чархидай[1] – раздались возгласы подвыпивших мужчин.
Ясауры выбрали самых красивых и нарядных девушек, вывели в круг для исполнения танца чархидай. Среди танцующих девушек Подхолюзину бросилась в глаза высокая, очень красивая девушка в старинном дорогом наряде, сотканном из золотой нити.
– Кто она? – спросил начальник, не скрывая своего восхищения.
– Она дочь Качаевых, Рабият засватана за Гусейном Нурадиновым, – был ответ.
С заметным удовольствием и восторогом любовался Подхолюзин девушкой. Когда кончился танец, потребовал, чтобы эта девушка станцевала с ним лезгинку. Ясауры тут же велели музыкантам сыграть лезгинку, а Рабият предупредили, что она должна сейчас этот танец станцевать с начальником.
– Не буду! – ответила Рабият и убежала со свадьбы. Не ожидавший такого исхода, Подхолюзин был крайне возмущён.
– Эта наша птица, которую невозможно приручить, она со всеми так поступает, так что вы не удивляйтесь, сейчас с вами станцуют десять других красавиц! – сказал тамада, но Подхолюзин не пожелал ни с кем танцевать. Чтобы как-то успокоить его и развлечь, тамада приказал принести новые блюда и вывести в круг танцоров, певцов, клоунов. Принесли на серебряных подносах новые и разнообразные блюда, вышли в круг танцоры-клоуны, Начальник как будто успокоился, и свадьба пошла своим чередом.
Поздно вечером, когда все гости разошлись по домам, к дому Качаевых прискакали несколько всадников. В это время мать Рабият на веранде делала вечерний намаз. Незваные гости велели хозяйке немедленно вывести к ним дочку, мол, ее требует начальник.
– Ой, беда, ой беда! – запричитала мать, вбегая в комнату к дочери. – Матерый волк охотится за тобой, доченька, беги, спрячься!
Рабият бросилась к окну и увидела всадников возле ворот, один из них слез с коня и направился в дом. Кроме нее и сестры с матерью дома никого не было. Отец был сослан, брат – на заработках. Рабият сама была не из пугливых, умела владеть собой в любой ситуации и не лезла в карман за словом, была смела и решительна, но тут она поняла, что ни убежать, ни спрятаться ей не удастся, и если она станет сопротивляться, положение осложнится и для нее и для ее домашних. Она отошла от окна и быстро схватила небольшой кинжал, висящий на стене. Затем проворно привязала кинжал за пояс и стала надевать поверх самые лучшие свои наряды. Мать, онемев от удивления, вся в слезах следила за дочкой.
– Не волнуйся, мама, за меня тебе не придется краснеть, я разделаю этого подлеца на составные части и брошу к твоим ногам ожерелье из его частей тела! – сказала Рабият и решительно вышла к всадникам. Гонцы были удивлены, что не пришлось девушку силой забирать, и что она сама без шума, без слез вышла к ним. Они рассказали Подхолюзину об этом, и начальник на этот раз остался весьма доволен девушкой. Когда Рабият с улыбкой на лице вошла в его комнату, он обратился к ней:
– Однако же ты, оказывается, девушка покладистая, так зачем же поставила меня в такое неловкое положение на свадьбе?
– Если бы я на свадьбе станцевала с вами, родственники моего жениха могли там устроить скандал. Я же не хотела испортить свадьбу таких уважаемых людей, – ответила Рабият.
Ответ девушки понравился начальнику, и он велел принести хорошее угощение. В душу же девушки запала большая тревога: она надеялась, что начальник после свадебного пиршества будет под хмельком и ей удастся свершить задуманное, а он, казалось, вообще не был пьян, да и к тому же за дверью стояли офицеры, ожидая приказания. После угощения, когда начальнику захотелось поразвлечься с девушкой, она сказала робко:
– Я не стану упрямиться, но… сгораю от стыда, у девушек бывает много причин… и мне сейчас необходимо выйти во двор с кумганом воды и навести чистоту.
– Понял, понял! Значит ты хочешь обмануть меня и сбежать? – расхохотался начальник.
– Я не такая глупая, чтобы в ливень бежать за буркой. Если мне не доверяете, можете привязать меня веревкой или арканом. Мне не много нужно времени: пока вы выкурите трубку, я спущусь за окошечко и быстро вернусь.
Начальник приказал принести веревку, крепко обвязал ею талию девушки и позволил спуститься за окошечко, что было на расстоянии одного шага от земли. А за окном была сплошная темнота.
Очутившись на свободе, Рабият проворно достала кинжал из-за пояса, одним ударом разрубила веревку и привязала к булыжнику, а сама, не мешкая, стала спускаться по скалам. По дороге она не пошла и не стала искать даже тропинку. Через некоторое время она услышала шум и топот коней. Поняла, что обнаружили ее побег. В этот момент она стояла в одной из трещин между скал, которая, как пещера, прятала ее. Спускаться дальше в темноту было невозможно, там была бездна, решила подождать тут до рассвета. А с рассветом солдаты, что разыскивали девушку в ущелье, обнаружили ее. Все были поражены, как она добралась туда, ибо ни вверху, ни внизу не было места, чтобы ступить ногой. Начальник приказал спустить на аркане одного солдата, чтобы поймать ее. Но когда солдат сравнялся с ней, ударом кинжала она свалила его в пропасть. Спустили второго, но уже с оружием в руках. Этого тоже скинула девушка. В этот момент подоспели кумухцы, которые шли на выручку девушке. На уговоры сельчан Рабият тоже отказалась выйти из скал.
– Девушка боится вашего возмездия, дайте слово, что вы ее не накажете, она выйдет, – сказали кумухцы.
– Я ее не накажу, я ее казню, я ее в Сибирь сошлю, как убийцу! Так прошло полдня. К скалам собралось множество народа, девушка не соглашалась ни подняться вверх, ни спуститься вниз.
После полудня Рабият сама стала тихонечко спускаться вниз по скалам, кинжалом делая углубления на скалах для ноги. Навстречу ей к ущелью побежали русские офицеры, а за ними кумухские мужчины, родственники Рабият. Когда Рабият спустилась вниз, она заявила:
– Я объявила газават врагам своей чести, потому убила солдат, я готова сражаться и дальше, но дайте мне возможность подняться в родное село и взять в руки достойное оружие!
Старший кади Кази-Кумухского округа Мухаммад-кади заявил Подхолюзину, что, раз девушка объявила газават, им надо принять его, что по законам шариата они не имеют права ее арестовывать, надо дать возможность сражаться.
Подхолюзин увидел обозленных кумухских мужчин, стоящих за кадием с оружием в руках. Ему ничего не оставалось, кроме как согласиться. С обнаженным кинжалом в руках побежала Рабият вверх по дороге в село. За нею кумухские мужчины, а за ними русские офицеры. Подхолюзин решил остаться в крепости.
Когда Рабият дошла до кумухского озера, она остановилась и потребовала две сабли. Ей подали. Озеро в это время было без воды. Воду спустили, чтобы очистить озеро.
Один из русских офицеров с обнаженной саблей пошел навстречу девушке и одним ударом сабли рассек поперек дерево, стоящее на берегу озера, как-бы показывая ей свою силу и ловкость.
– Если твоя сабля валит дерево, моя свалит сталь! – сказала Рабият, и прочитав молитву, начала. сражаться. Раненый в руку офицер отошел назад и на его место встали другие. Вокруг кумухского озера собралось множество народа. Сабли в руках у Рабият летали, как крылья ветряной мельницы. Она дралась и отходила назад, вглубь озера.
– Держись, Рабият! – кричали ей из толпы, – держись, от ударов молнии страдает только самое высокое дерево, держись!
Тут один из офицеров кинул к ногам девушки один конец аркана, что держал в руках, и, стоя на расстоянии от нее, стал обматывать аркан вокруг девушки. Не успела Рабият понять, что происходит, оказалась связанной. Обеими саблями она стала бить себя, то ли желая срубить аркан, то ли не желая умереть от рук врагов, решив убить себя. Кровь брызнула во все стороны, падающую девушку подхватили родственники. Никто не ожидал такого исхода.
Много народу съехалось на похороны Рабият. По совету старожилов Кумуха решили похоронить ее там, где умерла. В свое время также была похоронена Изажа Кумухская на холме. Такова была традиция.
Говорят, когда хоронили Рабият, кумухцы собрали яйца и глину замесили на них. В могилу вместе с ней положили и обе сабли, которыми она сражалась.
На другой день родственники Рабият во главе с Гамидом Нурадиновым изгнали из Кумуха Подхолюзина.
Гоги
В стародавние времена при правлении Магомед-хана в Кази-Кумухском ханстве (в середине 18 века) воины хана привезли пленного мальчика лет восьми-десяти по имени Гоги. По дороге Гоги, оказывается, несколько раз пытался бежать, и его связали по рукам и ногам, привязали к седлу и привезли в таком виде на ханский двор. В таком же виде его бросили на каменный двор. Все дворовые собрались посмотреть на маленького пленника, а из окна дворца смотрела жена Магомед-хана Истаджалу со своим девятилетним сыном. Ее тоже в свое время Магомед-хан взял в плен, так как она была дочерью турецкого военачальника, впоследствии хан женился на ней.
Ханша сжалилась над пленником и велела развязать его. Гоги встал и стал тереть посиневшие от веревки руки и ноги, затем знаками попросил пить. Один из нукеров взял глиняную миску, что стояла перед собачьей конурой, налил туда воды и дал мальчику. Гоги взял миску в руки, а затем со злостью швырнул ее и разбил. Разозлившийся нукер приказал слугам запереть мальчика в хлев без пищи на три дня. Тут опять вмешалась Истаджалу. Ее удивило, что мальчик не плакал, не просил пощады, хотя руки и ноги его были синими от туго натянутой веревки. Он был весь в царапинах и синяках, но держался с достоинством и, как взрослый мужчина, все испытания переносил молча. Ханша велела вымыть мальчика, переодеть, покормить и привести в ханские комнаты. Она решила сделать его слугой своего сына Сурхая.
Гоги оказался очень умным, смышленым и веселым мальчиком, за короткое время он научился объясняться по-лакски, самостоятельно писать и читать на аджаме. В играх и состязаниях он часто побеждал ханских и бекских детей, что им очень не нравилось. Скоро ребята заметили какую-то ненормальность в поведении Гоги, оставшись один, он разговаривал сам с собой, пел, танцевал, даже иногда ругался неизвестно с кем. Ребята стали шептаться, что Гоги общается со злыми духами или с чертями. Когда кто-нибудь замечал Гоги в таком состоянии, он тут же сзывал других ребят, чтобы потешиться над “чудачествами” Гоги. А Гоги, как пойманный вор, убегал от них куда-нибудь в дальний угол.
Но однажды Гоги забыл о своем положении и поскандалил с ханским сыном Сурхаем, Магомед-хан немедленно выгнал его из своих покоев и послал на полевые работы с пахарями. Работал Гоги усердно, но не любил, чтобы на него повышали голос. Пахари тоже заметили, что Гоги, будучи один, всегда разговаривает сам с собой, и решили, что он в самом деле ненормальный. Так прошло несколько лет, Гоги уже сам научился управлять плугом и пахать, и его место теперь было на поле.
Как-то известный в Кумухе ювелир, по имени Иса, прилег отдохнуть в поле недалеко от родника. Он часто бывал на заработках в Грузии, Азербайджане, приезжал домой только летом и на несколько месяцев. Иса лежал за кустом шиповника и дремал. Вдруг он услышал, как кто-то рядом разговаривает по-грузински. Он очнулся и понял, что это не сон. Иса поднял голову и посмотрел в ту сторону, откуда был слышен разговор. Он увидел подростка, сидящего недалеко от родника с полным кувшином воды и говорившего с собой. Иса прислушался.
– Мама, мне сегодня очень понравились приготовленные тобой почки в сметане, спасибо тебе. В следующий раз ты мне приготовь кукурузную кашу с брынзой. Я сейчас вас всех угощу полевой картошкой, попробуйте, очень вкусная, я ее хорошо вымыл. Это тебе, мама, это тебе, папа, это тебе, Доди, а это тебе, Тина…
Ювелир Иса заметил, что возле мальчика стоймя были поставлены камни и на них нарисованы человеческие лица. Мальчик клал полевую картошку перед каждым камнем.
– Что вы все приуныли, хотите, я вам покажу, как наша хромая тетя Ажа танцует, и вы все развеселитесь? – И мальчик, потихоньку насвистывая, стал показывать, как танцует хромая тетя Ажа.
– Но Ажа очень добрая женщина. Когда она доит корову, мне тоже дает кружку молока. Она мне сказала, что когда я подрасту, хан мне даст лошадь, и я смогу к вам приезжать. Тогда, конечно, Доди и Тина вырастут, и я, может, их не узнаю, но тебя, мама, я узнаю и через сто лет…
В это время с горки послышалось: “Гоги-и-и, где ты пропа-а-ал?!” Гоги схватил кувшин с водой, быстро уложил на землю камни и побежал. Иса подошел и посмотрел на эти камни, под каждым камнем лежала полевая картошка, и на каждом камне были нарисованы углем лица. Иса слышал о чудаке-пленнике и теперь понял, что это тот самый мальчик и есть. “Да, чудаки-то оказывается сами те, кто не понимали его… бедный мальчик”, – подумал Иса. В тот же вечер он разыскал Гоги и поздоровался с ним на его родном языке. Услышав родную речь, мальчик сначала удивился, затем глаза его загорелись каким-то огнем, лицо осветилось.
Иса долго рассказывал мальчику о тех местах в Грузии, где он работал, где побывал, и стал расспрашивать его о родных и близких, откуда он родом, помнит ли что-нибудь.
– Конечно, Помню! – ответил Гоги и с оживлением стал рассказывать о своей родине, о родителях, о брате и сестре, о друзьях и соседях, об обычаях его народа, об играх, в которые играют дети. Иса удивился, как мальчик преобразился, вспоминая своих близких и свой народ.
– Ведь прошло около пяти лет, а ты помнишь все, как будто вчера расстался со своими. Как тебе это удалось? – спросил Иса.
– Если я забуду своих, свой язык и родину, это же все равно, что я умер для них. Я не позволю себе такое. Должен же я когда-нибудь найти их. Может, вы, будучи в наших краях, сможете заехать к ним и рассказать обо мне. Они, наверное, думают, что меня нет в живых, – ответил Гоги.
После этой встречи ювелир Иса долго думал о судьбе Гоги и размышлял, как бы помочь ему добраться до своих. И он решил через влиятельных людей поговорить с Истаджалу. Так и сделал. После долгих переговоров Истаджалу с разрешения хана решила отпустить Гоги с ювелиром, но с условием, что Иса привезет выкуп за него. В противном случае он сам должен будет заплатить выкуп. Так Иса отвез Гоги на его Родину.
Дочь Уцуми-хана
Когда Надир-шах напал на Дагестан, он потребовал, чтобы все правители и ханы сдались без боя. “В случае сопротивления, не оставлю камня на камне!” Но ни один хан, ни один правитель Дагестана не приняли ультиматума шаха. По всему Дагестану покатилась волна создания ополчения. Все мужское население, способное держать в руках оружие, пошло в отряды сопротивления.
Пока захватчики дошли до Акуша, все села и аулы на своем пути истребили, сожгли, страшные насилия совершали над женщинами и детьми.
Кади Акушинский был мудрым человеком. Он собрал свой народи сказал:
– Враг сильнее нас в десятки раз. Оказать сейчас сопротивление и истребить народ свой – невеликая мудрость. Но спасти, всех людей от уничтожения необходимо. Если мы сейчас не спасем народ, на веки вечные останемся в кабале у хана. Сохраним людей – есть надежда на свержение шахского гнета. Когда можно спасти народ, отдав врагу жизнь свою и своих детей, я сделаю это не колеблясь ни минуты. Я предлагаю нашим военачальникам и правителям отправить к шаху делегацию с предложением о перемирии. В этой делегации буду и я со своими сыновь ями. С благословения народа и в надежде на Аллаха всемогущего, отправлюсь я во вражеский стан.
Народ благословил кадия, и он направился к Надир-шаху в сопровождении своих сыновей.
Высокомерно встретил кадия Надир-шах. Кади начал свой визит с чтения молитв корана и продолжил разговор по-арабски. Шах не совсем хорошо понимал этот язык и помрачнел. Тогда кади перешел на турецкий и Надир-шах отослал переводчика. Прояснилось лицо шаха, потеплело, из беседы шах понял, что перед ним мудрый и достойный политик. В результате перемирие было достигнуто, кади с сыновьями вернулись невредимыми.
Надир-шах не тронул Акуша и отправился в сторону Хайдака. Впереди войска послал шах гонцов к Уцуми-хану Хайдакскому с предложением сдаться без боя. При этом сообщал, что без боя сдалась и Акуша. Но Уцуми-хан был тверд в намерении дать решительный отпор захватчику. Дошел Надир-шах до Хайдака и началось жестокое сражение. Силен и беспощаден был враг. С поля сражения явился к ханше гонец с распоряжением скрыться подальше в горы вместе с детьми, ибо если прорвутся шахские войска, первым делом поиздеваются над ханскими детьми.
Жена Уцуми-хана не согласилась покинуть мужа, сказала, что суждено случиться с ним, пусть случится и с ней, а детей со своей сестрой и прислугой отослала в горы. Юная дочь Уцуми-хана, ей было лет четырнадцать, одела расшитую золотом одежду, надела все свои украшения и поскакала не в горы, а к полю сражения. Она решила предложить отцу отправиться к Надир-шаху вместе с ней и просить мира, чтобы не истребить до конца свой народ. Но по-прежнему намерен был до последней капли крови сражаться Уцуми-хан, уверенный в том, что шах теперь не примет их предложения о мире.
Военачальники и религиозные деятели решили испытать судьбу и прислушаться к решению ханской дочери, пойти к шаху. Снарядили вместе с ней несколько человек и отправились. Ханская дочь знала, что может больше не вернуться к отцу, была наслышана о шахских насилиях над дочерьми и женами непокорных ханов, но море крови и горы трупов были кругом и девушка решительно поскакала к вражескому стану.
Ее заметили издалека, и несколько персидских воинов вышли ей навстречу. Красива и юна была дочь Уцуми-хана, хорошо держалась в седле. Не слезая с коня, заявила девушка, что хочет говорить только с самим Надир-шахом. Шаху передали о девушке и ее желании, но предупредили, что здесь можно ожидать любой коварной хитрости. Надир-шах вышел из шатра и остановился пораженный красотой и достоинством девушки, стоящей перед ним.
– Много в моей жизни было коварства и подлости, но от такой девушки согласен принять любое коварство! – сказал Надир-шах и выслушал ее.
Кровопролитие было прекращено. Впоследствии шах подарил эту девушку одному из своих военачальников, сыну кубинского хана.
Талисман Сурхай-хана
Хан Кази-Кумухский Сурхай Чолак отличался великой отвагой, даже среди своих сородичей славился он ловкостью и выносливостью. В те времена ханов и их сыновей народ почитал и уважал за смелость, физическую силу и ум. Сын хана закалялся с детства, ибо должен был стать воином и ловким всадником, умным и образованным человеком. В битвах и сражениях хан с сыновьями шел впереди, их личный пример вдохновлял воинов. Стоило дрогнуть в бою, струсить хану или ханскому сыну – позор ложился на всех них и потомков.
Сурхай был внуком Кази-Кумухского халклавчи Алибека. Тогда народ избирал себе вождя и его называли халклавчи, он обязательно должен был быть выходцем из семейства шамхалов. У Алибека было двое сыновей: Сурхай-шамхал и Герей-шамхал, но оба они погибли еще при жизни отца. В день смерти Сурхай-шамхала у Герей-шамхала родился первенец, которого в честь погибшего дяди и назвали Сурхаем. Через несколько лет погиб и Герей-шамхал. Остались их дети: у Сурхай-шамхала семеро сыновей и одна дочка, а, у Герей-шамхала один сын Сурхай.
За воспитание внуков взялся сам халклавчи Алибек. А у Сурхая был еще и дед по матери, известный арабист, который взялся обучать Сурхая. И мать Сурхая была грамотной женщиной, владела арабским языком.
С раннего детства Сурхай отличался умом и смекалкой, был вынослив и смел. Мать никогда не баловала своего единственного сына, посылала его со взрослыми парнями на охоту и на состязания. Еще мальчиком он мог вскочить на бегущего скакуна и спрыгнуть с него, купался в ледяной речке. Как-то ранним зимним утром встретила Сурхая родственница, он шел на речку делать намаз перед моленьем. Жалко стало ей мальчика, пошла она к его матери и спросила, почему рискует единственным сыном. “Разве есть у тебя кроме него еще кто-нибудь?”
Мать Сурхая ответила: “Именно поэтому я так поступаю! Если Сурхай вырастет тряпкой, нет у меня другого сына, который вырастет мужчиной. Разве не ему, единственному, надо будет защищать меня, мою землю, мой народ? Будь что будет, судьбу, предначертанную богом, нельзя предотвратить!” Хотя о смелости и выносливости Сурхая шла молва, сам он робел перед двоюродными братьями. Они часто обижали его, а он не смел им ответить тем же. Очень не нравилась эта робость его учителю, деду по матери. Однажды после очередной выходки братьев, обидевших Сурхая, дед-учитель позвал к себе мальчика и одел на него талисман.
– Этот талисман, – сказал он, – спасет тебя от любой беды. Какую бы рану, какую бы травму ты не получил, не бойся, ты выживешь. Запомни: ты ни в коем случае перед соперником не должен робеть, будь то брат или чужой. Если в душу закрадется робость, вспомни о талисмане и положи на него руку, через мгновение к тебе вернется смелость: как тигр, бросайся на противника! Тебя никто не сможет победить!
Дед часто возил Сурхая в горы, в поле, на охоту, учил его ловко взбираться по скалам, прыгать через ущелье, джигитоваться с саблей на скакуне и, когда Сурхай робел, дед тут же приказывал: “Тронь талисман!” И робость Сурхая действительно исчезала. И вырос Сурхай самым отважным среди ровесников. К тому же в семнадцать лет он в совершенстве владел турецким и арабским языками и прочел много книг арабских и турецких ученых. Весь коран он знал наизусть. Когда Сурхаю не было еще и восемнадцати, дед Алибек женил его на двоюродной сестре – дочери Сурхай-Шамхала, единственной сестре семерых братьев. Этим браком халклавчи Алибек хотел укрепить дружбу между сыном Герей-шамхала и братьями, ибо чувствовал, что сыновья Сурхай-шамхала недолюбливают его. Но стар и немощен был Алибек и вскоре заболел и слег. Всеми делами Кази-Кумуха стала управлять его сноха, вдова Сурхай-шамхала Умамат-бике. После смерти халклавчи Алибека, народ Кази-Кумуха и окружных сел собрался на базарной площади Кумуха для выборов нового правителя. Старшины решили пригласить на эту должность одного из сыновей Сурхай-шамхала. Послали вакилов к Умамат-бике с просьбой назвать одного из сыновей, наиболее достойного такой чести. Умамат-бике доложили, что пришли вакилы народа с просьбой назвать лучшего из семерых. Но она не соизволила даже выйти к ним, посланцам, сняла с ноги башмак и бросила слугам: “Передайте, что управлять ими сможет даже этот мой старый башмак!”
Оскорбленные вакилы вернулись на площадь и доложили народу о случившемся. Возмутились люди и решили пригласить на должность халклавчи Сурхая, сына Герей-шамхала. Послали тех же вакилов к матери Сурхая. С должным уважением приняла она вакилов, выслушала их, и велела слугам найти Сурхая. Мать взяла в руки коран и приготовилась к беседе с сыном. Когда Сурхай явился, сказала ему:
– Сын мой, народ хочет избрать тебя своим халклавчи и уважаемые вакилы пришли спросить моего согласия на твое избрание. Я дам согласие только в том случае, если поклянешься на коране, что будешь следовать моему совету, когда станешь халклавчи. Ты должен любить, жалеть и утешать народ, жаждущего утолить, знать душу голодного и утешить скорбящего. В трудное для народа время – будь вместе с ним, а если придется, должен отдать за него не только силы и ум, но и саму жизнь. С людьми старше себя – разговаривай, как с отцом своим, с людьми младше тебя – обращайся, как с детьми своими, а с ровесниками будь как с братьями. Ты должен поднять споткнувшегося и простить его. Если ты обещаешь следовать этим советам, поклянись! – мать на вытянутых руках поднесла сыну коран. Сурхай поклялся делать все так, как советует мать. И мать дала вакилам свое согласие и отправила с ними своего сына. Вакилы доложили народу, как встретила их мать Сурхая и какой наказ дала сыну. Народ одобрил поступок сына и матери и Сурхая провозгласили ханом… Но этим не обошлось. Возмущенные поступком вдовы Сурхай-шамхала, люди направились к дому, чтобы расправиться с оскорбившей народ гордячкой и ее сыновьями. Кто-то предупредил их о грозящей беде. Умамат-бике приказала нукерам и слугам запереть ворота и никого не впускать, приготовить оружие, чтобы в случае необходимости дать отпор. Ворота заперли. Подошедшие люди окружили все жилище Шамхала. Возле ворот и во дворе завязалось жестокое сражение, много нукеров и слуг погибло. Но когда люди ворвались во дворец, там не оказалось ни сыновей шамхала, ни их матери: они убежали еще до окружения. Через несколько дней стало известно, что они укрылись в одной из крепостей на окраине селения Акуша. Акуша тогда не входило в Кази-Кумухское шамхальство.
Народ полюбил Сурхай-хана, почитал его. Молодой халклавчи собрал вокруг себя старейшин Кумуха и окружных сел и вел дела, советуясь с ними. Однажды к Сурхай-хану явились старейшины аулов, граничивших с Акушой, с жалобой, что двоюродные братья Сурхая обижают людей: собирают дань, отбирают скот и драгоценности, бьют и наказывают неповинующихся им.
Сурхай-хан с несколькими нукерами отправился вместе со старейшинами на границу с Акушой. И действительно застал своих братьев бесчинствующими в одном из аулов. Сурхай-хан потребовал, чтобы они удалились и не смели беспокоить народ ханства. Братья ответили грубо и оскорбительно. Тогда Сурхай предложил драться. Братья обрадовались. Их было семеро, а Сурхай – один с двумя нукерами. Чтобы не вовлекать в кровопролитие людей, Сурхай предложил драться за горой.
Прежде чем вынуть саблю, Сурхай предупредил своих нукеров, чтобы не вмешивались в драку и даже не подходили к нему, пока он жив. Началась жестокая драка. Сурхай дрался, как лев. Он уложил троих, но и ему отсекли саблей кисть левой руки. Истекая кровью дрался Сурхай, ранил оставшихся четверых и они сдались. Сурхай велел своим нукерам оказать помощь раненым братьям. Стоя над убитыми братьями, плакал молодой хан. У него самого оказалось семьдесят ран. Сурхай велел созвать народ и отвезти тела братьев к их матери в Акушу. Он организовал похороны и похоронил их с почестями, подобающими шамхалам. Одного из нукеров послал к жене с повелением немедленно выехать на похороны своих братьев в Акуша. Был у них в то время восьмимесячный сын по имени Магомед. Так и окончилась их совместная жизнь.
Впоследствии Сурхай-хан женился на дочери известного в то время арабиста из селения Цущар. Ее звали Хаджи-Айшат, ибо не только грамотной была эта девушка, но и совершила хадж в Мекку.
С первых дней правления шла в войнах жизнь Сурхай-хана. И всегда он личной отвагой и мужеством вдохновлял воинов. Подобно деду своему – халклавчи Алибеку, воспитывал он и своих сыновей – Магомеда и Муртазаали. Много песен сложено в народе о младшем сыне, Муртазаали, разбившем персов.
В войне с иранскими захватчиками Сурхай-хан участвовал в преклонном возрасте. И попал он в плен к самому Надир-шаху. Хотел шах казнить его. И Сурхай-хан сказал ему:
– Я стар. Не много урона для моего народа будет от этой казни. А много ли пользы будет тебе? Помни, после моей смерти твоя жизнь будет длиннее моей лишь на несколько дней…
Надир-шах воздержался от казни Сурхая и отправил его в тюрьму города Дербента, где. была резиденция Надир-шаха. Туда же он выслал и жену Сурхай-хана Хаджи-Айшат. Но не заточил ее в тюрьму. Сумела Хаджи-Айшат встретиться с женой Надир-шаха, покорила ее своим умом и грамотностью, и та сделала все, чтобы облегчить участь Сурхай-хана: он был освобожден из тюрьмы, хоть и не мог выехать из Дербента. Когда сын Сурхай-хана Муртазаали разгромил персидские войска, не до пленных было Надир-шаху, и вернулись они домой… Кази-Кумухским ханом в то время был старший сын Сурхая – Магомед.
Старый и больной Сурхай-хан доживал свои последние дни в постели. Незадолго до смерти он раскрыл талисман, что носил с самого детства. В пропитанной воском ткани был завернут тоненький лоскуток кожи с надписью: “Срок жизни твоей находится в руках Аллаха, но удача твоя в решительности и уверенности твоей души”.
Балахалун
Среди имен лакских девушек, сбежавших со своими любимыми, самым первым упоминается имя Балахалун, дочери длинноносого Гаруна, известного кумухского уздена.
Из всех трех дочерей Гаруна Балахалун была самой младшей, красивой и умной. Говорят, тогда в Кумухе не было девушек, подобной ей. Ее старшая сестра Шахрубани была замужем за двоюродным братом Гузуновым Магомедом. Но они прожили недолго, Шахрубани неожиданно заболела и умерла. Года через два, когда Магомеду надо было жениться, ибо у него было хозяйство, его мать и сестра решили взять вторую дочь Гаруна Аймисей за Магомеда, чем делить имущество, пашню и ckqt умершей сестры. Она поговорила с братом, и он решил, что сестра права. Но Аймисей любила другого парня, Джофара, сына генерала Нажвадина. Балахалун, которая была года на два моложе Аймисей, носила им любовные записки друг от друга.
Узнав, что ее собираются выдать замуж за Магомеда, Аймисей очень расстроилась, проплакала всю ночь, Балахалун, жалея сестру, стала успокаивать ее, но видя, что этого сделать невозможно, пошла к Джофару и рассказала обо всем. Джофар написал записку любимой, сообщив, что если она согласна выйти за него замуж, он вызовет своего отца из Темир-Хан-Шуры и пошлет его просить ее руки. Аймисей ответила положительно, и Джофар вызвал отца, который был известным в Дагестане генерал-майором. Приехав, Нажвадин с родственниками пошел просить руки Аймисей. Гарун, не желая выдать дочь за Джофара, ответил Нажвадину так: “Лучше твоего сына я бы себе зятя не желал иметь, но, к великому сожалению, уже на днях дал слово другим сватам. Ее руки просит сын моей сестры Магомед, если я теперь изменю свое решение, могут быть большие непрятности между родственниками, как я людям в лицо посмотрю?”
Джофар знал, что никакого сватовства не было, что Гарун сделал хитрый маневр и ввел в заблуждение его отца. Он решил похитить Аймисей. Но Аймисей не согласилась: с одной стороны, она боялась отца и братьев, с другой – было стыдно перед матерью и родичами, которые еще не сняли траур после смерти Шахрубани.
В те же дни Магомед одел кольцо Аймисей, принес ценные подарки, а ее согласия никто не спрашивал.
Опасаясь, что дочь могут похитить люди Джофара, Гарун ставил на ночь у дома караул, а его сын Бадави следил за каждым шагом сестры. Отец был весьма строгим, даже жестоким мужчиной, все в доме беспрекословно слушались его. Через некоторое время сыграли свадьбу, выдали Аймисей за Магомеда. Родители же Джофара, задетые отказом Гаруна, решив продемонстрировать перед ними свои возможности, пошли сватать за своего сына девушку не хуже, а гораздо выше по положению и богатству. Это была дочь известного кумухскогв тухума Джалаловых – Маазат. Она была красива, очень богата, именита. Джофар просил родители не торопиться со сватовством, он не был расположен к этой девушке. Но родители его не слушали и отправились к Джалаловым, те дали согласие, на том и порешили, Услышав эту весть, Балахалун разгневалась. Она, любя Джофара, посвятила ему стихи, которые послала своему любимому. Говорят, что Балахалун сочиняла прекрасные стихи, старожилы Кумуха сожалеют, что ее стихи не дошли до нас. Получив тетрадь со стихами Балахалун, Джофар был изумлен и обрадован. После того, как Аймисей выдали замуж за Магомеда, он даже не ходил в сторону дома Гаруна, но письмо и стихи любимой как-то разбудили его. Он позабыв обо всем, побежал к дому Гаруна и дал знать Балахалун, что хочет ее видеть. Они встретились, и Джофар спросил ее, вздумала ли она подшутить над ним. Понял, что она не шутит. Джофар полюбил Балахалун, поэтому душа его не лежала к Маазат. Родители Джофара уже готовились играть свадьбу, но он заставил отложить это; а сам написал письмо к Маазат, где честно признался, что не расположен к ней, что родители назло или в отместку Гаруну засватали ее за него и, что он не хочет ломать ей жизнь, сделать ее несчастной, просил самой отказаться от него, чтобы как-то не уронить ее престиж перед людьми. Маазат не ответила Джофару. Так прошел год. По рукам кумухских девушек ходили любовные стихи Балахалун, но о ком они, никто и не догадывался, все думали, что ее отношения с Джофаром были связаны только лишь любовью Аймисей к нему.
Однажды Аймисей прислала за Балахалун и рассказала ей, что их отец советовался со своей сестрой, вернее со свекровью Аймисей, что Ганапи просит за своего сына Сулеймана Балахалун, так как парень серьезно влюблен в нее. И еще свекровь рассказала, будто она слышала от родственников Маазат, что Джофар не женится на Маазат, потому что Балахалун вскружила ему голову своими любовными письмами.
– Зачем тебе, чтобы на тебя люди плели напраслину, Сулейман очень хороший парень, если он будет тебя сватать, выходи за него, да и отец знает, что люди злорадствуют и потому на тебя наговаривают, – сказала Аймисей.
– Нет, сестра, люди не наговаривают, я люблю Джофара, и он любит меня, я не поступлю с ним так, как ты поступила, я выйду за него замуж! – ответила Балахалун. Аймисей была очень удивлена признанием сестры.
– Конечно, если ты любишь Джофара, и это взаимно, то он для тебя идеальный вариант. У нас в городе нет такого парня как Джофар. Но ведь наш отец может тебя засватать за Сулеймана, не спросив твоего согласия, и потому надо вам что-нибудь придумать до твоего сватовства, Сулейман наш родственник и не нужно напрасно его унижать перед людьми. Да и могут быть неприятности между родственниками, – настаивала Аймисей.
Балахалун встретилась с Джофаром и рассказала ему обо всем, тот решил ее похитить.
– В четверг свадьба моего друга, я буду дружком жениха, а в пятницу я тебя буду ждать под вашими окнами, – сказал твердо Джофар. Так они договарились и расстались. Но Балахалун была мудрой девушкой, она знала, что кумухская знать не простит Джофару такой подлости по отно шению к Маазат, и прежде всего, не простят ее родители. Таким образом уронить престиж Джофара перед кумухской общественностью Балахалун не хотела. “А что, если я поставлю себя под удар?”– подумала она и пошла к Аймисей за советом. Объяснив сестре всю ситуацию, Балахалун сказала: “Лучше я в четверг сама пойду в дом Джофара и скажу родителям, что люблю его, потому и пришла, и уходить от него не собираюсь. Джофар же в это время будет на свадьбе друга, и никто не станет его обвинять в предательстве, и честь Маазат и Джофара будет спасена”.
По мнению Аймисей, это был самый идеальный вариант, но ведь так не делают, если молодые любят друг друга, то, обычно, парень похищает девушку. Не будет ли этот поступок большим позором для Балахалун, и во что все это обернется? Сестры долго думали и перебирали разные варианты, но Балахалун стояла на своем решении, так и ушла домой. А завтра был четверг. Целый день Балахалун перебирала свои вещи, делала уборку, а матери сказала, что вечером пойдет к сестре, чтобы положить себе и ей на голову хну. А сама, собрав в узелок свои вещи, положила его под мышку и пошла к дому генерала Нажвадина. Мать Джофара Аматулла искренно обрадовалась нежданной гостье, стала суетиться, куда бы посадить, чем бы ее угостить. Она подумала, что Балахалун пришла за чем-нибудь или мать ее послала к ним по делу.
– Садись, садись, радость моя, чем же таким вкусным тебя угостить? Пусть в золото превратится та вещь, которая понадобилась тебе в нашем доме! – говорила Аматулла, обхаживая гостью.
– Не с просьбой к вам пришла, а насовсем, решив стать вашей дочерью и женой Джофара, я его люблю, – сказала Балахалун. Аматулла, которая собиралась о чем-то спросить, так и осталась с раскрытым ртом.
– Ой, Аллах! Ведь у Джофара есть нареченная невеста. А ты такая красивая, видная девушка, тебя ведь любой князь возьмет…
– Мне не нужен другой, я люблю вашего сына.
– Боже мой, что теперь делать, что сказать Джалаловым, какой стыд перед людьми, что теперь будет с Джофаром? Если он тебя похитил, где же сам?
– Нет, он меня не похищал, Джофар и не знает, что я здесь.
– А где же он? – Аматулла схватилась за голову и стала бегать по комнатам. Затем опомнилась и вспомнила, что Джофар на свадьбе друга, а сюда могут нагрянуть мужчины, родственники Балахалун, они могут подумать, что ее похитил Джофар. Она быстренько побежала за своим двоюродным братом Юнусом. Тот собрал друзей и поставил на караул возле дома Джофара, а сам побежал искать племянника. Было уже позднее время, люди расходились со свадьбы, а Джофара нигде не было. Одни говорили, что он только что танцевал здесь, другие, что с ребятами пошел к родичам невесты за халвой и бузой. Но тут одна женщина подошла к Юнусу и тихо сказала, что Джофар был выпивший и она его уложила у себя на веранде, и показала на соседний дом. Юнус подошел к спящему Джофару, дал ему пинка и сказал:
– Вставай, подлец, натворил делов, а теперь спишь как-будто твоя совесть так и чиста? Идем, к тебе невеста пришла!
Когда они отправились домой, к ним навстречу вышел их сосед и сказал Джофару: “Исчезни отсюда, все Чанкри пришли за своей девушкой, там такой переполох, исчезни! “И Юнус проводил его к своему дальнему родственнику. Родные требовали, чтобы Балахалун вернулась домой, но та отказалась, и когда Чанкри узнали, что ее Джофар не похищал, что она сама пошла к нему, пораженные ее поступком, ушли домой.
По старинному обычаю кумухцев, сватать девушку посылали семь, восемь человек в дом невесты с подарками от жениха. Среди подарков были драгоценности, одежда и парфюмерия, посылали большой серебрянный поднос с пловом, вазу с лакомством и фарфоровый или глиняный сосуд с бузой. Если же впоследствии размолвка происходила по вине жениха, все это оставалось невесте, а если же в размолвке была повинна невеста, по обычаю, она должна была вернуть все подарки жениху.
Услышав о том, что к Джофару пришла невеста, Маазат на следующее же утро послала в дом Джофара семь человек родственников со всеми подарками, что прислал ей Джофар, с подносом плова, лакомствами и с той же фарфоровой вазой с бузой, хотя она, по обычаю, не должна была возвращать его подарки.
Родители Джофара сыграли свадьбу, но от Чанкри никто не явился, Гарун наотрез отказался простить дочери ее поступок. Через несколько месяцев при родах умирала Аймисей. Все родственники собрались в доме Магомеда Гузунова, врачи беспомощно разводили руками, никто не в силах был помочь, она истекала кровью. Перед смертью Аймисей пожелала увидеть Джофара и Балахалун и Гарун исполнил просьбу Аймисей, которая вскоре умерла.
* * *
Прошло пять, шесть лет, у Балахалун и Джофара было уже двое сыновей. Однажды родственники Бухцанаевы пригласили их на свадьбу, где тамадой был двоюродный брат Балахалун Имран, там же были все родные и двоюродные братья Балахалун. Играли лезгинку, и вдруг в разгар танца тамада остановил музыкантов.
– Дорогие друзья, – сказал тамада, – к нам на свадьбу приехал долгожданный и дорогой гость, надо нам сначала его принять достойно, а затем танцевать!
А гостем оказался сын Ганапи Сулейман, который в свое время был влюблен в Балахалун, и когда она сбежала к Джофару, от обиды уехал из Кумуха. Все эти годы он работал в Азербайджане ювелиром и по приглашению родных приехал на свадьбу.
Тамада пригласил Сулеймана к своему столу, обнял его, налил чару вина и подал ему. Все кругом подняли свои бокалы, стали чокаться с Сулейманом, поздравлять его с приездом и со свадьбой. Затем тамада объявил, что сейчас музыканты сыграют лезгинку в честь нашего дорогого гостя, и первый танец за ним.
В это время взгляд Сулеймана упал на Балахалун, которая, как королева выделялась среди женщин. Она стала еще краше и обаятельнее, выше ростом, пополнела, что придавало ей солидность, и одежда на ней была бесподобная. Джофару не понравилось, что Сулейман, не отрывал глаз от Балахалун. Перед тем, как объявили танец, он подошел к ней и предупредил, чтобы она не вышла с ним танцевать, если даже он пригласит ее.
– Этого достойного человека и близкого своего родственника я в своей жизни уже обидела один раз. Если же сегодня перед столькими людьми я оскорблю его, отказавшись с ним танцевать, снова нанесу ему рану. Чем этот безвинный мужчина заслужил такое оскорбление? Тем ли, что он тоже в свое время, как и ты, был влюблен в меня, а я выбрала тебя? – ответила Балахалун мужу.
Заиграла музыка, тамада объявил, что первый танец принадлежит Сулейману. Он же, не зная о состоявшемся между Балахалун и ее мужем разговоре, подошел к ней, поклонился, как королеве и пригласил на танец. Балахалун вышла с ним танцевать, и все кругом любовались ими. Джофар бросился к ней и изо всей силы ударил ее по лицу. У Балахалун потекла кровь из носа, и она краем шелкового платка, что был на ее голове, закрыла лицо. Тотчас к Джофару бросились родные и двоюродные братья Балахалун, схватили его за горло и стали бить:
– Кто ты такой, чтобы среди стольких людей в нашем присутствии бить нашу сестру, подлец! – кричали они. Тут тамада бросился к ним, еле разнял, выгнал со свадьбы Джофара, а братьям Балахалун сказал: “Она мне тоже сестра, я сам разделаюсь с ним, но только не здесь”.
А Балахалун, закрыв лицо платком, с подружками ушла со свадьбы в отцовский дом. Дома мать Джофара тоже поругала сына за ревность и несдержанность, и когда Балахалун допоздна не пришла домой, послала сына к ней просить прощение. Джофар пошел за женой, но она его не простила и вернуться домой отказалась. Мать Балахалун стала ее уговаривать вернуться к мужу, привела множество примеров, когда женщины терпят от мужей гораздо большие обиды и побои, но дочь не стала слушать и свою мать. Джофар решил прождать время, пока у нее пройдет обида, и она одумается, через месяц вновь пришел к ней просить прощение и уговорить вернуться к нему. Но Балахалун и теперь была неумолима. Родители настаивали, чтобы она вернулась к мужу и поэтому Балахалун пошла к своим родственникам Бухцанаевым и полгода жила у них. А дети жили то с ней, то с отцом.
Так прошло несколько лет, и родные Джофара стали ему напоминать, что в доме нужны женские руки, если Балахалун не собирается возвращаться, ему необходимо жениться на другой. Стали выбирать ему невесту. По соседству с ними жила женщина Патимат, с которой муж разошелся от того, что у нее не было детей. Она была молода, красива, очень умной и хозяйственной женщиной, и родственники Джофара предложили ему сделать ей предложение. Джофар же подумал, что если Балахалун убедится в том, что он серьезно собирается жениться на другой, она одумается, не захочет, чтобы у ее детей была мачеха и вернется к нему.
Он послал сватов к Патимат, но та удивилась, почему же Джофар, которого она встречает в день пять раз на улице, ни словом не заикнулся об этом с ней, а прислал сватов, от него ли исходит это предложение? Сваты передали сомнения Патимат, а затем он и сам подошел к ней. Она обещала подумать.
Патимат видела, что Джофар, хоть и сватается к ней, разговаривает с ней вежливо, но не любит ее и потому решила посоветоваться с людьми, хорошо знающими и Балахалун, и Джофара.
Умной и рассудительной была Чаргиева Патимат, к тому же близко знающая эту семью. Когда Патимат пришла к ней за советом, Чаргиева сказала: “Это мудро с твоей стороны, что решила посоветоваться со знающими людьми. Балахалун – это огонь, спрятанный в навозной куче. Он внутри горит и, лишь набравшись сил, вырывается наружу. Джофар ее любит, и она любит его. Прежде чем решиться на этот брак, ты должна очень хорошо все взвесить, главное, узнать, что таится в душе Балахалун, ибо все в этой ситуации зависит только от нее”.
Когда родственники Джофара стали уговаривать Патимат, настаивать на своем, она решила пойти к Балахалун и поговорить с ней. А Балахалун, знавшая о том, что Джофар сватает Патимат, приняла ее очень вежливо, как будто ничего и не знает. Когда же Патимат рассказала о цели своего визита, Балахалун сказала:
– У умного человека все поступки умны. И с твоей стороны очень разумно то, что ты ко мне пришла за советом. Я не маленькая девочка, чтобы играть в кошки-мышки. Если бы я когда-нибудь хотела помириться с Джофаром, не стала бы лукавить. Раз я один раз сказала, что не помирюсь с ним, значит так оно и будет. Джофар хороший мужчина и жила я с ним, лучше, чем в отцовском доме. Если твоя душа лежит к нему, выходи за него замуж. Он тебя не обидит. А наш развод тебя мало касается, это наше дело.
Патимат вышла замуж за Джофара.
А дети Балахалун по-прежнему стали жить, то у отца, то у матери.
Потом Патимат так полюбила этих детей, что скучала за ними, когда они ходили к матери и несколько дней не возвращались.
В конце концов Патимат предложила Балахалун жить со своими детьми в их доме, зачем мучить детей?
Балахалун тоже решила, что теперь уже ребята повзрослели, и им стыдно бегать от отца к матери, от матери к отцу. Она перешла жить в дом Джофара, где две комнаты были выделены ей и сыновьям.
Рассказывают, что Балахалун и Патимат жили как две сестры, люди любовались их дружбой, но Балахалун никогда не смотрела в сторону Джофара и не разговаривала с ним.
Агалар-хан и Али-хаджи Гуйминский
Известный в XIX веке в Кази-Кумухском округе ученый-арабист, совершивший хадж и владевший восточными языками муалим Али-хаджи никогда не ходил на ханские пиры, сколько бы его не приглашали и немедленно исчезал из села, когда Агалар-хан со свитой нукеров явился в их село. Жена Али-хаджи, Итта, была сестрой Шахмардана – сельского юзбаши и самого состоятельного человека в селе, у которого гостил хан будучи в этом ауле.
Шахмардан щедро угощал высоких гостей, приглашал на пир талантливых певцов и танцоров, чтобы угодить хану.
Али-хаджи хоть и не служил мюридом у имама Шамиля, был его сторонником, собирал продукты, сушеное мясо и курдюки в своем магале и доставлял их Шамилю. Агалар-хан, бывший тогда в оппозиции к имаму Шамилю, карал и наказывал каждого, кто помогал ему и до него дошли слухи о том, что Али-хаджи тоже помогает Шамилю. Когда хан бывал в гостях у Шахмардана, непременно спрашивал, почему здесь не присутствует Али-хаджи и посылал за ним нукеров, которые приносили ответ, что Али-хаджи в горах пасет своих овец. Зная, что Али-хаджи нарочно избегает встречи с ним, хан однажды в сердцах отчитал Шахмардана:
– Если ты в состоянии держать в кулаке не только свое село, но и весь Вицхинский магал, неужели не в состоянии справиться с одним односельчанином?!
– Он мой зять, а зятья мне не подвластны, – ответил Шахмардан.
После этого хан решил явиться в село Гуйми незамеченным и застать Али-хаджи у себя дома.
Однажды, ранним летним утром хан объявил нукерам, что он намерен посетить село Кунди, велел оседлать лошадей. И отправились они действительно по дороге, ведущей в Кунди, а в одном из ущельев повернули в сторону села Гуйми, чему удивились и сами нукеры.
– Мы должны войти в село незамеченными, значит надо будет подниматься с противоположной стороны, по тропинкам, – сказал хан.
Гуйминские пастухи, пасущие скот на высоких горах, заметили как хан в узких ущельях по труднодоступным тропинкам пробирается к их селу и немедленно послали гонца к Шахмардану, сообщить об этом. Шахмардан тут же велел домашним зарезать барана и готовить хинкал, а сам поспешил к Али-хаджи. Вернувшись домой, Шахмардан, как ни в чем не бывало, стал громко читать Коран, сев на самое видное место веранды. Поднявшись в село, хан с нукерами слезли с коней и без шума направились к дому Али-хаджи. Хан встал возле ворот и крикнул:
– Али-хаджи, на этот раз я твой гость, не всегда же мне гостить у Шахмардана!
Из окна выглянула красивая девочка лет 14–15-ти и тут же скрылась. Затем вышла жена Али-хаджи, Итта:
– Заходите, заходите, дорогие гости, но как жаль, что Али-хаджи нет дома, – сказала она с радушным выражением лица.
Хан кивком головы велел нукерам обыскать дом. Нукеры гурьбой влетели во двор, обошли весь дом, каждый уголок, но Али-хаджи не обнаружили. Это сильно разозлило хана и, ругаясь, он направился в сторону дома Шахмардана.
– Что за красавица выглянула в окно в доме у Али-хаджи? – спросил хан нукеров.
– Это дочь Али-хаджи, Зайнаб, – ответили ему.
– Почему я ее никогда не видел? – спросил он.
– Можно сегодня же и увидеть, говорят, она хорошо поет, – ответили нукеры.
При подходе к дому Шахмардана, почуяв запах варящегося свежего мяса, хан заулыбался.
– Что, Шахмардан, дочку ли выдаешь замуж, сына ли женишь, к какому пиру готовишься? – крикнул хан еще с улицы.
– Почтенный хан, мы едим и в будние дни, и гостям рады, что приехали составить нам компанию! – сказал Шахмардан, закрывая Коран, что только что читал.
– Тогда вынеси свой кувшин с бузой, у нас глотки пересохли от трудной дороги! – воскликнул хан.
Вынесли кувшин с бузой, и хан жадно стал пить бузу из горлышка, затем отдал нукерам.
– Где наша тавхана? – спросил хан, хотя прекрасно знал, где она.
Пока гости на коврах и подушках отдыхали, подоспел и хинкал. Наевшись и напившись, хан требовал веселья. Привели поющих женщин с бубнами и парней с балалайками. В разгар веселья хан вспомнил про дочь Али-хаджи.
– Что-то ты хитришь, Шахмардан, чужие хурджины раскрываешь, а свои прячешь подальше? – сказал хан с издевкой.
– У меня нет от тебя тайн, мой хан, все, чем я располагаю, перед тобой, – удивился Шахмардан.
– Не все передо мной, наслышан я о твоей племяннице Зайнаб, которая лучше соловья поет.
– Мой хан, да она же еще девчонка, я сам еще не слышал, как она поет, – отнекивался Шахмардан.
– Ну тогда вместе послушаем, привези ее сюда, – стал настаивать хан.
Все в округе знали о любви Агалар-хана к красивым девушкам, и о его забавах, и потому девушки избегали встречи с ним.
Шахмардану пришлось послать за племянницей. Зайнаб пришла одетая в старье и с запачканным сажей лицом. Дали ей бубен и она неохотно что-то спела.
– Теперь пусть эта девушка передаст мне свой бубен! – потребовал хан и, взяв бубен в руки запел:
Без ухода не вырастить Черные бобы цудахарцам, Не умывшись не показать И красные щечки Зайнаб…Спел хан и послал Зайнаб умываться. Тут к Шахмардану подошли сельские парни с кинжалами за поясами и что-то сказали ему на ухо. Шахмардан бросил суровый взгляд на хана и встал в окружении парней.
– Чего же ты испугался, Шахмардан? Ты юзбаши села, кунак хана, Итта – сестра твоя и Зайнаб дочь ее. Нельзя было твоей племяннице спеть для хана одну песню? – возмутился хан.
Жена Шахмардана, почуяв опасность, быстро отправила племянницу домой, чтобы они с матерью ушли куда-нибудь, пока хан не уедет из села. Итта, хорошо знавшая повадки хана, быстро набила хурджины продуктами, навьючила осла и вместе с дочкой направилась в село Танты, что было расположено в пяти километрах от них. Село Танты входило в вилайят имама Шамиля, и Агалар-хан никогда не наведывался туда. Вспомнив о сыне, пасущем телят на пастбище, Итта послала к нему соседских ребят сказать ему, что они ушли в Танты, и где в это время находился Али-хаджи она не знала. А у Шахмардана пир был в разгаре, пели и плясали. Хан вспомнил о Зайнаб, которую он послал умыться и стал искать ее глазами, когда же ее не нашел, шепнул нукеру, чтобы разыскал.
– Ее нет здесь, – доложил хану нукер.
– Тогда иди за ней домой и приведи ее! – приказал хан.
Через некоторое время явился нукер с докладом, что в доме Али-хаджи нет ни души.
– Раз нет ни души и наши руки развязаны! – сказал хан и вскочил.
Вместе с ним вскочили и все нукеры и гурьбой направились к дому Али-хаджи.
В это время Итта с дочкой дошла до окраины села Танты и вошла в чей-то сарай на окраине. Агалар-хан в доме Али-хаджи с остервенением стал ломать и крушить все кругом.
– Устройте погром и сожгите все! – приказал он своим нукерам.
Те стали вытаскивать из комнат мебель, ковры, посуду и кидать во двор. Затем подожгли.
– Пусть теперь Али-хаджи полюбуется на свое пепелище! – расхохотался хан. Тут какой-то мальчишка, не понимающий смысл происходящего, крикнул:
– Я видел как их сын Курбан бежал по дороге в Танты, надо бы ему сообщить!
Хан велел одному из нукеров поскакать в сторону села Танты, может он и успеет догнать беглецов.
Итта и Зайнаб, глядевшие из сарая в сторону Гуйми, не появится ли там ханская погоня, заметили мальчика, бежавшего в их сторону. Через некоторое время они узнали в нем Курбана.
– Вот глупыш, кто же тебя просил бежать к нам средь белого дня, ведь могут поймать?! – запричитала Итта. Мальчик бежал не останавливаясь, время от времени поворачивая голову назад. Когда осталось с километр дороги, за мальчиком появился ханский нукер. Итта стала молиться, чтобы хоть чем-то помочь сыну. А Курбан же изрядно уставший, понял, что всадник скоро его настигнет и остановился.
– Что же ты, дурак, остановился? – крикнул сзади ханский нукер. – беги! Если бы я хотел поймать тебя, давно бы догнал, беги!
И Курбан побежал. Когда до села осталось метров двести Итта, не выдержав, побежала навстречу сыну, схватила его руку и потащила с собой. Всадник не осмелился подойти поближе к селу и повернул обратно. Узнав в нем ханского нукера тантынцы могли в него выстрелить. В ту же ночь в Танты пришел и Али-хаджи. Он уже знал о поджоге своего дома. Оставив в Танты семью, Али-хаджи поехал к имаму Шамилю доложить о случившемся. Шамиль назначил его имамом мечети в Танты и муалимом в медресе, выделил дом для житья, дал землю и корову.
Через год пришли сваты из Гуйми и Али-хаджи выдал Зайнаб замуж за своего родственника. Однажды в Танты прискакал мюрид от имама Шамиля с письмом к Али-хаджи, где имам просил набрать в этом селе отряд мюридов ему в помощь. Али-хаджи сумел собрать небольшой отряд и сам пошел с ним к имаму. Не прошло и месяца, как из Цудахара пришло Итте сообщение, что ее муж лежит у кунаков с тяжелым ранением. Собрав полные хурджины продуктов, Итта отправилась в Цудахар. Нашла мужа в тяжелом состоянии, стала ухаживать за ним. Но Али-хаджи стал настаивать, чтобы его любым способом доставили в родное село Гуйми. Сколько ни отговаривали, не смогли его переубедить. Тогда кунак приготовил арбу с сеном, положил сверху матрац и на него больного, чтобы помочь им в дороге послал с ними своего взрослого сына Рамазана. Был жаркий летний день, больной все время просил пить. Когда дошли до горки вблизи селения Шушия, Итта сказала, что дальше арба не пройдет, нет дороги. Больной попросил спустить его с повозки и положить на щебень в тени. Итта и Рамазан спустили его на матрац и уложили в тени.
– Теперь дай мне еще воды, а сама сходи в Шушия, скажи моим друзьям Осману и Валигаджи, чтобы принесли нам поесть чего-нибудь, – сказал Али-хаджи.
Итта сделала так, как велел муж и пошла в село. Когда вошла в дом Османа, почувствовала запах свежеиспеченного хлеба и обрадовалась. Узнав, что Али-хаджи в тяжелом состоянии, Осман послал сына за Валигаджи, а сам пошел за носилками, чтобы поднять его в село. Итта попросила у хозяйки кусок свежего хлеба и овечьего сыра. Та сказала, что скоро будет и еда готова, но быстренько завернула хлеб и сыр для больного в платок.
Когда же Итта с его друзьями вернулись к Али-хаджи, увидели как Рамазан, сидя возле больного на коленях читает Ясин. Али-хаджи умирал. Итта поняла, почему муж послал ее в Шушия за друзьями. Осман и Валигаджи нагнулись над умирающим, он открыл глаза и попробовал улыбнуться друзьям, но не получилось. Али-хаджи скончался. Узнав, что внизу лежит больной Али-хаджи, мужчины села друг за другом стали спускаться к дороге. Но им не удалось увидеть его живым. Сделав подобающий в таких случаях у мусульман обряд, они понесли его в Гуйми.
Оружие Нуцалхана
Во времена правления Агалар-хана в Кази-Кумухском ханстве жил в Кумухе мудрый, честный, отзывчивый человек по имени Мусибута. Был он уважаемым узденом. И хотя не владел большим земельным наделом, не имел отары овец, своим трудом кормил он семью и жил безбедно. Часто выезжал на заработки Мусибута. Было у него много верных и достойных друзей. Очень дорог был ему друг из Хунзаха по имени Нуцалхан. Во всем Дагестане славилось личное оружие этого хунзахца: редкой красоты и прочности сабля, серебряный кинжал с поясом и серебряное с позолотой ружье. Досталось оно ему в наследство от отца. Агалар-хан был наслышан об оружии Нуцалхана, а однажды, увидев его, загорелся желанием владеть им, и предложил Нуцалхану продать его. Оскорбило гордого человека такое предложение. Тогда сказал Агалар-хан: “Дай мне свое оружие на время, чтобы я смог заказать мастерам точно такое же”. В Дагестане все знали коварность Агалар-хана, и Нуцалхан сомневался в том, что вернется к нему оружие, потому и придумывал всякие причины, чтобы отказать Агалар-хану…
В расцвете лет Нуцалхан тяжело заболел. Когда почувствовал, что может и не поправиться, стал думать, как сохранить заветное оружие, пока подрастут дети. Если оставить его дома или у родственников, Агалар-хан легко найдет. И решил Нуцалхан доверить свое оружие Мусибуте, в нем он был уверен как в себе самом, да и Агалар-хан вряд ли догадается, что оружие находится в Кумухе. Нуцалхан послал в Кумух гонца к Мусибуте. А в Кумухе Агалар-хан установил строгий закон: без его ведома ни один человек не мог выехать либо прибыть в Кумух. Выехавшему без ведома хана грозило серьезное наказание, вплоть до пожизненного заключения в яму.
Гонец из Хунзаха прибыл к Мусибуте зная, что хану уже сообщили о прибывшем, Мусибута пошел за разрешением выехать к больному другу. Почувствовав неладное, и помня обиду на Нуцалхана, Агалар-хан велел Мусибуте явиться за разрешением чере неделю. Дело не терпит отлагательства, сказал в ответ Мусибута. Нуцалхан тяжело и серьезно болен, а он Мусибута, должен вернуть ему долг. Агалар-хан даже обрадовался и предложил ехать вместе. Такого поворота Мусибута не ожидал. Вот и пришлось ему ехать в Хунзах с Агалар-ханом и его нукерами. Всю дорогу Мусибута мучила мысль, что ставит он друга в тяжелое положение, явившись вместе с Агалар-ханом. По прибытии в Хунзах он решил опередить Агалар-хана: пока тот с нукерами осматривал местность, поскакал вперед, но хан окликнул его и вернул…
Нуцалхан в ожидании друга велел смазать, почистить оружие и завернуть в провощенный холст. Когда же сообщили, что Мусибута едет с Агалар-ханом, он велел спрятать оружие под своей постелью.
К больному Агалар-хан и Мусибута вошли вместе, поздоровались и сели возле его постели. Мусибута вытащил из кармана сверток с деньгами и сказал Нуцалхану: ”Я собирался, чтобы вернуть мой долг. Узнавши, что ты болен, Агалар-хан тоже решил тебя навестить…” Мусибута положил сверток возле подушки Нуцалхана, стал справляться о здоровье, о домочадцах, а Агалар-хан стал просить, чтобы Нуцалхан отдал ему оружие, пока сам болен.
– Оружия нет дома, я отдал его хорошему мастеру почистить, кое-что подремонтировать, когда возвратит – отдам…
Агалар-хан понял, что его обманывают, но сделать ничего не мог, хунзахцы не подвластны ему. Ни угощение, ни приглашение хунзахцев не прельщали Агалар-хана, он был зол и мрачен. Возвращался он в Кумух тоже вместе с Мусибутой и всю дорогу ругал и клял Нуцалхана. В ту же ночь явился к Мусибуте гонец из Хунзаха, пробирался он по горным дорогам, но привез оружие Нуцалхана и письмо. Никем не замеченный гонец тут же выехал обратно. В письме Нуцалхан просил Мусибуту спрятать и сберечь оружие, пока его дети подрастут. Нуцалхан возвратил те деньги, которые Мусибуте пришлось оставить возле его подушки.
Не прошло и недели, как из Хунзаха сообщили о кончине Нуцалхана. Мусибута пошел к хану за разрешением выехать на похороны друга. И на этот раз Агалар-хан решил ехать с ним вместе.
После похорон Агалар-хан стал спрашивать у родственников Нуцалхана об оружии, но те ничего не знали. Тогда Агалар-хан стал допытываться у жены Нуцалхана. Та сказала, что оружия у нее нет и не знает где оно. Агалар-хан потребовал, чтобы поклялась в этом на коране, она поклялась. Всех родственников Нуцалхана Агалар-хан стал заставлять клясться. Спрашивал и у Мусибуты, не знает ли где оружие друга… Мусибута тоже не признался. Так и вернулся помрачневший Агалар-хан из Хунзаха без оружия. На следующее утро пришел за Мусибутой ханский нукер. Агалар-хан был по-прежнему зол и мрачен.
– Я не верю, – сказал он Мусибуте, – что ты не знаешь, где оружие Нуцалхана, может у тебя оно?’
Мусибута был уверен, никто не мог сообщить Агалар-хану, что оружие находится у него, ибо кроме одного преданного Нуцалхану друга, никто не знал об этом, даже в семье самого Нуцалхана.
– Кто я для Нуцалхана, чтобы он мне доверил такое оружие или советовался насчет него? Родных и близких, хороших друзей и в Хунзахе у него хватало…
– Тогда поклянись на коране, что ты ничего не знаешь об оружии!
– Я никого не убил, ничего не украл! Почему из-за оружия какого-то аварца я должен клясться на коране? – ответил Мусибута.
Подозрение Агалар-хана окрепло. И решил он проучить Мусибуту. К людям, которых он за что-то недолюбливал, хан посылал так называемый “обыск-по подозрению”. Это был настоящий грабеж. Все, что представляло какую-нибудь ценность, конфисковывалось, а остальное – разбивали, ломали, сжигали. Даже скот могли зарезать хозяину в отместку.
Агалар-хан велел своему старшему нукеру сделать обыск и у Мусибуты. Хотя подготовка к нему делалась обычно строго секретно, но один из придворных буквально за час до расправы успел сообщить Мусибуте. Мусибута с Айшат быстро собрали самое необходимое, завернули в простыни и кинули в соседский двор, разослали по соседям детей, только двухмесячная девочка осталась у матери на руках. С гиком и конским топотом нагрянуло шестеро нукеров, вооруженных штыками. Перерыли все в комнатах. Ворвались и в ту, где Айшат кормила девчушку грудью. Вытолкнули нукеры хозяйку из комнаты, и тут все перевернули… Побежала Айшат к соседям, а Мусибуте удалось спрятаться во дворе между ног нукерских коней. Обыскали, вверх дном поставили все в комнатах и в сараях бесстыжие посланцы хана, даже кладки кизяка на крыше разобрали и стог сена перековыряли штыками. Не обнаружив оружия, ушли, прихватив с собой все мало-мальски ценные вещи.
Вернувшись домой, Айшат с Мусибутой с трудом навели порядок. Друзья и родственники Мусибуты открыто осуждали беззаконие нукеров в отношении Мусибуты. Услышав об этом, Агалар-хан опять послал нукеров к Мусибуте. Но и в этот раз кто-то предупредил его. И снова успел он с женой вынести из дома самое необходимое, и снова никого не застали в доме погромщики. Треск, шум и громкие крики долго раздавались из дома Мусибуты. Возвратившись домой, Мусибута увидел в своем доме большой костер – это горели его книги. В доме не осталось ни одной целой посудины, ни одной целой занавески на окнах или паласа на полу; все было изодрано в клочья. На этот раз тоже Мусибута и Айшат собрали обломки, привели в порядок жилье. Кое-какую посуду принесли соседи и друзья, а с продуктами помогли друзья и родные. Но хан на этом не успокоился, в течение нескольких месяцев, семь раз грабили нукеры дом Мусибуты. Когда грабители явились в седьмой раз, Айшат сказала мужу: “Наверное какой-то злой дух говорит хану, что оружие у тебя. А может хан видит это во сне? Надо бы избавиться от этой напасти…” Скрытно от всех Мусибута завел жену с ребенком на руках в соседский сарай, что был расположен рядом с их домом. Дело было зимой и на Айшат была накинута овчинная горская шубка с длинными узкими рукавами. Мусибута спрятанное в этом сарае оружие Нуцалхана сунул в рукава шубы и разобрав заднюю стенку сарая, выпроводил оттуда Айшат с ребенком: “Уходи, родная” Мусибута надеялся, что пока нукеры орудовали в его доме, Айшат сумеет выйти из Кумуха незамеченной. Так оно и вышло, Айшат удалось выйти из Кумуха и быстрым шагом она направилась по дороге, ведущей в Хунзах. Через несколько часов по дороге ее встретил брат одного из хунзахских нукеров, возвращающийся откуда-то домой. Узнав Айшат, он удивился, что в такой поздний час она одна с ребенком оказалась на этой дороге, но допытываться не стал, поскакал мимо. Айшат все шла и шла, когда она перешла уже по мосту бурную реку, услышала доносившийся сзади быстрый конский топот. Догадалась: “Это погоня!” Быстро вернулась на мост, вынула из рукавов шубы тяжелое. оружие и бросила его с моста в реку и… пошла дальше, хорошо приметив место, где легло заветное оружие на дно. Через некоторое время ханские нукеры догнали ее и остановили.
– Куда путь держишь?
– Иду, куда глаза глядят. Что еще мне остается делать? Не могу же я живьем с малышкой лечь в могилу? Нет от хана нам житья, иду искать себе пристанище.
– А где другие дети?
– Не знаю. Наверное разбежались по знакомым.
– А что ты несешь?
– Что я могу нести? У меня на руках ребенок, да тяжелая шуба на плечах… Что еще я могу нести?
– Обыскать ее! – приказал старший нукер.
Обыскали, на ничего не обнаружили. Тогда нукеры вернули ее обратно домой и после этого хан, убедившись, что нет у них оружия, оставил в покое. Через несколько дней Мусибута сообщил жене Нуцалхана, где находится оружие, завещанное детям Нуцалхана.
Амма-Гази и Агалар-хан
У одной кумухской женщины, по имени Айша, было двое сыновей. Старшего звали Гази, а младшего – Гасан. Старшего почему-то кумухцы называли не просто Гази, а Амма-Гази. Почему это имя к нему пристало, из нынешнего поколения никто не знал. Отца у ребят не было. Гази был юноша, а Гасан – мальчик девяти-десяти лет.
Однажды Гази взял с собой Гасана и пошел на свой луг, собирать давно скошенное и уже высохшее сено. Гази собирал сено, клал вьюки на ослов, а Гасан пригонял ослов домой, где мать снимала сено и отправляла сына обратно. Дорога же лежала через ущелье.
Как-то рано утром, когда Амма-Гази отправлялся на луг, он прихватил с собой охотничье ружье на случай, если попадется заяц или лиса. Но поохотиться не пришлось. Во второй половине дня провожая Гасана в очередной раз с навьюченными ишаками, Амма-Гази отдал ружье брату, чтобы тот снес домой. Гасан шел с ружьем, накинутым через плечо, погоняя ослов. Навстречу ему вышел ханский нукер.
– Эй, куда ты несешь это ружье? – крикнул нукер.
– Это ружье моего брата Гази, несу домой, – ответил Гасан.
– Ну-ка, дай его сюда, – нукер протянул руку.
– У ружья есть хозяин, и я его тебе не отдам, отказался Гасан. Нукер нанес Гасану несколько ударов и отнял ружье. Гасан стал кричать, требовать ружье обратно.
– Вот так выстрелю в лоб и продырявлю! – сказал нукер и выстрелил. Гасан схватился за живот, куда попала пуля.
Оставив Гасана в таком состоянии, ханский нукер ушел, а Гасан стал карабкаться по дороге, по которой пошли его ослы. Кругом не было ни души. Когда Гасан дошел до мечети Юсуп-кадия, что повисла над скалами на самой окраине села, он лишился сил и упал.
Ослы же с сеном спокойно добрались до дома. Айшат немного удивилась, что с ними нет сына и подумала: где-то задержался, вот-вот подойдет. Она сняла сено, а сына все не было, и она решила пойти ему навстречу, узнать, что его так задержало. Вдруг возле мечети на дороге она увидела на земле скорчившегося Гасана. Мать подбежала к нему:
– Вай Аллах, сын мой, что с тобой? – и взяла на руки. Под ним была лужа крови, а сам был очень бледен. Услышав голос матери, Гасан чуть приоткрыл глаза и хриплым, еле слышным голосом сказал, что его пристрелил ханский нукер. Больше он ничего не смог сказать и умер на руках у матери. А Гази на лугу ждал возвращения брата. Но вместо этого к нему пришло известие о его смерти. Гази, как сумасшедший, бежал в село и долго бегал по домам и улицам в поисках ханского нукера. Насилу мужчины привели его домой и сказали: “Сначала похорони брата, потом мсти за него”.
Похороны Гасана были очень печальные, собралось все село, Айшат, бедная, убиваясь, рвала на себе волосы, требовала дать ей кинжал, чтобы убить кровника.
Амма-Гази посидел на панихиде брата положенные семь дней, затем с заряженным ружьем стал сторожить кровника. Обычно Гази прятался в заброшенном сарае, возле годекана, куда мог явиться нукер. Кто-то донес Агалару, что вот-де Гази выслеживает твоего нукера, хочет его убить. Агалар же в свою очередь послал за Гази, велел немедленно привести его.
С тем же заряженным ружьем Амма-Гази явился к хану.
– Говорят, ты ходишь с этим ружьем и выслеживаешь моего нукера. Но знай, если ты его убьешь, я твои внутренности разбросаю по улочкам города! – заявил рассерженный хан.
– Хан, ты делай со мной, что хочешь. Но если я где-нибудь его встречу, я убью этого виновного человека, который убил моего, ни в чем не повинного брата! – ответил Амма-Гази.
Кумухские мужчины, прослышавшие о разговоре Гази с ханом, стали успокаивать Гази, уговаривать его не поступать опрометчиво. Говорили ему, что с ханом шутки плохи, предупреждали, что Гази сам себя угробит и умножит горе своей матери. Много с ним говорили старожилы Кумуха, взывали к уму разуму. Но Гази был непреклонен и сказал: если враг ему попадется на глаза, он убьет его. Тогда старики решили поговорить с нукером хана, чтобы тот, учитывая свою вину, или уехал из Кумуха, или не появлялся на людях.
– Чего мне бояться, за моей спиной гранитная скала. Это ему надо бояться! – ответил избалованный любимец хана.
Теперь же Гази не прятался в заброшенных сараях, выслеживая кровника, а ходил открыто с кинжалом в руках. Ружье же у него отнял хан. Однажды шел Гази мимо дома Кассиевых, и увидел, что по другой стороне улочки навстречу идет кровник. Вспомнив об увещеваниях уважаемых людей, Гази вернулся обратно и вышел на другую улицу, чтобы не столкнуться со своим врагом. Ханский нукер заметил, как Гази ушел от встречи с ним, и назло ему тоже повернул обратно и пошел на ту же улицу, что и Гази.
– Ах ты, подлый враг, я перешел на другую дорогу, чтобы не встретиться с тобой, а ты, значит, опять мне навстречу идешь? – крикнул разъяренный Гази.
– Да, иду, попробуй тронь пальцем, посмотрим, кому будет хуже! – ответил кичливо нукер.
Тут Гази обуял огонь ненависти и свет померк в глазах. Откуда только у него взялась такая сила. Он схватил нукера, поднял над головой и ударил оземь. Нукер не успел вытащить кинжал, как Гази стал рубить его своим. Кто-то бросился сзади и выхватил кинжал из рук Гази, этим давая возможность нукеру опомниться и вытащить свой кинжал. Но Гази бросился, как лев, на нукера и отобрал у него кинжал. Нукер побежал, оставляя за собой кровавый след. Гази – за ним. Так Гази догонял его и наносил удар кончиком кинжала, как доставал, а тот все бежал. Наконец нукер влетел в какие-то открытые ворота и запер их за собой. Гази ничего не оставалось делать, как вернуться обратно. Он увидел Махмуда-кадия, который шел за ним следом.
– Гази, – сказал он, указывая на палец, – я видел, как ты гнался за кровником, не хотел мешать тебе, но посмотри на свой палец, он сейчас упадет, перевяжи его.
Тут Гази увидел свой палец, окровавленный и держащийся на одной коже. Оказывается, в порыве гнева он даже не заметил, что ему оторвало палец.
В это время Айшат на крыше своего одноэтажного сарая сушила сено. Она увидела сына, который возвращался домой с окровавленным кинжалом в руках. Она даже не сошла по лестнице, а прямо с крыши прыгнула и побежала навстречу ему.
– Убил врага, сын мой! – крикнула она и радостно обняла сына.
– Не знаю, мать, много ран я ему нанес, умрет или не умрет, не знаю. Может, Алллах будет, наконец-то, справедлив, – ответил довольный Гази.
Только зашел Гази в дом и стал чистить одежду, пришли ханские нукеры и забрали его. Хан не стал ни о чем его спрашивать и велел бросить в тюрьму. Нукер еще был жив. Довольные поступком Гази, люди стали шепотом рассказывать друг другу о случившемся.
На третий день рано утром соседи подозвали Айшат и рассказали, что раненый нукер ночью скончался.
– Слава Аллаху! Слава Аллаху! – стала кричать Айшат от радости. Зная, что теперь хан непременно накажет Амма-Гази, кумухские мужчины стали думать, каким образом спасти его. Собрали всех свидетелей последней ссоры нукера и Гази и решили доказать хану, что на этот раз Гази был не виновен. Но, если не пойти к хану и высказать это ему лично, то толку от этого будет мало. Послали к хану представителей народа сказать, что народ требует, чтобы Гази судили всенародно, с опросом всех свидетелей их последней ссоры. Хан ничего не ответил. Прошла неделя, сельский кади пошел к хану и повторил требование народа. Агалар-хан дал согласие судить Амма-Гази всенародно, назначил день и час суда, велел собрать людей возле центральной кумухской мечети.
В назначенный день и час собрался народ на Нюжмардиевский годекан возле Джума-мечети. Вышли все муллы и кадии из мечети, явились все старейшины Кумуха. Пришел Агалар со своими нукерами и сел на приготовленное для него место, а нукеры встали вокруг него. Привели из тюрьмы Гази. Хан обратился к нему:
– Разве я не предупредил тебя, что если ты убьешь моего нукера, я разбросаю по городским улочкам твои внутренности, чем теперь ты недоволен, почему люди тебя оправдывают?
– Потому что я не убивал его, – ответил Гази спокойно.
– Ах ты, мерзавец, кто же его убил, если не ты 1? – крикнул рассерженный Агалар и ударил кулаком по своему колену.
– Сам себя убил, – по-прежнему спокойно проговорил Гази.
В это время по толпе пронесся довольный шепот. Хан заметил это и внимательно оглянулся кругом.
– Почему же сам себя, ведь он умер от ран, нанесенных тобой, – заговорил хан несколько спокойнее.
– Уважая просьбу пожилых людей, я всегда избегал встречи с ним, как мог. Но я тебе и нашему уважаемому джамаату сказал, что, если я встречу этого наглеца с глазу на глаз, я его непременно убью, и потому пусть остерегается встречи со мной. Но то, что он так нагло свернул со своего пути, чтобы встретиться со мной и доказать мне, что за ним гранитная скала, и что я не осмелюсь его тронуть, доказывает то, что он сам себя убил, я поступил так, как следовало поступить всякому, а теперь ты тоже сделай со мной что хочешь, – ответил Гази.
Хан спросил людей, есть ли свидетели происшедшего инцидента, что они скажут. Вышел Махмуд-кади.
– Я видел из своего окна, как Гази свернул с улицы Кассиевых на улицу Назруевых, видел, как нукер тоже свернул, чтобы выйти навстречу. Тогда я быстро вышел из дому, хотел предотвратить убийство, но опоздал. Когда я подошел, кузнец Омар уже выхватил свой кинжал, но его у него отнял Гази и погнался за ним. Я побежал следом и встретил Гази, которой шел назад с окровавленной рукой, – сказал кади, и все подтвердили его слова.
– Как трус, поступил мой нукер, он не смог изрубить Гази и убежал от него, – сказал со злостью Агалар и стал придумывать наказание. А народ стал на сторону Гази, и сказал, что он не заслуживает никакого наказания. Но раздираемый злостью, хан не мог так просто отпустить Гази и придумал такое наказание: привязать к запряженным быкам связку шипов, посадить на них голого Гази, провезти по городу, а потом на три года посадить под домашний арест, чтобы он не имел права выйти на улицу. Наказали. Гази сидел под домашним арестом. Но прошел год, и появились слухи о том, что войска мюридов идут войной на Кази-Кумухское ханство. В Кумухе подняли тревогу. Агалар-хан собрал войска и двинулся к границе своего ханства. Когда мюриды и войско хана встретились и завязалось сражение, хан заметил одного воина, который сражался очень храбро. Кончилось сражение, мюриды отступили. Когда возвращались в Кумух, Агалар-хан указал на всадника, идущего далеко впереди, и спросил своих нукеров, кто этот всадник, который лучше всех сражался. Ему ответили, что это – Амма-Гази. Тогда хан в награду, отменил домашний арест.
Макил Мамма
Во времена правления Агалар-хана в Кумухе жил Макил Мамма, очень образованный и порядочный человек, который пользовался авторитетом во всей округе. Тогда при Кази-Кумухской Джума-Мечети было медресе, где Макил Мамма и работал. Среди его муталимов находился очень способный, умный муталим из селения Куркли по имени Абдулла. У Макил Мамма завязалась с ним большая дружба. Агалар-хан Кази-Кумухский не уважал Макил-Мамму, как и всех честных и образованных людей, всячески притеснял его, не давал возможности обзавестись хозяйством. Макил-Мамма тогда еще не был женат, и задумал он убежать к имаму Шамилю. Услышал он, что Шамиль дает своим новым мюридам землю, корову и подворье. Макил Мамма поделился своими мыслями с Абдуллой, и муталим решил присоединиться к нему.
У Агалар-хана были строгие законы: он не разрешал кому бы то ни было выезжать из ханства без его разрешения, а бегство к Шамилю каралось очень строго; если, конечно, сбежавшего возвращали назад. Поскольку днем и ночью на дорогах стояли ханские стражи и не давали никому выйти из Кумуха, Макил Мамма и Абдулла задумали сбежать тайно, глубокой ночью. Они купили необходимые вещи, а хурджины набили провизией. Но так как вещей получилось много, взяли с собой в качестве провожатого одного верного товарища, чтобы он помог, нести часть груза, ибо надо было идти по горам пешком. Стояла зима, ночь была холодная и снежная.
Улучив момент, когда стражи спали, они вышли из селения и по горным тропам пошли по дороге в сторону Аварии. Потом они отправили своего помощника обратно, а дальше пошли сами. Но вещи были тяжелые, впереди предстоял крутой подъем, и они решили спрятать вещи где-нибудь в пещере и забрать поклажу. Нашли такую удобную пещеру, оставили там свои вещи, сверху густо засыпали снегом, чтобы не было заметно, что там что-то лежит. Когда они поднялись на горку, откуда виднелся аул, рассветало.
– Там живут кунаки твоего отца, хорошие люди, пойдем к ним, возьмем ишаков и придем за вещами, – предложил Мамма Абдулле.
– Может, мне остаться здесь, пока ты вернешься с ишаками, – возразил Абдулла, но Мамма не согласился. – Ты замерз, надо обогреться, – сказал Абдулле, и пошли оба в село. Когда они возвращались с ишаками, издалека увидели, что рядом с тем местом, где они спрятали вещи, стоят какие-то всадники.
Приблизившись немного, они узнали ханских нукеров. Мамма и Абдулла спрятались, подождали, пока исчезнут нукеры, затем поднялись на горку. Нукеры тоже ушли, потому что им было небезопасно долго находится здесь, ведь это была территория мюридов. Мамма и Абдулла подошли к пещере, где оставили скарб, но его там не оказалось, его забрали ханские нукеры. Это было разорение, ибо теперь у них не было ни денег, ни вещей, ни провизии. Вернулись они в село, рассказали кунакам о случившемся. Те посоветовали им тихонько вернуться назад в Кумух, потому что сейчас Шамиль не может им ничем помочь, и сам нуждается. Никакой земли, никакого скота у Шамиля нет, и мюридам нечего выделить.
Макил Мамма и Абдулла решили вернуться в Кумух, но предварительно зайти в селение Кума, сделать вид, будто они пришли в Кума к мулле за нужными книгами.
Как договорились, Мамма и Абдулла пошли в Кума, забрали там у муллы книги и вернулись в Кумух. Оказывается, в ту ночь, когда они убежали, по следам на снегу сторожа узнали, что из Кумуха вышли люди, и немедленно сообщили хану. Тот послал в погоню несколько нукеров, которые ехали на лошадях и довольно быстро догнали беглецов. Нукеры заметили, как те прятали свои вещи в пещере. Но кто они, узнать не смогли» так как было очень темно. Пока нукеры перешли ущелье и поднялись к пещере, беглецов уже не оказалось. Преследователи нашли только спрятанные вещи и забрали их.
Через несколько дней Агалар-хан каким-то образом узнал, что сбежавшие были Макил Мамма и Абдулла. Ночью он послал своих нукеров за ними по домам. В ту же ночь схватили и того человека, который им помогал. Бросили всех в темницу. Эта весть облетела весь округ. У Абдуллы учились русской грамоте дети всех кумухских богачей. Его уважали в этих семьях. Хоть Абдулла и был учеником Макил Мамма, но в знании русской грамоты превосходил его. Русские офицеры, находящиеся тогда в Кумухе, считали Абдуллу самым знающим русский язык среди кумухских учителей. Они стали ходатайствовать перед ханом за заключенных, в особенности за Абдуллу. Хан пошел навстречу и решил отпустить Абдуллу и муталима, который им помогал в ту ночь. Главным же виновником происшествия он считал Макил Мамму. Но выпущенных на свободу грозный хан не оставил без наказания за то, что они его обманули: он приказал проколоть им языки заостренными деревянными иголками, отправить с нукерами по домам и проследить, чтобы они не посмели вытащить иголки. По подбородкам у обоих виновников текла кровь, лица кривились от адской боли, но они шли по улицам Кумуха для всеобщего, обозрения.
В темнице хан не кормил заключенных, они питались только тем, что кто-нибудь принесет. Но и это доходило до них лишь после того, как сторожа съедят самое лучшее. Мать Макил Мамма, Ата, каждый день носила сыну еду, собирала, что могла, ведь она была тоже бедной женщиной, которая растила своего единственного сына без мужа, без посторонней помощи. Мамма в темнице, брошенный в глубокую яму, где не было ни света, ни воздуха, часто болел. Однажды надзиратели заметили, что Мамма роет подкоп. Мать его, между тем, стала просить всех влиятельных людей Кумуха заступиться за сына. Но если к Агалару приходил человек, который собирался просить за Макил Мамму, он тут же его прерывал: “Если тебя послала Ата, то оставь даже мысль о том, чтобы говорить со мной!” Единственным человеком, к которому когда-нибудь прислушивался хан, был Осман-Кади. Но с тех пор, как его сына убил Агалар, Осман-кади не разговаривал с ним и не появлялся возле его дворца. Хан же всячески пытался восстановить добрые отношения с ним, но Осман-кади не был склонен простить его. И поэтому Ата никак не осмеливалась обратиться к нему. Но так велика была ее печаль и у нее другого выхода не было.
Однажды, когда Ата услышала, что ее сын очень болен и ничего не ест несколько дней, она всю ночь не спала и бродила в отчаянии по улицам Кумуха. Десятки раз она подходила к дому Османа-Кади и возвращалась назад, потому что была глубокая ночь и все спали. Когда рассвело, Ата остановилась недалеко от кадиевых ворот и стала следить, не выйдет ли кто-нибудь. Жители отворяли свои ворота, выходили на улицу, но кадиевы ворота никто не открыл и никто туда не вошел. Ата подождала немного, затем решилась и быстро подошла к воротам. Они оказались не запертыми. Ата открыла ворота и вошла во двор. Она с заплаканными глазами и отекшим лицом выглядела очень жалко. Жена Османа-кади возилась во дворе с пшеницей. Ата подошла к женщине, поздоровалась с ней и спросила, дома ли Осман-кади.
– Заходи, заходи, мученица бедная, иди к нему, дома он, – сказала жена Османа-кади и кивком головы показала на комнату, где находился муж. Ата очень осторожно, неуверенно открыла двери и, переступая порог комнаты, сказав “бисмиллах”, прочитала молитву. Осман-кади, который лежал на топчане, спиной к двери, тут же поднялся и поздоровался с ней. Ата стояла в нерешительности, не зная, с чего начать.
– Знаю, знаю, Ата, о чем ты хочешь просить, сделаю все, что в моих силах, – сказал Осман-кади, перебирая четки.
Ата так и не смогла вымолвить ни слова, расплакалась и вышла из комнаты, вытирая лицо концом головного платка. Следом за ней вышел и Осман-кади с костылем в руке.
Через некоторое время нукеры Агалар-хана заметили. Османа-кади, направляющегося к ханскому дворцу, и немедленно сообщили хану. Агалар, который никогда ни на что не реагировал, никого не боялся, услышав такое сообщение, невольно бросился к окну, посмотрел растерянно в окно, затем подбежал к своему месту, где обычно сидя. принимал людей, но не решился сесть. Он бросился к другому окну, выходящему во двор, и увидел Османа-кади, медленно идущего по двору к лестнице, ведущей в дом. Нукер, стоящий в коридоре, сообщил хану, что Осман-кади своим костылем открыл двери ханской комнаты, Агалар вскочил и бросился ему навстречу с протянутыми руками. Осман-кади не подал ему руки и, стоя там же у порога, отвернулся от него.
– Здравствуй, Осман-кади, какими судьбами ко мне? Давай, заходи, садись, – говорил хан в полной растерянности. Но Осман-кади перебил его:
– Я к тебе не в гости пришел и не сидеть с тобой!
– Знаю, знаю, что тебя послала Ата. Многих влиятельных людей она посылала ко мне, но я ни к чьей просьбе не прислушивался, тебя же послушаюсь, – сказал Агалар взволнованным голосом.
Осман-кади ни слова ему не сказал и ушел, даже не повернувшись к нему лицом. Агалар позвал нукеров и приказал вызволить из темницы Макил Мамму. Нукеры подбежали к яме и спустили лестницу, чтобы узника поднять наверх. Но тот был связан и обессилен. Пришлось одному спуститься в яму и помочь ему подняться наверх. Услышав о приказе хана, к дворцу подбежали люди, но нукеры никого не впустили во двор, кроме одной Аты.
Выпущенный из тюрьмы Мамма был очень бледен и слаб и не мог стоять. Одной рукой он держался за стену, ладонью другой закрывал глаза от яркого света. Ата подбежала к сыну, поддержала его, обняла за талию, и они медленно пошли ко двору. Когда подошли к воротам, к ним подбежал смотритель тюрьмы Ругу и протянул руку. От испуга за Мамму Ата забыла, что с каждого выпущенного из тюрьмы заключенного смотрители берут плату. Она носила деньги каждый день, не смея их израсходовать, но тут забыла о них. Она быстро сунула руку за пазуху и протянула деньги Ругу.
В это же время Осман-кади медленно шел домой и люди с почестями воздавали ему благодарность, произносили молитвы и добрые пожелания.
А он шел молча с опущенной головой.
Патимат – дочь Мусибутты
У кумухского уздена Мусибутты было семь дочерей, одна другой краше, одна другой моложе. Самой старшей из них Патимат исполнилось шестнадцать лет.
Мусибутта не разрешал дочерям выходить на улицу днем, чтобы Агалар-хан или его нукеры не увидели их, так как Агалар не пропускал ни одну из красивых девушек села. Даже если девочкам надо было идти куда-нибудь, Мусибутта заставлял их запачкать лица сажей и одеться в старье. Как-то Агалар услышал о красоте этих девушек, захотел посмотреть на них и отправился туда, где Мусибутта молотил зерно. Но вернувшись оттуда, Агалар сказал своим нукерам: “Я то думал, люди всерьез называют дочерей Мусибутты красавицами, а оказывается люди насмехались. Они же настоящие серые кошки, как можно на них смотреть без отвращения?”
Сын Агалар-хана Джофар-хан был женат на девушке из Эрпели. Молодая жена жила в Кумухе, а молодой муж учился в Петербурге. Однажды летом Джофар приехал домой и как-то в окружении нукеров смотрел в бинокль с Бургай-калы, что возвышается над селением. На одном из балконов Джофар заметил двух девушек, необычайной красоты… Они вышивали и весело беседовали. Джофар не мог оторвать от глаз бинокль, и все смотрел на этот балкон. В это время на балкон к девушкам стал подниматься какой-то старик. Как только он с лестницы ступил на балкон, девушка постарше встала ему навстречу, подала стул и, налив в пиалу из кувшина айран, поднесла ему. Старик выпил айран, девушка бережно взяла из его рук пиалу и отложила в сторону. Та же девушка вытащила откуда-то блестящий, как зеркало, медный самовар и стала’ возиться с ним. В то время в Кумухе многие кипятили чай в самоварах, которые топились древесным углем.
Когда девушка возилась с самоваром, с ее головы сполз волосник. Она одной рукой бросала в самовар уголь, а другой – отбрасывала назад спадающие с плеч длинные косы. Джофара очень поразило лицо девушки, удивила и восхитила ее красота, ее поведение. Он отдал бинокль своим нукерам и велел посмотреть на эту девушку и сказать, кто она, чей этот дом. Нукеры посмотрели по очереди каждый, но никто не смог сказать, кто эта девушка.
Вернувшись с Бургай-кала домой, Джофар-хан спросил у отца, какой был смысл брать ему в жены девушку из Эрпели, если у них в Кумухе есть свои прекрасные девушки. Агалар ответил, что в Кумухе нет девушки, достойной их положения и богатства, потому и взяли ему в жены девушку из Эрпели, ханского происхождения. Затем отец добавил: “Если тебе приглянулась какая-то девушка из Кумуха, это тоже в нашей власти…”
Агалар спросил сына, в каком магале, в чьем доме он увидел приглянувшуюся ему девушку. Джофар ответил, что дом этот находится в нижнем магале, но этот дом он не знает.
– В нижнем магале есть четыре девушки у Гаджи-Гусейна, три дочери у Калиевых, пять дочерей у Ахмадибутты и семь дочерей у Мусибутты. Но ни одна из этих девушек не обладает той красотой, о которой говоришь ты, и ни одна их этих семей не принадлежит к знатному происхождению, – сказал Агалар-хан.
Джофар отправил нукера в тот дом, который сам увидел, чтобы узнать, чей это дом и кто эта девушка.
Когда нукер вошел в ворота, Мусибутта с гостем пил чай и та девушка, которую нукер увидел в бинокль, обслуживала их. Увидев ханского нукера Мусибутта отослал дочь в комнату и стал приглашать нукера выпить чая. Нукер присел, надеясь, что девушка выйдет, чтобы налить и ему, но Мусибутта сам налил, а девушка так и не вышла. Тогда нукер не стал пить чай и ушел.
Нукер поведал Джофар-хану, что это дом Мусибутты, а девушка – его старшая дочь Патимат. Также он рассказал, как Мусибутта отослал ее в комнату, чтобы она не смела обслуживать нукера, и сам Мусибутта был не очень вежлив и гостеприимен.
Разозленный Джофар-хан вместе с нукером тотчас же пошел к Мусибутте.
– Эй, Мусибутта, ты не знаешь, чей этот нукер? – крикнул Джофар, поднимаясь по лестнице на балкон, где сидел Мусибутта.
– Знаю, мой великий хан, как не знать?..
– Тогда почему ты прячешь дочерей от моего нукера? Мусибутта не знал, что ответить, и что-то мямлил в оправдание. Но тут вышла из комнаты сама Патимат и сказала:
– Нас не отец прячет, мой великий хан, мы сами стараемся не попасть в глаза вашим нукерам.
– Почему?
– Потому что нукеры вашего отца года три назад пришли в дом моего дяди и вот до сих пор он в ханской тюрьме, причем без всякой вины. Мы тоже безгрешные люди, но не убеждены в том, что ваши нукеры поступят с нами лучше, – сказала Патимат очень вежливо, опустив голову перед ханом.
– Почему же ты от меня не прячешься?
– Ты подобен льву, и поступки должны быть у тебя благородны. С твоим появлением осветился наш двор, как от солнца, а солнце приносит радость, мой великий хан! – ответила также вежливо Патимат. Джофар-хан был поражен сладостью речей и красотой девушки.
– Ты, говорит мой нукер, не вышла его угощать чаем, не угостишь ли нас обоих теперь? – спросил Джофар.
– Почему же не угостить, угощу, садитесь, – пригласила Патимат и угостила их чаем. Мусибутта, обрадованный тем, что так мирно кончается стычка с ханом, успокоился и стал вместе с ними пить чай.
– Я такой вкусный чай еще никогда не пил. Теперь, когда я захочу вкусного чая, непременно приду к вам, – сказал Джофар Мусибутте и удалился довольный своим визитом.
В ту ночь Джофар не сомкнул глаз, он пленился девушкой и полюбил ее. Каждый день поднимался он на Бургай-кала и оттуда смотрел в бинокль на дом Мусибутты, но никак не мог увидеть Патимат. По дому и балкону ходили какие-то девушки в лохмотьях и с чумазыми лицами, а Джофар-хан все думал, что это за пугала и куда девалась Патимат. Он очень переживал, что не видит ее. Хоть его и тянуло к ней, но он не мог так же смело, как в первый раз, идти к ним, его что-то удерживало. Каждый день Джофар поднимался на Бургай-кала, каждый день смотрел в бинокль, но прошла неделя, а он ни разу еще не видел Патимат.
– Не пойти ли нам пить чай к Мусибутте? – сказал наконец Джофар своему нукеру:
– Давно пора! – ответил нукер, который видел и понимал его состояние. Он послал человека, предупредить Патимат о том, чтобы она поставила самовар: к ней идет Джофар-хан пить чай.
Так Джофар-хан второй раз пил чай у Мусибутты. На этот раз он сидел дольше и беседовал с хозяином о делах кумухских жителей.
Вернувшись от Мусибутты, Джофар-хан заявил отцу, что он хочет жениться на Патимат и, чтобы отец послал к Мусибутте сватов.
– В своем ты уме, что скажут люди, что скажет родня твоей супруги, если поднять такую бедную девушку до уровня жены? Возьмем ее к себе, как прислугу твоей жены. Она и будет твоя, иначе невозможно, – никак не соглашался Агалар-хан.
– Эта девушка не будет служанкой моей жены, она ничем не хуже ее, а наоборот. Надо засватать, сыграть свадьбу и взять как законную жену. Я иначе не хочу! – стоял на своем Джофар.
Агалару нечего было делать, послал сватов к Мусибутте. Но тот ответил: “Я бедный человек, я отдам дочь за того, кто будет держать поводья моего коня и помогать мне садиться на коня, а не за того, кому я сам должен держать поводья и помогать.”
Джофар-хан был очень озабочен ответом Мусибутты и стал думать, как сломить его сопротивление. Почти каждый день Патимат видела Джофара на Бургай-кале с биноклем, направленным на их дом. Она поняла, что Джофар, действительно, влюблен в нее и потому не хочет ее унизить, обидеть, а хочет сделать законной женой. Ей тоже он нравился. Он был сыном бедной женщины и характером человечнее и порядочнее своего отца.
Через некоторое время он добился, чтобы Агалар-хан освободил из тюрьмы дядю Патимат.
Однажды к Мусибутте от Джофара пришли люди предупредить, если он не отдаст дочь добром, молодой хан заберет ее силой, женится на ней, а его за непослушание бросит в тюрьму.
Напуганные домашние и родственники стали уговаривать Мусибутту, чтобы он отдал дочь. А Патимат тогда сочинила стихи:
Говорят, отец сказал: Что я есть его богатство, Пусть он ясный – золото побережет, А меня выдаст замуж и отправит. Мои братья двоюродные Называют меня сокровищем. Пусть сокровища они прячут, А меня отдадут любимому.Наконец-то Мусибутта согласился, и свадьба состоялась. В канун свадьбы, когда эрпелинцы узнали, что Джофар серьезно полюбил, и женится на бедной девушке, они приехали и забрали его первую жену обратно.
Ханская семья не предполагала, что дело обернется таким образом. Они думали, что старшей и полноправной женой будет эрпелинка, как у всех ханов, а Патимат будет младшей, неполноправной и покорной. У Агалара самого были такие жены. Причем мать Джофара Халла была неполноправной, покорной старшим женам женой Агалара, так как происходила из бедной семьи.
Когда эрпелинка ушла, Агалар-хан поставил перед сыном условие, что он должен взять в жены девушку из высокопоставленной семьи, чтобы Патимат не стала полноправной и старшей женой в доме. Джофар согласился с предложением отца, ибо ему некуда было деваться: у каждого хана жена в доме должна быть под стать ему по положению и происхождению. После Патимат Джофар-хан женился на дочери Иса-Гаджи-бека и на дочери Ганапи-бека, но сильнее Патимат он не любил ни одну из них. Он считался с Патимат, прислушивался к ней, и потому люди со своими просьбами обращались к ней. Она понимала их и через Джофара помогала.
В первое время ханская семья не признавала Патимат, все отворачивались от нее, возвеличивали старших жен Джофара, дочерей беков. Но прошло время, и ханская семья стала признавать Патимат, более того, они стали ее уважать, стали с ней здороваться, делиться. Она была умна, хозяйственна и обходительна. Быстро замечала того, кто был расстроен, печален, подходила к нему, успокаивала, даже веселила. Обладая сама веселым нравом, она не давала никому скучать. К ней стали тянуться члены ханской семьи.
В 1877 году в Дагестане вспыхнул бунт против русского царя. В это время Агалар-хана уже не было в живых, правил в Кази-Кумухском округе на правах ставленника русского царя, а не хана, сам Джофар.
Когда русские войска двинулись в горы, чтобы подавить восстание горцев, Джофар перешел на сторону народа и возглавил восстание. Но бунт был подавлен, все главари арестованы. Джофару удалось скрыться в Хосрехе, но хосрехские богатеи испугались за свою судьбу и предали его. Когда Джофара посадили в тюрьму, кумухцы, обозленные на хосрехцев, которые не смогли уберечь Джофара, сочинили такую песню:
Пусть не вырастет пшеница на хосрехских полях. Неужели не нашлось куска хлеба, Чтобы прокормить Джофар-хана? Пусть не вырастет трава На Лягушечьем лугу, Если не нашлось сена, Чтоб подать его коню!Джофара любил народ за его заботу о нем, за его простоту и порядочность и за то, что мать его была из бедных.
Джофара сначала заключили в Гунибскую тюрьму, затем увезли в Темир-Хан-Шуру. По поводу его ареста весь Кумух был в трауре. Иса-Гаджи-беку и Ганапи-беку не понравилось то, что Джофар перешел на сторону народа и поддержал участников бунта. Когда Джофара арестовали, они нисколько не позаботились выручить его. Мать Джофара Халла и сестра его Умамат просили их заступиться за Джофара, замолвить за него словечко перед царскими чиновниками, но те молча отвернулись от них.
Через несколько месяцев Джофар в тюрьме умер. По всему Кази-Кумухскому округу народ надел траур. Целую неделю его оплакивали в Кумухе, а Иса-Гаджи-бек и Ганапи-бек прямо с поминок забрали своих дочерей из ханского дома к себе. Не прошло и семи дней, они пришли и забрали имущество своих дочерей. Этот поступок беков, которым семья Джофара очень доверяла, сильно оскорбил ханскую родню. Все очень расстроились и переживали. А Патимат по-доброму и с пониманием стала за всеми ухаживать, заботиться о них в эти тяжелые дни, стараясь облегчить их страдания. Целый год носила она траур по мужу, не выходила на улицу, не заходила даже к своим родителям. Ханская семья была очень довольна ею, для них она стала опорой и поддержкой.
Прошло чуть больше года после смерти Джофара, когда до Мусибутты дошли слухи, которые распространяли богатые вдовы Джофар-хана о том, что Патимат осталась в ханском доме с целью завладеть богатством, потому и обхаживает всю родню Джофара.
Пришел однажды к Патимат ее дядя по отцу Омар и рассказал, какие грязные слухи ходят по Кумуху по поводу того, что она сидит в доме своего умершего мужа, хотя у нее нет от него детей.
– Если даже у тебя есть такая мысль, знай, что ханы не дадут тебе стать хозяйкой мужниного богатства. Если даже они дадут, тебе не нужно чужого добра. Мы люди бедные, сами себе зарабатываем на хлеб и на чужое никогда не зарились. Возьми, что принадлежит тебе, и пойдем домой” – предложил он. Патимат очень задела эта напраслина, которую возвели на нее. Она оставила все и собралась к отцу. В ханской семье поднялся переполох, все расплакались, разрыдались, никто не хотел, чтобы она уходила. В доме стоял плач, как в день панихиды по Джофару. Уход Патимат показался им таким же бедствием, как смерть Джофара. Все стали просить ее, умолять, чтобы она не уходила, чтобы не обращала внимания на сплетни беков. Они умоляли не давать повода врагам радоваться ее уходу. Патимат решила остаться. После этого о ней пошла хорошая молва.
Сестра Джофара Умамат уговорила ее выйти замуж за своего сына Магомеда, который был годом старше Патимат и не был женат. Так Патимат стала женой Магомеда и осталась в ханском доме.
Мать самого Джофара-хана Халла тоже была умной, обходительной и добропорядочной женщиной. Она являлась дочерью бедных крестьян. Отец ее умер рано, а мать ходила на работу по найму. Агалар встретил ее в поле, где она собирала кизяк на топку. Она ему понравилась, и хан решил взять ее себе на ночь. Тут Халла экспромтом сочинила про хана стихи, чему он очень удивился и велел нукерам привести ее к нему.
– Меня не надо насильно волочить, я сама приду к тебе, мой высокий хан, – сказала Халла и пришла к нему, но поставила перед ним условие.
– Я бедная девушка, а ты высокий хан. Ты, конечно, можешь позабавиться со мной и завтра выкинуть на улицу. Но зачем тебе брать грех на душу? Ведь на этой земле мы только гости, а на том свете придется перед богом держать ответ за свои злодеяния. Я же хочу тебя избавить от греха и от мучений на том свете. Это вовсе не трудно сделать. Сегодня ты сделай со мной мусульманский махар, и я буду считаться твоей женой, а завтра, если захочешь выгони меня, захочешь, оставь прислугой в своем доме. И мое имя останется честным, и ты будешь безгрешен.
Агалар-хану понравились умные речи Халлы, и он пригласил муллу, сделал махар. Но на следующий день он ее не выгнал и оставил в своем доме как прислугу. У хана были жены из благородных кровей, они стали насмехаться над Халлой, называя ее не иначе, как “сборщицей навоза”. Но Халла не обращала на них ни малейшего внимания, все превращала в шутку, смеялась и пела. Агалару же она очень нравилась, и он держал ее в доме, как свою жену.
От жен своих Агалар не имел детей, а Халла родила ему сначала дочь, затем и сына Джофара. Благородные жены Агалара жили с ним на втором этаже, а Халла жила на первом, где прислуга. Хоть дети у Агалара были только от нее, он не мог ее поставить в равные условия с другими женами, боясь их гнева. Если ханским женам удавалось увидеть со своего балкона Халлу на нижнем этаже, они не упускал и случая напомнить ей: “Наверху – ханы, внизу – слуги”. Они ревновали хана к ней, так как видели, что хан ее любит. Но больше всего их задевало то, что только у нее были дети от хана.
Однажды цовкринцы привезли дрова из ханской рощи, нагрузив их на ослов, и выгрузили на ханском дворе. Когда дрова стали распределять и раскладывать, Агалар-хан и его благородные жены, сидя на балконе, смотрели, как придворные возятся во дворе. Тут Агалар сказал стихами:
Куда спряталась, интересно, Корона рода – Халла. Почему не выходит отобрать. Цовкринские дрова для себя?Халла же в это время была занята детьми и не могла выйти. Но ей передали слова хана, и она, оставив все дела, вышла во двор за дровами и начала возиться там. Ханшу Шамай очень задело внимание Агалара к этой, по ее мнению, не стоящей его внимания, женщине. Она тут же сочинила четверостишие, чтобы задеть Халлу:
Когда голубь и голубка на балконе сидят, Ворона возится во дворе и со злости каркает.Халла обернулась, посмотрела на балкон и ответила Шамай:
Эй, голубка в небесах. Ты так сильно не гордись. Два крылышка орла Смело я держу в руках.Тут Агалар не выдержал и ответил:
– Клянусь Аллахом, корона – Халла, если бы ты не ответила так, я бы тебя на месте расстрелял!
Родственники благородных жен Агалара тоже насмехались над Халлой. Им очень не нравилось, что хан уделяет ей столько внимания и проявляет заботу, называли ее “навозным жуком”.
Когда родственники Шамай услышали о последнем инциденте, происшедшем в ханском дворе, ночью они бросили в окно комнаты Халлы куски кизяка и навоза. Вот, мол, твой удел.
Утром же Халла собрала все это аккуратно, подождала, пока Шамай-бике выйдет на балкон, и сказала громко:
– Ой, Шамай – княгиня, этот кизяк и навоз твои родственники бросили в мое окно по ошибке. Они ведь должны знать, что у тебя нет рук, чтобы собирать кизяк для топлива! Если мне понадобится топливо, у меня есть руки, чтобы собрать его. Возьми лучше их себе, это понадобится тебе, безрукой.
Чакул Жари
Однажды по дагестанскому радио передали песню на мелодию Чакул Жари. Все обратили внимание на мелодичность и лиричность музыки, но никто не знал, кто такая Чакул Жари.
Позже бабушка рассказала мне печальную повесть о талантливой женщине – лачке Чакул Жари.
Она была уроженкой селения Кумух, вернее, той части Кумуха, которая называется Табахлу, откуда родом и наш космонавт Муса Манаров.
Еще девочкой Жари изумительно пела, сама сочиняла слова и мелодию. Жари была хороша собой, особенно когда пела, от нее невозможно было оторвать глаз. Ни одна свадьба, ни одно торжество не проходило в Кумухе без участия певуньи. Люди, приглашенные на свадьбу, заранее интересовались, будет ли петь Чакул Жари. Когда к знатным людям Кумуха приезжали гости, чтоб украсить свой прием, обязательно приглашали Жари. Волшебный голос красавицы чаровал мужчин, а женщины украдкой вытирали слезы. В нее влюблялись и стар, и млад, за ней бегали парни, иные богачи даже сватались к ней, но получив отказ, распространяли о девушке грязные слухи. Но Жари была не из тех, чтобы обращать внимание на сплетни, она стойко выносила клевету, считая их недостойными ее. Любя свои песни, она пела много и охотно, ее не приходилось упрашивать.
Казалось, что песни для нее были отдыхом, настолько легко, плавно и свободно лился ее голос. Сочиняла она на все праздники, на появление на свет чьего-нибудь желанного первенца, на сватовство, звучали песни и о кумухском базаре, и о многом другом.
Рассказывают, как в нее был влюблен кумухский богач Шалла, оказавшийся в это время вдовцом. Он был заносчив, хвастлив и уверен в том, что нет на белом свете девушки, которая не пошла бы за него: ему стоит только мигнуть ей.
Тщеславный Шалла стал оказывать внимание Жари, девушка не обращала на него внимание и это задевало и оскорбляло его. Он посылал к ней женщин-сводниц, но получал отказ. Наконец-то Шалла всерьез стал свататься, будучи уверенным, что она с радостью даст согласие. Но Жари – отказала. Дело не кончилось одним отказом. Доведенная до отчаяния его ухаживаниями, Жари сочинила о нем саркастические куплеты и спела на чьей-то свадьбе. До нас дошла одна строфа из этих куплетов:
Шаллу самого не хотела бы. Хотела бы его шелка, На белой его веранде Хотела бы какао питьТак и не вышла Жари за Шаллу, а стала женой парня по имени Исмаил. Жили они дружно, растили детей, но Жари по-прежнему пела, а муж ее, сидя где-нибудь на крыше, с удовольствием слушал песни своей любимой, исполняющей их где-либо на торжествах.
Однажды богатый кумухец Абдулпатах выдавал замуж свою сестру Туту-бике за богатого кюринца, то есть лезгина.
Межнациональные браки были обычным делом у кумухцев.
Посаженной матерью для невесты выбрали родственницу по имени Салихат. Но ее так называли в глаза, а за глаза не иначе как Сякку, пренебрежительно от имени Салихат. Эту женщину и ее мужа – чиновника-переводчика Кулибутту сельчане не любили за чванливость, жадность и завистливость. К тому же Кулибутта был взяточником, не стеснялся брать даже у бедняка. В народе ходила шуточная песня крысы, попавшей в ловушку, которая завещала свои части тела кумухским чиновникам. Так эта крыса говорит:
“Мои зрячие глаза Кулибутте отдайте, Чтоб исподлобья смотреть на взятки свои”.Жари тоже была приглашена на эту свадьбу со своим мужем. Родственникам со стороны жениха, прибывшими за невестой из Кюри, так понравилась Жари и ее песни, что они попросили Абдулпатаха послать в Кюри с невестой и эту женщину. Чакул Жари послали в качестве младшей посаженной матери невесты, ибо было принято назначать двух посаженных матерей невесты. В обязанности старшей входило решать все вопросы с родственниками жениха, а младшей заниматься туалетом невесты, прислуживать ей. Родственники жениха одаривали обеих разными подарками. Когда невесту брали из другого села, то свадебная процессия отправлялась на разукрашенных лошадях с музыкой и песнями.
С восходом солнца из ворот Абдулпатаха двинулась по селению процессия с песнями и танцами. Впереди всех с бубном в руках шла красивая и статная Чакул Жари, украшая всю свадьбу. Все, кто вышел провожать невесту, любовались ею. На окраине села их ожидали приготовленные лошади, разукрашенные серебряными сбруями и разноцветными шелками.
К вечеру они прибыли в селение жениха, где родственники жениха ждали гостей далеко за селом. По обычаю кюринцев, начиная от ворот до комнаты невесты, постелили шелка, по которым прошла невеста в комнаты, а затем шелка собрали и отдали посаженным матерям. Тут же предложили невесте снять одежду, в которой она пришла из отцовского дома, нарядив в свою, а снятую, по обычаю, тоже отдали посаженным матерям.
Кюринцы, не знавшие ничего ни о Сякку, ни о Жари, решили, что Жари самая близкая и знатная родственница невесты, поэтому оказывали ей особое внимание, одаривая дорогими подарками за танцы, песни, благородство и красоту. Одним словом, кюринцы были в восторге от Жари, что сильно задевало Сякку.
Побыв у жениха три дня, ибо свадьбу играли три дня и три ночи, на четвертый гости собрались домой. Кюринцы приготовили для всех дорогие подарки, навьючив 15 лошадей, из которых шесть лошадей для посаженных матерей.
Прибыли в Кумух, как принято, пошли в дом невесты. Шесть навьюченных лошадей, что предназначались для посаженных матерей, Сякку отправила к себе домой. Возвращаясь от хозяев свадьбы, Жари пошла к Сякку за своей долей подарков.
– Кто ты такая? – сказала Сякку, – скажи спасибо, что сочли за человека и взяли с собой. А подарки эти дали нам, родственникам невесты.
Когда Жари уходила, Кулибутта подал ей немного грецких орехов для детей, но она, подойдя к собачьей конуре, бросила орехи собаке, и раздираемая злостью и обидой, пошла домой. Через некоторое время на одной свадьбе Жари разоблачила Сякку и Кулибутту, сложив саркастические стихи об их бессовестном поступке, алчности и подлости. Песня была очень интересная, все кругом хохотали и просили Жари повторить еще и еще раз.
Кулибутта пришел в ярость. Он служил чиновником царской охранки в качестве переводчика. С окрестных сел приходили к нему люди, чтобы написать заявление или письмо на русском языке, за ‘ что он с них сдирал шкуру. Разъяренный Кулибутта тут же написал жалобу в Темир-Хан-Шуру на Чакул Жари, якобы она сочиняет и исполняет аморальные песни против царя, пьет, гуляет и развращает кумухских женщин. Жалобу эту подписали несколько родственников и дружков. Из Шуры пришло решение шариатского суда – сослать Чакул Жари в Сибирь.
Это страшное известие поразило кумухцев. Люди стали просить, ходатайствовать за Жари – но тщетно. Настал день отправки Жари в ссылку. Все кумухцы собрались к табахлинскому озеру, где ожидали чиновники с повозкой, на которой должна была ехать осужденная. Через некоторое время привели Жари, одетую во все черное, а сверху одежды был накинут теплый шерстяной платок. Когда она поднялась на телегу, ее дети с ревом бросились к матери. Все заплакали. Исмаил, муж Жари, пытался успокоить детей, но те так прижались к матери, что невозможно было оторвать. Полицейские оторвали детей и отдали отцу. Поднявшись на телегу, Жари запела:
Не жалко головы своей, По сиротам слезы лью. Люди, сжальтесь над птенцами, Лишившихся матери родной. Отсох бы язык у того. Кто меня оклеветал. Отпали бы пальцы у тех, Кто приговор гнусный подписал.Завидую Абдулпатаху, у которого тысяча овец, Будь половина у меня, слылась бы я дочерью пророка…
Аробщик ударил плетью лошадей, и они понеслись, оборвав песню, которую пела Жари, обливаясь горькими слезами. Весть о том, что из Кумуха везут сосланную певицу, дошла до Цудахара раньше, чем полицейская повозка доехала туда. У цудахарцев и кумухцев были тесные связи. Приезжая на базар, цудахарцы останавливались у своих кунаков, и те, в свою очередь, тоже гостили у цудахарцев. Знали они и язык друг друга. Песни Чакул Жари были популярны и в Цудахаре, поэтому, услышав о несчастье, народ Цудахара, обливаясь слезами, пришел проститься с любимой певицей, которая, прощаясь с друзьями, спела им песню, строки из которой дошли и до наших дней:
Когда меня увозили Из родного Кумуха, Почему не свалилась Столб-скала на меня? По Хутхутинским ущельям Мой стон раздавался, Но не вышли мне навстречу Девушки из Куркли. Чем спелые абрикосы В фруктовых садах, Слаще и милее мне Были родные места.Когда привезли Жари в Темир-Хан-Шуру, ее земляки, проживающие в Шуре, услышав о несчастье, постигшем певицу, стали хлопотать об облегчении ее участи, но все безуспешно. Еле добивались хотя бы встречи с ней.
Через несколько лет один кулинец, проездом остановившийся в Кумухе, на годекане ругал кумухских мужчин, что они допустили ссылку безвинной и талантливой женщины.
– Ваппабай, какой изумительной красоты была женщина! Как она пела! Никогда, сколько буду жить, не смогу забыть ее. И кулинец прочитал наизусть слова, что пела Чакул Жари в Темир-Хан-Шуре:
Нет у меня бумаги, чтоб письмо написать, Вместо письма заберите мою разорванную душу. Нет у меня чернил, черные буквы вывести, Вместо жемчужных слов возьмите слезы мои. С моего языка всегда падали жемчуга, Лютые враги заставили огонь извергать. Ноги из слоновой кости, что по цветам ходили Подлые чиновники в цепи заковали…Из Шуры Жари отправили дальше, и больше никто не видел и ничего не слышал о ней. В Кумухе оставались дочь Чакул Жари Зулейхат и сын Сулейман. Зулейхат была красивой и обаятельной, как мать, но таким талантом не обладала. Она вышла замуж за односельчанина, проживающего в Харькове, куда и уехала с ним. В Кумух не приезжала, в послевоенные годы умерла и ее похоронили в Харькове.
Сын Чакул Жари, Сулейман, в возрасте восемнадцати лет уехал в Баку на заработки и больше не вернулся. Рассказывают, что он там принимал активное участие в революционных событиях и приезжал в Темир-Хан-Шуру по поручению ревкома, что с ним дальше стало никто не знает.
В наши дни по дагестанскому радио изредка передают изумительно красивые мелодии Чакул Жари – что является светлой памятью о талантливой женщине, загубленной жестокими людьми.
Саду Тутунова
Когда я училась в Кумухе в старших классах, приехал к нам новый учитель географии Татархан Константинович, по национальности осетин. Об этой новости я сообщила бабушке, добавив, что учитель молодой и похож на лакца.
– Осетин, говоришь, а как ты сказала его зовут? – оживилась бабушка.
– Татархан.
– А слышала ли ты про учителя Адильгерея, или его стихи?: “Ради бога, учитель, не задерживайся в Тифлисе…? – спросила бабушка, как-то многозначительно улыбаясь, а затем стала рассказывать: “Когда в Кумухе открыли русскую школу, а это было в 1881 году, приехал к нам новый учитель Адильгерей, татарин по национальности, фамилия его была Терекулов. Он тоже был молод и очень похож на лакца, невысокого роста с рябоватым лицом, знал аджам, молитвы, читал и писал по-арабски. Хоть на первый взгляд он казался не очень симпатичным, но какое-то обаяние было в нем. Адильгерей очень быстро сошелся с уважаемыми людьми села, здоровался только по-лакски, вся кумухская молодежь тянулась к нему.
Организовав школу, он сам ходил по домам, собирая детей. Лучше муллы читал молитвы, он, говорят, очень хорошо знал русский язык. Валлах, биллах от больших знаний человек сам возвышается и светится изнутри, как солнце, прикрытое сверху оболочкой.
Он приходил к горцам, уговаривая отпустить ребенка учиться в русскую школу, те задумывались: если бы не было пользы от русского учения, этот умный мусульманин не выучился бы русскому языку, ведь он и Коран читает, и по-русски знает, что тут плохого? И отпускали детей учиться.
Адильгерей близко сошелся с людьми, – быстро выучил лакский язык, его приглашали на свадьбы, на торжества, где он танцевал и пел.
Когда же в селе кто-нибудь умирал, тут же являлся к родственникам, читал алхам, ходил на похороны, честное слово, молодец был парень.
Со временем стал уговаривать людей, чтобы и девочек пускали в школу говорил, что они будут учиться отдельно от мальчиков, рассказывал о многих мусульманских известных женщинах, получивших русское образование. Кое-кто соглашался, но многие выступали против, поэтому в том году не удалось открыть школу для девочек.
Правда, через несколько лет в доме Ганапиевых все же открыли русскую шкоду для горянок, но тогда уже Адильтерея в Кумухе не было. Он бы не уехал из Кумуха, ведь его любили, ценили, да и учитель был доволен кумухцами, но случилось непредсказуемое.
Однажды Адильгерей был у Каталуевых на свадьбе своего друга Абдуллы. Когда есаул вывел Адильгерея танцевать, он пригласил девушку, но та не вышла с ним, пригласил вторую, третью, но и они тоже не вышли. И тут одна из девушек, Саду Тутунова, возмутившись поступком подруг, пошла танцевать с учителем, хоть он и не приглашал ее. По-моему, тогда ей было лет пятнадцать, очень красивая и озорная девушка. У нее были три неженатых брата и одна замужняя сестра. Родители Саду, состоятельные, добропорядочные, доброжелательные люди, были спокойны, зная с кем пошла танцевать их дочь, а мать только посмеивалась над ее поступком, разводила руками, другие родители за это убили бы дочь, так как она позволила себе пригласить молодого человека другой национальности.
Адильгерей был хорошим товарищем старших братьев Саду и приглашался в их дом. Может дома и сделали замечание дочери, но при людях не показали своего недовольства.
Через некоторое время среди девушек прошел слух, что будто Саду учится у Адильгерея русской грамоте, она обучала своих подруг писать имена русскими буквами. Следом поползла сплетня, что Адильгерей влюблен в Саду. Разве это могло понравиться родителям девушки, и они отказали Адильгерею в приеме, он не стал к ним ходить. Но Саду, будучи видной и красивой девушкой, привлекала к себе ребят, которые мечтали о ней, любовались и посылали сватов. Но, видимо, родители имели свои планы, они отказывали всем сватам, и в одно время мы услышали, что приехали из Пятигорска родственники Тутуновых сватать Саду, родители дали согласие. Когда же жених приехал и стал говорить о любви своей, Саду ответила: “Я не считаю; что ты недостоин меня, но, если даже небо упадет на землю и земля поднимется к небесам, я не стану твоей женой, я тебя не люблю”.
– Весь город наводнен слухами о твоей любви к Адильгерею, я же не обращал на это внимание, видимо, это правда, – сказал парень, на что Саду ответила:
– Ничего плохого обо мне болтать не могут, ибо я чиста, но скажу прямо, если бы Адильгерей меня сватал, я бы дала согласие”. Услышав об этом, братья, не скрывая от Адильгерея, стали строить планы, как бы выслать учителя из Кумуха, но отец их предупредил: “Сыновья мои, подняв шум, вы запачкаете свою сестру, ибо все скажут, что вынудили Адильгерея уехать из-за Саду. Потерпите, вот кончится учебный год, и пошлем его своей дорогой, больше он не вернется, и разговоры сами собой утихнут, страсти улягутся. Когда мутное озеро мешаешь, оно еще мутнее становится.
Братья успокоились, жених девушки уехал обратно, все как-будто стало на свои места, как вдруг, в один прекрасный день, Адильгерей вздумал сделать предложение Саду. Она дала согласие, но родители отчаялись, а братья возмутились. Они потребовали, чтобы Адильгерей уехал из Кумуха. Однако он не струсил, не растерялся и спросил их: “По какой причине я должен уехать отсюда, разве я оскорбил вас или вашу сестру? Или я самый первый в истории человечества, который полюбил девушку другой национальности и честно пошел просить ее руки? Если она ваша сестра, для меня – любимая девушка, честью которой я тоже дорожу и не желаю, чтобы хоть один волос упал с ее головы. Если вы не хотите, чтобы ваша сестра уехала из Кумуха, мы будем жить здесь. Я дам ей образование, выведу ее в люди”.
Ему отказали, но он не стал вешать носа, работал как прежде, был в гуще кумухской жизни, а когда закончился учебный год, уехал в отпуск в г. Баку, где жили его родители. Саду же он предупредил, что приедет за ней и тайно увезет к себе. По тому, что Адильгерей забрал все свои вещи, люди опечалясь поняли, что он уехал навсегда и больше не вернется в Кумух.
Подружки уверяли Саду, что Адильгерей женится там на своей, а ее не любил, раз он так испугался ее братьев, послушался их и уехал насовсем, ведь мог бы остаться в Кумухе и работать. И Саду поверила, что Адильгерей обещая приехать, обманывал ее.
Почти два месяца не было от него вестей, и Саду переживала и плакала. Люди сочинили куплеты:
Ради бога, учитель, Не задерживайся в Тифлисе, Саду горько плачет, А город весь смеется. Если кто принесет весть, Что едет Адильгерей, Жемчуг, что грудь украшает, Сниму и отдам. Однажды Саду пропала.По всему Кумуху искали ее, спрашивали у подруг, и мать, оказывается, узнала об исчезновении дочери только утром, сомневаясь была ли она дома ночью. В селе был большой переполох. На следующий день, в четверг, на базар в Кумух приехали цудахарцы. Они рассказали, что видели, как Адильгерей с девушкой, не по-нашему одетой, поздно вечером проехали на карете. Стали расспрашивать о приметах девушки и услышали, что она определенно не дагестанка, ибо была одета совсем по-другому: на ней было какое-то жемчужное платье, обшитая жемчугом, а такие платья и шапки в Дагестане не носят.
Но братья Саду догадались, что рядом с Адильгереем непременно была их сестра. Поехали в погоню. Да разве найти. Выяснилось, что приезжал Адильгерей. Не доезжая до Кумуха он, оставив карету в поле, послал подкупленную женщину за Саду и увез ее. Причем сразу попросил, чтобы любимая переоделась в ту одежду, которую для нее прислала его мать.
Все думали, что они уехали в Тбилиси; ибо, при отъезде Адильгерей говорил, что едет именно туда. Никто не думал, что он живет в Баку, пока через несколько месяцев кумухские ювелиры, работающие в Баку, не рассказали, что там они часто видят Саду с родственниками Адильгерея в магазинах, на базаре, а вокруг нее бывают служанки, которые носят корзины. Ездит же она в карете, как царская дочь.
Родные Адильгерея приезжали в Кумух к родителям Саду просить прощения за поступок Адильгерея и помириться с ними, но получили отказ.
Здесь бабушка замолчала, посчитав, что рассказ окончен, но интересуясь дальнейшей судьбой Саду, я стала просить ее продолжить эту повесть, но тщетно. Однажды мой земляк Джидалаев Магомед рассказал мне о своей интересной встрече, происшедшей в городе Баку.
Магомед сдавал экзамены в консерваторию. И здесь к нему подошла одна преподавательница и спросила:
– Вы из Дагестана?
– Да, – ответил Магомед.
– Откуда будете родом, кто вы по-национальности?
– Я лакец, родом из Кази-Кумуха.
Преподавательница сказала, что ее зовут Ляман Гасановна и что ее бабушка была родом из Кумуха, звали ее Тутунова Саду. Она рассказала о том, какую красивую жизнь прожила ее бабушка с дедушкой.
Дед помог ей получить музыкальное образование и теперь она обучает других. Во время революции он был в гуще этих событий, пользовался большим авторитетом, а после революции работал преподавателем в институте. Бабушка с дедушкой имели много друзей, которые часто собирались у них. Они вместе ходили в театры, кино, в гости, и выглядела бабушка как настоящая королева, была очень хороша собой и даже в старости.
Ляман Гасановна рассказала, как ее бабушка рассказывала им о Дагестане, о Кумухе, о талантливых ювелирах, об искусных вышивальщицах, к которым относилась и сама. Она часто вспоминала своих родных, которые так и не простили ей. Желание увидеть своих близких, поехать в Кумух не покидали ее никогда. “Свою любовь к Дагестану, Кумуху она передала нам, и мы с гордостью говорим о своей Родине. Что делать? Так сложились обстоятельства. Но даже теперь, если я встречу человека не только из Кумуха, а просто из Дагестана, то испытываю к нему теплое родственное чувство, то место, где родилась моя бабушка и подобные ей люди, не могут быть плохими”, – сказала Ляман Гасановна, доцент Бакинской консерватории.
Аминат Чаящинская
Случилось это в первой половине XIX века, когда в Дагестане шла священная война – газават, под руководством имама Шамиля. Тогда Кази-Кумухский округ принял подданство русского царя, и в газавате участия не принимал. Но зато мюриды имама часто делали набеги на отдельные села округа и грабили.
Однажды небольшой отряд мюридов остановился в селении Балхар, откуда совершал набеги на близлежащие села. Как-то летним вечером мюриды на годекане совещались, обсуждая планы предстоящего набега на селение Чаящи. Одна женщина, одетая во все черное, стояла поодаль с кувшином за плечами и внимательно прислушивалась к разговору.
– Смотрите, смотрите, – сказал один из балхарцев, – эта женщина родом из селения Чаящи. Она давно вышла замуж в наше селение, но может оповестить чаящинцев о нашем набеге!
Мюриды подозвали женщину.
– Кто такая, как тебя зовут?
– Меня зовут Аминат, вдова хромого Рамазана, иду по воду.
– Говорят, ты родом из селения Чаящи?
– Да, я родом из Чаящи, но лет сорок тому назад вышла замуж за балхарца.
– Говорят, ты специально подслушиваешь, чтобы предупредить чаящинцев о нашем набеге?
– Аставпируллах! Как я могу их предупредить, если вы утром собираетесь делать набег. Не птица же я, чтобы полететь?!
– Тогда поклянись, что не сообщишь! – протянул Коран один из мюридов.
– Валлах, не сообщу, дай Аллах вам удачи! – поклялась Аминат.
– Эй, черная женщина, дай Аллах, чтобы не сбылось то, что у тебя на душе, а сбылось то, что у тебя на языке! – крикнул ей главарь мюридов, до сих пор стоявший молча.
Аминат набрала воду и отправилась домой. Закрывая ворота, она посмотрела в щель и заметила нескольких мюридов, следящих за ней. “Решили посмотреть, где я живу”, – подумала Аминат.
Сделав все домашние дела, она загнала скот во двор и с шумом заперла ворота, погасила лампу и легла спать. Но не разделась и спать не собиралась, а проверила, нет ли вокруг дома слежки. Так она просидела до полуночи, а затем тихонько, через крышу дома спустилась на противоположную сторону, оттуда – в ущелье. Дорога в Чаящи лежала через ущелье и скалы, где ни одного ночного путника загрызли волки. На всякий случай Аминат запаслась кинжалом и быстро направилась в сторону родного селения.
По дороге она поняла, что опасны для нее не столько хищники, сколько узкие дороги, лежащие над глубоким ущельем под грозными скалами. Здесь каждый шаг мог стать роковым. Она шла, читая молитвы, шла быстрым шагом, ни на минуту не останавливаясь. Когда она дошла до окрестностей селения Чаящи, стало рассветать. Аминат, придя на сельский годекан, крикнула:
– Эй, чаящинцы, вставайте быстрее! Не успеете вы сделать утренний намаз, как вас могут зарезать кровожадные мюриды! Они сейчас в Балхаре, собираются идти на вас! Но только я говорю все это не вам, а этим булыжникам на годекане, ибо я дала клятву на Коране не говорить об этом ни одному чаящинцу!
Чаящинцы повскакивали с постелей, а Аминат окольными путями отправилась назад, оставив на годекане свой кинжал. Чаящинцы вооружились, вышли на окраины села. Мудрые старцы посоветовали засыпать дорогу, ведущую в село, черным горохом. А она шла под горку. Они вытащили из амбаров мешки с горохом и посыпали им дорогу предварительно перемешав его с землей.
Мюриды, чтобы застать жителей Чаящи врасплох, с восходом солнца, молча побежали по дороге вниз. Но бегущие впереди не могли удержаться и покатились, за ними другие. А притаившиеся за скалами, кустами и булыжниками чаящинцы тут же бросались на них и рубили кинжалами. Бегущие сзади, увидев эту картину, тут же дали стрекача крича остальным:
– Черная женщина успела дойти, они нам ловушку устроили, бегите назад!
Так, оставшиеся мюриды, спасаясь чаящинцев, прибежали обратно в Балхар. Но каково же было их удивление, когда на окраине селения они увидели Аминат, работающую в поле, которое было наполовину скошено.
Шагун Мукуринская
В прошлом столетии в лакских селениях во время полевых работ землевладельцы собирали молодежь для уборки урожая или на сенокос. Для них готовилось хорошее угощение, веселье, и молодежь за один-два дня сообща выполняла всю работу. Такой обычай назывался марша. Молодежь собиралась на марша, как на праздник, ибо работа в этот день превращалась в настоящее веселье. Там молодые люди знакомились друг с другом, оттуда начиналась любовь и дружба, и влюбленные виделись друг с другом. На марша с гор приходили молодые пастухи, приносили с собой овечий сыр или какое-нибудь другое угощение.
Лакские селения Гуйми и Мукур были расположены очень близко друг от друга, между ними протекала маленькая речка, небольшое ущелье. Когда из одного селения нужно было что-нибудь сообщить в другое, они не посылали гонцов, а выходили на окраину селения и кричали в другое селение, а там отзывались на зов и принимали сообщение. Оба эти селения собирали марша вместе, земляные участки тоже были у них вперемешку – мукуринские в Гуйми, гуйминские в Мукури.
Среди девушек, собирающихся на марша, была Шагун из селения Мукури, певица и плясунья, большая умница и сочинительница куплетов, без нее девушки не любили ходить на марша. У Шагун было четверо братьев, мать их Аминат растила детей одна.
В селении Гуйми жил состоятельный землевладелец Шахмандара, он потерял жену и уже шесть лет был холостым. У него были две замужние дочки и сын Вали, которому в эту пору исполнилось двадцать лет. Он на горах пас отару овец, отец же занимался полевыми работами. Хотя Шахмандара очень нуждался в хозяйке, он не думал жениться, хотел женить своего сына, чтобы в доме были женские руки.
Среди девушек, собравшихся на марша, Вали заметил Шагун, которая ему понравилась, из-за нее он часто приезжал с гор на своем белом коне, приходил на марша с гостинцами и, поработав с молодежью, к вечеру уходил обратно: Прошел слух о том, что Вали и Шагун любят друг друга.
Слух дошел и до Шахмандара, который слышал о таланте и уме Шагун, о том, что она хорошо поет, но особого внимания он тогда не обратил на нее, теперь ему хотелось увидеть ее, и если она действительно подходящая невеста для его сына, почему бы и не поженить их?
Но тут было и другое. Тетя Вали, сестра его умершей матери, имела намерение отдать свою дочку за Вали. Патимат (так звали тетю) после смерти матери заменяла Вали мать. Дочка ее была еще мала, ей шел только четырнадцатый год, а Шахмандара нуждался в совершеннолетней невестке, чтобы могла держать дом и хозяйство.
Однажды Шахмандара пошел в селение Мукур в надежде увидеть где-нибудь Шагун. Узнав, что они работают в поле, пошел туда.
– Бог в помощь! Чтобы поле ваше стало урожайным, чтобы Аллах был всегда к вам милостив! – сказал Шахмандара, увидев Шагун с матерью, работающих в поле.
– Спасибо, знатный гость! Какая дорога привела тебя в нашу сторону?
– Да вот, пропала черная кобыла, разыскиваю.
– У вас и конь был черный? Мы только белого знали, – спросила Шагун, не отрываясь от работы. Шахмандара понял намек девушки на белого коня его сына и стал любоваться ее проворной работой.
– Хорошо тебе, Аминат, у тебя такая ловкая помощница, машаллах! А я вот остался без рук, может иногда по традиции добрых соседей вы и мне поможете?
– Почему бы не помочь, руки не отвалятся, серп не потупится, – ответила Аминат, – когда нужно, и тебе поможем.
Шахмандара вернулся очень довольный своей встречей. Ему показалось, что сын его сделал удачный выбор и потому решил женить его, не откладывая. Шахмандара поделился своими мыслями с близкими родственниками и с Патимат. Хоть Патимат и обиделась на него, он решил не придавать этому значения, тем более ее дочь еще мала, а ему необходимо женить сына теперь же.
Житель селения Мукур Пурхучи собирал марша молодежи для сенокоса на своем участке. Пригласил он группу девушек, что работали на поле, среди которых была и Шагун, и они обещали ему придти непременно.
Вернувшись домой, Шагун рассказала матери о том, что Пурхучи собирает марша, и они обещали пойти.
– Что ты, доченька, разве у нас есть время завтра идти на марша? Приходил Шахмандара, просил завтра помочь скосить его гороховое поле, что расположено на нашей стороне. Никогда ведь он к нам не обращался за помощью, – сказала Аминат.
Известие это не обрадовало Шагун, а заставило задуматься, как быть? Она знала, что завтра на марша обязательно придет Вали, встреча с ним для нее была самой большой радостью. Солнце спускалось к закату, но Шагун решила пойти и сегодня же начать уборку горохового поля Шахмандара. Положила в сумку ужин и отправилась. Шагун стала работать, но поле было большое, и она сомневалась, что сможет до утра скосить все. Солнце спряталось за гору, и вскоре показалась большая и круглая луна. Ночь была светлая и свежая, работать стало легче, чем днем. Шагун работала, не разгибая спины, и к рассвету закончила уборку всего поля. С нарезанной вязанкой свежей травы, она вернулась в село, когда мулла крикнул с крыши мечети акбар. Поднявшись на крышу своего дома, где обычно они сушили сено, Шагун положила под голову вязанку травы и там же заснула на часок. Когда за ней пришли сельские девушки, она умылась, переоделась и пошла с ними на марша.
– Что-то ты сегодня как никогда румяная и красивая, – шутили подружки. Шагун, действительно, вся светилась изнутри, была довольна тем, что успела убрать поле Шахмандара и придти с подружками на марша. Прибыв до восхода солнца на сенокос, молодежь разбрелась по холму и начала косьбу. Солнце взошло, хозяева принесли завтрак, стали звать молодежь подкрепиться. Шагун все оглядывалась кругом, не пришел ли Вали, но его не было. Все собрались на завтрак, девушки протянули Шагун бубен и стали просить, чтобы она спела, но Шагун не стала петь, а только сыграла на бубне танцевальную мелодию. После завтрака было традиционное веселье, но Шагун ничего не веселило, она тревожно смотрела вокруг. Приступили снова к работе. Так прошло время до обеда. Теперь уже Шагун заметно загрустила. Когда принесли еду, и все собрались на обед, она, оставив работу, пошла к молодежи без особой охоты. Оглянувшись невольно в сторону горки, Шагун заметила на горизонте всадника на белом коне и сразу узнала своего возлюбленного, лицо ее озарилось счастьем, все кругом засияло, для нее взошло солнце из-за горы. Она увидела, что Вали сошел с коня и пошел пешком рядом с ним! По его неторопливой походке и по тому, что он сошел с коня, а не прискакал, как прежде, на танцующем скакуне, Шагун поняла, что случилось что-то неприятное. Все же она была рада появлению любимого. Заметив приближающегося Вали, все радостно закричали, стали его журить, что вовремя не пришел, приглашали к обеду. Он подошел к молодежи, поздоровался со всеми и нехотя присел к ним. После обеда, когда молодежь собралась веселиться, Вали встал и отозвал Шагун в сторону.
– Не знаю, Шагун, как тебе сказать об этом, и как мне самому быть, тетя Патимат не разрешает мне на тебе жениться, говорит, что моя мать еще при жизни нарекла ее дочь Муслимат мне в невесты, и что необходимо исполнить аманат умершей матери, – сказал он тихо и сбивчиво.
Шагун, не ответив ему, молча повернулась и пошла обратно к девушкам. Молодежь танцевала. Когда закончился танец, Шагун сказала:
– Вы же просили меня спеть что-нибудь, дайте-ка сюда бубен, я спою, и, повернувшись лицом к Вали, стоявшему поодаль, стала петь:
Ты выстрелил пулей свинцовой В душу мою горящую. Дай бог, чтоб этот светлый мир для тебя потемнел! И чтоб рубашка белая твоя Обагрилась кровью алой, И чтоб лужи крови застыли В стремени коня твоего. Глаза мои, сияющие как звезды, Ты заставил слезами затмить. Дай бог, чтобы вся родня твоя Рыдала горькими слезами. Мое сердце, подобное лепестку розы, Ты сжег на черном огне. Дай бог, чтоб пуля огненная Сожгла и твое сердце!Все были поражены ее песней и быстро разошлись по своим рабочим местам. Вали тоже повернулся и пошел со своим конем также медленно, как и пришел. Все поняли, что случилось, краем уха они и раньше слышали о позиции тетушки Патимат в отношении женитьбы Вали, но теперь ни у кого сомнения не было в правдивости тех слухов.
После смерти матери Патимат для Вали действительно заменяла мать, и он с ней делился как с матерью, и теперь ему было тяжело разорвать ту единственную нить, связывающую его с памятью умершей матери. Летом Патимат поставила вопрос ребром: или он женится на ее дочери, или станет чужим человеком.
Так прошли месяцы. Шагун не стала обращать внимание на Вали. Наступила осень, и с похолоданием пастухи пригнали своих овец с гор на приусадебные фермы, Вали тоже пригнал свою отару на ферму, расположенную недалеко, от селения Мукур. Он по-прежнему тосковал по Шагун, искал с ней встречи, ее показное равнодушие терзало его. Одныжды мать Шагун Аминат шла из рощи с вязанкой дров и на дороге встретилась с Вали. Он поздоровался с ней и спросил:
– Тетя Аминат, если я завтра вечером приду к вам в гости со своими друзьями, не выгоните?
– Разве гостей выгоняют, сынок, приходи… – ответила ласково Аминат. Дома она рассказала дочери о своей встрече с Вали и наказала ей, чтобы она была приветлива с гостями, а там, что будет…
На следующий день Шагун с матерью готовились встретить гостей, но ничего об этом не сказали братьям. К вечеру следующего дня все было готово, однако гостей что-то не было. Шагун с матерью частенько выходили во двор, поднимались на крышу и оглядывались кругом, не идут ли гости, но их не было. Уже стемнело, никто не пришел, но все же допоздна ни мать, ни дочь не ложились спать, что-то тревожно было в душе. Аминат велела дочери лечь спать, а сама вышла во двор. Кругом, во всех окнах погасли лампы, только яркая и круглая луна светила на небе. В это время услышала Аминат, как из селения Гуйми кто-то кричал в их сторону. Она стала прислушиваться.
– Эй, Зазал Али, сын Шахмандара Вали ранен мюридами! Он просит сообщить об этом Аминат и Шагун. Сообщи, пожалуйста.
Тот человек ждал, когда отзовется Зазал Али и, услышав его голос, еще раз повторил свою просьбу.
Аминат быстро спустилась вниз, велела дочери собраться и, не дожидаясь сообщения они пошли в Гуйми. Они шли быстро, но дорога казалась длинной как вечность. Прибыв в селение Гуйми. они направились к дому Шахмандара, но там сказали, что Вали забрала к себе тетя Патимат, и он лежит у нее. Им тоже пришлось идти туда.
В комнате, где лежал больной, царила тишина, все были убиты горем. Отец Вали Шахмандара стоял возле стены с поникшей головой. Аминат подошла к нему и стала выражать сочувствие. Они разговаривали шепотом. В это время Вали приоткрыл глаза и спросил:
– Пришла Шагун?
Ему ответили.
– Пусть подойдет ко мне поближе. Шагун подошла и стала справляться о здоровье.
– Зубами держусь за жизнь, пока ты придешь, голубка моя. Посмотри внимательно, точно ли туда попала пуля, куда ты сама заклинала, – спросил он тихим, хриплым голосом. Шагун стала плакать.
– Теперь не надо пить кровь мою, дай мне воды своей рукой. – Шагун подала ему напиться.
– Теперь положи руку на мою рану, может полегчает.
– Сынок, сделаем так, как ты хочешь, лишь бы поправился, – приговаривала тетя Патимат, сидя возле постели больного.
– Знаешь, наверное, я отсюда уже не встану, – сказал Вали тихо. В комнату больного стали собираться его родственники, которые, услышав о случившемся, прибежали взволнованные. Аминат подошла к дочери, сидящей возле Вали.
– Пойдем домой, доченька, оставим больного в покое, пусть отдыхает, утром еще придем.
Вали опять приоткрыл глаза, с трудом поднял руку, сунул в свой карман, вытащил оттуда золотое кольцо и вложил в руку Шагун:
– На, возьми кольцо свое. – Он пожал ее руку, в которой лежало кольцо. Пока Шагун с матерью не скрылась за дверью, Вали все смотрел на них. Вернувшись домой, ни мать, ни дочь не легли спать. Дома сыновья сказали им о том, что Вали ранен, они промолчали. Прошло несколько мучительно тяжелых часов. На рассвете Аминат услышала все тот же голос из соседнего села, зовущий Зазал Али. Она вышла на крыльцо, прислушалась. Тот сообщил о кончине Вали и просил сообщить об этом всем сельчанам. Весь мукуринский джамаат собрался на похороны в соседнее село, пошли и братья Шагун. Когда они увидели, что идет на похороны и Шагун, они воспротивились и велели ей вернуться домой. Тут вмешались аульские аксакалы, упокоили братьев и взяли с собой Шагун.
Дом Шахмандара и прилегающие к нему улочки были запружены народом. Шагун с трудом пробралась в комнату, где лежало тело любимого. Кругом все рыдали, причитали. Шагун, убитая горем, не знала, что делать, к кому подойти. В это время тетя Патимат, положив руки на плечи своей дочери, запричитала: “Что теперь мне делать, сынок, с твоей юной невестой?!”
Недалеко от нее тетка Вали по отцу плакала, размахивая каракулевой шапкой с красным верхом, принадлежащей племяннику.
– Твоя юная останется на языках уличных сплетниц, жаль девушку из Мукури, которая так и не сумела разгадать тайну этой папахи! – крикнула она в сердцах и кинула шапку к Шагун. Та тоже схватила шапку налету и стала причитать красивым, звучным голосом, размахивая шапкой Вали:
Мужчины гуйминские, как вы теперь головы поднимите, Как на годекане сядете? Ведь жемчуг ваших сердец в пучину канул! Как ты, Шахмандара, на белый свет посмотришь, Ведь солнце очага твоего в самом зените потухло?! Зацветут ли долины, если тополь белый громом сожжен? Соберется ли базар в Кумухе, если ожерелье базара Черной пулей раздроблено?! Когда ты улыбался, в горах таяли снега. Улыбнутся ли когда-нибудь твои друзья в горах? Когда ты на гору поднимался, гора взлетала до небес, Покажутся ли вершины гор теперь из-под снега и пурги? Ты обещал вчера в гости к нам придти. Знал ли, что беда черная за тобой крадется? На смертном одре лежал, воды глоток попросил, А смерть, как змея, у ног твоих стерегла. Зубы жемчужные твои выстукивали дробь. Ужель конец жизни своей удерживал ты в зубах? Ибрагим – пророк ли ты, чтоб в огне сгореть, Или солнце красное, чтоб тучей затмить? Пусть сгорит твой дом, что не мог тебя оценить. Пусть разобьется об скалы конь, что тебя не сберег! Поделиться ли с матерью родной решил, Что во цвете лет из жизни отправляешься к ней? Увидимся ли с тобой на том свете еще, Если я уже на этом превратилась в прах? Девушки, мои подружки, не снимайте же траур, Солнце наше закатилось, мы остались в тени! Парни, наши танцоры, теперь о танцах забудьте. Ваши ножки ловкие подкошены мечом!Так причитала Шагун, и все собравшиеся на похороны навзрыд рыдали от ее слов. Даже крепкие мужчины вытирали украдкой слезы. Следующие дни и ночи в селениях Мукур и Гуйми все повторяли и запоминали причитания Шагун по своему жениху. Шахмандара же проникся к ней, уважением и любовью за то, что так оплакивала его сына и возвысила престиж похоронного обряда.
После этого прошло два года, Шагун не сняла за это время траур и не показывалась нигде на торжествах и на веселье. Пробовали к ней подойти и сваты, но она и слышать не хотела ни о ком.
Однажды пришла к ним сестра Шахмандара Итта, принесла бочонок меда, золотое колечко и старинный платок гулменди. Начала она издалека, но затем сказала, что послал ее Шахмандара к Шагун, велел передать его слова: “Сгорела и потухла твоя душа, Шагун, сгорел и потух и мой дом, не придешь ли ты зажечь очаг в доме своего любимого?” Услышав эти слова, Аминат не дала дочери и рта раскрыть:
– Хватит, Итта, надоели нам по горло сплетни ваших гуйминцев, теперь же я дочь в Гуйми не отдаю! Возвращайся туда, откуда пришла. Ушла Итта оскорбленная. Прошло некоторое время, Итта опять явилась с теми же подарками и с теми же словами. Опять ее прогнали мать и братья Шагун. Собралась в третий раз Итта в Мукури, но прежде договорилась с теткой Шагун по отцу. Как Итта переступила порог дома Аминат, зашла за ней и тетка Шагун. Итта опять повторила слова Шахмандара, опять раскричались братья и мать, но тут встала грозная и мудрая тетка и сказала: “Теперь молчите все! У Шагун нет отца, коль нет его, буду я, его сестра. Никто в наших селах не поверит, что какая-то девушка не вышла за Шахмандара, если он сватал. Скажут, не брал, и потому не вышла. А я вот возьму и отдам!
Она взяла из рук Итты кольцо, надела на палец Шагун, взяла платок, тоже надела не ее голову, взяла кусок хлеба, обмакнула в бочонок с медом и положила сначала в ее рот, затем в свой рот, затем подала и Итте. при этом читая обрядовые молитвы. А племянникам своим велела молчать и Аминат отослала от дочери, сказав, что теперь хозяин Шагун ее будущий муж, что он посчитает нужным, то и сделает. Так эта мудрая женщина развязала тугой узел и поставила все на свои места.
Все, что написано выше, мне рассказала внучка той самой Шагун, Загидат, мудрая и пожилая женщина. Она вспоминала свою бабушку Шагун, добрую, умную и всеми уважаемую в селе. Шахмандара умер раньше нее. У них было несколько детей. Шагун отзывалась о своем муже очень хорошо, говорила, что за свою совместную жизнь не услышала от него ни одного слова тяжелее пуха. Он был всегда добр, отзывчив и внимателен. Наказывал, чтоб не возвращала человека, пришедшего за подаянием или за другой помощью, чтоб не забывала сирот в священный день-пятницу.
До сих пор в селении Гуйми с особой теплотой вспоминают добрую чету Шахмандара и Шагун.
Трагедия потомков Сурхай-хана
В XIX веке прямые потомки Сурхай-хана, через его сына Магомедхана: Имрам-бек, Аслан-бек, Шахимардан-бек, Башир-бек, Махмуд-бек и Муслим-бек со своими семьями и прислугой жили в своем родовом поместье Бухцанаки, в восьми километрах от Кази-Кумуха. Они владели обширными земельными угодьями в горах и на низменности, в районе нынешнего «Новостроя», содержали множество домашнего скота, табуны лошадей. Они владели также ювелирными мастерскими и магазинами в Баку и Тифлисе.
Отец братьев Башир-бека, Муслим-бека и Махмуд-бека Зубаир-бек Сурхайханов был казнен в 1877 году за участие в бунте. После установления советской власти они стали носить фамилию – Зубаировы.
Двоюродные братья Башир-бек и Агалар-бек (впоследствии Агалар-хан) в отрочестве были отданы Аслан-ханом Казикумухским в аманаты русскому царю. Позже Башир-бек, со своим двоюродным братом Имрам-беком воевали в русско-японской войне, вернулись в чине штабс капитанов и с боевыми крестами. Раненный в бою Имрам-бек, хоть и хромал на одну ногу, всегда ходил подтянутый, одетый с иголочки и с серебряным посохом. Все Сурхайхановы были умны и образованы, владели многими языками, Махмуд-бек хорошо пел, сочинял стихи на арабском и азербайджанском языках. Кстати, дочь Махмуд-бека Тугай-ханум является прямой бабушкой по матери известному дагестанскому певцу Мухсину Камалову, а Башир-бек является прадедом не менее известному пианисту Хану Баширову. Получивший в свое время в Санкт-Петербурге юридическое образование, Башир-бек по возвращении с войны был назначен заместителем председателя государственного и шариатского судей при губернаторе Дагестана в Темирхан-Шуре.
После установления советской власти пожилой Башир-бек вернулся в свое родовое поместье Бухцанаки, летом туда же возвращались из Баку и Тбилиси все Сурхайхановы, и их приезд становился праздником для всех близлежащих сел, к ним приходили гости со всего округа, и конечно, из Кумуха. Вечерами братья Сурхайхановы устраивали настоящие концерты и до полуночи звуки музыки заполняли близлежащие горы и долины.
После установления советской власти на Кавказе их ювелирные мастерские и магазины были конфискованы, прикутанные земли отобраны, и они сами продали почти все земельные угодья и в горах. Все шесть семей жили в Бухцанаки, не вмешиваясь ни во что и не мешая никому. Во время революции даже Саид Габиев, скрываясь от преследования, часто гостил у них. Приходили к ним чекисты, требуя денег и золото для нужд новой власти, Сурхайхановы не скупились и отдавали все, что могли.
19 апреля 1927 года в Бухцанаки среди ночи залаяли все собаки, раздались выстрелы и псы со стоном умолкли. Почуяв неладное, Сурхайхановы вскочили с постелей, зажгли лампы, и к ним одновременно во все дома ворвались вооруженные до зубов чекисты, предъявили ордер на обыск. Их было человек пятнадцать, с начальником ГПУ Ягизаровым, который приказал женской половине приготовить горячую еду для его работников. Женщины стали варить хинкал с сушеной колбасой, а мужчин Сурхайхановых загнали в один сарай и заперли. Чекисты произвели обыск во всех домах и все, что считали годным, кидали в свои хурджины, брали даже теплые женские одежды и меховые шубы. Когда хинкал был готов, чекисты потребовали водки. – «Водку не держим, у нас не пьют», – ответили женщины. Наевшись, чекисты стали снимать драгоценности с женщин. Когда Асият-бике возмутилась, ее избили и силой сняли с нее драгоценности. Все эти бесчинства продолжались до рассвета.
Затем чекисты вывели мужчин, на Махмуд-бека надели кандалы, поскольку он оказал им сопротивление, вывели всех женщин и детей, погнали весь домашний скот и направились в Кумух. К шести часам утра они дошли до Кумуха. Несмотря на ранний час, все кумухцы вышли им навстречу, поили их горячим калмыцким чаем. При виде дрожащих от холода женщин и детей, снимали с себя теплые тулупы и кидали на их плечи. Имрам-бек шел с трудом, хромая на одну ногу – его серебряный посох отобрали чекисты, тут нашелся кто-то из толпы и протянул ему свой посох.
В Кумухе всех арестованных заперли в крепости. Весть об аресте потомков Сурхайхана облетела округ, и в Кумух стал стекаться народ из окрестных сел. Власти, боясь народного волнения, уже рано утром следующего дня арестованных этапировали в Темир-хан-Шуру. Вопреки крикам и угрозам конвоиров, все кумухцы шли за ними, пока на Красном мосту конвоиры не преградили им дорогу.
К вечеру дошли до Цудахара, где они встретили большое количество возмущенного народа. Уважаемые во всем Дагестане тухумы: Ника-кади, Асланкади и Каракади заявили, что Сурхайхановых не пустят дальше, и они останутся в Цудахаре. Наконец конвоирам удалось-таки договориться с джамаатом Цудахара: оставить арестованных на ночь, причем отпустить их к ним по домам. По настоянию цудахарцев были сняты кандалы с Махмуд-бека, ибо у него ноги уже были окровавлены. Наутро цудахарцы приготовили для арестованных подводы и настояли, чтобы женщин и детей посадили на них, конвоиры приняли и это условие, ибо цудахарцы могли их вовсе не выпустить из села. Десятилетний сын Махмуд-бека, Мухтар сошел с арбы и пошел рядом со своим отцом. Когда этапированные подходили к Леваши, тамошние жители встретили их с горячей едой. В этом селе был похоронен отец Шахимардан-бека, Аслан-бека и Кузи-бике – Патаали, погибший во время бунта 1877 года. В Левашах в свое время было Мехтулинское ханство, а Мехтули-Магди был лакцем из Кази-Кумуха. Левашинцы тоже не пустили арестованных дальше, взяли их детей на руки и вместе с их матерями повели по домам. Конвоиры вынуждены были вновь отпустить и мужчин. Утром левашинцы раздали всем арестованным свертки с едой, пошли провожать их до Урма, причем все мужчины-левашинцы громко исполняли походную песню про храбрых Сурхайхановых.
Урминцы тоже стали требовать, чтобы арестанты остались на ночь у них, сообщили, что им навстречу идет генерал Гамид Далгат с отрядом и что Имрам-бек приходится ему родственником. Оказывается, отец Гамида и Магомеда Далгат воевал в русско-японской войне вместе с Имрам-беком, они так крепко сдружились, что после войны Далгат захотел породниться с Имрам-беком и приехал в Бухцанаки просить выдать за своего сына дочь Имрам-бека – Нана-халун. Сурхайхановы дали согласие, и они породнились. Урминцы тоже забрали арестантов на ночь по домам, а утром пошли все их провожать. Когда они подходили к Мусалав-аулу, конвоиры узнали, что действительно к ним навстречу идет Гамид Далгат со свитой. Это известие так подействовало на конвоиров, что старший из них даже слез с лошади и стал предлагать ее Имрам-беку. Но гордый Имрам-бек отказался от лошади и продолжил путь пешком. В Мусалав-ауле Гамид Далгат дал Имрам-беку лошадь, и они вместе отправились в Буйнакск. В течение семи дней в Буйнакске рассматривался вопрос выселения казикумухских ханов. Благодаря заступничеству Магомеда Далгата, председателя Верховного Совета Дагестана и Саида Габиева было вынесено решение оставить Сурхайхановых в Буйнакске, на попечении близких и друзей, но без права выезда куда-либо.
Понятно, жизнь Сурхайхановых здесь была не из легких. К примеру, когда Сурхайхановы стали устраивать своих детей в школы, меняли им фамилии, но через несколько месяцев их исключали, узнав, что они потомки Сурхайханов. Так их детям приходилось постоянно переходить из одной школы в другую.
Сын Махмуд-бека Мухтар Зубаиров, профессор Дагсельхозинститута, еще при жизни в 1980-е годы вспоминал, как заместитель председателя Буйнакского горисполкома, Чанхиев, кстати дядя писательницы Мариям Ибрагимовой, в 1931 году помог ему с учебой на сельхозрабфаке. Учился Мухтар отлично, был общественником, его приняли в комсомол. Но в конце учебы, в 1934 году, получился конфликт с секретарем горкома комсомола Магомедовым, который захотел жениться на сестре Мухтара Тугай-ханум, которая в тот момент была засватана за своего родственника Эльдара Сурхайханова. Секретарь Магомедов Магомед в отрочестве работал со своими братьями пастухом в Бухцанаке и знал семью Сурхайхановых хорошо. Он стал требовать от Мухтара, чтобы он уговорил сестру выйти за него замуж. Когда Мухтар заявил, что сестра его не слушает, Магомед пошел ее сватать к ним домой. Махмуд-бек ответил, что его дочь засватана, но если она захочет выйти за него замуж, он не будет против. Вызвали Тугай-ханум и спросили при нем, хочет ли она выйти замуж за этого парня. Она ответила, что она его знает еще с Бухцанаки, но выйти замуж за него не хочет, ибо она выходит за Эльдар-бека. Магомед ушел оскорбленный и на второй день собрал комсомольское собрание в рабфаке. На повестке дня был поставлен один-единственный вопрос – о пребывании Мухтара Зубаирова в рядах ВЛКСМ. Магомед рассказал, что Мухтар – сын контрреволюционера, потомок Сурхай-хана и что его сестра заявила, что она не выйдет замуж за человека, который был рабом ее отца, хотя этих слов девушка и не произносила.
Поскольку оскорбленный секретарь настоятельно требовал исключить Зубаирова из комсомола, большинство проголосовало за его предложение, но несколько сокурсников Мухтара, включая его друга Абакара, в знак протеста покинули собрание. На второй день Абакар пришел за Мухтаром, сказал, что его послал директор рабфака Алидада Гаджиев. Директор встретил Мухтара вежливо: «Мухтар, я знаю, что ты порядочный и способный юноша, я не хочу ломать твою судьбу. Я на несколько недель отстраню тебя от учебы, ибо по другому невозможно, затем возьму обратно и дам возможность окончить рабфак», – заявил Алидада.
– Спасибо вам, но вас тоже ведь могут потом наказать, – засомневался Мухтар.
– Пусть наказывают, зато я спасу достойного парня, – ответил Алидада.
Старший брат Мухтара Джамалутдин стал брать Мухтара на стройку, где он работал подсобным рабочим, другую работу им не доверяли. Время было холодное, голодное, надо было кормить семью. Сестру Тугай-ханум, которая работала в швейной артели, тоже попросили уйти, якобы она скрыла свое происхождение при поступлении на работу. Через два месяца директор рабфака как и обещал, разрешил Мухтару вернуться к учебе и дал возможность окончить его. Сам же Алидада Гаджиев – известный Красный партизан, удостоенный ордена, получил выговор за лояльное отношение к «чуждым элементам». Мухтар вместе с дипломом получил рекомендацию для поступления в сельскохозяйственный институт. По этой рекомендации он и поступил в Дагестанский сельхозинститут.
В институте Мухтар учился тоже на отлично, получал повышенную стипендию. Через полгода его вызвал директор и показал ему письмо из обкома комсомола о необходимости исключить сына контрреволюционера Мухтара Зубаирова из института.
– Почему ты скрыл свое происхождение? – спросил его директор института.
– Меня никто об этом не спрашивал, разве я веду себя плохо? – в свою очередь спросил Мухтар.
– Для нас это не главное, нам не нужны проблемы из-за тебя, – ответил директор и подписал приказ об его отчислении.
Мухтар забрал документы и поехал во Владикавказский сельскохозяйственный институт. Директор института М.Ратник посмотрел на его документы и спросил:
– Как же вас с такими отметками и рекомендациями отпустили из института?
– Исключили за Сурхайхановское происхождение, – ответил Мухтар.
– А мы примем вас, – сказал директор твердо. С первых же дней Мухтар привлек к себе внимание педагогов и студентов своими незаурядными способностями. Его стали уважать, назначили повышенную стипендию.
В 1936 году, в начале мая его вызвал директор института М.Ратник и показал телеграмму из Буйнакска, где сообщалось о болезни отца. Мухтар тут же выехал и к семи часам утра следующего дня был уже в Буйнакске. Возле своих ворот его встретили двое молодых людей.
– Ты Мухтар Зубаиров? – спросили они.
– Да.
– Ты арестован.
– За что? Я приехал навестить больного отца, где мой отец? – спросил Мухтар.
– Вся ваша семья арестована, мы ждем тебя, – ответили парни и повели его в тюрьму. Мухтар понял, почему его вызвали ложной телеграммой, видимо, боялись, что он может скрыться. Тугай-ханум в это время была уже замужем, ее обошла эта участь, но ее и мужа лишили права голоса. В тюрьме взрослые мужчины удивлялись, за что же посадили такого молодого, интеллигентного парня. Но там разговаривать между собой было запрещено.
Через несколько дней арестованных вывели во двор погулять. Среди конвоиров Мухтар заметил знакомого аварца, женатого на лачке из соседнего селения Дучи. Проходя мимо Мухтара, аварец-конвоир тихо спросил:
– Тебе что-нибудь нужно?
– Бумагу и карандаш, – ответил Мухтар.
В тот же день ему принесли бумагу и карандаш. Мухтар написал заявление начальнику тюрьмы, где считал свой арест ошибочным, что он студент и кроме как происхождение, никакой вины за собой не чувствует и не понимает, за что его арестовали, тем более в это время, когда вышел указ И.В.Сталина о том, что сын за отца не отвечает. По поводу этого заявления его стали таскать каждый день к разным следователям и часами стоял он в кабинетах, пока чиновники обратят на него внимание. Затем следователи совали под нос ему его же заявление и спрашивали, кто автор этого заявления. Мухтар, чтобы доказать авторство снова и снова писал то же самое при них. Над ним издевались, угрожали каторгой. Однажды его повели к заместителю начальника тюрьмы Белову. На удивление Мухтара, тот предложил ему сесть. На столе лежало его заявление. Белов тоже спросил, его ли это заявление, на что Мухтар ответил утвердительно.
– Мы получили ответ на наш запрос из Владикавказского сельскохозяйственного института. Что ты намерен делать, если тебя освободят? – спросил Белов.
– Я бы хотел встретиться с родителями, потом уехать учиться в свой институт.
– Твои родители в Южной тюрьме, их на днях отправят в Казахстан, – был ответ.
– Если отец болен, я должен его сопровождать, – сказал Мухтар.
– Тебе не разрешат.
Белов вызвал конвоира и велел организовать Мухтару встречу с родителями, а затем отпустить. Ему самому тоже дали бумагу с резолюцией «Освободить». Мухтару дали встретиться с отцом и с матерью. Отец ему категорически запретил ехать с ними, велел продолжить свою учебу. Освободившись из заключения, Мухтар остался на перепутье. Оставив родителей, ехать в институт он не мог, да и денег на это у него не было. Он решил подождать, пока родителей отправят, может, удастся с ними попрощаться, а затем выехать во Вдадикавказ. Он вспомнил, что тут недалеко находится дом его друга Абакара, и пошел к нему. Друга не оказалось дома, но зато его родители Габибуллах и Аминат приняли его радушно, покормили и попросили, чтобы он ночевал у них, но Мухтар решил караулить возле тюрьмы и ждать отправки ссыльных. Когда он уходил, Габибуллах спросил: «Сынок, а у тебя деньги есть?»
– Нет. Мне бы только три рубля, чтобы доехать до Владикавказа, а там я получу стипендию, – сказал Мухтар.
Габибуллах дал ему десять рублей. Мухтар не хотел брать, но тот его поругал и сунул в карман парня купюру, затем вполголоса сказал:
– Мой брат, Нурмагомед, работает председателем горисполкома, думаю, он мне поможет передать передачу и теплые вещи твоим родителям. Мухтар заночевал у них и утром пошел к тюрьме, дни и ночи стал проводить возле их ворот. В один из вечеров прошел слух, что арестованных формируют для отправки. Народу возле тюрьмы было много, Мухтар тоже всю ночь не уходил. Утром вывели колонну арестованных, и Мухтар хотел хоть на расстоянии попрощаться с родителями, с братом и всеми родственниками. Отец ему знаками дал понять, что ему надо поторопиться на свою учебу. На вокзале арестованных посадили в товарные вагоны, толпы провожающих кричали, женщины и дети плакали, конвоиры прикладами били то заключенных, то провожающих. Тут кто-то подошел к Мухтару и дернул за руку. Это был Абакар.
– Мои родители тоже здесь. Отец сумел твоим что-то передать, – шепнул он Мухтару в ушко. Сколько Абакар не просил его зайти к ним, хотя бы позавтракать, Мухтар поехал в Махачкалу, чтобы оттуда поездом выехать в Беслан.
Когда Мухтар зашел в приемную директора института, пожилая секретарша в пенсне посмотрела на него с удивлением и заплакала:
– Мухтар, сынок, висит приказ о твоем отчислении. Парень показал ей бумагу из ГПУ. Она посмотрела ее, обрадовалась и сразу зашла к директору. Тот тут же вызвал Мухтара, поздоровался с ним за руку:
– Очень рад, очень рад! Сию минуту я напишу приказ о твоем зачислении, попроси вызвать ко мне бухгалтера и коменданта общежития.
Когда пришла бухгалтер, М.Ратник велел ей выдать Зубаирову тридцать рублей из его фонда, а коменданту – заселить его в общежитие, в ту же комнату, где он жил раньше. Ему оставалось учиться еще два года.
После окончания института его отправили в Чуйскую долину Казахстана, куда выслали его родителей. Их он нашел недалеко от Нижнечуйска, на границе Казахстана и Киргизии, других родственников разбросали по разным местам, сколько не просили, не оставили вместе. Там было много выселенцев из Кавказа и еще немцы, высланные из Петербурга. В степях Джангижира и Джангипахта был организован гулаг. Заключенным предложили самим рыть землянки. Хотя они все были образованными людьми, им работы не давали. Отец с одним немцем профессором из Петербурга работали скотниками на ферме. Они часто болели. Жена Джамалутдина Патимат из Бюхты была грамотной медсестрой, благодаря ей лечили больных, особенно детей. Но за два года умерли там Шахимардан-бек, Имрам-бек, его жена и сын Адил-бек.
Мухтара направили работать в город Фрунзе селекционером госплемрассадника. Его уважали и как человека, и как специалиста. Однажды ему сообщили, что отца арестовали. Оказывается, Махмуд-бек, владеющий многими языками, решил от немца Рудольфа научиться немецкому языку. При обыске у него нашли тетрадь-словарь немецкого языка. Больше Махмуд-бек не вернулся, говорили, что его расстреляли. Это для Мухтара было большим ударом. Он стал проситься на фронт, но его не брали. Когда вышел приказ Верховного главнокомандующего: «Добровольцев не задерживать!» Мухтар снова пошел в военкомат, и на этот раз его взяли. Воевал он на Курской дуге и под Сталинградом, был тяжело ранен и награжден медалью «За отвагу». После госпиталя снова вернулся на фронт, воевал на Украине связистом, разведчиком. За боевые подвиги был награжден второй медалью «За отвагу». Участвовал в жесточайшей в истории Великой Отечественной битве в Прохоровском, где немцы впервые использовали сверхмощные танки-тигры. Враг был сломлен, и Мухтар был награжден орденом Красной звезды. Получил медаль и при освобождении Польши, Чехословакии. День Победы встретил в Праге.
Демобилизовался в 1946 году под Будапештом с боевыми наградами: орденами Отечественной войны первой и второй степени, нигде не задерживаясь, поехал к своим в Казахстан. Мухтар узнал, что все его дяди умерли, осталась больная мать, брат Джамалутдин с женой. Они взяли к себе сыновей умершего там Адил-бека: Салаутдина, Джабраила и Сурхая.
Мухтар стал ходатайствовать, чтобы им разрешили вернуться в Дагестан. Учитывая его боевые заслуги, разрешили его семье вернуться на родину. Так через двенадцать лет из тридцати двух Сурхайхановых в Дагестан вернулись только шесть человек, и все больные. А через год все сосланные Сурхайхановы были реабилитированы.
Уммукусюм Кумухская
В антологии лакской поэзии, изданной в 1979 году, на 227 странице опубликованы стихи Уммукусюм Калияевой и небольшое предисловие к ним, где говорится, что Уммукусюм Калияева умерла, перерезав себе вены.
Но старожилы Кумуха, в том числе и моя бабушка Патимат, хорошо знавшие Уммукусюм Калияеву, отвергли эту версию самоубийства. Родственники ее и односельчане подтверждали, что она умерла от затяжной неизлечимой болезни легких. Наложила на себя руки другая Уммукусюм, которая жила во времена Аслан-хана Кази-Кумухского, т. е. в начале 19 века, но судьбы у девушек были одинаковыми, обе сочиняли стихи, имели хороший голос, и народ их путал. Поэтому постараюсь рассказать читателю все, что смогла узнать об этих двух девушках. Сначала расскажу об Уммукусюм Кумухской.
В начале 19 века в Кумухе жила богатая женщина по имени Аймисей. Муж ее погиб на войне, и у нее остались четверо взрослых сыновей и одна дочь Уммукусюм. Аймисей прославилась своей красотой, и дочь была под стать матери. Видимо об этом упоминается в песне, которую поет влюбленный молодой человек своей возлюбленной:
Глаза такие, как у Уммукусюм. Брови тонкие, как у Аймисей, На облике твоем волшебном Заблудились мои глаза.Еще с детских лет Уммукусюм хорошо пела, у нее был чудесный голос. Когда матери не бывало дома, к ней собирались подружки и пели на весь магал. А в доме, что напротив, жил бедный парень Исмаил, который играл на мандолине. Когда девушки начинали петь, Исмаил доставал свою мандолину и, сидя на окне, аккомпанировал им. Люди, проходя мимо этих домов, часто останавливались, зачарованные прекрасными песнями. У лакцев сохранились эти песни:
Песни ли Уммукусюм, Исмаила ли чагана, Что так заворожило Ястреба на горе?Исмаил был ровесником старших братьев Уммукусюм. С кумухскими ювелирами он ездил на заработки, а летом возвращался на несколько месяцев, чтобы помочь матери на полевых работах.
Уммукусюм была еще мала и потому их шутки, песни с Исмаилом родные не брали всерьез.
Как-то Исмаил с мастерами возвращался с заработков, на них в дороге напали разбойники, в драке Исмаил получил ранение, потерял много крови и его привезли домой на тележке. Лежа в постели, больной Исмаил спросил мать, почему не слышно песен Уммукусюм, не выдали ли ее замуж? Мать удивилась расспросам сына и ответила:
– Откуда нам знать, что делается в этих богатых домах: кого там женят, кого выдают. Есть, наверное, что-то у них на уме, но пока ничего не слышно.
Но Исмаил все время прислушивался к голосам за окном в надежде услышать голос Уммукусюм. Как только Исмаил набрался немного сил, он, облокотясь на подоконник, беседовал с людьми, проходящими мимо его окна, надеясь увидеть девушку, но Уммукусюм все не было.
В один счастливый день Исмаил издалека заметил ее, идущую в его сторону. Она шла и смотрела на его окно. Сравнявшись с Исмаилом, девушка его поздравила с приездом и прошла мимо. Он заметил, как она сильно смутилась, даже растерялась при виде его, и почувствовал как-будто крылья выросли у него за плечами. Затем Исмаил часто видел ее, молчаливую и опечаленную. Он сочинил для нее письмо в стихах, бросил его из окна, когда она вновь проходила мимо.
Затем Исмаил написал самой Уммукусюм письмо в стихах:
Моя ты голубка, попавшая в сеть. Тоскую всем сердцем, не встретив тебя. С утра начинаю караулить у окна, Чтоб на жемчужной улочке не пропустить тебя. В ожидании стою до вечерней молитвы. Словно камень застывают мои горемычные плечи. Бросив тебя на страданье, Кто может спокойно спать? Пусть в аду сгорит твоя безжалостная мать. На царском окошечке фарфоровая кукла. Если зарюсь на твое богатство, Пусть штыками заколют. Обогревшая мою душу далекая звезда, Если зарюсь на твою знатность, Пусть я сгорю в огне. Я не муталим, не алим, чтоб истории писать На белой бумаге любовь свою пишу.Их песни люди повторяли, учили наизусть. Но братья Уммукусюм стали при людях оскорблять и унижать Исмаила: “Кто ты такой, чтоб сметь произносить имя нашей сестры, нищий!” – говорили они.
А Уммукусюм засватали за сына богатой родственницы, в свое время вышедшей замуж в Аварию.
После этого Исмаил написал ей письмо:
Каждый новый божий день Приносит мне новое горе, Мать твоя для дочери выбирает мужа. Роза моя красная в соседском саду, Чем ашуг песнями, я увлечен тобой. Как солнце восходит, фруктовый сад расцветает. Как я тебя увижу, болезнь моя проходит. Костер ли горит на крыше, базар ли у вас во дворе, Рай ли у вас на балконе, Глаз оторвать не могу. Из души моей горящей, сыпятся яхонты. Пусть Аллах меня накажет, если неправду говорю.Уммукусюм тоже ответила стихами:
Небо печалится и горюет, Что фиалка инеем покрылась, Тебя, героя рана свалила, И я потеряла покой. Выхожу на поле зеленое, То зеленею, то сохну. И глаза мои, как фиалки, В траву роняют росу. За каждым цветком глаза твои, За каждой травинкой твой шепот. Ах, быть бы мне соловьем, Чтобы свить гнездо в цветах!Мать заметила связь дочери с Исмаилом и запретила Уммукусюм ходить по улочке мимо дома парня. Она заставляла служанок следить за ней, чтобы Уммукусюм не смела смотреть в сторону бедняка. Исмаил же, не подозревая о случившемся, сильно исстрадался, что не видел Уммукусюм. Он послал ей письмо:
Белый цветок города, Красный цветок магала, Жемчуг среди девушек. Почему тебя не видно? И телом ты статная, И ростом ты ладная. Ты мой сладостный родник. Почему тебя не видно? Не было бы в неволе людей, Не было бы птиц в небесах. Встать бы нам посреди неба, И поговорить по душам. Солнцем озарила, оставила, Пулей поранила, бросила, Разве мусульманки верные Так безжалостно бросают? На теле моем рана, А на сердце еще глубже, Обращаюсь к богу ежечасно, Чтоб ты вылечила меня.Однажды мать Исмаила вернулась домой печальная, не желая обидеть сына, молчала, но не вынесла, рассказала, что Уммукусюм наказана матерью, которой донесли сплетницы, раскрыв ее увлечение Исмаилом.
– Зачем, сын мой, навлекать напраслину на нашу хорошую соседку, она нам не пара, поэтому не надо с ней шутить, люди не понимают шуток, если они твои слова примут всерьез, не найти мне влиятельного человека, который бы смог за нас заступиться, – сказала она.
Через некоторое время Исмаил взял в руки мандолину и спел песню:
Чтобы шутить, мать моя, Я не маленький ребенок. И чтобы запутывать следы, Я не бурая лиса. Чтобы спасти голубку, Попавшую в сети. Подушка в колючку превращается, А сон – в мучение. Душу терзает горе, Так и ночь кончается. Кто садится на клячу, есть ли такой чудак, Оставив желтогривого скакуна? Что рядом с тобой Уста соловьиные, Привыкшие говорить со львом, Станут ли беседовать С кабаном нежеланным?Исмаил, решив похитить Уммукусюм, передал ей, чтобы она ночью поднялась на крышу своего дома, откуда они и ушли.
Наутро в Кумухе поднялся переполох. Братья Уммукусюм с оружием в руках бросились к дому Исмаила, но там уже стеной стояли соседские аксакалы, вызвавшиеся остановить кровопролитие. Никакой маслихат, никакие уговоры аксакалов не смогли уломать родственников Уммукусюм на согласие. Через несколько дней сыграли свадьбу, на которую не явился ни один из родственников Уммукусюм. Когда Исмаил танцевал с Уммукусюм, откуда-то появился один из братьев невесты и на месте застрелил Исмаила.
Свадьба превратилась в панихиду, собралось очень много народу, не было человека, который бы не плакал. Убитая горем, Уммукусюм бросилась к матери жениха, но та оттолкнула ее, назвав ее чёрным врагом. Невеста обливалась кровавыми слезами, каталась возле ее ног и причитала:
Мать моего дорогого льва, Чем называть меня черным врагом. Убей меня выстрелом из дула, Тебе все простится. Бедняжка, лишившаяся дорогого сына, Назови меня сестрой врага, Ударь кинжалом в грудь и убей. Тебе все простится.Родным Уммукусюм не понравилось ее горькое причитание. Они насильно выволокли ее с панихиды домой, заперли в одной из комнат и поставили к ней дальнюю родственницу. Ночью Уммукусюм легла спать, а утром ее нашли мертвой в луже крови. Она порезала себе вены.
Уммукусюм Калияева
В первые годы советской власти не было девушки в Кумухе, которая не знала бы наизусть песни Уммукусюм Калияевой. Родилась она в 1907 году в семье зажиточного крестьянина. Восьмидесятилетняя Мисиду Чаргиева вспоминает, как Уммукусюм Калияева училась вместе с ней Корану при мечети. Она была веселой, жизнерадостной и талантливой девочкой. Затем Мисиду уехала в город Харьков, где отец работал лудильщиком, а вернулась уже в возрасте шестнадцати лет. На одной свадьбе она встретилась с Уммукусюм, которая вытянулась, похорошела и очень хорошо пела, сочиняя слова к своим песням. Ажа Калияева, будучи женой брата Уммукусюм, вспоминает ее с самой лучшей стороны. Ее сватали многие в Кумухе, но она отказывала всем, так как любила парня по имени Жамиль. А родители и братья девушки были против этого парня, ибо он был родом не из Кумуха, а из Вихли. Сам же Жамиль был красивым, видным и умным парнем, за словом в карман не лез.
Однажды родственники Жамиля пошли сватать Уммукусюм, ее отец и мать приняли сватов, с ними вежливо поговорили, но согласия не дали. Тут пришел самый старший брат Уммукусюм Абдулла, узнав, в чем дело, сказал гостям:
– Если ваш Жамиль не стесняется сидеть с кумухскими мужчинами на годекане, хоть постыдился бы сватать девушку из Кумуха!
Узнав об этом, Жамиль в свою очередь тоже велел передать Абдуллаху:
– Хоть придется мне пройти через морское дно, пролететь над высокими тучами, я все равно женюсь на его сестре, пусть тогда делает что хочет!
Уммукусюм очень задело то, что ее родственники обидели и оскорбили любимого, от стыда она долгое время пряталась от него. Жамиль прислал ей письмо, где выражал свою любовь и верность ей, уверяя, что, если она по-прежнему любит его, он обязательно женится на ней. Уммукусюм же послала ему ответ в стихах:
В этот невезучий час и несчастное время. Получив письмо от тебя, успокоилась душа. На голову положила, возвеличила, В руки взяла, расцеловала, На любви к тебе, родному, на душе поставила печать. Над моею крышей белый месяц стоит. Но тучи его закрывают, смотреть не дают. Что делать с отцом, не любящим тебя, Что делать с душой, тоскующей по тебе. Что делать с родными, все против тебя? Если ты захочешь, Жамиль из души сделаю сад. И на садовом винограде будем жить с тобой. Если конь твой пить захочет, на висках родники сделаю. Уздечку для твоего коня из волос своих сотку. Если конь твой захочет, фиников я ему дам, Если подковать коня надо, золотом его подкую. Высокие крыши разделены меж собой белым снегом, Кто сможет разделить наши с тобою сердца?На одной из кумухских свадеб Уммукусюм спела такую песню:
Серебряный лоб, на котором кубачинские мастера сделали узор. Кто тебя увидит, влюбится в тебя. Ювелиром позолоченные твои плечи широкие, Кто один раз увидит, всю жизнь восхищается. Если то, что говорят обо мне сплетницы – правда, Я бы на свою шею давно бы петлю надела. Если то, что обо мне аульские девушки судачат – правда, Я бы пошла и вырыла могилу себе на кладбище. Есть кто-нибудь на свете несчастнее меня, Не имею ни сна, ни покоя и не высыхаю.Когда Жамиль убедился, что просить руки любимой у ее близких – дело безнадежное, он, как и обещал, похитил ее. Братья Уммукусюм были разгневаны, бросились с кинжалами к дому Жамиля, но их остановили уважаемые люди Кумуха. Потом, позже, когда поутихли все страсти между родственниками с обеих сторон, родители помирились.
Как-то на годекане брат Уммукусюм Абдуллах поругался с Жамилем. Мужчины с трудом успокоили их, Жамиля отправили домой. Но Абдуллах догнал его в тесном переулке и ударил сзади шашкой по голове. Жамиль тут же потерял сознание, и мужчины найдя его, на руках принесли домой. Все стали упрекать в подлости Абдуллаха, который не по-мужски, сзади, ударил его, да и затеял скандал без всякой на то причины. Ругали его и все родственники Уммукусюм. Младшие братья Уммукусюм, Наби и Джабраил поехали в Аварию и привезли хорошего врача. Жамиль тяжело болел несколько месяцев. Сохранились стихи Уммукусюм, сложенные о больном муже:
В темном небе светящаяся звезда из звезд, Настигла ли тебя черная туча, что затмила тебя? На лугу качающийся белый, стройный тополь, Ранний снег ли пошел, что заморозил тебя? Ни за что не посмотрю на кумухский город. Пусть на скакунах пропашут и посеют рожью. Даже взгляда не брошу на вершину холма Куруна, Если даже снизу до вершин начнет огнем он гореть.Жамиль как будто выздоровел и стал потихоньку выходить на улицу, и Уммукусюм заметно повеселела. Но однажды он вернулся домой со страшной головной болью. Никто не смог ему помочь, и он скончался в тот же день. Уммукусюм тяжело переживала его смерть, и вскорости заболела легкими. Мать, теряя единственную дочь, была в отчаянии, ходила по всем селам, искала врача, который помог бы Уммукусюм. Какие только врачи ни приходили, какое только лечение ни делали, вылечить ее не смогли. Так она и умерла, превращаясь в белую свечу, как говорила ее мать. Это было в 1930 году, ровно через год после смерти Жамиля.
Черкешенка Шарифат
Карабутта со своим отцом Ибрагимом считал дневную выручку. Было время вечернее. В их магазинчик кто-то постучался, отец поспешил к двери. Трое пожилых мужчин стояли у порога.
– Ибрагим, случилось несчастье в нашем селе, трое братьев в лесу на охоте случайным выстрелом убили односельчанина, кто из братьев стрелял, установить не удалось, необходимо срочно идти к потерпевшим на переговоры, иначе кровопролития не миновать, – сказал один из стариков.
Ибрагим, уроженец села Хурхи Лакского района Дагестана, давно работал по торговому делу вместе с сыном в кабардинском селении Заюка, где сельчане уважали его, считались с ним, прислушивались к его слову. На такие переговоры его приглашали не впервые, он знал с кем как говорить, умел находить ключ к любому сердцу. У местных жителей был обычай, если кровника прощали, вернее, намерены были простить, то он должен был собрать в дом убитого всех сельчан и устроить пир за свой счет. Явившись, кровник должен был просить прощения перед всем собравшимся народом. Джамаат решал вопрос простить ему или нет.
Ибрагим пошел с аксакалами в дом потерпевшего, где после долгих и тяжелых переговоров перемирие было достигнуто. Кровники взяли на себя все расходы, связанные с похоронами и поминками, также обязались организовать в доме потерпевшего мавлид. Здесь были и Ибрагим с сыном. Когда собрался народ и обряд начался, в одно мгновение наступила тишина и все стали смотреть в сторону ворот, посмотрел и Карабутта. Он увидел, как к настежь открытым воротам подошли трое молодых черкесов с красивой юной девушкой, одетой в траур. Захир, товарищ Ибрагима, встал и пошел к кровникам. Войдя во двор, те остановились у ворот. Захир тоже встал рядом с ними. Этот жест обозначал: вот все наши головы перед вами, или снесите их, или помилуйте.
Девушка же была единственной кровной сестрой кровников, которую они взяли с собой, чтобы придать большее значение своей виновности. По народу прошел шепот. Ведь девушки-черкешенки никогда не выходили с открытым лицом при таком людском собрании. И первая заговорила девушка:
– По нашей вине случилось большое несчастье, нам было бы гораздо легче, если бы оно произошло в нашем доме. Мы в неоплатном долгу перед близкими умершего и перед народом всего села. Любое ваше решение для нас – закон. Мы готовы сложить головы возле этого порога.
Все умолкли. Затем встал один аксакал и сказал, что отныне они обязываются взять на свои плечи заботу об этом доме. Кровники в знак согласия все опустили головы и поклонились. Затем им разрешили сесть вместе со всеми.
– Они мне двоюродные братья и сестра, – ответил Захир. Карабутта не сводил глаз с девушки, весь ее облик, ее манера держаться достойно, при всей своей виновности, умение говорить при таком собрании народа восхищали его.
Когда закончился пир, Карабутта спросил Захира, как зовут его сестру и, случайно, не невеста ли она ему.
– Нет, нет, она мне только сестра, ее зовут Шарифат, у меня есть обрученная невеста, – ответил Захир. Вспомнив обычай черкесов красть девушек, Карабутта спросил:
– Не украсть ли мне сестру твою, по вашему обычаю?
– О…о… ее зорко охраняют, – ответил Захир.
С того дня Карабутта потерял покой. Он узнал, где живет Шарифат, и каждый день проходил мимо ее дома в надежде увидеть девушку. Но Шарифат не попадалась ему на глаза. Так прошло несколько недель, Карабутта поделился с отцом, который решил пойти к родителям Шарифат просить ее руки. Родители девушки приняли его доброжелательно, а когда узнали причину визита, сказали, что они не вправе ему в чем либо отказать, но братья Шарифат не согласятся отдать единственную сестру за тавлина (так они называли дагестанцев). Братьев в это время не было дома.
Карабутта понял, что, если продолжать и подождать возвращения братьев, то от них непременно услышишь отказ, а потом не миновать неприятностей. Он решил похитить возлюбленную, пока нет братьев. Но друзья предупредили его, объяснив, что без Захира проникнуть в ее дом невозможно, необходимо прибегнуть к его помощи. Узнав, что родители Шарифат, в принципе, не против, Захир согласился принять участие в похищении сестры.
Ночью несколько всадников поскакали к дому Шарифат, Захир был уже у них в гостях и, уходя, попросил сестру выйти за ним закрыть ворота. Тут Карабутта накинул на нее черную бурку и вскочив с ней на коня, скрылся вдали, следом, прикрывая их, мчались друзья. Они несколько дней блуждали по степи, питаясь жареной дичью. Шарифат так и не знала, кто из всадников ее будущий муж. Об этом она узнала, когда в одном из соседних селений, в мечети, совершили обряд бракосочетания. Затем они вернулись в свое село, и Шарифат стала жить в доме Карабутты.
Это был тревожный 1917 год, Карабутта узнал, что все его друзья в Дагестане увлечены революционными идеями, назревает гражданская война. Он объявил отцу, что намерен вернуться в Хурхи вместе с молодой женой. Мать Карабутты встретила Шарифат приветливо, очень обрадовалась, когда невестка стала говорить с ней на лакском языке.
Впоследствии хурхинцы узнали, что Шарифат искусная рукодельница и хорошая портниха. Все стали ходить к ней с просьбой раскроить платье, мужскую сорочку или детскую одежду. Шарифат никому не отказывала, но была удивлена, что в таком большом селе нет ни у кого швейной машины, и вся одежда шьется вручную. Она попросила мужа привезти ей швейную машину, что он и сделал. После этого все хурхинцы стали шить не вручную, а на машинке. К Шарифат приходили с просьбой написать письмо, ибо хурхинские девушки тогда еще грамоте не обучались. Она не только писала им письма, но и обучала грамоте. А Карабутта вовлекся в революционную борьбу, все время пропадал в Кумухе и редко приходил домой. Он вступил в отряд Эфенди Кацранского. Шарифат тоже стала помогать мужу. Она частенько ездила к ним, возила туда продукты, одежду и выполняла разные поручения.
В самый разгар революционных событий в Дагестане Шарифат родила сына-первенца, и по этой причине не могла быть рядом с мужем. Как-то она услышала, что в село приехал раненый односельчанин, воевавший в одном партизанском отряде с ее мужем. Шарифат пошла к нему и спросила, в чем нуждается Карабутта, что ему послать.
– Ему нужно оружие, патроны, вот я поправлюсь и поеду к нему, так ты приготовь все это, – пошутил боец.
Шарифат продала все золотые изделия, что подарили ей родители, поехала в соседнее село, купила револьвер и патроны и принесла товарищу мужа, чтобы он, обязательно, передал это ему. Тот громко засмеялся и сказал, что он ведь пошутил. Но Шарифат не шутила, она серьезно попросила передать оружие мужу. В это время Карабутта воевал в селении Салта. После его возвращения в Кумух Шарифат сама стала ездить к мужу и помогать всем необходимым, а за ребенком присматривала свекровь.
Однажды, когда она готовила партизанам обед, прискакал из Хурхи мальчик и передал Шарифат, что ее золовка Халла тяжело больна и просила срочно приехать к ней. Шарифат взяла у мальчика коня и поскакала домой. Золовка была присмерти, а ее двое малолетних сыновей жалобно плакали, ведь у них не было отца, а теперь умирала и мать.
– Шарифат, – обратилась золовка к ней слабым голосом, – хорошо, что ты успела приехать. Я умираю. Ты для меня ближе сестры, поэтому прошу тебя, ради Аллаха, не бросай моих детей, прими их под своё покровительство, Аллах не забудет твое добро.
– Ну что ты, дорогая, ты еще поправишься, кто не болеет? Разве я отказывала во внимании твоим детям? Успокойся!
– Нет, нет, Шарифат, я умираю, поклянись, что заменишь меня! – все настаивала золовка. Шарифат поклялась, вскоре Халла действительно умерла. Приехал на похороны сестры и Карабутта.
С тех пор старшими сыновьями Шарифат стали Рамазан и Рашид, а младшим ее сыном Ибрагим. Когда у нее родилась дочь, имя ей дали умершей золовки. Все тяготы семьи легли на плечи Шарифат, ибо Карабутта все время был в боях. После победы Советской власти в Дагестане, мужа направили на учебу в Махачкалу, после окончания которой работал в Кумухе.
Карабутта пользовался большим авторитетом среди сельчан, его уважали и в Кумухе, он был одним из тех храбрых воинов, который удостоился именного оружия Дагревкома, был членом коммунистической партии. Со временем Карабутта подготовил и Шарифат для вступления в ряды коммунистической партии, а вместе с ней и других хурхинцев.
Шарифат организовала в селе женсовет, работая в библиотеке, стала обучать женщин грамоте. После организации в селе колхоза, Карабутта стал работать бухгалтером, а в партячейке секретарем. И кто бы мог подумать, что этих людей, преданных и честных, работавших на благо народа, ждет злая участь?
Это было в сентябрьскую ночь 1937 года. Все в доме спали, когда дверь спальни Карабутты и Шарифат грубо открыли. Перед ними стояли милиционеры, прибывшие из Кумуха. Спросонья Шарифат не могла ничего понять, ребенок в люльке заплакал, и она занялась им. Незванные гости стали в комнате производить обыск. Что они искали, она не знала, не знал и сам Карабутта.
Затем велели Карабутте одеться и ехать с ними. Тут Шарифат поняла, что черная беда постучалась и к ним.
– Успокойся, это какая-то ошибка, все образумится, а матери пока ничего не говори. Вернусь, сам скажу, – сказал Карабутта на прощанье. Шарифат не смогла успокоиться, не смогла лечь в постель, еле дождалась рассвета. Оставив грудную девочку у свекрови, помчалась в Кумух. Старший их сын в это время учился в педучилище в Кумухе. Шарифат пришла к нему, но он, ничего серьезного не подозревая, стал уверять мать, что отца посадить не могут, ибо он чист, как стеклышко, а арест ошибочен. Пошли в милицию, где сказали, что арестованные в тюремной крепости, за речкой. Пошли к крепости, а там таких, как они, было много, и никто ничего добиться не мог, все стояли с узелками, хотели передать передачу заключенным, но их никто не слушал и ничего не принимали. Шарифат тоже держала под мышкой сверток – завтрак для мужа, стала выяснять с кем можно поговорить, кто даст разъяснение, кто примет передачи, но все кругом молчали, везде она встречала глухую стенку. Так простояли Шарифат с сыном целый день, а вечером пошли в Кумух к своим знакомым Бавасулеймановым. Шарифат давно дружила с Саидат Бавасулеймановой, со времен гражданской войны, она с Саидат варила обеды и шила обмундирование для партизан. Узнав о беде, настигшей Шарифат, Саидат искренне расстроилась, но выразила надежду, что все будет хорошо, Карабутту скоро выпустят. К сожалению, их желанию не суждено было сбыться. Так и не сумела Шарифат увидеться с мужем, не сумела что-нибудь передать, что-нибудь узнать о нем. Когда она приезжала домой, свекровь снова торопила ее в Кумух, попытаться узнать что-нибудь, помочь сыну. Однажды утром Шарифат узнала, что арестованных будут отправлять в Махачкалу. Она быстренько взяла коня у кого-то и поскакала домой, чтобы собрать в дорогу мужу сумку с самым необходимым. Но пока она вернулась, их уже отправили. Провожали Карабутту сын Ибрагим и Саидат, она и собрала ему на дорогу еду и кое-что из одежды.
Они рассказали Шарифат, что Карабутта не был подавлен и убит, как другие, наоборот, он призывал всех быть стойкими и не унывать.
Всех заключенных повели пешком, этапом, а сзади них милиционеры на конях. Карабутта снял с головы шапку и, размахивая ею, громко запел:
Разошлите письма в лакские аулы, Что светлые головы черный поток унес. Юные муталимы, в книгах разыщите, Наш корабль от какого бурана разбился?Все стали плакать и бросились вслед за заключенными, но милиция их отогнала.
Шарифат очень сожалела, что поехала домой и не смогла проводить любимого в тяжелую минуту. Она разрыдалась, а Саидат стала ее успокаивать, уверяя, что все заключенные скоро вернутся. В слезах она и отправилась домой. На дороге, далеко от села ее встречала свекровь. Увидев заплаканные глаза невестки, разрыдалась. Так они обе плакали, сидя на обочине дороги, ведшей в Кумух.
Много раз ездила Шарифат, разузнавая о судьбе мужа и других заключенных. Только через, год вернулся один из арестованных, Куяев Магарам который и рассказал, каким испытаниям их подвергали в тюрьме, как добивались от Карабутты признания, что он принадлежит к буржуазно-националистической партии, заставили его и других встать в ледяную воду по пояс, протягивая им документы на подпись, но Карабутта взял и начертил на этой бумаге большой крест:
– Вот такой крест я ставлю на тебя и на то, что ты говоришь. Я преданнее народу, чем все вы, клевещущие на меня! – сказал он в сердцах, а следователь ударом дубинки выбил ему зубы.
Таким же избитым и измученным приехал и сам Магарам. Он заверил, что постепенно всех отпустят, ведь они ни в чем не виновны.
Шарифат вызвали в Кумух и потребовали вернуть партийный билет, так как она – жена “врага народа” не заслуживает быть в рядах партии.
“Мой муж – человек честный и преданный народу, – сказала она, – и мне не нужна партия, в которой нет таких мужчин. Я и мой муж не раз доказывали свою любовь и преданность народу и докажем еще!”. Через некоторое время исключили Ибрагима из педучилища, как сына “врага народа”. Но он все равно посещал занятия, его выгоняли, а он простаивал под окнами класса. Директор педучилища Абдулкадир Дандамаев пригласил Ибрагима в свой кабинет, сказал, что любит его как сына, но не может идти против вышестоящих бюрократов и потому посоветовал ему написать в Москву, спросить, в чем его вина, почему исключили из училища. Но предупредил, чтобы разговор остался между ними.
Ибрагим написал в Москву так, как сказал ему Абдулкадир. Через месяц получил ответ, что сын за отца не отвечает, Ибрагима восстановили в училище.
А мать Карабутты, уверенная в абсолютной честности и невиновности своего сына, надеялась, что сегодня – завтра сын вернется. Слезы не высыхали на ее лице, а уста произносили грустные слова песни:
Недоступных гор джигит, И гость орлиных вершин. Ты, кровник без крови. Позабыл ли свой аул? Айзаинский базар ли это, Где нельзя заблудшего найти. Или Мисринская сторона, Откуда никто не возвращается?Но Карабутта так и не вернулся. Началась Великая Отечественная война, Ибрагим поехал в Кумух в военкомат, хотел добровольцем поехать на фронт, но ему ответили, что сын “врага народа” не должен быть в рядах защитников Родины.
Шарифат узнала, что фронту нужна теплая одежда, нужны бурки. Она умела шить и выделывать бурки, поэтому организовала в селе артель, обучая хурхинских женщин шить одежду для фронта и изготавливать теплые вещи. Сельчане ее любили, за хорошую работу она стала получать благодарности от правительства. Только дочка Гуржихан, которой всего было полтора года, когда арестовали отца, все спрашивала: “Когда мой папа вернется с фронта?” Но немного повзрослев, девочка узнала всю горькую правду об отце и сочинила стихи:
Как обратиться мне к тебе, “Папа” или “любимый отец”. Как позвать тебя, Чтобы ты вернулся?. Ты нашел мне интересное имя, Которого в ауле нет, Но тебе неведомо, что у меня Появилось еще имя – сирота. Если у бабушки спрошу про тебя, Она долго и горько причитает. Если к маме подойду, Она глаза от меня прячет. Если в село приезжает гость, Я от него глаз не отрываю. Может, думаю, отец мой вернулся, И он не узнает меня? Что нет на кладбище надгробного камня, Среди умерших и имени нет. Душа моя все ожидает тебя И ежечасно письма к тебе шлет.В 1956 году Шарифат вызвали в Кумух к первому секретарю райкома. Он извинился перед ней, что в свое время допустили грубейшую ошибку и лишили ее партийного билета, сказал, что Карабутта был честным и преданным коммунистом, поэтому он посмертно реабилитирован. Ей вернули партийный билет, засчитав партстаж за все долгие годы репрессии.
Самая младшая дочь Карабутты и Шарифат, Гуржихан, долгие годы работает завучем Махачкалинской средней школы N 34, а внук их, сын Ибрагима – Казбек Караев работал диктором телевидения.
Трагедия первой комсомолки
В 1970 годах я перебирала старые подшивки газет в поисках материала о репрессированных и наткнулась на статью журналиста А.Вольского в газете “Дагестанская правда” за август 1937 года, где он сообщал о трагическом случае в далеком ауле Уллучара Акушинского района: “Убита горянка, первая комсомолка, общественница, парторг аула Салихат Юсупова собственным мужем Алигаджи Абдулкеримовым. Она вела ликпункт в ауле, была пропагандистом, избачем, председателем сельского совета аула, вступила в партию, была избрана парторгом села. Она неутомимо боролась за освобождение горянок от власти адатов, темноты и невежества, была инициатором строительства ясли-сада, школы, дороги в селе. Горянки с уважением произносили ее имя, а теперь горько оплакивают ее смерть…”.
Я вспомнила, что мой дядя Э.Эффендиев в те годы работал в органах и не мог не знать об этом случае, и пошла к нему.
– Да, я помню тот трагический случай, – сказал дядя, – я тогда ездил в село Уллучара. Талантливая, молодая, красивая женщина, которая без сомнения поднялась бы на высокую ступень и принесла бы много пользы нашим женщинам, так нелепо была убита.
В 1920-х годах в селении Гуймы Лакского района была девушка по имени Салихат, которая выделялась своим умом и талантом среди сверстниц. Окончив семь классов в селении Караша с отличием, Салихат хотела продолжить учебу в Кумухе, но родители ей не разрешили. В возрасте шестнадцати лет ее засватали за своего родственника, который ездил на заработки.
Однажды парень по имени Абакар из селения Уллучара поехал на своем скакуне на базар в Кумух. Там к нему подошел кунак его отца Гадис из селения Гуймы и попросил отвезти в село купленный им на базаре мешок ячменя, Абакар согласился, это ему было по пути.
Когда он поднялся в селение Гуймы, ему встретилась статная, красивая девушка с кувшином воды. Абакар, очарованный ее красотой, остановился и слез с лошади: “Девушка, не дашь мне напиться, с дороги в горле пересохло, – обратился он к девушке.
По обычаям горцев в четверг нельзя было отказывать в просьбе ни путнику, ни нищему. Салихат сняла с плеча кувшин и протянула парню.
– Спасибо, такая вкусная вода!
– Тебя случайно не Салихат зовут? – спросил он снова. Но девушка не ответила и поспешила домой. Ребята, которые играли на улице, рассказали ему, что ту девушку зовут Салихат.
После этого Абакар заезжал в село несколько раз, но Салихат не встретил. Однажды по дороге в Кумух он встретил гуйминских женщин, которые шли на базар в Кумух. Когда поравнялся с ними, он слез с коня и пошел, поддерживая их разговоры. И тут он как-будто ненароком спросил о Салихат.
– Парень хороший, Салихат уже засватана за своего родственника. Но карашинцы говорят до сих пор посылают к ней сватов, кто-то даже тоже хочет ее похитить. Как ты думаешь, на сколько частей можно разделить бедную девушку, чтобы все были довольны? – расхохотались женщины.
Смущенный парень вскочил в седло и поскакал дальше.
Абакар вернулся домой расстроенный и поделился своей печалью с двоюродным братом Алигаджи.
– Зачем переживать, ее же еще не выдали замуж, пойдем и похитим? – предложил брат. Абакар обрадовался предложению брата и на следующий вечер братья отправились в Гуймы. Оставили лошадей в роще возле селения, а сами, крадучись, подошли к дому Салихат. На небе сияла круглая луна и все освещала кругом. Дом был одноэтажный и из одного освещенного окна слышны были песни девушек. Тогда в горах был обычай собираться вечерами к невесте на выданье и проводить веселье.
– Братья отошли от окна и встали за угол дома. Долго пришлось им ждать. Подождав пока девушки уйдут, они подошли к окну и постучались. Окно открылось и появилась Салихат.
– Это я, Абакар из Уллучара, мне нужно с тобой поговорить, выйди пожалуйста, – попросил парень.
– Какие разговоры могут быть среди ночи!? – ответила Салихат и хотела закрыть окно, но Абакар ловко схватил ее, прикрыв ей рот ладонью и вытащил наружу. Тут и Алигаджи подоспел и они поспешили в рощу. Оттуда похитители направились в ущелье, где лежала дорога к селению Чаящи, а дальше – в Уллучари.
Когда из ущелья отчетливо стало доносится крики мужчин, топот копыт и пальба, Абакар сказал:
– Брат, я пожалел о том, что похитил ее, может, оставим?
– Пожалел?!
– Да, пожалел.
– Отдай сюда девушку! – прикрикнул Алигаджи и моментально пересадил девушку в свое седло.
В ту ночь преследователи так и не догнали их. Утром на краю села Уллучара их встретила большая группа мужчин с оружием и обнаженными кинжалами.
Гуйминцы стали кричать, стрелять в воздух, требовать вернуть девушку. Вышли несколько аксакалов из селения Уллучара и сказали гуйминцам.
– Ваша девушка попала к хорошему парню из знатного рода. Прекратите шум и пальбу, которые теперь ни к чему не приведут. Ночью же мулла из Купа сделал махар молодым, сегодня состоится свадебное торжество, слезайте с коней и будьте нашими гостями. Гуйминцы заупрямились, рвались в драку, но аксакалы не допустили столкновения. Гуйминцы ушли обратно.
В тот год Алигаджи не уехал, как всегда, на заработки. Через год у них родилась дочь.
Алигаджи ежегодно осенью уезжал на заработки. В те годы повсеместно в горах проводились мероприятия по укреплению Советской власти, организовывались ячейки активистов, комсомольцев, которые должны были вести в селах культурно-массовые агитационное мероприятие. В Уллучара также пришли двое работников из органов власти из Акуша, собрали сход и объявили, что молодежь села должна участвовать в таких мероприятиях, назвали имена тех, которые привлекаются к общественной работе, среди них и имя Салихат. Время было тревожное, отказаться от поручения властей было небезопасно.
Когда вернулся Алигаджи с заработков, родные ему рассказали, что его жену привлекают к общественной работе и что пожилые люди в селе осуждают ее. Ему не понравилась такая ситуация, но в открытую запретить жене исполнять поручения властей он не мог. Когда дочка подросла, Салихат активно взялась за работу, ее приняли в партию, избрали председателем сельского совета и параллельно она вела работу среди женщин села. Первым делом она добилась открытия в селе ясли-сада и школы, где стала учиться и ее дочь. Она ремонтировала дороги, мосты, решала проблемы села, помогала женщинам. Ее уважали в селе и в районе.
Летом 1937 года Алигаджи приехал домой и не обнаружил дома жену. Ему сказали, что она еще накануне уехала в селение Балхар на какое-то мероприятие и пока не вернулась оттуда.
Обычно такие мероприятия, сходы проводились в селах поздним вечером, когда люди освобождались от полевых и домашних работ. Потому Салихат с подругами иногда приходилось даже заночевать в том же селе, чтобы ночью не возвращаться по опасным дорогам.
Но в этот раз, узнав о приезде мужа, Салихат поспешила домой. Алигаджи с порога учинил ей допрос: где она бывает и с кем проводит ночи? Когда муж взялся за ремень, Салихат выбежала во двор и, второпях развязав лошадь, попыталась сесть в седло. В этот момент подбежал Алигаджи и в ярости вонзил в нее кинжал. Она вскрикнула и упала к его ногам.
Собрался народ. Лекари попытались спасти Салихат, позже приехали врачи из Акуша, но ее спасти не удалось. Поздним вечером Салихат скончалась. Алигаджи арестовали. Явились на похороны и гуйминцы, забрали с собой дочку Салихат, объявив, что они не оставят девочку у кровных врагов.
Состоялся суд, Алигаджи приговорили к расстрелу.
Дочь Салихат – Патимат выросла такой же красивой и талантливой, как мать. Ее, как круглую сироту, устроили в интернат в Махачкале, где она с отличием окончила школу. Затем она поступила на юридический факультет института в Москву, тоже окончила с отличием и стала первым дипломированным юристом-женщиной в горах. Долгие годы Патимат работала прокурором Ботлихского и Кайтагского районов, там же завела семью, родила двоих детей. В 1964 году она скончалась. Отцовская родня забрали ее из Ботлиха и похоронили рядом с матерью в селе Уллучара.
Большая любовь Шарафутдина
Шарафутдин – выходец из старинного и знатного рода кумухских узденов Рашкуевых, известный своими ювелирами и учеными-арабистами, предки которых разъезжали по всему миру. Об отцах, дедах и прадедах Рашкуевых шла молва и за пределами нашей страны. Старожилы Кумуха рассказывают, что двое Рашкуевых, братья Газимагомед и Султанмагомед (дяди Шарафутдина), в свое время работали в Китае, ювелирами, поставщиками императорского двора. Однажды китайскому императору так понравился серебряный с позолотой кинжал-необыкновенно тонкой и изысканной работы братьев Рашкуевых, что он пожелал непременно увидеть своими глазами мастеров-ювелиров, владеющих такой высокой техникой исполнения.
Братьев Рашкуевых пригласили к императору. Тот встретил их с большим уважением и признательностью, вручил им грамоты и велел придворным накрыть для гостей стол по этому случаю и, когда они уходили, на прощанье подарил им большую соломенную корзину, наполненную самыми искусными изделиями китайских мастеров. Там были фарфор и золотое шитье, ткани невиданной красоты и женские украшения, лучшие сорта чая. Эту корзину братья прислали в Кумух. Не успели Рашкуевы в Кумухе получить багаж, как весь Кази-Кумухский округ облетела весть о заморской корзине необыкновенной красоты и изящества, присланной братьями Рашкуевыми из Китая. Корзина эта, действительно была произведением искусства: сверху она закрывалась ажурной крышкой и запиралась, а что было внутри корзины, люди еще не знали. Когда же корзину раскрыли, изумленные, восхищенные люди разнесли по округу еще одну весть об изделиях невиданной красоты. И жители окружных сел ходили к Рашкуевым посмотреть на это чудо.
Отец Шарафутдина Рашку-Кади, так звали его в Кумухе, хоть его имя Магомед, тоже был ювелиром, но славился больше как ученый-арабист. Сыну своему Шарафутдину он тоже дал образование.
В молодости Шарафутдин сочинял стихи, был любимцем кумухской молодежи. Черноглазый и статный брюнет был необыкновенно хорош собой, ходил всегда в черной прилегающей черкеске. Юноша обладал светлым умом и благородной душой, избегал лишних слов и движений, был всегда уравновешен и никогда у него слова не расходились с делом. Дружил он с Курди Закуевым, впоследствии ставшим профессором Бакинского университета и классиком лакской литературы. Мать Шарафутдина умерла, оставив четырех сыновей, самому старшему из них Шарафутдину было четырнадцать лет. Рашку-Кади женился во второй раз на женщине по имени Ата, очень красивой и добропорядочной, у которой тоже была малолетняя дочь по имени Буву. В семью Рашкуевых вернулся опять уют и порядок, запахло парным молоком и свежеиспеченным хлебом. Рашку-Кади, будучи умным и практичным человеком, так поставил все в семье, что сыновья его не чувствовали отсутствия родной матери. И какое-то врожденное уважение и любовь к отцу заставляли детей, особенно Шарафутдина, во всем полагаться на отца, считаться с ним и заниматься тем, чем занимался отец. И когда впоследствии Шарафутдин и его младший брат Араби увлеклись прогрессивными идеями, Рашку-Кади поддержал их. Семья эта слыла в Кумухе примером взаимопонимания и согласия.
Окончив в 1902 году в Кумухе русскую начальную школу, Шарафутдин продолжал учебу у известных ученых-арабистов при кумухской мечети. Однажды вечером, возвращаясь с занятий из мечети, Шарафутдин и Курди шли мимо дома Гишиевых, окна которого выходили в сторону мечети. Из открытого окна донеслись голос девушек, одна из них читала стихи:
Если божий мир покорен Воле солнца и луны, Разве грех, что я теряюсь У тепла твоей души?Любопытные парни остановились и как будто невзначай бросили камешек в открытое окошко. В окне появилась девушка с тетрадью в руках. Друзья знали ее, это была дочь Гишиевых Пирдоус. За ней появились еще две девушки. Увидев парней, Пирдоус смутилась, прикрыла окно и исчезла.
Через несколько дней, увидев Пирдоус, выходящую из мечети, Шарафутдин догнал ее и спросил, что за стихи она тогда читала подружкам.
– Стихи мои, – ответила девушка что очень удивило Шарафутдина, – но я знаю и чужие:
Если бы на Вацилу все камни Превратились бы в книги, Разве бы кумухские парни Ездили в Закаталыпрочитала она стихи Шарафутдина.
– Откуда же ты их знаешь? – спросил смущенный Шарафутдин.
– Мы же соседи, что тут удивительного? Я даже слышу, как ты с такой любовью и старанием обучаешь своих сестер русской грамоте. Почему бы тебе, не открыть в Кумухе русскую школу для девочек?
Шарафутдин не ожидал такого разговора и не нашелся, что ответить, а Пирдоус быстро исчезла. В Кумухе тогда девочки обучались только арабской грамоте, а ребята сначала вместе с девочками в мечети обучались арабской грамоте, а затем, кто хотел, продолжал учебу в русской школе.
Несколько раз поднимался вопрос о русской школе и для девочек, но вопрос этот встречал много препятствий и никак не решался.
Когда Шарафутдин рассказал своему другу Курди о своем разговоре с Пирдоус, тот засомневался в том, что стихи, которые читала тогда она, сочинены ею. Поскольку Пирдоус читала много арабских книг, он предполагал, что стихи она взяла из этих книг. Но Шарафутдин не сомневался, что стихи сочинены ею. Он знал девушку с детства, ее честность и прямоту и при разговоре заметил её искренность и глубокую правду в глазах. Пирдоус тоже потеряла мать свою в детстве, и теперь их, обеих сестер, воспитывала тетя, младшая сестра матери, вышедшая замуж за ее отца. Пирдоус жила очень дружно с тетей. Как правило, кумухские женщины славились своей добропорядочностью и тактичностью.
Как бы собеседник ни был неприятен, они бывали с ним приветливы всегда, не позволяли себе выражать свое мнение громко, вслух, не допускали грубости. Обычно женщины окрестных сел говорили: “Мы не кумухские женщины, чтобы улыбаться, когда в душе ненависть к собеседнику”. И еще говорили: “У кумухских женщин сладкий язык, потому что они едят много конфет”. Последнее уже вошло в поговорку.
Через несколько дней Шарафутдин опять догнал Пирдоус и когда заметил ее удивление, смутился:
– Я хотел только узнать, нет ли у тебя еще стихов собственного сочинения?
– А что, так трудно сочинить стихи? Для этого не нужен ни плуг, ни топор, всего лишь легонький карандаш, – засмеялась Пирдоус и исчезла.
С тех пор Шарафутдина не покидала мысль об этой хрупкой, изящной и умной соседке, которая открылась ему теперь с неожиданной стороны и выросла в его глазах. Он сделал еще несколько попыток поговорить с ней, но она очень ловко избегала его. Шарафутдин догадывался почему. Все знали в Кумухе о намерениях его отца: женить Шарафутдина на своей падчерице. Знал об этом и сам Шарафутдин и не возражал, Буву была девушка покладистая и очень красивая. То ли угрызения совести, то ли какое другое чувство не давали ему спать по ночам. Красавица Буву с не менее красивой матерью были больше чем внимательны к нему. Но каждый раз он мечтал еще один последний раз увидеть Пирдоус, чтоб больше о ней не думать, чтоб потом поставить точку, забыть ее. Он подолгу простаивал возле мечети, украдкой следя за домом Гишиевых, замечал, как шевелился край занавеси на их окне, но никто не показывался, и мысль о том, что там кто-то следит за ним, смущала его, и он уходил.
Курди тоже страдал вместе с ним. Он старался как-то вывести друга из создавшегося трудного положения, знал какой будет резонанс в Кумухе, если обнаружится увлечение Шарафутдина, знал в какое неловкое положение попадут его близкие, особенно отец, мнением и покоем которого Шарафутдин дорожил. Курди старался не оставлять друга одного и готов был взвалить всю вину на себя в случае обнаружения увлечения Шарафутдина.
Он не мог понять, куда делись трезвость и рассудительность его друга, которым он так восхищался. Самую большую ошибку, по мнению Курди, совершил Шарафутдин, когда через девчонку-родственницу, по имени Абидат, послал к Пирдоус письмо в стихах. Абидат была девочка озорная, умела писать и читать и, конечно, прочитала письмо Шарафутдина, прежде чем передать по назначению – даже выучила наизусть.
Пока увижу тебя я, вечность жизни уходит, Пока услышу тебя я, терпенье иссякает. Мне бы золотой бинокль С рубиновым стеклом, Чтоб и на краю земли Разыскать твои глаза. Телефон бы серебряный на золотых столбах, Голос любимой услышав, погасить огонь души. Хоть и просторен дом отца, дни провожу в мечети, Мечтая лишь увидеть твою тень издалека.Пирдоус жила с тетей очень дружно, делилась с ней. Рассказала она ей и о своей встрече с Шарафутдином, созналась, что неравнодушна к нему. Но это известие огорчило тетю:
– Поймешь ли ты меня, дочка моя, – сказала она с тяжелым вздохом, – конечно, Шарафутдин – один из лучших парней в Кумухе, но не нашего поля ягода. Я не говорю, что он не достоин тебя или ты его, я имею в виду совсем другое, идет молва, что отец его хочет женить на Буву. Сама знаешь, что Буву – хорошая девушка, говорят, любит Шарафутдина. Зачем тебе мутить воду в чужом колодце? На чужом несчастье счастье не построишь.
После разговора с тетей Пирдоус решила не попадаться на глаза Шарафутдину и, когда посещала мечеть, что было обязательным в день пятницы, пряталась где-нибудь за столбом, а Шарафутдин же всегда бывал в центре, возле михраба.
Лакские женщины, особенно кумухские, никогда не закрывали лицо чадрой или накидкой даже в мечети. Носили они головной платок, который во время молитв просто надвигали на лоб, чтобы прикрыть волосы, и почти все девушки в Кумухе обучались арабской письменности. Шарафутдин замечал появление Пирдоус в мечети, замечал, что она прячется от него, и полагал, что она обижена за проявленную неосторожность, в результате которой их отношения стали достоянием гласности.
Не дождавшись ответа, Шарафутдин посылает с той же Абидат второе письмо в стихах, которое дошло и до наших дней.
С зарею к роднику на молитву хожу. В молитвах Махдия твое имя шепчу, Вернувшись в мечеть, над книгой сижу. На каждой странице с тобой говорю. Заглавная буква Алиф так изящна и стройна. Из всех букв алфавита так похожа на тебя.Сохранились стихи и из ответа Пирдоус:
С рассветом встаю, отправляюсь в мечеть, Черные головы, как вороны, кругом. Я опять возвращаюсь, на михраб смотрю: Ашрафи-Шарафутдин, как луч солнца, сияет!Опасения Пирдоус оправдались: все соседские девочки стали петь стихи Шарафутдина, присланные ей с Абидат. В Кумухе стали судачить об увлечении Шарафутдина. Только у него дома все многозначительно молчали. Молчал и сам Шарафутдин, молчал и отец, который услышал об этом. В доме воцарилась тяжелая тишина. Отец решил отослать сына на время из Кумуха. Он послал нескольких молодых людей, в том числе и своего сына с Курди на учебу к Маллсю Балхарскому, надеясь, что за это время юноша забудет свои увлечения, и по возвращении из Балхара его можно будет женить на Буву.
Сохранились стихи, сочиненные Пирдоус по поводу отъезда Шарафутдина:
Когда другие парни ездят в Закаталы Ашрафи-Шарафутдин уехал в Балхары. Не от того ли Шуту светла, Что балхарская мечеть им озарена. Ашрафи-Шарафутдин уехал в Балхары. Не от того ли Шуту светла, Что солнце рядом с ней. Где найти мне удода, как у Соломона, Чтоб послать весточку милому другу? Сулу-Хаджи на крыше, спроси у чинары, О чем шебечут птицы, что летят из Балхары? Когда ты, стоя у михраба, приветствовал божий мир. Не смогла я стать колокольчиком на устах твоих. Что муталимы в мечети, что годекан на селе. Если твой стан благородный не украшает их круг?Закончив курс обучения у арабиста Маллея, Шарафутдин и Курди вернулись в Кумух. От Рашку-Кади не скрылось то, что его сыновья теперь мало интересуются работой муталимов, а больше читают прогрессивную литературу, вместе со своими друзьями ведут переписку с Саидом Габиевым, сообща читают и обсуждают его письма, его газеты. Но отца успокаивало то, что его сыновья не чуждались его, доверялись ему. Мудрый и грамотный Рашку-Кади старался быть другом и наставником своих сыновей во всех их делах и помыслах. Старался, чтобы между ними не возникла та пропасть, которая создавалась в других семьях между прогрессивно мыслящими детьми и их родителями. Однако предстоящая женитьба сына тревожила отца. Надежда на то, что Шарафутдин в разлуке забудет об увлечении своем, не оправдалась. Не желая испортить отношения с сыном, отец поручил решение этого щепетильного вопроса близким родственникам, которые весьма добросовестно стали наставлять Шарафутдина на “верный” путь. Остались восемь стихотворных строк из тогдашнего послания Шарафутдина к Пирдоус:
Если бы я был судьей У чистилища ада, Тех, кто мешал влюбленным, Послал бы в жар огня. По волшебной лестнице Подняться бы мне на небо, У творца земной любви Попросить тебя одну.Шарафутдин даже попытался похитить и увезти Пирдоус, но она отвергла его намерения и послала ему такой ответ:
Я не метель, чтоб воевать со снегом, И не пурга, чтоб биться об скалу. Забудь меня и выброси из сердца, Теперь у нас дороги разошлись.Получив эти жгучие и скупые строки, обычно сдержанный и спокойный Шарафутдин стал метаться, не находил себе места, оторвался от родных и некоторое время жил у своего друга Курди. Он опять послал письмо к Пирдоус:
Враг ли я твой, ласточка, Чтоб выстрелом метким сразить? Может сердце твое – тучка черная, Чтоб солнце мне затмить? От сердца твоего до моего. Был построен мост золотой, Кто этот мост разрубил, Пусть его судьба сломается! От глаз твоих до моих Горел солнечный луч, Кто этот луч похитил, Пусть тот сам сгорит в огне! Я не ашуг и не поэт, И не знавался с ними. Это любовь моя струится. Через пальцы на бумагу.В это время в Пирдоус был влюблен и добивался ее руки один офицер по имени Магомед Мусаев, аварец из Чоха, который тогда работал наибом в Кумухе. Он хорошо владел лакским языком, был очень добр и весел по натуре и, несмотря на свою молодость, пользовался уважением кумухских аксакалов. В Кумухе было немало девушек, которым нравился Магомед, его красивая внешность и офицерская форма, которая была ему очень к лицу, выгодно выделяли его. Родители Пирдоус доброжелательно принимали у себя Магомеда и видели в нем самого подходящего жениха для дочери.
Однажды вечером тетя подозвала Пирдоус в комнату и прикрыла дверь. – Там, возле мечети, стоит Шарафутдин, – тихо сказала она. – Честно говоря, мне его жаль. Я никогда не видела его таким подавленным и осунувшимся. Бедный парень мечется между двух огней. Зачем тебе осложнять его положение, зачем становиться причиной разлада в чужой семье? Разве в этой жизни все делают только то, что хотят? Разве я вышла замуж за вашего отца, потому что я этого очень хотела? Может и у меня тоже был любимый человек? Может мне тоже, пришлось побороть себя ради того, чтобы вы не попали к мачехе? Как мы хотим, не везде и не всегда бывает. Чтобы облегчить участь любимого человека, иногда женщине приходится идти на любые лишения. Если бы ты сейчас отказала Шарафутдину и приняла предложение Магомеда, Шарафутдину от этого было бы гораздо легче. Это все-таки определенность. И он и ты без всяких неприятностей можете устроить свою жизнь. А в доме Рашкуевых тебе никогда покоя не будет, если даже вы поженитесь, и ему самому не будет.
Тетя посоветовала Пирдоус тот же час выйти к Шарафутдину, который все стоял и глядел на их окна, и объясниться. Но девушка не вышла. Не вышла она и в следующие дни, когда Шарафутдин подолгу расхаживал вокруг их дома.
Через некоторое время Шарафутдин и Курди уехали из Кумуха, говорили, что они поехали в Москву сдавать экзамены в институт. Осталось четверостишие Пирдоус по этому случаю:
Москва покрылась золотом, Петербург засеял серебром, Ашрафи-Шарафутдин Там экзамены сдает.Приехали из Чоха с богатыми подарками родственники Магомеда к Гишиевым и состоялся торжественный и пышный обряд обручения Магомеда и Пирдоус. Через пару недель сыграли и свадьбу, о которой до наших дней рассказывают легенды.
А Шарафутдин где учился, чем занимался – неизвестно, только вернулся он в Кумух через год в окружении революционно настроенной молодежи и с головой ушел в эту работу. Наконец-то состоялась его женитьба на Буву, но женившись он не осел в Кумухе, а стал ездить по городам Дагестана и России по своим революционным делам. Пирдоус же жила некоторое время в Чохе, затем они с мужем переехали в Кумух и стали жить в мире и согласии. Счастье же их было недолговечным, вскоре скоропостижно умер муж Пирдоус. По этому случаю Тарият Рашкуева (двоюродная сестра Шарафутдина) писала:
Тебе ли, красавица Пирлоус, в трауре сидеть в углу. Лучше бы за русским столом письма писать любимому. Спрячь теперь, красавица, черную челочку свою. Некому теперь ее гладить, ушел избранник твой. И от чохцев совестно, и от Шарафутдина стыдно. Год была в замужестве и стала вдовою. Зачем тебе нужен был наиб, когда был Шарафутдин? Разве длинные рубли лучше ученых книг?
Родные Магомеда относились к Пирдоус с подчеркнутым уважением и даже с любовью, ибо умирая Магомед просил их не обижать ее. Они знали о большой многолетней любви Магомеда к Пирдоус и были благодарны ей, что осуществила сокровенное желание Магомеда и стала его женой. Не ее вина была, что он так скоро умер, скорее это было ее большое горе, ее беда.
Вот что писал по этому поводу из Мюнхена брат Магомеда Халилбек Мусаев, впоследствии всемирно известный художник, который в двадцатых годах ездил учиться в Мюнхенскую академию художеств и по воле судьбы остался за границей:
“Дорогой Каир!
Я так и знал, что ужасающая весть о смерти нашего дорогого и любимого брата на всех страшно подействует. Что же поделаешь, дорогой, поперек “кисмета” не пойдешь, сколько бы мы не волновались, сколько бы горячих слез ни лили, пожалуй факт совершился. Приходится, как ни грустно, как ни тяжело, мириться и мужественно перенести этот тяжелый удар не только для нас, братьев его любивших, но и всей фамилии. Ровно год и два месяца тому назад как гром нахлынула на меня эта ужасающая весть. Беспомощный скитался я повсюду, с подрезанными крыльями. О, эти были страшные мучительные часы. Бесконечными упреками я мучил себя, что оставил его одного, хотя он сам уговорил меня уехать, заверил, что, как только почувствует себя лучше, сейчас же за мной приедет. Разве бедный Магомед думал так скоро покинуть сей презренный мир, где торжествует только подлость с подлецами во главе?
Несмотря на то, что лишился всего, родного очага, любимой жены, братьев… он ни на одну минуту не изменился, вечно спокойный, выдержанный, меньше всего было злобы и мести. Помогал всем и меня просил также это делать. В день известия о смерти Магомеда я молился Аллаху, как самый верующий мусульманин, молился за упокой души незабвенного Магомеда, тут же просил сохранить вас. Если когда-нибудь и какая-нибудь молитва была Аллахом услышана, то не сомневаюсь, он меня услышал и сохранил вас для меня. Так, Каир, ты не падай духом, крепись, на то мы мужчины, чтобы все перенести. Как скалы спокойно принимают удары буйных волн, так и мы должны спокойно встречать несчастия и радости…
Боялся он, что Пирдоус не причинили бы неприятностей, как его жене, но я успокаивал его, говоря, что есть еще настоящие рыцари-горцы, которые не позволят обижать беззащитную женщину.
Целую тебя. Твой Халил”.
То были тревожные годы революции и Шарафутдин был в авангарде событий. Мачеха Шарафутдина с несколькими женщинами ходила по дворам, собирала одежду, обувь и боеприпасы для нужд революции. Из Темир-Хан-Шуры в Кумух поступило сообщение, что арестован белогвардейцами двоюродный брат Шарафутдина Шамиль Рашкуев. Среди ночи выехал Шарафутдин на помощь брату, но пока он доехал, его брата расстреляли. Белоказаки направились в горы, заняли Кумух, совершили много бесчинств, взорвали дома Сайда Габиева и Шарафутдина Рашкуева. Шарафутдин же ушел в подполье и в Темир-Хан-Шуре со своим неразлучным другом Курди Закуевым издавал прогрессивную газету на лакском языке. После победы Советской власти в Дагестане Шарафутдин сумел перевести редакцию издаваемой им газеты “Заря” в Кумух и обосноваться в родном селе.
Шел тревожный 1937 год. У Шарафутдина, работавшего тогда редактором районной газеты, была большая семья: трое сыновей и три дочери. Самая старшая дочь красавица Габибат училась в Москве в институте. Начались аресты безвинных людей.
Шарафутдин не смог не среагировать на такую вопиющую несправедливость, не заступиться за них, и сам был арестован прямо в рабочем кабинете. Дома же учинили погром, называемый обыском. Не дав встретиться и попрощаться с близкими, Шарафутдина вместе с другими арестованными отправили в Махачкалу. А там уже начались бесконечные допросы, сопровождаемые жестокими избиениями и страшными пытками. Время от времени арестованных возили на допрос в город Пятигорск, где некоторые погибали от жестоких пыток, остальных чуть живых привозили обратно.
Несгибаемый большевик и человек Шарафутдин теперь был физически сломлен: ему выбили все зубы, переломали все ребра, истекающего кровью бросили в одиночку.
Рассказывают, как Пирдоус, проживавшая тогда в Буйнакске, потрясло известие об аресте Шарафутдина. После смерти мужа она сначала уехала из Кумуха в Чох, затем в Буйнакск и лет двадцать не видела Шарафутдина. Буйнакцы запомнили эту красивую и благородную женщину, которая держалась с большим достоинством, производила впечатление гордой и умной женщины, одевалась со вкусом и никогда ни с кем не заводила разговора о Шарафутдине сама и не позволяла собеседнику произносить его имя. Но страшное известие о любимом человеке вывело из колеи эту стойкую женщину. Она ездила в Махачкалу в надежде помочь, но ей не удавалось ни увидеть его, ни передачу передать. Осталось ее четверостишие:
Горе твое, теперь оно и мое. День и ночь для меня одинаково черны, Как облегчить страдания твои, Как взвалить твое горе на себя?– писала Пирдоус в те горестные дни.
Тщетны были в те страшные года все усилия родных и близких помочь хоть чем-нибудь безвинно пострадавшим, все их старания натыкались на глухую стену. Два с половиной года провел Шарафутдин в подвалах НКВД и, наконец, в январе 1940 года началось судебное разбирательство по его делу. За не доказанностью виновности его освободили прямо из зала суда. Шарафутдин был физически сломлен и разбит, на его теле не было ни одного живого места. Он вернулся домой еле живой, слег и не мог даже выходить на порог своего дома. Услышав об этом, после долгого отсутствия приехала в Кумух и Пирдоус.
Подолгу засиживалась рядом с больным Шарафутдином. Рассказывают, как однажды сестра Шарафутдина Буху мимикой и знаками стала напоминать ей, что пора дать отдохнуть больному и уходить домой. Обычно спокойная и уравновешенная Пирдоус тут взорвалась:
– Пусть лопнут ваши глаза, чтобы больше не видеть меня, дайте же хоть теперь посидеть возле больного человека! – крикнула она в сердцах и ушла в слезах.
Шарафутдина люди любили и уважали, многие из них приходили к нему домой. Однако не прошло и года, как его больного арестовали по подозрению в подготовке антисоветского мятежа. На этот раз родные не смогли узнать места его нахождения. Сняли с работы его дочь Аймисай, работавшую учительницей в селении Караша Лакского района: дочери врага народа нельзя доверить обучение детей.
В 1943 году семья получила извещение, что Шарафутдин Рашкуев скончался в тюрьме.
Говорят, приехавшая в Кумух на соболезнование Пирдоус причитала:
– Нарисовать бы твой портрет на стене твоей редакции. Чтоб лопнули глаза врагов от лучезарности облика твоего.
Умерла Пирдоус в преклонном возрасте в городе Буйнакске в окружении любящих родственников. Перед смертью она была почти без памяти. Племянница, стоящая возле ее постели, заметила, что ее губы что-то шепчут, нагнулась к ней: “Вон он Шарафутдин, вон он Шарафутдин”, – шептала умирающая, глядя куда-то вверх.
Ничего забыть не в силах
Тихо, плавно зашла Зоя в комнату мужа, и увидела его с приставленным к виску пистолетом. Бросилась к мужу, сильным ударом выбила оружие. Раздался выстрел. Пуля пробила потолок. Шел сентябрь 1937 года… “Как и на многих других честных коммунистов, началось гонение и на Хабиба Эмирбекова, управляющего конторой “Дагсельснаб”.
Хабиб Ашурбекович родился в крестьянской семье в селении Ахты Ахтынского района. Совсем маленькими остались с сестрой Бехвер сиротами. В десять лет стал батраком, рано заинтересовался революционными идеями.
В 1918 году шестнадцатилетний Хабиб отправился в Темир-Хан-Шуру и разыскал там Самурского, о котором много слышал. Любознательный, способный юноша привлек внимание Самурского. Хабиб был назначен во второй коммунарский отряд. В декабре 1920 года Н.Самурский поручил ему ответственное задание – сопровождать военный эшелон в Москву.
Через год парня направили на учебу в Коммунистический университет трудящихся Востока, где он встретился с Зоей Накуевой из лакского селения Кая. Это была очень красивая девушка, писала стихи, публиковавшиеся на родном и русском языках. Вскоре они поженились. Когда у молодых родилась дочь, крестный отец – М.И.Калинин дал ей имя Искра.
В семейном альбоме Эмирбековых много фотографий, снятых вместе с Всесоюзным старостой, с Надеждой Константиновной Крупской. Некоторые из них были опубликованы в журнале “Огонек” в 1928 и в 1929 годах. А снимок, снятый в 1928 году, в дни поездок М.И.Калинина по Дагестану, где Зоя Эмирбекова в национальной одежде стоит рядом со Всесоюзным старостой, экспонируется в Дагестанском краеведческом музее.
Вторая дочь – Роза родилась уже в Махачкале, когда Хабиб Ашурбекович работал председателем Дагсовпрофа, а Зоя Минкаиловна – в отделе по работе среди женщин обкома ВКП (б).
В 1937 году, когда нагрянула беда репрессий, в семье Эмирбековых было уже четыре дочери – Искра, Роза, Ася, Галя.
Зоя делала все возможное и невозможное, чтобы отвлечь мужа от мрачных мыслей, старалась убедить в беспочвенности обвинений в его адрес. Хабиб немного успокоился, а однажды даже повел ее в кино.
Они возвращались после фильма, взявшись за руки, как в студенческие годы. Вдруг кто-то преградил им дорогу.
Эмирбеков, вы арестованы! – раздался голос. Зою грубо оттолкнули. Двое скрутили Хабибу руки, а третий стал его обыскивать. Зоя шла за ними до самых ворот НКВД, требуя освободить незаконно задержанного мужа.
Подавленная, пришла она домой. Здесь все уже было перевернуто вверх дном. Шел обыск, дети загнаны в угол, младшие плакали. При виде матери заплакали и старшие. Работник НКВД Алиев, возглавлявший группу, приказал Зое не двигаться с места.
На другой день Зоя Минкаиловна написала жалобу-протест в обком ВКП(б) и начальнику НКВД ДАССР Ломоносову.
Искра училась тогда в пятом классе Махачкалинской средней школе N 1. Шел урок истории, когда в класс зашел директор с листком бумаги в руках. Зачитал фамилии трех учеников и попросил их выйти к доске. Искра, услышав свою фамилию, тоже вышла. В классе зловеще прозвучало: “Дети врагов народа”… Дома Искра застала тетю Асват – жену Дибира Саидова. Семья Эмирбековых и Саидовых дружили. Женщины плакали, поэтому о своем горе Искра промолчала.
Ночью дети проснулись от крика матери. Двое мужчин в военной форме уводили ее. Девочки пытались вырвать плачущую Галочку из рук матери, но не смогли: Мать вместе с ребенком затолкали в черную машину, стоявшую у ворот. Искра и Роза только услышали из отъезжающей машины крик матери: “Искра, напиши в Ахты!”. Но тут подъехала другая машина, и четверо мужчин принялись выносить вещи из квартиры Эмирбековых. Детей вышвырнули на улицу. Вещи увезли, а квартиру опечатали. Уезжая, работники органов предупредили соседей, чтобы “детей врагов народа” никто не смел приютить. Шел проливной дождь. Девочки стояли в подворотне, дрожа от холода. Соседка Сиануш Григорьянц подозвала Искру.
– Деточка, я вам постелила в подвале, идите туда и никому ни слова!
В подвале были крысы. Перепуганная Искра все время держала Асю на руках и не давала спать Розе. На второй день кто-то подбросил в подвал сено, а дядя Мартирос – муж тети Сиануш – починил двери, чтобы не продувало. Так прошла неделя.
Артистка Роза Гуранишвили, жившая в том же дворе, направила Искру к своему брату, который работал в кафе. Так Искра стала посудомойкой и кормилицей младших сестер.
Прошло три месяца. Зою выпустили из тюрьмы. Девочки не сразу узнали в этой измученной женщине свою мать: лицо было в кровоподтеках, зубы выбиты. Позже выяснилось, что ей повредили печень и отбили почку.
Семью Эмирбековых постигло новое горе – умерла Галочка. После похорон дочери Зоя поехала в Москву за помощью к М.И.Калинину. Деньги на дорогу собрали соседи.
Поездка помогла. После возвращения из Москвы Зое удалось устроиться на химзавод, где семье выделили одну комнату. Теперь все свободное время после работы Зоя Минкаиловна проводила возле ворот тюрьмы с надеждой узнать хоть что-нибудь о Хабибе. На прилегающих улицах и возле тюрьмы всегда было много народу. Как-то прошел слух, что партию заключенных будут на днях этапировать. Родственники, близкие, члены семей арестованных несколько дней ждали у ворот тюрьмы.
Однажды из них вывели обросших Мужчин в лохмотьях. Они шли медленно, многие хромали, к подошвам босых ног было привязано что-то вроде картона. Дети не узнавали своих отцов. Зоя закричала: “Хабиб! Девочки, вон ваш отец!” Дети побежали к отцу, но толпа оттолкнула их назад. Вокруг плакали, кричали. Хабиб крикнул жене и детям: “Не плачьте, держитесь стойко и верьте: мы – честные люди!”
Зоя долго болела после побоев в тюрьме. Необходима была операция, но о себе она не думала. “Я должна найти Хабиба, – думала она. – А еще надо воспитывать детей”.
Роза и Ася хорошо учились в школе, но клеймо “дети врагов народа” не давало им поднять голов. Искру нигде не принимали на работу. Ей пришлось сменить фамилию, только после этого удалось устроиться на заводе “Рефрижератор”.
Как-то к ним явился незнакомый мужчина и спросил: “Тут живет семья Хабиба Эмирбекова?”
Зоя лежала больная. При виде незнакомца у нее мороз прошел по коже.
Долго доставал он маленький сверток из-под своей одежды. В нем был лоскут ткани, на которой рукой Хабиба было написано письмо. Дрожащими руками Зоя взяла лоскут. Письмо было из города Котласа Архангельской области. Гость рассказал, что он сидел вместе с Хабибом. Полгода назад его освободили.
– Как туда добраться? – спросила Зоя.
– Этого я вам не советую делать, да и Хабиб просил меня отговорить вас от такой мысли. Он просил поберечь детей. Да и нет, наверное, теперь его там. Их собирались переводить в другое место.
В 1948 году здоровье Зои резко ухудшилось. Была назначена операция. Перед операцией мать пригласила в больницу дочерей и сказала:
– Что бы со мной не случилось, знайте, что отец ваш – честный, преданный Родине и народу человек.
Зоя Минкаиловна скончалась на операционном столе.
Только в 1956 году дети получили сведения, что их отец Хабиб Ашурбекович Эмирбсков посмертно реабилитирован. На заявление Искры Хабибовны пришел ответ, что Х.А.Эмирбеков умер 27 декабря 1940 года. Незнакомец, навестивший их больную мать и передавший лоскут ткани, не решился сказать о смерти Хабиба, увидев состояние его жены.
Дочери Хабиба и Зои Эмирбсковых в настоящее время проживают в Махачкале. Искра Хабибовна – пенсионерка. Ася Хабибовна – учительница средней школы N 11.
Незабвенный Мугутдин
В 1936 году студентка мединститута Кажлаева Бадружаган проходила медицинскую практику в Республиканской клинической больнице. Находясь на первом этаже, она заметила милиционера, стоявшего возле одной палаты, дверь которой была приоткрыта. В палате лежал больной, лицо которого Бадружаган показалось знакомым. Он, лежа на боку, наклонившись над стулом, стоящим возле его изголовья, что-то писал. Врач, проводивший вместе со студентами обход больных, дойдя до этой палаты, оставил студентов в коридоре и зашел к больному один. Затем Бадружаган узнала, что больным оказался известный лакский поэт Мугутдин Чаринов, друг ее брата Мугали. Она знала, что Чаринова арестовали год тому назад, предъявив обвинение в контрреволюционной пропаганде в его произведениях.
Вспоминала, как Мугали, услышав об аресте Мугутдина, приехал добиться свидания и помочь своему талантливому, честному другу, но все были глухи к его просьбам. Бадружаган вспоминала стихи Чаринова:
У кого светлые помыслы в душе, У кого есть желание о людях заботиться, Кто бедным, обездоленным желает помочь. Выходи на простор и за дело берись!Так звучал его голос в защиту народа, а теперь сам был объявлен его врагом.
Мугутдин был в первых рядах тех, кто отстаивал и возрождал новую жизнь. В 1913 году организовал в родном ауле просветительное общество “Новолуние”, где выступал с чтением “Заря Дагестана”, издаваемой Саидом Габиевым в Петербурге. Он поддерживал тесную связь с Саидом Габиевым, переписка которых сохранилась в дагестанском партийном архиве. При обществе был кружок художественной самодеятельности, где ставились спектакли по пьесам Чаринова и исполнялись песни на его слова.
В 1917 году в Темир-Хан-Шуре в типографии Мавраева стала издаваться газета “Илчи” на лакском языке, где сотрудничал и Мугутдин Чаринов.
А с 1921 года он стал работать главным редактором газеты “Трудовой народ” на лакском языке.
Мугутдин обладал могучим талантом, пользовался любовью и признательностью народа. Трудно было поверить, что такого человека могли оклеветать и арестовать. Предъявляя ему обвинение, блюстители закона выборочно брали предложения или слова из текстов его произведений и перевирали их. Обвиняли его и в переводе басни Крылова “Осел и соловей”, мораль которой имеет контрреволюционный смысл, Чаринов признал, что ему не надо было переводить мораль басни.
А каким успехом пользовался спектакль по его пьесе “Габибат и Гаджиев”, поставленный в 1921 году в Кумухе, где играл и его друг Мугали. И эта пьеса, написанная по тематике известной трагедии Шекспира “Ромео и Джульетта”, теперь ставилась автору в обвинение, так как в ней звучала контрреволюционная пропаганда.
Положение Мугутдина усугублялось и тем, что вместе с Эфенди Капиевым и Аткаем Аджаматовым сидел за одним столом, с троцкистом и “врагом народа” Лелевичем, приезжавшим тогда в Дагестан. Мугутдин при допросе очень хорошо отозвался о Лелевиче, характеризуя его только с положительной стороны.
В одном из своих стихотворений он писал:
Удивляюсь я, друзья, человеческой натуре. Что торопятся судить другого человека. Не разобравшись обвиняют, с легкостью оклеветают…Смысл этих строк невольно оправдался судьбой самого поэта, попавшего в когти озверелых НКВД-ешников.
Мугутдина арестовали в одиннадцать часов ночи, в июле 1935 года. В тот день к нему на каникулы приехал брат его Абдул, который учился в ростовском финансово-экономическом институте, а с ними и Чарин, студент Дагестанского медицинского института.
Мугутдина забрали. В квартире сделали, обыск, затем все вещи выкинули на улицу, выгнали всю семью и квартиру опечатали. Трое малолетних сыновей, старая мать, жена Мугутдина остались без крова. Дети заболели. Двоих старших пришлось отправить в район к родным, а с пятилетним внуком мать Мугутдина уехала в город Буйнакск к сыну Абдулу. Жена же Мугутдина Роза осталась в Махачкале хлопотать о нем. Но все ее труды, заявления не находили ни внимания, ни сочувствия канцелярских бюрократов. И те, кто знали Мугутдина, как честного и порядочного человека, боялись заступиться за него, ибо заступников ожидала такая же участь.
Много жалоб и заявлений писал из тюрьмы и сам Мугутдин, но его слова вообще не брались во внимание, все стороны были закрыты. Мугутдин стал протестовать против необоснованных обвинений и, наконец, отчаявшись, объявил голодовку, которая пагубно отразилась на его и так подорванном здоровье. Он тяжело заболел легкими. Тюремные врачи, убедившись в неминуемой смерти больного, перевели его в Центральную клиническую больницу, чтобы не зарегистрировать за собой еще одну смерть заключенного.
Первые дни Мугутдин был очень плох. Брат его Чарин, будущий врач, стал заботиться о нем, врачи делали все возможное, чтобы поставить его на ноги. Постепенно он стал поправляться, теперь уже мог сидеть на постели, появилась сила думать и писать. Закончив медицинскую практику, Бадружаган вернулась в эту палату, объяснив дежурному, что идет к больному оказать медицинскую помощь по назначению врача. Дверь попрежнему была приоткрыта. Мугутдин лежал на спине с закрытыми галазами. Рука с карандашом покоилась на груди. По тому, как он сжимал в руке карандаш, Бадружаган поняла, что больной не спит. Она тихонько постучала по тумбочке пальцем. Мугутдин открыл глаза и удивленно посмотрел на нее.
– Бадру, что ты? Как ты сюда попала? – спросил он радостно.
– Я-то здесь прохожу медицинскую практику, а вот вы сюда попали, знают ли ваши близкие о том, что вы здесь?
– Знают. Роза была недавно, обед приносила, покормила меня и ушла. Врачи просят, чтобы родные у меня не задерживалась, и потому они быстренько уходят. Скоро придет Чарин. Он заходит как врач, и к нему со стороны особых претензий нет.
– Как Мугали, где он?
– Мугали сейчас в Баку. Приезжал, когда вас арестовали, пытался помочь вам, добивался свидания, но тщетно.
– Я знаю. Что поделаешь, время такое, хотя это наше большое несчастье, – сказал Мугутдин тихо и сдержанно.
– Врачи говорят, что, вы при поступлении были в плохом состоянии, а теперь дело пошло на поправку, я рада за вас. Они уверены, что вы скоро поправитесь. Если вам что-нибудь нужно, не стесняйтесь, я ведь в любое время смогу к вам зайти.
– Спасибо, сестричка, мне особо ничего-то и не нужно, только захаживай по возможности сама, рассказывай о наших людях, я буду очень рад.
Бадружаган заметила, что графин на тумбочке почти уже пустой, только на донышке осталась мутная вода. Она взяла графин, и Мугутдин, поняв ее, сказал:
– Да вот много пью воды, какая-то жажда внутри.
Бадружаган вымыла графин и наполнила охлажденной кипяченной водой. По тому взгляду, как Мугутдин посмотрел на графин с водой, она поняла, что он хочет пить, наполнила стакан и подала ему.
– Спасибо, сестричка, – видимо у вас вот эта черта заботливость в людях в роду по наследству идет. Отец ваш Абдурахман тоже обо всем заботится, Мугали тоже такой же, дай бог вам здоровья!
Бадружаган вышла от него в подавленном настроении. Этого порядочного честного и гуманного человека было тяжело видеть в таком бесправном и больном состоянии. “Неужели, когда он поправится, его опять поведут в тюрьму?” – подумала Бадружаган, и от этой мысли ей еще тяжелее стало на душе. Она вспомнила слова из стихотворения самого Мугутдина:
О, была бы на мне шапка шайтана, Я бы смог невидимкою стать.Действительно, была бы на самом деле такая шапка, какую бы неоценимую услугу оказала она в данный момент, – подумала Бадружаган. Во дворе больницы она увидела родственников Мугутдина и подошла к ним.
С тех пор, как Мугутдина перевели в эту больницу они, оказывается, ежедневно приходили сюда, ждали, когда выйдет лечащий врач, чтобы спросить о нем, так как им запрещено заходить к нему. Несмотря на все усилия врачей и родных, Мугутдину становилось хуже. Узнав о тяжелом состоянии его здоровья, из района приехали родные. Несколько дней и ночей, молча, опустив головы, стояли во дворе больницы, со страхом и надеждой ожидая исход дела.
Приходили в больницу друзья, товарищи и многочисленные поклонники его таланта. Был февраль месяц, холодный пронизывающий ветер бил и трепал и так сломленных горем людей.
Одни уходили, другие приходили, круглосуточно дежурили возле больницы его родственники и товарищи. Так в тревожном ожидании прошел и март месяц. Родные надеялись на чудо, но чудо не произошло. Шестого апреля 1936 года Мугутдин скончался. Удостоверившись, что сердце подследственного остановилось, милиционер, что стоял на карауле, впервые покинул свой пост. Теперь уже родным и близким разрешили забрать безжизненное тело этого удивительно красивого и талантливого человека.
Услышав – страшную весть о кончине Мугутдина, возле больницы собралось много народа. Решили тело сына отвезти в Буйнакск к матери. Но НКВД запретил кому бы то ни было использовать машину, для перевозки тела “врага народа”. Друзья же решили нести Мугутдина на руках не только до Буйнакска, но и до его родного аула. Их остановил односельчанин Мугутдина Гасан, который тогда работал в Махачкале часовым мастером. Он решил пойти за помощью к своему земляку Абакару Аммаеву, работавшему тогда наркомземом, попросил всех подождать его возвращения. Абакар в молодости участвовал в культурно просветительном кружке “Новолуние”, организованном Мугутдином, и, как все, очень любил Мугутдина, ценил его творчество. Весть о кончине друга потрясла Абакара, он очень расстроился. Гасан рассказал о запрете НКВД в выдаче машины, чтобы положить тело Мугутдина и увезти к матери.
– А я дам машину, пусть потом со мной делают, что хотят! – сказал Абакар в сердцах и вызвал машину своего подведомственного учреждения. На этой машине сам приехал в больницу и отвез тело друга в Буйнакск.
Самое кощунственное и абсурдное совершилось на четвертый день после смерти Мугутдина. Начали судебное разбирательство по делу Чаринова. Было вынесено чудовищное решение суда – десять лет тюремного заключения. Семью Мугутдина объявили семьей “врага народа” и лишили всех прав. Один за другим умерли дети Мугутдина, умерла мать, затем – брат – Чарин.
Так жестоко и бесчеловечно расправились с этим обаятельным, талантливым, лучезарным человеком, который из глубины лет освещает нас своим светом.
Судьба героя-разведчика
Служивший в 1941 году на западной границе нашей Родины, в 3-х километрах от государственной границы, Яков Сулейманов на рассвете 22 июня первым встретил звериный натиск врага. Тяжело раненый, он очутился в медсанбате. После выздоровления получил назначение в 646-й стрелковый полк. С начала войны и до самого ее конца возглавлял отряд разведки особого риска.
В первые же годы войны Яков Магомед-Алиевич получал благодарности командования и Верховного командования. О нем писали в армейских газетах. Был награжден двумя орденами Славы. 22 апреля 1945 года на подступах к Берлину на его имя поступила телеграмма: старшему сержанту Сулейманову Якову Магомед-Алиевичу. “От всей души сердечно поздравляю Вас с высшей наградой страны – с присвоением Вам звания Героя Советского Союза! Желаю Вам здоровья и новых боевых успехов в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Маршал ВАСИЛЕВСКИЙ
Слышали о Якове Магомед-Алиевиче земляки много. О нем писали армейские газеты во время войны, писали в книгах после войны, но немногие знали его в лицо. Он смолоду не любил выделяться, не любил шумихи вокруг своего имени, чтобы о нем писали, не любил сидеть в президиумах. Старожилы Кумуха помнят, как Магомед-Али Сулейманов, ездивший, как и все лакцы, на заработки, в 20-е годы привез в Кумух двухлетнего сынишку Якова на руках. Мать мальчика – русская женщина побоялась ехать с мужем в горы, и тогда Магомед-Али взял сына на руки и сказал:
– Захочешь увидеть сына – найдешь дорогу и приедешь! – и уехал.
Год ждал Магомед-Али ее, но, не дождавшись, женился на родственнице Умукусум. К счастью, она оказалась порядочной, доброжелательной женщиной и полюбила Якова, как родного сына. Мальчику никто не напоминал о родной матери, отец тоже не любил говорить об этом. Для мальчика Умукусум и была его матерью.
Рос он трудолюбивым, смелым, не давал спуску ни одному сельскому забияке. Окончив школу, стал работать на мебельной фабрике в селе. Там его и застал 1941 год.
В армии сначала прошел разведшколу, затем стал разведчиком 646 полка, и через несколько месяцев командование доверило ему отряд разведчиков из восемнадцати человек. На Украине, где воевал Яков, шли тяжелые оборонительные бои. В первый же год войны Яков был награжден двумя орденами Славы первой и второй степени.
Как он получил первую свою награду? Яков Магомед-Алиевич вспоминает:
– Мы защищали Украину. Враг с большой силой и напором рвался в глубь страны.
Нашему полку крайне необходимо было восстановить мост. Но враг, затаившийся на противоположном берегу в лесу, услышав шум работы, открыл огонь. Работать было невозможно. Тогда командование решило направить в тыл врага разведчиков.
Направили восемь человек во главе с Яковом. В лесу разведчики заметили большую группу пленных и вокруг них восемь вражеских танков. Яков решил: надо бы уничтожить танки, причем все одновременно. Этот смелый маневр удался разведчикам. Все восемь танков заполыхали одновременно, танкистов взяли в плен, а вместе с ними привели 200 наших пленных солдат и офицеров. Все разведчики вернулись целыми. Об этом отважном поступке сержанта Якова Сулейманова написал тогда в армейской газете командир 646 полка майор Тарасов. Яков был награжден первым орденом Славы.
Отряд разведчиков всегда шел впереди полка. В тяжелых боях Яков не раз был ранен, но из госпиталя непременно возвращался в свой полк. В 1942–1943 гг. получил несколько медалей и второй орден Славы. Звание Героя Советского Союза он получил в начале 1945 года.
Дело было так. В январе 1945 года 646 полк с боями вошел в Восточную Пруссию. Шли бои Норденбург. Двадцать их разведчиков во главе с Я.Сулеймановым ночью зашли в тыл врага, перерезали все провода связи, взорвали мост через канал Мазуринер. Через некоторое время заметили шесть автомашин отступавших немцев. Подпустили их на близкое расстояние и взорвали все. А когда появились два танка, и их подожгли, а танкистов взяли в плен, при этом не потеряв ни одного разведчика. Командование представило Якова Сулейманова к высокой награде – званию Героя Советского Союза.
Яков об этом еще не знал. В конце марта возле порта Пиллау семеро разведчиков во главе с Яковом Сулеймановым ночью уничтожили более сотни врагов 320 взяли в плен. Командование объявило, что он представлен к высокому званию. А в это время Верховный Главнокомандующий подписал постановление о присвоении Героя за январские подвиги. В апреле он получил телеграмму маршала Василевского…
646 полк первым вышел в Берлин. Как и все однополчане Яков Магомед-Алиевич поставил свой автограф на стене рейхстага.
Вернулся домой в 1946 году. Руководство Лакского района решило послать его на учебу в Высшую партшколу. Его не тянуло на партийную работу, но прислушался к мнению родителей и близких. В 1947 году, когда Яков Сулейманов учился в ВПШ в Махачкале, к нему приехала из Кумуха пожилая родственница Муслимат Алиева с письмом, адресованным отцу Якова. Написано оно было родной матерью Героя Хавроньей Ивановной. Она спрашивала о судьбе сына. На мой вопрос: “Вы до тех пор не видели и не знали свою мать?”
Яков ответил:
– Нет, не видел и не знал. Когда читал письмо, вспомнил, как во сне, молодую женщину, которая плакала, когда отец увозил меня. До этого письма я все время думал, что Умукусум и есть моя родная мать. Несколько раз я прочел письмо, оно перевернуло во мне все. Обратного адреса не было. Мать писала, что работает в медпункте поселка Консервный, там же и живет. На конверте была печать станции Беслан. Я немедленно отправился в Беслан, но оказалось, что я проехал поселок Консервный, надо возвращаться назад. Была ночь, мне советовали подождать до утра. Но я сел на первый же поезд и поехал обратно. Через час оказался в нужном мне поселке. Со мной вместе из поезда вышли двое взрослых мужчин. Я попросил показать, где медпункт. Показали. В нем было темно. На всякий случай постучал в окно. Раздался женский голос: “Кто там? “Я вздрогнул. Я узнал голос матери. На языке застыли все слова. Тот же голос повторил вопрос, и я еле выговорил:
– Мама, я твой сын Яша!
– Ой-ой-ой! – послышалось изнутри. Она стала искать спички и никак не могла найти. Наконец, они нашлись, зажглась лампа, отворилась дверь. Мы молча обнялись. Мать плакала навзрыд, я тоже не сдержался. Вошли в комнату, сели на кушетку. Мать все говорила и говорила сквозь слезы. Из ее рассказа я понял, что она вторично выходила замуж, муж погиб на фронте, и она с сыном многое пережила, перестрадала, перенесли холод, голод…
После окончания ВПШ Якова направили на работу в Каспийск, он забрал мать к себе.
Фронтовые друзья стали его звать работать в Донбасс. Яков не любил кабинетную работу и легко расстался с ней. В Донбассе стал строить шахты, женился на Татьяне Колейниковой. За образцовый труд Яков Магомед-Алиевич был награжден орденом Октябрьской Революции. В семье росли сын и дочь. Когда дети повзрослели и надо было их обустроить, Яков Магомед-Алиевич с семьей вернулся в родной Дагестан.
Патимат из Палисма
– В первые годы Советской власти в Дагестане, – вспоминала моя бабушка, – в Кумухе молодежь организовала кружок художественной самодеятельности. Помню, все были очарованы девушкой из селения Палисма, которая пела бесподобно и танцевала, поэтому после каждого концерта зрители, восхищаясь ее талантом, говорили о ней с большой симпатией и любовью. Мы с золовкой тоже пошли на концерт этой чудесной певицы, которую звали Патимат.
Когда она, молодая и красивая, в длинном бархатном платье и в платке с золотой нитью, с бубном в руках появлялась на сцене, кругом раздавался восхищенный возглас. Тогда еще у нас аплодисменты не были приняты, свое одобрение публика выражала в основном возгласами. Патимат – запела, и мир вокруг меня как-будто превратился в райский сад с волшебной музыкой. До сих пор остался у меня в ушах ее соловьиный голос. Это был настоящий талант, талант от самого Аллаха! Но жаль, судьба этой девушки была весьма трагичной.
Меня глубоко затронул рассказ бабушки, и я стала интересоваться судьбой этой талантливой певицы.
Патимат была дочерью богатого и известного во всем округе палисминца Гамзата. Рано лишившись отца, она находит любовь и ласку со стороны братьев, которые занялись ее воспитанием. Будучи непоседой, она стала заводилой всех увеселений и торжеств в селе, предводителем девушек. Ее звонкий и приятный голос приводил всех в восторг.
Она сама сочиняла стихи для своих песен, но братья не очень одобряли, что их сестра поет перед людьми, считали это недостойным ее происхождения и положения в обществе. Надеясь с ее красоты и обаяния извлечь огромную пользу, решили повыгоднее выдать девушку замуж. В селе немало было парней, которые хотели жениться на Патимат, ей же нравился парень из несостоятельной семьи, которого ее братья ни во что не ставили. Много песен о любви посвятила она ему, за что братья ее избивали, связывали, чтобы она не смела выйти из дома, но Патимат каким-то образом вырывалась на свободу и оказывалась на торжествах, где звучал ее обворожительный голос.
В конце концов братья решили выдать ее замуж за богатого вдовца, который был ей ненавистен, согласие же девушки никого не интересовало. После замужества жизнь Патимат стала еще горше. Мужниной родне не нравилось, что в селе ее так любят, так ценят в ней талант, они хотели подчинить ее своей воле, стали запрещать ей не только петь, но и выходить из дома в люди. Если где-нибудь ей удавалось спеть или станцевать, дома ее ожидал скандал. Став матерью двоих детей, Патимат не перестала петь свои замечательные песни, желанные народом.
Однажды на свадьбе люди стали ее просить спеть что-нибудь. Патимат согласилась, тем более мужа ее не было рядом, взяла бубен в руки и запела:
Как вы, люди, любите мои песни. Но как горько у меня на душе. Каждая песня, спетая для вас, Для меня же пыткой оборачивается. Если днем под бубен песню спою, Ночью в подушку слезы лью, И к утру сад моей души Инеем холодным покрывается…Не успела она допеть песню, как сильный удар по зубам кулаком деверя рассек ее губы, и алая кровь потекла по красивой одежде Патимат. Она ушла со свадьбы. Не пошла в дом мужа, не пошла и домой, а пошла, куда глаза глядят. Пришла она в селение Шовкра к кунакам своего отца Нажвадиновым. Старик Нажвадин и раньше был наслышан о ее горькой судьбе, теперь же предложил ей остаться у них и не идти обратно в свое село.
Буквально по пятам пришли за ней, родственники мужа, но Нажвадин ее спрятал и сказал непрошеным гостям, что Патимат придет домой тогда, когда она захочет, по своей доброй воле, а не захочет, и вовсе не вернется. У Нажвадиновых Патимат прожила довольно долго, здесь ее полюбили, шовкринцы ее приглашали в гости, на торжества.
В Кумухе она подружилась с Асват Хайдаковой, Атой Макаевой и другими кумухскими девушками, участвовавшими в этом кружке. Веселый нрав и красота Патимат очень импонировали участникам кружка. Они ездили по селам и показывали пьесы, концерты. В Кумухе Патимат дали новое имя – Минку. Этим именем в Кумухе называли очень красивых девушек, и Патимат тоже удостоилась этого имени.
Но счастье Патимат и ее популярность казались позорным оскорблением ее родственникам и мужниной родне в Палисме. Отовсюду слышалось: “Займитесь своей Патимат, которая мотается где попало, над ней весь мир смеется!” После концертов и мероприятий Патимат возвращалась из Кумуха. в Шовкра к Нажвадиновым.
Однажды под вечер к Нажвадиновым приехал Черный Муса, на черном скакуне из селения Говкра, что в нескольких километрах от Шовкра.
– Завтра свадьба моего родственника, прислали пригласить на свадьбу Патимат, и я приехал за ней, – сказал Муса.
– Уже темно, почему обязательно сегодня, завтра утром может придет она? – ответил Нажвадин.
– Сказали, чтобы сегодня я ее привел, – настаивал Муса.
– Дядя Нажвадин, что-то у меня ноги не идут на эту свадьбу, – пожаловалась Патимат полушутя, полусерьезно.
– Если ноги не идут, мой конь тебя понесет, – сказал Черный Муса. Так Патимат нехотя пошла с Мусой. Он был кунаком ее отца, другом ее братьев, часто бывал в ее отцовском доме и Патимат не смогла ему отказать. Когда Патимат с Мусой поднялись на шовкринский холм, где-то сбоку послышалось ржание коня.
– Ой, Аллах, это, кажется, конь моего брата Али! – крикнула перепуганная Патимат.
– Откуда здесь быть коню твоего Али? Где-то здесь, видимо, привязан на ночь чей-нибудь конь, – сказал Муса. И через одно мгновение, действительно, перед ними уже на гнедом гарцевал Али.
Патимат крикнула и бросилась в сторону. Али спрыгнул с коня, догнал ее и стал бить плеткой. По всем ущельям разнесся крик Патимат. Она цеплялась за ноги брата, просила пощадить ее.
Наутро шовкринцы, живущие на окраине села, стали спрашивать друг друга, что за страшные крики были слышны ночью с холма? Одни говорили, что это кошки, другие, что это совы.
А Нажвадину показалось странным, что Муса, приглашая Патимат на свадьбу, хотя бы для приличия не пригласил никого из его семьи. Он вышел на дорогу, ведущую из Говкра в Кумух и спросил встречных говкринцев, чья свадьба намечается нынче в Говкрах. Ему ответили, что свадьбы нет никакой в Говкрах. Тогда он поскакал сам в Говкра, но Мусу Черного не обнаружил в селе. “Он как ушел из села вчера вечером, так и не вернулся”, – сказали его домочадцы.
Нажвадин вернулся в Шокра и бросил клич всем мужчинам, чтобы вышли на поиски Патимат. Вышли все, стали спрашивать по окрестным селам, но никто не видел ни Черного Мусу, ни Патимат. Поехал Нажвадин в Палисма, там тоже сказали, что Патимат в селе не появлялась. Так два дня и говкринцы, и шовкринцы, и палисминцы искали Патимат. На третий день шовкринская ребятня шла по тулизминскому ущелью, мимо речки, и обнаружили окровавленный платок-гюльменди, а к ущелью с холма шел какой-то странный след, будто тащили по земле вязанку дров. Ребята поднялись по этому следу наверх и обнаружили рассыпанные бусинки кораллов и золотое колечко. Трава на поле была помята, кругом следы крови, и ребята поняли, что здесь произошла трагедия. Они побежали в село и показали старшим своим находки, те побежали на поиски. Шовкринские парни нашли в ущелье окровавленный труп Патимат, зарытый в песок возле речки. Черный Муса и Али пропали. Но со временем поймали власти и Мусу, и Али, которых сослали в Сибирь.
Люди, знавшие Патимат, любившие ее, были очень опечалены случившимся, много песен-причитаний сочинил народ в ее честь. Пожилая шовкринка Тумалаева Мугажират с большой теплотой и любовью вспоминает Патимат. Мугажират была подростком, когда случилась эта трагедия, и как все односельчане и она была опечалена этой страшной трагедией. Мугажират вспоминает одну, из песен-причитаний, которые пели шовкринские женщины:
Из Палисма гром загремел, Из Говкра молния ударила. Палисминскую Патимат Этот огонь сжег. Если бы нам приснилось, Что ты уходишь в Говкра, Мы бы на говкринском мосту Стражу поставили. Три селения искали, Не смогли тебя найти, А шовкринские ребята В песке обнаружили. Когда сахарное тело твое В песке зарывали, Почему же превратилась в кровь Акувинская черная вода? Соловьиными устами своими Ты пощаду у кого просила? С нашей стороны звала ли кого на помощь? Палисминский изверг Благородное тело повесил, Теперь овец своих на закет Пусть раздаст всем нищенствующим. На Шуринской площади пускай казнят Мусу, В Анжинском каземате пусть железо разъест Али!Правда восторжествует позже
Удивительное временное пространство дорога, даже если она и недальняя. Случаи и встречи в пути иной раз оставляют глубокий след в памяти, а иной раз и в самой жизни человека многое изменяют.
Летом 1963 года мы с братом возвращались из Баку. На одной из станций в нашем купе появился пассажир. Он вошел без шума и суеты, коротко поздоровался с нами, сел на свободное место у окна, положил на столик пачку газет, видимо купленных на станции. Из внутреннего кармана пиджака он осторожно вынул очки, также не спеша надел их, и стал просматривать, газеты. Хоть бледное лицо соседа без единой морщинки казалось моложавым, но голова была седой, без единой темной волосинки. О таких говорят: седой, как лунь. Отливающая атласным блеском белая шевелюра очень была ему к лицу, придавала благородство и солидность.
Некоторое время мы с братом тоже читали, потом обмениваясь впечатлениями, тихо заговорили по-лакски. Сосед, до этого увлеченно читавший газету, поднял голову и внимательно посмотрел на нас.
– Вы лакцы? – спросил он по-лакски.
– Да. Разве удивительно, что в поезде, следующем в Дагестан, едут лакцы? Как гласит пословица, лакца можно обнаружить и в арбузе? – рассмеялся брат.
– Вы, кажется, лакец? – обратилась я к соседу.
– Да, я тоже лакец, – ответил он.
– Странно, говорите вы по-лакски, как цудахарец, – пошутил брат.
– Вполне возможно. Долгое время я находился вдали от Дагестана, общаться на родном языке было не с кем.
– Честно говоря, я не понимаю людей, которые хоть раз в год не посещают родные места, ведь с приездом в отчий край человек как-будто обновляется, вновь рождается, – с долей укоризны заметил брат. Наш сосед как-то сник и некоторое время молчал.
– Я бы тоже вряд ли понял человека, что имея право и возможность, не бывает в родных местах, – сказал он затем с глубоким вздохом, и вздох этот вырвался как стон, неожиданно для него самого.
Я спросила его откуда он.
– Из Кумуха.
– Мы тоже из Кумуха.
– Чьи будете?
– Шурпаева Нажмудтина дети.
– Слышал о нем. А как сложилась судьба Гаджи Шурпаева? Во времена Гражданской войны он был в нашем партизанском отряде, в 37 его арестовали, и больше я о нем ничего не слышал.
Мы рассказали о судьбе нашего дедушки. Много интересного узнали мы от него и о дедушке, и о тех временах, но о себе он молчал. Я осмелилась спросить его откуда он и как зовут.
– Родом из Кумуха, зовут меня Асад.
– Я слышала только об одном Асаде Сеид-Гусейнове, о другом Асаде я не слышала, – сказала я, но сосед промолчал. Разница в возрасте не позволяла нам свободно общаться с ним, тем более задавать лишние вопросы.
На одной из станций брат купил в киоске книжечку по истории Дагестана. Глянул на нее сосед, она его заинтересовала.
– Эта книжечка там в продаже есть? – спросил сосед. И собрался было выйти, но брат его опередил и сбегал сам.
– Как мало книг по нашей истории, – заметил сосед наш, не отрывая взгляда от страниц книги.
– Мало. Даже то, что было, уничтожено. Я помню – мы, мальчишки, спрятались как-то на мельнице от сильного ливня, когда вышли оттуда, заметили на берегу реки какой-то мешок и вытащили его. Мешок был тяжелый – в нем оказались книги. Много книг, написанных на аджаме. Мешок был пропитан воском и книги не сильно намокли. Мы принесли мешок в Кумух и на площадке перед сельсоветом старики стали просматривать книги.
Я никогда не забуду как старики бережно, с каким-то трепетом брали их в руки, осторожно покрыли платочками их обложки и страницы, книги передавались из рук в руки. С горечью говорили старики: “Великий это труд наших отцов: эти рукописные книги не имеют цены.” Они предполагали, что мешок этот был спрятан в тайнике, подальше от глаз тех, кто уничтожал их в тридцатые годы, а нынешний ливень вымыл оттуда мешок.
– Умные люди прятали, вон, как мешок подготовили. За одну такую книгу раньше давали быка или корову, и писались они действительно вручную, каждая в единственных экземплярах, – заметил сосед и стал рассказывать о старинных кумухских ученых, в свое время писавших такие книги. Потом сосед расспрашивал нас о нынешнем Кумухе, о людях, о новых постройках. Несколько раз порывалась спросить я соседа о нем самом, но тот очень ловко обходил эту тему. Когда мы доехали до Махачкалы и стали выходить из поезда, сосед наш тоже встал.
– Я бы хотел обменяться с вами книгами, я тут вам написал несколько слов на память, – сказал сосед и протянул мне свою книгу, я тоже поблагодарила его и отдала свою ему, но написать что-нибудь было некогда, нас уже теснили торопившиеся к выходу пассажиры. На привокзальной площади мы с братом попрощались с попутчиком и сели в автобус. Когда же я развернула книгу, на внутренней стороне обложки прочитала: “Желаю вам, мои дорогие земляки, быть достойными ваших великолепных отцов. Желаю успехов в учебе, счастья в жизни. С уважением ваш Асад Сеид-Гусейнов.”
Так вот кто оказался нашим попутчиком. Стало обидно, что сидели рядом с таким человеком и ничего не смогли узнать о нем. Мы были наслышаны о его многотрудной и многострадальной судьбе.
Когда я дома рассказала бабушке о неожиданной и интересной встрече, она тоже удивилась, засыпала нас вопросами и очень сокрушалась, что мы не смогли узнать никаких подробностей его жизни.
– Боже мой, какие были благородные, честные, преданные люди! Как из отары чабаны выбирают самых лучших овец, так и среди людей выбрали наидостойнейших и уничтожили изверги. Нынче люди не те, – сетовала бабушка. – Нет той любви к соотечественнику, нет того уважения к талантливому, умному, образованному. Мы таких людей готовы были на своих руках поднять до небес, гордились ими. Помню, как Амужад, старший брат этого Асада Сеид-Гусейнова, будучи секретарем Кази-Кумухского райкома партии, взялся построить шоссейную дорогу. Народ страдал от того, что ее не было, но вековые скалы возле Цудахарского ущелья не давали возможности проложить дорогу через Цудахар. Вот Амужад и решил проложить дорогу через Хосрех в сторону Дербента. Народ поддержал его инициативу. Семьями выходили на это строительство, такой энтузиазм был, такое желание было у людей работать на общее благо. И сами работники райкома и исполкома первыми выходили на работу с кирками и лопатами в руках. Видя их пример и старание, люди работали с утра до ночи. Столько было радости, когда мы эту дорогу провели!
Затем прошел слух, что на нашей реке будут строить электростанцию. Дома тогда освещались только керосиновыми лампами и люди не совсем верили тому, что лампы в домах могут гореть без керосина. Также всем миром строили электростанцию. Разве кто-нибудь из нас забудет тот памятный день, когда в домах все-таки зажглись долгожданные лампочки?!
Народ весь ликовал – такое это было счастье. Времена были голодные, холодные, но не было тогда несчастных людей.
А в 37-ом нагрянула черная беда, всех самых передовых, самых видных людей стали арестовывать неизвестно за что. Арестовали Амужада и Асада. Многие погибли еще в тюрьме, многих сослали в Сибирь, сослали и Асада. Судя по вашему рассказу, теперь он вернулся из пятнадцатилетней ссылки… Вот она, человеческая трагедия, – вздохнула бабушка.
Не дожили до наших дней ни Амужад, ни Асад, но живет в Махачкале их младшая сестра Марзижат Газиевна, свидетель и жертва той страшной трагедии. Вспоминая тот роковой тридцать седьмой, она рассказывает, как арестовали братьев. Асад Газиевич тогда работал заведующим промышленно-транспортным отделом Дагестанского обкома ВКП(б), а Амужад – наркомом пищевой промышленности. Когда первый секретарь обкома Нажмутдин Самурский уезжал в командировку или в отпуск, на своем месте он оставлял Асада Газиевича, зная его работоспособность и авторитет. Очень не нравилось это второму, секретарю Дагобкома Сорокину.
Однажды в отсутствие Самурского начальник НКВД Ломоносов и второй секретарь Сорокин неожиданно собрали бюро обкома, на котором ставился персональный вопрос наркома земледелия Саидова и зав. сельхозотделом Дагобкома Колесова. Сорокин и Ломоносов, решившие расправиться с ними, заранее обговорили все со многими членами бюро, которые, боясь за свою судьбу, пошли на их поводу. Асад Газиевич потребовал перенести это рассмотрение до приезда Самурского, но с ним никто не посчитался. Когда же было вынесено предложение – исключить Саидова и Колесова из рядов ВКП(б), Асад Газиевич не смолчал, выступил против, высказал свое мнение о том, что не так уж серьезны допущенные ими ошибки – наказание же очень суровое; надо подождать Самурского. Асада Газиевича поддержали лишь несколько членов бюро, но запуганное большинство оказалось на стороне Ломоносова и Сорокина. Возвратившись, Самурский тоже был категорически против этого решения бюро. Но Сорокин не замедлил послать свою жалобу в Москву.
Через некоторое время Асад Газиевич уехал в отпуск, и в его отсутствие на страницах Дагестанской правды вышла чья-то анонимная статья о якобы кулацком происхождении Асада Сеид-Гусейнова. По возвращении из отпуска Асад Газиевич стал требовать публичного опровержения этой лжи и отказался выходить на работу, пока не будет восстановлена правда. Но вместо опровержения его пригласили на бюро обкома, где рассматривался вопрос о его пребывании в рядах ВКП(б), якобы за его антипартийное поведение. Ни его безукоризненная биография, ни большевистское прошлое его отца, ни родных и двоюродных братьев не бралось во внимание.
С четырнадцати лет воевал Асад Сеид-Гусейнов в рядах красных партизан, с 15-ти лет вступил в комсомол. Выпускник московского института. Он честно и добросовестно работал на ответственных должностях. Он приводил факты и документы, доказывал, что стена белая, а не черная. Все было бесполезно. Его судьба была заранее предрешена гнусными вредителями. И победила вопиющая ложь, потому что Сорокину удалось сломить запуганных членов бюро и протащить свое предложение: “Исключить Асада Газиевича Сейд-Гусейнова из членов ВКП(б).” А Ломоносов добавил: “И арестовать!”
Закончилось заседание, все разошлись, только один Асад сидел на своем месте. Его брат Амужад, тоже присутствовавший на бюро, подошел к нему:
– Вставай, пошли домой.
– Зачем? Разве ты не знаешь, как забирают из дома? Зачем подвергать страху и смятению всю семью? Пусть забирают отсюда.
Предложение Ссйд-Гусейнова было передано руководству, но никто за ним не приходил. Долго сидели братья в пустом зале. Асад решил пойти в милицию сам. Амужад сопровождал его.
– Ты опережаешь события. Подожди, может все обойдется и правда восторжествует, – сказал Амужад, остановив Асада у ворот милиции.
– Правда восторжествует позже. А пока я боюсь и за твою судьбу, – ответил Асад и вошел в ворота милиции. Там уже было получено указание на его арест, но появление самого Асада было полной неожиданностью.
Прошло несколько месяцев, арестовали Амужада и младшего брата – Авгада. Через шесть месяцев после пыток и мучений Авгада освободили, исключив его из партии и сняв с работы. Амужад же подвергался избиениям и пыткам в течение долгих трех лет. Попали в ту же тюрьму и его верные друзья и соратники, преданные революционеры: Шарафутдин Рашкуев, Саид Габиев, Юсуф Амиров, Гафур Исаев, Магарам Куяев, Гаджи Штанчаев, Загиди Феодаев. Юсуфа Шовкринского и Асада Сейд-Гусейнова держали отдельно от них. Все они ждали и надеялись, что в Москве узнают об этой несправедливости и освободят их не сегодня, так завтра. Писать им не разрешалось, бумаги им не давали, но они рвали свои нижние сорочки и на лоскутках белой ткани кровью писали жалобы в Москву на незаконный арест и на страшные издевательства.
Любыми путями старались эти узники передать жалобы на волю. Марзижат вспоминает, как однажды какой-то старик бросил в их окно сверток и быстро исчез. В свертке оказалось заявление Шарафутдина Рашкуева из тюрьмы, адресованное на имя М.И.Калинина в Москву. Написано оно было на лоскутке белой ткани, видимо отрезанной от сорочки. Марзижат сразу узнала почерк-брата Амужада, хоть заявление было от имени Рашкуева, значит и сверток к ним прислал сам Амужад для отправки в Москву.
Марзижат тогда училась на втором курсе Дагестанского педагогического института. Она переписала заявление Шарафутдина и собралась вложить в конверт, но мать отсоветовала ей посылать переписанное заявление. Лучше послать то, что написано на ткани из тюрьмы, сказала она, а копию оставить дома. Так и сделала Марзижат, вложила в конверт пришитый на чистую бумагу лоскут с заявлением, написала адрес и отправила со своей хорошей приятельницей в Москву. Но никакого ответа на заявление не получили, как не получали и на ранее посланные.
Однажды в институте Марзижат предупредили, что в шесть часов вечера состоится общеинститутское комсомольское собрание, и она должна обязательно присутствовать. Это предупреждение насторожило Марзижат, ибо она была не только отличницей и активисткой, но и собрания никогда не пропускала. Тревожное предчувствие подтвердилось. Председательствующий на собрании объявил, что будет рассматриваться вопрос комсомолки Сеид-Гусейновой Марзижат, братья которой являются врагами народа. Заслуживает ли она быть в рядах комсомола или нет – так стоял вопрос. Подняли Марзижат, велели рассказать свою биографию подробно, ничего не утаивая, а ее земляков, присутствующих на собрании, предупредили, чтобы они добавляли то, что она не расскажет.
– В моей биографии нет ничего, о чем бы мне хотелось промолчать, нет ничего, чего бы я стыдилась. Я сама рада случаю рассказать и о себе, и о своих братьях, которых вы называете врагами народа, и о родственниках, преданных партии и народу людях. Если же я скажу неправду, пусть земляки мои уличат меня во лжи. Второй год я учусь в этом институте, не думаю, что найдется честный человек, который бы смог назвать меня недостойной быть в рядах комсомола. Я всегда хорошо училась, была примерной в поведении и в комсомольской работе. Марзижат стала рассказывать о своих братьях, но ее прерывали, задавали ехидные и колкие вопросы. Она не терялась. Нашлись нечистоплотные земляки, которые не погнушались ложью. Кто-то спросил, почему она честная комсомолка носит передачи в тюрьму к своим братьям, врагам народа, почему пишет заявления в Москву об их помиловании?
– Хоть мои братья находятся в заключении, еще никто не доказал, что они враги народа. Вся их жизнь прошла в служении народу, они с малых лет воевали в партизанских отрядах за установление Советской власти в Дагестане, у нас в семье воевали все. Не понимаю, о каких передачах идет речь? Если вы такие всезнающие, почему же вы не знаете, о том, что до сих пор мои братья не получили ни одной передачи в тюрьме, ни один человек из родных не сумел увидеться с ними? Если бы была возможность передать передачу, я бы конечно понесла, ведь они мои родные братья, кристально честные люди. Не думаю, что среди вас найдется человек, который не понес бы передачу в тюрьму своему родному брату. А писать заявления мои братья умеют и сами. Они грамотнее меня, окончили институты в Москве.
– Она говорит неправду, – вскочил кто-то, – что семья их была из бедноты, ее брат имел легковую машину – Машину эту мой брат не купил и не получил в наследство от отца, она была подарена ему Советским государством как орден, как медаль за хорошую работу: строительство труднейшей дороги из района в город.
С шести часов вечера до четырех часов утра длилось это бесконечное собрание. Много было выступлений, много было лжи. Одни требовали исключить Марзижат из комсомола, другие вполголоса советовали подождать, пока будет доказано законным путем, что братья ее являются врагами народа. Но к единому мнению собрание так и не пришло, и вопрос этот остался нерешенным.
А дома мать Айша беспокоилась. Не могла понять, почему дочка не пришла домой из института. Куда пойти, кого спросить тоже не знала. Настала ночь. Мать не находила себе места, все время выходила на улицу и прислушивалась, не слышны ли шаги дочери. Тревожилась, ведь она никогда не запаздывала.
Последнее время Айша Сеид-Гусейнова ложилась спать не раздеваясь, все время жила в ожидании чего-то страшного, ждала известий из тюрьмы. Недавно их покинула жена Асада – Арфения, забрала и дочку – Инну. Она была партийной, по профессии врач и не захотела разделить участь мужа. Уехала неизвестно куда. Теперь мать волновалась, не забрали ли и Марзижат? Все кругом спали, одна Айша стояла возле ворот, вытирая уголочком платка слезы. К утру, когда мать уже потеряла всякую надежду, она услышала тихие шаги на лестнице и бросилась к двери. Разбитая и подавленная Марзижат вошла молча, увидев мать в слезах, тоже заплакала. Так они и проплакали до утра. А утром Марзижат поспешила в институт, опасно было получить даже малейшее замечание.
Ни мать, ни сестра не знали, что в это время Амужад голодал в тюрьме. Он объявил голодовку, требуя ответа на свои жалобы и товарищей, сидящих вместе с ним. Он требовал суда, требовал законным путем доказать их вину и покончить с истязаниями и пытками. На десятый день голодовки он потерял сознание. Его уложили в тюремную больницу и спасли.
Братья не имели возможности увидеться в тюрьме, но по тюремным каналам Асад услышал о голодовке Амужада. И однажды в окно больничной палаты на втором этаже, где лежал Амужад, донесся снизу, со двора, голос Асада.
– Не надо давать возможности издеваться над собой, можно признаться в виновности, лишь бы выиграть время. Если мы останемся живы, сумеем доказать правду, – если нас они уничтожат, доказывать правду будет некому! – говорил он по-лакски. Амужад и его товарищи поняли, что Асад адресует это им.
От пыток в тюрьме гибли многие. Иногда заключенных возили на допрос в город Пятигорск. Там, в тюрьме, расположенной на городской окраине, пытали заключенных, и чтобы заглушить их крики и стоны, включали моторы установленных вокруг тюрьмы тракторов. Рев тракторов заглушал все. Оттуда живыми возвращалось мало. Так продолжалось почти три года.
Марзижат окончила институт и поехала работать учительницей в Кумух, а мать осталась в городе ждать решения участи сыновей.
В 1940 году выездная сессия ростовского Военного трибунала рассмотрела дела оставшихся в живых десяти заключенных, в числе которых был и Амужад. А дела Асада Сеид-Гусейнова и Юсуфа Шовкринского послали на рассмотрение Особой тройки в Москву.
Была зима. Суд шел уже вторую неделю, целыми днями родственники и близкие подсудимых стояли возле здания суда, ожидая приговора. На судебные заседания допускались только свидетели.
Однажды после проведенного возле суда дня, голодная и окоченевшая от холода, Айша вернулась домой и не раздеваясь, прикорнула на тахте. В четыре часа утра со двора донеслись голоса, раздались шаги на лестнице. Затем осторожно постучали в дверь. С тревогой Айша бросилась к двери и увидела товарищей своих сыновей, освобожденных из-под стражи, оправдали и Амужада тоже, но он остался в здании суда, требует вернуть ему незаконно конфискованную машину.
Айша, не предполагавшая, что суд может идти и ночью, почувствовала себя неловко из-за того, что не дождалась приговора. Крепко обняла каждого, поздравила с освобождением, спросила, не слышно ли что-нибудь о судьбе Асада. Гости успокоили ее, стали уверять, что Асад тоже будет освобожден из-под стражи, ибо он тоже также чист, как все.
Надеждам матери не суждено было сбыться. Московская Особая тройка заочно присудила Асаду пять, а Юсуфу семь лет тюремного заключения с учетом уже проведенных ими под следствием. Перед высылкой Асада из Дагестана мать стала хлопотать о встрече с ним. Вызвали Арфению с дочкой, чтобы порадовать Асада, он очень любил Инночку.
Наконец-то свидание разрешили.
В комнату, где родственники ожидали свидания, вошел седой и сгорбленный старик. Никто не обратил на него особого внимания, пока он сам не подошел к Айше и не обнял ее. За неполных три года цветущий красавец Асад превратился в дряхлого старика, а ему едва было тридцать три. Отросшая седая борода и побелевшая голова сделали его неузнаваемым. Он сильно похудел, сгорбился, даже ростом казался ниже. Только голос да мягкий взгляд бархатных глаз говорили, что перед ними Асад. Все бросились к нему. Никто не мог говорить, все плакали, только шестилетняя Инна никак не хотела признавать в этом старике своего папу.
– Теперь вам нечего расстраиваться, – успокаивал Асад, – теперь все страшное позади. Надо благодарить судьбу, что Амужада и его товарищей оправдали. Я тоже стою перед вами хоть изменившийся, но живой. Многие уже погибли. Мы с Юсуфом написали товарищу Сталину, надеемся, что нас тоже скоро освободят.
Его убежденность, что так оно и будет, передалась и родным, у всех поднялось настроение. Девчушка тихонечко подошла к отцу и взобралась ему на колени. Айша украдкой вытирала слезы, говорить не могла, ее сердце билось гулко и очень тревожно.
Асад и не предполагал тогда, что самое страшное для него еще впереди. Человек сильной воли и стойкий оптимист по натуре, он в тюрьме старался поддержать дух своих товарищей, вселить в них надежду. Каждый раз в те несколько минут, пока его вели на допрос мимо камер, он успевал крикнуть своим землякам и брату что-нибудь подбадривающее.
Всех ссыльных, среди которых были Асад и Юсуф, вели этапом на Север. Иногда ими, как селедкой, набивали товарный вагон. Многие здесь погибали от жажды и болезней. Сколько не стучали в стенки вагона; как ни просили хотя бы воды для умирающих, никто не отзывался. Уцелевших долго вели пешком. Общаться с кем-либо в дороге строжайше запрещалось. Больные, вконец обессиленные падали на дорогу… Их просто пристреливали. Асад и тут был примером выдержки и мужества для каторжан.
Родные и близкие не знали куда или хотя бы в каком направлении их повезли. Писать письма было запрещено.
В октябре колонны заключенных дошли до северной реки Печоры. Расположились в палатках в прибрежном лесу, здесь же они должны были и работать. В Сибири уже стояли тридцатиградусные морозы. Каторжане, прибывшие с жаркого юга, изможденные и ослабевшие, не выдерживали мороза. Надзиратели не признавали больных, надо было работать, пока не свалится человек с ног. Потерявших сознание доставляли в тюремную больницу, но оттуда никто не возвращался.
Каторжане валили лес и строили железную дорогу. Асад заболел, но крепился изо всех сил, чтобы не попасть в тюремную больницу. Не выдержал Асад, свалился с ног.
Очнулся он в тюремной больнице, которой боялся больше всего на свете. В лагере хорошо было известно: больных тут долго не держали, они гибли здесь без помощи, как мухи. Умерших складывали во дворе больницы у стены штабелями, как бревна. Сибирские морозы так сковали землю, что невозможно было рыть могилы.
Ждали весны, а стоял лишь ноябрь 1940 года. Асад понял, какая участь его ожидает. Правы были надзиратели, которые на каждом шагу твердили заключенным: “Ни один из вас отсюда домой не вернется! Здесь ваша могила!” В страшных условиях прокладывали каторжане ветку воркутинской железной дороги. “И все же то была жизнь. А теперь – начало конца, – думал Асад. – Жаль, что не успел получить даже весточки от родных. Хоть бы узнать, дошли ли до них мои письма. Знают ли они, где я?”
Асад всегда выполнял строгую инструкцию: “Письма должны быть только на русском языке и “ни одного лишнего слова!” Поэтому и не терял надежды, пусть даже не все письма, но дойдут! Среди каторжан единственным человеком, который мог сообщить его родным о его смерти, был Юсуф Шовкринский, он еще держался на ногах и работал в лесу. Три года избиений, голода и пыток подорвали здоровье и этого крепыша.
Не знал Асад, как и когда он попал на холодную, жесткую койку, не знал, сколько времени провел без памяти, да и спросить было не у кого.
Кругом лежали лишь стонущие и умирающие, к ним никто не подходил, только умерших выносили молча и тихо. Все мысли Асада были о доме, о близких, о любимой дочурке Инне. В одном из писем к жене, Арфене, он написал несколько теплых и ласковых слов своей девчушке. Дошло ли письмо? Почему нет ответа? Хоть бы Юсуф продержался…
Лютый мороз безжалостно косил изможденных больных. В палате темно. Светлело только к десяти утра, большая часть суток – ночь. Долго лежал он, не имея сил не только двигаться, даже на стон их не хватало. Все тело сковала свинцовая тяжесть. В сумерках он почувствовал, что кто-то дотронулся до него. Громадным усилием воли он сделал движение рукой, чтобы его не приняли за мертвого и не вынесли во двор. С великим усилием открыл глаза: стоящий возле койки фельдшер что-то спросил. Асад попытался открыть спекшиеся губы, произнести: “Я жив!” Но из горла вырвался только хриплый стон. Человек ушел, но через некоторое время вернулся с кружкой теплого чая. Напоил Асада, подложив под его голову руку, затем спросил:
– Вы Сеид-Гусейнов?
– Да, – ответил хрипло.
– Мне знакома ваша фамилия. Вы случайно не из Москвы?
– Нет. Я из Дагестана. Учился в Москве в молодые годы.
– Из Дагестана. Где работали?
– В обкоме партии.
– Теперь я вспомнил! В тридцать пятом году в составе комиссии ЦК я приезжал к вам. Помню, проверял и вашу работу. Большую симпатию тогда вы у меня вызвали… Вот где нам довелось встретиться… Я такой же ссыльный, как и вы, только мне пригодились курсы фельдшеров, которые я окончил в юношеские годы.
Асад теперь вспомнил человека из той давней московской комиссии, который дал такой хороший отзыв о его работе.
Через некоторое время фельдшер привел к Асаду врача и сказал:
– Я должен спасти этого человека, помогите, пожалуйста.
– Вы можете это сделать только рискуя собой и, жертвуя своим пайком, я ничем не смогу помочь, – ответил врач после осмотра.
Несколько недель подряд подкармливал его фельдшер. Асад медленно поправлялся. И долго не знал, что фельдшер сам остается голодным.
Возвращение Асада на работу и удивило, и обрадовало товарищей. Особенно обрадовался этому Юсуф. “Боже мой, – сказал он в слезах, – я каждое утро проходил мимо больницы и заглядывал во двор, не вынесли ли тебя эти изверги. Какая радость, какое счастье, что ты поднялся!”.
Асад не мог открыть истинную причину поправки.
Через неделю поправки привели Асада в контору, здесь его спросили, знаком ли он с работой экономиста.
– Это моя профессия, – ответил Асад.
– Нам нужен экономист, пока его пришлют, ты будешь здесь работать.
…16 января 1941 года. Этот день Асад запомнил на всю жизнь: он получил первую долгожданную весть из дома. Читал и перечитывал письмо и весь вечер затем писал ответ. Вот это письмо, адресованное брату Амужаду. Вместе с другими письмами оно хранится у его сестры Марзижат Газиевны:
Привет родным!
Вчера получил первое письмо от вас и вообще первое письмо. Очень, конечно, обрадовался. Очень благодарен за ту заботу, которую вы проявляете обо мне. Но особенно не беспокойтесь, – особой нужды в чем-либо я здесь не испытываю; живу неплохо, здоров, постепенно привыкаю к морозам. А морозы здесь действительно основательные, – с начала января почти все время держатся на уровне 40–50 или даже выше градусов. И это естественно, потому что север.
Насчет значения этой дороги ты прав. Она действительно имеет большое экономическое значение и является очень серьезным и крупным объектом. Строится она высокими темпами. Там, где я работал в Севжелдороге, уже проходят поезда. Дорога уже дошла до нас, перебралась уже на эту сторону реки Печоры и двигается дальше на северо-восток поистине большевистскими темпами. Ты прав также в том, что выражаешь уверенность в том, что я буду относиться к своей работе и здесь как большевик. Да иначе и быть не может. Я работаю не потому, что я обязан работать, сам хочу отдавать свои силы и способности делу борьбы за коммунизм, хотя бы это происходило в этой несколько своеобразной для меня обстановке. С обстановкой приходится мириться пока что, но думаю, в ближайшее время и она изменится. Я уже написал по своему делу заявление на имя товарища Сталина, а также на имя т. Жданова и т. Берия. Уверен в том, что справедливость в отношении меня в скором времени будет восстановлена, и я смогу вернуться обратно в семью трудящихся, в свою большевистскую партию, как честный коммунист. Копии заявления я отправил в адрес Инночки.
Ты мой адрес пишешь не совсем точно. Уже с конца октября я не нахожусь в 46 колонне. Юсуф отправился дальше на север, а я остался здесь, в Кожве. До конца декабря работал экономистом в отделении, а с начала января меня вроде выдвинули и перевели на работу в штаб Южного участка строительства экономистом. Поэтому ты мне адресуй в дальнейшем так: Коми АССР, почт/отд Кожва, почт/ящ N 220/5 штаб Южного участка Печжелдорстроя, мне. Руководители мои ко мне относятся неплохо, видя, что я могу работать и работаю честно, приношу пользу делу своей работой. Ты, конечно, понимаешь, что сама работа никаких трудностей для меня не представляет. После того, как я в короткое время ознакомлюсь с основными элементами работы, я веду ее дальше без всяких затруднений. Это естественно, т. к. я был и могу быть на гораздо более сложной работе. То, что я работаю по своей специальности, дает, конечно, мне моральное удовлетворение.
Тем не менее, очень соскучился по родным и близким. Весьма огорчен, что Муминат нездоровится. Кроме того, я что-то среди своих племянников не все имена вижу. Где же Бобик, а кто такой Вова? Ты все-таки не написал подробности о том, как вы все там живете.
От Арфении письма еще не получил. Получил только телеграмму о там, что она собирается ехать в Баку. Послана из Москвы 24/XI. Не знаю, где она и Инночка сейчас. Прошу тебя сообщить об этом телеграфно. Адрес для телеграммы: Коми АССР, Кожва, почтовый ящик – 220/5 штаб Южного участка, мне.
Очень рад тому, что ты хорошо работаешь и это признано общественностью, иначе и быть не могло. О событиях внутреннего и международного порядка я информирован, т. к. регулярно читаю газеты.
Пока всего лучшего. Пишите почаще и подробнее. Не забывайте, что я с нетерпением жду писем от вас.
Крепко жму руки. Ваш Асад /подпись/.
Одно из первых писем из ссылки Асад написал своей жене Арфении Григорьевне. Послал ей копию своего заявления, адресованного Сталину, надеясь, что она как грамотный человек, примет со своей стороны все меры, чтобы ускорить рассмотрение его дела. Он ждал ответа, он ждал от нее помощи, не терпелось узнать что-нибудь и о дочурке. Не понимал Асад тогда, почему она уехала в Москву, затем в Баку, что значили непонятные телеграммы из Москвы, сообщение, что она уехала в Баку. В кармане лежало очередное письмо жене, но он не знал, куда его посылать, Арфения для собственной безопасности решила порвать с ним связь, уехала туда, где о нем никто ничего не знает. Не знал Асад, что она не дала своего адреса даже его родным, да еще просила, чтобы Асад ей не писал. А если уж будет что-то очень нужно, пусть напишет на до востребования. Вот и решил Асад послать письмо родным, надеясь, что они перешлют его по ее адресу.
Здравствуй, дорогая мама!
Привет всем родным!
Приложенное письмо не успел отправить, как получил сообщение новое, с указанием махачкалинского адреса, по которому и отправляю. До сих пор получил всего одно письмо из Махачкалы от 24/ХI и кроме него никаких писем не получал.
Письмо, которое положено в этом конверте, хотел отправить в Баку, но получил телеграмму из Москвы с указанием адреса, а вскоре после этого вторую телеграмму с заменой адреса. Сейчас я не знаю, где же Арик находится. Прошу телеграфиста сообщить мне об этом. Одновременно напишите подробное письмо о том, как вы живете, как здоровье, как здоровье в особенности твое, мама? Как работает Марзи, как здоровье моих племянников, как учится Кима? Я очень хочу узнать, почему Арик уехала из Баку в Москву, где она сейчас находится и на какой работе, где находится Инночка? Ты понимаешь, конечно, что этот вопрос меня весьма беспокоит. Я все думаю о том, что там такое случилось. Прошу совершенно точно информировать меня об этом. Что касается меня, то все ты узнаешь из письма, адресованного к Арику, которое я не успел отправить. Положение и на сегодня остается то же самое, без существенных изменений. Одновременно, в другом конверте, отправляю к тебе, мама, копию своего заявления в ЦК ВКП/б/, на имя тов. Андреева А.А.
Пока всего лучшего, жму руку. Ваш Асад.
Родные Асада воздерживались писать ему о том, что Арфения оборвала с ним связь из боязни за свою судьбу и за свою карьеру. Они писали ему, что, видимо ее письма до него не доходят, как и многие другие. Писали, что жена и дочка живы и здоровы, что они постоянно справляются о нем, передают привет. Асад и не подозревал, что жена решила огородить себя от неприятностей. Он боялся худшего – не арестована ли она? И потому, несмотря на свое тяжелое положение, беспокоился, не случилось ли чего с нею и ребенком? В то время Арфения, уже обезопасившись от последствий для неё беды мужа, жила и работала в Москве.
Тут я не могу не вспомнить мудрые слова моей бабушки: “На свадьбе и на похоронах легко встать рядом с человеком. Труднее помочь, когда человек падает. Разделить с упавшим или со споткнувшимся его участь, встать рядом с ним не каждый сумеет. Так поступит только очень мужественный и очень благородный, искренне любящий человек. Действительно, высок и благороден поступок фельдшера из тюремной больницы, который, рискуя собой и, жертвуя частью личного пайка, спасал Асада, малознакомого ему, но честного, как и сам, человека.
Сестра Асада, Марзижат, вспоминает, что писали Асаду все его родные, но, сколько бы писем не поступало в адрес заключенных, им выдавали только одно письмо за несколько месяцев. Это тоже было своего рода наказанием.
В конце сорокового года Асад пишет своим племянникам:
“Привет, моим дорогим племянникам!
Давно собирался вам написать, но до сих пор не удавалось. Я здоров и чувствую себя неплохо. Сообщаю вам, что здесь уже начало становиться теплее, так что можно считать, что зима позади. Перенес я эту зиму неплохо, а это успех немалый. Очень беспокоюсь, что от вас нет писем. После того письма, что было написано 24/XI, я от вас не получил ни одного… Не зная о причинах этого, крайне озабочен. Прошу вас очень не допускать таких перерывов в письмах. По получении этого письма подайте телеграмму с сообщением о здоровье всех родных. Не так давно отправил к вам копию своего заявления на имя прокурора Союза. Полагаю, что мама со своей стороны примет кое-какие меры для ускорения его рассмотрения. Надеюсь, что я в скором времени, после рассмотрения этого заявления, получу возможность, наконец, встретиться с вами.
Нахожусь на той же работе, т. е. работаю старшим экономистом. Работой доволен. Живу неплохо. Особенно ни в чем не нуждаюсь. Так что вы по этой части не беспокойтесь.
Пишите письма подробно, обо всем: о своем здоровье, о родных всех, как учитесь, как живете. Пишите по адресу: Коми АССР п/отд Кожва, п/ящик Ы274/Ю мне, словом, адрес прежний, только изменился п/ящ.
Обнимаю вас всех, мои родные. Ваш дядя Асад.
Марзижат вспоминает, что заявления и письма с просьбой пересмотреть дела Асада и Юсуфа писали не только они, писали их из Махачкалы все близкие, постоянно писал Амужад. Ездили с заявлениями даже в Москву, но никакого ответа, никакой реакции не было ни из одной инстанции. Не доходили до заключенных даже письма родных. В мае месяце 1941 года дошло до Асада лишь второе письмо из дома, хотя написано их было множество.
Дорогая мама!
Сегодня получил письмо твое, написанное 24 марта. Это второе письмо, причем, между первым и вторым прошло ровно четыре месяца. Нельзя сказать, что вы мне писали часто. Очень рад тому, что у вас все благополучно, это несколько успокаивает… Скажи всем, что скоро, быть может, я буду с вами. Почему ты в письме ничего не пишешь про Сагида, как его учеба и что у него получается?
Что касается меня, – я живу по-прежнему. Я уже писал тебе о том, что независимо от того специфического положения, в котором я нахожусь, я был и остался большевиком, преданным сыном своей Ленинско-Сталинской партии, и находясь на определенном участке Социалистического строительства /безразлично, в качестве кого/, у меня к своей работе не может быть иного отношения, кроме как большевистского. Этим, собственно, и объясняется такое отношение ко мне руководства. В процессе работы я совершенно забываю о своем положении, целиком бываю увлечен работой, отдаюсь ей со всей энергией; работа моя меня интересует, для меня ясно ее значение в деле Социалистического строительства и ее необходимость. Эта стройка имеет большое экономическое значение по этой дороге пойдет нефть, уголь, лес и др. с Севера, которые послужат для повышения темпов строительства коммунизма в нашей стране, и является вообще важным объектом. Излишне поэтому писать тебе о том, что я отношусь к работе добросовестно, отдаю работе все силы и способности. Это само собой разумеется. Я, помимо этого, стараюсь и других втягивать в работу; вовлекать и учить работе тех, кто подаст надежды.
Нередко мне приходится слышать от окружающих лиц просьбы о разъяснении того или иного вопроса. Пожив со мной некоторое время, многие убеждаются в том, что я здесь нахожусь незаслуженно, по моим взглядам, высказываниям, поведению, отношению к работе они видят, что имеют дело с честным человеком, действительным патриотом нашей Родины, попавшим сюда по недоразумению. Хочу, кстати, тебе сообщить забавную деталь: взрослые люди при обращении ко мне обычно употребляют выражения – “отец”, “папаша”, “пахан”. Видимо, моя длинная борода и седая голова предрасполагают к этому.
Ты не думай, что я сижу и терзаюсь от того, что оказался в таких условиях. Этого нет. Я стараюсь отнестись к своему положению спокойно, хладнокровно.
Как птица в клетке, у которой глаза устремлены на волю, Асад тосковал и жил надеждой, что если не сегодня, то завтра его дело пересмотрят и все решится в его пользу.
Так прошли присужденные ему пять лет заключения с учетом трех лет, проведенных в тюрьме в Дагестане.
Был – 1942 год. Он вышел за решетку и тут же узнал, что не имеет права выезжать куда бы то ни было. К тому же, там на месте прежнего заключения было жить негде: ни общежитии, ни квартир в наем, не было здесь не только магазинов, даже ларька или базара. Нигде ничего не продавалось! Люди, работающие там, ограничивались только тем, что им выдавали в столовой. Асад связывал осложнения своего положения с военным временем и был убежден, что, как только война закончится, он сумеет выехать домой.
В первый же день свободы Асаду пришлось вернуться в тюрьму – ночевать. Так и повелось: работал он в прежней должности, но возвращался после работы в тюрьму. Так прошел год. Однажды он заболел воспалением легких. Оставаться на весь день в холодной сырой тюрьме было невыносимо и он, еле волоча ноги, ходил на работу, чтобы хоть день провести в нормальных условиях. Иногда Асад оставался ночевать в кабинете, спал на стульях. Молодая сотрудница Аня пожалела его и стала приглашать ночевать к себе, пока выздоровеет. Но Асад ответил: “Если вы меня серьезно приглашаете, я не могу идти к вам просто так: я вам не брат, не родственник, не муж. Не хочу компрометировать ни вас, ни себя. Если вы примете мое предложение, я женюсь на вас и тогда перейду к вам. Другого выхода в этом положении я не вижу…”
Хоть Асад сначала и не понимал отчуждения своей жены Арфении, не подозревал ее в предательстве, но к тому времени понял, что ей он в его нынешнем положении не нужен. Только судьба любимой дочери Инны очень беспокоила Асада, в каждом письме к родным он просил ее разыскать, написать ему о ней хоть что-нибудь.
Аня приняла предложение Сеид-Гусейнова и они поженились. Асад написал об этом матери. Зная о большой любви Асада к Арфении и дочери, мать удивилась этому и спросила в письме – что бы это значило? Она была уверена, что сын не знает об отъезде Арфении и об ее отношении к его нынешнему положению, поскольку дома все договорились не говорить Асаду об этом.
Сохранилось письмо Асада, написанное матери в ответ.
Привет, родные, мама и Марзи!
Ваше второе письмо получил, очень обрадовался. Получил также письмо от Амужада и Ажа. Теперь я связался со всеми, кроме Авгада и Сагида, которым тоже написал, но ответа не получил. Нужно, правда, еще найти местонахождение Инночки, но к этому пока возможности нет никакой, придется это сделать позже, когда изменится положение в стране. Что же касается того, что вы пишете насчет Арфении, об этом нужно всякие разговоры прекратить, помимо всего прочего, сейчас я уже женат; моя жена – член партии /она орденоноска/, работает здесь в управлении строительства на ответственной работе. Зовут ее Аня. Когда я еще находился в другом положении, она ко мне относилась очень хорошо. Скоро мы с ней приедем домой, и она вам понравится. Она на два года моложе Марзи. Живем мы здесь как-нибудь. Ждем с нетерпением, когда отсюда выедем домой, принимаем к этому все меры. Климатические условия здесь очень суровые. Зимы очень холодные, суровые, длинные – 8–9 месяцев. Лето еще хуже – от комаров и мошкары спасу нет. Часто беспокоит ревматизм, нужно было бы полечиться в Талгах. Плохо с овощами, фруктами, т. к. здесь они не растут, а отсутствие их на состоянии здоровья сказывается весьма отрицательно. Не хочу от вас скрывать того, что за прошлые годы здоровье пострадало и нуждается в серьезном ремонте. Но возможности к этому пока нет. Не знаю, представляете ли вы себе в достаточной степени те трудности, которые здесь, на крайнем Севере, в Заполярье, приходится переносить?
Работаю в управлении железной дороги в должности начальника части. Работы много; работа напряженная. Справляюсь я с работой, конечно, хорошо. Как и раньше, и теперь работаю честно, как и полагается работать преданному сыну Советской Родины. Но находясь в других условиях, я смог бы принеси своей работой государству гораздо больше пользы. Марзи, передай маме, чтобы она не беспокоилась, все будет к лучшему и скоро ее сыновья вернутся к ней, скоро, может, и мы увидимся в вами. Пишите письма почаще.
Желаю вам всего лучшего.
Ваш Асад.
Привет вам от Ани. Посылаю эту свою маленькую карточку.
Когда Асад получил чуть большую свободу, он стал заботиться о своем друге Юсуфе, делал все возможное, чтобы избежать разлуки с Юсуфом, чтобы оставили его, где он сам работал.
Дорога продвигалась на север и заключенных, работающих на ней, тоже продвигали к северу: несколько раз Асаду удавалось оставить Юсуфа возле себя. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнал, что Юсуфа отправили дальше на север. Очень расстроенный этим Асад стал хлопотать о возвращении Юсуфа, но не прошло и двух недель, как ему сообщили, что Юсуф заболел и скоропостижно скончался. Он не поверил, и сам поехал на станцию Косью, куда был отправлен Юсуф. Друга не было в живых, ему показали свежую могилу друга. Как погребальная молитва, зловеще выла над этой могилой лютая метель…
Несмотря на свое удручающее положение, Асад Сеид-Гусейнов чувствует ту большую беду, в которой оказалась вся страна, все советские люди. В том числе и его близкие. В своих письмах он старался подбодрить их, вселить надежду на лучшее. Узнав о ранении брата на фронте, он пишет утешающее письмо матери:
…Мама, ты не печалься и не горюй. Пройдет еще немного времени, и ты снова увидишь около себя всех нас, а меня, возможно, увидишь еще даже раньше. Приедем мы скоро к вам, чтобы вновь дышать благодатным воздухом наших гор, чтобы впитать в себя согревающие лучи нашего южного солнца, чтобы работать на благо народа. Хищные гитлеровские кровопийцы напали на нашу Родину…, недалек час окончательной расплаты за все это… Твои дети, мама, один на фронте, другие в тылу, каждый чем может, способствует разгрому фашистов, отдавая этому все свои силы и способности.
Ты должна гордиться тем, что части от тебя тоже служат общему для народа делу. Это должно придавать тебе силы, стойко переносить тяжесть разлуки.
Пишите почаще, потому что письма идут долго и приходят редко. Ты, Марзи, не жди получения письма и пиши сама, рассказывай все подробности, где вы там живете, как устроились, найдется ли нам где жить, когда приедем. У вас там наверное тесно. Почему у вас такая плохая связь с Амужадом? На чем ездят в Буйнакск?
Пока всего хорошего вам. Передайте мой привет Ажа и детям. Привет вам всем передает Аня.
Жму руки. Ваш Асад.”
Написал Асад и сестре:
“… Ты пишешь, Марзи, насчет некоторых трудностей жизни у вас. Вполне представляю все это. И это не только у вас такое положение. Вся страна переживает серьезные трудности и большие испытания. Страна в целом и каждый гражданин в отдельности должны суметь выдержать все это с честью. Недалеко то время, когда гитлеровские озверелые полчища будут окончательно разгромлены и тогда наступит резкое улучшение во всех отношениях…”
Однообразная жизнь, которой, казалось, не видно конца, все дни и месяцы, как близнецы, похожие друг на друга, метели и морозы, голод, вместе с безрезультатными ходатайствами Асада о выезде домой угнетали его больше, чем тогда, когда он сидел в тюрьме. К тому же с тех пор, как он уехал из Махачкалы, он не имел никаких известий о дочери. В каждом письме, адресованном родным, он просил узнать что-нибудь о ней, а если узнают – пусть срочно сообщат ему телеграммой. Сам тоже пишет запросы во все концы.
Вот строки из его письма:
…Насчет Инночки я уже принимал меры к розыску, писал запрос в Центральное справочное бюро в город Бугуруслан Чкаловской области. Получил ответ, что на учете среди эвакуированных она не числится. Не знаю, где теперь ее искать…”
Чувствуя страдания Асада, его родные пишут родственникам Арфении в г. Баку, чтобы те разузнали бы что-нибудь о судьбе Инны. Но оттуда – ни ответа, ни привета. Асад подозревал самое худшее, думал, что родные не пишут ему о судьбе дочери, чтобы не расстраивать его. Услышав, что одна женщина, работающая на соседней станции, едет в Махачкалу за своей дочкой, Асад тут же поехал к ней с просьбой зайти к его родным, узнать все подробности, особенно про Инну. Просил он ее навестить и Амужада, из писем он узнал, что жена его серьезно больна.
То, что Амужад последнее время писал редко и скупо, для Асада обозначало, что брат чем-то сломлен, подавлен. Асад пишет в письме к сестре: “…Его (Амужада) дела семейные, видимо, неважно обстоят, откровенно говоря, у него, конечно, и хлопот больше, чем у кого-либо, да к тому же семейные обстоятельства складываются неблагоприятно. Вам следовало бы вспомнить, что он в свое время для вас заменил отца. Заботы о семье всей лежали на нем (я учился) и никогда с того времени эти заботы с него не снимались.”
В Кумухе мать получила телеграмму Асада о том, что в Махачкале будет его знакомая сослуживица – Батаева, и она зайдет к Амужаду, Айша поехала в Махачкалу.
Несколько дней на квартире у Амужада ждали желанную гостью. Наконец-то она пришла. Было много слез, много расспросов и разговоров. Засиделись допоздна. Айша из Кумуха привезла сухофрукты передать Асаду, но узнав от гостьи, какая трудная поездка ей предстоит, Айша сказала:
– Доченька, я не знала, что тебя ждет такая тяжелая и дальняя дорога. Теперь не знаю, как и быть… Может, гостинец сыну послать посылкой, чтобы не быть тебе в тягость, тебе-то еще и ребенка везти надо.
– Вы правы, мать, дорога, действительно, нелегкая, – сказала Батаева, – но для Асада гостинец я возьму все равно, если даже свой груз придется оставить, возьму его. – Таким состраданием и любовью прониклась она к этим добрым, сломленным горем людям. Старший брат Асада, Амужад, искалеченный тюрьмой, еле стоял на ногах, жена его, Мукминат лежала тяжело больная, четверо детей, – самому старщему из них было лет тринадцать, выглядели как сироты при живых родителях. Как об этом рассказать Асаду? Как сообщить ему о том, что жена его, Арфения, жива и здорова, живет в Москве с дочкой, но не желает иметь с ним связи? Что будет Асаду легче перенести, то ли, что судьба жены и дочери неизвестны еще или это? Узнав о страданиях всей этой благородной и честной семьи, гостья прониклась к ним уважением. Ей стали понятны истоки порядочности, высокой человечности и отзывчивости Асада к людям. Он еще вырос в ее глазах.
– Перед вами и вашими детьми хочется преклонить колени, – сказала гостья, обращаясь к Айше, – не переживайте, не падайте духом, держитесь, как держались до сих пор, все образуется, и сын ваш вернется к вам.
– Иншаллах! – ответила Айша с глубоким вздохом.
После возвращения Батаевой из Махачкалы Асад пишет сестре, что много нового узнал от нее, радовался, что она увидела почти всех, даже маму. “… Правда, она не могла сказать мне, насколько мама изменилась, потому что не знала ее раньше…”
Узнал Асад, что его дочка с Арфенией живет в Москве, чему был бесконечно рад. Спал с души страх за дочь, отношение Арфении к себе он понимал давно.
Теперь у него была другая семья, дети. В одном из писем к сестре он пишет: “Нашему Алику мы часто обещаем дать разные фрукты, когда мы приедем в Махачкалу, а он знает только их названия, а сами фрукты какие бывают не знает, так как их не видел. Он только знает, что они вкусные…” Также Асад просит сестру прислать какие-нибудь детские книжки, если сохранились после Инночки.
Асад Сеид-Гусейнов по-прежнему работал много и добросовестно: Главное управление Печеростроя недаром наградило его грамотами. Только разрешения на выезд домой ему не давали. Сильно влияло на его моральное состояние и здоровье это ничем не оправданное запрещение.
Привет, Марзи!
Пишу тебе короткое письмо, работы много и потому не удастся засесть так, чтобы много писать. Часто приходишь с работы усталый (здоровье ведь уже не то) и не до того, чтобы заниматься писанием. Ничего, кроме “как бы отдохнуть” в голову не лезет… Поэтому может быть письма эти’ иногда даже кажутся однообразными, но наша жизнь в Заполярье такова, что очень мало изменений.”
Кончилась война, вся страна ликовала, вместе со всеми и Асад. Надеялся, что теперь-то ему разрешат вернуться домой. Он снова шлет в Москву заявление о пересмотре своего дела, но Москва, как и прежде, не отвечала. Тяжело раненным вернулся домой его брат Авгад. Асад пытается вырваться домой хоть в короткий отпуск, но и тут семью настигла беда.
Пролежав несколько месяцев дома, Авгад скончался. Амужад дает телеграмму руководству Печоростроя с просьбой разрешить Асаду выехать на похороны брата. Асад тоже шлет телеграмму в Москву с той же просьбой. Не разрешили! Через некоторое время умерла жена Амужада – Мукминат. Тяжело переносил Асад эти несчастья, свалившиеся на горемычную семью. Самочувствие Асада резко ухудшилось. Донимала боль в сердце и в ногах, как о несбыточной мечте думает он о талгинских ваннах. Он, который никогда не позволял себе расслабиться, теперь терял надежду на свободу, и в письмах его появляются горькие нотки, понимание безнадежности положения. Прошло еще несколько лет. У него в семье появилось несколько детей, Для них необходимы были жизненные условия. Другие сотрудники по несколько месяцев в году выезжали на юг с семьями, но его лишали этого права.
Только в 1951 году Ане удалось выехать с детьми в Дагестан и оставить старшего сына, Алика, у родных Асада.
В марте 1953-го умер Сталин. Асад понял, что наступает рассвет для него и для таких же невинно пострадавших.
Летом 53-го Марзижат с матерью жили в Махачкале, по улице Леваневского, дом N 6. Квартира их была на втором этаже. Однажды Марзижат лежала на стеклянной веранде, бережно уместив больную ногу, читала книгу. Двор был большой, ворота открыты и потому в них выходило и входило много народу. Краем глаза Марзижат заметила, как в ворота вошел мужчина в военной форме. И хоть лица его не различила, она невольно вздрогнула и встала на ноги. Через пару минут к ним постучали и она, позабыв о боли в ноге, бросилась к дверям. В них стоял Асад в темно-зеленой военной форме.
– Мама! Асад приехал! – разнесся по двору и дому ее крик.
– Тише! Тише! – успокоил ее Асад и оглянулся, как-будто за ним кто-то гнался.
Марзижат ничего не могла выговорить, она разрыдалась, забыв даже обнять брата. А мать, стоя возле кухонного стола, услышала крик дочери, а за ней до боли родной голос сына, и окаменела не месте, придерживаясь за край стола. Асад бросился к матери. Говорить они не могли, Марзи и мать плакали, обнявшись с Асадом, худые и бледные руки Асада дрожали от волнения.
– Ты приехал, тебе уже разрешили? – только и спросила через некоторое время Марзижат.
– Сталин умер. Вот я и приехал, никого не спрашивая. Я приехал в отпуск, – ответил Асад еле слышно.
Позже Марзижат узнала, что значит военная форма брата и чин майора на его погонах. Оказывается, всех работников Печоростроя приравняли к военнослужащим, выдавали им военную форму и присваивали звания.
Побыв недельки две дома, Асад поехал на север. Вскоре он вернулся вместе с семьей. Окончательно вернулся на Родину Асад Сеид-Гусейнов.
Судьба прокурора
Юсуф Алиевич сидел за столом и разбирал деловые бумаги. Без стука открылась дверь кабинета. Вошли трое мужчин. Не поздоровались. Прокурор жестом руки предложил им сесть. Однако они подошли к нему вплотную.
– Амиров, вы арестованы!
Двое грубо схватили прокурора за руки и вывели из-за стола, третий стал его обыскивать.
Юсуф Алиевич не очень удивился случившемуся, он скорее ожидал этого: не могли бесследно пройти его горячие протесты против незаконного ареста лучших, преданных коммунистов Дагестана. Несколько месяцев тому назад прозвучал его протест в адрес НКВД ДАССР по случаю ареста Ю. Шовкрикского и А. Сейд-Гусейнова, с которым вместе воевал в отряде красных партизан Кази-кумухского округа. В том памятном 181-м им было всего по четырнадцать-пятнадцать лет. Вместе вступили в комсомол в 1920 году, вместе создавали комсомольские ячейки в аулах округа, шли рука об руку по трудному пути утверждения Советской власти в Дагестане.
Затем последовал протест по поводу ареста наркома просвещения Дагестана Б. Астемирова, с которым его связывала давняя дружба. В честности и преданности Багаутдина он нисколько не сомневался. В резкой форме высказал он свое несогласие и после ареста первого секретаря горкома партии Двигательстроя 3.Феодаева, которого тоже хорошо знал. Он негодовал, когда узнал об аресте Саида Габиева в Тбилиси. Возмущаться тихо он не умел. Не такая была у него натура… Юсуфа Амирова неоднократно арестовывали и раньше, немало перенес он пыток, Но это было в двадцатые годы, когда шла открытая борьба с врагами Советской власти. Он был первым организатором комсомола в Кази-Кумухском округе, председателем комсомольской ячейки в Кази-Кумухе, делегатом I Вседагестанского съезда комсомола в Темир-Хан-Шуре.
В 1921 году отважный партизан был принят в партию.
В 1925 году Юсуфа Алиевича перевели на работу в обком комсомола, сначала заведующим отделом агитации и пропаганды, затем заместителем секретаря. После окончания двухгодичных курсов секретарей уездных комитетов партии в Москве его направили первым секретарем Лакского окружкома ВКП (б). В декабре 1929 года Амирова перевели в Махачкалу управляющим Даггосиздата. Затем он работал наркомом коммунального хозяйства, председателем Махачкалинского горисполкома. Когда его арестовали, он был прокурором Буйнакского района.
…На дворе был декабрь 1937 года. День морозный, ветреный. После работы он собирался в Махачкалу – к матери и семилетней дочурке. В ящике стола лежали теплые детские варежки, купленные для нее. После того, как ушла жена, оставив ему двухлетнюю малышку, он старался уделять ей больше внимания. Но судьба распорядилась иначе. Жарият ждала сына целую неделю. Очень беспокоилась, ведь раньше он приезжал из Буйнакска несколько раз в неделю. А тут еще внучка заболела, не случилось ли что? И Саидат, дочь, уехала в Кизляр. Не дождалась мать своего сына. Вместо него в дом ворвались работники НКВД. Начался обыск. Плохо владея русским языком, Жарият пыталась объяснить незваным гостям, что Юсуф преданный партии человек, честный коммунист, и она сама, тоже коммунист, работала в Кази-Кумухоком окружкоме. Бросилась к шкафу, желая показать документы, подтверждающие ее слова, но один из следователей грубо отшвырнул ее в угол. Внучка громко заплакала.
Вещи, представляющие хоть какую-нибудь ценность, конфисковали, остальное выкинули через окно на улицу.
Квартиру опечатали. Жарият с внучкой выгнали на улицу. Было темно и очень холодно. Ту ночь они провели в подъезде. Люди боялись их впустить.
К утру Жарият пошла искать за домом остатки своих вещей… Ветер унес все бумаги сына, ворошил книги, валявшиеся на снегу.
Узнав о беде, навалившейся на Жарият, Кистаман Шейхова, односельчанка, предложила на ночь свой угол. Жарият с внучкой приходили к ней поздно ночью и уходили с рассветом. А днем ютились где придется – на вокзале, в магазинах, на почте.
Через неделю, вернувшись из командировки, Саидат нашла в квартире новых хозяев. Еле разыскав мать и племянницу, она упорно стала ходить по инстанциям, пытаясь узнать хоть что-нибудь о судьбе брата. Но тщетно.
Допрос следовал за допросом. Не заживали раны от пыток, болело все тело, разламывалась от боли голова. Каждый раз казалось, что с допроса не вернуться живым. Сидящие с ним заключенные тоже были истерзаны. Никто не знал, в чем их обвиняют, чего от них хотят. Чтобы заглушить крики мучеников во время допроса, заводили все моторы выставленных вокруг тюрьмы тракторов.
С каждым днем выдерживать пытки было все труднее. Юсуф Алиевич пытался покончить с собой, его спасли, но после этого надели на него наручники.
Одного следователя сменял другой, но методы ведения допроса оставались прежними.
– На последнем допросе, обвиняемый Амиров, вы дали показания, что вас вербовал в буржуазно-националистическую партию Самурский. Когда это случилось и где?
– Я этого не говорил, это выдумка самого следователя!
– Значит, ты отказываешься от своих слов? Не говорил, так теперь скажешь! – пригрозил следователь и, схватив руки Юсуфа Алиевича, вонзил под ногти иголки. В глазах потемнело, Юсуф Алиевич упал. Следователь облил его водой из графина.
Окровавленного, его бросили в камеру. Через несколько недель вновь вызвали к следователю, объявили, что ему назначается наказание “стоянка”. Он, мужественно перенес и это. Последний раз стоял девять суток. Вдобавок к этому избивали, всячески унижали, добиваясь чудовищного “признания”.
В одну из ночей пришел молодой следователь-практикант по фамилии Вос. Каждый дежурный следователь старался вырвать у заключенного “признание”. За это получали поощрение. Вос тоже принялся за побои, тыкал в нос и губы горящие папиросы. Юсуфу Алиевичу стало плохо, и он упал. Вос схватил его за волосы и стал таскать по полу.
“Стоянка” продолжалась пятые сутки. К вечеру дежурить пришел начальник Лакского райотдела НКВД Мусаев. Раньше он квартировал в доме Амировых. Теперь стал требовать показания у бывшего друга.
– Мне не в чем признаваться, и ты это знаешь.
– За это тебя и бьют. Если я тебя не побью – подумают, что я сочувствую тебе или связан с вами.
Утром при смене дежурства в присутствии других следователей Мусаев избил Амирова.
Так продолжалось два с лишним года. Следователи были удивлены твердостью духа этого человека. Он стойко выдерживал все глумления, издевательства и не сдавался.
6 января 1940 года выездная сессия Северо-Кавказского Военного трибунала судила группу из девяти человек, среди которых был и Ю. Амиров.
Заключенные были уверены, что их не оставят в живых, и потому решили рассказать на суде обо всем, что они вынесли в стенах тюрьмы, какими способами выбивали из них нужные показания.
Юсуф Алиевич не считал себя обвиняемым, скорее он выступал как Обвинитель. Судьи были удивлены его юридической грамотностью. Он говорил не столько о себе, сколько о товарищах, сидящих рядом на скамье подсудимых. Говорил о всех зверски замученных, безвинно погибших, рассказывал о пытках. Это была последняя возможность высказать правду.
Через три дня суд оправдал всю группу.
Песни Мукминат
Когда раздались первые такты бубна, все вокруг меня примолкли, а при первых звуках яркого и сочного голоса стих веселый праздничный гомон свадьбы. Не верилось, что это поет пожилая женщина не просто страстная, а пламенная песня будоражила душу…
Послушайте меня, друзья, Хоть боль души моей Пересказать нельзя. От горячих слез моих Снег в горах растаять должен, От тоски моей и стонов Скалам в пору расколоться… Но скаты снега, не тают. Не шелохнулись и скалы. Знать на горький стон души У них терпения хватает…Улучив минуту, я познакомилась с певицей. Мукминат Махмудова – уроженка селения Караша Лакского района. Меня заинтересовала ее судьба тогда же договорились с ней о встрече.
Долго беседовали мы. И встали передо мной во всей красе и женская стойкость, и верность, и удивительная одаренность обыкновенной сельчанки.
Мукминат была единственной дочерью Эфенди и Марьям Махмудовых. Детство текло беззаботно: училась в школе, дома помогала родителям соседям старушкам – выполняла самую трудную для них работу, носила им воду. И всегда за любой работой пела, так у нее с раннего детств повелось.
По соседству с ними жил парень по имени Абуталиб, очень любил он слушать ее песни. Но пришло время и Абуталиб уехал в Саратов к старшему брату и поступил там учиться в техникум.
Через год Абуталиб вернулся в родное село, приехал, чтобы попрощаться с родителями, родственниками и друзьями – его призывали в армию. И тут Абуталиб узнал, что Мукминат, которая впала в его душу с самого детства, сватает ее родственник по имени Гусейн и что девушке вот-вот кольцо обручальное наденут. С самого утра подкарауливал Абуталиб на улице в надежде поговорить с Мукминат, но до самой ночи так и не появилась соседка. Так вышло и на второй день. Вечером он выяснил, что вместе с матерью с раннего утра работает она в поле и поздно возвращается. Он стал прислушиваться, ожидая возвращения Марьям и Мукминат. И, когда услышал их голоса, рискнул и пошел прямо к ним.
Встретила Абуталиба, бабушка Мукминат, веселая и старая Пати с вязаньем в руках, пригласила войти в дом, поздравила с приездом.
– Да вот, бабушка Пати, завтра я уезжаю служить в армию, зашел попрощаться с вами, – сказал Абуталиб.
– Вах, вах, вах, сын мой! Дай бог тебе здоровья. Неужели тебе на самом деле в армию пора? Нет ли тут какого-нибудь харама? – не унималась Пати. Но убедившись, что сосед не шутит, позвала всех домочадцев, велела накрыть скатерть. Тут, наконец-то, увидел Абуталиб веселую и озорную Мукминат. Легко текла беседа за чашкой чая.
– А помнишь, Абуталиб, – спросила Пати с усмешкой, – как Марьям уговаривала тебя: “Иди, голубчик, покачай люльку моей дочки, а как она вырастет обязательно за тебя замуж отдам….” А ты спрашивал – правду ли она говорит? Марьям клялась, что не обманывает, и ты бежал к нам качать люльку Мукминат. Помню, однажды я в шутку сказала, что Мукминат мы отдадим за Гусейна, а ты разозлился, перестал укачивать и убежал. Такой смешной ты мальчик был. Помнишь? А теперь на самом деле моя шутка правдой оборачивается, мы ведь действительно собираемся выдать Мукминат за Гусейна засмеялась громко бабушка Пати, а за нею и все остальные.
Одна Мукминат не смеялась, зарделась, что маков цвет. Абуталиб промолчал. Когда Мукминат стала выносить убранное со скатерти, Абуталиб осторожно вышел за ней и попросил выйти потом на улицу. Поговорить надо. Абуталиб попрощался с родителями и бабушкой Мукминат и с ней самой – тоже. И молча вышел. А бабушка Пати вслед ему сказала: – Странно, ему сообщили, что выдаем Мукминат замуж, он даже не поздравил.
Вскоре Мукминат вышла за ворота и Абуталиб признался ей, что он много лет думает о ней.
– Я ни о ком не думаю, никого не люблю, Абуталиб. И мне все равно за кого выйти замуж, – ответила Мукминат.
Абуталиб стал ее просить подождать хотя бы год, не давать слово Гусейну, а через год он приедет в отпуск из армии и сам оденет ей кольцо. Мукминат пообещала подождать год.
Стали приходить от Абуталиба письма из армии. Сначала он адресовал их всей семье Махмудовых, а затем пошли письма и лично Мукминат, что не понравилось Гусейну и его родным. Они стали настаивать, чтоб сыграть поскорее свадьбу Мукминат и Гусейна. Но Мукминат наотрез отказалась выходить замуж раньше чем через год.
Теперь девушка с нетерпением ждала писем Абуталиба, стала уделять больше внимания его родителям, оставшимся без помощников в домашнем хозяйстве. Старший брат Абуталиба Магомед с семьей жил в Саратове.
Из-за того, что Мукминат отложила решение о замужестве, между ее родителями возникли разногласия. Отец всецело стоял на стороне Гусейна, который настаивал на ускорении свадьбы, а мать всецело стояла на стороне дочери.
Харам – что-нибудь незаконное.
– Что же мне теперь, прибить ее за то, что замуж не хочет идти? Как мне потом быть, если у меня кроме нее нет других детей? – говорила Марьям. Вот так и вышел в семье разлад. Разговоры о замужестве Мукминат постепенно заглохли. А Мукминат уже прониклась новым чувством, днем и ночью думала об Абуталибе, постепенно душу и сердце ее заполнила большая любовь. Ей было тогда шестнадцать лет. Она написала ему, что думает только о нем, ждет только его, готова лишиться жизни, чем выйти замуж за другого. И вот получает она от Абуталиба долгожданное письмо, написанное в стихах. Оно сохранилось до наших дней.
Фиалка с дивным ароматом, Выросшая на краю валуна, Благоухание твое до меня доносится Но рука моя до тебя не доходит. В пустыне пробившийся Прохладной воды родник, Журчащий голос твой слышу, Но губами к тебе не приник. Огонь души моей может Остудить твоя прохлада, Когда пылаю я в огне любви, Другому не давай прохлады. Ты как солнце красное, Выглянувшая, чтоб растопить снега. Когда мое тело заледенело, Не грей никого другого.И Мукминат послала Абуталибу первый ответ в стихах.
Оттого, что я не рядом. Ты об этом не грусти, Разве солнцу изменив, Я на звезды не посмотрю? Если ты в мой сад придешь Попросить цветок сорвать, Тебе не только тот цветок Душу свою могу отдать, Если жажда будет мучить, И напиться ты попросишь, Выпить дам глаза свои. Дам выпить вместо воды. Самый вкусный в горах Лекувалинский родник, Всех желающих оставим Мы, ни на кого не глядя, К его струям припадем. Пусть слово по полю летит, Голубка на небе парит. Друг мой, помни сделаю я, Все, что желает душа твоя.Не суждено было Абуталибу через год приехать в отпуск, а через два года – вернуться из армии. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война и Абуталиб был в числе первых защитников Родины. Ушел на фронт из Саратова и старший его брат – Магомед. Как и всех людей нашей страны, беда коснулась и односельчан Мукминат. На фронт ушли из Караша все, кто мог держать оружие!
Пришло долгожданное письмо от Абуталиба. Верьте, писал он, враг будет скоро разбит, и мы с победой вернемся домой.
Абуталиб писал редко и очень коротко, в основном спрашивал о здоровье близких.
В сорок втором в Караша пришло извещение, что старший брат Абуталиба – минометчик Магомед пал смертью храбрых на поле боя.
Горькая весть сломила его отца, он заболел, и вскоре умер. Никто не решался сообщить Абуталибу эти горькие вести. Абуталиб видно сердцем чуял недоброе. И в каждом письме стал спрашивать о брате и об отце. Он жаловался Мукминат, что отец почему-то не пишет, спрашивал, получают ли письма от Магомеда. Если его адрес изменился, просил он, сообщите, ему.
Мукминат написала, писем от Магомеда нет и неизвестно, где он. Потом оборвались письма и от Абуталиба. После смерти старшего сына и мужа мать Абуталиба, Уди, совсем слегла от горя. Мукминат старалась быть рядом с ней, помогала по хозяйству, поддерживала добрым словом. Как только Мукминат появлялась, Уди неизменно задавала один и тот же вопрос:
– Неужели и тебе не написал письмо Абуталиб? Дочка моя, я скоро умру, не дождавшись этого письма. – И Мукминат ласково и бережливо успокаивала ее, рассказывала о других, что тоже не получили ни одной весточки из армии, а потом приходили письма из госпиталя, были и другие случаи. Должно быть и Абуталиб попал в госпиталь или в такое место, откуда письма и посылать нельзя. А сама, уйдя домой, переживала не меньше, чем мать Абуталиба, и успокоить ее было некому, она не смела никому открыть душу, даже порой делала вид, что письма Абуталиба для нее – это просто развлечение, ведь она ему не невеста, не близкая родня, он для нее – односельчанин и сосед. Болела у нее душа. Знала, что люди поговаривали, что после смерти Магомеда по горскому обычаю, его младший брат Абуталиб должен жениться на его жене. А вскоре приехала из Саратова – жена Магомеда и стала жить в их доме, как полноправная хозяйка. Ее родня постоянно напоминала Уди: жена Магомеда должна вместе с ней ждать возвращения Абуталиба с фронта, а самой Уди следует уговорить сына взять в жены именно ее, а не другую.
– Дай, Аллах, чтобы мой Абуталиб вернулся живым, а там посмотрим, – говорила Уди. Она знала об отношениях Мукминат и Абуталиба, знала как окрепла их письменная связь и ей больше нравилась Мукминат, нежели невестка. Легче становилось на сердце, если удавалось встретиться с Мукминат и поговорить об Абуталибе.
Еще до того как перестали приходить письма, Уди попросила Мукминат собрать Абуталибу посылку из вещей, приготовленных ею. Там были теплые носки, варежки, безрукавка и сухофрукты. Собирая посылку, Мукминат положила туда и вышитые ею носовые платки, и теплый шарф, ею же связанный. А вообще карашинские женщины часто посылали на фронт теплые вещи, связанные своими руками. Когда эта посылка дошла до Абуталиба, он был безмерно рад, ибо понял, что ее отправляли вместе мать и Мукминат. Он написал Мукминат, благодарил ее за подарок, что почувствовал будто не посылка, а сама она навестила его. А еще он писал, что образ ее всегда с ним. И хотя уже почти полгода не было от Абуталиба вестей, девушка не знала, что и подумать, но сердце подсказывало: Абуталиб жив! Но где он, что с ним? Маялась думами.
…В один счастливый день почтальон принес письмо от Абуталиба, да еще сказал, что и мать тоже получила от него весточку. Значит жив!
Мукминат от радости место себе не находила. Прежде чем прочитать свое письмо, она побежала к Уди. И в открытые ворота увидела, что невестка уже читает ей письмо, а Уди слушает, плачет да приговаривает: “Хвала Аллаху!” чуть ли не после двух-трех строчек ей прочитанных.
Мукминат вернулась домой, пошла к себе и тайком от всех стала читать письмо Абуталиба, вытирая катящиеся градом слезы…
Абуталиб писал, что попали в окружение, потому и не мог ни он, ни его товарищи отправить письма. А там и ранило его, да еще и контузило, вот уже несколько месяцев лежит в госпитале. Письмо было написано чужой рукой. Мукминат подумала: он или очень тяжело ранен, а может рука искалечена… Она показала письмо своей матери и мать посоветовала послать ему посылку в госпиталь, ведь там с едой должно быть плохо, как и везде. Они собрали кое-какие, непортящиеся продукты: сушенное мясо, орехи, баночку меда, топленое масло, все это собрали у родных, знакомых и отправили посылку. Мукминат вложила туда и письмо, и сочинила стихи, чтобы подбодрить его:
Олень мой бесценный В недоступных горах, Узнав, что ты ранен, Исстрадалась я. Если не приходят Письма от тебя, Мысли мои чернеют Тридцать раз на дню. Исчез бы под корень Фашистский род, А Гитлера очаг Пусть молния сожжет. Поправляйся поскорее, дорогой, На побывку приезжай В дом родной.Почти месяц ждала Мукминат ответа. Абуталиб сообщил, что поправляется, а значит и в госпитале теперь долго не задержится. И самое главное, сам писал, своей рукой! Значит, на самом деле поправляется.
Мукминат работала в колхозе наравне со взрослыми женщинами, порой ночью убирала личный участок, а днем – ходила в колхоз. Фронту нужен был ударный труд.
Холодными зимними вечерами многие женщины села вместе вязали, шили, шерсть чесали. Вместе и работалось веселее, да еще керосин экономили. Иной раз у одной лампы человек двадцать собиралось, делились новостями, кому и откуда известие пришло, обсуждали, что по радио говорят. А радио-то было только в райцентре, туда и ходили сельские активисты за последними новостями.
А потом Абуталиб сообщил, что из госпиталя вернулся в свою часть, писал: освобождаем Украину и до победы совсем недалеко. Как и всегда, в письмах он стремился передать свою уверенность в скорой победе, ободрить родных и сельчан. А победа все не приходила…
Минуло три очень длинных года, потому что длинными становились все месяцы и даже дни ожидания и страха за фронтовиков. Гибли карашинцы. Не было в селе женщины, не одетой в траур: у кого сын, у кого брат, у кого родственник пал в бою.
После письма с Украины долго не приходила весточка от Абуталиба. Вести с фронта и письма говорили о победном продвижении нашей армии на запад. Радовались карашинцы. Только Мукминат трудно стало улыбаться вместе со всеми, на душе было тяжело, четыре месяца прошло без писем от Абуталиба. Уди пекла традиционные лепешки и по пятницам раздавала садака, просила молиться за сына. И сама молилась – вернись с фронта, сынок.
При каждой встрече с Мукминат Уди спрашивала: “Доченька, не снится ли тебе Абуталиб? Если видишь его во сне, скажи, как он тебе снится? А то я сны свои до утра забываю… Голова уже не та. Но душа моя чует что-то неладное.”
Мукминат успокаивала ее рассказами о своем хорошем сне и говорила: ”Абуталиб жив. Будь с ним что-нибудь страшное, я обязательно почувствовала бы”.
Минуло еще несколько месяцев, и в один счастливый день пришла радостная весть – победа! Все высыпали на улицу, поздравляли друг друга, плакали, расцветилось селение самодельными красными флагами. Люди испекли лепешки и раздавали садака, девушки оделись в самые нарядные платья и пошли к роднику.
Мукминат радовалась со всеми, но не смогла она нарядно одеться, улыбаться и танцевать. Тяжелый камень лежал на душе, градом катились слезы. Пряталась девушка даже от домашних. Вечером мать сказала:
– Уди сидит у своего порога с пустым кувшином, спрашивает, не пойдешь ли ты за водой.
Мукминат умылась, приоделась и пошла. Испугал ее вид Уди: глаза – красные, лицо отекшее, видно тоже весь день проплакала. Мукминат хотела успокоить ее, но Уди первой сказала:
– Вижу, дочка, и ты тоже плакала… Спасибо тебе, что делишь со мной мое горе, а если его разделить пополам, оно легче становится… – И они обе расплакались. Спохватилась девушка:
– Почему мы плачем, как-будто Абуталиба уже нет? Может он снова в госпитале лежит, может в плен попал и не может ничего сообщить. Если бы с ним случилась беда, нам сообщили бы, как всем сообщают. Не имеем мы права терять надежду, – торопливо говорила Мукминат.
– Вай, Аллах, доченька! Я не только по Абуталибу плачу, ведь у меня теперь никого нет: умер муж, погиб мой дорогой сын Магомед, а теперь и от Абуталиба нет вестей. Будь он жив, сообщил бы. Неужели так и сгорит мое гнездо, развалится мой очаг, проклятые фашисты! – разрыдалась Уди.
– Душа подсказывает мне: Абуталиб жив. Что делать, погибших уже не вернешь. Плохая весть не обошла ни один дом. Что делать! Ты потерпи еще, матушка Уди. А то давай в Кумух, в военкомат съездим, может они сумеют что-нибудь разузнать, – предложила Мукминат, взяла кувшин и пошла за водой.
Через несколько дней председатель колхоза Абакаров поехал в Кумух, чтобы разузнать о судьбе тех, от кого нет никаких вестей.
Все матери, сестры вышли на окраину села и с нетерпением ждали его возвращения. Когда лошадь Абакарова показалась из-за горы, все оживились. Но председатель еще издали слез с лошади и пошел к ним очень медленно и молча. Женщины поняли: нет хороших вестей.
– Там ничего не знают о них, обещали выяснить, записали все фамилии и части, где они служили, и адреса, откуда поступило последнее письмо. Говорят, очень много наших в плену у немцев, их обменивают на немцев, что у нас в плену. Потерпите еще немного, теперь же легче будет что-нибудь узнать.
Вернутся наши сыновья домой. Аминь, – сказал Абакаров.
Минул после Победы год, и летом сорок шестого пришло, наконец, письмо от Абуталиба. Писал он матери из Таджикистана. Читали его всем селом, радовались всем селом. Абуталиб писал, что был в плену у немцев, в концлагере почти два года находился, что недавно их обменяли на немецких военнопленных и вернули на Родину. Домой вернуться не разрешили: отправили на рудники. Абуталиб писал, что он и несколько лакцев из разных сел вместе. А еще он просил – верьте, за нами нет вины: не изменяли Родине, не предавали, не трусили в бою. Просил, чтобы родные были уверены в его честности, чистоте и правоте.
Об этом же он написал вскоре Мукминат: “Не стыдись того, что я в заключении, нет за мною ничего, как и за теми, кто тут со мной. Это какая-то ошибка, что военнопленных сослали, приняв их за изменников”.
И Мукминат ответила ему: “… Где бы ты ни был, слава Аллаху, что ты жив! В твоей честности и правоте я никогда не сомневалась, я готова разделить с тобой твои трудности и горе, ибо горе, разделенное пополам, легче переносится – это сказала твоя мать. Чтобы с тобой не случилось, с этого дня я всегда буду рядом с тобой…” Абуталиб находился на таджикском руднике Табашар. Все ждали, что скоро всех бывших пленных отпустят домой. Но шли дни за днями, за месяцем месяц, а в судьбе Абуталиба не было перемен…
Однажды Мукминат нашла Уди в слезах.
– Вот, дочка, – протянула она ей письмо сына. – Пишет, что ко всем его товарищам приехали родственники. Ама-а-а-н! Дорогой мой сын, отца бы послать к тебе, но его нет в живых, брата бы твоего послать, да убили его фашисты. Самой ли мне поехать к тебе? А я даже по воду сходить не могу. Что же мне делать, родной мой сынок?! Будь у меня крылья – прилетела бы…
“Был бы у меня брат, чтобы послать его к Абуталибу”, – подумала Мукминат. Дома она рассказала матери о горе Уди, поделилась мыслями.
– Конечно, отправили бы брата, где его взять? Как твоему отцу сказать о беде Абуталиба? С тех пор, как ты не вышла за Гусейна замуж, обижен на тебя и со мной грызется. Теперь он скажет: “Так вам и надо!”
– Тетя Уди говорит, будь у нее здоровые ноги – пешком бы до него дошла. У меня крепкие ноги, почему бы мне не отправиться туда?
– Что ты, дочка, что ты! Не бредишь ли ты? Потише говори, родная, чтобы никто не слышал!
– Почему же бред? Я по-русски кое-как могу разговаривать, могу спросить дорогу. У Абуталиба теперь ни отца, ни брата, некому к нему поехать. Разве мы ему не родственники и не ближайшие соседи? Если бы кто-нибудь из нашей семьи попал в такое положение, разве Абуталиб не поехал бы?
– Молчи, дурочка! Пока я жива, ты из родного аула шагу не ступишь. Когда я умру, делай, что хочешь. А пока, пожалуйста, молчи, чтобы отец этого разговора не услышал, – сказала перепуганная мать и заплакала.
Мукминат и не думала отказываться от своей мысли. Написала Абуталибу, и он прислал радостный ответ, написал: “Ты не за решеткой, как я. Ты сможешь дойти до меня”.
Вслед за этим Абуталиб прислал письмо и ее отцу – Эфенди. Он просил Эфенди один раз в жизни заменить ему отца, которого теперь у него нет и привезти Мукминат к нему. А в новом письме к Мукминат сообщил, что он и его друг Газимагомед строят домик, чтобы было где остановиться гостям.
Эфенди не торопился с решением, написал Абуталибу, что идут полевые работы, вот к осени посмотрим…
Наступила осень, Эфенди молчал, и Мукминат решила поехать сама. Мать стала плакать, просить отца поехать вместе с ней.
“Вот обмолотим зерно, посмотрим…”, – ответил Эфенди. Намолотили зерно, прошел и октябрь, а Эфенди молчал. Тогда мать разозлилась и стала собирать дочку в дорогу.
– Там каторга, туда ссылают преступников! Ты что, хочешь послать дочь на верную гибель? – возмущался отец.
– Разумеется, заключенных не ссылают в отцовский дом, но если Абуталиб, который столько воевал, перенес концлагерь, был тяжело ранен, но живет там и переносит все тяготы каторги, почему же наша дочь, здоровая и молодая, не сможет перенести эту поездку?
И еще, Абуталиб сейчас находится в большой нужде, ему некому помочь, а на войне женщины помогали даже совершенно незнакомым солдатам. Почему же наша дочь, которая столько лет была с ним в дружбе, не должна помочь ему в это тяжелое для него время, хотя бы как лакцу, как соседу, как родственнику? – все не унималась мать, собирая дочку.
– Хорошо, я поеду с ней, но зачем ты собираешь в дорогу столько барахла, зачем одеяла, зачем подушки, мы там побудем несколько дней и вернемся обратно, – сказал отец.
– А что, несколько дней вы будете на голых камнях спать, ведь там каторга, как ты сам говоришь, не отцовский дом. Будете возвращаться, оставите Абуталибу все это, – настаивала мать.
Довольно большую связку вещей приготовила и мать Абуталиба. Холодным осенним утром, уложив вещи на ослов, двинулась Мукминат с отцом из селения к шоссейной дороге. Потом на грузовой машине доехали до Буйнакска.
Мукминат вспоминает, как она в Буйнакске первый раз в своей жизни увидела поезд и была немало удивлена. Так и поехала поездом до Махачкалы. С трудом взяли билет на поезд в Баку, а из Баку надо было перебираться в Красноводск пароходом. На вокзалах скопилось множество народу, везде плач, везде крики, воровали все, что не углядишь.
– Видишь, что творится на белом свете? А ты поеду, поеду! Ты бы из Буйнакска дальше не смогла доехать. Там же ограбили бы. К тебе жулики не подходят, потому что я с тобой рядом, да и с кинжалом, – говорил отец. Он был прав, кругом так и рыскали шайки разбойников. Средь бела дня грабили одиноких женщин, старух, и никто ничего не мог делать.
Доплыли и до Красноводска и оттуда поездом доехали до станции Урусовка, но не удалось прокомпостировать билеты. Трое суток мыкались на вокзале, тогда Эфенди вышел на шоссейную дорогу, ведущую в Ленинабад, и стал ловить машину. Оставалось уже совсем немного ехать, а трудности были неимоверные. Мукминат переживала, волновалась и нервничала, но видя, в какое затруднение она ввела отца своего с этой поездкой, молчала и виду не подавала, как ей плохо да трудно. Одна мысль была в голове – лишь бы доехать до Абуталиба и увидеть его своими глазами.
«Нет, не десять дней прошло! Десять тысяч дней прошло! А дороге этой длинной конца-края не было…» напишет потом Мукминат, вспоминая эту тяжкую дорогу.
Наконец-то доехали до Ленинабада. Там узнали, что до рудника Ташабар идут только грузовые машины и самосвалы, везущие руду. Попался самосвал, и пришлось отправиться на нем. Шофер их довез до канцелярии рудника. Женщина-диспетчер сказала:
– Нет, нет, вы не доберетесь туда, где работает Махмудов! Я дам ему вызов через шофера, а вам придется подождать несколько часов.
Было очень холодно, кругом все замёрзло, в диспетчерской горел в маленькой печи уголь и было тепло. Эфенди велел Мукминат угостить женщину-диспетчера чем-нибудь. Мукминат вытащила домашнюю халву и чурек, чему женщина очень обрадовалась. Сразу поставила она чайник на печку и напоила их чаем. В диспетчерскую заходило много людей: здесь отмечались все проезжающие шоферы.
Мукминат сидела возле окна и смотрела на дорогу, откуда по ее мнению должен был появиться Абуталиб. И вдруг она услышала разговор на лакском языке и обернулась – отец разговаривал с каким-то стариком. Мукминат решила: это один из тех лакцев, что находятся вместе с Абуталибом, и снова отвернулась к окну.
– С приездом, Мукминат! – сказал подойдя к ней тот же самый старик. Голос его показался ей до боли знакомым. Она взглянула в его глаза и узнала. Абуталиб! “Боже мой, что сделали с ним фашисты, неужели это мой любимый Абуталиб!” – обожгла мысль. Она протянула ему дрожащую руку, ручьем хлынули слезы.
– Зачем теперь плакать? Мечта наша сбылась, мы живы и встретились еще на этом свете? – сказал Абуталиб. Голос его дрожал от волнения. Руки его были костлявые и длинные. Впалые щеки и длинная борода делала его неузнаваемым стариком, костлявые тонкие руки его дрожали.
– Что же с тобой такое случилось? От тебя и четверти не осталось, тяжелое, видимо, ранение было, и долго болел? – спросил его Эфенди.
– Было и ранение тоже, но я не у тетки в гостях, дядя Эфенди, а в немецком концлагере был. Из нас, пленных, и одного из десяти в живых не осталось. Нам еще повезло, мы счастливы, что ступили ногой на родную землю…
Эфенди тяжело вздохнул, а Мукминат все плакала. Дежурная угостила и Абуталиба чашкой чая. Он ввел Мукминат с отцом в свое пристанище. А “домик”, о котором писал Абуталиб, была хибара, больше напоминающая пещеру. Они и построили ее, выпилив изнутри горную породу, и дополнили ее сбоку подпорными стенками, а сверху намостили крышу.
– Если бы я знал, что вы приедете сегодня, я бы с утра печку растопил. Эту печку мне смастерил Газимагомед, я и дров немного припас к вашему приезду, – сказал Абуталиб и показал на маленькую железную коробочку посреди комнаты, возле которой лежала кучка дров.
– Права оказывается была моя жена, что снаряжая нас сюда, все необходимое положила в хурджины, кажется, даже спички положила. А вот дрова, точно помню, она позабыла, – пошутил Эфенди.
Абуталиб засуетился и стал растапливать печь. Когда он вышел, Мукминат спросила отца: “Знает ли он, что погиб Магомед, что он ничего о нем не спрашивает?”
– Я думаю, догадывается, хотя Уди говорила, что он ничего не знает. Когда Абуталиб вошел в комнату и стал возиться с чайником, Эфенди спросил его, знает ли он о своих домашних, пишет ли ему мать.
– Да, мать мне писала, но о смерти отца и брата я узнал от посторонних людей, – сказал тихо Абуталиб. Тогда Эфенди встал, вытянул обе руки вперед и прочитал алхам, тоже самое сделала и Мукминат.
– Ты извини нас, сынок, мы думали, что ты ничего не знаешь и поэтому не стали сразу тебе выражать соболезнование, не хотели начинать с печальных известий. Прими наше соболезнование, желаем тебе и матери твоей здоровья и долгих лет жизни! Бог отнял у тебя отца и брата. Что делать, нет теперь у нас семьи без печали. Будь, проклята жестокая война.
В этот день все мужчины-дагестанцы собрались к Абуталибу, негде было сидеть, и поэтому все стояли вдоль стен, рассказывали о пережитом.
– Насколько я понял, вам здесь негде купить себе что-нибудь съестное. Как может больной, ослабленный мужчина делать эту тяжелую подземную работу, получая в сутки только восемьсот граммов хлеба и не имея другой пищи? – удивлялся Эфенди.
– Мы в концлагере делали еще более трудную работу, обходясь в сутки кусочком черного хлеба, чуть больше спичечной коробки.
И если каждый день он доставался, радовались тому. Еще терпели издевательства фашистов. Слава Аллаху, выжил в той обстановке. Когда нас водили на работу, немцы заставляли нас подняться на один холм, затем с вершины того холма прикладом ружья толкали нас и сбрасывали вниз, если упавший не мог подняться, его пристреливали на месте, так как он уже не работник. А тех, кто смог подняться, отправляли на работу. Бывало, что и на холм подняться не могли заключенные, этих на полпути расстреливали, – сказал Газимагомед.
Однажды, проснувшись утром, я не нашел своего котелка для супа, его у меня украли. Это грозило гибелью. Ибо ничего другого, чтобы налить пищу, у меня не было. А если котелка нет и еду не давали.
Утром я съел кусок хлеба, что оставил с вечера, обычно нам утром еду не давали, и пошел на работу. К обеду принесли суп и стали раздавать. Суп, конечно, был не суп в прямом смысле, так две-три семечки и чуточку зелени в кипяченой воде. Все идут туда, где раздают суп, а я с голоду умираю. Пошел я тоже за супом, и когда дошла до меня очередь, протянул свою шапку, вот мол налейте сюда. Налили. Положил под шапку руки и бегу назад быстро, чтобы суп не весь вытек. А кушать не разрешалось ближе, чем на расстоянии трехсот шагов от того места, где раздавали. Если кто и начнет есть, не пройдя положенного расстояния, его тут же расстреливали. А я бегу и думаю, вот бы направить в рот себе эти капли, что падали вниз, но, зная, что застрелят меня, бегу. Наконец-то, добрался до положенной черты, съел два-три глотка, что остались в шапке, и еще на дне оказалось несколько семечек, это тогда было большое богатство.
Вечером мои друзья нашли где-то котелок и принесли мне. В лагере ежедневно умирало много людей, котелки умерших давали вновь прибывшим, так видимо и мне достался новый котелок.
До полночи беседовали собравшиеся земляки и позабыли, что рано утром надо на работу. Бедные, они все считали, что нынче находятся в раю, по сравнению с тем, что было в концлагере.
Прошло несколько дней, Абуталиб стал просить Мукминат, чтобы она осталась с ним здесь еще на несколько месяцев, говорил скоро наступит весна и кругом будет много съедобной зелени, да и ей можно будет ездить на базар в Ленинабад, она же не в заключении, как он. Мукминат была согласна остаться с ним, даже работать с ним вместе в рудниках, но отец стал собираться в обратный путь. Мукминат сказала отцу, что решила остаться еще на некоторое время.
– Нет, нет, что ты говоришь?! Я раньше сам даже думал оставить тебя здесь. А как увидел эти условия, понял, что здесь невозможно жить. Ты собираешься заставить его делить с тобой эти восемьсот граммов хлеба, что ему выделяют в сутки? Как же он будет работать под землей? А другой еды здесь негде взять. В этом проклятом месте ты найдешь себе могилу, твердил отец.
– Я тоже буду работать, мне тоже будут давать хлеб, если они, такие больные и худые мужчины, переносят эти условия, почему я не смогу перенести? – настаивала на своем Мукминат.
Абуталиб тоже стал просить Эфенди, чтобы он разрешил Мукминат остаться с ним. Он надеялся, что скоро его вовсе освободят, и они вместе приедут домой. Эфенди же не сказал ни да, ни нет и стал молча собираться домой и, уезжая, сказал дочери: “Раз ты меня не слушаешь, не надейся больше и на мою помощь.”
Уехал Эфенди обратно очень недовольный и расстроенный. Мукминат осталась с Абуталибом. А его товарищи взялись построить им комнату побольше. Газимагомед смастерил ей кастрюли, тарелки и даже половник. Все радовались, что наконец-то появился человек, которого можно будет посылать на базар и купить им что-нибудь. Когда же узнали, как красиво поет Мукминат, это стало для них величайшей радостью. Они столько лет не слышали родной музыки, родных песен!
Теперь почти каждый вечер Мукминат пела им, и они чувствовали себя счастливее тех, кто сидит в настоящих театрах, и слушает хорошие концерты. Они говорили: “Наша карашинка рождена, чтобы восславить всех лакских женщин”.
Наступила весна, Мукминат стала ходить в горы и собирать зелень. Все дагестанцы приносили ей муку, у кого, сколько было, чтобы она приготовила курзе. Мукминат готовила их очень хорошо, всё ели с удовольствием, считали, что эта еда для них – путь к исцелению.
Однажды вернувшись с гор, куда она ходила собирать траву, Мукминат обнаружила, что их обокрали. Украдено было все подчистую. Осталось, только то, что было на ней одето. Мукминат в это время ждала ребенка. Кинулись на поиски и обнаружили, что какая-то женщина, приехавшая туда работать месяца два тому назад, набрала два мешка вещей и удрала на машине с рудой. Искать ее поехали в Ленинабад, но она бесследно исчезла.
Муминат очень переживала, нет для будущей крохи ни пеленки, ни распашонки, ни одеяла – все приготовленное – украдено.
Когда мужчины рассказали Абуталибу, возвращающемуся с работы о случившемся, расстроился не столько тем, что их обокрали, сколько опасался переживаний Мукминат. Бегом побежал домой и застал Мукминат в слезах.
– Ты что с ума сходишь? Зачем из-за тряпок плачешь? Подумай, какой ты наносишь этим вред нашему ребенку. Если вор сделал тебе во вред на рубль, ты сама себе сделаешь на тысячу. Опомнись! – успокаивал ее Абуталиб. Тотчас же пришли лакские мужчины и принесли талоны, которые им дали на одежду.
– Эти талоны сейчас нам не очень нужны, купите все, что необходимо вам, мы готовы отдать последнее, лишь бы Мукминат не расстраивалась, лишь бы она, как прежде улыбалась нам, – успокаивали земляки, стали вспоминать о гораздо больших неприятностях, что приходится переносить людям. Когда гости разошлись, Абуталиб сказал:
– Наше счастье я держу в руках, как горящую свечу, боюсь, как бы случайное дуновение не потушило ее… Ах, негодяйка, воровка, которая осмелилась дунуть на мою свечу, попадись ты мне когда-нибудь!
Мукминат вспоминает, эти слова, сказанные Абуталибом самому себе, словно разбудили ее ото сна. Стала ругать сама себя за слезы. С тех пор она старалась скрывать все неприятности, чтобы его, не расстраивать. Потом оказывалось, и он от нее скрывал неприятность.
– Вот так душа моя заставляла меня шагать по жизни, пряча все плохое за спиной, перенося на своих плечах и преподнося на ладонях все хорошее, приятное. Встречаю я теперь молодых, что выдумывают всякие причины для ссоры: этого нет, того не хватает, делают бурю в стакане воды. А я им говорю, все у вас есть, нет только любви и жалости друг к другу. Истинная правда, когда между мужем и женой есть любовь и согласие, все и хватает и во всем везет.
Как-то беременная Мукминат спросила Абуталиба, кого бы он хотел, сына или дочь? Он ответил: “Какая разница, что бог даст, то и будет. Вообще-то на этот раз хотел бы сына, чтобы дать имя Магомеда”.
Родился сын и Абуталиб так сильно радовался, что Мукминат даже перепугалась, нельзя так сильно радоваться. Он любовался ребенком, что солнышком ясным, лелеял его на руках, боялся уронить, боялся, что его могут украсть, и с работы летел домой, быстрее хотелось увидеть своего малыша. Но вскоре ребенок заболел. Абуталиб бегал, искал врача или кого-нибудь, кто мог помочь малышу… Но так и не смогли найти медработника, чтобы обследовать ребенка. Первенец их умер.
“Ах, мой дорогой и несчастный брат! Только появился снова на свет, и второй раз умираешь!” – плакал Абуталиб.
Видя, как он убивается, Мукминат, хоть велико было горе ее – матери, старалась держаться и успокаивала Абуталиба.
Услышав о смерти малыша Мукминат, Эфенди упрекал жену: “Вот посмотришь, теперь она и сама умрет! Ты послала ее на мучения и несчастья на чужбине! Я предвидел все это!”
И мать написала письмо Мукминат, просила бросить все и ехать домой, а не ждать, пока отпустят Абуталиба. Когда его освободят, он тоже приедет. “Побыстрее возвращайся сама,” – умоляла мать.
“Как я могу бросить Абуталиба в такое тяжелое время? Кто его поддержит, кто поможет, если я уеду домой? Кто более чем он нуждается в этом. А если его мать нуждается в помощи, так вы там, в Караша, помогите ей сами, мы родственники ее, близкие соседи, если даже не считать, что сын ее мой муж…” – так писала Мукминат родителям и не поехала домой.
Она скрыла от Абуталиба требование матери, сказала, что дома переживают их несчастье, выражают соболезнование.
Если к заключенным приезжали родные – они непременно заходили к Мукминат, благодарили ее за участие к их близким.
В то время отменили талоны на одежду, и питание и можно было хоть и дорого, но купить самое необходимое в магазинах. Полегче жить стало людям. Заключенные теперь получали за работу больше. Мукминат научилась кое-как говорить по-таджикски и теперь ездила в Ленинабад на базар, покупала и себе, и другим все необходимое.
И снова запела Мукминат, как прежде. С тех пор, как Абуталиб узнал, что Мукминат снова ждет ребенка, он извелся, дрожа над ее здоровьем, предлагал поехать домой и там родить ребенка боялся, что в этих условиях и новый малыш может умереть.
Мукминат соглашалась вернуться, если доведется случай отправиться в Дагестан с одним из земляков. Одна ехать боялась, а мужа даже до Ленинабада не отпускали.
Никто из Дагестана так и не приехал, и второго ребенка она родила в той же хибаре. Снова родился сын. Назвали его Махмудом, в честь отца Абуталиба. Было решено: когда ребенку будет несколько месяцев, Мукминат уедет с ним домой.
Однажды явились на рудники сотрудники милиции и многих заключенных забрали в Ленинабад, в том числе – Абуталиба.
Ждала его несколько дней Мукминат, думала вот-вот вернется. Но шли дни, его не было, не вернулись и его товарищи. Некого даже было спросить, что случилось. Тайком от начальства съездил Газимагомед в Ленинабад. Узнал, что забрали их для следствия, будут судить, а потом может быть и освободят вовсе, когда узнают, что нет за ними никакой вины.
По настроению Газимагомеда и его состоянию Мукминат поняла дело обстоит не так просто, как он рассказывает. Она потеряла сон, извелась от переживаний. У нее стало пропадать молоко, а раз молока нет, чем кормить ребенка? Коровье молоко тоже невозможно достать.
Однажды Мукминат решилась и, оставив ребенка у знакомых, поехала в Ленинабад, разузнать все и хоть душу успокоить. В Ленинабаде много приезжих из Дагестана, были они из разных мест, но все хлопотали за своих близких, заключенных в тюрьму. Передач в тюрьме не принимали, свиданий не разрешали. Единственное смогли узнать: все их дела, как бывших военнопленных, переданы военному трибуналу. Вернулась Мукминат еще более подавленной.
Много раз после этого ездила Мукминат в Ленинабад в надежде хоть что-нибудь услышать или узнать. Но никто ее и слушать не собирался.
Мукминат вспоминает: “До сих пор я не знала, что я сама такая беспомощная, не приспособленная к жизни, а мой голос настолько слаб, что его не слышат ни милиция, ни следователи; ни тюремное начальство. Мои заявления ни до кого, ни доходили, никто на них не отвечал. Все, к кому я обращалась – были глухи и слепы. “И все же умудрилась она послать ему передачу. Из тюрьмы Абуталиб передал через кого-то записку и велел в ней забрать ребенка и ехать домой, а не ждать, пока его вопрос решится. Но Мукминат не могла уехать, она ждала определенного конца.
Через три месяца был суд. Всем заключенным присудили по двадцать пять лет тюремного заключения. Вместе с Абуталибом судили еще четырех лакцев: Гусейна Амирханова из селения Цийша, Давуда из селения Шуни, Сайгида Курбанова из селения Кара и Абдулла из Халакар. Все такие же без вины виноватые, как Абуталиб.
После суда разрешили увидеться с Абуталибом, но только через окошко. Абуталиб успокаивал Мукминат, что правда восторжествует, судили-то их неправильно. Просил ее держаться стойко и как можно скорее уехать домой, и сберечь сына. “Письмо напишу уже в селение с того места, куда отправят,” – говорил муж.
Ей стало немного легче, когда увидела Абуталиба, он ее успокоил, подбодрил и по дороге домой, на рудник, она строила планы, еще раз навестить Абуталиба, передать ему необходимые вещи, а затем уехать. Дома ее ожидал Газимагомед.
– Всех нас, – кто был в плену, собираются судить, – сказал он тревожно, – все, кто могут бежать, бегут отсюда, я бы тоже убежал, но не могу тебя оставить одну. Немедля собирайся в дорогу и попроси, чтобы отпустили меня проводить тебя хотя бы до Ленинабада, а там посмотрим, как сложатся обстоятельства.
Мукминат послушалась его, собрала в дорогу только самое необходимое, много нужных вещей, одежды и утвари пришлось бросить. Как везти что-нибудь, имея на руках ребенка. На утро, попросив разрешение отпустить Газимагомсда, проводить ее до Ленинабада, Мукминат выехала из рудника. В Ленинабаде Газимагомед быстро достал билеты на поезд до Красноводска, и сам тоже поехал с ней. Но, когда сели в вагон, предупредил, что его могут искать, и потому он будет прятаться.
В Красноводске Газимагомед посадил ее на пароход, а сам остался на берегу, сказал, что теперь пойдет, куда глаза глядят. И после этого Муктминат не видела его, не слышала о нем ничего.
С девятимесячным малышом приехала Мукминат в Караша и сразу пошла к свекрови. Лежала она парализованная, онемевшая от горя. В доме – никаких продуктов. Ни коровы, ни курицы – ничего не осталось в хозяйстве. Оставить больную свекровь и ребенка и работать в колхозе Мукминат не могла. Первое время спасала помощь матери продуктами, а отец считал себя в ссоре с ней. В селении ее называли женой изменника и врага, из колхоза продуктов не отпускали ни ей, ни свекрови.
Мукминат вышла как-то на работу, но аульское начальство намеренно ее отстранило от работы. Не давали ей заработать даже на кусок хлеба.
Наконец-то пришло от Абуталиба письмо из местечка Усть-Кут, что на берегу реки Лены. Абуталиб писал, что все нормально, работает в лесу. Сообщил он и о том, что все они послали в Москву просьбы пересмотреть их дело, и ждут ответа. Больше всего, писал он, тревожит его положение матери и ребенка, просил уберечь сына. О болезни матери он еще не знал. Не найдя в родном селе сочувствие к себе, Мукминат решила поехать в Сибирь к Абуталибу. Категорически отсоветовал он ей ехать к нему, даже обиделся на такую мысль.
Мукминат опять пошла в контору колхоза просить работу. От одного к другому отсылали ее там, чтобы отвязаться от нее бригадир предложил ей работать на самых дальних участках. Сколько не просила дать работу поближе, ибо у нее маленький ребенок и прикованная к постели свекровь, но бригадир ее не желал и слушать. Пришлось в четыре часа утра вставать и вместе с ребенком отправляться работать там, куда никто не шел. Доведенная до отчаяния Мукминат послала тогда мужу в Сибирь такие стихи:
Мой безвинный белый тополь, Закованный, безгрешный олень, Хоть бы и меня посадили Вместе с тобой леденеть. С рассветом восходящая Светлая звезда, От твоих страданий Болит моя душа. Кто же проклял нас, сказав. Пусть в муках соединятся. Не испив чашу любви. Чьи это сбылись проклятья? От фашистских пыток Изувеченный мой друг, Почему же и на Родине Твои страданья длятся? Завидую ашугу, ибо знаю: Что в песнях печаль свою он изольет. Завидую плакальщице, что слезами Может вылить свою горечь. А с кем мне, обездоленной. Боль души разделить? Если один тебе верен, То другой – коварен.Через некоторое время Мукминат получила ответ на свое письмо от Абуталиба, который тоже написал в письме несколько строк стихами:
Хоть и крепки морозы. В сибирской стороне, Наша любовь горячая Греет душу мне. Работа такая тяжкая В закованном льдом краю! Все я снесу, все выдержу И на ногах устою. Горе, если нашу любовь Уложат в землю несчастья. И не опишут в книгах ее Ни поэт, ни писатель.Мать Абуталиба умерла, так и не увидевшись с сыном. Ничто теперь не удерживало Мукминат в ауле, оставила сына у своей матери и поехала в Махачкалу, искать работу, на любую была согласна. Устроилась на швейный комбинат, сняла квартиру и стала хлопотать о пересмотре дела своего мужа.
В 1953 году умер Сталин. Вскоре пронеслась весть, что всех, безвинно осужденных будут освобождать. И Абуталиб тоже сообщил, что приходили тут к ним следователи, вели допросы, выясняли степень виновности теперь хоть луч их надежды появился! Но так долго тянулось ожидание, вершители судеб не спешили, а больные слабые каторжане погибли. В 1953 году Мукминат пошла к следователю, попросила написать заявление о пересмотре дела своего мужа. И снова долго ждала ответа, ждала какого-нибудь решения. Все молчали в ответ, только одни слухи давали проблеск надежды. “Кое-кого уже освободил и, потерпи немного, – писал Абуталиб, – очередь”. Наконец в январе 1953 года Мукминат получила его телеграмму из Москвы. Абуталиб сообщил, что теперь он в пути домой.
Заплакала от радости Мукминат, долго плакала. “Слава Аллаху, что возвращается ко мне живым!” – все твердила она. Показала телеграмму на работе и стала каждый день ходить встречать поезда из Москвы. И возвращалась, не встретив его.
Однажды Мукминат расстроенная вернулась домой и увидела оборванного мужчину, сидящего у ее порога. Абуталиб! Она бросилась к нему и долго не могла выговорить ни слова. Зашли в комнату.
– На чем ты приехал, я ведь ходила тебя встречать к поезду? – спросила она в слезах.
– На поезде приехал. Я тоже думал, может ты пришла меня встречать, но потом подумал, ведь какой-нибудь знакомый может увидеть тебя рядом со мной, с оборвышем и нищим, и сам себе скажет: “Где, интересно, нашла Мукминат этого подзаборного? “И подумал, пойду сам по ее адресу домой, хоть соседи, наверное, знают обо мне. Так и дошел до твоего порога, – сказал Абуталиб. Мукминат видела, что он болен: тяжело дышал и часто кашлял.
– Ты, наверное, по дороге простудился. Я сейчас тебе чаю сделаю из чебреца, у меня и молоко есть, – засуетилась Мукминат.
– О…о, сколько лет я чебрец не пил! Это же дарман давай, давай побыстрее, – пошутил Абуталиб.
До полуночи не ложились, все говорили и говорили. Сколько еще нужно было сказать, о чем в письмах не написано? Слушая рассказ Абуталиба о тяжких условиях заключенных в Сибири, Мукминат сравнила Сибирь с концлагерем – единственная разница, – пояснил муж, – в том, что в Сибири таких пыток, как в концлагере, не было, но люди там погибали от холода, от голода, от болезней. Я тоже не раз заболел, однажды даже серьезно: крупозным воспалением легких, лежал в больнице при смерти. К счастью там оказался врач, кумык из Дагестана, тоже сосланный, бывший военнопленный, он-то меня и спас, назначил хорошее лечение, сам контролировал медсестер, за питанием следил… Он раньше меня освободился. Дай бог ему здоровья! Вот окрепну, поеду в Буйнакск, разыщу его обязательно. Он был родом из Буйнакска.
Болел Абуталиб, кашель не прекращался, пролежал целую неделю после приезда, хотел набраться сил, чтобы поехать в аул, повидаться с сыном, с родными. Мукминат, радуясь его возвращению, надеялась, что она теперь сумеет его поставить на ноги. После концлагеря он был хуже, думала она, положение было серьезное, вылечить болезнь легких, при недостатке лекарств и скудности питания – очень сложное дело. Порой Абуталиб не мог и подняться с постели. Вместе решили: надо вернуться в Караша.
Родной очаг и родные горные места сделали свое дело. Абуталиб стал понемножку работать в поле, помогал людям, кому крышу покрыть, кому окна застеклить – он был на все руки мастер и делал любую работу с удовольствием.
У Абуталиба и Мукминат родились еще дети. Потихоньку обзавелись хозяйством, появился и домашний скот. Но Абуталиб по-прежнему часто болел. Ездил он в Кумух в врачам, возвращался оттуда еще более уставшим и больным.
– От частого хождения к врачам нет пользы, больше нервничаешь и устаешь. За время, что потратил на поездки к врачам, мог бы полезное дело сделать, – сокрушался он, вернувшись из Кумуха.
В 1961 году как-то сообщили, что Абуталиба вызывают в Кумух, в военкомат. Мукминат испугалась.
– Что они теперь хотят от человека, который от одного дуновения готов упасть? Неужели не будет ему покоя на этом свете? – горько причитала она.
Абуталиб успокаивал как мог, говорил, что не может быть теперь ничего тревожного и серьезного. Мукминат собрала его в дорогу и на всякий случай послала с ним первенца – четырнадцатилетнего Махмуда.
Целый день Мукминат ходила тревожная, все валилось из рук, а под вечер не вытерпела и вышла на окраину села, стала смотреть на дорогу, идущую в село. Издалека она увидела мужа и сына, спускающихся в ущелье. Она обрадовалась. Не подождав, пока они поднимутся, побежала к ним навстречу. Заметив, что муж и сын в хорошем настроении, сказала:
– Слава Аллаху! – и отлегло от сердца.
Оказывается, Абуталиба приглашали в Кумух, чтобы вручить медаль “За освобождение Киева”. Среди солдат, героически воевавших за освобождение Киева, был и Абуталиб.
– Сколько несчастий, несправедливости, пыток и трудностей выпало на мою и твою голову, слава Аллаху, пришлось нам увидеть и этот сегодняшний день, – сказал Абуталиб, присаживаясь возле жены на валуне.
Поздравить его с наградой пришли все родные и друзья, даже те, кто в тяжелые годы, называя Мукминат женой изменника Родины, не давая работы, выжили ее из аула. Теперь они, как пристыженные проказники, сидели молча и говорили невпопад. А Мукминат и Абуталиб забыли уже обо всем, улыбались всем, благодарили тех, кто переступил порог их дома в радостный день. Все было хорошо, дети, бегая вокруг отца, старались тронуть медаль своей рукой, только Махмуд, считая себя взрослым и соучастником отцовского подвига, выглядел гордым и серьезным.
Но состояние здоровья Абуталиба с каждым днем ухудшалось, он не мог работать, чаще лежал дома. В Кумухе врачи посоветовали направить его на лечение в Махачкалу, но и в Центральной республиканской больнице лечение не помогало. Приехала Мукминат оставив на Махмуда маленьких детей, за которых на душе было тревожно, но не могла жена не быть рядом с мужем, так как он был тяжелый. Больных удивляло, что Абуталибу всего сорок девять лет, ибо выглядел он дряхлым стариком.
– Если со мной что случиться, не переживай, – говорил Абуталиб жене, – когда я был в концлагере, мечтал хоть раз увидеться с тобой, а затем умереть, но мне выпало громадное счастье – я не только увиделся с тобой, но и женился на тебе. В ссылке уже не надеялся увидать тебя и сына, смерть поджидала меня. Однако, я не только увидел тебя, но и прожил после ссылки с тобой столько лет, у нас есть дети. Теперь, слава богу, войны нет, дети не погибнут. Я себя считаю счастливым человеком, ибо мне два раза громадно повезло. А теперь от судьбы не уйдешь. Бог, наверное, говорит: “Надо и совесть иметь, я тебя два раза с того света вернул”, – пошутил он.
Мукминат тоже шутила, стараясь подбодрить мужа, и вселить надежду на выздоровление. А врачи беспомощно раздвигали руками и пожимали плечами: “Мы не боги, что в наших силах – сделаем”.
Так и не смог ни один врач, ни один профессор спасти Абуталиба, который скончался на руках у Мукминат.
На панихиде по любимому другу жизни Мукминат причитала:
В начале лета ледяной выпал град, Сад где цвели розы, инеем покрылся. Алмаз моей души река унесла в море, И зеленое море сверху льдом покрылось. Видели ли вы, люди, как летние цветы Беспощадный град безжалостно убивает, Так уничтожали в этой короткой жизни Моего бесценного, моего друга жизни. Видели ли вы когда-нибудь чистый горный ручей. Не успев дойти до моря, скованный льдом, Этот ручей напоминает мне судьбу любимого, Не утолив жажду любви ушедший в могилу. Фашистские изверги его истязали, Сибирские морозы его сковали. Из какого же кремня было сделано его тело, Что столько мук и бед переносил? У травы осенью инеем покрытой, С весенним солнцем корень обновляется, А моего друга в Сибири замороженного, Никакая весна обновить не смогла. Какой же этот короткий сон – человеческая жизнь, Какой же это обман – человеческая жизнь. Какой же это обман – человеческая любовь, Как короткий ночной сон из-под глаз уходит. Как призрак радуги любовь играет с нами. Люди, обогрейте друзей в этой жизни, После смерти их обогреть невозможно! Люди берегите близких в этой жизни, После смерти их беречь невозможно! На Балкон моего любимого красное солнце смотрящий Раз хозяина не стало пусть рухнет, развалится. Наша с ним спальня из пиленного камня Пусть горит ярким пламенем с пола до потолка. Тот кто знает жажду любви, тот пожалейте, Кто не знает, хоть посочувствуйте, Тот, кто нынче погребен в земле, Не утолив жажду любви, отправился. Вы, глаза мои, чтоб вылиться вам до дна. Ваш драгоценный зрачок в пучину вылился. Мой прекрасный тополь в райском саду Еще на белом свете пять адов прошел, Не успел жизнью семейной насладиться, Кровожадная смерть его забрала. Теперь мне не осталось радости в этой жизни, Чем вершины снежных гор я скована льдом. Я не успела любимому слово досказать Могильные камни его закрыли от меня. Может он говорит со мною по ночам, Но из толщи земли мне не слышно его. Люди, берегите близких при жизни, После смерти их беречь невозможно!Муж умер, остались семеро детей мал мала меньше. “Ну что ж, – сказала Мукминат сама себе, – придется под платьем завязывать ремень и под платком надеть шапку, чтобы не дать детям ощутить отсутствие отца, Абуталиб не хотел, чтобы его дети чувствовали себя сиротами”.
Так она и старший сын Махмуд взяли на свои плечи все тяготы и невзгоды семьи. А сколько их было! Всех детей необходимо одеть, обуть, прокормить, поставить на ноги, дать образование. Махмуд учился хорошо, имел намерение продолжить учебу, окончить институт, но оставить всю семью на плечах матери не хотел. Мукминат с ним не согласилась: “Чем ты хуже других? Езжай учись, а мы обойдемся, отец твой перенес концлагерь, ссылку в Сибири, слава богу, мы находимся на своей земле в своем доме”, – сказала она.
Мукминат вспоминает, как приехал домой сын, учившийся в Махачкале, и сказал ей, что его призывают в армию, приехал попрощаться, как призывали в армию Абуталиба, как уезжали из аула все мужчины на фронт. Тяжело стало на душе, но взяла себя в руки, и сказала сыну: “Прежде всего, сын мой, сходи на могилу своего отца. Он хотел тебя вырастить, обучить, проводить в армию в мирное время, но не смог увидеть тебя мужчиной, защитником Родины, не довелось встретить и сегодняшний день. Сходи к нему и скажи: “Ты для меня стал образцом терпения и мужества.
То, что ты стерпел, я тоже стерплю, то, что ты выдержал в своей многотрудной жизни, и я выдержу, не сделаю ничего такого, что могло бы омрачить твою память”.
Затем Мукминат собрала всех родных и близких, устроила проводы сына. И, конечно, сочинила песню на проводы сына и спела в тот вечер собравшимся гостям:
Уезжаешь, сын родной. Доброго тебе пути! Пусть спокоен будет мир. С радостью возвращайся! Труд, приложенный отцом, Оцени ты и прими, и геройски защищай. Что отцами завоевано. Пусть мать не родит сына, Что не годен в армии служить. Пусть служат наши сыновья, Чтоб возмужалыми вернуться. Старшим будь ты сыном. Ровесникам будь ты братом, На границе земли родной, Стой как сын отчизны.Так мать провожала сыновей в армию, и они возвращались к ней, добросовестно исполнив материнский наказ.
Перед свадьбой Махмуда Мукминат пошла на могилу Абуталиба поделиться с ним радостью своей и, вернувшись, исполнила на свадебном торжестве такую песню:
Я сходила к другу На свадьбу сына пригласить. Тело мое рассыпается, не могу встать, – сказал. Пойдем, – спросила я, – посмотришь На счастье сына, На желание своей души, Что сегодня исполняется. Очарованные прекрасным миром Черные мои глаза Теперь засыпаны землею, Смотреть не могу, – сказал. Как я вернулась от друга Знает бог и я, От слез моих теперь стала Река наша полноводной. Об ашугах много слышала. Увидеть не пришлось, Все, что я в жизни испытала Меня ашугом сделало.После Мукминат выдала замуж дочь и на ее свадьбу сочинила песню:
Уходишь, дочь любимая, Счастливого пути! Желаю в новом доме Счастье тебе найти! Девичьи свои привычки В отцовском доме оставь. Возьми на плечи дом мужа И заботу о его родне. Благородного отца дочь, Прекрасных братьев сестра, Там, где твой шаг наступит. Посади цветущий сад. Не надо травить себе душу, Тем, что нет отца в живых. Чтоб его место занять, Братья твои достойные. Не печалься, что нет материнской родни, Твои сестры родные Заменят тебе родню. Перед мужниной родней Персиками стол накрой, С улыбкой на лице встречай Гостей своего дома.Мукминат сейчас в пожилом возрасте, но голос ее и теперь очень приятный. Легко и свободно поет горянка свои песни, лицо ее озаряется, глаза светятся. Невольно думаешь, какой же она была, наверное, красавицей в молодые годы! Сколько бы испытаний не выпало на ее долю, она осталась красивой, лицо и душа ее излучают бесконечную доброту.
Мукминат и теперь сочиняет песни на злобу дня, против всяких войн и междуусобиц.
Космический полет своего земляка Мусы Манарова она тоже отметила новой песней, которую исполняла на всех торжествах:
Горные орлы отважные Парят на небесах, Выше небес ты поднялся, Наша сказочный герой! Сын мой, Муса, спасибо. Прославил наш народ, Показал всему миру. Где гнездятся орлы! Дай бог тебе здоровья И матери твоей, Чтоб поднялся ты выше Всех вершин на земле!Люди идут к Мукминат как к костру за теплом, находят у нее сочувствие, поддержку и добрый совет.
Я спросила эту скромную поэтессу обладает ли кто-нибудь из ее детей способностью сочинять стихи, петь песни? Она ответила:
– Мои дети видели трудности, прошли в этой жизни тернистый путь, поэтому они человечны, совестливы, работящи.
Махмуд закончил институт и работает бухгалтером-экономистом в родном селе Караша.
Его жена Сакинат заведует Домом культуры. На мое счастье, мне и снохи попались такие же, как мы сами, веселые, любящие песни, танцы. Остальные мои дети живут по городам. Сын Эфенди, которому я дала имя отца своего, закончил в Москве институт имени Патриса Лумумбы и сейчас преподает в Дагестанском Государственном университете.
В его семье все играют на каком-либо инструменте, хорошо поют. Теперь Сакинат хочет организовать семейный ансамбль, и я согласна с мнением снохи. Пусть мои дети живут радостно, пока живется. Я очень рада, что им выпала доля и счастье, которое не видел их отец, он отдал за это свое здоровье и жизнь. Рада, что исполнилась его мечта. Только бы наши дети не забывали труд и мечту отцов, берегли бы мир, свободу и счастливую жизнь на Земле!
24 часа из жизни мужчины (Быль)
4 сентября 1999 года начальнику Новолакского РОВД майору милиции Муслиму Даххаеву позвонили из МВД Дагестана и сообщили о том, что боевики Хаттаба и Басаева, отброшенные в августе месяце из Ботлихского района, скапливаются в чеченских селах, граничащих с Новолакским районом. Вот уже шесть месяцев как вся милиция Новолакского района была переведена на казарменное положение. Милиционеры уже устали от такой неопределенности. Обстановка накалялась. Муслим обзвонил всех, предупредил о возможном вторжении боевиков и к вечеру решил лично объехать блокпосты в пограничных селах.
Он не совсем был уверен в том, что боевики осмелятся вторгнуться в Дагестан, ибо пять лет тому назад, когда в Чечне шла война, множество беженцев-чеченцев приютили соседи-дагестанцы, им оказали всевозможную помощь и поддержку, разве такое можно забыть?
Не доезжая до селения Дучи, Даххаеву встретилась колонна военной техники федеральных войск, растянувшаяся на целый километр. На его вопрос, куда они направляются, те ответили: “Для дислокации в окрестности селения Дучи”.
– Вы идете в сторону Чечни, в Ножайюрт, и через три километра окажетесь в логове боевиков! – сказал Муслим.
– Мы знаем, куда мы идем, нам показали эту дорогу. Наш командир с тремя военнослужащими и боеприпасами впереди на этой дороге, и мы идем за ним! – не унимались солдаты.
– Верните их, – прикрикнул Муслим, – и на спуске дороги в сторону селения Ахар повернул колонну на дорогу в Дучи, а сам поехал дальше. Позже он узнал, что командир колонны и те трое так и не вернулись. Они попали в руки боевиков, остальная колонна успешно добралась, и разместилась в Дучи.
Объезжая все четыре блокпоста, осматривая весь арсенал боеприпасов, Муслим говорил милиционерам:
– Предупреждаю, в случае вторжения боевиков трезво оцените ситуацию, будьте в контакте, не высовывайтесь без надобности. Открывать огонь только по необходимости. Учтите, вы все мне нужны живыми, – и, оглядывая каждого заботливым, обогревающим взглядом, кивал головой.
Вернулся Муслим в свой рабочий кабинет к 11 часам ночи. Вот уже полгода как он буквально дневал и ночевал в кабинете. Он вспомнил, как на днях зашел домой к жене и детям. Жена Ада каждый день готовила свежий обед в надежде, что муж все-таки заедет, но он приходил очень редко. В тот раз, увидев мужа, она второпях сказала:
– Пока ты вымоешь руки, я подогрею, и побежала на кухню. Муслим зашел в детскую. Маленькие сын и дочь уже спали. Он погладил их по голове, поправил одеяло и вышел. Когда Ада вышла из кухни с подносом, он, сидя за столом, уже заснул. Ей было жаль его будить, и она села напротив. Но вдруг где-то прогремел взрыв. Муслим очнулся и велел жене собирать детей и ехать в Махачкалу. Теперь он понял, что его решение было своевременным. Телефонный звонок прервал его мысли. Звонила мать из селения Новокули, которая лежала в гипсе, со сломанной ногой:
– Сынок, мои глаза устали смотреть на двери. Почему же ты не навещаешь меня? Я ведь соскучилась. Зашел бы хоть на несколько минут, хотя бы поесть. Мне тревожно за тебя.
– Не волнуйся, мама, я жив и здоров. Я тоже хочу тебя видеть, но не могу оставить свой пост.
– Ты сегодня хоть обедал, ужинал?
– И обедал, и ужинал, – ответил Муслим, хотя он сегодня и не вспомнил о еде.
– Сынок, почему я звоню. Я тут прикорнула малость и увидела страшный сон и потому захотела услышать твой голос, предупредить тебя, чтобы ты был осторожен и берег себя.
– Расскажи, мать, что за сон. Как говорят: “Кто предупрежден, тот вооружен”.
– Если ты настаиваешь, сынок, хоть и не принято, расскажу. Я увидела во сне, как по главным улочкам Новолакского текли большие, грязные, черные селевые потоки. Текли медленно, бесшумно. А на площади в нижней части села было вырыто много свежих могил, и ты с закатанными рукавами возился там. Когда ты встал на краешек одной могилки, я вскрикнула и проснулась от своего крика.
– Мать, это не такой уж плохой сон. Правильно, эти могилы мы приготовили для бандитов, которые рвутся на нашу землю. А за меня, мать, не волнуйся. Иншаллах, приду к тебе живым и здоровым. Ты спи спокойно. Сегодня меня не жди, уже поздно.
– Разве я могу уснуть, когда ты там, как на раскаленных углях? Хоть бы ты был пастухом, как твой отец, я бы была за тебя спокойна. Зашумела рация. Вызывал дозорный:
– Наш канал прослушивается. Ни о чем не спрашивай, я тоже буду краток. Возле нашей границы скапливается много боевиков. Видимо готовятся к вторжению. Дальше сам знаешь, что делать. Я еще позвоню.
Муслим посмотрел на часы. Была полночь. Он вызвал водителя и решил объехать пограничные села: Тухчар, Гамиях, Шушия, Чапаевка. “Пятьдесят километров открытой границы, – злился Муслим, – федералы обещали закрыть ее, но до сих пор не закрыли, хоть бы сказали, что не могут. Дали бы нам добро, мы бы сами закрыли!” Он объехал пограничные села, блокпосты и вернулся в РОВД. Отправил секретную телеграмму министру МВД республики Адильгерею Магомедтагирову. Было уже четыре часа утра. Он решил связаться со своими подчиненными по рации, чтобы вызвать их на работу, обнаружил, что канал засорен арабской, турецкой музыкой, прерывающейся сквернословием. Он убедился, что самый для него необходимый, основной радиоканал захвачен Хаттабом и Басаевым. Он сумел связаться с несколькими милиционерами, и минут через 20 в РОВД собралось около тридцати человек. Муслим разъяснил им ситуацию и сказал:
– Скоро начнет светать. Днем они не посмеют сунуться. Значит, судьба нам наверное подарит еще один день для подготовки. К утру я пошлю человека в МВД, запрошу необходимую помощь. Зазвонил телефон. Звонил дозорный:
– Товарищ майор, мимо федеральных войск, что накануне дислоцировались возле Дучи, бесшумно прошла колонна вооруженных до зубов боевиков, направляющихся, судя по всему, в сторону селения Тухчар. Их около тысячи. Не успел Муслим сообщить новое донесение своим милиционерам, как позвонил еще один дозорный:
– Муслим Магомедович, со стороны Зандака, по огородам Чапаевки бесшумно прошли толпы боевиков в сторону Новолакского. Их очень много. Они разбились на две группы. Одни направляются к зданию Дома культуры, а другие в сторону РОВД. Эта группа Басаева и Хаттаба. Муслим быстро посмотрел в окно и увидел, как по трем улицам села в сторону центра идут толпы вооруженных боевиков. Он тут же вспомнил сон матери.
Их увидели уже все милиционеры, находящиеся в РОВД. В здании Дома культуры разместились бойцы Липецкого ОМОНа, их там около 25 человек. Муслим задался вопросом: “Видят ли они боевиков? Неужели они не поставили дежурных?” До Дома культуры от РОВД расстояние 80-100 метров. Боевики первыми подошли туда. Но их нельзя было подпускать к зданию администрации, к ФСБ, к отделению связи, к Сбербанку. Муслим тут же, позвонил начальнику связи Полине Халиловой. Та уже заметила бандитов и шла на работу. Муслим предупредил ее, что РОВД необходимо обеспечить бесперебойной связью и тут же послал к федералам милиционера на машине, чтобы сообщить о вторжении боевиков, так как по телефону уже было нельзя. Но машина его вернулась, она попала под обстрел. К шести часам утра сумели добраться до РОВД еще человек тридцать милиционеров и мужчины из близлежащих домов. Боевики пока не стреляли. Располагались в огородах, на чердаках близлежащих домов, рыли окопы, траншеи, хозяев выгоняли на улицу, из домов выносили одеяла, подушки и стелили в окопы и траншеи. Муслим быстро стал распределять своих милиционеров по позициям, в радиусе 25–30 метров вокруг зданий РОВД, администрации, отделения связи, Сбербанка, но предупредил всех, чтобы без его команды огонь не открывали.
– Не бойтесь, что их много, а нас так мало. Успех боя никогда не зависел от числа бойцов. Успех должен быть в наших головах и сердцах! – говорил он тоном убежденного командира. Вышедшие из его уст слова становились приказом.
Боевики не предполагали, что в здании РОВД есть в такую рань работники, они думали, что милиционеры не будут вмешиваться в бой и помогать омоновцам из Липецка, вся эта сумасшедшая орава окружила здание Дома культуры. Через некоторое время они стали кричать:
– Сдавайтесь! Сложите оружие! Вы окружены!
Боевики сначала не стреляли. Хаттаб и Басаев послали к омоновцам четырех парламентеров. Муслим первым открыл огонь и уничтожил их. Боевики три раза прокричали: “Аллаху Акбар!” и открыли огонь по Дому культуры. В это время с прилегающей к РОВД площадке кто-то стал стрелять по боевикам. Это оказались заместитель начальника РОВД майор Гусейн Якубов, начальник отдела майор Амир Амиров и милиционеры Абакар и Ахмед. Они шли утром на работу и, оказавшись отрезанными от РОВД боевиками, стали прорываться к своим. Муслим связался с ними по рации:
– Гусейн, Амир, что вы делаете!? Вы не видите сколько их? Прекратите стрельбу, но попытайтесь прорваться в здание РОВД.
– Товарищ майор, мы не можем к вам прорваться.
– Что хотите делайте, но подойдите ко мне живыми! Что я буду делать без вас? Через минуту заработают минометы, гранатометы, пулеметы боевиков. Потом считайте, что я вас потерял. Вы не ранены?
– Нет, командир, все целы, ответил Гусейн, хотя сам был ранен в ногу осколками гранаты.
– Мы сейчас организуем для вас огневую завесу, а вы бросайтесь к нам! – скомандовал Муслим.
– Есть, товарищ майор!
– Прозвучала канонада, и все четверо разом бросились к зданию РОВД. Чтобы обработать и перевязать ногу Гусейна, не было никаких медикаментов. Кто-то принес из соседнего дома двести граммов спирта и стали обрабатывать рану с торчащими в мышцах осколками гранаты.
– Теперь у меня ничего не болит, а осколки потом вытащим, – сказал после перевязки Гусейн и взялся за автомат. Липецкий ОМОН не мог связаться с РОВД ни по рации, ни по телефону, все каналы связи были перехвачены боевиками. Но омоновцам было необходимо скоординировать свои действия с РОВД.
Через огневую завесу прорвался в РОВД командир Липецкого ОМОНа Сергей Сковородин. Он рассказал, что их хирург Эдуард Белан, который, не зная ничего о боевиках, вышел на рассвете из здания, был схвачен боевиками и теперь находится у них в плену. В результате боя некоторые бойцы были ранены.
Договорились перебросить ОМОНовцев в здание РОВД. Муслим вывел своих снайперов, открыли массированный огонь и Сковородин скомандовал своим, чтобы те по одному прыгали в огород и оттуда ползком пробирались в здание милиции. Милиционеры открыли огонь в сторону мечети, где окопались боевики. У тех тоже заработали гранатометы, минометы и автоматы. Рации у боевиков были зарубежные, мощные, которые ловили все разговоры внутри и вне района. Федералы послали в помощь РОВД один танк и два БТРа, но их по дороге подбили и сожгли боевики еще на подступах к селу. Муслим связывался по рации со своими блокпостами, где тоже шли бои:
– Друзья мои, герои мои, прошу вас, без особой надобности не бросайтесь под пули бандитов, вы все мне нужны живыми!
Из Махачкалы прибыли подразделения МВД и ополченцы, но они не могли прорваться в центр села, где шли ожесточенные бои. Муслиму сообщили, что на телевышке идет бой. Там на шестерых милиционеров напала целая банда боевиков. Муслим просил ребят продержаться, пока он пришлет им помощь. Но послать туда кого-либо не представлялось возможным. Тут Муслим услышал по рации незнакомый голос:
– Товарищ майор, я командир Липецкого ОМОНа, из нас половина погибли, и я тяжело ранен, выходите на помощь к нам!
Муслим понял, что это провокация бандитов, вызывающих их на открытый бой и спросил:
– Как тебя зовут?
– Я в таком состоянии, что забыл даже имя свое.
– Держитесь, скоро бандитов уничтожат. К ним в тыл переброшены большие силы федералов, – ответил Муслим. Рация бандитов умолкла.
Муслим не знал ни тактику, ни стратегию ведения таких боев. Он окончил высшую школу милиции, где не обучали этому, и действовал, руководствуясь своей личной интуицией. Если бы он уступил первому порыву и вывел своих ребят на открытый бой, никого бы из них не было в живых, вместе с ним. Здесь был и его родной брат Залимхан, и другие родственники. “Что я скажу своим родителям и родителям всех ребят, которые находятся в здании РОВД, если по моей оплошности кто-то из них погибнет? Если даже я погибну, проклинать будут меня же за необдуманные действия, которые послужили гибели их сыновей”, – думал Муслим. Он знал, что от него лично, от его выдержки и смекалки будет зависеть судьба всех милиционеров, находящихся в осажденном здании РОВД.
Посоветоваться было не с кем. Тут он услышал по рации голос полковника Амжада Сулейманова, заместителя начальника Управления “Дагестанская граница” МВД нашей республики, опытного боевого командира, который прибыл из Махачкалы в штаб в Новокули. Муслим очень обрадовался ему. Амжад Омарович посоветовал приложить все усилия, чтобы помочь Липецкому ОМОНу и оставаться с ним на связи. Муслим объяснил, что у них боеприпасы на исходе. Чтобы организовать огневые завесы, нужны боеприпасы. Амжад Омарович сообщил, что боеприпасы были к ним отправлены, но до них они не дошли. Но в здании РОВД был свой запас боеприпасов. Но ключи от бронированной двери остались у работника, который не смог добраться до РОВД.
Милиционеры взорвали двери, и в их распоряжении оказалось немалое количество боеприпасов. Массированным огнем они стали подавлять огневые точки боевиков, чтобы ОМОНовцы смогли вырваться из окружения. Майор Амир Амиров пробрался к зданию Дома культуры и на себе стал выносить раненных. Уже было убито двое омоновцев. С восьми часов утра до девяти часов вечера новолакские милиционеры выводили ОМОНовцев из-под огня. Под градом пуль местные мужчины и женщины, не боясь быть убитыми, помогали вытаскивать раненых и убитых. Парень по имени Саша, проживающий по соседству с Домом культуры, вышел первым и помогал до последней секунды. Когда боевики ворвались в здание Дома культуры, там уже никого не оказалось. После этого разъяренные бандиты стали атаковать здание РОВД. Огнем снесли полкрыши, выбили все окна. Басаев лично обратился по рации к Муслиму:
– Командир, мы вам дадим коридор, только выходите сами, а русских сдайте нам!
– Мы не приучены предавать братьев! – ответил Муслим.
Население Новолакского оставляло свои дома, скот, магазины, люди брали детей и больных стариков и покидали село. В селе остались только мужчины-ополченцы, которые за день до этого получили оружие в РОВД. Муслиму сообщили, что на телевышке четверо милиционеров погибли, а двое оказались отрезанными боевиками и вернулись в село.
– Смерть героев подобна закату солнца! – сказал Муслим, и у него на лбу запылал гнев.
Уже второй раз обратился к нему Басаев по рации:
– Командир, мы вам даем возможность выйти с оружием, выходите сами, только оставьте русских!
Муслим выругался и ответил: “Они наши братья. Вы их получите только через наши трупы”!
Басаев замолк. Муслим, обходя свои позиции, второпях заглянул в кабинет, где лежали раненые ОМОНовцы. Один молодой, белокурый раненный обратился к нему:
– Командир, а вы нас здесь не бросите? Муслим сконфузился от неожиданного вопроса.
– А что, я так похож на предателя, – обратился он к парню, и в голове его пробежала мысль:
“Неужели они так плохо знают дагестанцев?”
– Мы вас не оставим, боевики получат вас только через наши трупы, – успокоил он парня.
Все еще шел бой. Боевики несли большие потери. Тела убитых боевиков лежали по улицам, в огородах, под деревьями. Их не успевали собирать.
Так закончился для Муслима день, в течение которого как будто пробежала вся его предыдущая жизнь. Командиру позвонил заместитель министра МВД республики Сергей Оленченко:
– Товарищ майор, какова ситуация, сколько вы сможете еще продержаться?
– Товарищ генерал, я не могу вам дать точного ответа, в течение пятнадцати часов мы ведем бой, у нас заканчиваются боеприпасы.
– Я приказываю вам оставить позиции и отступить!
– Куда отступать, товарищ генерал, мы окружены, и еще, я должен получить приказ министра Адильгерея Магомедтагирова.
– Я вам приказываю, а этого недостаточно?
– Простите, товарищ генерал, я должен получить приказ министра, в подчинении которого я нахожусь. Если бы мы могли так легко выйти отсюда, ни минуты не остались бы здесь.
– Сделайте все возможное и невозможное, вы начальник РОВД, вы за всех там в ответе!
Тут зашумела рация:
– Муслим Магомедович, это Амжад. Молодцы! Мы все знаем. Как вы освободили ОМОН, тоже знаем. Простите, что мы не можем вам помочь. Вы сделали самое главное. Теперь постарайтесь выбраться оттуда без потерь. Боеприпасы есть?
– Очень мало. Остались только гранаты, может, они нас выручат.
– Возле нас батальон войск, и боеприпасов у них достаточно, храбро воюют и ополченцы. Из Махачкалы приехал Артур Исрапилов с отрядом ополченцев. Ваш заместитель Гамзат Гамзатов тоже у нас. Он не смог пробиться к РОВД.
– Тогда помогите Исмаилу Ибрагимову. Он с восемнадцатью милиционерами находится недалеко от вас, в здании школы. Я не знаю, что с ними. На связь они не выходят. – Их мы вытащим, ты займись там своими. Решайте, как быть дальше. Я постараюсь связаться с министром МВД Магомедтагировым.
Муслим настоящий мужчина, закаленный, спокойный, храбрый. Он человек редкой доброты по отношению к друзьям и подчиненным и отчаянной прямоты и дерзости по отношению к ненавистным врагам. В течение дня он постоянно связывался со своими блокпостами, помогал им советами, и, когда кто-нибудь из них запаздывал выйти на связь, он места себе не находил. Еще утром он знал, что эта битва будет страшной, знал, что от него лично, от его выдержки будет зависеть многое. Сейчас они отрезаны от внешнего мира, кругом толпы озверелых бандитов и свист пуль. Здесь его бойцы с неимоверным трудом отвоевывали каждую минуту жизни. Он сумел превратить здание РОВД в цитадель, спас жизни всем, находящимся внутри. Дрались отважно и липецкие омоновцы. Как быть дальше? Зазвонила рация:
– Товарищ майор, это вы? – услышал Муслим голос министра Магомедтагирова. Да, я, товарищ генерал-майор, – обрадовался Муслим. Я не мог до вас дозвониться. Мы выполнили ваш приказ, освободили Липецкий ОМОН.
– Знаю, знаю, все знаю! Знаю, что и в данный момент вы под обстрелом. Я хочу, чтобы вы выбрались оттуда. Уничтожайте документацию РОВД и уходите.
– Несколько минут тому назад звонил генерал Оленченко, приказывал оставить позиции, но я ответил, что пока не получу ваш приказ, не могу исполнить его. Если я был не прав, простите.
– Ничего страшного. С целью сохранения жизни личного состава и Липецкого ОМОНа необходимо выбраться оттуда. Я не подсказываю и не приказываю, как это сделать, сами знаете. Я же здесь начеку, вам помогут федералы.
Муслим посмотрел на своих командиров: – Вы слышали, что говорит наш министр. Что будем делать? Советовался он со своими заместителями и начальником отделения ФСБ Мамати Гамзатовым.
– У нас есть раненные, как их вывезти? – спросил заместитель начальника РОВД.
– Раненных и павших надо вывезти. Я и не надеялся, что в этом жестоком и неравном бою хоть половина из нас останется в живых. Слава Аллаху, потери наши минимальны. Вы все сражались отважно, и Липецкий ОМОН тоже. Если мы сумеем вырваться из этого ада, никогда не забудем погибших на нашей земле, в этом бою. Недавно бандиты повторили свои условия, как я ответил, вы слышали. Они дали нам время подумать. Они уверены, что мы в капкане. Но если мы не выйдем с ними на связь в следующий раз, они снова откроют массированный огонь. И потому нам необходимо как можно быстрее вырваться отсюда. Если героических поступков десять, то девять из них хитрость и тактика. Мы должны их обмануть, – сказал Муслим. Мамати посмотрел на часы:
– Сейчас два часа ночи. В пять начнет рассветать. Если мы до этого останемся здесь, из нас никто в живых не останется.
– Я предлагаю раненных отправить через село на машинах на большой скорости, – сказал Муслим, – мы будем прикрывать их огнем. Пока боевики очнутся, они выедут из села. Я знаю тактику боевиков еще с той, буденновской войны. Они разведку пропускают, зная, что за ними выйдут все остальные. Наши машины они примут за разведку. А мы же разобьемся на две группы и уйдем отсюда: одни через ущелье, а другие в сторону Чечни, по той дороге, по которой пришли бандиты. Они за собой двери никогда не запирают, зная, что придется отступать по тому же пути. Большая часть боевиков пришла с западной стороны. И мы пойдем туда. Через Амжада Омаровича дадим команду федералам, чтобы те открыли массированный огонь в сторону боевиков. Это будет отвлекающий маневр.
– А там по дороге мы не встретим других боевиков, может нам с ними придется вести бой? – засомневались Сергей Николаевич и Мамати Бижиевич.
– Да, не исключено. Но у нас нет другого выхода.
Если кто знает другой выход, предложите. Как ты думаешь, Мамати Бижаевич?
– Что бы не случилось, нам придется принять план, предложенный Муслимом Магомедовичем. Дайте команду готовиться к вылазке, сообщите Амжаду Омаровичу, чтобы договорился с федералами:
– Подождите! На границе, возле Зандака, наших пятьдесят человек, двадцать пять солдат внутренних войск МВД и два БТРа. Нам нельзя их бросать, надо вытащить их оттуда. Как им сообщить? Звонить нельзя, перехватят. Думаю, надо послать гонцов, – сказал Муслим.
– Я пойду к ним, – предложил Абакар Абдурахманов.
Но тут сообщили, что из Чапаевки пришла группа ребят, спрашивают, чем нам помочь?
– Какие молодцы! – обрадовался Муслим, – как раз они-то нам и нужны. Давайте пошлем сначала двоих ребят на блокпост, а через минут пять еще двоих. Если одни не доберутся, то хоть другие смогут добраться.
Так и сделаем. Подростки обрадовались и пошли двумя группами. Через час милиционеры и солдаты с Чапаевского блокпоста и с двумя БТРами стремительно вырвались из окружения. Запоздавшие боевики открыли по ним огонь, но было уже поздно. Все пятьдесят человек с БТРами добрались до РОВД.
– Молодцы! С такими героями можно любого врага поставить на лопатки! – воскликнул Муслим и тут же позвонил Амжаду Омаровичу, чтобы федералы открыли огонь. На одном БТРе разместили раненных и погибших, а на другом охрану снайперов и автоматчиков. Оба БТРа на большой скорости отправились через центр села в сторону Хасавюрта. Боевики действительно их пропустили. Федералы открыли массированный огонь в сторону боевиков, и те подумали, что к ним прорвались федералы, и отошли метров на пятьсот в сторону от дороги. Когда они увидели, что кроме двух БТРов из РОВД никто не вышел, открыли огонь по машинам. Группа проскочила. Боевики тут же сожгли скирды соломы кругом, чтобы осветить местность, ожидая выхода из здания РОВД осажденных. Но из РОВД группа из пятнадцати человек пошла по ущелью, вдоль реки, в направлении Хасавюрта. Самая большая группа во главе с Муслимом спустилась в ущелье, ведущее в Чечню, на ту дорогу, по которой пришли сюда боевики.
Слышен был массированный огонь федералов. Муслим шел сзади, замыкая колонну. Тут у него зазвонила рация, он услышал голос Амжада Омаровича:
– Федералы открыли огонь по боевикам. А вы идите как можно быстрее. Пока для вас дорога свободна.
Впереди шли две группы по пять человек, за ними все остальные колонны по 60 и 70 человек – и омоновцы, и милиционеры, и солдаты внутренних войск с поста в Чапаевке. Поднимаясь по довольно крутому склону, Муслим тихо подозвал своих:
– Помогайте ОМОНовцам, они не знают местность, им будет трудно. Приятно было слышать канонаду федералов, отвлекающую боевиков, иначе бы они не смогли выйти из окружения без боя и без потерь.
Усталые, изможденные бойцы шли из последних сил. Они подошли к селу Зандак, дальше им нужно было идти по территории Казбековского района. Пришлось идти по бездорожью, по ямкам и кочкам. Так они прошли двадцать пять километров и вышли снова к границе Новолакского района. Было пять часов утра. Надо было добраться до Новокули, где располагался координационный штаб во главе с депутатом Народного Собрания республики Амучи Амутиновым, где находился их самый главный помощник Амжад Омарович Сулейманов. Не доходя до Новокули, на дороге перед ними остановилась легковая машина. Из нее вышел полковник ФСБ республики Саид Керимович Каммаев, давний знакомый Муслима по армейской службе в Грузии. Он пожал Муслиму руку и что-то говорил, но Муслим стоял молча, усталый, бледный и осунувшийся. Он не в состоянии был что-либо говорить или понимать. Все его бойцы тоже были в шоковом состоянии, все грязные, мокрые и смертельно усталые. Муслим посмотрел на часы. Прошли ровно сутки с того момента, как начался этот бой, из которого они не надеялись выйти живыми. В штабе они узнали, как жестоко обошлись боевики с хирургом Липецкого ОМОНа, попавшим в плен Эдуардом Беланом и с другими пленными. Почтили память мужественных бойцов. Командир Липецкого ОМОНа Сергей Николаевич подошел к Муслиму, пожал ему руку и сказал:
– Товарищ майор, спасибо вам, это ваша победа. Вы оказались великим стратегом и настоящим боевым командиром. Ваше мужество, смекалка и несгибаемая воля спасли нас всех. Мы вас не забудем никогда!
После встречи в штабе Муслим решил на несколько минут зайти к больной матери, что жила неподалеку. Когда он, грязный и исхудавший, вошел тихо в комнату, мать забыла о своей сломанной ноге, забыла о костылях и бросилась к сыну. Но нога ее подвела, она споткнулась, но Муслим успел ее подхватить.
– Сынок, как же ты исхудал за эти сутки, но, слава Аллаху, – живой! – прижалась она к нему в слезах.
Война еще не кончилась. Отряд Муслима слился с силами федеральных войск и ополченцев. Еще неделю будут они вести ожесточенные бои с бандитами до их уничтожения и выдворения из Новолакского района.
Сталь не гнется, сталь ломается
В последние годы, когда мне становится так трудно, что невмоготу, помогает мне и боль выдержать, и с бедой справиться память об отце. Многое приходится делать иначе, чем собиралась, стоит придти мысли: “А как бы он поступил? “Подумаю, сопоставлю, и все становится, так или иначе, на свои места.
Со временем высветилось во всей полноте определение успехов кумухского колхоза имени Гаруна Саидова в одном из очерков журнала “Советский Дагестан”. Его заголовок – “Как кладкою крепок дом”… емкая характеристика трудового коллектива колхоза и моего отца Нажмутдина Шурпаева, бессменного руководителя хозяйства в течение долгих лет.
В последний год жизни отец тяжело болел. Когда он лежал в махачкалинской больнице, я спросила его однажды: “Чем помочь тебе, отец? Что я должна сделать?”
Улыбнулся отец. А его образный ответ так разбередил душу, что я всю дорогу домой проплакала. В тот же день родились стихи:
Таял отец не ел, не пил…. Боль отнимала остаток сил. – Острая коса нужна, — Он в ответ мне заявил. Вацулу высокий склон Чтобы я выкосил. Трав горных аромат вдохнул — В сто крат прибавить можно сил! А если их вернуть рукам И дать частичку их ногам, То я построил бы родник, Чтоб, мой народ к нему приникУтром, еще на рассвете, отец уходил на работу. Это было его нормой, иначе у него не выходило. Однажды городской его гость обиделся на отца, за то, что он оставил его спящим, а сам спозаранку ушел из дома. Мать поспешила успокоить гостя:
– Нажмутдину завтрак и в горло не полезет, пока не обойдет фермы, не увидит, сколько молока надоено, а в поле не удостоверится, что все тракторы и все комбайны на ходу, работают как следует.
Когда отец вернулся к завтраку, гость спросил его:
– Скажи-ка, Нажмутдин, зачем тебе заведующий фермой и бригадиры в поле, если ты ни свет, ни заря встаешь, и сам занимаешься и фермой, и полем?
– Кто это тебе сказал? Откуда вывод такой? Как можно держать работника, которому не доверяешь! Еще как доверяю! Просто вижу, другие мужчины утром пробежку большую делают, уверен: ты тоже с зарядки сегодня начал, наверно, всегда ее делаешь. А я, чем зря тратить силы – полезное дело сделаю: вместо бега – обхожу фермы, поля, воздухом чистым дышу. В общем, друг, я сочетаю приятное с полезным. Вот сегодня, к примеру, новая доярка надоила на шесть литров меньше, чем та, что до нее этих же коров обслуживала, эта новенькая мне заявила, что коровы бьют копытом и разливают молоко. Слыхал?
А я ей: “Если ты не можешь с коровой общий язык найти, придется нам другую доярку поискать. Наши доярки, к твоему сведению, получают в месяц не меньше двухсот пятидесяти рублей, желающих к нам устроиться на работу очередь стоит.”
– А ты что, проверяешь надои?
– Конечно! Молока должно быть больше, сейчас весна, а не осень. Я даже сравниваю, сколько получали мы в прошлом году от этих коров и в это же время…. – Иначе – не добиться настоящего сдвига и роста.
Люди любили беседовать с председателем. Во всей его натуре, в разговоре, в характере чувствовалась любовь к своей работе, забота о людях. Он говорил очень увлеченно, а его речь пересыпалась пословицами, поговорками. Народная мудрость, да шутки-прибаутки помогали в делах. Сказывалось и его многолетнее правило: он даже отпуска не брал. На больничной койке ему было неспокойно, неуютно, страдал не только от болезни, но и от того, что был в отрыве от любимой работы: вместе с людьми и для них.
В больнице он тоже вставал спозаранок, и до прихода врача шел к телефону и звонил на кутан, интересовался всеми делами, то велел своему заместителю Сулейману позвонить в Кумух и узнать то-то и то-то. Он из больницы звонить в район не мог, вот и потому просил своего заместителя позвонить с кутана.
Как-то по пути на работу, зашла я утром к отцу. – Интересно, пошел ли дождь ночью в горах, как думаешь, дочка. Здесь только моросило, хорошего дождя не было. Пока врачи не пришли, пойди-ка, позвони Сулейману, спроси, был ли дождь на кутанах или нет.
– Вах, вах, Нажмутдин! Я думал, что это ты всю ночь в темное окно заглядывал? Не мог понять, кого ты ждешь, кого выслеживаешь! – Засмеялся сосед по палате.
– Понимаешь, сейчас самое время земле влаги напиться. Земля и дождь золото рождают. Сам видишь, это лето у нас выдалось засушливое.
Когда идет дождь, я радуюсь так, как-будто в мою шапку бросают горсть золотых монет. Правильно, оказывается, моя тетушка говорила: “Болезнь и смерть – время не выбирают”. Вот так и со мной вышло, мне бы в такое трудное время вместе с людьми быть, быть на работе. А я вот лежу…
Тридцать третий год пошел стажу отца. Хозяйство, работа и он слились во что-то единое, он прирос к своему делу и без него уже жизни не мыслил…
В 1953 году руководство Лакского района стало просить Нажмутдина Шурпаева возглавить колхоз имени Саида Габиева, он наотрез отказался. У разваленного хозяйства, кроме долгов, ничего не было, несколько лет подряд колхозники не получали заработка, запасов – никаких, зато большой долг государству.
Первый секретарь Лакского райкома партии – Чалабов знал к кому обращался. Мой отец грамотный финансист, ревизор, человек трудолюбивый и настойчивый. Чалабов верил: Нажмутдин Шурпаев тот руководитель, который сумеет вывести колхоз из разрухи. И сам Чалабов – честный, трудолюбивый, интеллигентный человек – пользовался уважением и любовью народа. Не было в районе человека, который мог бы ему в чем-либо отказать.
Пригласил однажды Чалабов отца и попросил возглавить хотя бы временно кумухский колхоз. И отец не смог ему отказать. Но все же решил уточнить.
– Допустим, я возьмусь, займусь временно делами хозяйства. Люди будут, естественно, ждать улучшения дел, продвижения вперед… И тем более, что не получали своего заработка несколько лет. А перспектив – никаких нет, запаса никакого. Государство больше ничего не даст, колхоз уже давно и много должен. Какой толк будет от моего временного руководства? Явно, что придется уйти, не оправдав надежд людей. Как я тогда посмотрю им в лицо? Я привык, что моя работа идет хорошо, совесть меня не мучает. Сейчас по крайней мере, от меня ничего не будет зависеть. Не лучше ли мне спокойно делать, что у меня хорошо получается?
– Мы скажем колхозникам, что назначаем тебя председателем временно, по необходимости, а потом пусть они подберут себе хорошего председателя, а ты займешься своей прежней работой.
– Интересно, почему они сейчас не подбирают хорошего председателя, зачем нужна эта канитель со мной? – сопротивлялся отец. Он понимал, что не все так будет, как обещает Чалабов. Чувствовал скрытый смысл в его настоятельности. Прямо от Чалабова Нажмутдин пошел посоветоваться к своему дяде Гаджи Шурпаеву. Тот в свое время организовывал этот колхоз и был первым его председателем.
– Сынок, – сказал дядя Гаджи, – Ибрагим Чалабов очень порядочный, благородный человек, не даст он тебе упасть, в любом вопросе разберемся. И все твои родственники помогут, какому пришлому человеку дело до нашего хозяйства? Почему надо ждать, что кто-то из чужих краев захочет в нашем очаге порядок навести? Не из Цудахара, или Гуниба приглашать человека, чтобы привести наш колхоз в порядок! Самим все сделать надо, самим поднатужиться. Скоро уже весна, начнется пахота и тебе надо скорее войди к людям в доверие и даже охладевших к колхозу побудить выйти на работу. Подай им надежду на улучшение дел. Если ты станешь хорошо работать, и люди за тобой пойдут, и Аллах поможет. Вот посмотришь.
Вот так и начал работу отец. Настала пора пахоты, но ни инвентаря, ни пахарей не хватало.
– У нас родни много, а друзей еще больше, – подсказал дядя. Обойди всех и попроси помочь. Пойди в каждый дом, предложи, чтобы не только вышли на поле, но и помогли своим инвентарем, твердо обещай потом расплатиться за все. Я тоже обойду кого смогу. Из любого затруднительного положения есть выход, Нажмутдин.
Обошел отец всех двоюродных и троюродных братьев, близких друзей. И никто ему не отказал, вышли со своим инвентарем. Так он с помощью родни и друзей засеял, притом вовремя, все поле в ту весну. Очень радовался отец первому успеху. И люди тоже с радостью толковали о новом председателе. А на уборку урожая вышли еще больше.
Для заготовки на зиму кормов пришлось обратиться за помощью к директору школы – Юсупу Айгунову. Вот и появились старшеклассники на сенокосе. А своего двоюродного брата Сагду председатель уговорил взяться за организацию молочно-товарной фермы, а другого двоюродного брата Камиля, – взяться за отары овец. На третьего двоюродного брата Билала, легла ответственность по заготовке кормов. Очень просил их отец, чтобы не подвели всего один этот раз. Подключился к работе с людьми и дядя Гаджи, уважаемый в селе аксакал.
Характер у отца твердый, за что не брался, все доводил до конца, того же требовал и от других..
Помню, однажды поутру он звонил из Кумуха на кутан своему заместителю:
– Слушай, Сулейман, этот наш новый чабан, шалинец, жалуется, что ты обещал до зимы обеспечить его жильем и на таких условиях пошел к нам на работу. А ты слово не сдержал, и остается человек без крыши над головой. В чем дело?
Не знаю, что ответил Сулейман, но отец жестко сказал:
– В таком случае, надо же было хорошо подумать, прежде чем слово давать человеку. Никто из тебя это обещание насильно не тянул?
А теперь, по-моему, делать нечего, слово свое тебе придется сдержать. Если ты один раз обманешь, больше уже тебе не поверят. Доверие людей – это самое главное в нашей работе.
И снова Сулейман что-то сказал отцу, и отец сказал ему:
– Как это нет возможности? Уступи ему комнату, в которой ты ночуешь, а сам, пока построишь жилье, ночуй в канцелярии.
Отец был не только человеком заботливым, он очень болел за своих колхозников. Если к нему на работу попадал пьющий человек, он сам заставлял его бросить пить или расставался с ним. Если попадался нечистый на руку, тоже отучал от этой привычки.
Помню, однажды поднялся шум из-за колхозника, который продал на сторону три арбы колхозного сена, а деньги присвоил. Милиция задержала его с поличным, решили привлечь нарушителя к уголовной ответственности. Председатель добился разрешения на товарищеский суд. Суд и колхозники сказали, что он продал не только эти три арбы, которые обнаружились, а гораздо больше. Нажмутдин сказал ему:
– Ты продал эти три арбы сена за 1500 рублей. Как выяснилось, ты продавал сено и раньше, хоть остался не пойманным. Поэтому мы прибавим к ним еще 1500 рублей. Итого получается 3000 рублей. Или напиши расписку, что ты взял деньги в колхозной кассе в долг, если не хочешь встать перед судом. А долг в три тысячи рублей ты сможешь возместить за несколько месяцев добросовестной работы. И запомни, еще раз выкинешь что-нибудь подобное, пеняй на себя. Сами привлечем тебя к уголовной ответственности, и придется тебе с нами проститься. Конечно же, пристыженный “торговец” сеном написал расписку. Тогда еще товарищеские суды не были в обиходе, председатель пришел к мысли о таком суде.
Первые годы колхоз просто нищенствовал. Настало, наконец, время, что на один трудодень колхозник получил полкило зерна: Для другого хозяйства – это мелочи, а в колхозе имени Саида Габиева стало первым скачком. Что только не придумывал председатель, чтобы приумножить общественное добро: купил пчел и организовал колхозную пасеку, покупал осенью и весной на базаре скот, его вынужденно продавали люди из-за нехватки кормов. А колхоз откармливал их, чтобы сдать потом государству на мясо. На непахотных землях по инициативе председателя раскинулись фруктовые сады. Так прошел не один год.
– Подниму колхоз, приведу все в порядок, передам хозяйство надежному человеку и уйду на свою прежнюю более-менее спокойную работу, – говорил, бывало, отец в трудную минуту, но колхозники, увидев его работоспособность, порядочность и заботу о людях, и не думали его отпускать. Теперь ему не приходилось обращаться за помощью к своим родственникам и друзьям, как в первые годы. Любой колхозник откликался на любую его просьбу. Если требовалось отправить бригаду на кутанный сенокос, отец вначале советовался с людьми, даже согласия их просил, ехали на работу, зная зачем и насколько едут, вот и не бегали по врачам, собирая справки о противопоказаниях к работе.
Помню, как-то отец пришел к нам в школу. Тогда я училась в девятом классе. Собрали всех комсомольцев в один класс на беседу с председателем колхоза.
– Честно говоря, ребята, – начал он, – я и не думал, что у нас в школе, под боком учатся такие красивые, рослые и умные дети. По вашим глазам вижу: вы умны и сознательны. Видимо, это моя вина, что редко очень посещаю школу. Просто некогда. И мои дети, видя занятость отца, не дают повода, чтобы я приходил в школу. Даже не знал, что моя дочь, которая сидит среди вас, учится уже в девятом классе. Думал, что она еще в седьмом, восьмом. Я уверен: вы все не даете повод своим родителям ходить в школу, упрямо справляетесь со своими затруднениями, по вашим глазам вижу, что серьезные вы люди. Теперь хочу с вами, как со взрослыми людьми, поделиться своими затруднениями. Видите ли, нам пришлось всю рабочую силу колхоза отправить на кутаны для уборки сена и не подумали, что у нас есть поля, куда комбайн не может подняться, есть кое-где и луга, которые надо скосить. Пока мои работники вернутся с кутана, здесь все пропадет, надо бы сейчас убрать. Правда, я к вам шел попросить помочь собирать колосья после комбайна, а теперь я вижу, что эту работу смогли бы сделать и младшие классы, а вы при желании смогли бы нам помочь в уборке пшеницы и сена. Есть ли среди вас ребята, знакомые с этой работой, поднимите руки.
Руки подняли почти все.
– А есть ли среди вас желающие помочь колхозу? Опять взметнулись руки.
– Молодцы! Честно говоря, не хотелось обращаться прямо к вашему директору или учителям с этой просьбой. Хотел сначала, узнать ваше мнение и, если вы согласны, обратиться с просьбой к директору. Могу я теперь попросить директора, чтобы он позволил вам оказать колхозу такую помощь?
– Конечно! Конечно!
Так мы на следующее утро оказались на колхозных полях. Отец приходил к нам, хвалил нас, советовал, где как лучше скосить, где лучше сушить скошенное. Даже проверял, острые ли у нас серпы. Теперь в колхозе заготавливали на зиму столько сена, что на следующий год оставалось. “Берегите корма, может следующий год будет засушливым, может, будет дождливым и мы не сумеем заготовить корма”, – говорил отец своим колхозникам.
Помню, как-то позвонил ему домой первый секретарь райкома КПСС Цахаев:
– Нажмутдин, тут на тебя жалуется председатель соседнего колхоза, что ты больно дорого продаешь сено? Стояла зима, и с кормами везде было плохо.
– Мы сеном не торгуем, и мы их не просили его покупать. Самим нужно! Раз пришли с мольбой, то пошли им навстречу и продаем по той цене, по которой нам оно досталось. Если они думают, что так дешево можно получить сено, почему же сами не заготавливают, а берут нас за горло? Их луга в два раза больше и лучше наших? Или они думают, что наше поле и сенокос урожайнее и судьба благосклоннее? Солнце светит всем одинаково, и дождь к ним и к нам одинаково идет. Бог никого не отделяет.
Отец не любил тратить время впустую. Хоть он и хорошо играл в нарды, в шахматы (чему он научился еще в молодости), он почти не играл с гостями, говорил только о деле, о своем колхозе. Лишних хабаров не любил и не увлекался ими. Даже на годекан не ходил, некогда было. Свободное время он в основном тратил на чтение периодики: выписывал много газет и журналов. Как-то я спросила его, зачем он выписывает журнал “Пчеловодство” или юридические журналы, ведь у нас в доме нет ни судей, ни прокуроров, нет и пчеловодов.
– Каждый руководитель должен быть на голову выше своих работников. Я должен знать законы, не хуже, чем прокурор, я должен разбираться в пчеловодстве не хуже, чем наш пчеловод Омар. Правда, он тоже выписывает этот журнал, а вдруг он что-то пропустит, что-то не примет во внимание.
У нас есть пасека, и я должен хорошо разбираться в пчеловодстве, не хуже агронома должен разбираться в полевых работах, иначе любой жулик может меня вокруг пальца обвести. Ты думаешь, ко мне попадают люди на подбор честные и добросовестные? Просто, мои работники хорошо знают, что меня не проведешь, ибо со мной работать иначе нельзя. У нас есть хорошая пословица: “Лучше сначала научись свое добро беречь, чем потом вора ругать”.
Однажды из Министерства сельского хозяйства Дагестана дали указание посеять кукурузу на пятидесяти гектарах прикутанной пашни. Убежденный в том, что кукуруза здесь не вырастет, Шурпаев отказался выполнить указание. Ему это поставили в вину и стали таскать по инстанциям.
Тогда пошел председатель в Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Дагестана и потребовал провести лабораторный анализ почвы на кутане и дать гарантию, что уродится тут кукуруза. “Тогда я и посею там “Королеву полей”, – сказал он ученым. Лабораторный анализ показал, что на этих полях кукуруза не вырастет.
А те колхозы, что беспрекословно выполнили требование Министерства, остались в ущербе: кукуруза-то и не подумала расти. Что было это во времена правления Хрущева, наверное стоит отметить.
В другой раз приехали незванные ветеринарные врачи и, не долго думая, стали утверждать: 32 коровы болеют бруцеллезом.
– Вы ошибаетесь, – ответил председатель. – У нас и свои ветеринары есть, мы не ждем, пока кто-то приедет, да проверит наш скот! Специалисты колхоза сами его регулярно проверяют – это нам больше чем кому-то надо. Коровы здоровые – мы проверяли их буквально месяц тому назад. Необходимо заново сделать анализы.
– Делать повторные анализы нам не положено, – сказали проверяющие.
– А ошибаться вам положено?
Нажмутдин не таков был, чтобы оставил начатое дело на полпути, он обязательно доводил все до конца.
И на этот раз он пригласил нейтральную комиссию ветврачей. Тщательно они проверили коров. Ни у одной бруцеллеза не оказалось.
– Видимо кому-то вздумалось заставить нас хоть таким образом сдать государству лишнее мясо, – сказал председатель в заключение.
Колхоз имени Саида Габиева всегда выполнял задания по сдаче мяса и молока, даже перевыполнял их. Однажды на совещании в лакском райисполкоме коллеги-председатели из других колхозов обвинили Нажмутдина Шурпаева чуть ли не в жульничестве, он, мол, закупает у населения скот, откармливает и сдает его, вместо того, чтобы сдать свой.
– Какое же это жульничество? Мы честно покупаем скотину, откармливаем ее и хлопот у нас хватает. Зато и приносим пользу себе и государству! Почему же вы так не делаете? Кто вам не разрешает? – Что они могли ответить Нажмутдину?
Постепенно улучшалось качество, повышалась экономика, и колхоз вышел на первое место в районе, регулярно стал получать переходящее Красное знамя. А там и на республиканской доске почета у входа в махачкалинский городской парк. Однажды, идя по улице Буйнакского, я остановилась у арки, где среди имен передовых хозяйств красовалась золотыми буквами надпись “Колхоз имени Саида Габиева Лакского района”. Тогда я обрадовалась так, будто увидела портрет отца; платочком вытерла надпись, очистила от пыли. В 1970 году все члены колхоза получили премию, и сам Нажмутдин Шурпаев – удостоен ордена “Знак почета”.
– Странная черта есть у нашего районного начальства, – пожаловался как-то мне отец, – если колхоз отстает, если его разбазаривают, обворовывают, такому – оказывают поддержку, отпускают ссуду. Если же колхоз передовой, так и норовят найти в нем недостатки, суют палки в колеса. Сколько разоренных хозяйств нам навязали, чтобы слить их с нашим колхозом. Мы долги ихние отдаем и колхозников на ноги ставим, приводим в порядок фермы и пастбища. Вот теперь разорился Убринский колхоз, что за двумя ущельями от нас, и этот нам навязывают.
Есть такая пословица: С осла поклажа не убывает. Теперь наш колхоз тоже превратился в спину осла. – Затем в раздумье отец добавил: – Удивляюсь, как мог разориться колхоз, у которого такие прекрасные обширные пашни и пастбища, такая плодородная земля?
Несколько месяцев не соглашался Нажмудтин взять Убринский колхоз и слить со своим. Но, видимо, кто-то его уговорил, и он, в конце концов, согласился. В тот же день пришел вечером бригадир нашего колхоза и стал беседовать с отцом:
– Нажмудтин, я слышал, что ты дал согласие слить Убринский колхоз с нашим. Правда ли это? А знаешь ли ты, что в этом колхозе нет даже семян на весенний посев, что они крупно задолжали государству, а расплачиваться придется нам?
– Почему же не знаю я. Знаю. Ведь, когда покупают дом, его с горы не осматривают. Я был там, проверил всю документацию, походил по фермам, по хуторам. И знаешь, этот колхоз находится в лучшем состоянии, чем те, которые мы раньше взяли на себя. Убринцы имеют прекрасные пастбища, луга, хорошую пахотню. Я всегда завидовал им, имеющим такие просторы сенокоса. Если потрудиться, там можно вдвое получить урожая и сена скосить, чем на наших полях. Был бы хороший хозяин. Ведь недаром говорят, что и маленькому богатству нужен большой хозяин. Помню, мой дядя Гаджи Шурпаев говорил в таких случаях: “Не пойдем же мы приглашать цудахарцев сделать порядок в нашем очаге”. Умный был мужчина, мир праху его.
Как-то отец пришел домой среди дня, что для него было редкостью, ибо где-нибудь на полях вместе с колхозниками он что-либо перекусывал, а обедал попозже дома. Как-то пришел отец спешно и спросил меня, где наша стиральная машина. Я сказала, где она. Поинтересовался о матери. Ее не было дома.
– Ну-ка, девочки, вытащите-ка стиральную машину. Мы вытащили. Он окликнул парня-шофера, что стоял возле ворот, и велел забрать эту машину.
– Там, на убринской ферме сметану нечем взбивать и она пропадает, а я видел в одном колхозе стиральной машиной сбивали сметану и делали масло. В продаже сейчас нет стиральных машин, поэтому пришлось пока отдать нашу. Потом купим, – объяснил нам отец.
Правда, когда мать узнала об этом, выразила недовольство и поругала отца, напомнила, что у нас большая семья и без стиральной машины не обойтись. Но все же машина наша не вернулась домой, только через несколько месяцев мы купили новую.
Отец, будучи сам очень трудолюбивым человеком, не любил бездельников и не позволял нам, детям, попусту тратить время. Во время каникул ребят отправлял на кутаны, помогать колхозу собирать сено.
– Чем здесь будут бегать, собак гонять, пусть полезным делом занимаются, – говорил он матери, когда она не хотела их отправлять далеко от себя. Нас, девочек, тоже посылал на полевые работы вместе с колхозниками, хотя по дому бывало много работы.
– Домашнюю работу делайте в непогоду, а погожие дни для полевых работ, ведь каждый помощник в цене золота, – говорил нам отец. Получившему аттестат, он давал наставление.
– Хочешь учиться, езжай, поступай и учись. Не сможешь – работай. Я, как другие отцы, не намерен устраивать вас в институты, да и не к чему это. По мне хорошая доярка лучше посредственной учительницы или врача, хороший пастух лучше любого инженера.
– Ты посмотри на других родителей, которые месяцами сидят в городах, устраивают своих детей в вузы, выводят в люди, а ты только и норовишь превратить наших в работящих ишаков! – упрекала мать отца.
– Я не другие, Султан-Патимат, у меня отца не было, не помню его и не знаю, как отцы устраивают детей в институты, поэтому за такую неграмотность ты меня извини. Коль я сам без отца выучился и вышел в люди, думаю, что и мои дети, у которых есть отец, чтобы обогреть и прокормить их, смогут стать людьми. Пусть учатся справляться с жизненными трудностями сейчас, с детства, с молодости, ибо народная мудрость гласит: “То, что не сделал, когда усы скручиваешь, не сделаешь, когда бороду гладишь”.
Порой мне казалось, что отец заботится о колхозниках больше, чем о своей семье. Помню, когда я жила в городе, приехала в село моя тётя, попросила меня купить меду в колхозе, ибо слышала, что кумухский колхоз продает пчелиный мед. Я спросила вечером отца, действительно ли они продают мед, он подтвердил и разрешил мне придти и купить у них мед.
Утром я спросила своего брата, который работал в колхозе, по какой цене у них мёд. Он мне сказал по пять рублей за килограмм. Взяла бидон и деньги, пошла в правление колхоза, куда надо было внести деньги, а затем в складе взять мёд. Я заплатила пятьдесят рублей за десять килограмм и пошла к отцу, подписать бумагу о получении мёда со склада. Он посмотрел на бумагу и окликнул своего бухгалтера:
– Башир, а Башир! Что ты ей выписал мёд по пять рублей, разве она колхозница?
– Ну и что же? Её отец работает в колхозе, брат работает в колхозе, она же не чужой человек для колхоза, – пошутил Башир.
– Но она не для отца и не для брата берёт, а для себя, и работает в городе учительницей, потому отпусти ей по той цене, по которой мы отпускаем служащим.
Оказывается, колхозникам мед продавался по пять рублей за килограмм, а служащим, вернее тем, кто не работал в этом колхозе – по семь рублей.
– Я больше не взяла с собой денег… – сказала я. Тогда отец вытащил из кармана двадцать рублей и протянул мне. Так мне пришлось краснеть в тот день перед сотрудниками отца.
Вечером, когда отец вернулся домой, я хотела сделать ему замечание, он был более сердит на меня, чем я на него:
– Как ты, моя дочь, не понимаешь, что из-за двадцати рублей я не стану позориться перед людьми. Ведь если один не скажет, то второй скажет, вот, мол, Нажмудтин своим родственникам отпускает мёд по льготной цене. Завоевать авторитет и уважение гораздо труднее, чем его терять. Никакими хитростями народ не проймешь, хитрость, и обман белыми нитками шиты, так что надо быть во всём кристально честным, не надо допускать и мухи, чтоб из неё делали слона.
Когда убринский колхоз слили с кумухским, Нажмутдину пришлось оказать немалую помощь и поддержку убринским колхозникам, которые не были виновны в развале своего хозяйства. Рассказывают, как-то Нажмутдин стоял во дворе правления колхоза с несколькими сотрудниками и в это время подошла к ним незнакомая пожилая женщина:
– Сыновья, не скажите ли вы, как мне найти председателя Нажмудтина? – обратилась женщина к ним.
– Мамаша, вам только Нажмудтин нужен, может, и мы сможем вам помочь? – пошутил сам Нажмудтин.
– Не знаю, валлах, мне посоветовали обратиться к Нажмудтину, но если и вы сможете помочь…
– Говорите, говорите, что у вас? – спросил опять Нажмудтин.
– Валлах, сын мой, я всю жизнь работаю в убринском колхозе. У меня в хозяйстве одна корова и одна тёлка. В этом году я не смогла запастись кормами: у меня ноги болят. Продать корову и телку тоже не хочу, хоть сын, который живет с семьей в городе, настаивает, чтобы я продала всё и переехала к ним в город. Если бы колхоз согласился взять к себе мою корову и тёлку на зиму, до весны, пусть и молоко себе оставляют, я еще и заплачу, тогда, погостив зиму у сына, я вернусь домой со спокойной душой.
– Если ты всю жизнь проработала в колхозе, колхоз пойдет тебе навстречу. Если твоему скоту корма нужны, мы можем выделить тебе корма, если тебе самой нужно что-нибудь, тоже можем помочь.
– Да откроется тебе все четыре стороны и все семь дорог на этом свете, сын мой, ведь если будет корм для скота, я никуда и не уеду. У меня всё есть, слава богу, сын не оставляет меня без внимания и заботы, да вот только в город уехать никак мне не хочется.
– Не уезжай, разве можно разрушать свой очаг? Мы тебе поможем.
Затем Нажмудтин спросил у женщины фамилию, имя и сказал, чтобы она спокойно шла домой, а их бригадиру будет сказано, чтоб помог с кормами.
Уходя, женщина спросила:
– Сын мой, а как передать бригадиру твой наказ, как тебя зовут?
– Меня зовут Нажмудтин. Так и передай бригадиру, как я сказал.
Женщина смутилась, покраснела от удивления, затем подошла к отцу, взяла его руку, поцеловала и ушла.
А другая убринка, которая пришла в правление кумухского колхоза, попросила выдать ей аванс в сумме двухсот рублей, чтобы проводить в армию сына, говорят, была не мало удивлена тем, что ей выдали шестьсот рублей, которые были начислены за полгода, ибо у неё за полгода работы в колхозе оказалось начисление более шестисот рублей:
– Ваппабай, я же оказывается теперь в рай попала! Надо же, за шесть лет работы в убринском колхозе шесть рублей не получала, а тут за шесть месяцев – шестьсот! – никак не могла нарадоваться горянка.
Так постепенно, исподволь он завоёвывал уважение, доверие и любовь каждого колхозника. Говорят, когда кто-нибудь в колхозе поступал неправильно, другие его упрекали: “Как же ты после этого посмотришь в глаза Нажмудтину?”
Но было бы ошибкой утверждать, что он пользовался таким же уважением и у районного начальства. Нажмудтин был по характеру правдолюб и смело говорил правду в лицо и начальству, и рядовому. Он не раздаривал колхозное добро и не отпускал из склада по дешёвке районному начальству мясо и другие продукты. Они же, привыкшие, что другие председатели-сами носили дары, никак не могли свыкнуться с мыслью, что Нажмутдин не гнется перед ними, и поступали с ним бесцеремонно. К примеру: однажды районное начальство решило проложить шоссейную дорогу через Кумух в районные села, по проекту дорога эта проходила как раз там, где располагалась колхозная ферма. Вызвали Нажмудтина в райисполком и велели убрать с дороги колхозную ферму.
– Ферма же не булыжник, чтобы так легко переставить с одного места на другое. Мы очень много сил приложили и денег потратили, чтобы построить её. Неужели нельзя дорогу протянуть чуть в стороне?
– Нет, нельзя. Надо строить по проекту. Чего ты боишься, ведь у вашего колхоза есть возможность еще десять таких ферм построить?
– Не думаете ли вы, что эту возможность через небесное окошко Бог нам с неба свалил? Если бы мы, как нередко у нас бывает, сегодня строили, а завтра ломали, не умея ценить и беречь каждую копейку, вряд ли наш колхоз имел бы сегодня такую возможность. Так что ни один колхозник не даст согласия ломать ферму, и вам надо изменить проект. Я думаю, что инженер, предложивший вам проект, был родственником Николая второго.
– О каком Николае ты говоришь, не думай, что мы с тобой шутки шутим?
– И я не шучу. Разве вы не знаете историю прокладки железной, дороги из Петербурга в Москву?
Говорят, царь Николай второй, показывая, как нужно строить эту дорогу, положил линейку на карту местности и провел карандашом. Оказывается, в одном месте палец царя выступал за линейку, и линия скривилась. А те же, кто строил дорогу, хотя была возможность проложить её прямо на этом месте, скривили, ибо царь так начертил. Эта история превратилась в притчу. Как бы строительство и вашей дороги не превратилось в притчу для наших детей и внуков. Надо бы подумать и об этом.
После этой беседы, районное руководство не изменило своё решение. Нажмудтин собрал общее собрание колхозников, и все единогласно выступили против сноса фермы, и руководству пришлось сдаться.
А вот еще история с собственностью колхоза: пригласил Нажмудтин на прикутанные хозяйства бригаду строителей, чтобы построить хлева для скота. Строители построили хлева, но потребовали сумму, превышающую заранее обговорённую. Нажмудтин пригласил ревизоров и потребовал сделать расчёт. Оказалось, строители требовали на 22 тысячи рублей больше положенного. Затем товарищ, который прислал колхозу эту бригаду строителей, упрекал Нажмудтина:
– Разве эти деньги ты из своего собственного кармана платил? Раз эти строители бросили другие объекты и пришли к тебе работать, можно было заплатить требуемую сумму.
– Вот это хабар! Это же не рубль и не десять, двадцать две тысячи бросить на ветер! У нас есть поговорка: “Отцовское наследство даже волк бережет”. Почему мы не должны беречь наше, собственное. Это во-первых, а во-вторых, эти строители наносят вред нашему обществу, так как могут в любое время бросить начатую работу и идти туда, где больше заплатят. А виновны вы. Разве можно так портить мастеров?
Однажды я встретила корреспондента дагестанского радио Мирзу Давыдова, который ездил по кутанам и, кстати, видел моего отца.
Как он там, чем занимается? – спросила я Мирзу.
– Чем занимается? Провожает, как все председатели, своих овец в горы, ходит вокруг них, поднимает клочки шерсти, что упали на дорогу с чужих овец и цепляет на своих, – пошутил Мирза. Но в этой шутке была правда, очень характерная моему отцу.
Как-то после годового отчёта главный бухгалтер колхоза Башир Лугуев сказал Нажмудтину.
– В этом году мы сможем полугодовую зарплату выдать колхозникам в качестве премии.
– Очень хорошо! Раз сможем, выдадим.
– Шутишь что ли? Районное руководство не разрешит, – улыбнулся Башир.
– А мы их спрашивать не станем, так как отдадим людям то, что они сами заработали.
Так и сделали. Выдали колхозникам премию в размере шестимесячной зарплаты. Но это не понравилось председателям других колхозов и районному руководству, которые обратили внимание прокурора района на этот факт. Возбудили дело на председателя колхоза Нажмудтина и на главного бухгалтера Башира. Но обвиняемые дали отвод судье Лакского района, на которого имело влияние районное руководство. Нечего делать, пришлось руководству пригласить судью и следователя из Леваши.
Узнав положение председателя и бухгалтера, колхозники решили вернуть всю премию обратно, но Нажмудтин успокоил их: “Мы правы, и правда когда-нибудь должна восторжествовать. Таков закон жизни. И не нужно возвращать премию, ибо она заработана вашим честным трудом”. При расследовании выяснилось, что премия выплачена всем колхозникам, кроме председателя и главного бухгалтера.
– Вы, вероятно, были убеждены, что поступаете противозаконно, раздавая колхозникам премии в размере шестимесячной зарплаты и, чтобы вас не привлекали, обделили себя? – спросил следователь Нажмудтина.
– Нет, мы были уверены, что поступаем правильно, и сейчас такого же мнения. Знали, что нам могут предъявить обвинение в разбазаривании колхозного добра, чтобы узаконить свою премию, раздали деньги колхозникам, а себе не назначили.
– Говорят, в колхозе работают твои родственники, и потому ты поспешил раздать эти деньги, – спросил судья.
– Есть и родственники, сельчане часто бывают в родстве, но если говорить о них, то в 53 году, когда я этот колхоз взялся возглавить, поднять его на ноги, помогли мои близкие родственники и друзья. Они вышли на поле засучив рукава, отбросив все выгоды и расчеты. Корни поднимают дерево и держат его, моими же корнями были мои родственники, они в любую трудную минуту первыми выйдут на поле, хотя не работают в колхозе, ради того, чтобы поддержать меня. Я горжусь такими родственниками.
В первые тяжелые годы они работали в колхозе бесплатно, почему же теперь, работая в колхозе, мои близкие люди не должны получить премию хотя бы наравне с другими колхозниками? Собственно я не понимаю, за что нас привлекают. Мы ведь не в долг у государства взяли эти деньги для людей, как это делают некоторые колхозы, а сами заработали и государству отдали. Таких, как мы, надо бы поощрять, а не привлекать, – возмутился Нажмудтин.
Суд вынес справедливое решение, оправдывающее действия председателя колхоза.
Но лакскому районному руководству такое решение суда пришлось не по душе. Районный прокурор подал жалобу в Верховный суд Дагестана. В это время отец был болен и лечился в махачкалинской больнице. Его удивляла и злила настырная позиция районного руководства, не желавшего признать справедливость дела.
– Пусть подают еще дальше, – говорил отец, – правда, все равно победит, ибо наши законы справедливые. Права пословица, которая гласит: “Камни бросают в то дерево, на котором есть плоды”.
Когда же Верховный суд назначил рассмотрение этого дела, Нажмудтина готовили к операции. На судебное заседание пошли главный бухгалтер Лугуев и заместитель председателя Сулейманов. Помню, как переживал отец в тот день, хотя и был уверен в своей правоте.
– Мало ли канцелярских бюрократов, которым белое видится чёрным, может и в Верховном суде сидят такие, – говорил отец.
Но к вечеру к отцу пришли бухгалтер и заместитель, рассказали, что Верховный суд оставил решение левашинского суда без изменения, добавив своё ходатайство перед Министерством сельского хозяйства Дагестана об объявлении благодарности колхозу имени Саида Габиева. Отца очень обрадовало это сообщение.
– Видите, что я говорил? Восторжествовала справедливость, сегодня я буду спать спокойно, сегодня моя подушка будет мягкая, – сказал отец, довольный таким исходом дела.
Почувствовав себе лучше, Нажмудтин отправился на прикутанное хозяйство, но его вызнали в Кумух. так как приехали ревизоры.
– Нам сейчас некогда заниматься ревизорами, ведь полевые работы в самом разгаре, так что подождите немного, – ответил Нажмудтин руководству района. На второй же день стали его искать работники Министерства сельского хозяйства, якобы из района сообщили, что Шурпаев не подпускает ревизоров к проверке. Отец поехал в Кумух и встретился с ревизорами, приглашенными руководством района.
– У нас горячая пора. Приступайте к проверке без меня, тем более, что в прошлом году проверяли и ничего не обнаружили. Может вы окажетесь зрячее, чем те. Проверяйте, затем я сам тоже проверю, правильно ли вы работаете, ибо я был главным ревизором района. Каждому должно быть известно, что я не допущу в своей работе недостатков, но однако же проверяют, мешают нашей работе. Не понимаю, зачем пристали к такому хозяйству, как наше, занимающему в районе одно из первых мест, когда столько отстающих хозяйств? – сказал Нажмудтин, но ревизоры потребовали обеспечить их жильем и питанием.
– Жить вот вам районная гостиница, обедать – вот столовая. Мы же жильем и питанием обеспечиваем тех специалистов, которых пригласили для работы в хозяйстве. Вас же мы не приглашали. Кто вас пригласил, пусть тот и рассчитывается с вами. Если же я буду вам нужен, с шести утра до девяти найдете меня в правлении колхоза, а остальное время моя работа на поле, фермах, на току. Все документы в правлении, мои работники вам их представят.
Ревизоры решили проверить колхозные дела за десять лет. Добросовестно ходили в правление колхоза каждый день, работали допоздна и так в течение двух месяцев. Когда проверка закончилась, о результатах сообщили на общем собрании колхозников.
Председатель комиссии сказал, что он ездил во многие хозяйства Дагестана, которые проверял, но такого порядка в делах не обнаружил ни в одном хозяйстве, выразил даже некоторое удивление, что в течение двух месяцев их заставили проверять такое хорошее хозяйство, оставив без внимания колхозы этого же района, в которых работа почти развалена. Председатель ревизионной комиссии поблагодарил руководство колхоза за образцовый порядок в делах колхозников – за хорошую работу, пожелав дальнейших успехов.
Через некоторое время о высоких достижениях кумухского колхоза передали по телевизору. Прошло еще немного времени, и Нажмудтина наградили Орденом Трудового Красного Знамени.
– Не было бы счастья, да несчастье помогло – говорил отец, как будто сам себе:
– Разве я ради ордена старался? Дали бы лучше мне спокойно работать, честное слово, был бы рад этому и благодарен.
Как-то я предложила отцу оставить эту работу, переехать в город и работать по своей специальности. Он ответил:
– Если бы я хотел оставить эту работу, надо было это сделать лет двадцать тому назад, когда хозяйство было развалено, и передо мной стояла гора неимоверных трудностей. А сейчас, мною поднято хозяйство до такого уровня, когда все колхозники стоят за меня горой, ибо у нас сейчас доярка получает в месяц 200 рублей, а остальные – еще больше. Земля стала в десять раз плодороднее и скоро колхоз выйдет в миллионеры. Из семи процентов земли, принадлежавшей нашему колхозу, мы собираем пятнадцать процентов урожая всего района. В первые годы я не мог упросить колхозников выйти на колхозные работы, теперь нет человека, который бы не вышел на любую работу. Чтобы поступить к нам работать, люди в очереди стоят. Во-вторых, я ведь выборное лицо, и раз меня выбирают колхозники единогласно, я должен оправдать их доверие. Теперь как раз-то и нельзя бросать хозяйство, ибо придет какой-нибудь бесшабашник и развалит, раздаст весь колхоз перед моими же глазами.
В последние годы отец страдал болезнью почек, перенес вторую операцию. Не совсем здоровым выписали из больницы. Его заместитель Сулейман, навестив отца, рассказал, что в Кумухе собираются строить завод. Отец обрадовался этому сообщению. Но Сулейман осторожно добавил, что районному руководству не нравится место, которое выделяет колхоз.
– Не можем же мы под строительство выделить пашню, это же нам причинит потерю и боль, – сказал отец. Сулейман молчал. В те же дни меня предупредил мой дядя Мугутдин, что отца ждет районное начальство, видимо, вынудить его согласия выдать под строительство завода те земли, которые им приглянулись. Отец никогда не пойдет на это, потому нельзя его зря отпускать в район, а необходимо оставить здесь до полного выздоровления.
Первым секретарем Лакского райкома партии тогда был Дибиров Сиражутдин, бесцеремонный парень, который узнав о приезде Нажмутдина, сразу вызвал его в райком КПСС и потребовал срочного выделения самой плодородной, лучшей земли на равнине.
– Во-первых, я не хозяин этих земель, хозяева – колхозники, с мнением которых надо считаться, во-вторых, это самые хорошие пашни колхоза, где не то что завод строить, но и телеграфный столб устанавливать нельзя. Мы же выделяем вам землю на Табахлинском поле, где почва неплодородная и менее угодная для посева, стройте там, – сказал Нажмутдин.
– А мы хотим построить завод именно здесь, а не на Табахлинском поле, – возразил Сиражутдин.
– А может вы захотите строить этот завод на крыше моего дома и без моего согласия, – возмущался отец.
– Если бы без вашего согласия, мы давно бы начали строительство, но ждем тебя с разрешением общего собрания вашего колхоза о выделении данной земли под строительство завода.
– Так не спрашивают, а вынуждают. Ни один колхозник не согласится отдать эту пашню под строительство завода. Так, что начинайте строить свой завод на том месте, которое мы указываем.
– Там нет воды.
– А здесь разве была вода? Ведь эту воду мы сами подвели, сделав большие затраты. Вам на строительство завода выделена немалая сумма, часть которой можно истратить на строительство водопровода. Конечно, я понимаю, что колхозные деньги и колхозная пашня вас мало волнует, а выделенных вам денег – жалко, это как в пословице: свой мешок в сторону, чужие хурджины вперед.
В те же дни Нажмудтин провел общее собрание колхозников, где поставил вопрос о выделении земли под строительство завода. Собрание единогласно поставило выделить под строительство завода землю на Табахлинском участке, а пашню на Кумухском ни в коем случае не трогать.
Однако первый секретарь райкома Дибиров был очень недоволен этим постановлением, ругался с Нажмудтином и тяжбу эту довел до Обкома партии.
Теперь, после смерти отца, Написат Куруглиева передала его записку, написанную им ее мужу Куруглиеву Сулейману, работавшему в парткомиссии Обкома КПСС: “Уважаемый Сулейман, с большой надеждой отправляю к тебе своего сыны Гаджиатту. Дело в том, что я не могу найти общий язык с руководством района по вопросу о выделении земли под строительство завода. Сын мой тебе изложит всю ситуацию. Ты хорошо знаешь наши колхозные земли и поймешь нашу нужду в клочке хорошей пашни и потому у меня есть надежда, что ты займешься этим вопросом и сделаешь справедливое заключение. Я же ничего не прошу, кроме справедливости.
С уважением Нажмудтин”.
Тяжба эта закончилась победой Нажмудтина, но как она ему досталась, сколько нервов, здоровья он отдал за эту победу! Позже один райкомовский работник упрекнул Нажмудтина:
– Напрасно ты затеял тогда этот скандал из-за кусочка земли. Мы хотели тебя представить к Ордену Ленина, даже из Москвы запрашивали документы на тебя, но из-за этой тяжбы кандидатуру твою отложили.
– Я раньше тебя знал об этом. Но колхозную землю на Орден Ленина менять не собирался. Для меня награда – поле, которое я смог уберечь.
Если ты сейчас не понимаешь всего этого, то со временем поймешь.
Эта тяжба отразилась на здоровье отца. У него был приступ инфаркта. Когда врач спросил, сколько ему лет, Нажмудтин ответил:
– По возрасту мне 69. Но если прибавить к ним еще тридцать, что я проработал председателем колхоза, получается 99 лет.
На этот раз Нажмудтин не выздоровел. А как он хотел жить!
Прошел год после смерти отца. Как-то я пошла на автостанцию, чтобы отправить с кем-нибудь в Кумух лекарство для мамы. Я стала спрашивать, кто едет в Кумух. Одна женщина по имени Залму ответила, что она едет именно туда, и услышав мою просьбу, сказала:
– Дочь моя, я еще издали смотрела на тебя и догадалась, что ты дочь Нажмудтина, у которого в колхозе мне пришлось проработать 20 лет. Если даже ты сейчас мне отдашь пять пудов груза, я на своей спине пешком донесу его до Кумуха в память о твоем прекрасном отце. Не прочитав молитвы за упокой его души, мы никогда не проходим мимо могилы Нажмудтина, мимо памятника, который стоит лицом к колхозным садам, посаженным им, и к тому полю, которое ценой своей жизни сберег он от неминуемой порчи. Жаль, очень жаль, что так рано ушел из жизни наш чистый, как алмаз, твердый как сталь, председатель. Он сам говорил: сталь не гнется, сталь ломается. И отец тоже сломался, как сталь.
И я подумала, скажет ли народ моим детям обо мне такое, и что надо сделать, чтобы оставить прекрасный след на земле, какой оставил после смерти мой чистый, гуманный и трудолюбивый отец.
Когда идет дождь, я радуюсь.
Примечания
1
Чархидай – лакский танец.
(обратно)


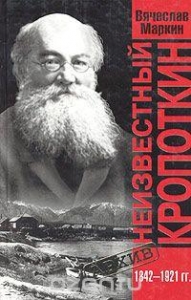



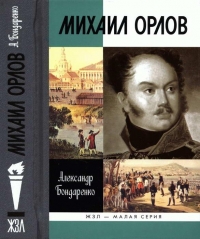
Комментарии к книге «Предания старины глубокой», Миясат Нажмутдиновна Шурпаева
Всего 0 комментариев