Ив Жантийом-Кутырин Мой крестный. Воспоминания об Иване Шмелеве. Письма И. Шмелева Составители Е. Н. Чавчавадзе, О. Н. Шотова, Л. Ю. Суровова
Предисловие
Публикуемые нами воспоминания внучатого племянника Ивана Сергеевича Шмелева – Ивистиона Жантийома-Кутырина – написаны уже после того, как прах русского писателя был торжественно перезахоронен в некрополе Донского монастыря. Событие это произошло в июне 1999 года.
Вернулся на родину и архив Шмелева, хранимый и сберегаемый сначала Юлией Александровной Кутыриной (1891–1979), родной племянницей Ольги Шмелевой, а потом перешедший по наследству ее сыну Иву, который родился 4 января 1920 г. в Париже. Отцом его был Рене Андре Эдмон Жантийом (1883–1954), выпускник Школы восточных языков, работавший шифровальщиком во Французском посольстве в Праге. Брак Рене Жантийома и Юлии Кутыриной распался довольно быстро и маленького Ива воспитывали Шмелевы, поселившиеся на квартире своей племянницы в 1923 г., сразу же после фактического бегства из России.
Дядя Ваня и Тетя Оля, как привык называть их Ив, создали ему настоящее русское детство, соблюдая православные традиции, отмечая праздники, с русскими песнями, сказками. Окончив Сорбонну с дипломами по математике и русскому языку, ставший вполне преуспевающим французом, Ив Жантийом сохранил на всю жизнь память о своем необычном и счастливом детстве, подаренном ему Иваном Шмелевым и его женой.
Воспоминания о годах, проведенных вместе с писателем, о непосредственном общении с ним, были частично записаны со слов самого Ивистиона, частично были записаны им самим по просьбе Елены Николаевны Чавчавадзе (главы Департамента президентских программ Российского фонда культуры) и д.ф.н. Елены Анатольевны Осьмининой.
Ценным дополнением к этому мемуарному материалу являются письма Шмелева, адресованные Юлии Кутыриной и ее сыну. Эпистолярное наследие писателя входит в состав архива, переданного Ивом Жантийомом в 1999 году Российскому фонду культуры.
Мой крестный
Беседы о моем крёстном
Дорогие друзья, вы меня просили рассказать вам еще кое-что про моего дорогого Дядю Ваню. Я уже не раз делился с вами моими воспоминаниями, но если «поскрести, помести» по «закобкам» памяти, то можно чего-нибудь и наскрести, намести.
Вы помните, что в сказке про колобочек – деду и его бабке вздумалось на старости лет спечь себе колобочек, чтобы как-то отпраздновать их день свадьбы. Когда это было, уже никто не помнит – когда-то давным-давно, лишь один Бог знает сколько лет прошло с той поры, как они полюбили друг друга раз и навсегда, на всю жизнь и пошли под венец.
Но были они бедно-беднехоньки, трудно им было перебиваться со дня на день, муки у них уже и след простыл. Дед думал-думал и надумал, говорит своей бабке:
– А ты, баба, поскреби, помети по закоулкам, авось и найдется немножко мучки на колобок.
Так и вышло, нашлось муки как раз, чтобы спечь колобок.
Так и я поскребу, помету и, Бог даст, смогу вам что-нибудь да рассказать. Но обещайте мне, что не будете сердиться, если, по рассеянности, лишний раз перескажу рассказанное.
Но это лишь присказка, по древнему обычаю сказителей, а сама сказка-то будет впереди. Ведь матушка[1] моя была сама сказительницей, молодой ездила по деревням, собирала сказки, слушала сказителей и сказительниц и мне передала любовь к сказкам, к русскому быту, так что и я не могу начинать рассказывать без присказки.
Вы, конечно, знаете Ивана Сергеевича Шмелева, по его книгам «Лето Господне», «Солнце мертвых», «Няня из Москвы» и другим. Я же познакомился ребенком сперва с его детскими рассказами, которые мне читала Тетя Оля[2]. Меня очень тронули его «На морском берегу», «Как мы летали», «Гражданин Уклейкин» и, в особенности, «Мэри» Я плакал, когда доходил рассказ до кончины бедной Мэри и с тех пор я еще терпеть не могу скачек – тушу радио или телевизор, когда репортаж о скачках.
Само собой разумеется, что я мечтал, что лажу с ним по крыше, крашу пятки красильщику и мы убегаем, опасаясь его страшной мести.
Я воображал, что мы прыгаем с крыши, держась за ручку зонтика, как за парашют. Но последствия были иные. Дяде Ване горько доставалось за проказы. Как мне рассказывала Тетя Оля (сам Дядя Ваня не любил об этом вспоминать), его безжалостно пороли на конюшне. Это оправдывалось тем, что после трагической кончины отца мать была перегружена материальными затруднениями. Она нервничала, а маленький Ваня был одарен невероятной фантазией на шалости.
Париж. Юлия Кутырина, Ивушка и И. и О. Шмелевы.
К тому же, в ремесленной среде того века порка считалась якобы необходимым педагогическим приемом, чтобы вразумить молокососа и заодно укрепить его характер, приучая ребенка к выносливости. Помню, как шутили, припевали:
Верба хлест – бъет до слез, Верба красна – бъет напрасно, Верба бела – бъет за дело.Конечно, Дядя Ваня и Тетя Оля отрицали такое спартанское воспитание и ни разу меня не тронули.
Наоборот, помню я, Дядя Ваня старался развивать во мне мягкость, доброту и фантазию – итак, мы вместе готовились ехать к индейцам в Америку, Дядя Ваня мне читал про «Последнего из могикан» Майн Рида, он меня учил мастерить лук из дубняка, точить стрелы с выемкой для тетивы, оперять их, чтобы они летели прямо, охотиться на буйволов и прочее. Само собой разумеется, мы не смазывали острия наших стрел ядом, нам нужно было лишь мясо буйволов, чтобы готовить пемикан на наше пропитание. Он показывал мне, как бить кремень, чтобы получить искры, поджечь трут, а потом разжечь костер, чтобы сушить или жарить по-индейски мясо буйвола.
Но помимо того, мне уже следовало думать, что когда я вырасту большим и пора мне будет разыскивать себе супругу, то, как Ивану-царевичу, мне придется стрелять из лука в небо, и там, куда упадет моя стрела, будет находиться моя суженая, – может быть, богатая купчиха, как на картине Кустодиева, может быть, бедненькая худенькая пастушка, одетая в лохмотья, а вдруг и сама заколдованная злой ведьмой царевна-лягушка, которую мне суждено возвратить в «красоту царь-девицу». Но, извините меня, опять я отклоняюсь от главного.
Сережа Шмелев – гимназист.
В сражениях мы всегда стояли на стороне храбрых и честных индейцев, у которых жадные, свирепые белокожие бандиты (которых я отождествлял с кровожадными большевиками, злодейски убившими ни за что ни про что милого Сережу[3], сына Дяди Вани и Тети Оли) старались отобрать их земли, как когда-то хазары нападали на русские села и нивы, не щадя ни женщин, ни детей. Об этом я точно знал из песни «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам…», которой меня научил Дядя Ваня. Некоторые слова я плохо понимал, «их села и нивы за буйный набег» я переводил «забуйный на бег», но как можно «забуйно бегать» я себе не представлял, это была тайна Олега, на то он и был вещий, т. е. всезнающий, а мне надо было еще много учиться.
Когда я уже подрос, Дядя Ваня показывал мне, как коптить рыбу на костре, используя зеленые веточки дубняка с листьями для дыма. Можно было прибавить и смолистых сосновых иголок, – лишь для аромата. Свежую рыбу Тетя Оля покупала на базаре, прямо у рыбаков – ведь Капбретон, где мы проводили каникулы, был тогда маленьким рыбачьим портиком. Через городок протекал канал Будиго и можно было достать угрей. Как вкусны были копченые жирные угри, которых мы сами готовили! Я облизывал себе пальчики несмотря на то, что они были грязные.
Конечно, все эти мелочи вряд ли могут заинтересовать умных и серьезных историков, литературоведов, но вы меня просили не читать вам научную лекцию, а просто поделиться моими детскими воспоминаниями о моем дорогом, бесценном дяде и крестном отце, а именно такие мелочи показывают наглядно, как он меня любил; каким он был конкретно вне своего писательского призвания, как он обо мне заботился и как он хотел из меня сделать честного русского человека для будущей России, в которую он верил. Для него быть крестным отцом не было пустым словом. Он себя считал ответственным перед Богом, так же как и его писательский дар должен был служить правде, защищать бедных, обиженных на этом свете. Об этом я неоднократно слышал от Тети Оли. Она во многом была посредницей, так как лучше понимала душу ребенка.
Первая попытка написать рассказ, как он мне рассказывал, была связана с одним грустным случаем: бедняк старик собирал сухие сучья в лесу, принадлежавшем какому-то богатому помещику, чтобы как-то обогреться в своей хижине. Его уличил суровый лесничий в воровстве и приказал бросить охапку дров в поток. Рассказ кончался на том, как бурным течением уносило охапку, а бедняга с пустыми руками возвращался в свою промерзшую избенку. Конечно, я плакал. Недаром меня дразнили плакучей ивой. Я не помню, был ли этот «наивный рассказик», как считал его сам Дядя Ваня, где-нибудь да напечатан.
Я не раз катался на Коньке-горбунке Ершова, но так как я был еще маленьким, меня подсаживал Дядя Ваня, и я скакал по поднебесью через поля, через озера, уцепившись за хвост или гриву. Я видел жар-птицу, хватался за ее светящееся перо, но она царапала меня и с криком улетала. Я гулял по спине бедной, осужденной не знаю почему «Рыбы-кит». Но не окунался в холодную и горячую воду следом за Ванькой-дураком, ибо я хорошо запомнил, что можно простудиться, схватить насморк или хуже, ошпариться, что очень больно. Об этом я узнал по картинкам в книжке о проказах непослушного Степки-Растрепки. Также не надо было ковырять в носу, чтобы нос не разросся и не пришлось бы его тащить в тачке, опасно было подходить к пчельнику, могли страшно ужалить пчелы, или есть сырое тесто, чтобы не распухнуть из-за брожения, как резиновый шар, и не взлететь до самых туч.
По советам Дяди Вани, меня не раз выручал мой преданный друг – «серый волк». Конечно, мне хотелось запастись на всякий случай мертвой и живой водой. Я уже приготовил два пузырька, но тут Дядя Ваня отговорил меня:
– Не надо злоупотреблять услугами серого волка, у него, как у Тети Оли, и так не перечесть других неотложных забот.
Характерно, что в первых романах на французском языке, с которыми он меня знакомил, была и искра фантазии, и защита униженных, как в романах «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», «Труженики моря» Виктора Гюго. Участь Эсмеральды, Жана Вальжана, а также зловещего гигантского спрута меня очень волновали.
Дядя Ваня был одарен невероятной памятью. Он мог цитировать наизусть по-латыни отрывки из «Воин Цезаря с галлами».
Однажды он стал сравнивать[4] басню Лафонтена «Цикада и муравей» с басней Крылова «Стрекоза и муравей» и дал почувствовать литературное превосходство последнего. Уже прошло около полувека, но этот единственный его урок по сравнительной литературе запечатлелся у меня в памяти навсегда, а выразительный голос Дяди Вани продолжает звучать в моих ушах.
Дядя Ваня был замечательным чтецом, его неоднократно приглашали на литературные вечера, где он читал перед публикой отрывки из своих произведений.
Будучи подростком, он мечтал стать оперным певцом. Судьба навела его на иной путь, но он любил дома петь отрывки из «Руслана и Людмилы». Музыка Мусоргского его особенно трогала. Раз он отвез меня на оперу «Жизнь за царя», среди артистов участвовал знаменитый Шаляпин. Когда мы жили в Севре, к нам специально приезжал из Парижа известный тогда квартет Кедровых[5]. Пели «Вечерний звон» (конечно, без отвратительных бездушных микрофонов), прекрасно гудели басовые колокола: бом, бом, бом! Кедровы научили меня наивной детской песне:
Жил-был у бабушки серенький козлик, Вот как, фить как, серенький козлик …Но в их исполнении получался шедевр.
Более полувека спустя я обучил этой песне мою жену-итальянку. Впоследствии обучение песням стало одним из моих педагогических приемов, дабы без сугубой грамматики преподавать, а главное – дать полюбить русский язык моей обожаемой итальянке, и при этом ее саму еще больше полюбить. Но это еще другая длинная история. Авось расскажу вам в другой раз.
Вспоминаю, может быть, невпопад, но мысли приходят, как приходят, один характерный случай с писателем Шмелевым. Однажды предложили Шмелеву использовать его рассказ «Человек из ресторана» для съемок фильма. Чтобы лучше ознакомиться с искусством кино, мы поехали посмотреть фильм по рассказу Гоголя «Тарас Бульба». Мне он очень понравился, но Дядя Ваня отнесся критически, не соглашался с требованиями продюсеров, и дело не завязалось. В области искусства он был непоколебим и не допускал ни малейших коммерческих компромиссов.
Раз я его спросил, как он относится к тому факту, что его творчество, как и вообще любое творчество, понимается по-разному, в зависимости от читателя. Мне тогда думалось, что одно адекватное понимание достоверно, следовательно, все остальные ошибочны. Его ответ был:
– Чем богаче произведение, тем больше может быть разных пониманий.
Искусство есть искусство, а не рыночный товар.
Вы меня спрашиваете, как он переживал убийство своего сына, сгладило ли время его душевную скорбь?
Нельзя говорить лишь об одном Дяде Ване или об одной Тете Оле. Они жили одной плотью, одним духом. Это была их общая неизлечимая рана. Хоть о нем при мне и мало изъяснялись, но по их взгляду друг на друга можно было догадаться. Им не надо было говорить, чтобы друг друга понять.
Сережа был все время мысленно с нами. Было ясно, что я стал как бы воплощением Сережи. Тетя Оля готовила мне лакомства, которые любил Сережа. У нас был домашний язык, «идиолект», как его называют филологи. Например, «сережечкины жилки» у нас обозначало определенную говядину с нежными хрящевыми прослойками. В курице были части, которые особенно любил Сережа, как, например, гребешок или мозги. Конечно, мы всегда шутили над куриными мозгами. Куриные лапки надо было обжигать над пламенем, чтобы очистить от грубой кожицы. Потроха необходимо было тщательно промыть и долго варить, в особенности куриный желудок, который мы с Сережей находили очень вкусным. Из высушенного дыхательного горлышка Тетя Оля изготовляла гремучий браслет, вкладывая в него «рисовинки». А кости телячьих лапок сушили, и Дядя Ваня учил меня, как с ними играть в бабки, как их кидать, как правильно метиться.
Конечно, Сережа очень любил гречневую кашу – «мать нашу» – на молоке или со сливочным маслом, ибо всем известно, что «каша любит масло». Перловый суп ел, потому что надо было его есть, чтобы расти большим. Кисели варили на молоке, на шоколаде, на ежевике, которая росла под рукой, и даже на клюквенном экстракте, который можно было достать в русской лавке в Париже. Манную кашку я ел утром или на сладкое, как Сережа, с поджаренным сахаром.
Сережа во всем мне служил примером. Само собой разумеется, что Сережа не плакал, когда ушибался, так и я не должен был плакать – мужчины не плачут. «Плакать – это бабье дело». Сережа никогда не капризничал, рано ложился спать, чистил тщательно зубы, чисто вытирал себе нос, мыл часто руки и не забывал мыть также за ушами и пр…
Летом Дядя Ваня очень любил заниматься садоводством. Ему особенно нравилась настурция, повилика (иначе говоря, вьюн), душистый горошек, садовый мак. Мы собирали и сушили зернышки на следующий год. На наши подсолнухи приходили любоваться соседи – подсолнухи поворачивали свои головы к солнцу, как живые. В эту давнюю эпоху подсолнухи являлись еще диковинкой.
Кроме цветов, Дядя Ваня увлекался огородом. Он выращивал дыни, учил меня, как их опылять, как многие эмигранты сажал ароматный укроп, а не «глупую» петрушку, настоящие русские огурцы, а не французские хилые корнишоны, которые продавались на рынках. Огурцы можно было солить на зиму. Но я предпочитал их есть свежими, с грядки, разрезать их вдоль, не чистя, посолить обе половинки, потереть их одну об другую, они симпатично хрустели под зубами.
На мой день ангела, Дядя Ваня устраивал домашний фейерверк. Зажигал красные и зеленые бенгальские огни, пускал ракеты, они со свистом взлетали и падали недалеко на лужайке. На следующий день я собирал пустые гильзы и сам надеялся устроить фейерверк, набивал их опилками, даже подливал прованского масла, но у меня ничего не получалось.
Вас, кажется, больше интересует дружба Шмелевых с Деникиными[6]. Об этом у меня также остались кое-какие воспоминания. Деникины жили в двухстах метрах от нашей виллы Riant Séjour, среди довольно большой усадьбы с огородами, принадлежащей какому-то фермеру-баску, вблизи от канала Будиго. Обе семьи часто ходили в гости друг к другу. По дороге встречались тележки, запряженные волами. На них отчаянно орали их хозяева, но я многих слов не понимал, а когда спрашивал у взрослых, то они мне отказывались переводить, и только убеждали их не повторять. Лишь много лет спустя я догадался, о чем могла идти речь.
Между Антоном Иванычем и Дядей Ваней было некое соревнование – чья водка «слаще»? Покупали в аптеке лечебный алкоголь, подливали воды, кажется, дистиллированной, важно было знать пропорцию и как подливать, к тому же подмешивали какие-то таинственные травы, натирали какие-то корешки, причем у каждого был свой рецепт, и получалась отличная водка. Ее пробовали и закусывали, «чем Бог дал». На самом деле, Тетя Оля была мастерица стряпать, никто не умел так готовить баклажанную икру, маринованные грибки или пирожки с разнообразной начинкой и даже с вязигой (мало кто теперь знает, даже среди русских, что такое вязига), или соленые рыжики по-домашнему, с укропом и лавровым листом. А Дядя Ваня, надо признаться, был большим лакомкой, требовательным гурманом. Тетя Оля его избаловала.
Дядя Ваня и Антон Иваныч часами обменивались мыслями, конечно, подальше от ребячьего щебетанья. А мы, дети и Мариша[7], развлекались по-своему, шныряя по огородам или прячась в камышовых зарослях на берегу канала, или еще лучше, кормя уток червяками и ракушками, которые мы вытаскивали из песка и тины на берегу озера. Нам было особенно смешно, как утки друг у друга вырывали из клюва лакомые кусочки.
Ксения Васильевна ко мне относилась с лаской. Она обучила меня двум песням, одной цыганской, романтичной:
Мой костер в тумане светит, Искры гаснут на лету Ночью нас никто не встретит, Мы простимся на мосту…она кончалась словами:
Вспоминай, когда другая, Друга милого любя, Будет песни петь, играя На коленях у тебя.и гусарскому маршу, когда мы ходили гулять:
На солнце оружьем сверкая, Под звуки лихих трубачей, По улице пыль подымая, Проходил полк гусар усачей.Марш кончался:
А там чуть подняв занавеску, Лишь пара голубеньких глаз Искала среди уходящих Участника милых проказ.Припев энергичный:
Марш вперед! Россия ждет, Черные гусары, Звук лихой Зовет нас в бой, Наливайте чары.Мариша не любила петь, она объясняла тем, что у нее не было голоса.
Капбретон. Шмелевы, Деникины и Юлия Кутырина (стоит). 1927.
Она предпочитала шарады, разные игры как «да и нет не говорить, черного и белого не поминать», или игра в доктора – мы подражали взрослым, прописывали капли или порошок. Если что-то болело, надо было натирать скипидаром, мазать йодом и, конечно, капризничать, жаловаться, что йод щипит. Мнимый врач измерял температуру, и если был жар, приказывал лежать в постели, никуда не выходить, чтобы не простудиться, одевать теплую фуфайку. Самый страшный рецепт: это был жгучий горчишник на спину или на грудь. Много других лекарств можно было придумать.
Некоторые игры требовали навыка, например, в игре «да и нет» – как заставить противника произнести запрещенные слова. Тут была сложная стратегия, как перехитрить, чтобы противник попался на удочку. Были трафаретные «подножки»: какого цвета снег или сажа? Хочешь ли чаю с солью? Любишь ли ты клубничное варенье? Но такого рода ловушки хорошо все знали.
Капбретон. Деникины и Шмелевы.
Надо было изобрести что-нибудь новое, особенное, неожиданное, чтобы застать противника врасплох.
Вы спрашивали: «участвовали ли взрослые в наших играх?» – Да и нет, в зависимости от того, как это понимать, отрицательно или положительно. Если мы импровизировали «негритянский оркестр», били в жбаны как в барабаны, визжали, что есть мочи, то взрослые просили нас – «немного потише!» И если мы устраивали «балаган», бегали сломя голову по комнатам, прыгали по постелям, закутывались в одеяла, скатерти или ковры, дрались подушками, переворачивали стулья и вообще что попало, то, само собой разумеется, нас энергично усмиряли, как тигров в цирке. Но когда мы смирно играли в прятки, то многое нам прощалось – можно было залезть под стол, в комод, под одеяло и Бог знает куда, куда обыкновенно нельзя было соваться.
Случалось, что, наоборот, в некоторых играх взрослые нам помогали, – ибо не так-то просто было находить подходящие слова для шарад. «На-поле-он» всем наскучил. Тогда взрослые нам подсказывали другие слова, как их делить на более мелкие слова и как потом их наглядно представлять, чтобы слушатели могли догадаться, о чем идет речь.
Случалось, что Шмелевы и Деникины устраивали поездку по каналу Будиго на большой, черной, просмоленной лодке. Канал Будиго впадал в Атлантический океан, и при сильных приливах и отливах можно было воспользоваться течением, чтобы легко проплыть на верховье, а вечером вернуться, пользуясь обратным течением.
Капбретон. А. И.Деникин, д-р Васильев и Шмелевы. 1925–1926.
Как в боевом расчете, у каждого было свое назначение. Мужской пол управлял веслами, а женский радовался на природу и одновременно следил за детскими шалостями. Ведь мы проплывали мимо глубоких омутов, где, как все знают, «черти водятся», и, следовательно, чертята могли стараться затянуть в круговорот. Но нас защищал могучий, доблестный Генерал Антон Иваныч – высокий, крепкий, как «Илья Муромец», и к тому же маленько страшноватый, хоть и лысый, как коленка, но зато с длинными седыми усами. Мне рассказывали, что он воевал против злых большевиков и что он заслужил много золотых медалей. Чертята никогда не посмели бы нападать на нас. Генерал мигом бы их засадил в карцер, и мне, как мужчине, не было страшно даже окунать руку через борт в темную воду, несмотря на женские опасения и уговоры.
В полдень мы приплывали к совсем диким, неизвестным местам, на зеленую полянку среди соснового леса, раскладывали полотенце, и, как скатерть-самобранка, она покрывалась яствами. Был даже термос с горячим чаем и пузырек с водочкой, но, конечно, не про нас, детей. Женский пол исполнял свои обязанности на пять с плюсом.
Потом мы гуляли среди сосенок, дрока, лилового вереска, желтого курослепа, порой нападали на рыжики, запрятанные в кустарнике.
К концу прилива надо было торопиться, так как грести против течения очень тяжело, а оставаться ночевать в лодке никому не хотелось. Известно, что в сумерках могли появиться русалки, бывшие утопленницы из-за несчастной любви, которые могли нас завлечь к себе в болото.
Оссегор. 1924.
Но я опять увлекся. Для правильности хронологии мне следовало бы вернуться назад.
Нас посещали Деникины, когда мы жили на дачке «Жаворонок»[8], где Дядя Ваня устраивал фейерверк и сажал подсолнухи.
От соседей – по-видимому басков, если судить по их странной фамилии «Даригад»[9] – нас отделяли кукурузные поля. Для малыша, который тогда ходил под стол не сгибаясь, они представлялись лабиринтом, где я даже раз заблудился. Кукурузный цвет проявлялся чем-то вроде пучка волосиков, из которых можно было себе смастерить усы, как у генерала, но бурые, не седые. Тетя Оля меня научила.
Когда мы туда приехали в первый раз, то первым делом Дяде Ване захотелось, чтобы, как говорят, пахло русским духом: он насадил цветов, устроил огород, затем отправился на лесопильню, где заказал сосновых реек. А Тетя Оля, как мастер на все руки, построила беседку, под которой можно было пить чай. Мне, конечно, хотелось ей помогать, но по правде надо признаться, я ей только мешал. Дядя Ваня обвил беседку повиликой и вьющейся настурцией. Деникины и другие знакомые, среди коих я хорошо помню однорукого полковника Попова[10] (ему оторвало руку на войне), частенько заезжали к «Жаворонку». Шмелевы были очень гостеприимны. У меня сохранились фотографии. С Маришей мы очень дружили.
Капбретон. Вилла «Жаворонок». 1925.
Ну, дорогие друзья, я, кажется, заболтался, надо и меру знать. Авось, в другой раз, я еще наскребу, намету чего-нибудь, и если вам не скучно, то заходите! Будет «чаёк-сахарок».
Мое воспитание
Дорогие друзья, добро пожаловать! Вы опять забрели в мою берлогу. Я так говорю потому, что жена меня зовет большим медведем, а медведи, известно, живут в берлогах. Я же ее величаю сусликом, почему, точно не знаю. Думаю, кажется, имя это ей идет, потому что она, как суслик, может стоять на задних лапках – я это видел на картинке – а не только бегать на четвереньках как мышата или как индейские свинки.
Ну, о чем с вами потолковать. Вы, помнится мне, интересовались тем, как меня воспитывал писатель Иван Сергеевич Шмелев, мой крестный отец.
Дядя Ваня и Тетя Оля воспитывали меня в ласке. Никогда грубо не наказывали, не обижали, но всегда старались мне дать понять, а главное воспринять душой, что от ангела-хранителя, а что от злого духа. Они старались развивать во мне добродетели: доброту, понятливость, мягкость, терпимость к ближнему, чувство чести, достоинства, долга и уважение красоты.
Но все это абстрактные воззрения. Ну, так дам вам заурядный пример – как вести себя за столом. Следует, конечно, держаться прямо, не наваливаться на стол как пьяный мужик, не растопыривать локти яко страшный тараканище, толкая соседа. Есть мудрая пословица: «посади свинью за стол, она и ноги на стол». К чему подражать свинье. Свинья – глупое животное, а мы разумные существа. Ложку и вилку некрасиво держать как топор или лопату, ведь рот – не помойная яма. Тарелка со щами – не грязная лужа, где барахтаются и хлюпают жабы. Противно жевать, как моська, с открытой пастью. «Болтать ногами под столом, это качать сатану» – напоминала мне Тетя Оля. Еда – есть святое дело, недаром перед вкушением пищи принято креститься, тут никаким чертям места нет, и не может быть, пусть они проваливаются к себе в тартарары. Хлеб нам дан Богом, хлеб надо вкушать с уважением и не ронять крошки на пол. Надо всегда думать, что много на сем свете голодающих, которые могут лишь мечтать о хлебных крошках. Тому, кто не переживал голода, трудно это понять, даже кажется глупо, крошка – кажется, пустяки. Мне мама не раз говорила, как Дядя Ваня и Тетя Оля переживали голод в Крыму. Они же сами мне много рассказывали про бедную курочку, которую старались у них украсть голодные бродяги, и, конечно, про многое другое. Я чую, что вы мне возразите, что история с курочкой не довод и не суть дела. Вы мне можете повествовать на все лады социологическую азбуку: любой коллектив развивает в определенных обстоятельствах свои произвольные «самодурственные» социальные предубеждения, так историйки с крошками и с курочкой ничего целесообразного не доказывают. По чистой, абстрактной логике вы, несомненно, правы. Но в данном жизненном случае, логика не эффективна, она ни к чему не ведет, тут необходимо постичь не умом, а душой, сердцем. А Дядя Ваня, как истинный художник, писатель, защитник убогих и пострадавших, проводил этот принцип не только в своих писаниях, но и в ежедневных поступках.
К тому же, как я впоследствии убедился, многие их не знают и не догадываются, какой глубокий смысл имеет поведение за столом. По поведению человека многое можно о нем узнать, о его моральном уровне – обжора ли он, эгоист, грубиян, тяпа-растяпа, боров, лодырь. Если какой-нибудь субъект наваливает в свою тарелку более того, что он способен поместить в свой желудок, то благоразумно ли с ним дружить? Ведь он ничего и никого не уважает, кроме жранья, грубой силы. Как вы думаете?
Все жизненные образы закрепляются в детском мировоззрении, внедряются в его лексику в виде устойчивых метафор, речевых идиотизмов, их следы продолжают воздействовать на его психику, когда он становится подростком и даже совершеннолетним.
Ребенок, который все замечает, и как губка, впитывает пережитые опыты, ставши взрослым, ему отвратительно, что в ресторанах некоторые клиенты ведут себя как свиньи перед корытом.
Бывают, конечно, и недоразумения. Случается, что исходя из того, чему его учили, ребенок ставит смущающие, неуместные вопросы гостям: «почему ты держишь вилку как вилы, ведь у тебя в тарелке винегрет, а не сено?» Ему толкуют: «так со взрослыми не говорят». Но из такого толка рождается чувство несправедливости и обиды: почему, мол, именно со взрослыми нельзя, а с детьми «льзя»? Порождаются новые нравственные проблемы – равенства, справедливости, притворства.
Ну, вижу, я вам наскучил с моими толками, да к тому же и назидательными.
Что поделаешь? Нельзя не упомянуть, что такая «ласковая шмелевская выправка» в моем детстве сыграла содержательную роль, и теперь я благодарю моих старичков, что они сумели меня «образумить, как люди живут».
Ну, так перейдем к другим воспоминаниям – как мы ходили по грибы.
Всем известно, что белый гриб – царь грибов. Ибо «он всем грибам гриб». Он царствует над красноголовыми придворными рыжиками, над толпой слизистых маслят, ничтожных пешек, над желторотыми лисичками, прячущимися в хвое, во мху, над простодушными девчатами-сыроежками, а, может быть, сестрами милосердия, танцующими в своих пестрых платочках. Мне об этом раз намекнул сам Дядя Ваня, а я приукрасил кое-какою «отсебятиной». Само собой разумеется, что следует остерегаться развратных поганок, среди коих кроются всякое хулиганье и даже коварные отравительницы. Некоторых можно разоблачить, когда, например, они синеют под нажимом пальцев, но таковые не самые ехидные. Среди поганок страшнейшая, которую можно даже назвать грибной Агриппиной, т. е. королевой отравительниц, – мухоморка. Она, как русалка, завлекает простоватого грибного собирателя – Ваньку-дурачка своей = красотой, благодаря своему прекрасному красному кокошнику, осыпанному белыми жемчужинами. Бедняга поддается ее чарам и усыпляется навеки. Все такого рода подробности я знал назубок. И, как говорят, «береженого Бог бережет».
Если хорошо подумать, то всему можно отыскать прок. Так, например, ее яд можно использовать против надоедливых мух. Летом они пристают, нахальничают до того, что позволяют себе ползать по вашему носу и даже, порой, особенно перед грозой, они больно кусаются. За что их следует казнить. Целесообразно, казалось бы, удобнее, их прихлопнуть хлопушкой, но по носу такой прием, явно, не подходит.
К счастью, есть и другой, более подходящий рецепт. Достаточно растереть на блюдечке шапочку мухоморки с сахарной пудрой и положить его куда-нибудь на полку, подальше от пищи. Мухи-сладкоежки «попадают на эту удочку», налетают и тут же дохнут. Так меня учила Тетя Оля деревенской мудрости.
Но не будем долго толковать о зловещих поганках. Все на сем свете имеет смысл. Даже простые поганки полезны тем, что открывают нам грибные места. Там, где растут поганки, могут прятаться и «рыжанки».
В те года, я знал лишь абстрактно, по картинкам, что такое царь. О генерале же я имел наглядное представление. Это большой крепкий мужчина, вроде Ильи Муромца или Святогора, плешивый и со страшными усами, который имеет много золотых медалей и командует армиями. Итак, следуя рассказам Дяди Вани, я представлял себе белый гриб не царем, а мне знакомым генералом. Рыжики, маслята, лисички находились под его командой, а поганки считались его врагами, среди коих таились и зловредные шпионки. Их следовало безжалостно топтать.
Капбретон. Вилла «Жаворонок». Сбор урожая 1925.
Каждый гриб имел свой мундир и свои обязанности. Дядя Ваня мне рассказывал и про некоторые другие уважаемые грибы, как подберезовики, подосиновики, по-видимому важные вельможи, и про опят, «дружных ребят», но в сосновые леса оные не заглядывали.
Мариша и ее мать, Ксения Васильевна Деникина, знали все грибные места, и собирали не только нам известные грибы, но также так называемых братьев боровика. Конечно, мы за семью Деникиных беспокоились – Бог знает, думали мы, они способны отравиться. К счастью все проходило нормально, мы зря тревожились за наших дорогих друзей.
Раз, утром, среди полянки, где находилась наша дачка «Жаворонок», предстал передо мной неизвестный мне, похожий на зонтик, сизо-беловатый, с рыхлой каштановой чешуей, на тощей ножке гриб-великан. необходимо было разузнать, относится ли он к вражьему племени поганок, или представляется как бы подозрительным заморским послом. Местные фермеры нас успокоили. Это очень вкусный гриб по званию «кулемель», но его не следует мешать с другими грибами, ибо у него своеобразный вкус. Твердую ножку надо выкинуть, а шляпку жарить как бифштекс на сковородке, конечно, с прованским маслом. Тетя Оля так и поступила. Но мне не понравился сей «заморский посол», он мне показался тяжеловатым и слишком жирным.
Капбретон. 1927. Шмелевы и соседи по даче.
Нет ничего лучше как грибной суп с сушеными белыми или разваренные маслята в молоке с гречневой кашей.
Впоследствии нас познакомили с местными так называемыми «песчаниками», желтенькими, пухленькими грибками. Они растут около сосенок, и часто прячутся под комочками песка. Они очень вкусные, но их следует тщательно отмывать, чтобы не скрежетали на зубах.
О Деникиных сложилась репутация, что там, где они прошли, нечего было искать, такие у них были зоркие, ястребиные глаза.
Много говорилось чепухи про съедобные и несъедобные грибы. Многие якобы-приметы опровергались впоследствии, когда я начал уже ими заниматься «по-ученому», по книжкам. Некоторые грибоеды себе навоображали, что если улитки ими лакомятся, почему и нам не полакомиться, и так отравлялись. Ибо надо знать, что человеческие желудки не так устроены как желудки улиток или слизняков.
Ну, на грибную тему, на сегодня достаточно! Может быть, в другой раз, я еще кое-что вспомню.
Вы меня как-то спрашивали, как я научился русским песням. Это сложный вопрос. Я научился им и от своей мамы, и от Тети Оли, и от Дяди Вани, и у разведчиков, и от квартета Кедровых и даже от Ксении Васильевны Деникиной, как я вам уже говорил. Но теперь я не всегда точно помню, какую песню я от кого перенял. Я как бы коллекционировал песни и у меня их набралось около сотни. Слова песен я тщательно разыскивал (большинство ребят знают только первые слова, а после а-акают) и записывал в карманный песенник, с голубой обложкой. Многих песен уже не найти в современных песенниках. Теперь он мне дорог, он полон воспоминаний, и я его храню, можно сказать, как зеницу ока. Само собой разумеется, в этой беседе невозможно всех песен вам дословно переписать. Жаль, потому что среди них много задушевных или мужественных военных, которые настоящее поколение, может быть, уже совсем позабыло.
Конечно, первые колыбельные, а потом детские песни, пела мне моя мама. Впоследствии я ими баюкал и им обучил мою женку. Они входили как бы в мою педагогическую систему преподавания русскому языку перед сном, или утром, в постели, на подушке. Самое главное заключалось в том, чтобы учащийся полюбил предмет преподавания, а этот момент нередко педагогика упускает: им кажется, что если предмет их самих интересует, то он должен заинтересовать и обучающихся. На опыте моя система оказалась особенно эффективной, ибо моя Фроська стала способна быстро болтать, правда, с грехом пополам, по телефону по-русски и смотреть русские фильмы. Но, увы, рекомендовать эту систему, в будущем, моим студентам, само собой разумеется, оказалось немыслимо.
Вот первые колыбельные.
Спи дитя спокойно, Вот гроза стихает, Матери молитва, Сон твой охраняет. Завтра, как проснешься и откроешь глазки, Снова встретишь солнце и любовь и ласки.А вот другая, которую Фроська облюбовала.
Спи дитя мое, усни, Сладкий сон тебе мани. В няньки я тебе взяла Ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, Солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей, Мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать, Где изволил пропадать, А ли звезды все гонял, а ли море бушевал? Не гонял я волн морских, Звезд не трогал золотых, Я дите оберегал, Колыбелечку качал.Утром же полагалась совсем другая песня.
Дети в школу собирайтесь Петушок пропел давно, Попроворней одевайтесь Смотрит солнышко в окно. Человек и зверь и пташка, Все берутся за дела. С ношей тащится букашка, За медком летит пчела.Но, конечно, моя Фроська протестовала и выдумывала свои собственные слова, где говорилось: А я в школу не хочу и прочее, чему лучше детей не учить. Но надо считать, что такое буйство, в рамках грамматического упражнения, было превосходно.
Когда я плакал, мама мне напевала:
Не осенний мелкий дождичек Брызжет, брызжет сквозь туман, Слезы горькие льет молодец На свой бархатный кафтан. Полно, брат, молодец, Ты ведь не девица Пой, тоска пройдет, Пой, пой, тоска пройдет.Мама пела: пой, пой, вместо пей, пей, как напечатано в книжке. А еще:
Эй! Вы кони дорогие! Мчитесь сокола быстрей. Не теряйте дни златые Их не много в жизни сей. Эй, эй, эй!Может быть некоторые представители современного поколения – всезнайки – (они, вероятно, не читали сказку про старичков, все-знаек, и какие с ними случились несчастья, когда, после смерти, они по лестнице сами полезли на небо, и заблудились среди облаков), станут мне доказывать, что все это пустая болтовня, изжитые пережитки, не приносящие никому никакой полезной информации, а наоборот приучающие ребенка к праздному пустословию. Но я предпочитаю доверять Чуковскому. И мне же мнится, что наоборот они вкрапливают в детскую душу чувство поэзии, стремление к исканию красоты, к доброте, к мягкости, а самое главное, развивают воображение, фантазию, которые столь ценны в современной науке, особенно в математике и в квантовой физике.
Сам же Дядя Ваня сколько раз мне декламировал: У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том… Я тогда не знал, точно, что такое лукоморье – вероятно, что-то похожее на озеро, на море или даже на океан, который я много раз видел. Я также не мог понять как это, ученого кота смогли обучить ходить, как акробат в цирке, по такой роскошной золотой цепи? Но ведь в сказке все может быть, это и замечательно. Разве во сне я не могу летать как сокол по поднебесью, «над горами, над долами, над широкими морями», и это нисколько не опасно, а даже очень легко и приятно.
Дядя Ваня меня обучил и нескольким другим песням. Помню одну веселую, студенческую, Гаудеамус, кой студент ее не певал на пирушке? Две про гибель Варяга: одну грустную, трагическую, которую многие знают, и другую, которую я слышал только от Дяди Вани. Вот, чтобы вам напомнить, несколько стихов из первой:
Плещут холодные волны, Бьются о берег морской… Носятся чайки над морем, Крики их полны тоской… Сбита высокая мачта, Броня пробита на нем. Борется стойко команда С морем, с врагом и с огнем… … Там среди шумного моря, Вьется Андреевский стяг: Бьется с неравною силой Гордый красавец «Варяг». … Мы пред врагом не спустили Славный Андреевский флаг. Нет! Мы взорвали «Корейца». Нами потоплен «Варяг»…Вторая песня, Гибель Варяга, меня менее трогала:
Наверх вы товарищи все по местам, Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый «Варяг», Пощады никто не желает.Последний романс, который мне спел Дядя Ваня перед кончиной:
Что затуманилась, зоренька ясная, Пала на землю росой. Что призадумалась девица красная, Очи блеснули слезой.Но, увы, я не запомнил точно мотив этого прекрасного романса.
Тетя Оля, несмотря на ее надорванный голос. Меня обучила двум трогательным песням: одну про заброшенного младенца:
Ночь была, сверкали звезды, На дворе мороз трещал! Шел по улице малютка Посинел и весь дрожал…Но песенка хорошо кончалась:
Шла дорожкой той старушка, Увидала сироту, Напоила, накормила И поспать дала ему.Так что здесь подобало проливать горькие слезы, по-настоящему, а наоборот, надо было радоваться и благодарить Бога.
Бог и в поле птичку кормит И поит росой цветок Беззащитного сиротку Тоже не оставит Бог.Благообразно было тут проливать не слезы скорби, а слезы умиления. Но не всегда удавалось. В нынешнее время, многие дети будут смеяться над такими наивными стишками. Они не побуждают бороться с социальными проблемами. Но надо понимать, что их назначение было внедрить в душу ребенка чувство доброты, надежды на положительный исход, даже в самых драматических ситуациях.
А другая рекрутская песня была печальна по-настоящему:
Последний нонешний денечек, Гуляю с вами я друзья. А завтра рано чуть светочек, Заплачет вся моя семья. Заплачут братья мои сестры, Заплачут мать и мой отец, Еще заплачет дорогая, С которой шел я под венец…И тут, всегда, «слезы мне туманили очи», как поется в другой известной народной песне.
Обучила она меня также песне про мужика Касьяна. Всем известно, что день ангела Святого Касьяна, 29-го февраля, значит, один раз в четыре года, в этот редкий день, само собой разумеется, все Касьяны напиваются до чертиков, за целые четыре года. Вот как песня начинается:
Как по улице Варваринской, Шел Касьян, мужик комаринский. Голова его всколочена и Дешевкою подмочена…И так, что-то десятка два куплетов – как он дурака валял на мостовой, плясал перед народом с девками, как его задержал городовой и старался «уразумить»…
Подразумевалось, вот к чему ведет пьянство. На этом, я кончу сегодняшнюю беседу, ибо, как говорится: «хорошенького понемножку»!
Сколько мне приходилось петь замечательных песен и простонародных, и авторских романсов, и военных про бывшие доблестные полки. Может быть, при другой беседе, мне удастся их вспомнить.
Напоследок, все же, мне хочется вам еще раз напомнить, чему учила меня моя мама:
Не теряйте дни златые, их не много в жизни сей!
У разведчиков
[11]
Милейшие гости, спасибо, что не забываете вашего старого динозавра дальней эры, Ивистиона Андревича, а по-домашнему, Ивушку-Живушку. Усаживайтесь где уютное местечко найдете. Я же поднесу вам чайку-сахарку с крендельком, не гневайтесь на скудность, угощу, чем Бог дал, другой раз удостоится мне почествовать любезных гостей мятными пряниками, медцом, вареньем, по-домашнему, как варивала моя Тетя Оля.
А сегодня расскажу вам еще кое-что о дальнем, почти забытом прошлом.
Известно, память многое искажает. В любом человеческом поведении, если поискать, можно найти и положительные, и отрицательные моменты. Так, например, если при Советах, обливали дореволюционное прошлое помоями, «выносили на улицу» лишь хлам, то у Дяди Вани был обратный подход. Он старался мне показать все наследие, достойное уважения, но затертое во имя каких-то абстрактных, бесчеловечных умопомрачений.
Итак, и я попытаюсь вспомнить ценности, которые мне посчастливилось узреть в моем детстве, благодаря усердиям моего дорогого Дяди Вани.
Так, мои родные решили, что не подобает мальчику воспитываться как девочке, или, по французской поговорке, возиться исключительно в женских юбках. У мальчика свои призвания, как у девочки свои. С этим, современное поколение может поспорить, точить лясы, а тогда так считалось и не иначе. Ну вот, на одно лето меня записали в разведческий лагерь, возглавляемый Богдановичем[12].
Севр. Фасад дома Шмелевых на Соловьиной улице. 1929–1934.
Лагерь располагался на лужайке, на берегу канала Буре, на опушке соснового леса, недалеко от местожительства Шмелевых, километра два-три, на границе Капбретона и Оссегора, так что Шмелевы могли всегда за мной следить.
Место было идеальное: почва – чистый песок, одичалый канал походил скорее на дикую неглубокую речонку, обросшую местами камышами и водорослями. Над водой красовались синие стрекозки, а в заливах шмыгали водяные паучки. Канал уходил куда-то далеко, в неведомые царства, но впадал совсем близко в океан, так, что при сильных отливах можно было ползать как крабы по песчаному дну, а при приливах плавать в чистой морской солоноватой воде и даже кататься на плоскодонной просмоленной черной лодке, конечно, под строгим надзором старших разведчиков.
От пыльной, тогда еще глиняной, департаментной, проезжей дороги нас отделяла сперва железнодорожная насыпь. Там проползал раза два в день поездок из трех зелененьких, игрушечных вагончиков, их тащил неуклюжий, смешной, вроде жирного, толстопузого хруща в черном панцире, как бы с трубой на носу, формой усеченного конуса, основанием вверх, покрытого решеткой, против искр. Он пыхтел, что было мочи, и отчаянно гудел, когда подъезжал к мостику, чтобы нас не задавить.
Капбретон. О. А. и И. С. Шмелевы, А. И. и К. В. Деникины, Ивушка и Мариша Деникина.
Так как шпалы раскладывались без щебня, прямо по песку, то рельсы слегка прогибались под колесами толстопузого хруща, что меня очень занимало. В те дальние времена можно было еще сговориться с машинистом, чтобы он на полпути замедлил ход, или даже остановил поездок, давая возможность ловкачам спрыгнуть на насыпь, не поломав себе ног.
За насыпью растягивалась еще длинная лужайка до другого проезжего одноколейного мостика, с которого храбрецы ныряли при полноводии.
На лужайке кочевала какая-то французская колония, но мы с ней мало общались. Это был не наш мир.
Вам хочется узнать, как мы сами кочевали? Так пойте со мной марш:
Лагерь город полотняный. Морем улицы шумят, Позолотою румяной, Медны маковки горят…?Увы, наши улицы морем не шумели, а медны маковки румянцем не горели, ибо таковых у нас не было. Наш город полотняный состоял из десяти, а может и больше серо-буро-хаки-крепких палаток. Дождя мы не боялись, не потому что мы были «не сахарные», как мы любили прихвастнуть, а потому, что палатки были непромокаемые, ливень нам был нипочем, мы спали на деревянных нарах, с набитыми душистым сеном тюфяками примерно на аршин над землей, от сырости. Я точно не мерил. Мурашки конечно ухитрялись нас навестить. Мышата же и им подобные нас не тревожили хоть случалось, что они рысцой прошмыгивали под нарами. Но мы знали, что им было страшнее нас, ибо по сравнению с ними мы ужасные великаны-Святогоры, а они же принадлежат племени ничтожных презренных лилипутов. Притом, они наверно воображают, что для нас, крысоедов, они вкусные (как мышата для котов, мушки для пауков или как лягушата для цапель), что мы будем на них охотиться, чтобы их живыми слопать. Итак, разумно, нам бояться было нечего. Но все же, когда мы слышали шорох под нарами, нам становилось не по себе, и мы успокаивали себя, рассуждая, что, мол, мы не одни, а нас целая компания дружных ребят, и в случае атаки мы способны были им дать строгий отпор нашими посохами. Но, конечно, о наших страстях мы ни с кем не делились. Ведь мы – мужчины и бояться – позорно.
Вы спрашиваете, что это за посохи у нас. Дело в том, что мы были обмундированы как скауты[13], иначе говоря, по-русски, разведчики, на военный лад. У нас была пилотка (дразня малышей, которые не умели произносить чисто твердое «л», мы картавили «пимотка»). Важно было ее носить ухарски, не как блин, а слегка набекрень (молокососам-волчатам это не дозволялось). Форма у нас была защитного цвета, с разными нашивками, свидетельствующими о наших заслугах (что скауты называли «баджами»): кто умел спасать утопающих, кто бинтовать раненых, кто строить шалаши, кто стряпать, варить щи да кашу – мать нашу – на целый отряд, и пр.
Чтобы заслужить такие почетные нашивки, требовалось пройти на пять с плюсом «ужасные» испытания. Мы шутили, пугали новичков: необходимо, мол, «окунуться три раза в кипяток (как сказывается в сказке Ершова «Конек-Горбунок») и пролезть через медные трубы. Нашими нашивками мы, конечно, гордились, но об этом расскажу в другой раз. У каждого был свой т. н. посох, т. е. длинная дубовая крепкая палка с заостренным концом, заменявшая нам винтовку, но из посоха мы не стреляли, он нам скорее служил, чтобы перепрыгивать через канавки – мнимые опасные вражеские окопы, лучше даже бездонные пропасти или ручейки – в нашем воображении днепровские пороги. Ведь, по традиции, мы считали себя как бы наследниками доблестных «потешных»[14] Петра Великого.
Маршировали мы гордо под Преображенский Марш, с барабанщиком во главе, иногда даже на парадах, со знаменами, с русским трехцветным флагом. Слова марша мы, само собой разумеется, записывали в наших тетрадках по традиционной, якобы «петровских времен» орфографии, которую мы считали истинно русской, православной, а главное, противо-советской, потому что в букве «ѣ» можно было видеть православный крестик.
Знают Турки нас и Шведы, И про нас извѣстенъ свѣт На сраженья, на побѣды, Нас всегда сам Царь ведет.Всего семь куплетов, но не все младшие разведчики их знали наизусть. Запоминали понаслышке. Само собой разумеется, мы не устраивали сражения по-настоящему, как потешные, но только иногда играли «в войну». Лагерь делился на две враждующие «армии». Каждый ратник засовывал себе на спине, за пояс, фуляр определенного цвета. Соревнование состояло в том, что надо было выхватить фуляр у противника, и тогда он считался убитым. Такого рода игра напоминает всем малышам известную игру в «жандармов и разбойников» и много других спортивных игр, только названия меняются. Суть в том, что в таких играх надо проявлять ловкость, хитрость, удаль, храбрость. Победа над побежденным льстит победителю. Некоторые взрослые критикуют такого рода состязания, намекая, что они развивают в ребенке военные инстинкты. Мне же думается, что, наоборот, у всех детей и подростков таятся именно воинственные инстинкты. Известно, что ребятишки устраивают враждебные шайки и порой беспощадно, даже жестоко, дерутся. Следует дать таким отрицательным тенденциям положительное воплощение в виде атлетических игр, с уважением противника, и притом с развитием качеств и физических, и моральных: ловкости, удальства, храбрости, находчивости.
Но, извините меня, я опять отвлекся.
Наши палатки строились в шеренги, у самого соснового леса, немного на высоте по сравнению с уровнем самой полянки, которую в сильные весенние бури могло затопить.
В первой палатке почивал начальник лагеря. Были палатки специально для инструкторов, для батюшки, палатка-лазарет, палатка для регента, который учил нас петь хором разные народные и военные песни. Об этом расскажу попозже. Подальше от леса стояла кухня из досок, крытая жестяным листом с длинной трубой и с чугунной плитой.
Стряпал повар-профессионал, мы ему были лишь в подмогу, то есть старались не мешать…
Но, вспоминая о регенте, извините, не могу удержаться напеть две песни, ибо звучат они у меня в ушах, мешая думать и писать. Одна военная, веселая, удалая:
Еще солнце не всходило, дило, ди-ило, Батальон наш во цепу. Ать, два! (два раза). Первый ранен, ранен, ранен в но-огу, подпоручик Чикчирев. Ать, два!Дальше не помню. А другая романтическая:
Слети к нам тихий вечер, на мирные поля. Тебе поем мы песню, вечерняя заря. Как тихо всюду стало, как воздух охладел, И в дальней роще звонко уж соловей пропел.Теперь могу спокойно продолжать, язык больше не чешется, а уши не жужжат.
Какая наша дневная программа?
Просыпались мы под трубу, шли мыться или купаться в речку, если погодка позволяла. Потом трубач играл:
Бери ложку, бери бак, если нет, так ешь и так.
Кому надо было, бегал в «американец» – так на нашем языке называли уборную.
Потом трубач нас звал собираться «под мачту», которая стояла посредине полянки. Мы становились в строй, в полной форме, поднимали флаги: русский – бело-сине-красный и французский, пели Коль славен, Преображенский марш[15]. Дежурный нам читал расписание дня, распоряжения кому какие наряды: кто чистил картошку, а кто подавал на стол, кому похвалу, кому наставление за шалости и пр. Расходились, снова собирались на гимнастику, маршировали. Устраивались игры, чтения о русской истории, по праздникам бывала церковная служба, когда приезжал батюшка, можно было, кто хотел, исповедоваться и причащаться.
Мне вспомнилось, что обещал я вам рассказать, что от нас требовалось, чтобы заслужить нашивки, допустим умение спасать утопающего. Это не так-то просто. Ясно, необходимо самому уметь отлично плавать над и под водой, нырять с берега, знать, но главное как схватить и держать над водой за голову утопающего так, чтобы он не ухватился за вас, мешая вам самому плавать – в результате чего оба бы потонули. Как откачивать того, кто наглотался воды? Не всем малышам эти навыки были доступны. Легко провалиться на экспериментальном экзамене. Надо было усердно зубрить, тренироваться.
От фельдшера требовалось забинтовать пятку или локоть так, чтобы повязка держалась, чем дезинфицировать рану? Предварительно надо было нарвать бинтов из тряпок или из старого нижнего белья.
Как выжить одному в лесу, питаясь припасами, если есть, или ягодами, растениями, грибами, орешками как белка?
Как ориентироваться по цвету коры на стволах, по солнцу, по звездам, как пользоваться компасом, как читать карты?
Разные задания: построй себе шалаш из сучьев, дрока, листьев, мха так, чтобы не промокал; разожги костер в сырости, под дождем, располагая лишь одной спичкой, а потом его тщательно затуши, чтобы не случилось пожара.
Опытным старшим разведчикам предполагалось даже провести ночь одному в лесу. Ой, как страшно! Но зато после себя чувствуешь героем.
Подальше нашего лагеря находился т. н. женский лагерь. Там кочевали девочки-разведчицы. В наши года нас женский пол мало интересовал. Надо сознаться, мы – «волчата» к нему относились весьма снисходительно. Но юношам, старшим разведчикам, не рекомендовалось ухаживать за девицами и в особенности за разведчицами.
Иногда мы ходили в поход, например, на берег дикого Атлантического океана, сперва маршировали строем по местным мощеным дорогам, а после бродили вольно по лесным тропинкам, через песчаные дюны, посреди кузнечиков, жучков и бабочек, где росли разные пахучие травы: иммортели, дикая лиловая гвоздика, голубые, но ужасно колючие чертополохи. Местные жители уверяли, что если сорвешь голыми руками чертополох и принесешь его домой не уколовшись, то сбудется какой-то счастливый сюрприз. Я не проверял на опыте, не знаю, правильно ли это поверье или лишь бабьи враки.
По дороге запевала начинал песню, а остальные ребята дружно подхватывали. Само собой разумеется, «козлетонам» советовали не утруждать горловые связки.
Мы частенько певали:
Среди лесов дремучих разбойнички идут, а на плечах могучих товарища несут.
Припев:
Все тучки, тучки понависли, а с моря пал туман. Скажи, о чем задумал, скажи наш атаман.
Раз завязался у нас спор: надо говорить задумал или задумался. Мне казалось, что задумал звучало более «по-разбойничьи», ибо атаман должен «думу думать» на какие походы предстоит идти, какими путями и кого грабить, куда прятать награбленное добро? А «задумался» уже плосковато, по-литературному, по-школьному. Я, конечно, бывши сыном артистки, сказительницы, стоял за «задумал», но не все чувствовали этот оттенок.
Тут завязывался у нас еще другой спор, насчет Чуркина. Многие не понимали, что обозначало слово Чуркин и заменяли словом более известным, разбойник. Я же стоял за Чуркина, имя какого-то таинственного, страшного разбойника, просто разбойник звучит как-то не сказочно, «административно», скучно.
Вот вышли на полянку, сказали: братцы, стой! Бери лопату в руки, и здесь могилу рой! Пошли своей дорогой, среди лесов глухих, И песню затянули разбойничков лихих.Но всегда пропускалась одна строфа, может быть потому, что она нам казалась кощунственной:
Зарыли, схоронили, креста не ставили, Молитвы не читали и снова в лес ушли.Мы часто пели старые военные песни как:
Давно при царе Алексее В степях, где дрались казаки, На гранях могучей России Родилися наши полки.Припев:
Недаром сердца наши бьются При звуке наполненных чар, И громкие песни несутся Во славу ахтырских гусар. При Екатерине Великой, Полка золотые ряды Носились по Таврии дикой, Громили Османа орды…И т. д.
Песни нас посвящали российской истории занимательнее и лучше, чем школьные уроки, к тому же развивали любовь к нашей родине.
А вот еще другой марш в честь Каледина[16]:
На берег Дона и Кубани, стекались все мы как один, как один Святой могиле поклонялись, Где вечным сном спит Каледин, Каледин. Твои заветы твердо помним, Твоя дивизия с тобой, вся с тобой Твое мы имя гордо носим, С высоко поднятой головой, головой.И т. д.
Обычно, запевала исполнял марш целиком, а весь отряд лишь подхватывал конец второй и четвертой строчек. Получалось очень красиво, бойко, не шаблонно.
Много знали мы прекрасных песен, всех не перескажу.
Мы этим гордились и подсмеивались над «разрозненными стадами» детских французских летних колоний, тащащихся на прогулку. Они не умели элегантно маршировать, тянули «кто в лес, кто по дрова» всегда одну и ту же печальную лямку про молодого юнгу, отправившегося впервые в дальнее мореплавание. Но, увы, через две-три недели все припасы истощились, настал голод и тогда решили кого-нибудь съесть. Жребий пал, конечно, на бедного юнгу.
Спрашивалось, почему нужно было петь всегда одну и ту же песню? Разве не существовало много других интересных прекрасных французских песен? По-видимому, у начальников была мизерная музыкальная культура, а нам посчастливилось учиться у настоящего регента.
Костры. На полянке, близ речки, можно было безопасно разжигать большие, я даже скажу, «огромадные». Надо ж немножко преувеличить для шутки. Леса было сколько угодно под рукой. Весь день мы собирали сухие сучья, шишки на разжог. С нетерпением ждали вечерней зари, подготовляя спектакли. Я никогда не забуду выступление индусского мага с чалмой из полотенца, усмиряющего свирелью ядовитых гадюк. Один малыш одел на руки длинные чулки, и прячась под картонкой, изображал очень удачно каких-то кобр так, что зрителям, развалившимся на одеялах вокруг костра, становилось даже жутковато.
На костер приглашались иногда гости, русские и французы, аплодировали, всем было весело.
Приходили, мне вспоминается, Шмелевы и их хорошие знакомые Серовы[17]: мать, жена[18] врача Сергея Михеича, с дочерью Ирой[19]. Видимо, так познакомилась и сблизилась Ирочка со старшим разведчиком Кириллом Мамонтовым. Много лет спустя завершилась их дружба венчанием в православном соборе.
На кострах, конечно, много пели и просто простонародных и военных песен, пехотных и не пехотных, как например, на трехтактный темп:
Есть на Руси полки лихие Недаром слава о них громка, Но нет у матушки-России славней Изюмского полка. Нас принял полк совсем юнцами в свою военную семью. Царю мы преданы сердцами, И любим родину свою. И даже сам Париж смятенный В своих прославленных стенах Видал наш доломан червонный И синий ментик галуна.Капбретон. Пикник на берегу канала Будиго. 1927.
Мне мотив этой песни очень нравился, и много лет спустя я его переложил на гитару.
А вот еще одна колоритная, веселая песня артиллериста:
Артиллеристом я рожден В семье бригадной я учился Огнем картечным я крещен И черным бархатом обвился. Когда я был еще ребенком Корзина люлькой мне была И за канаты тормозные, Меня качали номера.И так тринадцать строф. Мало кто их знал наизусть. Были тоже и задушевные песни:
Слыхали ль деды Война началася. Бросай свое дело, В поход собирайся.С бойким припевом:
Смело мы в бой пойдем За Русь святую И как один прольем Кровь молодую…Но мальчишки, дурачье, есть мальчишки, грубияны-озорники, они коверкали:
Смело мы в бой пойдем За суп с картошкой И как один сожрем Кисель с …Не помню с чем.
Капбретон. Нач. 1930-х. Ивистион, И. С. и О. А. Шмелевы. Стоят Ирина Серова и ее муж, разведчик Кирилл Мамонтов.
За что им, конечно, поделом попадало на орехи.
Да, были дела. Ставили провинившегося под мачту, на часок, дабы одумался, но телесно никогда не наказывали. Самая страшная кара, пугали нас старшие, – это было изгнание из рая, как Адама и Еву, сажали в поезд и отсылали к родителям. Но при мне ни разу ни с кем такого не случалось.
Вы мне не верите, что так все гладко проходило в лагере, и вы правы. Ведь мальчишки – шалуны по природе. У них избыток молодых сил. Им надобно проявить мужество, силу, дабы овладеть властью над товарищами. Малыши ругаются гадкими словами, «как кучера», чисто для престижа, чтобы доказать сверстникам, что они взрослых не боятся, законы им не писаны. В былое время виновных угощали подзатыльниками, драли за уши, пороли розгами, ставили в угол на горох. Но ничего не помогало, здоровые крепкие мальчишки продолжали безобразничать, каверзничать. Наоборот, разумно считать больным смирнехонького мальчуганчика, тихоню, который не умеет шалить.
Чтобы шалить, надо располагать временем на шалости. Наши инструктора прекрасно понимали этот жизненный закон. Наше расписание не оставляло времени нам ни минутки на шалости. Мы весь день были заняты играми, гимнастикой, учебой, прогулками на океан, нарядами и пр. На кухне мы чистили овощи, накрывали на стол, мыли посуду, убирали лагерь, приводили в порядок палатки; исполняя это, мы овладевали многими полезными навыками для обыденной жизни. Притом завет нам был дан: «чтобы быть способным командовать, не давать неуместных приказов и не срамиться перед подчиненными, необходимо уметь самому все исполнять в совершенстве».
Конечно, молодым надо уметь не только трудиться, но и веселиться. Итак, на кострах любили выдумывать насмешливые четверостишия, вроде частушек, чтобы над кем-нибудь подтрунивать:
Жура, жура, журавель, канареечка жалобно поет…
Гром гремит, земля трясется, это Шуйский[20] наш несется.
Юра был симпатичный паренек, очень динамичный, но слегка упитанный. Мы впоследствии, ставши студентами, оба подготовляли конкурсы в т. н. «специальном математическом классе». Ему удалось попасть в «высшую инженерную школу» и добиться назначения «президентом-генеральным директором» (P.D.G., по-французски) какого-то учреждения. Скончался он, как многие занимающие такие посты, от разрыва сердца. Способный был малый. Даю я вам его как пример – большинство прошедших разведческую выправку находили себе путь-дорогу в жизни.
Бывало, что чествовали кого-нибудь традиционным, рифмическим речитативом:
Чикирики, чикирики чек, чек, чек! Бобирики, бобирики, бок, бок, бок! Чикирики, бобирики, бим, бам, бум! Б, Р, А, В, И, брави, браво!И кого можно, качали на руках.
У скаутов заимствовали якобы индейский напев: «Келе, келе, келе, уач…», но переложив его на русский лад, получилось:
Дули, дули, дули, дули, дули… (11 раз) мяч, мяч. Дули надули, раздули наш мяч, мяч, дули надули, раздули наш мяч, мяч!
Конечно, можно сказать, что это глупая бессмысленная прибаутка, но она вносила с собой веселость, а веселость не праздное явление.
Но вы, наверное, никогда не подумаете, что она может быть эффективной подмогой для преподавания французским детям русского языка. Все педагоги знают, что самое трудное для француза – грамматическое понятие, виды глаголов: совершенный и несовершенный виды. Русские дети воспринимали виды «с молоком матери». Они инстинктивно их принимают, не ломая себе мозгов. Французские же дети пили французское молоко, материнское или коровье, не важно. Грамматические объяснения сложноваты, трудно усваиваемы. Зато смешная глупая прибаутка дает почувствовать разницу между несовершенным процессом «дуть» и совешенными, завершенными процессами «надуть и раздуть». Притом, через песню лучше усваивается русское произношение, русский акцент.
Ну, я достаточно наболтался. Простимся на студенческой, не чересчур мудреной, песенке про химию.
Припев:
Химия, химия, сугубая химия. Чтобы химию учить, надо идиотом быть. На заборе сидит кот, у него болит живот; Под забором сидит кошка, у нее болит немножко.Нельзя же все время с утра до ночи представлять из себя строгого чопорного наставника. Можно так и катар желудка получить.
Итак, спокойной ночи! Пусть вам приснятся белый, белый слон, осел до полночи, а козел до утра!
Вечером, когда после сборища у мачты, рапорта (что случилось за день и что предвидено на следующий), после спуска флагов, пения русского гимна и молитв, все были рады услышать зорю: «спи, спи по палаткам», которую трубил нам наш трубач.
Дядя Ваня в Альпах
Красота. Я стою на краю пропасти. Большие птицы летают там далеко внизу. Мне тоже хотелось бы стать птицей и летать над пропастью.
Кто-то меня тянет за руку назад. Это Тетя Оля. Я оборачиваюсь. Дядя Ваня бледный, лежит навзничь. Тетя Оля мне объясняет. У него горная болезнь. Когда он увидел меня на краю пропасти, с ним случился припадок. Ему представилось, что я лечу в пропасть, и он не может ничего сделать, чтобы меня спасти.
Обыкновенно Шмелевы проводили каникулы на берегу Атлантического океана. Но в этом году, по совету Деникиных, они решили попробовать провести лето в небольшой деревушке Аллемонт недалеко от Гренобля. Место им понравилось, и они там провели два лета подряд.
Надо сказать, что климат летом в Ландах знойный и грозовой. Тетя Оля трудно его переносила. Ей приходилось в жару стряпать над горячей плитой, ходить далеко на базар, заниматься уборкой квартиры в два этажа. К тому же в жару мухи надоедали. Мы вешали клейкую ленту, к которой мухи прилеплялись. Но этого не хватало, они роем на нас накидывались, щекотали, не давали заснуть во время послеобеденного отдыха, а перед грозой кусали. Раз в год случалось нападение крылатых муравьев через печную трубу и трудно было от них избавиться.
В Аллемонте Дяде Ване удалось снять небольшую дачку, построенную из местного камня по старинке в лесочке на склоне горы в двух шагах от Деникиных, которые занимали дом с какими-то друзьями в самом центре деревушки.
У Дяди Вани была отдельная спокойная рабочая комната, где он днями сидел за пишущей машинкой. Садоводством тут невозможно было заниматься.
Вид – прекрасный на долину, на соседние горы. В глубине протекал поток «Eau d΄Olle» вдоль департаментной дороги (n°526).
Как и в предыдущие лета, я приезжал к тете Оле и Дяде Ване. К тому же я был рад встретиться с моей подружкой детства Маришей Деникиной. Я еще никогда не ездил в горы и для меня все было новинкой.
Иногда Шмелевы ходили на экскурсию вместе с Деникиными. Дядя Ваня не покидал своей дубовой палки. Взрослые передвигались медленно, а мы с Маришей как козы порхали вокруг по скалам.
Чаще всего мы с Маришей убегали гулять одни или с другими товарищами. Было намного веселей, нас никто не остерегал, не давал нудных указаний. Мы карабкались по руслам потоков, спускались бегом по обвалам. Теперь я поражаюсь, как мы не переломали себе ноги. Хорошо, что об этом никто ничего не знал, а не то наши родные совсем бы перепугались.
Несравненно опасней было, когда мы забирались в заброшенные подземные карьеры медной и свинцовой руды. Приходилось пробираться на четвереньках по таинственным узким проходам более или менее обвалившимся. Но какой восторг, когда мы нападали на кусочек свинцового блеска с зеленцой от меди или на кристаллы кварца. Теперь меня пробирает дрожь, когда я об этом вспоминаю. Ведь мы могли в карьерах безвыходно застрять под обвалом и никто бы не знал, куда мы пропали.
А в это время Дядя Ваня спокойно печатал на машинке, а Тетя Оля стряпала или прибирала в квартире, оберегая творческий труд писателя.
На следующий год Мариша уже повзрослела, стала «демузелькой». Ее более стали интересовать юноши взрослее нее, чем мальчишки как я.
Местность была обильна черникой и малиной. Конечно, надо было знать места. Чернику можно было собирать при помощи специального ящичка с гребнем. Достаточно было прочесывать кустики, и черника падала в ящичек. За короткое время можно было набрать много ягоды, но испортив кустики, обрывая листики и ломая веточки. Теперь такая сборка запрещена.
Тетя Оля подавала нам чернику на сладкое, посыпанную сахарной пудрой. Часть сборки шла на варенье. Но бо́льшую часть мы сушили на зиму. Тетя Оля знала все русские кулинарные традиционные навыки. Конечно, пришлось обзавестись решетчатыми широкими подносами для сушки на солнце. Надо было ягоду переворачивать несколько раз в день. Работа осложнялась, когда шел дождь. Потом важно было достать герметические жестяные коробки для сухой ягоды и стеклянные банки для варенья. Притом часами следить за варкой, чтобы дно не подгорело. Тетя Оля всем занималась, никогда не ворча и не жалуясь.
Конечно, я старался помогать, насколько на это способен мальчик, который скорее мешает, закидывая вопросами в неурочный момент, чем помогает. Так, например, я мог сортировать ягоды, очищая от листиков, выкидывая плохие, шелушить стручковый горох, ходить в лес за смолистыми шишками для растопки огня в плите, подметать пол, как меня научила Тетя Оля. Любимое мое занятие было чистить грибы, отбрасывая гнилые и подозрительные. Благодаря этому активному и развлекательному содействию, я приобрел много полезных навыков.
Впоследствии, я взял себе за принцип, что если человек хочет быть свободным, он должен научиться все делать сам самостоятельно, не завися ни от кого. Впоследствии жизнь мне показала эффективность такого принципа, и я благодарю Тетю Олю за ее терпение и умные наставления.
Малину собирать было сложней. Приходилось залезать в колючие заросли, рвать деликатно каждую ягодку так, чтобы ее не раздавить, отбрасывать червивые, иметь при себе подходящую корзинку и, особенно, опасаться ос, которые также лакомились малиной. Вернувшись домой, оставалось заниматься чисткой, сушкой и варкой, как с черникой. Сухую малину можно было использовать вроде чая.
Деникины приготовляли настойку, в бутылке на солнце с сахаром малина бродила. Потом прибавляли спирта и получался очень вкусный и душистый ликер. Местные горцы не занимались всеми этими «пустяками» и удивлялись русским «традиционным забавам».
Осенью в лесах росло полным полно грибов. Мы сушили белые на ниточке, нарезав предварительно на тонкие ломтики, солили рыжики и мариновали в уксусе маленькие белые.
Грибы тут росли не как в Ландах, а как-то иначе. Было много других сортов и, конечно, уйма всевозможных поганок. Я считал своей привилегией заниматься грибами, как меня учили Дядя Ваня и Тетя Оля.
Здесь мы не искали избушку на курьих ножках, как в ландских сосновых лесах. По-видимому, Баба-Яга не любила горную гранитную породу. Может быть, ее ступка плохо скользила по каменистым откосам, а метла плохо заметала след – не знаю.
Деникины отличались необычайным искусством собирать ягоды и грибы. У них, говорила Тетя Оля, было «грибное око». Где они проходили, не оставалось ни малейшего съедобного грибка, ни малейшей ягодки. Они собирали даже какие-то подозрительные на наш взгляд братья боровика, которые страшно синели под нажимом пальца. Я тогда думал, что это от яда. Мы боялись, что семья Деникиных отравится.
Раз Тетя Оля мне объяснила, что приезжает армянская семья, Гарабедьяны (Garabedian) с друзьями, а главное с их дочерью Лили, немного моложе меня, это было в 1934-ом г. Они наняли домик в долине около главной дороги. Мне, конечно, хотелось познакомиться с Лили.
Раз я спускался с горы более коротким путем, по руслу бывшего потока. И вдруг увидел передо мной хрупкую, нежную армяночку. Эта встреча стала началом дружбы, которая длится и до сих пор.
Впоследствии я оценил эту дружбу как вещий подарок Тети Оли.
Каникулы в Альпах были последними, незабвенными, которые я провел в семье Дяди Вани и Тети Оли.
Тетя Оля скончалась в 1936 г.
Я часто вспоминаю, как заботливая, предосторожная Тетя Оля отвела меня от пропасти, потянув меня за рукав.
Шмелев в Булонь-Бьянкуре
Вот и пятый этаж, значит, если считать по-русски, то будет шестой. Тетя Оля мне точно объяснила, как пользоваться лифтом, на какие кнопки нажимать. Но я, как спортсмен, не хочу подниматься по лифту, а бегом перескакивая через ступеньку, считаю до пяти. Вот дверь, стучусь, слышу знакомые шаги – тетя Оля.
Если судить по-теперешнему надо пояснить, что лифт – допотопный, волочится и скрипит как старая телега так, что все соседи слышат, что кто-то поднимается, и на какой этаж. Через решетку дверцы можно видеть, кто едет, к кому (может быть даже догадаться по какому поводу и посплетничать). Но в ту пору такой лифт считался последним достижением техники.
Для тети Оли из-за грудной жабы лифт был жизненной необходимостью. Когда она возвращалась с базара уставшей с тяжело нагруженной клеенчатой сумкой, проволочив ее по подозрительным пригородным переулкам, где по вечерам шатались пьяницы, а днем безобразничали уличные мальчишки, ей было бы не под силу ее тащить еще и по лестнице. Надо при этом сказать, что тетя Оля никогда не жаловалась и поэтому мало кто давал себе отчет, чего стоила ей ходьба за покупками. Ее страдания и самопожертвование поняли только после ее кончины вследствие сердечного приступа.
Квартира (2, boulevard de la République) светлая, удобная состояла из трех главных комнат: самая отдаленная в глубине, справа при входе – спальня с двумя металлическими комфортабельными кроватями, затем левее столовая с выходом на балкон, ванная, большая кухня с газовой плитой, потом уборная, а налево рабочий кабинет с большим столом прямо перед окном, и другим, низеньким, маленьким столиком, с укороченными ножками для пишущей машинки. Направо у стены – складная библиотека из досок. Напротив, в углу, прилегая к стене – широкий диван, на котором я спал, когда оставался ночевать у Шмелевых. Конечно, в красном углу с иконами теплилась лампада. Из окон была видна река Сена и над ней мост, по которому ездило много машин, если судить по тому времени. По-теперешнему, он казался бы пустынным.
Вдоль всех окон – длинный узкий балкон с железными коваными перилами, как было тогда в моде – над тротуаром бульвара так, что можно было опрыскивать водой прохожих из стакана и мгновенно исчезать в комнату. Но об этом лучше не распространяться.
Дядя Ваня страдал от язвы желудка и ежедневно принимал порошок висмута. Его в особенности и вообще нас всех лечил доктор Сергей Михеич Серов. Мне объясняла тетя Оля, что висмут осаждается на стенки двуперстной кишки и этим защищает их от кислоты. Но все же время от времени у Дяди Вани были страшные припадки. Он ужасно мучился, корчился, стонал. Говорили о необходимости операции. Но чудом все обошлось.
Сергей Михеич был замечательным врачом, оториноларингологом по специальности, а также и по общим болезням. Он был верен «Гиппократовой клятве». В любой момент дня и ночи он был готов навестить больного. Говорили, что бедных он лечил за гроши и даже бесплатно.
Капбретон. Прогулки в горах. Начало 1930-х.
Так как у него не было французского медицинского диплома, как и у многих других русских врачей-беженцев, то он не имел права лечить под своим именем. Он мог только иметь практику при клинике под ответственность французского врача. Надо сказать, что сплошь и рядом французские врачи оказывались очень понятливыми по отношению к их русским бедствующим коллегам и их опекали.
Шмелевы и Серовы очень дружили. Летом мать и дочь приезжали в Капбретон, гуляли все вместе в лесу, по дюнам и по берегу океана. Отец же надолго оставался в Париже, где работал при клинике. Мать и дочь всегда одевались в белое. Тетя Оля прозвала их стрекозами, ей казалось, что они как бы порхали по дорожкам. Обе они были очень набожны, чувствительны и по характеру сблизились с тетей Олей.
Надо сказать, что малышом я что-то вроде как влюбился в Ирочку. Она водила меня в лагерь разведчиков, расположенный на берегу одичавшего канала Буре. По дороге я ей наверняка надоедал моими бесконечными вопросами – почему, да отчего? – Мне все хотелось знать, несмотря на пословицу, которой мне не раз грозили: «много будешь знать – мало будешь спать, а мало будешь спать – скоро состаришься». Ирина терпела своего «банного листа» и ласково мне отвечала, как могла. Впоследствии она познакомилась в лагере со «старшим разведчиком» Кириллом Мамонтовым и вышла за него замуж.
М.А. Серова (жена др. Серова), Ивистион и И.С. Шмелев. Нач.1930-х.
Я снова встретился с ней много лет спустя, она уже была старушкой, у нее на квартире (93, Boulevard Murat, 75016 Paris, 7éme étage), и даже ее не узнал. Она заботилась о своем парализованном муже, после сердечного удара. На ее лице всегда царила доброта, озабоченность о своем ближнем.
Но я что-то слишком увлекся, все хочется вспомнить, поделиться воспоминаниями о замечательных русских беженцах, с которыми мне посчастливилось сблизиться. Но, извиняюсь, я совсем отклонился от намеченной темы. Итак, продолжаю.
Сергей Михеич знал все сложности, связанные со здоровьем дяди Вани и тети Оли. Шмелевы всецело ему доверяли и обращались исключительно к нему. Он лечил также и меня.
Увы, когда у тети Оли случился сильный приступ грудной жабы, Серова в Париже не было. Дяде ванне пришлось экстренно вызвать другого известного русского врача Чекунова, который не знал об аллергии тети Оли к некоторым лекарствам и чтобы снять ее боли, он сделал впрыскивание какого-то болеутоляющего (мне помнится название вроде как «пантапон»), которое она не переносила и тетя Оля уснула навеки.
Дядя Ваня в отчаянии обвинил врача в убийстве, заплатил ему символически «30 серебряников», как в Библии Иуде.
Но надо сперва рассказать, как жили Шмелевы у себя на квартире, на «пятом» этаже.
Все материальные заботы лежали, конечно, на плечах тети Оли. Она и приводила квартиру в порядок, и ходила на базар, и стряпала, и за мной ухаживала, когда я там жил – вязала мне фуфаечки, кофточки, чулочки, кроила и шила рубашонки, лифчики, штанишки, мыла, штопала, гладила. При этом, она, как наседка, целиком обслуживала дядю Ваню, чтобы он мог всецело отдаваться своему писательскому делу.
Случалось, что дядя Ваня бродил по коридору, из комнаты в комнату. Тетя Оля меня тогда просила не шуметь – «дядя Ваня работает». Я, конечно, не понимал – дядя Ваня мысленно обдумывал будущий рассказ, потом садился за пишущую машинку и печатал. После, он читал черновик тете Оле и корректировал, считаясь с ее замечаниями, уже ручкой.
Вспомнилось мне сейчас, не знаю почему, что тетя Оля могла говорить только полушепотом, так как у нее были подорваны голосовые связки. Она мне рассказывала, что когда она была еще девочкой, какой-то пьяный мужик влез к ней в комнату, и она от испуга так закричала, что порвала связки, и с тех пор не могла громко говорить.
Ей все же удалось меня обучить некоторым песням. Мне и теперь слышится ее слабенький, ласковый голосочек. У меня сохранились в душе все мотивы и многие слова. Более полувека спустя я сам их пел своей жене Серене, обучая ее русскому языку и вспоминая добрую тетю Олю:
Как по улице Варваринской Шел Касьян мужик камаринский Голова его всклокочена И дешевкою подмочена…Следует более пятидесяти куплетов, описывающих все его смешные и трагичные приключения с городовыми, с семьей – бабой и малыми детишками. В конце песни уносят на погребальных носилках скончавшегося от запоя пьяницу Касьяна. Тетя Оля мне объясняла, что именинники Касьяны празднуются в конце февраля, следовательно, раз в четыре года. Значит, в день ангела все Касьяны напиваются за четыре года и шатаются по улицам, пока не падут замертво. Но Касьянам это простительно, их надо жалеть.
Другую грустную песенку я записал в своей тетрадке:
Ночь была, сверкали звезды, На дворе мороз трещал, Шел по улице малютка, Посинел и весь дрожал.В трех четверостишиях рассказывается, как добрая старушка его нашла, напоила, накормила, в постельку уложила и кончается поучительно:
Бог и в поле птичку кормит И поит росой цвето-ок. Беззащитного сиротку Тоже не оставит Бог.Еще слышится мне, как полушепотом тетя Оля мне напевала про «ухаря-купца», который споил молодую крестьянку-красавицу и обесчестил ее:
Ехал с ярмарки ухарь-купец, Ухарь-купец, удалой молодец. Вздумал купец лошадей напоить, Вздумал деревню гульбой удивить. Вышел на улицу весел и пьян В красной рубашке, красив и румян. Старых и малых он поит вином: Пей-пропивай, а потом наживем…И к тому тринадцать куплетов, все у меня точно записаны. Я их отыскал где-то в старых песенниках.
Много еще других песен напевала мне тетя Оля, таких как:
В последний нонешний денечек Гуляю с вами я друзья, А завтра рано чуть светочек, Заплачет вся моя семья…Речь идет о рекруте, который должен покинуть семью, а главное, свою молодую «дорогую, с которой шел он под венец». Я начинал плакать.
Сколько я еще слышал прекрасных, настоящих русских песен! Многие, по-видимому, уже не в моде. Их никто не поет. Их заменили какие-то современные, авторские, более или менее под народный лад.
Теперь мне трудно вспомнить, кто первый именно меня обучил каким песням, так как некоторые из них пели и тетя Оля, и моя мама Юля, и Ксения Васильевна Деникина. И разведчики вечером у костра, и квартет Кедровых и пр.
Дядя Ваня тоже меня кое-чему научил, про гибель Варяга:
Наверх, вы товарищи все по местам, Последний парад наступает: Врагу не сдается наш гордый Варяг Пощады никто не желает …А также и задушевные как:
Что затуманилась зоренька ясная, Пала на землю росой? Что призадумалась, девица красная, Очи блеснули слезой?Он учил меня также скороговоркам:
Из-под топота копыт, пыль по полю несется.
На дворе трава, на траве дрова, на дровах сова.
Чтобы правильно произносить звук «р» не картавя, как большинство детей-эмигрантов.
Или еще подражая индюшке и индюку, он нарочно гнусавил, растягивал, «мямлил» пискливо:
– Федор, Федор, купи башмаки.
А индюк гласил бодро, громко, скороговоркой:
– В Туле были, не купили, теперь нечего покупать.
Современные педагоги настаивают на оппозиции между обучением и воспитанием, и развивают на эту тему умные теории, как реализовать эффективно то или другое. Ни тетя Оля, ни дядя Ваня не высказывали подобных воззрений передо мной, а просто действовали своим примером, как они сами жили, и также вдохновляли «исканию правды» своими песнями или сказками.
Было у Шмелевых радио, его установил наш знакомый электротехник Крячко[21]. Тогда мало у кого оно было. В те давние времена установка была сложным делом. Необходимы были разные аккумуляторы и к тому же специальные сухие элементы. За батареями надо было следить: подливать дистиллированной воды или, наоборот, кислоты. К аппарату присоединялась особая громоздкая антенна, которую надо было поворачивать в зависимости от погоды и от нахождения передающей станции.
Иногда звук ослабевал и надо было быстро крутить разные кнопки по циферблатам, чтобы его восстановить. Это раздражающее явление называли «фадингом».
Чтобы поймать музыку, тоже надо было «нащупать» ее по циферблатам и направить антенну надлежащим образом. Но, несмотря на все затруднения, радио приносило нам большое удовлетворение.
Дядя Ваня очень любил «Болеро» Равеля и «Персидский рынок» не помню чей, которые тогда довольно часто передавали «по волнам». Слушали мы также оперы. Ведь дядя Ваня некогда мечтал стать оперным певцом. И дома певал отрывки из «Руслана и Людмилы».
Раз дяде Ване предложили поставить фильм на его рассказ «Человек из ресторана». По этому случаю он решил мне показать фильм «Тарас Бульба». Мы ездили в кинематографическую залу на Елисейских Полях. На меня эта поездка и сам фильм произвели сильное впечатление.
Фильм «Человек из ресторана» не вышел. Дядя Ваня был очень требователен к искусству и не мог согласиться на трафаретные коммерческие приманки.
Мне думается, что дядя Ваня не отдавал себе отчета, чего стоили заботы его жене. Лишь после ее кончины, он осознал ее жертву. Он обвинял себя, что не отдавал ей должного как подруге жизни. Он всецело был поглощен своим писательским трудом и, как сам потом говорил: «прошел мимо жизни».
Действительно, тетя Оля воплощала преданность и любовь, щедро жертвовала своими силами и здоровьем, в любой момент была готова ответить на все желания, даже на прихоти и капризы своего мужа. Она готовила ему его любимые блюда. Кои требовали присутствия на кухне на ногах у плиты целыми днями. Так как у него были искусственные зубы (он часто шутил над поговоркой, что он, мол, может положить зубы на полку, то есть сделать то, что в народном сознании обозначает верх невозможности, как также поцеловать себе локоть), она долго отбивала бифштекс дном бутылки, протирала овощи через решетку.
Чего таить, дядя Ваня был гурманом, лакомкой, тетя Оля пекла ему пирожки: с луком, крутым яйцом. Мясом, рыбой и даже с вязигой, которую можно было найти в русских лавках. Тогда русских лавок было много разбросано по всему Парижу. Конечно, она варила кисели с разными экстрактами, в особенности с клюквенным. Она пекла также ватрушки, песочные торты с вареньем, воздушные пироги из взбитого белка, подправленные вареньем, она научила меня как взбивать белок одной вилкой до того, как он станет твердым. Мне было занятно ей помогать, я торчал на кухне и, приставая, как всегда, к ней с бесконечными вопросами – как, отчего, почему – многому научился я. Это была своего рода домашняя школа.
Париж. Ул. Республики. В квартире этого дома Шмелевы жили с 1934 по 1936. Здесь умерла Ольга Александровна.
По воскресеньям она потрошила и жарила курицу – также очень интересно – варила куриный бульон с потрохами. Иногда она готовила баклажанную икру. У нее был свой рецепт. Она пекла баклажан в духовке, снимала кожицу и рубила мелко с луком, петрушкой, укропом, и еще что-то делала, но не помню что. Я никогда ни у кого не ел такой вкусной баклажанной икры. У нее, думал я, был свой секрет, она, наверное, знала такое волшебное слово, как в сказках о скатерти-самобранке, от которого все блюда становились невероятно вкусными.
Чего тетя Оля только ни умела делать? У нее были золотые руки, несмотря на то, что пальцы ее были исковерканы артрозом. Мы звали ее «мастером Пепкой», то есть мастерицей на все руки.
Шмелевы соблюдали все православные праздники и, конечно, посты. Ездили на Сергиевское подворье исповедоваться и причащаться. Там недалеко жил богослов Карташев[22], с которым дядя Ваня всегда долго беседовал на религиозные темы. Как мне показалось из разговоров, его терзали сомнения – ему хотелось верить просто, как верил простой народ, как верила тетя Оля, но он не мог. Карташев был удивительным «расскащиком», если можно так выразиться. Когда он разъяснял какой-нибудь религиозный вопрос, можно было заслушаться. Все становилось ясным, и вместе с тем чудесным.
Его супруга, Павла Полуэктовна[23], была моей крестной матерью, но душевно сблизиться нам не удалось. Физически она мне напоминала богатую русскую красавицу-купчиху, как на картине у Кустодиева, которая висела на стене в кабинете у дяди Вани, немного высокомерную и нравоучительную. Но это, вероятно, только ребяческие предрассудки.
На Пасху тетя Оля пекла куличи, готовила пасху и меня научила, так что я и теперь сам готовлю пасху, ее вспоминая. У каждой русской семьи были свои навыки, как ее готовить. Мы ходили по знакомым, сравнивали по вкусу.
Конечно, красили яйца разными красками и даже шелухой от лука. Устраивали «катки» с горки – чье яйцо самое крепкое? Само собой разумеется, каждому хотелось поплутовать, прокатить деревянное яичко, но жульничество считалось позорным, даже запрещалось катать утиные яйца с более прочной скорлупой.
Иногда к Шмелевым приезжали знакомые. Шмелевы были гостеприимны, но не принимали «встречного и поперечного», боялись «большевиков». Похищение генерала Кутепова стояло у всех в памяти.
Мне помнятся Серовы, Деникины, Карташовы, профессор Кульман[24] с супругой, очень строгие, я их немного боялся.
Воспоминание о нем почему-то связано у меня со старой азбукой К. Ушинского «Родное слово», тоненькой маленькой бурой книжонкой – я храню ее как реликвию – конечно, с буквами «i», «ъ», «ѣ» и со страшными списками «бѣлый, бѣдный, блѣдный, бѣс …», которые надо было знать назубок, чтобы не получить кола с другими неприятными последствиями. Про ижицу «ѵ» я только слыхал по бывшей детской поговорке «ижица к попе близится», иными словами, того, кто напишет «мѵро» без ижицы, по тогдашним воспитательным правилам, ожидает порка и, как говорилось: «верба бѣла бьетъ за дело, верба красна бьетъ напрасно, верба хлестъ бьетъ до слез». У дяди Вани и тети Оли физические наказания были абсолютно исключены. Дядя Ваня сам много выстрадал в детстве, после смерти отца. Тогда за шалости детей поручали кучерам и жестоко секли вожжами. Мне это рассказывала тетя Оля, сам дядя Ваня не любил об этом вспоминать.
Навещали Шмелевых и другие писатели, журналисты, бывшие военные и др., но тогда взрослые меня мало интересовали и я даже позабыл их лица и имена.
Тетя Оля по этому случаю пекла особые пироги, подавала варенье к чаю, чай специальной марки, назывался «kousmi the, на русский вкус», на пакете был изображен самовар и, кажется, тоже улыбался какой-то усатый господин в рубахе, опоясанный кушаком.
Много еще воспоминаний, отражающих более или менее четко счастливую и печальную действительность, а может быть только детские грезы.
Так, например, жил на втором, а может быть и на третьем этаже какой-то таинственный князь, кажется по имени Волконский. Дядя Ваня о нем отзывался с большим уважением. Меня поразило то, что у князя хранилась вся его корреспонденция, упорядоченная так, что он мог сразу же найти любое письмо. Мне тоже захотелось так разложить по папкам мои письма. Но на практике это оказалось слишком «сугубой наукой»…
Как во всех семьях случалось, что муж с женой спорили, и я научился словам, неподобающим моему возрасту. Но, как говорится: «милые ссорятся – только тешатся». Так получалось у тети Оли и у дяди Вани.
Конечно, после кончины тети Оли, жизнь совсем изменилась. Тетя Оля, можно сказать, была «душой квартиры». Без нее квартира опустела, потускнела, посерела. Дядя Ваня развесил по стенам разные увеличенные снимки с тетей Олей и с другими знакомыми, среди которых – Серовы, Поповы, Деникины.
Мы ездили на кладбище «Sainte Geneviéve des Bois», с утра на целый день. Надо было добраться до центра Парижа, на площадь Denfert Rochereau, там садиться на специальный автокар и долго катить по предместьям Парижа. Об этом расскажу в другой раз.
Закончу я эту беседу, личным воспоминанием, которое лежит у меня камнем на душе – последний жизненный завет.
Как всем детям, мне случалось «разводить капризы» по пустякам. Тетя Оля всегда с большим терпением и лаской их переносила. Раз я особенно раскапризничался и как всегда уехал спать к маме на rue Chevert.
Когда на следующий день я вернулся, тети Оли уже не было в живых.
Письма И.С. Шмелева Ю.А. Кутыриной
6 мая 1924 Chalet Bernard, Hossegor, Suarts
Landes.
Милая Юличка,
Доехали хорошо. Сняли более удобное помещение – 3 комн, кухня, при ней большая к-та столовая с камином-жерлом в рост человека, с мебелью и посудой. Только вот нет пост. белья. Все наше у тебя заперто, а ключ Оля увезла (если успеешь только, а то обойдемся). Просит тебя прислать простыню нашу – в тв. чулане в нее завернуто тепл. одеяло. Простыню заверни в как-ниб. тряпку – тряпка пойдет на вытирание посуды. Живем соверш. одни. Никуда не ходили еще, дождь был все время. Воздух – морской и сосновый. Леса кругом, песок белый. Тишина. Бурчак был очень любезен, встретил нас, место напоминает Подмосковье, г-ниб. под Серпуховым. Условия для работы – лучше не придумаешь. Вопрос – удастся ли снять на июнь-сентябрь. Еще не говорил с управляющим. Цена за май-июнь 175 fr. в месяц. Но дальше, если только не сдано, – д.б. в 2 раза дороже. А переезжать еще – сил нет. Сегодня решим. Перед нами – озеро, которое уходит каждые 6 часов – воздух – живое море.
Еще никуда не ходили. Итак у нас: 2 хор. спальни, 1 б. столовая-салон, электричество. Работать буду в своей большой спальне. Внизу (мы на 2-м этаже) – автомоб. гараж пустой, и уборная с водой. Комнаты высокие потолки сосновые, как и пол. Особенно хороша дорога из Labenne Hossegor. Поезд пришел в Labenne в 11 ч. утра. Через 5 мин. – пошел «детский» паровичок с 2 вагончиками. Билет до Hossegor (2-ая станция) – 1 fr. 50 st. Если поедешь помни: Labenne – вторая остановка после б. ст. Dax. А то можно проскочить. Не увидишь по времени. В Dax приходит в 10 ч. или около. Сижу сейчас – ни звука, только петухи поют. Под окнами сосны. Пожалуйста, скажи Mme Guerin – когда письма будут – чтобы переменила adresse: Chalet Bernard, Hossegor – Svorts, Landes. Не забудь. От станции – 5 мин., от лавочки – 3 м. Народу совсем не видно.
Целуем Ивуна – крепко. Христос с вами. M. Rene – кланяйся.
Пока я доволен. Лишь бы не пришлось уезжать. Найти помещение очень трудно – на сезон очень дорого!
Напиши о себе. Так вот – на эти два месяца по 1 июля обеспечены, а там – пока не знаем. На это время ты можешь приехать с Ивуном. Сообщи, куда тебе писать.
10 июня 1924 г.
Милая Юля, Ивун спит. Интересно от кого ты слыхала, что Ив. Ал. получает 2 т. от Розенталя? Не ошибка ли? Он и Мер. когда-то получали по 1 т. в мес., но вышла гадость, дерзость даже со стороны – мне сам Ив. А. рассказывал, – и Они отказались. Вряд ли что получает.
Это очень пикантно!
Если есть некот. возможность, приезжай на ск. можешь. Тебе жизнь здесь ничего не буд. стоить – выдержим, – только дорога. Впрочем – тебе видней. Нового ничего не написал (все Кам. Век мучил), но буду (да еще цветы! С Ивуном мы завязали с садами – огородами).
Нельзя ли с Над. Мих. послать мне чернил Encre Ideal Woterman? Pour Stila? (марка глобус). Черные. Я свои испортил – развел водой! Сад-огород – не узнаешь!
Твой Дядя Vanja.
Опять Кошкин Дом отодвигается серией очерков (Сидя на берегу). Вступление напечатал в «Возрождении» (нов. газета).
На полях приписка: Ив вздумал добывать смолу!
3 июля 1924 г.
Милая Юля,
Посылаю тебе доверенность, по совету Николая Карловича Кульмана. Кажется, надо пойти 9. Rue Michelet. Paris Vie. Если дадут чеком, придется этот чек переслать мне, а я его тебе верну, поставив бланк на обороте. Николай Карлович был так обязателен – предлагал взять на себя хлопоты, но я постеснялся. Исполни уж ты, м. б. забежишь к Ник. Карловичу (5, rue des Belles-Feuilles, Paris 16e). Они отъезжают 9-го.
С «Человеком», слава Богу, устраивается хорошо (Монго писал, никому не слова! «Sangétranger»[25] идет в бл. мес. в lEurope. «Чаша» идет зимой.
К Монго тебе не надо: они уехали на 2 недели (значит, после сходи) в Савойю. Два Ив. – получил.
Ивун ухитрился уже потерять молоток и клещи. Ищут! Мошенник! Так и следит, когда я подхожу к велосипеду. Довольно мордаст и мякоти больше.
Дядя Ваня.
15/2 октября 1924 г. Капбретон с/мер
Милая Юля[26],
Ивун чувствует себя хорошо, сейчас 2 ч. дня темп. 37,2. Все время на воздухе. Питание – молоко, овсянка и печ. яблоки. Самоч. прекрасное. Погода посл. две недели – тишина, жара, солнце. Для Ива много чудесного: пролет птиц. Вчера к вечеру видел гранд станицу журавлей. Кроме всего у нас пристраивают саль а манже, с камином, кухня будет соединена с домом, и я думаю взять на лето. А мож. быть (на будущий год) и на зиму… Здесь чудесно работать. Значит, Ивун прилип к стройке и темент (так!) теперь воочую видит, и болтает с рабочими, и все его ласкают. Сегодня на заре выкинул такую штуку – разбудил нас. Говорю – спи, спать хотим. Он что же… Все равно вы не сможете спать, рабочие стучат…! Ну, я его похвалил за такую работку мозгов. Твое письмо ему сообщили, он хотел бы ехать, но… надо мне все увидать, а потом я все расскажу мамочке! Дни золотые, голубые. Бессмысленно ехать сейчас в Париж, т. более, что мальчик должен поправиться. Воздух здесь нельзя и вообразить! Пряник – сосны, сушь, мальчик ходит с голыми руками-ногами и шеей. Загорел. Такого воздуха не было и во все лето и в Оссегоре. Ветры кончились, с юга веет. На нашей луговине ловят сетями птиц. Ивун возмущен (я ему прочитал новый рассказ, который он, конечно, понял в пятое через десятое, но понял).
Я написал этюд Птицы, на 250 строк, но тон, чую, кажется, вообще, и в своем роде, – лучший из моих рассказов, вообще, как этюд. Прочтешь. Еще я долго работаю над моим «Каменным Веком», самый большой из всех летних: на 2 с половиной листа. Почти готов, через дней десять кончу перепиской[27]. Раньше я не двинусь, разве внезапное ненастье погонит.
Прошу о Человеке из ресторана, возьми у Монго (сб. Знание) и немедленно высылай заказом. У Синаева непрем. побывай, хотя бы в студии, рю дез Акасас, кажетс. № 20. Горячий привет мой и Оли.
Что ты писала о какой-то коробке. Не пустая! Ничего не получили. И вообще ты толком ничего не напишешь о своем деле, какие планы, какой результат, как со службой. Брось истеричные письма, с причитаниями о мамуличках и ласочках, – это все пустое, как опадающие листья, словоизлияния, вполне понятные, но впустую. Не так показывается любовь. Я в твоих чувствах к мальчику не сомневаюсь, но… больше ровности, будет глубже и крепче и полезнее для нервов твоих и его. Хорошо, если твои дела будут крепки: лучше, чем пустопорожнее сидение в лаборат<ории>, где нет хода[28].
Не забудь о шоколаде для Оли – только это, она призналась, ее поддерживает. А устает она ужасно! Я ничего не могу поделать, так все складывается. А еще парнишка было опять свернулся. Опять диета и лишняя возня с блюдами, с протиранием кашек и прочими клизмами. Но… так все сложилось, и ты понимаешь, что ты-то ни при чем и я вовсе не думаю пенять: мальчик чрезвыч. мил и нам было бы без него пусто совсем. Думаем пробыть до 28 <нрзб.>[29]
21 окт. 1924 Capbreton s/mer
Landes
Милая Юля,
Деньги 145 не высылай, 100 fr. возьми, – ты отвези их Клименко. Деньги у меня есть, и вполне достаточно. Монго я не писал – сижу без денег, а, помнится, выразился так: «веселого мало, печататься негде, но я привык». И все. Слава Богу, я получил из Швеции 300 кр. = 1500 fr. Вообще, я никогда не довожу себя до кризиса. Если бы у меня не было денег (это между нами), я отдавал бы задешево свою работу; а пока я ее держу – у меня теперь более 8 листов рассказов – на худой конец – на 3000 fr. И наличные нрзб. Вот видишь. Ивун здоров, ходили вчера за грибами. Диэта продолжается. Нет, как мне с «Чашей»-то не везет! И в Англии вск. заколодило, не пойму. Я болен, чувствую, упадок воли, все противно, оборвал работу над Кам. Веком. Не-к-чему! 3-й день голова болит. Шутка ли: я за лето написал до 10 листов! И все – скверно. Единственное, что еще туда-сюда – этюдик «Птицы». А остальное дрянь вплоть до Свечки и Старухи. Все меня режет. И ни на что бы не смотрел.
Пока тепло, сухо, Ив. все время на воле. Приедем д.б. к 1-му – числа не могу еще сказать. Дам телеграмм у.
Все тебя целуем, не беспокойся и не тоскуй: через дн. 7–9 приедем.
Ivoune как муха играет в солнышке, самоч. оч. хорошее – из 24 часов в сутки – 13–14 ч. на воздухе. Спит с 8 ч. до 7. Здесь уже 3 нед. ни капли дождя, ни ветра. t° в тени до 18°.
Над письмом приписано: Cela fut появилась в сент. кн. Revue de genéve. Было неск. строк в «Les nouvelles littereires» от 11 окт. Суб. № 104. Paris (6, rue de Milan 9e)
14 мая 1925 Capbreton
Милая Юля,
Бродлей ответил, что пока хлопоты его не увенчались. Он будет продолжать «демарши», но предоставляет и мне свободу, лишь бы я о результатах его известил. Как и он – меня. Поэтому, прошу тебя списаться с M Capitaine, узнать, – есть ли у него 1) издатель англ. – для Англии и Америки, есть ли переводчик, т. е. имеет ли в виду своего, с франц. яз.? Мне желательно иметь своего, с русского (а им Mme Turine). Если же Mr Capitaine имеет надежду, что ознакомившись с Garçon, его издатель поручит перевод Turine – это было бы превосходно. Но я его не хочу связывать – мне бы Человек вышел. Выясни умненько. Договор с Ficher о Garçon – совершен и я на дн. получаю 300 мар. авансу (письмо есть сегодня из Берл.). Идет и в Швеции. Это мож. написать. О Человеке напиши (англ. изд.), что предварительно хотел бы узнать условия издания. Будь добра, помоги выяснить. Хотя почему-то надежды у меня мало. А м.б. у Mr есть и в сам-деле изд-во? Связи… Это было бы превосходно.
1) Пришли нам только что выпущ. нового фасона марки – нов. или погашенные – выставочные – Оля пошлет в Москву. Да и Ive желает – новые есть за 25 c. «architecture». И для Швеции.
2) Не посылай «овес» – дорога посылка и здесь есть – и Iv. нравится.
Все получено – по 7-50 за посылку – дорого! Разор!
Как дела? Все напиши, а не отмахивайся «беллетристикой» и причитаниями.
Твой строгий Дядья Ваня.
Что же Charlotte – на мое огромное письмо?!
Стыдно!
Ives пока в блестящем виде. Погода теплая 3 дня без дождя. Огород – блеск.
16 мая 1925 Capbreton
Юля, очень прошу тебя регулярно, или за 2–3 дня бросать в ящик «Посл. Нов.». Если писать о перемене адреса – чорт их знает – кончат, пожалуй, посылать газету. Необходимо мне получать «Звено». Очень прошу – будешь в тех местах, не знаю адреса (выходной по понедельникам) – подпишись на мой адр. Capbr. на 6 мес. с 15 мая по 1 ноября.
Деньги я уплачу при встрече.
Пожалуйста!!
Твой Дядя Ваня. Сейчас кончили с парнем его огороды! Он – молодец!
16 сент. 1925 г. Capbreton
Милая Юля[30],
Я все тщательно обдумал – и вижу, что при сложившихся условиях твоей деятельности, – нам на rue Chevert жить невозможно. Спасибо тебе, пожили под твоим кровом б. 2-х лет, было спокойно, родственно, я мог работать в сравнит. тишине. Ломать твой новый уклад мы не в праве, требовать от тебя самопожертвования также. Приходится нам свой наладившийся уклад менять, но к этому нам не привыкать – или лучше сказать – надо к этому привыкнуть и, скрепя сердце, рвать образовавшуюся живую ткань. Сама же понимаешь, что для моей работы всякие стеснения и беспокойства – яд. Писатель должен иметь хотя бы конуру, но вне сутолоки – базара. Я все знаю, т. е. ясно представляю себе, как через твою-нашу квартиру будет проходить «улица», с ее пустяками, спорами, разговорами, звонками, бабами, болезнями, возможными, надо это предвидеть. Это все равно, что поместиться с писанием в проходе у Au bon marché[31]. Конечно, тебе представляется случай снять кв. в № 13, но ты и сама пишешь, что это устраивать мастерскую, а для «приемов» нужен № 12. Нельзя, при всей моей воле к терпимости, соединить несоединяемое, взять в один короб тонкое стекло с камнями.
Мы обсудили с Олей и видим ясно: надо нам – или остаться в Capbr. или – искать за Парижем, хотя бы в 2 час. езды, а иногда нам не пришлось бы уезжать на лето. В таком случае, конечно, нам – горе наше! – придется расстаться и с Ивочкой, к к-му мы привязались, очень. Но… надо быть спокойным – рассудительным. Раз дело так стало, я не смею жертвовать единственным, что мне осталось в удел – моим духовным миром. Я не могу пока, решиться на «самоубийство». Я должен выполнять поставленное мне задание жизни. Как-то невольно и незаметно случилось, что мы оказались выдавленными из того угла, м.б. последнего, который судьба милостиво послала нам чрез твое родное последство. Мы все делали, что могли, чтобы помочь к-ниб. налаживанию твоей жизни и Ивика, и в данном случае мы не можем рассматриваться как себялюбцы. Я ищу minimum’а. Случайно в прошл. году ты натолкнулась на твое теперешнее дело. Мы смотрели, ждали, как наладится и не думали, что наше личное разладится. Теперь – видим. Уже – долой приходится, выдвигаться из кабинета. Ты очень мило его проектируешь. В другое место, а будет неудобно, или понадобится если, можно и – дальше передвинуть. Зачем тебе ломать голову? Проще – нам выйти и снять, заарендовать домишко пусть в 2–3 час. езды. Теперь, я думаю, тебе легче будет жить, возьмешь бонну или компаньонку для Ивчика – ибо тебе не сладить. Иву надо ходить в школу. А мне надо работать. Я за это лето очень мало писал, и тревога за непрочность нашей зимней жизни была тут не без влияния. Я все думаю, да куда же я поеду? И, возможно, я решусь остаться здесь. Меньше расходов. А два ли часа из Парижа или 12 – одинаково – ночь. В Париже мне – 2–3 раза в год надо бы быть. Или, если решим под Париж, мы приедем к 1 ноября, если б. живы, и я буду крутиться искать место для жительства. Сегодня пишу П. Пол. Карташевой – прошу совета. Напишу и зятю Чирикова.
Ради Бога, не думай, что здесь обида, т. е. какое-то с нашей стороны упрямство. Ты не им. права, пред Ивчиком, думать так, иначе ты не поверишь в наши чувства к нему и тебе. Здесь – повелительная необходимость. Ты как-то безвольно поставлена была (или пошла бездумно на это) в направлении развала наладившейся жизни. Теперь менять поздно.
Посылаю тебе письмо M Rene. Я ему завтра отвечу, что деньги 350 fr. переданы тебе, что, конечно, Ив д. начать шк. занятия. О том, что мы будем жить отдельно, – я не буду писать. Твой Дядя Ваня.
Привет О. А.
(нед. 2 тому)
На днях мы с Ives совершили на вело. б. путешествие – до 40 kl. ездили на Океан, через Labenne. Молодец был! Ива купается и в море и солнце. Теперь чуд. почти жаркие дни.
5 окт. 1925 г. Capbreton
Милая Юля,
Спасибо за память. Конфеты получил. Но не получил хотя бы двух №№ «Возрождения» – № 121 от 1 окт. (четверг) с моим очерком Russie. Один номер мне прислан, обычно; мне нужен еще, для переводчиков. Ты, очевидно, забыла. А надо бы Возрождение читать, там больше правды о России, чем в явно враждебным всему нашему, родному, в «Посл. Нов.».
Полагаю, что далее 20–23 окт. не проживем здесь. Надоело, да еще меня всегда беспокоит мысль о необходимости отъезда, а отъезжать все равно надо – так уж лучше скорее. Да и квартирный вопрос надо разрешать.
Благодари О.А. за ответ.
Твой Дядя Ваня.
Приписка: Прочитай Липе и брось читать подлые газеты – изменников.
Далее следует письмо Ольги Александровны Шмелевой.
8 окт. 1926 г. Capbreton
Юля, милая,
То, что пишешь, улыбается, особ. мал. квартира у старичков. Но… солнечная ли она? Мы могли бы скомбинировать так: мы – 350, ты – «supplément», если пороху хватит. Но… т. к. это через Петра Владим., а П. В. – для нашего дор. друга ищет, то вопрос, как решит наш друг. Имей в виду, что я сейчас в 1 ч. дня говорил с ним и сообщили, что ждать будут до вторника, как ты пишешь. А посему: он выедет не во втор., а в понед., и следов. во вторник будет смотреть в Monmor. Постарайся устроить так, чтобы П.Вл. позвонил тебе, чтобы тебе к-ниб. удалось выкроить время и вместе с ним решить вопрос. Если друг не возмет мал. кв. – бери ты немедленно, если находишь, что удобно. Обед. можно, правда, в кухне, но мне необходима комната для работы, вполне свобод. от всяких вмешательств. И какая мал. спальня? Если такая, что только для одн. мал. кровати, то как же опять? Тогда лучше б. квартиру, но кто будет топить ее? Я истопником б. не могу. Во всяком случае, надо это все решить до 20 окт., т. к. я тогда буду здесь искать на зиму. Пишу одноврем. Павле Пол. – прошу справ. в адресе и дать знать тебе, м.б. в Со? У Тесленко побывай, поспрошай.
В Со и где Карташ., – удобнее и для тебя и для нас, чем с Gare du Word. И дешевле и скорее. Для больших, задум. работ, мне надо спокойствие и изоляцию. И можно ли в б. кварт. изолировать отопление только для 1 этажа? Сделать не можем, т.б. эксплоатировать коммерчески. Кто будет топить? Я не способен. Что Медон! К-будто только и свету! Правда, он относит. удобен. А оставаться на зиму в Allouette нельзя. Здесь летом хорошо, а то хол. и сыро – на земле.
Я здесь буду искать виллу со вс. удоб., и солнцем, и в 1-м эт. Для нас это важнейший вопрос. Что кас. нас – мы бы отсюда не поехали. Но мы готовы пойти навстречу – и искренно – твоим духовн. интересам – для тебя и Ива, – лишь бы это не было сопряжено с большими тяготами для Оли и с затруднениями для моих литерат. занятий. Пожал., все сообщи и приложи усилия.
Дядя Ваня.
Пятн. 22 окт. 1926 г. Capbreton
Милая Юля,
Пишу тебе совершенно секретно. Многое меняется. Эти дни Оля чувств. себя плохо. Полагали, что инфл<юенция>, гастрит, задержка регул (неск. мес. их не было, но дол. б. прием лек. с хиной – вызвали. Боли в ниж. ч. живота относили на счет появл. кровей. Она чувств. бол. тяжесть в животе. t была 37-6, вчера вечер. 38, 8. Веч. 27. 3. Сегодня у 36,8. Вчера и сегодня б. Vidus. Вчера предполагал, не аппендицит ли? Компрессы, клизма. 2 дня не ест. Сегодня после внутр. исследования, он сообщил мне, что нащупал дов. б. с два кулака опухоль. Думает, что фиброма. Пока, говор. основ. нет чрезвыч. спешить… Но, конечно, лучше показаться в Париже хирургу. Мож. протечь и 2-3-4 мес., но пусть решит. Завтра опять приедет. Сейчас разрешил есть. Съела тарелочку супа легюм. Оля боится, что буд. боли, и потому боится есть. Как мне жалко! Она ведь оч. терпелива. При клизме – боли. Очевидно опухоль давит на различ. внутр. органы. 3–4 ночи сон с перерыв., боли. Только после решит. настояния врача – легла совсем со вчерашн. вечера. А то все – работала! Я с ней бился, умоляя ее лечь. Через силу работала! Теперь все я взял на себя, это ничего, готовил сегодня. Ив сыт, ухожен ходит в школу. Сегодня первый дождл. и хол. день.
Вот, значит, нам необходимо выбраться в Paris, как только Оле разреш. встать. Но м.б. придется повезти и в болезн. состоянии. Vidus полагает, что через неск. дней боли м.б. пройдут. Дело в том, что кровотеч. продолж. Но регулы ли это, или кровотечение – завтра его расспрошу.
Ради Бога, надо найти квартиру. Все равно, пусть 600–700 – неважно. Надо найти сухую, теплую, со вс. удоб… Пусть даже 1000. Чорт с ними, с деньгами. Но – нужно! Для меня теперь иного пути нет. Операция фибромы, если это так д.б. сделана, и я буду просить Алекс. и Сиротинина. Но надо скорей куда-ниб. выехать. Понятно не на Chevert.
Умоляю тебя, прими все меры. Тетя Оля святая, всю себя отдала нам. Я ей не говорю, что находит Vidus. Помни! руковод. только ее сообщениями. Я не хочу и не могу раньше времени ее тревожить. И пожал. никому не говори!! Твердо мы еще не знаем. Оле я сказал, что апендиц. нет, а боли в связи с регулами и м.б. простудой. И спина болит. Ослабела очень!
За Иву не тревожься. Он все время весел, ест хорошо. Суп я сварил оч. хороший. Ел он сег. суп, телятину, ветч., ябл., нашу овсян., молоко. Поет все время. Я пока справляюсь и, надеюсь, справлюсь. Надо будет для уборки и посуды – попросить соседку менажить.
Работу пока оставил, но докончу роман (одна-две главы). Он уже начал выходить со след. кн. Совр. Зап. – 17 листов! Никогда такого длинного не писал. На 6 л. Больше Сол. Мертв.
О средствах я не беспокоюсь. Они будут. Лишь бы доставить Олечку в Paris и показать хор. докторам. Повезу, думаю, на автом. в Бибону, а оттуда прямо спальн. вагоном, без пересадки.
Но надо квартиру. Если в Monmoranci хорошая кв., надо брать. Лишь бы не холодная.
Ну, Бог с тобой, Оле не проговорись. И не тревож. за Ивушку. Сегодня ему выдали книжку-азб. Ив доволен.
Твой Дядя Ваня.
Судьба ведет, чтобы мы поехали на зиму в Paris. Да будет сие. И должно быть. Ради Бога устрой, употреби все средства! Иначе придется в отель куда.
Д.В.
13 ноября <1926 г.>, субб. 3 ч. дня, только что вынул из почт. ящ. твое письмо о Sévres.
Ну, и прекрасно, милая Юличка, прекрасно. Дай Бог. Я и Оля, верь, искр. не упрекали тебя, а ты понимаешь, какая была тревога.
Третий день – солнце, тишина, весна, птицы к-е задержались на полете и поют днями. t° – в комнатах 22° – все открыто, лето. Ночи оч. свежи, но t° не менее 13 (ночью). Ив как пчела, здоров, весел, аппетит прекрасен. Ел 7-мь сортов фруктов, кажд. день пирожки, и 2-е кор. омаров съели с ним. Говорит – Царский пир. За него мож. быть покойна. Все говорят – окреп, вырос, молодчина. Учит-ца в высш. степ. довольна им. Очень жаль что берем<енная>. Боли у т. Оли прошли. Она выходит и я бьюсь с ней, не даю делать. Но она ухитрилась вымыть 3-го дня Ива!
Спешу на почту. Завтра получишь два письма.
Выехать думаем в понед. или вторник с веч. 6½ поездом, кот. приед. Quai d‘Orsay – в 8 ч.?
Я точно извещу м.б. во вторник, приедем в среду… Дам депешу.
Все твои <нрзб.>
Дядя Ваня.
Письма И.С. Шмелева И. Жантийому-Кутырину
[32]
Ивик![33]
Как тебе эти картинки нравятся? Изволь мне их привезти лично! Когда приедешь – извести. Будем встречать с музыкой!
Soorts-Hossegor[34]
А я уже написал хо-о-ро-ший рассказ[35], но… это entre nous[36]!
16 мая 24 г. Ивуну.
Имею честь довести до вашего сведения, уважаемый со брат-писатель, что сегодня я ездил на велосипеде, а переднее местечко было пусто: оно, кажется, для Вас! Потом заходил ко мне ста-а-рый рак, спрашивал, скоро ли ты приедешь. Принес тебе раковинок с океана. Тетушка Крабиха тоже справлялась. Видел сетку для креветок, но не знаю, годится ли для нас, – ты эти дела хорошо знаешь. Потом рабочие спрашивали, скоро ли мужчина-молодчина? И видел Марху Ивановну, живет в Капбретоне, глаз совсем у ней окривел, по тебе плачет. А еще вот что: август и сентябрь будем жить в Капбретоне, в маленьком домике[37] среди луга и пшеницы, и очень близко от океана! И… может быть, даже покатаемся в автомобиле! А будешь баловаться – посажу тебя в сарай, где очень много мышей, которые все становятся на задние лапки и поют: е-хал казак за Ду-на-ай… А вчера у нас были пирожки! А завтра будут блинчики! Мадам Лятьер принесла нам фромаж блан[38]! А хлеб сам приезжает на автомобиле, и ветчина тоже, а капуста на рыжей лошади, и когда подъедут – трубят в рог. А ездить за креветками мы будем на велосипеде: мне его дал на все лето один мой читатель– почитатель. А французы тут уже знают меня, читали Ле Солей де Мор[39], и… ну, об этом мы с тобой только можем говорить! И уже где-то поставили одному писателю доску на доме (он умер), и кто читал мое Солей – написал: Ле Солей де Мор! Можешь прочитать в Матэн[40] Приезжай!!!!!!
Родителям поклон, а тебе роза на щеки! Твой дядя Ваня – писатель, как и ты.
Ив. Шмелев.
Целую Вас, мои милые, дорогие Юлюша[41] и Ивик-живчик. Ждем. Пиши, когда встречать.
Тетя Олечка[42]. Есть ли деньги – пиши.
13 мая 1928 г.
Capbreton[43]
Ив! Жди особенных марок из Америки – это тебе Господь пошлет, за твои «коленки»!
Новость! Знаю секрет – сразу делать лимонад – даже в лесу, даже на дюнах, на океане!
Все поражены!
А затем – целую друга и брата-писателя, только ты, лентяй, даже и письма сам не напишешь. Стыдно. У нас котенок хвостом пишет!
Помни дядю Ваню и тетю Олю.
Ну, твой Ва (неразб.)
Ив. Шмелев
Поцелуй маму.
Старик наш плох, все кряхтит. A radio кругом, даже у аптекаря.
Капбретон
5. IV. 28 г.
Милый Ивик,
перо плохое, а то бы я тебе много написал. Еще не наняли, но уже нашли дачу[44] в глуши леса; там голубятня на высочен ной сосне, а собака приносит письма (почтальонов нет!) Дача в 2 этажа, сад и лес. Ну, целую тебя, поклон маме и всем «карпам»[45] – малым и большим. Дядя Ваня.
Дорогой Ивушка! Что-то долго нет от тебя весточки?
Как ученье? Старайся, дружок
Мариша[46] принесла письмо.
Просит тебе переслать, она не знает твоего адреса. Ты, мой роднусик, пишешь куда лучше Мариши!
У нас тепло, солнце. Шишки трещат, семена сыплются, но шишки еще не падают. Ждут, когда Ивик приедет и будет подбирать. Вот что, мшусик мой, попроси маму, чтобы она заранее тебе купила эссенции для киселя, клюквенной, бутылочки 2–3 у Ростовцева[47]. Привезешь сюда. Я буду тебе варить. Дядя Ваня чувствует себя гораздо лучше, но рассказы еще не пишет. Очень хорошо у нас пахнет смолой. Марише очень понравились беседки твои.
Жду от тебя весточки. Целую щечки, курку, шейку, душку. Поцелуй мамочку. Как ее дела? Когда увидишь Марусю[48], поцелуй ее от меня и всем передай привет.
Твоя тетя Оля.
Понедельник.
10 июня 1928 г.
Воскресенье, 12 ч. дня
(жарится курица!)
Дача, где собака носит письма!
Villa «Riant Sejour», Capbreton
(Landes)
Милый Ив, Ивушка и Ивик!
Твои зеленые письма мы получили. Ничего написано, а надо бы получше! Свободней пиши, а то кажется, что ты слов но на фабрике их делаешь, одно на другое похоже. Ты пой в письмах!
Живем в самом лесу, где рыжики. Как сойду с балкона, пройду садом и огородом, где в самом конце живут куры, и – вот, я уже в лесу, а кругом, брат… твои дюны! Наверху дачи есть железный балкон, и видно оттуда: с одной стороны лес дремучий, с другой, за лужком, церковь. А от Мариши будет всего столько же, как от дачи Карповых до мостика через железную дорогу, в Севре[49], даже ближе! Автомобили мимо не ездят, хоть и есть дорога, так как дальше нашей дороги уж лес. Хозяин у нас старый, старше краба Максим Максимыча, и очень любит сажать всякие цветы. У нас в саду сливы с яйцо ростом, белые! Две собаки ученые, одну зовут «Мьярка», любит царапаться лапой в дверь. Окна у нас такие, что тебя надо поставить, да еще двух таких, как ты, – вот какие высокие. Наверху есть комнатка, куда заглядывает солнце весь день. На океане еще не были, но в ванной купались уже два раза (у моста!) И скажу я тебе по секрету, что весу во мне прибавилось около килограмма! Ходим за шишками, топим плиту углем, и надо его поджигать. Сегодня посажу подсолнушков и укропу. А больше и не буду: вся кие цветы есть, а розы по стене цапаются. Есть большая пальма и два дерева, называются – «катальпа»[50]! Две беседки такие, что дождь не пробивает, и сделаны из живых кустов! Оказывается, Максим Максимыч – краб – жив, а это помер другой Максим Максимыч, лавочник! Я теперь веду святую жизнь и ни разу еще не ел мяса! А ты учись прилежно, а там, Бог даст, приедешь на новоселье, и будем есть пироги. Только скажи маме, чтобы она написала в Прагу, как я говорил.
Мы понемножку отдыхаем. Ложимся в десять, а подымаемся с петухами. В даче у нас есть чудо: бутылка, а в ней… корабль с мачтами! А как он туда влез через горлышко – никто не знает. Мачты во всю толщину бутылки. В комнатах камины, а на каминах часы. А на стене даже ковры! Много интересного.
Ну, не забывай и пиши нам, как ты живешь и сколько «десяток»[51] получил. А письмо мое сам прочитай, со вниманием. А то я и писать не стану.
Ну, крепко тебя целуем, я и тетя Оля, поцелуй маму и всем скажи от нас поклоны и приветы – твоим новым друзьям Эндэн[52], а также всем Карпам и карпикам, и самому маленькому карпику – Доде[53] А Марусе я пришлю карточку, чтобы она не серчала. И няне[54] и Марфуше[55] поклоны, сам сходи и положи, как делают это умные мальчики. Хотел было я поехать в горы Пиренейские! Да, думаю, лучше уж мы вместе поедем, правда? Ну, вот и все.
Будь здоров!
Твой дядя Ваня и тетя Оля.
(Landes)
«Riant Sejour». Capbreton
Милый Ивик, это хорошо, что тобой довольны твои новые друзья! Да, ты человек, созданный Богом по Его подобию, и потому должен быть хорошим, добрым. Молодец!
А если все будет благополучно, приедешь к нам. Думаю, что тебе на новой даче будет еще лучше, чем у Mr Ducher[56]. Сегодня я уже спрашивал насчет велосипеда, да. Погоди, я тебе завтра напишу про Максим Максимыча. Удивительную вещь я узнал!
И мне, брат, скучно без тебя.
Но, погоди… Бог даст, и радостнее будет! Целую тебя и крещу. Кланяйся маме и всем.
Твой дядя Ваня.
15-го июня
1928 г.
Понедельник 18. VI. 28 г.
Милый Ивик,
сейчас такая жара, что шишки трещат, а одна загорелась да же, как звезда рождественская, – насилу залили! Максим Максимыч помер, увы! Хоронили с музыкой: все крабики стучали клешнями, лягушки печально играли на дудочках, а старик Омар, говорят, сказал такое надгробное слово, что даже Максим Максимыч – вдруг зарыдал и – воскрес! Опять его потащили в Hossegor[57], – и он снова живет под большим камнем!
Я его навестил. Он подал мне свою честную лапу – клешню и… пожал! Сказал: не хочу умереть, пока не увижу Ивика! Вот!! Я хожу (не езжу на велосипеде) и узнал много таинственных мест. Говорят, что в самой глуши леса есть… но об этом лучше не говорить, а надо пойти и поглядеть! Целую!!
Твой дядя Ваня.
Поклоны маме и всем, а Марусе сам вручи сию карточку!
Твой Ваня.
Христос Воскресе, дорогой Ивик, желаю тебе здоровья, и не забывай дядю Ваню!
Поцелуй и поздравь от меня мамочку.
А погода у нас плохая, холодновато, так что не грусти очень-то, что остался в Севре. А лето еще впереди, дождешься Capbreton’a.
Устал, брат, – напишу еще подробней.
Твой дядя Ваня.
3 мая 1929 г.
Capbreton.
Христос Воскресе!
Милый, дорогой мой мальчик Ивушка. Три раза целую тебя. Приехали[58] хорошо. Виллу нашу выкрасили, совсем новенькая. В доме все тоже как будто не уезжали.
Миярка очень радостно встретила нас, обнюхала, помахала хвостом и пошла домой грустная, потом пришла к нам, осмотрела комнаты, все искала тебя, больше не приходит. Все спрашивают про тебя. В городе тоже о тебе спрашивают. Дедушка зимой очень болел, а теперь здоров, много насадил. Место, которое тебе сдал на 15 лет, свободно.
Здесь зимой были сильные морозы, и мимозы погибли. У Кастолетти[59] тоже погибли. Вот тебе все новости пока узнала. Что узнаю, еще напишу. Скучно мне без моего помощника и без звоночка. Хоть, бывало, и покричу: замолчи, – а когда не ту звоночка, скучно. Жду от тебя письма, напиши, как ты устроился и как твое здоровье. Скучно красить без тебя яйца. А ты красил? Хорошо ли вышли? Как сделали пасху, хороша ли? Все напиши. Посылаю тебе ландыш из сада, и Mad. Donne[60] посылает тебе цветочек, называется «перванж» по-французски.
Милая Юличка, Христос Воскресе, целую тебя, поздравляю с праздником. Напиши, как вы там. К заутрене не пойдем. Дядя Ваня очень кашляет. Сегодня опять поставлю komandoy[61] Ночью можно застудиться.
До свидания, мой дорогой Ивунчик Цыпенька. Целую тебя, щечки, курку.
Твоя тетя О.
5 октября, 1929 г.
Капбретон
22 сентября.
Ивик,
скверно, брат, что ты ничего путного о себе не напишешь нам с тетей Олей, – пишешь, как твой кот хвостом, да еще грязным, все буковки как будто пьяные или сонные, и понять ничего нельзя. Помни, что тебе скоро десять лет! Я в твои годы целыми страницами писал, а читал столько, что тебе и не поднять, – такие толстые книги! И на все время было: и с мальчишками играл-дрался, и в училище[62] бегал, и к Троице[63] пешком ходил, и рыбку ловил, и голубей водил: ни минуты без дела! Изволь устыдиться и напиши нам большое письмо, как и где бывал с папой, и понравилось ли тебе это, и почему понравилось, и что не понравилось. Все напиши по правде, как чувствуешь. И мы с тетей Олей тогда будем знать, умеешь ли ты теперь думать и понимать.
А мы живем по-прежнему. Погода похолодала, второй день дождь. Рыбку я больше не ловлю, устал. Да и собираться надо скоро к отъезду. А ты скажи маме, чтобы она побывала у мосье Каплэн[64] и узнала, когда нам можно переезжать[65] и еще чтобы угля нам привезли по десять мешков, как и в прошлом году, и коротких —! – дровишек для ванны, сухих, непременно сухих! А еще вот что: починили ли замки у дверей? Все уст рой, напоминай сто раз в день маме, – а то мы здесь останемся на зиму. Ну, Господь с тобой, учись прилежно и будь здоров. Целую тебя в лобик.
Дядя Ваня.
Получил письмо из Перу (даль страшная, в Южной Америке). Если будешь хорошо учиться, я тебе достану из Перу – целую коллекцию. Попрошу!
6. V. 1931 г.
Милый мой Ивик, как живешь?
Поручение тебе: скажи мамочке, чтобы посылала мне прочитанную газету «Последние новости». Здесь не продают, а подписываться я не хочу. Это просто: оклеить бумажной лен той (ты это можешь!), написать адрес и – марочку за 2 сантима с №, или 2 №№ – 4 сантима (это только до июля). Пусть мама купит в табачной лавке марок по 2 сантима. Очень прошу. Надеюсь на тебя. – У Кастелетги голубки высидели одного голубенка. Рыбки – увы! – с месяц, как уснули. Но будут новые. Невесело, все дожди. Так что ты не скучай: к твоему приезду будут солнышко и теплынь. Старайся работать, не ударь лицом в грязь! Осталось недолго. Ну, целуем тебя, и да хранит тебя Господь. Кланяйся Карповым. Маму поцелуй.
Твои дядя Ваня с тетей Олей.
29 июня 1932 г.
Ланды
Капбретон, дача «Веселое житье»,
а по-французски называется –
Вилла «Риан-Сежур».
Милый мой Ивик,
при отъезде обещал я писать тебе, – вот и пишу: я обещания исполняю всегда. Твой рассказ в письме, как страшный бандит отнял велосипед у твоего приятеля, произвел на меня потрясающее впечатление! Но ты, мошенник, так нам и не до сказал, что было в полиции и как дело кончилось. И как же это вы, два здоровых парня, да еще на машинах, позволили себя ограбить! Вы должны были кричать, как кричат французы, когда их грабят, – «а-ла-арм!.. о-скур!..» Да еще у самого вокзала! Это вы струсили. Вперед наука: не езди на велосипеде без взрослых, если не умеешь орать.
Что же ты в последнем письме ничего не сообщил, как ты проваливаешься на экзаменах? Сообщи.
Ждем тебя на днях. Устали поливать огурцы, – поможешь нам. Скажи маме, чтобы выхлопотала тебе льготный проезд, у ней знакомых много. Мадам Эгрон выезжает в понедельник, 4-го июля. Тетя Оля воюет с лимасонами[66] и эскарго[67], которые жрали наши огурцы. Страшная война! Помоги ей. У нас здесь много для тебя интересного, много перемен всяких в саду. Да не забудь сказать маме – прошу ее купить для меня пакет в 500 листов бумаги для пишущей машинки, у О-бон-мар-ше[68], франков за 15–18, непременно, – ибо пишу много, и надо «Няню»[69] переписывать скоро, – да еще почтовой, при личной бумаги – «велюр», кажется, называется, лишь бы толь ко не промокала, франков за 9, что ли. Да еще конвертов, – таких, в каком посылаю письмо, а бумагу эту синюю я видеть не могу – это сущая промокашка! Деньги вышлю, когда получу все, – лень мне сейчас, да и не знаю точно – сколько. А ты все захвати с собой. Мне очень нужно!
Бедняжка наш, замучился ты с экзаменами, надо тебе хорошенечко отдохнуть, подышать лесным и морским воздухом, и отъедаться, и отсыпаться. Пока и пользуйся, а то дальше все трудней будет, – жизнь теперь строгая, надо запасаться для нее здоровьем. Милый мальчик, спасибо тебе за ласковые письма. Эх, надо бы с тобой по русскому языку заняться. Займемся, и будешь ты грамотно писать. Это мы с тобой сделаем, каждый день по часику – и вот как к осени запишешь! – лучше мамы.
Господь с тобой. Поцелуй маму, кланяйся от нас Маргарите Давыдовне[70] и Федору Геннадьевичу[71], и всем Карповым, и няне от нас дружеский привет и поклон. Поцелуй ее за нас.
А поедешь – из вагона не выходи на станциях и в окошко не высовывайся. Ты теперь сильный мальчик – помоги и мад. Эгрон, если с ней поедешь.
Ну, Христос с тобой, будь здоров. Да, вот еще: попроси маму купить у «О-гурмэ»[72] – только у них и есть! – это у Порт де Сен-Клу[73] в большом доме, хоть один черный круглый хлеб, за 2 франка 60 с. Это будет сущий гостинчик для тети Оли. Если не трудно будет.
Крепко тебя обнимаем и целуем, Ивушка! Отпиши, когда приедешь. Может быть, тетя Оля выедет на Лябен[74] встретить.
Твой дядя-Ва, а для прочих – Ив. Шмелев.
Милый дорогусик мой, я в ужасе. Как же это мама-жаднюха съела курну? Как же так, что же мне-то? Я не претендую на пузик и на булочки, пусть объедает, но курночку мне так жалко. Скажи ей, что я ее курну откушу. Так обиделась.
Передала твой привет всем. Мсье Гаше[75] был очень доволен, что ты его помнишь. Все спрашивают, когда ты приедешь. Я говорю: еще не знаю, приедет ли. Может, поедет с отцом[76]. Все тебя целуют, думаю, и Миарка тоже, она не говорит, но каждый день вбежит, взглянет и убегает. Думаю, что смотрит, не приехал ли. Гуленки часто забираются в коридор. Ну, я их потихоньку выгоняю, а они ворчат. У кошки м-м Гоше уничтожила всех котят. Вот она бегала, кричала. А дядя Ваня ей ласково: мину, мину[77], – она к нему, дала погладить, потом легла на спину и стала перед ним вертеться. И как дядя Ваня увидит ее и скажет: мину, мину, – так она на спину, валяется. Ей очень приятно было, что ее пожалели. Каждый вечер хожу с твоей лопатой на охоту. Уничтожаю лимасону и эскаро. Такая их сила. На океан ни разу не ходили. Если приедешь, сходим не раз. Вот про экзамены ничего не пишешь.
Деток я знаю, с которыми ты играл. И знаю, что ты ловкий малый и, конечно, будешь победителем. Целую несчетно раз. Будь здоров и напиши, ждать ли тебя. Твоя тетя Оля.
Милая Юличка, прочла дяди Ванино письмо, он просит бумагу. Так если ты купишь у Бон Марше, может, они сами пошлют 100 листов для писем, голубоватую туаль. Вот эту я купила у Саморитен[78] – как промокашка, а у Бон Марше раньше всегда покупала, и были довольны. Все это, если Ивик приедет к нам. Вчера Кастолетги получили письмо от гимнастерки, что она приедет во вторник, 5-го июля. Пишу, если вздумаешь прислать Ивика. Погода жаркая, по ночам перепадают дожди. Если пришлешь, то и пришли вязаные его рубашонки, наверно, все грязные. Уж повыберу время, все перечищу. Хоть я стала что-то копотлива и устаю скоро. Ты пишешь, что мой брат Володя[79] в больнице, не означает ли это, что он под арестом? Если у тебя денег не окажется на бумагу возьми у Ф.Ф.Крячко[80]. Напиши, обжорка курновая, как вы думаете, ждать ли вас и когда. Я выеду в Лябен.
Спешу довязывать голубую безрукавку. Целую, будь здорова.
Твоя тетя Оля.
У тебя 2-е штанов, красные обе пары пришли и белые тоже.
Ура Ивик! Поздравляю, друга, с победой, с переходом в 5-й класс! Заслужил отдых полностью. И – награду! Приезжай.
Целую дядя Ваня.
Воскресенье
3. VII. 1932 г.
Capbreton
Ив. Шмелев.
Поцелуй маму.
27. VII. 1933. Капбретон.
Милый Ивик,
тетя получила твою открытку как раз в день своих именин и была очень рада.
Да только ты, братец, написать-то ей написал, а со днем Ангела-то[81] и забыл поздравить! Как же это ты так проморгал, а?! Другой раз помни: раз ко дню Ангела пишешь, надо об этом и вспомнить. А вот тебе наши новости. Приехали скауты[82],60 человек. Надин[83] по тебе скучает. Пополь[84] пропадает целыми днями на пляже. Ходим с тетей гулять и берем с собой Миарку. У Поповых[85] – тысяча цыплят, а индюшата превращаются в индей-индеичей. Попов собирает для тебя марки. И у меня есть маленько, больше немецкие.
Много подарков и писем получила тетя Оля, а главного, говорит, подарка – не получила: от Ивика. Очень хорошо, что занимаешься латинским языком. И как это ты ухитрился – заслабел по-латыни? Ведь так любил заниматься латынью, сколько я от тебя слыхал об этом!
У нас все по-старому, тетя Оля начала получать огурчики с нашей грядки. Воевала с лимасонами.
Ну, целуем тебя, милый мальчик. Да хранит тебя Господь! Когда приедешь, – точно, – извести заблаговременно. И книжек для тебя здесь найдется, – у Надин.
Целую. Твой дядя Ваня.
Корова поправляется. Гаше, Костолетти тебя целуют. Целую и крепко обнимаю. Твоя тетя Оля. Ждем письмо.
18 августа 1935 г.
La Perniere, Cne d’Allemont[86]
(Zsere)
Милый Ивушка,
я уже написал полковнику П.Н.Богдановичу[87], что ты 23 или 24 августа приедешь в лагерь. А если еще поспеешь – поезжай с группой желающих в Испанию на экскурсию. И об этом я писал П.Николаевичу. Ну, с Богом, выезжай в срок В дороге будь осторожен и осмотрителен, не зевай, береги себя и багаж
Ходил, брат, я на Котейсар[88] и приволок 12 кило (!) черники, чуть не издох, – не рассчитал своих сил.
Целую тебя. Господь с тобой.
Твой дядя Ваня.
Сейчас пришла твоя открытка с памятником и храмом. На посланной тебе тетей Олей открытке – по рассеянности марка не была приклеена, – с тебя взяли, должно быть, вдвое?
Есть кой-какие марки для тебя. Это хорошо, что прибавил в весе – догнал меня.
29 августа,
четверг.
Сейчас же ответь, Ивик, насчет денег, – я должен послать полковнику, если отец тебе не дал. Целую тебя.
Дядя Ваня.
Милый Ивунок!
Что ты не пишешь, дал тебе отец заплатить за лагерь? Ответь скорей. Надо посылать деньги за лагерь. Дядя Ваня толь ко что приехал из Бурдоарана. Ездил на велосипеде. Дядя Ваня ходил на Котоссар и сразу принес 3 ведерка черники. Сушим. У нас 4 дня лил дождь, и горы засыпаны снегом. Сего дня солнце, но ветер холодный. Доволен пищей, доволен ли обиходом? Напиши скорей о деньгах. Дядя Ваня работает[89], и прогулок не делаем. Ксения Васильевна[90] и другие ходят в горы за сборами. Передам им твой привет. Целуем тебя крепко. Будь здоров.
Малины сварила много, купила у пьяницы.
Твои тетя и дядя.
Ива, если тебе будет невозможно жить на Chevert[91], живи у нас в Boulogne[92] ключи Вадим Николаевич[93] отдаст М-те Mazet, concierge. Всегда ключи оставляй у ней, не бери с собой, потеряешь.
Дядя Ваня.
Милый Ивунок. Сегодня получили твою открытку. Радуемся за тебя, что ты сделал хорошую прогулку. Думаем, что ты доволен лагерем. Теперь скоро и в Париж Не хочется, верно? Но, дорогой мой, тебе надо до занятий постараться больше прочитать книг. Наверно, читать тебе не пришлось. Надо нагнать. Если тебе будет неудобно на Chevert, то можешь пожить без нас в квартире. Спать можешь на моей постели. Простыню возьмешь в шкафу в спальне, а наволоку на подушку в нижнем ящике комода, там же и полотенце. Только подмети и вытри пыль. И помыться можешь. Лохматое полотенце в шкафу в ванной. На комоде найдешь дяди Ванину рубашку полосатенькую, надевать на ночь. Обед можешь брать внизу в столовой, узнай, сколько стоит, а вечером сам себе сваришь яичко, молоко. Придумаешь что. Сюда к нам ехать не стоит. Мы приедем в Париж не позднее 25-го сентября. Думаю, что раньше. Очень надоело здесь, да и холодно, туманы. Можешь ездить в Севр, Медон. А главное – надо читать.
Прогулки здесь уже закончены, и Поль Крячко тоже рвется в Париж Деньги в лагерь посланы за тебя, мама прислала 100 франков, да дядя Ваня прибавил 150 франков.
Только, родной, если будешь жить в нашей квартире, пожалуйста, чтобы <зачеркн.> не вздумал придти к тебе. Ключи у Вадима Николаевича, адрес его тебе пришлю. Он меняет комнату на этих днях.
Дядя Ваня завел знакомство с муравейником. Каждое утро, когда ходит за молоком, носит им хлеба, косточку, подкладывает палочки, и долго пропадает с ними. Нынешний год много здесь грибов. Дядя Ваня недалеко от нас набрал немного, но хороших, белых. Сушу. Что же ты, родной, не благодаришь за поздравление тебя с Ангелом?[94] Надо, милый, написать, что благодаришь за поздравление и за подарки. Мои ты 5 франков еще не получил, но они уже приготовлены, а дядя Ваня уже истратил на поездку. Надо, так уж полагается. Думаю, что ты будешь в Париже 15-го. Ты напиши, как приедешь в Париж. По лучил ли марки? Дядя Ваня приложил тебе.
Хорошо ли разбираешь мой почерк?
Целую тебя, мой дружок, крепко-крепко. Дядя Ваня тоже.
Скоро увидимся, и ты много расскажешь. Твоя те<тя> Оля и дядя.
Среда 11-го сентября.
Не забывай запирать газ и осторожней с ключами от двери, не забудь брать, когда будешь выходить. А то ломать придется. И аккуратней запирай.
9.8.36. Berlin.[95]
Ивик, дорогой мой!
Два твоих письма получил. Пиши чаще, я посылаю тебе адрес из Латвии[96] где буду завтра. Здесь Олимпийские празднества[97], – со всего света съезд, блеск.
Помни»[98] тетю Олечку, молись за нее. Она тебя не оставит. Она тебя воспитала, помни! Меня здесь, у писателя Горного[99], обласкали.
Христос с тобой. Твой дядя Ваня.
Тоскую по нашей родной Олечке.
17.9.36.
Дорогой мой Ивик,
спасибо за твои письма.
Из Риги собираюсь выехать 3-го X.[100] Предполагаю остановиться в Берлине на 7 дней, – если будет мое чтение[101]. В Париж надеюсь приехать в таком случае 11-го или 12-го октября. В Риге мой литературный вечер[102] назначен на 29 сентября – вторник. Вот старинный «Дом Черноголовых»[103], – открытка эта, – где буду выступать. Целую. Господь с тобой. Твой дядя Ваня.
Понедельник, 15 марта, 1937 г.
Булонь.
Милый мой Ивушка!
Жалею тебя, что заболел ты. Помни самое главное: необходимо мерить температуру. Если это грипп, особенно важно быть в постели, пока есть жар. Ни в каком случае нельзя выходить наружу раньше 2–3 дней, считая с того дня, когда температура станет нормальной, то есть утром будет 36,7–8 десятых, а вечером 36, 9. Помни, что можно простудиться и заболеть плевритом или даже пневмонией, т. е. воспалением легких. А тогда болезнь может тянуться неделями и даже месяцами, и ты, если и одолеешь ее, все же потеряешь целый год лицея. Вспомни, как долго болел, – и даже летом, – мальчик Тесленко в Капбретоне! А потому надо быть крайне осторожным. Непременно измерять температуру. Принимай «салипирин» три раза в день; при кашле, т. е. при бронхите, надо ставить горчичники «риголо» на спину под лопатки, на бока, чуть пониже подмышки, и на грудь, повыше сосков. Может быть, лучше даже поставить банки, тогда надо обратиться к м-м Геран, попросить ее. На ночь надо – лежа в постели, пить сколь можно горячей отвар липового цвета, – «тиель»[104], с куском лимона, тремя-четырьмя кусками сахара и две ложечки рома, – я тебе послал его с Иваном Ивановичем[105] и если вспотеешь – перемени рубашку. Был ли доктор? Я боюсь осложнений, и если температура держится, надо позвать доктора, – после заплатим ему. Помни, это необходимо. Изволь на писать мне, как идет болезнь, какая температура, нет ли залежей мокроты. Надо, чтобы было отхаркиванье. Горчичники или банки-вантузы надо ставить каждый день, пока не пройдет бронхит, помни. И главное, опять повторю, ни в каком случае нельзя выходить на воздух раньше трех дней после прекратившегося жара, хотя бы и маленького. Так, напри мер: если было даже 37 и одна десятая в последний раз, а потом стало – 37 или 36,8 вечером, то надо продержаться дома три дня с нормальной температурой и непременно все дни ставить градусник, иначе грипп не отвяжется, и ты будешь хиреть, слабеть, и может быть хуже. Помни, как тебя лечила наша тетя Олечка! Молись о ней, думай всегда и проси ее за тебя помолиться там. Она услышит и тебе поможет.
Изволь мне писать каждый день, хоть две-три строчки. Сегодня понедельник, 12 ч. дня, а последние вести о тебе я получил в субботу вечером от Ивана Ивановича. Беспокоюсь, так как матери при тебе нет.
Целую тебя, милый, и жалею. Да хранит тебя Господь. Твой дядя Ваничка.
Если нужно, – ты изволь сообщить мне все, – я попрошу Сергея Михеевича[106] посмотреть тебя. И.Ш.
Ordonnance’ Смазывание горла: tincture d’iode 2 части glycerine 1 часть.
Смазыв. 1 раз в день, на ночь в течение 2-х недель, потом передышка на 2 недели и повторить, и довольно пока.
Капли: (неразб.) 1 % (однопроцентный) Protargol 0,30 gr.
Serum phisiologique – 30 gr (это раствор поваренной со ли) l.no 5 капель в каждую ноздрю, в течение двух недель под ряд, 1 раз в день; затем передышка на 2 недели – и повторить в течение 2-х недель. И пока довольно. Думаю, что и вливание тоже на ночь, а можно и утром.
22. V. 1937 г.
Обитель пр. Иова.[107]
Милый мой Ивушка,
добрался я до тихой обители (приехал еще 17-го вече ром), отдыхаю в полном покое. В Праге[108] все мои выступления прошли при переполненных залах, в громе аплодисментов. Слушали меня 1800 человек. На «Пушкинском» собрании (13-го)[109] весь зал поднялся, – было до 900 человек, – и приветствовал меня. Как была бы счастлива Олечка, если бы видела. Да она все равно все знает. Так вот, милый. Не думал я, что Прага так восторженно будет принимать меня. Получил и подношения. На вокзал – когда ехал я в монастырь – приехал проводить меня епископ Сергий[110] и одарил куличами и конфетами. Словом – русская победа, полная!
Здесь живу в покоях о. настоятеля[111]. (У меня две комнаты, на солнце.) Все время слышу, как поют Пасху, – двери храма открыты (и за стеной еще церковка), носятся вокруг коло кольни ласточки. Совсем – Россия. Слышно кукушку. Пчелы здесь и пасека. Жарко, тихо. Все иноки на послушаниях, каждый делает свое дело. Тут и печатают св. книги[112] и «Православную Русь»[113]. И огородничают, и плотничают, и иконы пишут. Большинство иноков прошли через войну, офицеры и солдаты. Один – кадровый офицер, гусар лейб-гвардеец, с университетским образованием (мой Вагаев[114] из «Путей Небесных»[115]) – все ласковы. Девки в деревне – и бабы – как балерины, голоногие или в чулках, юбки короткие, пышные, по 8–10 юбок одна на другой. Говор – почти русский. Это – карпоруссы. Здесь мне очень хорошо. Побуду дней 10, потом на 1–2 в Прагу[116].
В Париже надеюсь быть 6–7 июня. Удивительные полу чаю письма. Одна 16-тилетняя гимназистка прислала сумасшедшее письмо[117], как Татьяна – Онегину.
Целую тебя, милый. Как твои экзамены? Изволь написать открытку (это – 90 сантимов). Поцелуй маму.
Твой дядя Ваня.
Ив. Шмелев.
27. VII-7 ч. веч.
Милый Ивик,
не можешь ли приходить ночевать ко мне, мне эти три дня было плохо, легкие припадки сердца[118], был Сергей Михеевич. Я совсем один и боюсь остаться без помощи ночью.
Твой дядя Ваня.
Привет маме.
23. IX. 1937.
Маравилья, Ментона[119].
Ивику.
Очень рад, милый мой Ивушка, что тебе весело в Ляфавьер[120] у друзей Серовых, хоть несколько дней поживешь в под ходящих для тебя, юного, условиях. Видеть юные, радостные лица и самому радоваться – то же лечение. Я, к сожалению, попал в иную обстановку, в богадельню, и на днях думаю пере двинуться к морю, в русский пансион «Баластрон», который содержат некие армяно-руссы, жена-то русская и моя читательница. Знакомых теперь тоже – хоть отбавляй, теребят, но я ухожу к морю. Но и там встречи и разговоры. Читал по просьбе Вел. Кн. Ксении Александровны[121], сестры нашего убитого царя, она была очень любезна, – читательница, тоже! – и вся «знать», понятно, расшаркивалась. Но эта «знать» тут довольно плачевна и охоча до дрязг. Теперь мне приходится читать еще, сегодня, в Русском доме[122], который был очень удручен, что меня перехватил, для Вел. Княгини, «Русский очаг»[123], – здесь ведь борьба «мышей и лягушек», антониевцев и евлогианцев[124], как и в Париже. Мне это все очертело, и я скоро двинусь, надеюсь, в Италию, пока в Леванто, к Александру Валентиновичу Амфитеатрову[125], до Милана.
Будь осторожен в странствиях – лодка в мистраль! – отдыхай вовсю, лежи больше у моря, а не тормошись. С Ирины[126] не бери пример, она вон все мотается, то на виноградники, то рыбу ловить, – в папашу-вертуна! – и в мамашу-стрекозку[127]; а ты эти дни поленись на солнышке, под плеск моря: тебе скоро работа большая предстоит. Поцелуй их всех за меня – можешь и Ирину поцеловать, вы ведь давние друзья, – и постарайся уехать с автокаром[128]. На всякий случай я сегодня пере веду на имя Сергея Михеевича сто франков. С теми 300 франками, какие дал тебе при отъезде твоем, должны бы хватить: за дорогу заплатил ты 42 франка. Ну, за 8 дней жития, с 20 по 28 – ну хоть по 12 считать – 96 франков. Итого – 140. Остается 250–260. Должно бы хватить. А не хватит чего – займешь у Сергея Михеевича, мы сосчитаемся. У меня сейчас очень негусто. Сообщи точно, устроился ли с отъездом. Если с какой-нибудь группой поедешь – постарайся, – тебе дешевле выйдет. Тогда, понятно, лучше – скорей! – поездом.
Ну, целую тебя, будь здоров, осторожен, – особливо в пути. Сколько я пробуду здесь и в Италии – не знаю. Если найду себе гнездо по душе, где смогу писать, – только не в «богадельне», у скучных старушек! – побуду еще на тепле. Сейчас получил большую немецкую статью журнала «Эвропеише Ревю»[129], о немецкой «Няне»[130]. Скажи Сергею Михеевичу, что от этой статьи Бунин распалился, ибо так она начинается: «Может быть, лауреата нобелевского приза Бунина[131] иные неосведомленные и сочтут первым из современных русских писателей, но мы полагаем, что после Достоевского в русской – и мировой литературе не было произведения такой силы, глубины и красоты, как «Няня из Москвы» Шмелева»… и так далее… Это только для тебя говорю и для друзей, которые меня любят, а не для самовеличания. Им это может быть приятно, а мне теперь все равно: той, единственной, кого это могло бы порадовать… нет со мной. Потому мне и безразлично. Да, мне здесь томительно-скучно, но ехать в Ляфавьер не решаюсь: хлопотно и неуютно, без электричества, и холодней там, ветры. И нет минимального удобства, конечно. Это – для крепкой юности и для тех, кому не надо даже писем писать, как Сергею Михеевичу. Приехал бы посмотреть только, но это трудно, да и денег требует: вон, оказывается, надо от Ляванду[132] платить 250 франков за автомобиль. Вот если Сергей Михеевич приедет сюда, я буду очень рад: мы съездим в Монте-Карло[133] и поставим, чтобы окупить его дорогу. Я уверен, что он выиграет.
Ну, целую и крещу тебя, милый. Пиши. Кланяйся маме и поцелуй ее.
Твой дядя Ваничка.
Ив. Шмелев.
14.1.38 г., пятница, 5 ч. веч.
Милые мои
Юля и Ивунок,
я уезжаю в воскресенье, послезавтра, в 7 ч. 10 м. утра, Gare de l’Est[134]. Так все сложилось. Очень прошу, – я уже взял билет и place reserve[135]. Пожалуйста, приезжайте в субботу вечером, чтобы мне помочь уложиться. Ивик меня проводит на вокзал. Я оставлю деньги для перевозки вещей к Серовым[136]. Его tel (неразб.) 54–55. Я с ним договорился о помещении вещей. После моего отъезда выберите день удобный, а возчики – тот же «Вар» (который перевозили). Мне необходимо по известным соображениям выехать, и я ускорил отъезд. Мои чемоданы я уложу сам. Только надо сделать некоторые указания. Очень прошу, милые. Я очень устал. Все меня нервит. Так живя здесь, при неустойчивом положении, я не могу работать.
Целую.
Дядя Ваня.
И проститься надо. Когда-то увидимся?
Милый Ивик, приезжай, прошу!
Беспокоюсь за автомобиль – найду ли.
18.1.38 г.
Милый мой Ивушка
и Юля,
доехал вполне благополучно и удобно, один в купе до Базеля. В 5.40 вечера был в Coire[137]. Встретили друзья и повезли на автомобиле в замок[138]. Здесь – рай Господень, ни звука! Спал – давно так не спал. Снег тает. Горы, елки. Комната моя – 14x8 шагов, 2 окна на юг. Тепло (22°), уютно. Люди добрые, плата пансиона 4 франка (28) – но это только по-дружески. В городе – 6–8. А здесь – сельская тишина. Позванивают на церквушке. Очень похоже на Allemont.
Я очень доволен, на сердце – тишь. Думаю, что могу много писать: все время – мое. Вполне сыт, стол самый режимный благодаря заботам милой хозяйки Р.Б.[139] – Слушаю radio, много книг. Сейчас солнце над горами, бьет в окна. На лугах и в садах – уже проталины. Я просто не верю глазам, – где я! Воздух – снеговой, чистый-чистый. После моего парижского «ада» – сон чудесный. Вчера лег в 10 ч. – жизнь здесь правильная: в 12.30 – завтрак, в 7 ч. – ужин, в 4 ч. – молоко с сухарями. Не надо бегать по лавкам, стряпать и крутиться в норе. Милые мои, еще прошу: уж сволоките мой горевой, покинутый скарб – к добрым друзьям Серовым и помните о дяде Ване – пиши, Ивик, о себе и что у вас, как. По-мните! Серовым я написал. Словом – даже не верится, что я так – пока – устроен. Со мной – Олечка смотрит на меня, и Ивкина рожица. Вид в окно чудесный, долина между горами. Ну, совсем Allemont, где река. А главное – покойно на душе, не хочется думать о будущем. Будто – тихо дремлю. Но о вас, милые, думаю всегда. Помни, Юля, что я тебе говорил.
Ну, милые, до следующего письма. Целую. Поклон Ивану Ивановичу. – Ну, Ивушка, пиши, обнимаю тебя и благословляю.
Твой любящий дядя Ваня (Ив. Шмелев).
23.1.1938. Воскресенье, 2 ч. дня.
Письмо пойдет только завтра. Хальденстейн, бай Кур. (А без тебя мне скучновато!) Милый мой, дорогой мой Ивушка, большое тебе спасибо за скорую перевозку моего скарба, за твои заботы-труды. И молодчина ты: письмо твое написано превосходно, кратко и точно, и совсем по-русски, свободно: значит, ты и думаешь по-русски, «перевода» из мысли в слово не слышится. Это меня очень порадовало. (И ошибок на 13 строк – 6.) Можно поставить 4.
Пока, кажется, здоров, написал статью[140]. Сегодня много солнца, сильно тает, с крыш валится сверкающая капель, как у нас в России. Пойду сейчас (после завтрака) прогуляться, на полчасика. День мой проходит так встаю в 8–8 с половиной, ем свою кашу и яйцо в 9 с половиной, потом работаю, комната уже убрана; в 12 с половиною – завтрак-обед, с супом. Хлеба здесь почему-то за завтраком не едят, а я-то, понятно, ем. В 2 ч. иду на прогулку, в 4 ч. – молоко. Потом снова пишу. В 6 три четверти – ужин-обед; еда хорошая, очень сытная, 3 перемены. Вчера курицу ел (грудку), сегодня телятина. Ел здесь местное – вяленую говядину, тончайшими ломтиками, – прозрачная, вишневого цвета, похожа на наш балык или ветчинную колбасу. Она без соли, очень вкусно. И еще одно – швейцарское: хлеб тонкой корочкой, а внутри фрукты, как начинка, вроде пастилы – тут и виноград, и груши и прочее фруктовое, не разберешь. Ничего… Яйца – свежие, сыр, творог, сметана, мед. Вчера ел и форельку. Спички здесь вдвое дешевле парижских, зато лекарства… салипирин[141] что в Париже – 3 франка 50 сантимов, здесь 1 франк 20 сантимов швейцарских, что составит около 8 франков французских. За немецкий рассказ мне переведут сюда 60 р<ейхс>м<арок>, что на французские франки около 700. Рассказ – «Свет вечный»[142], – помнишь, как парень крался ночью за колбасой с ножом? – вот этот самый, очень захватил немцев, пишет редактор, что «все, с кем ни говоришь о рассказе – захвачены его глубиной» и «многое им теперь открылось о России». Ну, и дай Бог. Спать ложусь в 10, полчасика читаю. С постели моей – уж и постель! – в окно видно снеговые горы. Очень похоже на Аллемон, – деревня. Старинный замок с 4-мя башнями, своды, над входом герб-дракон, 1546 г. Но, конечно, внутри все переделано. В моей комнате могло бы вместиться 8–10 комнат карташевских[143]. Ставни и снаружи – не закрываю, и снутри. Все стены отделаны под дерево (лепное), кремовое, с розовыми сучками. Из мебели у меня – кровать белая, деревянная, тяжелая, столик постельный, стол письменный – поменьше немного моего, над ним большой пор трет тети Олечки, умывальный столик железный с фаянсовой чашей и кувшином, кушетка, этажерка для полотенец, два стула дубовых с кожаными сиденьями. Портреты музыкантов, дрезденская мадонна Рафаэля. С потолка лампа, затянутая розовой материей, огромный круг, висит низко посреди комнаты. На столе маленькая переносная лампочка, она же и для ночного сто лика. Пол паркетный. Но что удивительное самое – так это изразцовая кафельная печь. Это целая часовня. Она заняла бы всю мою комнату у Карташевых. Топят из коридора, печь накаляется, в нее изразцовый дымоход, и от стены печь стоит на полметра. Откроешь дверку в ней – пышет жаром, но угара быть не может, потому что нет сообщения с топкой, а просто воздух нагревается от камней внутри. На верху печки – как башенки, всякие штучки фигурные, из фаянса, кремового тона. Окна огромные, и весь день солнце, с 10 утра до 4 с половиной вечера, теперь. Летом – дольше, солнце ходит высоко.
Милый мальчик, посылаю тебе билет лотерейный конч. на 2. Он выиграл, можешь его обменять на 12 франков. Не стоит тебе ездить на Бют-Шом[144], я его покупал около почты в будочке, идти по Симон-Бульвар[145]. Мимо нашей аптеки, к рю Пирене[146]. Но легче обменять в главном отделе «Голь Касэ»[147], см. на обороте адрес и часы. И другой билет, сперва там справься, не выиграли они в «утешительном», от Голь Касэ. Там и справься. Второй не выиграл, оканчивается на 56. И еще приложу марочки для тебя, швейцарские. Пошлю завтра, сегодня здесь почта не работает, воскресение, и газеты не выходят.
Пиши мне, не забывай. Целую тебя, милый Ивунок, будь здоров. Поцелуй маму. Привет Ивану Ивановичу. Живите мир но. А я буду тебе пописывать. Серовых расцелуй, спасибо им за дружбу, за одолжение. 50 франков оставшихся – твои. Взял ли серебряные деньги в гардеробе? Все ли забрал? А деревянную кругл. коробку с посудой, в кухне, а протиралку?
Твой любящий, дядя Ваничка.
Ив. Шмелев.
Пробую хлопотать в Германии о «Няне»[148], да вряд ли что выйдет из сего.
1. II. 1938
Милый мой Ивик,
что же ты не написал мне, получил ли в моем письме марки и две десятых билетов французской национальной лотереи? 1 билет кончается на 2, он даст тебе – 12 франков, другой может выиграть в «утешительный» тираж, так как выпущен обществом «Gueles Cassees». Сходи, получи деньги и справься о другом билете, который кончается на 56. Адрес найдешь на оборотной стороне билетов. – Все ли забрали у Карташевых? Я тебя спрашивал в письме, а ты не отвечаешь. Надо взять у Серовых из моих книг 3 или 4 пачки не развязанных книг «Старый Валаам»[149], присланных из монастыря (чешские марки), и отнести их в «Возрождение»[150] Джуджиеву[151], книжный магазин (73, Av. des Champs Elysees), это в четверг или субботу, часа в 4. Или ты эти пачки оставил Стиве?[152] Напиши обо всем подробно. Здоров ли? Я, слава Богу, чувствую себя хорошо, много пишу, написал «Ледяной дом»[153]. Здесь зима, была 2 дня метель, – Россия! Будем живы, я тебя устрою в будущем году – на зимний спорт. Взял ли желтую деревянную круглую коробку с посудой? а протиралку? цело ли у тебя все? Все подробно напиши, жду большого письма. Как ученье? Целую тебя, милый. Привет всем.
Твой дядя Ваничка. И. Ш.
6. II. 38 г.
Милый Ив,
очень прошу, возьми у Ставы пакеты со «Старым Валаамом» и отвези непременно в книжный склад «Возрождения», 73, авеню Шан Элизэ, в четверг, передай г. Джуцжиеву, я ему пишу. Непременно! Забыл ты у Карташевых круглую желтую коробку, чайники, протаралку? – все захвата. Става пишет, что в перевозке по ошибке увезли ихние два чемодана! Надо их найти у Серовых и вернуть. Прошу, сделай это, – что будет стоить – заплачу, напиши. И еще: попроси Ирину найти в моих книгах толстую книгу в переплете, самую толстую из всех; это профессора Светлова[154], – кажется, называется «Апологетика христианства», – ее отвезешь к Ставе, это чужая книга, и за ней приходил Б. И. Сове[155]. Будь добр, все это устрой, я уж на тебя надеюсь. У тебя найдутся деньги на переезд-доставку, я отдам, – увижусь с тобой. Может быть, уж и мама до четверга вернется, тогда и она поможет.
Я пока здоров, работаю, отдыхаю. Еще лежит снег, была метель два дня. Но солнце горячее, тут в пиджаках ходят, но я – в пальто, каждый день по часу гуляю. Напиши, получил ли две десятых доли билетов национальной лотереи и марки. За один билет, оканчивается на 2 – тебе дадут 12 франков. О другом, – на 56, справься в «Гэль Касэ», не выиграл ли в «утешительный тираж»? Ну, Господь с тобой. Как учишься, здоров ли, – все на пиши! Жду, очень. Особенно мне важно, чтобы ты отвез паке ты в «Возрождение». Нет ли таких пакетов у Серовых? Их должно быть 4–5. А я напишу Джуджиеву. Ну, целую тебя, милый, и крещу.
Твой любящий дядя Ваничка, Ив. Шмелев.
25. II. 38
Дорогой Ивик,
меня очень тревожит, что нет от тебя письма почти месяц. Боюсь, не заболел ли ты.
Сейчас же мне напиши!! Отправлены ли книги «Старый Валаам» (в пачках с зелеными ярлыками) в книжный магазин – Джуджиеву («Возрождение», 73, av. des Champs Elysees). У Серова должны быть 4 пачки, а может быть, и 5, да у Стивы осталось еще. Мне это очень нужно. Почему ты мне не пишешь? Я очень тревожусь, и если ты мне не ответишь сейчас же и не напишешь все подробно (я тебе писал 4 раза! – а по лучил всего две открытки, давно-давно), – я не пошлю тебе марок и не стану писать. Может быть, ты болен? Пусть мама напишет. Не знаю, что у вас, и это меня волнует. Я работаю, пока ничего, здоров. Здесь еще снег, а по ночам морозы, 6–7°. Но солнце горячее, тает. Ну, целую тебя, милый, и благословляю. Уж хотел телеграмму посылать. И никто мне не пишет из Парижа.
Твой дядя Ваня.
5. III. 38.
Дорогой Ивик,
непременно побывай у Ирины в воскресенье и разыщи с ней в пакетах, не книжных, а больших, или в салфетке может быть завязано (помню, я увязал в газету), – мои фотографии. Мне нужна та, где я сижу en face, Ирина знает, важно так. И, дорогой, – еще, может быть, найдешь пачки с зелеными ярлыка ми, из обители, с «Валаамом» – завези в «Возрождение». Ириночка пошлет фотографии сама. Скажи мне, не нуждаетесь ли в обуви, в белье, что нужно – напиши прямо. Я вышлю тебе – изволь точно написать, и – сколько. Немедленно напиши.
Целую. Привет. Твой дядя Ваня.
Господь с тобой. Помни тетю Олечку. Молись.
14. III. 1938.
Шлосс Хальденштейн.
Дорогой мой Ивик,
вот какое дело. Ты съезди получить деньги, и вот как. Помни, я уже написал Фаине Осиповне Ельяшевич[156] что ты зайдешь в четверг, 17 марта, в 2–2 с половиной часа к ней на квартиру. Она живет – 5 минут ходу от Серовых, бульв. Босежур, 51, во внутреннем дворе, прямо парадное, по ассансэру 2 этаж, выйдя из подъемника, сейчас налево дверь. Спросишь Фаину Осиповну, или тебе отдаст деньги – 300 франков – ее служитель. Ты скажешь, что я написал тебе зайти и получить эти деньги, – она их хотела мне перевести, но я просил м-м Ельяшевич вручить тебе, чтобы уплатить мой долг по квартирному налогу. Ты же эти деньги возьмешь себе, на покупку белья и чего нужно, а мой долг по налогу – 360 франков – ты уплатишь недели через две, когда получишь из «Возрождения» 450 франков за мой рассказ[157], который я на днях посылаю, он будет напечатан, должно быть, 25 марта в пятницу, а деньги за него ты получишь у Джуджиева, в книжном магазине, 1,2,3 апреля, как тебе будет удобней. Из этих денег ты оставь себе 90 франков на праздник Пасхи, мой тебе подарочек, из них отдашь маме, что она истратила на поездку на кладбище и уплату за могилку. Таким образом, у тебя от этих 450 франков останется только франков 60, да еще 300 франков – теперь, которые получишь от Ельяшевич. Пожалуйста, все исполни. А вот как уплатить 360 франков налогу, это может сделать и мама, чтобы тебе не ездить в налоговое присутствие: в почтовом бюро спросить переводной бланк «по налогам», тогда плата за перевод очень маленькая, около 75 сантимов, и написать, как надо: адрес – 6, Бульвар Жан Жорес, Булонь-Бийянкур, Сэн, А мосье Ресевер-Персептер, от Жан Шмелефф по «артикль» № 65975 дю роль женерал, du role general, – там уж знают, в какой книге отметить получение 360 франков налога «пур контрибюсь мобильер». Всего налога было 560, из которых я еще в Париже уплатил 200 франков. Это дело займет минут 10–15, и не надо ездить туда. На получение 450 франков из «Возрождения» я тебе прилагаю записочку для конторы. Может получить и мама. Очерк должен быть напечатан 25 марта, а гонорар выдается с 1 апреля.
Ивик, помни и напомни маме: ты должен поговеть в пост, к Пасхе: это нужно и для телесного здоровья.
Значит, у тебя останется приблизительно – 300 франков от Ельяшевич, и из гонорара 90 франков, – из коих, как я писал, ты отдашь маме франков 30–35. Мама купит, что надо, остаток – как хочешь употреби.
С неделю я чувствовал себя слабым, переработал, но зато написал кое-что. «Иностранец»[158] начнет печататься в «Русских Записках»[159] с апрельской книжки.
Побуду здесь, может быть, до 12–15 апреля, а после уеду в Прагу[160] и на Карпаты[161], тогда напишу еще.
Рад, что ты, милый, хорошо учишься. Дай тебе Господь здоровья, и всем вам благополучия, здоровья и мирного жития. Очень мне нужен мой портрет, до сего дня не получил еще. Серовы ничего не пишут, вот какие письмо-трусы. Попеняй доктору от меня. Жду его письма, про которое ты написал, что, по словам Сергея Михеевича, я «ахну». Пока все еще не ахаю, а ахаю, что не пишут.
Изволь мне написать о себе подробней, как успехи, как здоровье. Бог даст, ты ко мне приедешь на Карпаты летом, я очень жду (напишешь мне, деньги вышлю). Оденься спортивно, красиво, я пришлю, чтобы у тебя все было, – вышлю! Очень я по всех соскучился, редко-редко получаю письма от друзей.
Целую тебя, мой дорогой Ивик, всей душой. Очень люблю тебя, голубчик. Будь хорошим, чистым, любящим, умным. Благословляю тебя. Помни всегда светлую тетю Олечку. Она всегда с тобой и молится за тебя, и оберегает всех нас. Да, милый, помни это. Такие светлые души – вечны. Они живут. Помни: всегда, всегда, особенно в трудные ми нуты, взывай сердцем: «Милая, светлая тетя Олечка… родная моя… помолись за меня, будь со мной, вразуми меня, помоги мне!» И всегда она с тобой будет, и ты это будешь чувствовать. И будет тебе легко и благополучно. Молись Богу, это для души нужно, а она – только близкая молитвенница наша, твоя… Я чувствую это, милый. Помни: духовные связи с близкими не порываются с уходом из жизни. Наша жизнь только бледная оболочка Вечной Жизни. Жизнь не умирает: это знает религия, но к этому придет и наука. И потому наша земная жизнь, полная случайностей, в сущности – не случайна, а лишь некая ступень, переход к непостижимому для нас теперь, но – верному. И конечно, не бессмыслица, как иногда кажется. Это дает нашему деланию на земле прочность и смысл. Целую тебя. Поцелуй маму, спасибо ей, что посетила тетю Олечку. Привет Ивану Иванычу. Твой дядя Ваня.
18. IV. 38.
Дорогой мой Ивик,
что же ты меня забыл? А дни у тебя свободные. Плохо это, брат. Значит, – нет чувства. Ну, что поделаешь, – не ждал. Будь здоров. Я уезжаю послезавтра, совсем, в Цюрих, хлопотать о визе и паспорте. Если удастся – дальше в Прагу, а нет, – по верну в Париж В Праге остановка дней на 5–6. А там в обитель преп. Иова (адрес в журнале).
Адреса не могу дать, если будете мне писать – пока на прежний адрес, мне перешлют. Привет маме и Ивану Ивановичу.
Да, плохо это: я о тебе думаю, а ты и думать забыл.
Дядя Ваня.
На всякий случай дам адрес: Mr S. Varsavsky (для меня), Slezska, 114. Praha XII, Tche…
Нехорошо, Юля, что Ивик давно ни слова мне. Или вы не чувствуете, как я одинок.
22. IV. 38. Цюрих.
Милые мои Ивушка и Юля,
завтра – в Прагу, куда должен быть в 9-35 вечера, за 1 1/2 часа до Св. Заутрени. Пока пишите мне по адресу: S. W. Varsavsky, Slezska, 114. Praha XII.
Ивик, все о себе напиши.
Ну, Господь с вами. А вчера, устав от борьбы с консулами – вот племя-то поганое! – думал было в Париж. Ох, эти нансеновские волчьи билеты[162]. Каково же рядовым русским людям! У меня хоть заручки, и мои слова действуют! Привет Ивану Иванычу. Пока ничего, только за эти 3 дня хлопот устал. Дядя Ваня. Хочу писать в тишине.
3. V.38.
Hotel «Ametiste»
(Вот какой «драгоценный»!)
Прага XII, Polska, 9.
Милый мой Ивунок,
спасибо за хорошее письмо, – написано свободно, лег ко, совсем по-русски. Умница ты! Рад, что отдохнул. – Действуй дальше, заканчивай год. Знай, что ждет тебя летний отдых. Придет срок – подумай, где тебе лучше будет. Тебе надо – общение с молодежью, по твоему выбору. Хочешь на юг – поезжай, может быть, Серовы поедут. Но не одного лишнего дня после экзаменов не торчи в Париже. Напиши мне, что надо тебе справить, чтобы одеться прилично, и как тебе лучше подходит. Я постараюсь прислать. Пиши мне ВСЕ откровенно, посоветуйся с мамой. – Я здесь с 23 апреля, приехал истомленным, читал публично 29-го, с температурой, т. к. не хотел срывать вечера. После – слег, 4-й день не выхожу. Сегодня 1-й день температура нормальна. Придется еще 2 дня посидеть. Скучно. Трогательны заботы епископа Сергия и всего духовенства, прихода. Все визиты и посещения – отклонил, – к себе не пускаю, – утомляют. Вечер прошел[163] – полным-полно, слава Богу, голос выдержал. Но чего мне это стоило! Довольно. Бог даст, 5-го в четверг утром выеду в обитель: pocta Zadomirova u V.Svichika– Monastere de St.Job. Tehec… мне. Жду покоя в обители, отдохнуть и – писать. Скучаю по могилке. Это – последнее мое странствие. Бог даст, вернусь в Париж – найму небольшую квартиру, возьму услужницу, русскую старушку, может быть, ты ко мне переберешься, – увидим. Христос с тобой. Хорошо, что поговел. Так и поступай. Хор. – тет. Олечку навестил. Целую тебя, милый. Поцелуй маму. Привет Ивану Иванычу. Твой всегда дядя Ваничка.
Письмо твое – интересное, умное. Что нужно – напиши.
7. VIII. 38. Paris.
Здравствуй, дорогой мой Ивик, болезнь и жара мешали на писать тебе, а потом мучился я, отыскивая квартиру. Квартиру нашел я сам и снял с 15.Х. А пока на этих днях уеду с Сергеем Михеевичем на юг[164] около Ментоны. Головокружение кончилось через неделю после твоего отъезда. Но работать в этой ужасной комнате не могу. На юге, если здоровье позволит, пробуду до октября, т. к. некуда мне выехать. Квартира моя – на rue Bouleau[165], около Зеелера[166], № 91, совсем близко от marche рк st Claud[167], 2-й этаж, на солнце, полный комфорт, 2 комнаты и ниша для спанья. Дом очень чистый, новый, улица тихая. Но цена… 7600 франков, да горячая 12 франков в м. и холодная 12.50 вода платная, да налог. Но мне уже трудно ночевать по чужим углам, довольно. Хочу быть у себя. Изволька сейчас же написать мне, на какие три № поставить мне в рулетке? Та-ак… Задумайся – и назначь, и напиши мне я поставлю на твое счастье. Всего № в рулетке от zero до 36:0,1,2,3 36. Если доберусь туда, непременно сыграю. Тебе напишу с моря. Едем, должно быть, числа 15–16 августа, в такси клиента Серова, по 150 франков с человека, только за бензин. Целую тебя, милый, и благословляю. Твой крестный отец и дядя Ваня. Пиши!
Ив. Шмелев.
А если вернешься в Париж – поживи в Берже де Женес[168].
Невероятно длинны чешские адреса![169]
1.9.38
Дорогой мой Ивик,
я здесь с 26 августа, живем с Сергеем Михеевичем Серовым в огромном парке, одни, очень тихо. Измучился я в Париже, в грохоте – теперь отдыхаю. Открытку твою получил, рады, что тебе живется нескучно. Когда ты собираешься в Париж? Напиши мне. Помни, что в Европе положение довольно напряженное, – многое может случиться, – как бы не при велось тебе задержаться вне Франции! Не лучше ли будет, если ты не станешь откладывать отъезд до конца сентября? Я предполагаю вернуться в Париж числа 24–26 сентября, и мне надо устраиваться на новой квартире. Вот кстати ты мне и по можешь, пока не начнутся уроки в лицее. Помни, – еще раз, – что политическое положение очень обостренное[170], – сужу по газетам. Не задерживайся.
Благословляю тебя, мой мальчик, и целую. Доктор шлет привет. Здоровье мое пока лучше, здесь полный покой.
Твой дядя Ваничка – Ив. Шмелев.
29.9.39
en russe
Милый Ивик,
я вернулся совсем из Ste Genevieve[171], сегодня утром. Пища в Maison-Asile[172] не по мне, стали появляться желудочные боли. Жду, что навестишь. Целую.
Твой дядя Ваничка.
Привет!
9. Х. 39.
ecriten russe [173]
Желаю тебе, милый мой мальчик, здоровья, душевной бодрости и удачи в занятиях[174]. Твою открытку получил сегодня, в день моего Ангела[175], и это было мне в радость.
Извещай о себе. Живу одиноко, хочу приняться за работу – писать, забыться в эти суровые дни.
Господь сохранит тебя!
Целую.
Твой дядя Ваничка.
Что тебе нужно будет, – напиши. Пиши ясный адрес, может быть, неверно пишу – Carre Prime?[176] (и. ф. хозяина).
7. XI. 1939.
ecrit en russe
Милый мой мальчик,
целую тебя и благословляю. Скучаю без тебя. Уверен, что работаешь ты молодцом, – математика для тебя в радость[177]. Хворать я – пока – не хвораю, начинаю писать. Нет, пока ты недалеко от меня, я не одинок, – а вот напиши-ка мне, когда тебе нужно послать денег? – и сколько. Да, «щедро» тебя наградил Mr Gent.! Ну, Бог с ним. А я тебе советую написать ему – «ты, папа, должно быть, полагаешь, что я, как воробей, живу на всем готовом, ни сею, ни жну, а Господь питает с неба манной».
Приехал бы я тебя повидать, да это трудно, в другом ты departament, и надо вьдирать кучу бумаг, да и времени у тебя свободного мало. Слыхал я, что тебя одновременно и в армию готовят (prep, milit. super). Очевидно, как математика, – для соответствующей работы. Это хорошо. Ну, дай Бог тебе здоровья и успехов. Друзья меня не забывают. Всегда думаю о тебе. Помни: что нужно тебе – пиши, постараюсь послать. Ну, крепко обнимаю, мой милый Ивик, Господь с тобой. Не забывай тетю Олечку. Твой дядя Ваничка. И.Ш. Напиши мне.
17. XI. 39.
Милый мой Ивик,
рад твоему письму, пиши еще, как живется и работается, мне все интересно о тебе. На этих днях получу денег и дам маме купить тебе книг. Хороша ли у тебя комната, и кто такая твоя хозяйка? Разные бывают бабы, бывают и «зловредные». Но ты парень с выдержкой. А все-таки напиши. Почему ты не устроился с товарищем Шуйским[178] или еще с кем?
Как с бурсой?[179] Надежда есть? Напиши. Какие планы, и если призовут, – пошлют ли в школу – на специалиста-офицера? В пехоту или в артиллерию? Ведь ты великий математик, – как полагаешь? А ценного человека надо и дня войны использовать наиболее соответствующе. Великолепный инженер был бы из тебя, и химик, и механик, и все такое.
Все узнай, и знания свои цени и умей показать, чтобы знали, – что ты из себя представляешь. Когда думаешь приехать на вакации? Обнимаю, целую, благословляю. Твой дядя Ваничка.
Ивик, деньги я получил и пишу маме о книгах[180].
17.1.1940.
en russe
Милый мой Ивик,
получил две твои открытки. Слава Богу, я не лежу, гриппа, слава Богу, не было, а лишь бронхит. Напечатал рассказ «Рождество»[181]. Пишу еще. У меня тепло. Бывают друзья. Вадима Николаевича мобилизовали было на казенный завод, как безработного, но завод его, по слабости здоровья, забраковал. А то было далеко уехал, к Лиону. Теперь опять заходит. Мариша Деникина работает в Тулузе бухгалтером[182], получает 1.100 франков, а работы – от 7 часов утра до 7 часов вечера. И будто еще родителям присылает. Бросил читать газеты, доктор не велит, и я доволен, меньше мусору в голове. Дни прибывают, весна ближе, да веселого так мало. Ну, работай, пиши мне. Не замучивай себя, не стоит. Покупай апельсины каждый день. Изволь съедать 1–2 штуки. Целую. Твой Ив. Шмелев.
Дядя Ваничка.
Изволь купить Thioco[183]. Ешь масло!! и сахару. Купи хорошего.
6. И. 1940. en russe
91, рю Буало, Париж, 16.
Сегодня получил твою открытку – и сейчас же пишу.
Дорогой мой, славный Ивик,
очень меня встревожило твое письмо: уж если ты говоришь – «совсем разболелся», то, зная, как ты вообще легко от носился к недомоганиям раньше, чувствую, что это не пустяк, твоя затянувшаяся болезнь. На днях я увижусь с Серовым, спрошу его, не лучше ли тебе приехать в Париж, показаться ему. А пока не только полощи горло, но, может быть, надо смазывать его, – помнишь, тетя Оля всегда мазала тебе, по указанию доктора, – не знаю только, чем: кажется, йод с глицерином?.. Я тебе, узнав, пошлю рецепт. Прошу тебя, не выходи, если жар – что делать, ну, пропустишь несколько дней, дома позаймешься, товарищи, может быть, дадут тебе запись лекций, хоть бы Шуйский… – Но надо беречься во избежание осложнения, можно схватить воспаление легких, помни! А главное, питайся лучше, не жалей денег, если надо – напиши, вышлю. Может быть, апельсины сейчас раздражают горло кислотой? Хоть они и дезинфицируют. Есть у тебя деньги-то? Тиокол принимай, не забывай. И немедленно напиши мне, как твое состояние, не ухудшается ли? И еще – взвешивался ли ты? Надо следить, не худеешь ли, не теряешь ли в весе? Очень прошу, напиши.
Ты мне не сообщал – ах ты, скромнюга! – что тебе назначена государственная стипендия. Я узнал от доктора. Поздравляю тебя, дорогой мой мальчик, горжусь тобой, молодчина! – Ведь это ты сам завоевал, своим трудом, волею, упорством, сознательностью. Дар, способности, – все так, это дар природный, незаработанный, от Бога, от случая… но одного дара мало: без труда, без воли, без усилий, т. е. без жертвенности… дар – то сокровище, которое не хранят, которое дымом разойдется, пропадает. Ты, милый, этот дар пустил в работу, и слава тебе. Это для меня – редкая радость за эти последние годы моего сиротства. Обнимаю тебя, дорогой мой, да хранит тебя Господь! Что тебе нужно – напиши, я сделаю.
Все говорят о тебе – да, молодец!
Я скриплю помаленьку, пока еще гриппа не было, редко вы вожу, по необходимости только. Морозы стояли, у меня было два дня холодно, жег керосиновую печку: не привезли вовремя мазута. Напечатал в здешней газете, и в «Сегодня»[184] – рассказ «Рождество»[185]. Послал для перевода Кандрейе[186], для швейцарской большой газеты – один рассказ, нужный в наши дни, чтобы постигали смысл и важность преодоления чумы – большевизма. Много непонимания, много «маски», и так мало верности идеалу, культуре подлинной, смысл которой затемнен болтовней газетчиков. Если напечатают, – буду рад, а, может быть, и убоятся. Дело в том, что «чума» – не наше изобретение: на ней красуется европейский штемпель. Подумай, что было бы теперь в Испании[187], если бы в гражданской войне она не получила по мощи! Пожар полыхал бы и угрожал. Вдумайся, если помнишь, в те события, и ты увидишь, как далеки были иные страны от подлинного понимания… да что же это такое – культура, духовная культура? Ведь в большевизме гибнет, стирается человеческая личность с ей присущим – духовной свободой, материальная – это менее важно. Трагедии русской – не придавали и не придают значения, мало того: кому не лень только – пинают и унижают мою родину, – газетчики, конечно, не знающие и азбуки и истории, а ведь должны же знать, откуда это величие культуры великой Империи, которой восхищался и восхищается весь мир: и нашей литературой, и музыкой, и живописью, кто понимает, и вообще, искусством. А нашу философию лишь теперь начинают узнавать. Да и вообще, русский человек – (про себя-то) – в мире оценен, это мы знаем на многих примерах. Великий вклад сделала Россия и в науку, но об этом знают лишь люди науки, а не болтуны-газетчики. Ну, придет время… – узнают. Один из признаков доброй культуры – благодарность… и это заслужила святая Россия, не большевики, понятно; второй признак – душевная чуткость: постыдно плевать в того, кого постигло горе, страдание, который закован в цепи. Ну, поговорим при свидании. А вот я, я горжусь, что русский. Когда-то наш Пушкин, много страдавший от «общества» и непорядков, заявил[188] и, несмотря на все это, горжусь, что я русский, и горжусь, какая бы ни была она, нашей историей, от Бога данной. И прав: если бы борзые писаки знали, хотя бы по Ключевскому нашему[189] историю России и ее культуры и при каких условиях Россия добилась великолепия и силы, они не позволили бы себе так легкодушно и безответственно говорить. Помни мои слова: придет время, и все станут на место, которое им свойственно. Обнимаю, благословляю тебя, милый Ивик. Спасибо за ласковое письмо. Твой дядя Ваничка – Ив. Шмелев.
23. II. 1940.
91, rue Boileau
Paris, 16-е
Милый мой Ивик,
вот, во-первых, тебе лечение от Сергея Михеевича, тебе приготовят в аптеке, по указанию (рецепт прилагаю). Сергей Михеевич говорит: отнюдь не делать операции, т. к. твое горло можно лечить. Операция дает часто плохие последствия (катар горла!), у него много случаев было, приходили лечиться после такой операции, а лечение очень трудное, – помни это! Он еще сказал, что, может быть, впоследствии и нужно будет снять часть гланд, но пока не надо: можно лечить и – вылечить: твои гланды не в критическом положении. Операция же гланд у взрослых – очень тяжелая вещь, и часто, не давая излечения, дает новые болезни. Он – знаток, и теперь чуть ли не все серьезные врачи Парижа его знают, посылают к нему в госпиталь Ляэнок.
Посылаю тебе № «Возрождения». Прочти внимательно «открытое письмо»[190] Шарлю Моррасу[191] (известному писателю – католик, монархист, редактор Action Francaise[192]) – о России – это ответ Л Любимова[193] на клевету о России. Дай почитать кой-кому, если услышишь, что говорят о России дурное. Может быть, и твоему капитану. (Вряд ли он знает правду о ней.) Я напишу этому писателю закрытое письмо, т. к. то, что я хочу сказать о «позоре земного шара» – не могло бы по явиться теперь, по известной причине (censure). Призывают ныне родившихся 1 июля по 1 сентября 1919 г. Значит – еще не весь 1919 г. Напиши о своем здоровье. Старший Пастак[194] (химик) повышен, оценен, переведен в Париж в Центральную лабораторию и произведен в су-лейтенанты! Явился ко мне франтом, в форме, с золотой нашивкой на рукавах. Будет получать хорошее жалование. Высокого Пастака[195] тоже представляют в офицеры.
Мне говорили, что будто бы военное командование приняло меры против злостных писаний некоторых журналистов о национальной России. В последнее время много дурного – лживого написано в иностранной печати. Тысячи русских молодых людей – на фронте, а их мать, связанную, плененную и терзаемую большевиками – позорят в тылу безответственные болтуны-клеветники. Большая часть их – ты, конечно, предполагаешь, какого роду-племени. Тем странней, что позволил себе гадкую выходку талантливый писатель Morras. Ну, и получил отповедь: увидишь – какую, прочти.
Говорят, он, прочтя «письмо» – очень невразумительно оправдывался: говорил-де он о Советах. Нет, он писал вообще о России.
Тебе будет важно прочесть, чтобы иметь понятие, как на до аргументировать против клеветы на родину твоей матери – следовательно, и на твою вторую родину. Придет срок – и Россия получит полное удовлетворение, присущее ей место и уважение в мире, – будет увенчана. Без нее миру – не жить в мире. Тебе необходимо знать истинную правду о России – ее историю, ее дело в человечестве.
Напиши о себе, о занятиях, о планах. Когда предполагается конкурс в ecole polytechnique[196], как экзамены? Я рад, что тебе разрешили жить отдельно.
Целую тебя, мой милый Ивик, благословляю. Да сохранит тебя Господь. Твой дядя Ваничка –
Ив. Шмелев.
28. IV. 40.
Христос Воскресе!
Дорогой мой Ивик, целую тебя трижды. А ты меня поздравил с Праздником… Рождества Христова (!?) и добавил Х.В. Друг мой, – смеялся я! – как же ты рассеян, математик! А болезнь моя – старая, боли желудка[197], может быть, и пройдет. Жду тебя на западную Св. Троицу (к 12 мая). Господь с тобой.
Твой дядя Ваня. И.Ш.
Я причащался в Вел. Субботу и был у заутрени. Мне прислали друзья-читатели много пасхальных даров.
16. VII. 40
en russe
Милый мой Ивик, узнал, где ты[198], а письма от тебя нет. Я все время в Париже. Живу спокойно, все есть. Никаких никому неприятностей. Все очень корректно. Ни единого даже стекла не разбито! Отлично, попал ты как бы в санаторий, в горы, отдыхай – и хлопочи, чтобы продолжить прерванную ученую работу. Я думаю, что тебя демобилизуют как студента. Может быть, тебе нужны деньги – пока еще не наладилось с посылкою денег – напиши Севастьяну Абрамовичу Пастаку, он близко: S.Pastak: 9e Cie Radio 8e Genie a Geaune (Landes). – там и Кукловский[199], я получил от Pastak письмо от 8.VII.
Еще лучше, съезди по-соседски: St Arroman, par La Barthe De Neste (H.P.), к Неонилле Ивановне Dorozinska (Дорожинская) – это около Tarbes; если по железной дороге, то надо сойти на станции Lanneman. Покажи ей письмо мое, она добрая моя читательница, у ней именьице «Vega» (Demain «Vega»). Это тебе – как прогулка, начальство отпустит, возьми велосипед. Она, конечно, не откажет тебе дать – я ей вышлю – 100 франков. Поклон от меня. Мама здорова. Обнимаю и крещу. Твой дядя Ваничка.
18. VII. 40.
Милый Ивик, это 2-ю открытку шлю, 1-ая от 16-го. Напиши мне, я в Париже, как и был. Все слава Богу. Продукты в до статочном количестве, и молоко, и масло, и мясо. Спокойно. Многих из беженцев (я знаю некоторых лично) спасли в пути немцы. Правда есть правда, прятать ее нельзя. Ведут себя исключительно благородно. Я, русский писатель, всегда говорил – писал так, как велит сердце и совесть. И если Бог даст жизни и сил – я напишу всю правду, что видели глаза мои. Спишись с Севастьяном Абрамовичем Пастаком (S.Pastac, 9е Се Radio 8 Genie, a Geaune Landes) и побывай у Неониллы Ивановны Дорожинской, у ней имение в St Arromand, par La Barthe le Neste, это около Tarbes, Demain «Vega», м-ме Dorozinska. Я ей написал. Обнимаю. Есть ли у тебя деньги? Не знаю, можно ли теперь посылать. Справлюсь. Твой дядя Ваничка –
Ив. Шмелев.
26. VII. 1940.
Милый мой Ивик, только что получил твою заклейку от 22-го VII. Напиши мне подробно о путешествии, и как проводишь время. Не сокрушайся, что теряешь дни: нет, ты на воздухе в горах оздоровеешь, а это выигрыш, который скажется после. Хлопочи о льготе – для продолжения образования: ты имеешь право на это, и национ. bourse за тобой остается, надо только послать прошение. Узнай – когда, снесись с директором, узнай через Шуйского (они, должно быть, в Париже). Если нужно какую книгу – напиши мне. Есть ли у тебя деньги? Благодари Господа за дарование жизни: многие пали. Вот, у присяжного поверенного Трахтерова[200] (был у меня) убит сын – артиллерист[201], 31 года, под Бельфором[202], 16–17. VI. Известил через мэра монах наш, только по записной книжке на убитом узнали адрес отца. О Стиве нет у меня известий, страшно поехать к Карташевым. Горя много кругом. Помни тетю Олечку! В минуты горькие мыслями призывай ее: она укрепит тебя. Помни: у тебя – будущее, большое, – увидишь и Россию (у тебя две родины!) Если что тебе нужно – пиши, постараюсь сделать, что тебе нужно. Подумай: может быть, надо послать прошение о разрешении продолжить образование: ведь ты из лучших. Думай о прерванных экзаменах. Ты должен получить право на продолжение учения. Подай рапорт по начальству, ведь ты «конкурсант». Обнимаю и благословляю. Изволь все написать подробно. Твой дядя Ваня.6. XI. 1940.
Мой маленький Ив, 6 ноября 1940 г. я был немного усталый. Я не работаю. Твою открытку я получил. Твой дядя Иван Шмелев.
Париж, 4 декабря 1940 г.
Мой дорогой маленький Ив. Я в добром здравии и не усталый. Получил твои открытки, спасибо. Я начал работать над моим романом[203], я слушаю по вечерам московскую оперу и наши арии и песни, я надеюсь, что у тебя все хорошо, мой бедный Bucheron[204] и великий математик!
Спасай падающие деревья <неразб.>. Я все-таки надеюсь, что ты можешь, хотя и с большими усилиями, продолжить твои математические занятия для того, чтобы поступить в высшую школу. Ты бравый малый (gaillard), и я тебя ценю, мой маленький Ивик, я тебя благословляю.
Твой дядя и parrain Иван.
Ivan Chmelev.
Париж, 5 декабря, 1940 г.
Мой дорогуша Ивик, я здоров, я послал тебе вчера семейную открытку, это четвертая открытка. Нуждаешься ли ты в провизии или деньгах? Я могу послать тебе немного денег, скажи мне откровенно. 3 января ты будешь майором! Я тебя ожидаю к 15 января. Благословения. Твой дядя Иван Шмелев.
Париж, 6 декабря 1940 г.
Мой маленький Ив, я в добром здравии. Когда ты вернешься домой? Я работаю над моим романом. Все мои друзья тебя обнимают. Твоя открытка от 23. XI мной получена, и я тебя жду через несколько недель. Я тебе желаю хорошего здоровья.
Благословения.
Твой дядя Ив. Шмелев.
14 января 1941 г.
Мой дорогуша Ив,
я здоров, у меня все хорошо.
Не нуждаюсь ни в продуктах, ни в деньгах.
Я жду твоего возвращения в Париж вскоре. Я работаю дома.
Твой дядя J.Chmelef.
16 января 1941 г.
Дорогой Ив,
я здоров, в семье все в порядке.
Когда ты вернешься в Париж?
Chmelef.
17. III. 42.
Милый Ивик, у меня есть для тебя 2 штуки Sanoqyl[205] Вот что, зайди к консьержке Титова[206],14, г. Perignon, – и возьми у ней оставленные тобой для меня cellucrine[207], занеси ко мне и получишь Sanoqyl.
Будь добр. Привет Лючи[208], маме.
Твой дядя Ваня.
Примечания
1
Мама – Юлия Александровна Кутырина (1891–1979), племянница Ольги Александровны Шмелевой.
(обратно)2
Иван Сергеевич Шмелев в 1895 году женился на Ольге Александровне Охтерлони (1875–1936), сестра которой, Олимпиада Александровна (1866–1951), была матерью Ю.А. Кутыриной.
(обратно)3
…Сережа. – Сергей Иванович Шмелев (1896–1921), сын И.С. Шмелева, студент естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, потом прапорщик 5-го легкомортирного паркового артиллерийского дивизиона, в первую мировую войну, был мобилизован в армию генерала А.И. Деникина, служил в Туркестане, затем в Алуштинской комендатуре. 3 декабря 1920 года был арестован комбригом 3-й стрелковой дивизии Райманом, 11 декабря отправлен в Феодосию, где содержался в Виленских казармах. По новейшим сведениям, смертный приговор ему был вынесен 29 декабря 1920 года, приведен в исполнение 3 марта 1921 года.
(обратно)4
сравнивать Стрекозу и Муравья и La Cigale et la fourmi – басню (1808) И.А. Крылова и «Стрекозу и муравья» Жана де Лафонтена.
(обратно)5
квартет Кедрова – основанный еще в Петербурге квартет Н.Н.Кедрова (1871–1940), куда входили также К.Н. Кедров, И.К. Денисов, Т.Ф. Казаков.
(обратно)6
Деникиных – Антон Иванович Деникин (1872–1947), генерал, участник русско-японской, первой мировой и гражданской войн, в 1918–1920 годах главнокомандующий вооруженными силами юга России, в эмиграции – редактор газеты «Доброволец», автор ряда книг, друг Шмелевых. Ксения Васильевна Деникина (1892–1983), его жена, автор воспоминаний об И.С. Шмелеве. Письма Шмелева Деникиным хранятся в Бахметьевском архиве Колумбийского университета (США). 3 октября 2005 года прах генерала Антона Ивановича Деникина и его жены Ксении Васильевны (1892–1973) был перевезён в Москву для захоронения в Донском монастыре. Перезахоронение было осуществлено с согласия дочери Деникина Марины Антоновны Деникиной-Грей и организовано Российским фондом культуры.
(обратно)7
Мариша – Марина Антоновна Деникина (1919–2005), дочь А.Н. Деникина, журналистка, писательница, мемуаристка. Писала под псевдонимом Марина Грей, муж – граф Кьяпе.
(обратно)8
дача «Жаворонок» – с конца сезона 1924 по сезон 1927 годов Шмелевы снимали на лето дачу «LAlouette».
(обратно)9
сосед Дарригад – крестьянин-баск, занимавшийся земледелием.
(обратно)10
полковник Попов – Константин Сергеевич (1893–1962), капитан, участник первой мировой и гражданской войн. В эмиграции – сотрудник Зарубежного Союза русских военных инвалидов и Объединения Лейб-гренадерского Эриванского полка, с 1931 года – секретарь редакции газеты «Русский инвалид», писатель, мемуарист, литературный критик.
(обратно)11
разведчики – Национальная организация русских разведчиков, созданная в 1925 году полковником П.Н.Богдановичем, под покровительством Великого Князя Александра Михайловича, а за тем Великой Княгини Ксении Александровны для военно-патриотического воспитания детей эмигрантов. Организация строилась на принципах «культа тысячелетней русской государственности и традиций Императорских армии и флота», «воспитания активного русского патриотизма», «иерархии и единоличия», «милитаризации», на принципах деятельности Петра I и А.В.Суворова. И.С. Шмелев написал о них несколько статей, в т. ч. статью «Куда послать детей».
(обратно)12
полковник Богданович – Павел Николаевич (1883–1973), полковник Генштаба, участник первой мировой войны. В 1925 году создал и возглавил Национальную Организацию Русских Разведчиков, член Союза Преображенцев и Объединения Лейб – гренадерского Эриванского полка. Во время оккупации – редактор газеты «Парижский вестник», писатель.
(обратно)13
скауты – в 1909 году О.И. Пантюхов собрал в Павловске группу мальчиков, положив начало скаутскому движению, которое захватило Царское Село, Петербург, Москву, Владикавказ. Единой скаутской организации в дореволюционной России не было. В 1920 году в Константинополе возникла Организация русских скаутов за границей, в 1923 – Всероссийская Национальная Организация Русских Скаутов, которая была членом Бойскаутского Интернационального бюро в Лондоне, в 1941 году О.И. Пантюховым она была переименована в Организацию Разведчиков. Отделы скаутской организации существовали во Франции, Манчжурии и Северном Китае, Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Югославии, Болгарии, Финляндии, Венгрии, Бразилии, США, Англии.
(обратно)14
«Потешные» Петра Великого – «потешные ребятки», сверстники из семей знати всегда окружали малолетних царевичей. С 1683 года вместо «потешных ребяток» около Петра формируются «потешные полки» («потешные», ибо стояли в потешных подмосковных селах).
(обратно)15
гимн «Коль Славен», слова М.М. Хераскова, музыка Д.С. Бортнянского; «Песнь Лейб-Гвардии Преображенского полка».
(обратно)16
Каледин Алексей Максимович (1861–1918), генерал от кавалерии (1916). С 1917 атаман Донского казачьего войска. С декабря 1917 возглавлял в Новочеркасске «Донской гражданский совет» (совместно с М. В. Алексеевым и Л. Г. Корниловым). Не получив поддержки казачества в ходе наступления красных войск, сложил полномочия атамана; покончил с собой.
(обратно)17
Сергей Михеевич Серов – (1884–1960), учился в Военно-медицинской Академии в Петербурге, в эмиграции работал в госпитале Ляенек в Париже, в 1930-е годы вошел в Союз деятелей русского искусства и бесплатно лечил его членов. Близкий друг и врач И.С. Шмелева.
(обратно)18
его жена – Маргарита Александровна Серова (1892–1975), урожд. Лихонина.
(обратно)19
их дочь Ирина – Ирина Сергеевна Мамонтова (около 1915–1999), урожд. Серова.
(обратно)20
Шуйский – Юрий Константинович Шуйский (1921–1978), учился в лицее Бюффона, бывал в лагере П.Н. Богдановича, потом в Ле Мане, на математических курсах вместе с Ивом Жантийомом. Впоследствии – инженер, директор собственного предприятия. Также интересовался Шопенгауэром и социальной философией.
(обратно)21
Крячко – Федор Федорович Крячко (1889–1967), левый эсер, главный редактор газеты «Голос жизни», в эмиграции – электрик, затем директор собственного предприятия.
(обратно)22
богослова Карташева – Антон Васильевич Карташев (1875–1960), выпускник и доцент Петербургской Духовной Академии, профессор Высших женских курсов в Петербурге, председатель религиозно-философского общества в Петербурге. В 1917 году обер-прокурор Святейшего Синода, министр по делам вероисповеданий Временного правительства, в эмиграции – председатель Русского Национального Комитета, профессор Богословского института в Париже.
(обратно)23
Павла Полуэктовна Карташева-Соболева (1889–1969).
(обратно)24
профессор Кульман – Николай Карлович (1871–1940), филолог – славист, литературовед, критик, Автор многих статей об И.С. Шмелеве.
(обратно)25
Имеется в виду рассказ «Чужой крови».
(обратно)26
Приписано сверху от руки: Сообщи адр. <нрзб.> и ск. фамилию и имя отч. (затеряно). Ответь на все кратко и обстоятельно, а то твои письма напоминают окрошку! Sic! Что – как писатели? Из Англии пока ни звука. Лик Скрытый уже переведен Mme Smoll.
(обратно)27
Приписано на полях: Рассказ жуткий и подымет, годится для переводов. Европ. такое любят – экзотическое!
(обратно)28
Приписано от руки на полях: Да, я, м. б. уеду, газет нет из Парижу, если не удастся уех. в Россию: я хочу писать важное, нужной, мое.
(обратно)29
Приписка от руки: Когда уехали жильцы? За квартиру я плачу! Твой Дядя Ваня. Малютка цел тебя и оч. жалеет – из-за <нрзб.>
(обратно)30
На полях приписка: Оля посыл. тебе сегодня 3 dessjus (фр. женское нижнее белье).
(обратно)31
Не точное воспроизведение устойчивого франц. выражения: á bon marché – дешево. Шмелев имеет в виду: на толкучке.
(обратно)32
Письма публикуются по новой орфографии, описки исправлены. Сокращения расшифрованы только в непонятных случаях. Все приписки приведены в конце письма. Адрес не указывается, зачеркнутые строки не приводятся. Последние семь писем – открытки с основным текстом на французском языке, в пропуски И.С.Шмелев вставляет русские слова.
(обратно)33
Ивик – Ив Жантийом.
(обратно)34
Soorts-Hossegor – деревушка рядом с одноименным озером, недалеко от г. Капбретона. Шмелевы жили там летом 1924 года на даче у скульптора Бурчака.
(обратно)35
рассказ – вероятно, имеется в виду рассказ «Два Ивана», написанный в мае 1924 года в Ландах. Впервые опубликован в газете «Руль», 15,16 ноября 1924 (№№ 1072,1073)
(обратно)36
entre nous – фр.: между нами.
(обратно)37
в маленьком домике – с конца сезона 1924 по сезон 1927 годов Шмелевы снимали на лето дачу «LAlouette».
(обратно)38
фромаж блан – фр.: белый сыр.
(обратно)39
Ле солей де мор – «Солнце мертвых» – эпопея И.С. Шмелева, была написана в марте – сентябре 1923 года, впервые опубл.: альманах «Окно», 1923, № 2, 1924, № 3. Роман под таким же названием – книга французского писателя Камилла Моклера «Le Soleil des Morts».
(обратно)40
Матэн – ежедневная парижская газета «Le Matin».
(обратно)41
Юлюша – см. Примечание 1.
(обратно)42
Олечка – см. Примечание 2.
(обратно)43
Capbreton – городок на юге Франции, департамент Ланды, где Шмелевы снимали дачу каждое лето с 1924 по 1933 год.
(обратно)44
нашли дачу – «Riant sejour», дача «Веселое Проживание» – «Riant Sejour», которую Шмелевы снимали на летние сезоны с 1928 по 1933 годы и называли «Веселое Житье».
(обратно)45
всем «карпам» – семье Карповых, см. Примечания 1, п. 24, 27, 28, 29.
(обратно)46
Мариша – М.А. Деникина, см. Примечание 7.
(обратно)47
у Ростовцева – русский магазин в Париже.
(обратно)48
Марусю – М.Ф. Карпову, см. ПРИМЕЧАНИЯ 1, п. 29.
(обратно)49
в Севре – город во Франции, где Шмелевы жили зимы с 1926 по 1933 год.
(обратно)50
«катальпа» – дерево, семейства Bignoniaclae, растет в парках сев. Европы.
(обратно)51
«десяток» – в Севрском лицее была десятибалльная система оценок, и наивысшим баллом было 10.
(обратно)52
новым друзьям Энден – русские эмигранты фон Энден, жившие рядом с Севрским лицеем. В семье было пятеро детей: Михаил (друг ДФ.Карпова, впоследствии автор книги о Г.Распутине на французском языке), Владимир, Екатерина, Наталья и Софья.
(обратно)53
Додя – Давыд Федорович Карпов (1906–1973) получил высшее образование, работал инженером на севере Франции, отец троих детей. Андрей Федорович Карпов (1902–1937) закончил Сорбонну, работал в банке, написал книгу о Платоне, ездил на Афон к своему двоюродному брату влад. Василию (Кривошеину), скончался от тифа.
(обратно)54
няне – няня Аграфена – (до 1861 – 40-е годы, оккупация). После раннего неудачного брака всю жизнь служила няней. Умерла в доме для престарелых в Севре, послужила прототипом героини романа И. С. Шмелева «Няня из Москвы».
(обратно)55
Марфуше – кухарка Марфуша – затем служила у Давыда Карпова, когда тот женился.
(обратно)56
М. Ducher – владелец виллы LAllouette, где в 1924–1927 годах жили Шмелевы.
(обратно)57
Hossegor – небольшая рыбацкая деревушка рядом с одноименным озером, недалеко от Капбретона. Шмелевы жили там летом 1924 года на даче у скульптора Бурчака.
(обратно)58
Приехали – в 1929 году Шмелевы приехали в Капбретон в конце апреля.
(обратно)59
Кастолетти – Кастелетти – Castalleti, муж дочери Гаше, судовой механик.
(обратно)60
Mad. Donne – соседка Шмелевых в Капбретоне, жила от них через дом.
(обратно)61
komandoy – горчичники.
(обратно)62
в училище – Шестая Московская мужская гимназия, Б.Толмачевский пер., д. З, где в 1884–1894 годах учился И.С.Шмелев. Теперь в сквере напротив этого здания установлен памятник писателю.
(обратно)63
к Троице – в Троице-Сергиеву Лавру, основанную преп. Сергием Радонежским в XIV веке в 70 километрах от Москвы.
(обратно)64
мосье Каплэн – домовладелец на ул. Rossignols 9, где Шмелевы жили с 1928 по 1933 год.
(обратно)65
можно переезжать – в 1929 году Шмелевы переехали в Севр 30 октября.
(обратно)66
лимасоны – фр.: слизняки.
(обратно)67
эскарго – фр.: улитки.
(обратно)68
О-бон-марше – Au bon Marche, известный магазин в Париже, во времена Шмелевых там цены были ниже, чем в других магазинах.
(обратно)69
«Няню» – роман «Няня из Москвы».
(обратно)70
Маргарита Давыдовна – Маргарита Давыдовна Карпова (1880 – 935), урожд. Морозова, дочь двоюродного брата С.Т. Морозова. В начале века ее лепил С. Коненков и рисовал К. Сомов. Осенью 1917 года она эмигрировала с детьми в Сербию через Кисловодск, с 1924 года жила во Франции.
(обратно)71
Федор Геннадиевич – Федор Геннадиевич Карпов – (1874–1937), племянник С.Т. Морозова, в начале века – директора Никольской мануфактуры в Орехово-Зуеве. Шмелевы снимали у него квартиру в 1926–1928 годах.
(обратно)72
«О-гурмэ» – магазин в Париже.
(обратно)73
Порт де С. Клу – Port de St. Cloud, на юго-восточном въезде в Париж.
(обратно)74
Лябен – железнодорожная станция в Ландах, на которой делали пересадку до Капбретона.
(обратно)75
М-с. Гаше – М. и М-ме Гаше – Gachet, владельцы дачи Riant-Sejour.
(обратно)76
отец – Рене Андре Эдмон Жантийом.
(обратно)77
мину, мину – так по-французски подзывают кошку.
(обратно)78
Самаритен – Samaritain, известный магазин в Париже.
(обратно)79
мой брат Володя – Владимир Александрович Охтерлони (1869–1935), машинист на железной дороге. По сведениям родственников, в семье никогда не говорили о том, что он был арестован.
(обратно)80
Ф. Ф. Крячко – см. Примечание 21.
(обратно)81
с днем Ангела – 24 июля н. ст. (11 июля ст. ст.), праздник равноапостольной Ольги.
(обратно)82
приехали скауты – разведчики; в дореволюционной России организации скаутов иногда именовались разведчиками, см. Примечание 11.
(обратно)83
Надин – Надежда Федоровна Плюс (р.1919), впоследствии биолог.
(обратно)84
Пополь – брат Надин, сын Ф.Ф. Крячко.
(обратно)85
Поповых – К.С. Попов, см. Примечание 10.
(обратно)86
Allemont – город во французских Альпах, где Шмелевы жили летом 19.34 и 1935 годов., первый год – на даче у Деникиных, второй – на ферме в долине.
(обратно)87
полковник П.Н.Богданович – см. Примечание 12.
(обратно)88
Котейсар – гора в Альпах, чернику на ней собирали гребнем с привязанной деревянной коробкой.
(обратно)89
Дядя Ваня работает – летом 1935 года И.С.Шмелев писал первый том романа «Пути небесные» и очерки «Старый Валаам».
(обратно)90
Ксения Васильевна – K.B. Деникина, см. Примечание 6.
(обратно)91
Chevert – улица в Париже, где в д. 12 ЮАКутырина с Ивом Жантийомом жили в начале 20-х годов.
(обратно)92
Boulogne – предместье Парижа, где на Boulevard de la Republic, 2, Шмелев жил с 1933 по 1937 годы.
(обратно)93
Вадим Николаевич – сосед по Boulevard de la Republic 2, родственник или знакомый некоего русского князя, жившего с ним.
(обратно)94
с Ангелом – преп. Ивистиона, 8 сент. н. ст. (26 авг. ст. ст).
(обратно)95
Берлин – во время поездки в Прибалтику в августе-октябре 1936 года И.С. Шмелев останавливался в Берлине на пути туда и обратно.
(обратно)96
адрес в Латвии – И.С. Шмелев жил в Латвии у Климовых, по адресу: Pulkv. Brieza iela, 4, dz 2 bei Klimov, Latvija.
(обратно)97
Олимпийские празднества – X Олимпийские игры, в 1936 г. проводимые в Берлине.
(обратно)98
помни тетю Олечку – О.А. Шмелева скончалась 24 июня 1936 года, 24 июня было отпевание в Бианкурской церкви Св. Николая.
(обратно)99
Горный – Сергей Горный (1882–1949), настоящее имя Александр – Марк Авдеевич Оцуп; прозаик, участник гражданской войны, с 1922 года до начала 40-х жил в Берлине.
(обратно)100
выехать 3-го – 3 октября 1936 года И.С. Шмелев выехал из Риги.
(обратно)101
чтение – 6 октября 1936 года И.С.Шмелев выступал на литературном вечере Союза русских журналистов и литераторов в зале русско-немецкой гимназии в Берлине; всего пробыл в Берлине около недели.
(обратно)102
литературный вечер – И.С. Шмелев выступал в рижском «Доме Черноголовых» 30 сентября 1936 года, читал отрывки из романов «Богомолье», «Няня из Москвы», «Лето Господне», рассказ «Как я покорил немца».
(обратно)103
«Дом Черноголовых» – г. Рига, Рыночная площадь. С XIII века здесь существовало общество Schwarzen Haupter-ов («черноголовых») – немецкое военно-торговое общество с политическими целями, основано епископом Николаем; позднее клуб мистического характера.
(обратно)104
тиель – липа.
(обратно)105
Иван Иванович – Иван Иванович Новгород-Северский – (1893–1969), поэт, прозаик. Настоящее имя – Ян Пляшкевич. Участник первой мировой и гражданской войн, в 1920 году через Константинополь эмигрировал в Болгарию, оттуда в Париж, был студентом Сергиевского богословского института в Париже в 1926–1927 годах. Второй муж Ю. А. Кутыриной.
(обратно)106
Сергей Михеевич – С.М.Серов, см. Примечание 17.
(обратно)107
Обитель преп. Иова – Братство преп. Иова Почаевского, устроенное в 1902 году архимандритом, впоследствии архиепископом Виталием (Максименко); его помощники – архимандрит Савва (Струве) и Иов (Щуров). После второй мировой войны обитель переехала в Мюнхен, затем в Джорданвилль.
(обратно)108
в Праге… все мои выступления – И.С. Шмелев приехал в Прагу в мае 1937 года в связи с торжественными церемониями по поводу столетия смерти А.С. Пушкина; выступал 13 и 14 мая (литературный вечер И.С. Шмелева организован Союзом русских писателей и журналистов в зале городской библиотеки).
(обратно)109
«Пушкинское» собрание (13-го) – И.С. Шмелев читал доклад «О Пушкине. Заветная встреча» в День русской культуры, организованный комитетом Дня русской культуры.
(обратно)110
епископ Сергий – Аркадий Дмитриевич Королев (1881–1972), архиепископ Пражский, двадцать четыре года возглавлял русскую колонию в Праге, служил в Св. – Никольском храме в Праге.
(обратно)111
о. настоятель – архимандрит Виталий (В.И.Максименко, 1873–1960), выпускник Казанской Духовной академии, архимандрит Почаевской Лавры, после войны переехал в США и основал Свято-Троцкий монастырь.
(обратно)112
печатают св. книги – в печатне преп. Иова Почаевского, основанной святым в Почаеве в 1618 году, разбитой большевиками и петлюровца ми в 1918 году и восстановленной, печатали «Великий Сборник» (он был у И.С. Шмелева), духовные книги, журнал «Православная Русь».
(обратно)113
«Православная Русь» – церковно-общественный журнал, основанный «Братством преп. Иова Почаевского» в 1928 году во Владимировой на Карпатах, 1928–1944, с 1947 года выходит в Джорданвилле. Издание Русской православной Церкви за границей.
(обратно)114
мой Вагаев – один из главных героев романа «Пути небесные» (1935–1936, 1944–1948), его прототип упомянут также в очерке «Подвижники» (1937).
(обратно)115
«Пути небесные» – роман, написан в 1935–1936 годах, 1944–1948 годах; первая часть впервые опубликована в газете «Возрождение» в 1935–1936 годах.
(обратно)116
потом на 1–2 в Прагу – в действительности И.С. Шмелев из обители поехал в Ужгород, где также выступал с речами и чтениями, затем в Мукачево, в Липшерскую обитель и в Прагу приехал 11 июня 1937 года.
(обратно)117
сумасшедшее письмо – о нем упомянуто также в очерке В. Федорова «Шмелев в Подкарпатской Руси», «Сегодня», 1937,22 июня (№ 169), с. 3 и в книге О.Н. Сорокиной «Московиана», М, «Московский рабочий», 1994, с. 266.
(обратно)118
припадки сердца – С. Н. Сорокина пишет, что 25 июля 1937 года И.С. Шмелева посетил гость из СССР, привез письмо от сестры. После этого 29 июля у писателя было что-то вроде сердечного приступа, две сестры милосердия оставались с ним в течение 12 суток (О.Н.Сорокина. Указ. соч., с. 267).
(обратно)119
Ментона – французский город в Приморских Альпах, известный курорт, И.С.Шмелев был там с 12 сентября по 30 октября 1937 года.
(обратно)120
Ляфавьер – городок на средиземноморском побережье Франции, там был русский лагерь на «русской горке» Colline russe.
(обратно)121
Вел. Кн Ксения Александровна – (1875–1960), дочь императора Александра III и жена Вел. Кн. Александра Михайловича; в это время гостила в Ментоне.
(обратно)122
«Русский дом» – так называемые «Русские дома» устраивались во многих городах Франции; в них проходили различные культурные программы, происходили съезды РСХД (Русского Студенческого Христианского Движения), собирались младороссы.
(обратно)123
«Русский очаг» – клуб «Русский очаг» во Франции был основан 17 декабря 1920 года на базе Объединения русских за границей; он не имел специального помещения, издавал «Русскую летопись», монархический журнал «Воскресенье».
(обратно)124
борьба антониевцев и евлогианцев – двух ветвей зарубежного церковного управления, см. ПРИМЕЧАНИЯ 2, п. 44, по имени митрополита Антония (Храповицкого, 1863–1936) и митрополита Евлогия (Георгиевского, 1867–1945).
(обратно)125
Амфитеатрову – Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938), прозаик, драматург, критик, много лет переписывался с И.С. Шмелевым; в силу бюрократических проволочек с визой писателям увидеться так и не удалось (подробнее см. альманах «Минувшее», вып.22, СПб., 1997, с. 609).
(обратно)126
Ирина – И.С. Серова, см. Примечание 19.
(обратно)127
мамаша-стрекозка – М.А. Серова, см. Примечание 18.
(обратно)128
автокар – пригородный автобус, напоминающий вагон поезда.
(обратно)129
«Эвропеише Ревю» – «Europaische Revue», 1937, сентябрь.
(обратно)130
о немецкой «Няне» – «Die Kinderfrau». Roman. Autorisierte Ubersetzung aus dem Russischen von R. Candreia – Frauenfeld und Leipzig Verlag von Huber & Co, 1936.
(обратно)131
лауреата Нобелевского приза Бунина – И.А. Бунин получил Нобелевскую премию в 1933 г.
(обратно)132
Ляванду – le Lavandoy, дача Серовых, где в 1937 году гостил Ив Жантийом.
(обратно)133
Монте-Карло – курорт в княжестве Монако с широко известным игорным домом.
(обратно)134
Gare de L’Est – Восточный вокзал в Париже.
(обратно)135
place reserve – зарезервированное место.
(обратно)136
для перевозки вещей к Серовым – Серовы жили по адресу: Rue du Ranclagn, 84– Вещи надо было перевезти с квартиры Карташевых, где Шмелев жил с 31 августа 1937 года по январь 1938 года, пока хозяева были в Афинах.
(обратно)137
Coire – Кур, город на востоке Швейцарии.
(обратно)138
Замок – пансион в Швейцарии Schloss Handelstein, где И.С.Шмелев жил по приглашению своей переводчицы Р.Кандрейя с января по апрель 1938 года.
(обратно)139
РБ. – Ревекка Бернгардовна Кандрейя, переводчица и друг И.С. Шмелева.
(обратно)140
статью – статья «Случай в Шанхае», написана в январе 1938 года, впер вые опубликована в изд.: «Возровдение», 1938,4 февраля (№ 4117).
(обратно)141
салипирин – антисептическое, жаропонижающее и болеутоляющее средство.
(обратно)142
«Свет вечный» – рассказ, написан в апреле 1937 года, впервые опубликован в изд.: «Возрождение», 1937,1 мая (№ 4076).
(обратно)143
карташевских – комнаты у Карташевых в квартире на улице Манин, 3.
(обратно)144
Бют-Шом – улица на севере Парижа, где жил А.В. Карташев.
(обратно)145
Симон-Бульвар – бульвар на севере Парижа.
(обратно)146
рю Пирене – улица на севере Парижа.
(обратно)147
«Голь Касэ» – Gueles Casses – фр.: «разбитая морда», французское благотворительное общество, помогавшее участникам первой мировой войны; устраивало лотереи.
(обратно)148
хлопотать в Германии о «Няне» – роман И.С. Шмелева «Няня из Москвы» был запрещен в Германии после года продажи, как не отвечающий «немецкому духу»; запрещение продолжалась 3 месяца, потом тираж было разрешено вывезти в Швейцарию.
(обратно)149
«Старый Валаам» – книга очерков И.С. Шмелева, переделанная из ранней книги «На скалах Валаама» (1897), издана книгопечатней преп. Иова Почаевского во Владимировой, 1936.
(обратно)150
«Возрождение» – ежедневная, с 1936 года еженедельная газета, «орган русской национальной мысли», Париж (1925–1940), редакторы П.Б. Струве (1925–1927), Ю.Ф. Семенов (с 1927).
(обратно)151
Джуджиев – Г.А. Джуджиев (1886–1971), полковник, участник Белого движения, член РОВС, директор библиотеки и книжного магазина издательства «Возрождение».
(обратно)152
Стива – сын А.В. Карташева.
(обратно)153
Ледяной дом» – глава из романа «Лето Господне», впервые опубликована в изд.: «Возрождение», 1938,11 февраля (№ 4118), с. 3, 6.
(обратно)154
профессора Светлова. «Апологетика христианства» – протоиерей П.Л. Светлов (1861–1945), выпускник Московской Духовной академии, профессор богословия в Киевском университете, автор многих статей и книг по богословию, в том числе «Опыта изложения право – славно-христианского вероучения» (Киев, 1896, 1898). Критиковал схоластическое влияние в богословии, старался примирить религиозную веру и науку, стремился приобщить интеллигенцию к богословию.
(обратно)155
Борис Иванович Сове (1900–1962), богослов, бакалавр литературы Оксфордского университета, выпускник и профессор Богословского института в Париже, читал лекции на православных богословских курсах, в храме Христа Спасителя в Аньере, Англо-русском содружестве, участвовал в создании Религиозно-философской академии, библиотекарь славянского отделения библиотеки Гельсинфорского университета.
(обратно)156
Фаина Осиповна Ельяшевич – общественная деятельница, член правления общества «Быстрая помощь».
(обратно)157
за мой рассказ – «Говение», написан в марте 1938 года, посвящен С.М.Серову, впервые напечатан в «Возрождении», 1938,25 марта (№ 4124).
(обратно)158
«Иностранец» – неоконченный роман, начат 8 февраля 1938 года в Швейцарии, впервые напечатан в журнале «Русские записки», 1938, №№ 4,5.
(обратно)159
«Русские записки» – общественно-политический и литературный журнал, Париж, Шанхай, 1937–1939, редактор П.Н. Милюков (с 1938 года).
(обратно)160
уеду в Прагу – И.С. Шмелев уехал в Прагу из Цюриха 23 апреля 1938 года.
(обратно)161
на Карпаты – И.С. Шмелев приехал в обитель преп. Иова Почаевского 5 мая 1938 года, 3–13 июня участвовал в праздновании 950-летия крещения Руси.
(обратно)162
нансеновские волчьи билеты – так называемый «нансеновский паспорт», который имели русские эмигранты, по имени Ф. Нансена (1861–1931), знаменитого полярника, Верховного комиссара по беженским делам при Лиге Наций; в 1924 году его заменил Нансеновский комитет.
(обратно)163
вечер – литературный вечер И.С. Шмелева в Праге был 24 апреля 1938 года.
(обратно)164
уеду… на юг – с 26 августа 1938 года Шмелев жил с Серовым в Chalet des Rosiers, Menton-Garavan, на вилле кн. П.П.Волконского.
(обратно)165
rue Boileau – в д. 91 И.С. Шмелев жил с 15 октября 1938 года до последних дней.
(обратно)166
Зеелер – В.Ф. Зеелер (1874–1954), общественный деятель, журналист, литературный критик; друг И.С. Шмелева, автор статей и воспоминаний о нем, жил на rue Claude Lorrain, 16 е.
(обратно)167
marche р St Cloud – рынок порта де Сен-Клу.
(обратно)168
Оберже де Женес – Auberge du jennesse, юношеская организация, дома самообслуживания молодежи. Такой дом был в Фонтенбло, его посещал Ив Жантийом.
(обратно)169
чешские адреса – И.С. Шмелев пишет Иву Жантийому в Прагу на адрес: М J. Gentilhomme u рапа Vaclava Pangrace с. 103 Pec pod Cerchovem p.p. TrhanovTchecoslovaque.
(обратно)170
положение очень обостренное – вероятно, И.С. Шмелев имел в виду гражданскую войну в Испании, военные приготовления и маневры в Германии, ситуацию с судетскими немцами в Чехословакии.
(обратно)171
S Genevieve – И.С. Шмелев хотел провести месяц в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа в 30 километрах от Парижа, но через 16 дней вернулся в Париж «Русский дом» был основан 7 апреля 1927 года по инициативе кн. В.К. Мещерского.
(обратно)172
Maison-Asile – дом приюта для пожилых людей в Сент-Женевьев-де-Буа.
(обратно)173
ecrit en russe – фр.: – написано по-русски.
(обратно)174
в занятиях – в 1939 году Ив Жантийом уехал в г. Le Mans, на математические курсы для подготовки в высшее учебное заведение.
(обратно)175
день моего Ангела – 9 октября по н. ст. – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
(обратно)176
Carre Prime – на имя этого человека И. СШмелев пишет письма Иву Жантийому.
(обратно)177
математика для тебя в радость – математику Ив Жантийом полюбил еще в Севрском лицее, учась у m-lle Felix, и впоследствии окончил математический факультет в Сорбонне.
(обратно)178
товарищ Шуйский – см. Примечание 20.
(обратно)179
бурса – бесплатное обучение с выплатой стипендии.
(обратно)180
пишу маме о книгах – И.С. Шмелев писал Ю.А. Кутыриной 18. IX. 39 года: «Милая Юля, Ивику нужны книги, я достал денег, заезжай взять, – и купи непременно. Привет. Ваш Ив. Шмелев. Лучше всего заехать в воскресенье, завтра, часов 11–12, а то я, может быть, пройду к знакомым. То же и в понедельник, только до 11 часов утра, т. к надо будет поехать в югосл. (неразб.) за pension. И.Ш.
(обратно)181
«Рождество» – глава из «Лета Господня», впервые опубликована в «Возрождении», 1940,5 января (№ 4217).
(обратно)182
Мариша Д. работает в Тулузе бухгалтером – М.А. Деникина работала в течении 10 или 11 месяцев до оккупации Парижа у Ля те Корре.
(обратно)183
Thiocol – лекарство от насморка.
(обратно)184
«Сегодня» – независимая демократическая газета, Рига (1919–1940), редакторы Н.Г. Бережанский, М.И. Ганфман (1922–1934), Б.О. Харитон (с 1925),М.С. Мильруд.
(обратно)185
«Рождество» – под названием «Божья милость. Из детских воспоминаний» опубликовано в изд.: «Сегодня» 1940,14 января (№ 13).
(обратно)186
Р. Кандрейя – Ревекка Бернгардовна Кандрейя, переводчица и друг И.С. Шмелева.
(обратно)187
в Испании – имеется в виду испанская война 1931–1939 годов; Гер мания и Италия в 1936 году оказывали помощь испанскому фашизму, с 1939 года в стране установился режим генерала Франко.
(обратно)188
Пушкин… заявил – письмо А.С. Пушкина П.Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года.
(обратно)189
по Ключевскому – В.О. Ключевский (1841–1911), историк, профессор Московской Духовной академии и Московского университета, автор многих трудов, в том числе знаменитого «Курса русской истории».
(обратно)190
«открытое письмо» – L Lubimof. Considerations surl’histoire russe. – «Возрождение», 1940,16 февраля (№ 4223). И.С. Шмелев послал Л.Д. Любимову 17 февраля открытку: «Дорогой Лев Дмитриевич, отлично, крепко, метко ответили на злостную клевету о России – достойно всыпали «лавровому» хаму. Жму руку. Ив. Шмелев». Слово «хаму» зачеркнуто, и карандашом надписано над ним «невежде». А также: «Сорвалось крепкое словечко, и потому и послал почтой. Ив. Шм.» (РГАЛИ, ф. 1447, оп. 1,ед. хр. 23).
(обратно)191
Шарль Моррас (1868–1952), французский поэт и публицист, с 1908 года глава журнала «Action Francaise», представитель т. н. «романской школы», провозгласившей лозунг национального ренессанса.
(обратно)192
«Action Francaise»-политический журнал, выходит с 1908 года, орган интегрального национализма, наиболее читаемый журнал по национальной пропаганде.
(обратно)193
Лев Дмитриевич Любимов (1902–1976), журналист, историк, мемуарист, искусствовед, в эмиграции – с 1919 по 1948 год, сотрудничал в эмигрантской печати и французских газетах Вернулся в Россию, издал здесь ряд книг и статей.
(обратно)194
Старший Пастак – Исаак Абрамович Пастак (1894–1965), эмигрант из крымских караимов, жил в Вирофле, работал на предприятиях Трюфо в Версале, награжден орденом Почетного легиона за достижения в области химии, доктор химических наук, вице-председатель Общества русских химиков во Франции, автор нескольких книг.
(обратно)195
Высокого Пастака – младший брат Исаака, Себастьян, также живший в Вирофле и работавший на предприятиях Трюфо в Версале; заботился о старшем брате.
(обратно)196
ecole politechnique – была создана в 1794 году по инициативе Монда и Карно под именем «Центральная школа общественных работ», свое имя получила в 1795 году. Вначале гражданское, потом, при Наполеоне, военное высшее учебное заведение, подчинено военному министерству. Занятия отличаются высоким научным уровнем (математика, физика, химия).
(обратно)197
боли желудка – с 1909 года И.С. Шмелев страдал язвой двенадцатиперстной кишки.
(обратно)198
узнал, где ты – с 1940 года Ив Жантийом проходил военную службу – сначала в г. Фонтенбло одну-две недели, а потом был отправлен на юг Франции, сначала в г. Тарб, а потом Лурд.
(обратно)199
Кукловский – один из знакомых Шмелева, знакомство не позднее 1934 года.
(обратно)200
присяжный поверенный Трахтеров – О.С. Трахтеров, присяжный поверенный округа Петербургской судебной палаты, глава Союза русских адвокатов в Париже. Автор книги «Мысли и тревоги». Погиб в Освенциме.
(обратно)201
сын – А.О. Трахтеров (ок.1909–1940), артиллерист, похоронен на военном кладбище Бетанкур, г. Монбейло.
(обратно)202
Бельфор – город на востоке Франции.
(обратно)203
над романом – роман «Лето Господне»
(обратно)204
bucheron – фр.: дровосек Из Лурда Ив Жантийом был направлен в заброшенную деревню Villars-de-Bois, где он работал дровосеком; эта служба уже не считалась военной.
(обратно)205
sanoqyl – зубная паста.
(обратно)206
Титов – по устным воспоминаниям Ива Жантийома, русский эмигрант, хороший знакомый И.С. Шмелева, работал в учреждении, где изготовлялись разные лекарства.
(обратно)207
cellucrine – лекарство.
(обратно)208
Лючи – вероятно, Lucienne Lecomte (р.1920), первая жена Ива Жантийома; И.С. Шмелев был ее крестным отцом.
(обратно)


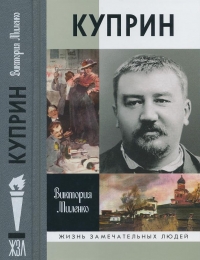
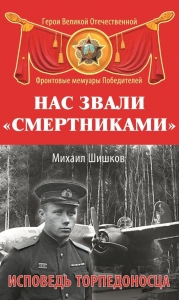
Комментарии к книге «Мой крестный. Воспоминания об Иване Шмелеве», Ив Жантийом-Кутырин
Всего 0 комментариев