Джакомо Казанова Любовные похождения Джакомо Казановы
От переводчика
Личность Казановы – одна из самых примечательных своего времени. Ф. М. Достоевский
На вопрос: «Кто такой Казанова?» многие удивленно переспросят: «Казанова? Известно кто: герой-любовник, соблазнитель женщин и известный авантюрист». Некоторые, более просвещенные, добавят: «Шарлатан, алхимик, как Калиостро и Сен-Жермен». А иные, конечно, мужчины, ворчливо бросят: «Бабник!»
И все будут правы: один из бесчисленных образов Джакомо Казановы – герой-любовник. С одиннадцати лет, как признается он сам в своих мемуарах, он мечтал о женщинах, к пятнадцати годам он уже опытный соблазнитель. Имея бесчисленных любовниц, этот «вечный любовник и вечный злодей-сердцеед» меняет их «как перчатки». Бесчисленных любовниц? «Казановисты» (были и такие), изучая его мемуары, подсчитали, что за всю жизнь было у него не больше и не меньше – сто тридцать две женщины. Это и представительницы королевских семей Европы, и аристократки, и служанки, и всякого рода актрисы, и куртизанки, и даже три монахини! А в среднем на год приходилось… три женщины. В глазах праведного отца семейства, разумеется, он – «бабник», но для вечно путешествующего свободного мужчины, никогда не остававшегося равнодушным к женской красоте, – так ли это много?
Чем же он брал всех этих женщин? «Четыре пятых наслаждения заключались для меня в том, чтобы дать счастье женщине!» Этим сказано все. В своих мемуарах «История моей жизни» Казанова увлекательно описывает свои любовные приключения. Так, для возлюбленной по имени Катарина, любившей примерять обновки непременно на природе, Казанова арендовал сады в Венеции, чтобы она спокойно могла любоваться собою вдали от нескромных взглядов; другой возлюбленной, Генриетте, он дарит рысью шубу, но в Венеции жарко, где можно ее носить? Все просто: Казанова приглашает ее в Швейцарию, где всегда есть снег!
Венецианец Джакомо Казанова написал одну из самых удивительных книг на свете. С ней сживаешься больше, чем с иными людьми или событиями действительной жизни. Если такова цель всякой автобиографии, то эта автобиография – лучшая из всех написанных.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Другой образ Казановы – авантюрист, шарлатан. Тоже правильно.
Кто как не он излечил от ломоты в суставах графа Латур д’Оверня, нанеся ему на бедро таинственную пентаграмму? А кто избавил от прыщей герцогиню Шартрскую, посоветовав соблюдать щадящий «магический» режим, кто продал принцу Курляндскому рецепт изготовления золота?
Он предсказывал будущее, блестяще владея криптографией, мгновенно составлял шифрованные послания своему Духу и сам отвечал за него. Но кто поспорит с тем, что «обманывать возможно лишь тех, кто хочет быть обманутым» (его слова)? Страницы, посвященные маркизе де Юрфе, – одни из самых занятных: он обобрал богатую аристократку, помешанную на оккультных нелепицах, обещал ей зачать сына, в которого она, по словам Духа, должна была переродиться и тем самым обрести бессмертие.
Но и тут он остается настоящим мужчиной на поле боя: он не имитирует любовное сражение даже с семидесятилетней старухой!
Как же он завоевывал доверие людей? Прибегая к простым трюкам: отыскивал спрятанный им же кошелек, с важным видом чертил пентаграмму, которую украдкой подсмотрел в книге, вовсю пользовался тем, что позже назовут психологией. А сколько судеб он устроил как бы «походя»? Красавица О’Морфи, ставшая одной из фавориток любвеобильного Людовика XV, – находка Казановы. Юная красавица мадемуазель Роман, которой он предсказал, что она станет фавориткой короля, а ее сыну суждено осчастливить Францию, отправилась по его настоятельному совету из Гренобля в Париж, где вскоре действительно стала фавориткой короля, а единственный из восьми внебрачных детей Людовика XV, унаследовавший фамилию Бурбон, был сыном мадемуазель де Роман. Множество таких примеров разбросано в его мемуарах.
Итак, идеальный любовник, маг, предсказатель, авантюрист.
Но это еще не все. Казанова был неутомимым путешественником. Родная Венеция, Калабрия, Рим, Женева, Парма, Париж, Вена, Гаага, Дрезден, Цюрих, Митава, Рига, Петербург и, наконец, Чехия (вернее, Богемия), в которой закончил жизнь великий Казанова, – вот где проходила его жизнь, вот где проявились все грани его неординарной личности.
А теперь попробуем за этим Казановой увидеть другого человека.
Ему нет еще и девятнадцати лет, а он уже сообщает о множестве своих занятий: был семинаристом, начал служить мессы в своем приходе Сан Самуэле, был солдатом, клерком у адвоката, служил у посла, у кардинала. Путешествовал по Востоку: посетил Корфу, Константинополь.
Не имея специального образования, он досконально разбирается во всем. Вот он финансист – подсказывает Людовику XV идею проведения лотереи, и королевская казна заметно пополняется.
В беседе с королем Фридрихом Великим он легко рассуждает о налогах и советует монарху ввести налог на наследство. Там же, в Пруссии, он так профессионально рассуждает со специалистами о рудном деле, что его посылают произвести инспекцию шахт, и он дает блестящие советы по устроению каналов и ирригационных систем. В Париже он основывает ткацкую мануфактуру и обогащается, выпуская дивные ткани с необычным рисунком.
Все же какое дарование! В каждом направлении – в науке, искусстве, дипломатии, коммерции – его бы хватило для исключительных достижений.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»С Екатериной Великой он беседует о григорианском календаре, а православному батюшке изъясняет причину, по которой православные крестятся справа налево, а католики – наоборот, дающую пищу для размышления даже современным лингвистам.
Во время одного из путешествий он легко изобретает «дом на колесах», приспособив для этого дормез; даже о геморрое он рассуждает как настоящий врач, поражая нас специфическими подробностями заболевания…
Казанова – это искатель приключений, он принадлежит к могущественному племени, которое позже назовут авантюристами. XVIII век – век авантюристов; это переходный период между средневековьем и Новым временем, когда во всей Европе у людей пробудились личные интересы, а нелегкие события жизни сформировали Личностей.
Казанова блестяще образован: он учился в Падуанском университете и в семнадцать лет защитил диссертацию по праву. Он начитан, прекрасно знает античную, итальянскую, французскую литературу, разбирается в театре, живописи. Он и сам литератор: написал три пьесы для Королевского театра в Дрездене, и они с успехом шли на сцене. Особенно интересно, что Казанова участвовал в написании либретто для оперы Моцарта «Дон Жуан»: директору театра, заказавшему оперу, пришла в голову мысль: устроить встречу Моцарта, либреттиста Да Понте и Казановы! И встреча состоялась. Несколько сцен из оперы принадлежат перу нашего героя.
Он вдобавок еще и историк. Его «Опровержение „Истории Венецианского государства“», написанной Амело де ла Уссе, – серьезный аналитический труд. Казанова еще и переводчик – он перевел на итальянский язык «Илиаду» (с греческого) и множество французских романов. Очередная его ссора с Венецией произойдет именно из-за литературных занятий: он перевел с французского трагедию Каюзака «Зороастр», имевшую успех, но венецианский аристократ Гримальди не выплатил ему гонорар, усмотрев в этом сочинении желчную сатиру, высмеивающую венецианских патрициев. Месть не заставила себя ждать: Казанова пишет язвительный памфлет и снова попадает в опалу. Кстати, это произведение содержит единственное публичное признание автора в том, что его настоящим отцом, возможно, был венецианский патриций Микеле Гримани.
Еще он издал фантастический роман «Изокамерон», направленный против Калиостро и Сен-Жермена. В «Истории моей жизни» есть страницы, посвященные беседам Казановы с Вольтером. Именно тогда он на полном основании скажет: «Вот уж двенадцать лет, как я ваш ученик». Беседы эти чрезвычайно интересны историкам романской литературы: это настоящий поединок двух незаурядных умов.
…Казанова родился в Венеции, «городе опасном, нежном, двуличном», как писал А. де Мюссе. Но это была еще и олигархическая Республика. Где же было родиться Великому Авантюристу, как не в Венеции, с ее блеском, золотом, карнавалами, жестокостью и неимоверными тайнами? Пройдитесь по узкой улочке Ca’Malipiero, где родился наш герой, найдите дом с табличкой с его именем и вглядитесь вдаль: где-то в узком проходе, на повороте, в конце арки, уходящей на соседние улочки, вы увидите тень великого «одинокого бродяги любви Казановы»…
На Канале Гранде, а точнее – на мосту Пальи, что напротив Дворца Дожей, еще недавно стоял памятник: чугунный гигант в камзоле и узнаваемом плаще поддерживал за пальчик прелестную куколку в маске. Это был дар к двухсотлетию смерти Казановы нашего соотечественника скульптора Михаила Шемякина. По слухам, если в дни карнавала подержаться за плащ Казановы, будет вам удача в любви… Но каким-то мистическим образом постепенно памятник стал проваливаться сквозь болотистую венецианскую почву. Неужели под тяжестью грехов? Вот от греха подальше, наверное, и убран был тот памятник…
При подготовке к печати этой книги мы долго размышляли, что именно выбрать из огромной, восьмитомной «Истории моей жизни», написанной в конце жизни самим Казановой. Нам очень хотелось показать нашего героя не простым женским угодником и идеальным любовником, хотя и этого было бы достаточно, чтобы оценить по достоинству эту неординарную личность, а явить перед нашими читателями еще и другого Казанову – «человека редкостного, интереснейшего для знакомства, достойного уважения и преданности небольшого числа лиц, снискавших его расположение», – как отрекомендовал его Принц де Линь.
Чтобы лучше представить нашего героя, мы выбирали значимые для понимания личности Казановы темы и события: его детство, ибо именно оно определяет все поступки человека и его последующую жизнь, знакомство с Людовиком XV, с королем Прусским Фридрихом Великим и с императрицей Екатериной II. А также встречи и беседы с известнейшими людьми того времени: Вольтером, Ж.-Ж. Руссо, графом Сен-Жерменом, адмиралом графом Алексеем Орловым. Конечно же, в книгу также вошли истории, связанные с самыми различными женщинами, встречавшимися на жизненном пути Казановы.
Фигура Казановы всегда вызывала и продолжает вызывать интерес. Не только как сердцееда и авантюриста. Это подтверждают многочисленные высказывания о нем великих писателей: Ф. М. Достоевского, М. И. Цветаевой, Стефана Цвейга, Пьетро Кьяри, Стендаля, Г. Гейне, А. де Мюссе, Э. Делакруа. Знаменитому авантюристу посвящены романы Р. Олдингтона, пьесы А. Шницлера, М. Цветаевой, В. Коркия и А. Лаврина («Казанова: Уроки любви»), эссе С. Цвейга, Р. Вайяна, Ф. Марсо, книга Ф. Соллерса «Казанова Великолепный» (1998). Все они находили в его личности, «одной из самых замечательных своего времени», редкие качества: блестящий острый ум, «сердце – вечно настороже», особенный взгляд на жизнь. Казанова – герой оперетты И. Штрауса-младшего, оперы Доменика Ардженто и песни «Casanova in Hell» из альбома Fundamental группы Pet Shop Boys (2006). Музыкальная композиция Casanova в восьми сценах для виолончели и духового оркестра, написанная нидерландским композитором Йоханом де Мейем, завоевала первый приз на международном конкурсе композиторов на Корсике в августе 1999 года.
Данное издание снабжено прекрасными иллюстрациями: это произведения мировой живописи и портреты известных исторических лиц, упоминающихся в книге.
Наталия Колесова
История Джакомо Казановы де Сенгальт[1], венецианца, написанная им самим в замке Дукс, в Богемииа
Ne quicquam sapit quis ibi non sapit[2]
Глава 1 Детство
В 1428 году дон Якопо Казанова, родившийся в Сарагосе, столице Арагона, и служивший секретарем короля дона Альфонсо, выкрал из монастыря донью Анну Палафокс в тот самый день, когда дала она обет пострижения. Они бежали в Рим, где после года, проведенного в тюрьме, была освобождена она от обетов и получила благословение на брак от Мартина III, что свершилось по настоянию дона Джованни Казановы, магистра святого престола. Все дети, родившиеся в этом браке, умерли в младенчестве. Все, кроме дона Джованни, что в 1475 году женился на Элеоноре Альбини, от коей имел сына по имени Марк-Антонио.
В 1481 году дон Джованни был вынужден покинуть Рим, оттого что убил офицера королевской армии. С женой и сыном бежал он в Комо, а оттуда отправился искать счастья по белу свету. Умер он в 1493 году, во время путешествия с Христофором Колумбом.
Марк-Антонио стал хорошим поэтом, он писал стихи в духе Марциала[3] и был секретарем кардинала Помпео Колонны. Сатира на Джулио де Медичи, разбросанная всюду в его стихах, вынудила его покинуть Рим. Вернувшись в Комо, женился он на Абондии Реццонике.
Джулио де Медичи, став папой Климентом VI, простил его и позволил им вернуться в Рим, где после взятия и разграбления города имперскими войсками[4] в 1526 году Марк-Антонио умер от чумы. В противном случае умер бы он от нищеты, ибо солдаты Карла V забрали у него все, чем он владел.
<…>
Через три месяца после его смерти вдова родила Джакопо Казанову, что дожил до старости и умер во Франции в чине полковника армии Фарнезе, воевавшей против Генриха, короля наваррского, а затем французского. У него был сын, живший в Парме, что в 1680 году взял в жены Терезу Конти, от коей имел сына Джакопо, женившегося в году 1680-м на Анне Роли. Сей Джакопо имел двоих сыновей, старший из которых, Дж. Батиста, уехал из Пармы в 1712 году, и что с ним сталось – неведомо. Младший, Гаэтано Джузеппе Джакопо, также покинул родительское гнездо в 1715 году в возрасте девятнадцати лет.
Это все, что я нашел в архивах моего отца. От матери я узнал следующее: Гаэтано Джузеппе Джакопо покинул семью, увлекшись прелестями актрисы по имени Фраголетта, что играла роли субреток. Влюбленный, не имея средств к существованию, он решился зарабатывать на жизнь собственными силами. Он посвятил себя танцу и уже пять лет спустя играл в театре, отличаясь скорее добрым нравом, чем талантом.
То ли по легкомыслию, то ли из-за ревности он оставил Фраголетту и отправился в Венецию в труппе комедиантов, что стали играть на сцене театра Сан-Самуэле. Напротив его дома жил сапожник по имени Джеронимо Фарусси с женой Марсией и единственной дочерью Занеттой, шестнадцати лет от роду и красоты немыслимой. Молодой актер влюбился в сию девицу, сумел добиться взаимности и уговорил бежать с ним. Будучи актером, он не мог надеяться на согласие ни матери ее Марсии, ни, тем более, отца Джеронимо, что испытывал к молодому актеру чувство неприязни. Молодые влюбленные, прихватив необходимые документы и двоих свидетелей, предстали перед епископом Венеции, что благословил их союз. Марсия, мать девушки, разразилась криками и слезами, а отец вскоре умер от горя. Я родился от этого брака по истечении девяти месяцев, 2 апреля года 1725-го.
Через год моя мать вверила меня своей; та простила ее, потребовав сначала, чтобы отец пообещал никогда не допускать ее на сцену. Именно это обещание обычно все комедианты дают дочерям буржуа, с которыми вступают в брак, и которое они никогда не выполняют, ибо и сами жены не очень заботятся о соблюдении этих обещаний. Моя мать была весьма рада, что стала актрисой, ибо в противном случае, когда девятью годами позже она овдовела, оставшись с шестерыми детьми на руках, ей недостало бы средств, чтобы нас вырастить.
Итак, мне был лишь год, когда родители оставили меня в Венеции, отправившись в Лондон играть в театре. В этом блестящем городе мать впервые вышла на сцену и там же в 1727 году родила моего брата Франческо, ставшего впоследствии известным художником-баталистом; с 1783 года жил он в Вене, занимаясь там своим ремеслом.
Родители вернулись в Венецию в конце 1728 года, и мать, поелику уж стала актрисой, так ею и осталась. В 1730 году родился мой брат Джанни, что прожил в Дрездене на службе у курфюрста в должности директора Академии живописи. Там же он и умер в конце 1795 года. В течение следующих трех лет она родила двоих дочерей: одна умерла в младенчестве, а другая вышла замуж в Дрездене, где живет и поныне[5]. У меня был другой брат, родившийся после смерти отца; тот стал священником и умер в Риме пятнадцать лет назад.
Вернемся же к началу моего сознательного существования. Я не помню решительно ничего, что было со мной до начала августа 1733 года: мне тогда было восемь лет и четыре месяца. Вот первое воспоминание в моей жизни. Я стою в углу комнаты, прижавшись головой к стене, и смотрю на кровь, хлещущую из носа на пол. Ко мне подбегает Марсия, горячо любящая меня бабушка, обмывает мне лицо холодной водой, тайком от всех усаживает меня в гондолу, и мы плывем в Мурано. Это весьма населенный остров в получасе езды от Венеции.
Выйдя из гондолы, мы входим в какую-то бедную лачугу, где на убогом ложе сидит некая старуха. На руках у нее черная кошка, а в ногах вертятся еще пять или шесть других. Это была колдунья.
Бабка моя и та старуха завели долгую беседу, предметом которой, по всему видать, был я. Говорили они на аквилейском просторечии[6], и все кончилось тем, что колдунья, получив от бабушки серебряный дукат, открыла большой сундук и посадила меня туда, без конца повторяя, что бояться не надо. Одного этого предупреждения вполне хватило бы, чтобы нагнать на меня страх, если бы я хоть что-нибудь соображал. Но я уже настолько отупел, что преспокойно устроился в уголке сундука, прижимая платок ко все еще кровоточащему носу, и остался совершенно безучастен к поднявшемуся снаружи грохоту: я слышал попеременно хохот, плач, пение, крики и удары по крышке сундука – мне было все равно. Наконец меня вытащили, кровотечение остановилось. И вот странная эта женщина целует меня, раздевает, укладывает на кровать, возжигает куренья, пропитывает дымом простыню, в которую меня закутывает, и бормочет заклинания. Затем, сняв с меня простыню, дает мне проглотить пять очень приятных на вкус пилюль. Потом она натирает мне виски и затылок ароматной мазью и одевает. Она говорит мне, что кровотечения мои мало-помалу прекратятся, ежели только никому не буду рассказывать о том, как излечился, но коли я проговорюсь кому-либо о ее священнодействиях, из меня вытечет вся кровь, и я умру. После таковых наставлений она предуведомила меня, что следующей ночью ко мне придет одна прекрасная дама, от которой зависит мое благополучное выздоровление. Ее ночное посещение нужно также хранить в тайне. С этим мы и возвратились домой.
Едва очутившись в постели, я тут же заснул, напрочь забыв об обещанном приятном визите. Но, проснувшись через несколько часов, я увидел – или вообразил, что вижу, – ослепительную женщину, спускавшуюся через дымоход. На ней были великолепные одежды, а корона на голове была усеяна каменьями, сверкавшими, как показалось мне, огненными искрами. Медленно приблизилась она к моей кровати и присела в моих ногах. Приговаривая какие-то слова, извлекла она из складок своего платья какие-то маленькие коробочки и высыпала их содержимое мне на голову. Потом она долго говорила мне что-то, я не понял ни слова. Наконец, нежно поцеловав меня, она исчезла тем же путем, каковым явилась. И я снова погрузился в сон.
Наутро бабушка, едва войдя в мою комнату, стала говорить о молчании, кое мне надлежит хранить. Она предрекала мне смерть, коли я осмелюсь заговорить с кем-нибудь об этом ночном визите. Бабушка была единственной женщиной, коей я безгранично верил и чьи приказания слепо исполнял. Едва лишь произнесла она сей приговор, ночное видение снова вспомнилось мне, но я отложил его в самых тайных уголках моего едва пробудившегося сознания. Впрочем, я и не стремился никому об этом рассказывать. Во-первых, потому, что не видел в том ничего примечательного, а во-вторых, и рассказывать-то было некому: болезнь сделала меня мрачным и необщительным, все меня только жалели и не воспринимали всерьез: считалось, что я не жилец на этом свете. Что же касается отца и матери, то они никогда и не говорили со мной.
Рассказ Казановы производит впечатление широкой быстро текущей реки, которая неудержимо влечет воображение, хоть раз отдавшееся ее волнам… Среди этих быстрых, сжатых, крепко сцепленных одна с другой строк некогда перевести дыхание.
П. П. Муратов. «Образы Италии»После поездки в Мурано и ночного визита феи кровотечения уменьшались день ото дня, и так же быстро развивалась память. Меньше чем за месяц я выучился читать. Было бы нелепо приписывать мое выздоровление сим чудесам; однако я полагаю также, что неверно было бы вовсе отрицать их действие. Что до явления волшебной феи, я всегда полагал его сновидением, если только не нарочно устроенным маскарадом. Правда и то, что у аптекарей не от всех тяжелых болезней есть лекарства. Каждый день какое-нибудь открытие показывает нам всю величину нашего неведения. Думаю, что именно по сей причине трудно сыскать на свете образованного человека, чей разум был бы полностью свободен от суеверий. Конечно, на белом свете нет и никогда не было никаких волшебников, но их сверхъестественные силы и чудеса и поныне существуют для тех, кого ухитрились они убедить в своем существовании. <…>
Второе мое воспоминание, о котором хочу рассказать, произошло со мной через три месяца после поездки на Мурано, за шесть недель до смерти отца. Я расскажу о нем читателю, чтобы дать представление о том, как развивался мой характер.
Как-то раз, где-то в середине ноября, я сидел с братом Франческо, моложе меня на два года, в комнате отца, внимательно наблюдая за его занятиями оптикой.
Заметив на столе большой круглый кристалл, сверкающий всеми своими гранями, я был очарован; поднеся его к глазам, увидел я все предметы увеличенными. Улучив момент, когда на меня никто не смотрел, я положил его в карман.
Три или четыре минуты спустя отец встал, чтобы взять кристалл, и, не найдя его, сказал, что его забрал один из нас. Мой брат заверил его, что ему про то ничего не ведомо, и я, хоть и сознавал свою вину, сказал то же самое. Он пригрозил нас обыскать и выпороть лжеца. Сделав вид, что по всем углам ищу кристалл, я ловко сунул его в карман брата. И сразу пожалел об этом: мне следовало бы сделать вид, что я его нашел, но дурное дело было уже сделано. Отец, устав от наших бесплодных поисков, обыскивает нас, находит кристалл в кармане невинного брата и налагает на него обещанное наказание. Три или четыре года спустя я имел глупость похвалиться брату, что проделал такую штуку. Он никогда мне этого не простил и впредь не упускал случая отомстить.
На общей исповеди, сообщив духовнику об этом преступлении со всеми подробностями, я обогатился знаниями, что доставило мне удовольствие. Духовником был иезуит. Он сказал мне, что, поелику зовут меня Джакомо, этим действием я подтвердил смысл своего имени, ибо Иаков по-древнееврейски означает следующий по пятам[7]. <…>
Для нас его книга драгоценна, ибо пробуждает в нас то «сочувствие», которое является целью всякого художественного произведения. Эту жизнь и судьбу мы переживаем со всем цветом и всей звучностью, вложенными в рассказ старого авантюриста. Во всех его приключениях нет ничего необыкновенного, кроме необыкновенности питавшего его внутреннего жара. По существу же все просто и человечно у Казановы, все лежит в кругу наших мыслей и чувств. И в истории его жизни мы часто узнаем страницы своей истории, вечной истории человеческой жизни.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Через шесть недель после этой истории моего отца сразил абсцесс среднего уха, что за восемь дней свел его в могилу. Врач Замбелли, после того как прописал пациенту закрепляющее снадобье, вознамерился исправить свою ошибку с помощью бобровой струи[8], что и свело отца в могилу: он умер в конвульсиях. Абсцесс прорвался через ухо через минуту после его смерти; врач удалился после убийства, как если бы не имел ничего с этим общего. Отец был в расцвете лет: ему было тридцать шесть. Он умер, оплакиваемый всеми и, прежде всего, благородным сословием, которое воздавало ему похвалы как в отношении его нрава, так и познаний в механике. За два дня до смерти он захотел видеть всех нас около своей постели и в присутствии своей жены и господ Гримани, венецианских нобилей, призвал их быть нашими покровителями[9].
После того, как он дал нам свое благословение, он заставил нашу мать, заливавшуюся слезами, обещать ему, что она не направит никого из детей в театр, куда он бы сам никогда не пришел, если бы его не заставила несчастная страсть. Она поклялась ему в этом, и три патриция гарантировали ему нерушимость этой клятвы. Обстоятельства помогли ей исполнить свое обещание[10].
Моя мать, будучи на шестом месяце, была освобождена от игры на сцене вплоть до Пасхи. Молодая и красивая, она отказывала в своей руке всем претендентам. Не теряя мужества, она считала себя способной нас вырастить. Мать полагала своим долгом заботиться прежде всего обо мне – не столько из-за предпочтения, сколько из-за моей болезни: никто не знал, что со мною делать. Я был очень слаб, у меня не было аппетита, я был не в состоянии что-либо делать и выглядел просто тупицей. Врачи обсуждали между собою причину моей болезни. Он теряет, говорили они, по два фунта крови в неделю, а ее не может быть больше шестнадцати-восемнадцати. Откуда же может происходить кроветворение в таком изобилии? Один из них говорил, что весь мой хилус[11] превращается в кровь; другой был того мнения, что каждый раз, вдыхая воздух, мне в легкие поступает толика крови, и что именно по сей причине я всегда держу рот открытым. Вот что узнал я через шесть лет от г-на Баффо, большого друга моего отца.
Он проконсультировался в Падуе с известным врачом Мако, тот высказал свое мнение в письменном виде. Это письмо, что хранится у меня по сей день, сообщает, что наша кровь являет собой эластичную жидкость, что может сжиматься и растягиваться в своей плотности, а никак не в количестве, и что мои кровотечения могут проистекать только из-за разжижения крови. Она разжижается естественным образом для облегчения циркуляции. Он сказал, что меня бы уже не было в живых, если бы природа, которая не желает умирать, не помогла себе сама. Он пришел к выводу, что причина этого разжижения может быть найдена только в воздухе, коим я дышу, надо изменить его, или быть готовыми меня потерять. По его мнению, плотность моей крови была причиной тупости, что проявлялась на моем лице.
Именно благодаря г-ну Баффо, доброму моему гению, которому, собственно, я и обязан жизнью, решено было поместить меня в пансион в Падуе. Он умер двадцать лет спустя, последним из древней патрицианской семьи, но его стихи, хотя и скабрезные[12], обессмертили его имя. Венецианские государственные инквизиторы своим духом благочестия поспособствовали его славе. Преследуя его рукописные книги, они придали им цену: должно быть, они думали, что spreta exolescunt[13].
Как только был вынесен вердикт профессора Мако, аббат Гримани озаботился поисками хорошего пансиона в Падуе. Ему помогал один его знакомый, химик, живший в этом городе. Звали его Оттавиани, и был он также антикваром. Через несколько дней пансион был найден, и 2 апреля 1734 года, в день, когда мне исполнилось девять лет, мы отправились на пассажирском корабле «Буркьелло» в Падую по Бренте. Мы сели на корабль за два часа до полуночи, после ужина. «Буркьелло» представлял собой небольшой плавучий дом. В нем имелась зала с двумя кабинетами с каждого конца и жилье для обслуги на носу и корме; это такая площадка длиной с империал, застекленная окнами со ставнями; мы плыли восемь часов. Сопровождали меня, кроме моей матери, аббат Гримани и г-н Баффо. Мать взяла меня спать с собой в зале, а два друга спали в кабинете.
Утром мать встала и открыла окно, что было напротив кровати; яркие лучи восходящего солнца заставили меня открыть глаза. Кровать была низкой, и земли было не видно. Я видел через это окно только верхушки деревьев, растущих по краям реки. Корабль плыл вперед, но движение его было столь плавным, что я не ощущал его; то, что деревья так быстро исчезают из вида, вызвало мое удивление. «Ах, дорогая моя мама, – закричал я, – что это такое? Деревья идут!»
В этот момент входят оба господина и, увидев удивление у меня на лице, интересуются, что меня так взволновало. Почему, сказал я им, деревья идут? Они стали смеяться, а моя мать, вздохнув, ответила мне жалостливым тоном: «Это корабль идет, а не деревья. Одевайся скорее».
Своим зарождающимся, ничем не обремененным сознанием я сразу понял причину явления. Так значит, возможно, сказал я им, что солнце тоже не движется, а это мы движемся с запада на восток. Тут моя добрая матушка восклицает, что это глупости, г-н Гримани сожалеет о моей тупости, а я потрясен, взволнован и вот-вот заплачу. Но г-н Баффо приводит меня в чувство: он бросается ко мне и, нежно меня целуя, говорит: «Ты прав, дитя мое, Солнце неподвижно, никогда не бойся рассуждать последовательно, и пусть их смеются».
Казанова всегда стоит на переднем плане, он главный персонаж и герой, полностью освещенный…
Герман Кестен. «Казанова»Мать спросила, не сошел ли он с ума, давая мне подобные уроки; но философ, не удостоив ее ответом, продолжил втолковывать мне теорию[14] просто и доступно. Это было первое настоящее удовольствие, что ощутил я в жизни. Без г-на Баффо этого раза было бы достаточно, чтобы уменьшить мои способности к рассуждению: отсюда проистекло бы малодушие легковерия. Недалекость двух других, безусловно, притупила бы у меня остроту этого свойства ума, и не знаю, преуспел ли бы я в жизни, но зато знаю, что лишь этой способности обязан я всем счастьем, коим наслаждаюсь, пребывая наедине с самим собой.
Рано утром мы приехали в Падую и отправились к Оттавиани; жена его принялась осыпать меня ласками. Я увидел пятерых или шестерых детей: одной дочери, Марии, было восемь лет, другой, Розе, прекрасной как ангел, – семь. <…> Оттавиани тотчас же отвел нас в дом, где находился пансион, в коем мне предстояло жить.
Это было в пятидесяти шагах от его дома, близ Санта-Мария д’Аванс, в приходе Сан Микеле, у старой славонки[15], что снимала второй этаж у г-жи Миды, жены полковника-славонца. Ей предъявили мой дорожный сундучок, оставив реестр его содержимого. Засим отсчитали шесть цехинов авансом, за шесть месяцев моего пансиона. На сию ничтожную сумму должна была она кормить меня, содержать в чистоте и учить наукам. На ее слова, что этого недостаточно, никто не обратил внимания. Меня поцеловали, велели слушаться ее во всем и оставили. Так от меня избавились.
<…> После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику по имени доктор Гоцци, которому славонка обещалась платить сорок су в месяц. Это одиннадцатая часть цехина. Было решено начать мое обучение с письма, и учитель поместил меня вместе с детьми пяти и шести лет, которые сразу принялись надо мной насмехаться. <…>
Как и следовало ожидать, ужин был куда хуже обеда. К своему удивлению, я узнал, что жаловаться на это запрещено. Меня уложили в постель, и целую ночь всем известные насекомые не давали мне сомкнуть глаз. Кроме того, крысы, шнырявшие по чердаку и взбиравшиеся ко мне на кровать, наводили на меня ужас, что леденил мне кровь. Вот когда я стал делаться восприимчивым к несчастьям и начал учиться терпеливо переносить страдания. Насекомые, кусавшие меня, внушали меньше страха, чем крысы, и этот самый страх в свою очередь делал меня менее чувствительным к укусам насекомых. Так моя душа старалась использовать те невзгоды, которые терпело мое тело. Служанка же оставалась глухой ко всем моим жалобным крикам.
Едва забрезжил день, я сполз со своего скверного ложа и поведал ей о всех карах господних, что я перенес, и попросил новую сорочку: моя вся была в мерзких клопиных следах. Она ответила, что белье меняют по воскресеньям, и громко расхохоталась, когда я пригрозил пожаловаться на нее хозяйке. Впервые в жизни плакал я от горя и злости на издевавшихся надо мной однокашников. Они были в том же положении, что и я, но они к этому привыкли. Что тут скажешь. <…>
Мой школьный учитель обратил на меня особенное внимание. Он посадил меня за свой стол, и, чтобы показать, что я ценю это внимание, я приложил к учению все свои силы. К концу месяца я писал так хорошо, что он принялся со мной за грамматику.
Новый образ жизни, постоянно мучивший меня голод и, главное, воздух Падуи быстро вернули мне здоровье, которого у меня сроду не было, но это самое здоровье еще сильнее заставляло меня страдать от поистине собачьего голода. Я рос как грибы после дождя, по девять часов спал беспробудным сном, и единственными моими сновидениями были такие: я сижу за огромным столом и утоляю свой немыслимый аппетит. Сладкие сны гораздо хуже, чем дурные.
…Однажды доктор Гоцци пригласил меня к себе кабинет и спросил, как бы я отнесся к его предложению оставить пансион славонки и перейти к нему. Видя, что я пришел в восторг от такого предложения, он сказал мне написать письмо в трех копиях и одно отправил аббату Гримани, второе – моему другу г-ну Баффо, а третье – моей доброй бабушке. <…> Описав в этих письмах все перенесенные мною муки, я обещал умереть, если меня не вырвут из рук славонки и не отдадут моему учителю, который согласен меня принять за два цехина в месяц. <…>
…Семья доктора Гоцци состояла из четырех человек; его матери, безмерно его уважавшей, так как, будучи простой крестьянкой, она считала себя недостойной иметь сына-священника, да к тому же еще и доктора. Она была стара, уродлива и сварлива. Его отец, сапожник, трудился весь день, ни с кем в доме не разговаривал, даже за столом. Общительным он становился только по праздникам, что проводил в кабачке с приятелями, и, возвращаясь домой за полночь, любил декламировать Тассо. <…>
У доктора Гоцци была сестра тринадцати лет, по имени Беттина: красивая, живая и большая охотница читать романы. Отец и мать ворчали на нее за привычку торчать у окна, а доктор – за ее чрезмерное увлечение чтением. Эта девочка сразу понравилась мне, не знаю почему. Именно она исподволь зажгла в моем сердце первые искры той страсти, которая впоследствии стала главной в моей жизни.
Через полгода после моего появления в этом доме доктор остался без учеников: заметив, что все свои силы он отдает обучению меня одного, они попросту сбежали. Это натолкнуло его на мысль создать учебное заведение, но на его создание ушло почти два года, и это время доктор употребил на то, чтобы передать мне все, что он знал. По правде говоря, знал он немного, однако этого хватило на то, чтобы научить меня азам наук. Кроме того, он обучил меня игре на скрипке, что помогло мне выбраться впоследствии из одного запутанного дела. <…> Этот человек, не будучи сам философом, все же дал мне представление о логике перипатетиков[16] и космогонии, в которой он придерживался устаревшей системы Птолемея. Нравственности доктор Гоцци был безупречной, а что до религиозных воззрений, то хоть он и не был ханжой, все же отличался большой строгостью.
В Великий Пост 1736 года моя мать написала ему, что намеревается ехать в Петербург и хотела бы повидать меня перед отъездом; она спрашивала, не мог бы он привезти меня на три или четыре дня в Венецию. Над этим приглашением доктору пришлось поразмышлять: он никогда не бывал в Венеции, не был ни с кем там знаком, а выглядеть в чем-либо несведущим не любил. И все же мы сели на тот же «Буркелло», на коем прибыл я из Венеции; все семейство проводило нас к пристани, и мы покинули Падую.
Мать моя встретила доктора с самой аристократической непринужденностью, но поелику она была красива как Божий день, мой добрый учитель чрезвычайно робел и, разговаривая с нею, не осмеливался поднять на нее глаза. Заметив это, она во что бы то ни стало решила подшутить над ним. Что же до меня, то я вызвал живейший интерес всей компании: все помнили меня едва ли не дурачком, и вдруг такая перемена за два года! Доктор наслаждался, слушая, как все наперебой хвалят его, приписывая эту заслугу ему одному.
За ужином доктор оказался рядом с моей матушкой и вел себя крайне неловко. Он не произнес бы, наверное, ни одного слова, если бы некий англичанин, человек просвещенный, не обратился к нему на латыни. Доктор смиренно ответствовал, что не знает английского, и, разумеется, вызвал взрыв всеобщего хохота. Г-н Баффо пришел ему на помощь, заметив, что англичане читают латинские слова, сообразуясь с законами английского языка. Я осмелел и сказал, что англичане так же ошибаются, читая по-латыни, как ошибались бы мы, читая английские слова, как по-латыни. Англичанин, восхищенный моей сообразительностью, тут же написал одно древнее двустишие и протянул мне:
Dicite, grammatici, cur maskula nomina cunnus, Et cur femineum mentula nomen habet?[17]Прочитав его, я сказал, что это точно латынь. Нам это понятно, сказала матушка, но ведь надобно же это растолковать. Я возразил, что вместо толкования предпочел бы ответить на вопрос, и, поразмыслив немного, написал еще строку: «Disce quod adominon omina semis habet»[18]. Это был мой первый подвиг на литературном поприще, и могу сказать, что в ту же минуту, когда раздались аплодисменты и я почувствовал себя наверху блаженства, в мою душу упало первое зерно поэтического честолюбия. Англичанин, пораженный таким ответом одиннадцатилетнего мальчишки, обнял меня и подарил свои часы.
Заинтригованная матушка моя спросила г-на Гримани, о чем стихи, тот знал не более ее, и тогда г-н Баффо на ухо прошептал ей оба перевода. Пораженная моими познаниями, она достала золотые часы и поднесла их моему учителю; тот не знал, как выразить ей свою благодарность, и выглядел довольно комично. Вдобавок матушка, выражая ему полную свою признательность, подставила для поцелуя щеку, ожидая обычных принятых в обществе ничего не значащих поцелуев, но бедняга так растерялся, что готов был скорее умереть. Наклонив голову, он попятился назад, и его оставили в покое до самого вечера.
Он смог излить свою душу только тогда, когда мы остались одни в отведенной нам комнате. Жаль, сказал он, что нельзя будет опубликовать в Падуе ни двустишия, ни моего ответа.
– Отчего же?
– Да оттого, что это мерзости; правда, гениальные. Давай спать, и хватит об этом. Ответ твой удивителен: ведь тебе незнаком предмет обсуждения, и ты не умел писать стихов.
Что касается предмета обсуждения, то я его знал, хотя и теоретически, так как успел уже тайком прочесть строго-настрого запрещенного мне Мерсиуса[19] (именно поэтому и прочел), а вот моему умению ответить стихами доктор удивлялся вполне резонно: сам он, хоть и обучил меня просодии, не мог сочинить ни одного стиха. Аксиома «Nemo dat quod non habet»[20] не всегда верна.
Если не считать некоторых ошибок (чаще всего в датировках), все, что рассказывает Казанова, правда. Вот это-то, наверно, и есть самое потрясающее.
Филипп Соллерс. «Казанова Великолепный»Четыре дня спустя, прощаясь со мной, мать дала мне сверток для Беттины, а аббат Гримани вручил мне четыре цехина, чтобы я купил себе книги. Через неделю мать уехала в Петербург.
Мы вернулись в Падую, и еще в течение четырех или пяти месяцев доктор только и говорил что о моей матушке, расхваливая ее на все лады. Беттина же, получившая от нее в подарок пять локтей черного люстрина и двенадцать пар перчаток, столь расположилась ко мне, что взяла на себя заботу о моих волосах, вследствие чего уже через полгода я перестал носить парик. Каждое утро она приходила причесать меня и частенько еще до того, как я вставал с постели: она говорила, что ей некогда ждать, пока я оденусь, и принималась за мой туалет. Она мыла мне лицо, шею, грудь; я злился на себя самого, потому как детские невинные ласки ее не оставляли меня равнодушным. Я был на три года моложе и потому думал, что она никак не может любить меня по-настоящему, и оттого огорчался безмерно. Когда, присев на мою кровать и повторяя, что я все время толстею, она старалась убедиться в этом собственноручно, я не противился, чтобы не показать, в какое волнение она меня приводит. Когда, гладя меня, она восхищалась моей нежной кожей, я отшатывался, делая вид, что боюсь щекотки, и злился на самого себя, что не могу ответить ей тем же, радуясь, что она не догадывается о растущем во мне желании. Когда же, наконец, я был одет, она дарила мне нежнейший поцелуй, шепча: «Милое мое дитя»; а я, хоть и умирал от желания, все же пока не смел последовать ее примеру.
Со временем, однако, я набрался боевого опыта и на ее насмешки над моей застенчивостью отвечал все удачнее и все больше смелел, но всякий раз останавливался, как только охватывала меня охота двинуться дальше: тогда я поворачивал голову в сторону, словно ища какую-то вещь, и Беттина уходила. Оставшись один, я приходил в отчаяние оттого, что не могу слушаться зова натуры, а вот Беттина может делать со мной все, что ей заблагорассудится, и без малейших последствий; и всякий раз я обещал себе в дальнейшем изменить свое поведение.
В начале осени доктор принял трех новых пансионеров; один из них, Кордиани, – малый лет пятнадцати, как показалось мне, меньше чем за месяц довольно сблизился с Беттиной.
Это открытие заставило меня испытать чувство, дотоле мне неведомое, и которое проанализировал я лишь несколько лет спустя. Это была не ревность, не злоба, а, скорее, какое-то благородное презрение, от которого я не мог отделаться, ибо Кордиани не имел предо мной никаких преимуществ: он был сыном простого крестьянина, невежествен, груб, неотесан, – мое зарождающееся самолюбие говорило мне, что я достоин гораздо большего, чем он. Чувство гордости, смешанное с презрением, обратилось и на Беттину, в которую я был влюблен, сам того не сознавая. По моему поведению она поняла, что что-то неладно: я отталкивал ее руки, когда по утрам она приходила меня причесать, не давал ей целовать себя. Раздосадованная всем этим, она спросила меня однажды о причинах изменения моего поведения и, не получив ответа, хитро прищурившись, сказала, что я ревную ее к Кордиани. Этот упрек показался мне унизительной клеветой; я ответил, что они с Кордиани вполне достойны друг друга. Беттина удалилась с улыбкой на устах, но в голове ее зародился план мести; для приведения его в исполнение надо было вызвать во мне еще большую ревность, чем окончательно влюбить меня в себя. Вот как она принялась за дело.
Однажды утром она явилась к моей постели с парой белых чулок, которые мне связала. Причесав меня, она заявила, что самолично хочет их мне одеть, чтобы увидеть, впору ли они, и связать потом другую пару. Доктора в этот момент не было: он ушел на службу. Натягивая мне чулок, она заявила, что не помешало бы помыть мне ноги, и тут же приступила к делу, не ожидая разрешения. Наверное, мне было неловко показать ей, что я стыжусь, и я позволил ей действовать, никак не предвидя последствий. В своей заботе о чистоте Беттина проявила такое рвение и зашла так далеко, что ее любопытство причинило мне столь острое, до сих пор не изведанное наслаждение, что я не мог укротить его, и оно вырвалось на волю. Успокоившись, я, считая себя виновным, счел должным попросить у Беттины прощения. Она этого никак не ожидала и, поразмыслив немного, великодушно сказала, что в этом вина ее, а не моя, но что больше такого не повторится. Тут она ушла, оставив меня наедине с моими размышлениями.
Они были горьки. Мне казалось, что я опозорен, что я обманул доверие всей семьи, нарушил священные законы гостеприимства, что, совершив столь тяжкий грех, я обязан жениться на Беттине – и то, если она захочет взять в мужья такого не достойного ее негодяя.
После таковых размышлений меня охватила неодолимая грусть, которая росла изо дня в день. Причиной тому было то, что Беттина прекратила приходить ко мне по утрам. В течение первой недели таковая сдержанность казалась мне вполне благоразумной, и постепенно моя печаль приняла бы характер истинной любви, если бы поведение Беттины с Кордиани не отравляло мою душу ядом ревности, хотя, разумеется, я был далек от мысли, что она способна совершить с Кордиани то же, что совершила со мной.
А то, что произошло со мной, шептали мне мои мысли, случилось по ее воле, и теперь ее удерживает от встреч со мною только раскаяние. Самолюбие мое было польщено: значит, она меня любит. И под наплывом чувств я решил ободрить Беттину, написав ей письмо.
Письмо мое было кратким, но достаточным, чтобы успокоить ее как в том случае, если она чувствует свою вину, так и в случае, если она подозревает меня в чувствах, оскорбляющих ее самолюбие. Письмо сие казалось мне шедевром: теперь она станет меня обожать и предпочтет меня Кордиани: как можно после такого письма колебаться в выборе между ним и мной! Через полчаса после того, как Беттина получила мое послание, она ответила на него устно, сказав, что следующим утром, как и прежде, навестит меня. Я ждал ее, но напрасно. Я впал в ярость, но каково же было мое удивление, когда чуть позже, за обедом, она спросила меня, не соглашусь ли я отправиться с нею вместе к нашему соседу доктору Оливо на бал, что состоится через пять или шесть дней, куда Беттина собиралась взять меня, переодев девочкой. Поелику все присутствующие одобрили этот план, я согласился. Я усмотрел здесь прекрасную возможность объясниться с Беттиной, но обстоятельства, увы, сложились так, что дело приняло трагикомический оборот.
Неожиданно тяжело заболел один родственник доктора, живший в деревне. Чувствуя близкую кончину, призвал он к смертному одру и доктора, и его родителей. До того бала было еще далеко, и мое нетерпение подсказало мне, что надо воспользоваться благоприятным случаем. Улучив минутку, я сообщил Беттине, что ночью оставлю дверь моей комнаты, выходящую в коридор, открытой и буду ее ждать. Она сказала, что придет, как только все в доме улягутся. Сама она спала на первом этаже в комнатке, отделенной легкой перегородкой от спальни отца. Доктора не было, я спал один в большой зале, а трое других пансионера – в отдельной комнате. Я был счастлив, что все так удачно складывается.
Описание ситуаций подобного рода в романах кажется преувеличением. На самом деле это не так, и то, что рассказывает нам Ариосто об ожидающем Альцину Руджеро, есть точная картина с натуры.
Без особой тревоги я ожидал до полуночи. Но вот прошел час, другой, третий, четвертый, а она так и не появилась в моих дверях; кровь моя вскипела, меня обуял гнев. За окном шел снег, падая на землю большими хлопьями, но мучил меня не холод, а слепая ярость. За час до рассвета, не в силах больше бороться с нетерпением, я решился спуститься тихонько, босиком, чтобы не разбудить собаку, вниз по лестнице, откуда рукой подать до комнаты Беттины. Если она вышла из комнаты, дверь должна быть открытой. Осторожно я приближаюсь к двери – она заперта изнутри. Я решил, что Беттина спит и просто не смогла проснуться. Я хотел было постучать, но побоялся разбудить собаку. В отчаянии присел я на ступеньки, но долго сидеть там было нельзя: вот-вот рассветет, встанет прислуга и, обнаружив меня, решит, что я спятил. Надо было возвращаться к себе. Я поднимаюсь, но в то же самое мгновенье в комнате Беттины раздается шум. Уверенность, что я сейчас увижу ее, возвращает мне силы, я подбегаю к двери, она распахивается и… вместо Беттины мне навстречу вылетает Кордиани. Он с силой бьет меня ногой в живот, и я валюсь на пол. Кордиани стремительно исчезает за дверью зала, где он спал со своими друзьями, и запирается там.
Я вскакиваю и кидаюсь к двери Беттины, горя жаждой мести: ничто не могло спасти ее от моего праведного гнева. Но дверь была заперта, я яростно ударил по ней ногой, но тут проснулась собака и подняла такой лай, что я опрометью бросился наверх, заперся в своей комнате и рухнул на постель, пытаясь привести немного в порядок свои силы – и нравственные, и физические.
Обманутый, побитый, униженный счастливым триумфатором Кордиани, часа три я провел, обдумывая самые черные планы мести <…>, как вдруг у моей двери раздался хриплый голос матери Беттины: она просила меня спуститься, ее дочь умирает. Обеспокоенный тем, что она умрет, не испытав перед этим моей страшной мести, я поспешил вниз. Беттина лежала на отцовской кровати и корчилась в ужасных судорогах, все семейство стояло вокруг. Тело ее, лишь наполовину прикрытое одеждами, извивалось и вырывалось из рук, пытавшихся ее удержать. Вспоминая события этой ночи, я не знал, что и думать. По прошествии часа Беттина успокоилась и заснула. <…>
Жизнь XVIII века изображена в мемуарах Казановы с единственной в своем роде яркостью и полнотой.
П. П. Муратов. «Образы Италии»На следующий день наш урок был прерван матерью доктора: она заявила, что знает, какого рода болезнь поразила ее дочь: на нее навели порчу, и ей ведомо имя той, что сделала это.
– Может быть, это и так, матушка, но здесь нельзя ошибиться. Кто эта колдунья?
– Наша старая служанка, и я только что в этом убедилась.
– Каким же образом?
– Я поставила у дверей моей комнаты две метлы, крест-накрест; чтобы войти в комнату, надо было этот крест разнять. Едва его увидев, она попятилась и вошла в мою комнату через другую дверь. Не будь она ведьмой, разве она побоялась бы притронуться к кресту?
– Это не так уж очевидно, матушка. Позовите-ка ее ко мне.
Служанка вошла, и доктор спросил ее:
– Почему ты сегодня утром вошла в комнату не в ту дверь, через которую ты входишь обычно?
– Мне невдомек, о чем вы спрашиваете?
– Ты видела на двери крест Святого Андрея?
– Что это еще за крест?
– Не прикидывайся дурочкой, – вмешалась мать доктора. – Где ты ночевала в прошлый четверг?
– У племянницы, у нее были роды.
– Ничего подобного. Ты летала на шабаш. Ты ведьма и околдовала мою дочку.
Услышав таковое обвинение, служанка плюнула ей в лицо, мать схватила палку, доктор хотел было удержать мать, но побежал вслед за служанкой, которая летела вниз по ступенькам, ругаясь и крича, призывая на помощь соседей. В конце концов, он нагнал ее и дал ей денег, чтобы она успокоилась. Доктор счел, что его положение священника обязывает применить обряд экзорцизма, чтобы убедиться, действительно ли его сестра одержима дьяволом.
Немыслимые эти таинства завладели полностью моим вниманием. Все эти люди казались мне сумасшедшими или круглыми дураками. Я не мог без смеха представить себе дьяволов в теле Беттины. <…>
Мать ушла из дому и через час вернулась с самым знаменитым в Падуе заклинателем. Это был уродливый капуцин по имени отец Просперо да Боволента.
Едва он показался на пороге, Беттина, громко хохоча, принялась выкрикивать в его адрес ужасные оскорбления, которым все присутствующие порадовались, ибо один лишь дьявол способен на таковые поношения по отношению к капуцину. Последний, услышав, что его называют дураком и вонючим мошенником, принялся охаживать Беттину огромным распятием, приговаривая, что он колотит дьявола. Он остановился лишь тогда, когда увидел, что она схватила ночную вазу, явно намереваясь метнуть ее в голову монаха, – я бы многое отдал, чтобы увидеть это.
«Если тот, кто тебе все это наговорил, – дьявол, – крикнула Беттина, – обзови его так же, осел ты этакий! А если слова эти – мои, то ты, тупица, должен меня уважать, и пошел вон!» Я увидел, как покраснел мой бедный доктор.
Но капуцин, вооруженный с головы до пят, принялся читать страшные формулы экзорцизма, после чего приказал лукавому назвать свое имя.
– Меня зовут Беттина.
– Нет, так зовут некую крещеную девицу.
– Ты, значит, считаешь, что у сатаны должно быть мужское имя? Знай же, ты, невежественный капуцин, что сатана – это ангел, а ангелы не имеют никакого пола. Но, раз уже ты веришь, что моими устами с тобой говорит дьявол, обещай мне отвечать правду, и я обещаю тебе уступить твоим заклинаниям.
– Обещаю.
– Тогда ответь, ты считаешь себя ученее меня?
– Нет, но я считаю себя укрепленным могуществом Святой Троицы и моим саном.
– Если ты такой могущественный, попробуй помешать мне сказать всю правду о тебе. Ты горд своей бородой, ты расчесываешь ее раз по десять на дню, захочешь ли ты убавить ее наполовину, чтобы заставить меня покинуть это тело? Отрежь бороду – и, клянусь, я выйду.
– Князь тьмы, я удваиваю тебе наказание!
– Плевала я на тебя!
За этими словами Беттина так расхохоталась, что я не удержался и прыснул со смеху. Капуцин, заметив меня, сказал доктору, что мне недостает веры и потому меня надо удалить. Я был вынужден подчиниться, но еще успел получить удовольствие, видя, как капуцин протягивает Беттине руку для поцелуя, а она смачно на нее плюет.
Так это непостижимое, столь одаренное создание посрамило капуцина, что, впрочем, никого не удивило, поелику всем было ясно, что за нее говорил дьявол. А я так и не понял, что за надобность была у нее устраивать все это.
После обеда, в течение которого капуцин наговорил сотню глупостей, он вернулся в комнату одержимой, чтобы дать ей благословение, но та запустила в него стаканом, наполненным черным снадобьем, данным ей аптекарем. <…> Перед уходом отец Просперо объявил доктору, что девица безусловно одержима дьяволом и что нужно сыскать другого заклинателя, поелику Бог не дал ему силы освободить ее.
После его ухода Беттина провела шесть часов совершенно спокойно и радостно удивила нас появлением за вечерним столом. Она уверила родителей и брата, что чувствует себя отлично, а затем обратилась ко мне и напомнила, что назавтра бал, а потому с утра она придет ко мне, чтобы причесать меня под девочку. Я поблагодарил и ответил, что она слишком больна и ей надо беречься. Вскоре она отправилась спать, а мы остались за столом еще некоторое время и говорили только о ней.
Придя к себе, я обнаружил под своим ночным колпаком записку следующего содержания: «Или Вы, одевшись девочкой, отправитесь со мной на бал, или я Вам устрою такой спектакль, что Вы пожалеете».
Дождавшись, пока доктор уснет, я приготовил ей ответ: «Я не пойду на бал, так как я решил избегать всякой возможности остаться с Вами наедине. Что же касается спектакля, которым Вы мне грозите, то, зная Ваши дарования, не сомневаюсь, что Вы сдержите слово. Но я прошу Вас пощадить мое сердце, ибо я люблю Вас, как любил бы сестру. Я простил Вас, дорогая Беттина, и хочу все забыть». <…>
Ум этой девушки заслужил мое уважение: я не мог больше ее презирать. <…> Так же, как она любила меня впоследствии без всяких ухищрений, так и я нежно любил ее, никогда не пытаясь сорвать цветок, который предрассудки предписывали хранить до брака. Но какого печального брака! Двумя годами позже Беттину выдали замуж за башмачника Пигоццо, отвратительного мошенника, с которым жила она в нужде и была несчастлива; доктор, ее брат, был принужден принять заботы о ней на себя. Еще через пятнадцать лет, избранный архиереем в Сан-Джорджо Делавалеа, добрый доктор взял ее с собой, и, когда много лет спустя я приехал повидать его после долгой разлуки, я встретил там Беттину – дряхлую, больную, умирающую. Она испустила дух у меня на глазах в 1776 году, на следующий день после моего приезда к ним. <…>
Примерно в это же время моя матушка вернулась из Петербурга, где императрице Анне Иоанновне итальянская комедия пришлась не по вкусу. Через полгода она вызвала меня в Венецию повидаться перед отъездом в Дрезден. Она получила пожизненный ангажемент при дворе курфюрста Саксонского Августа III, короля Польши. <…>
После этого я провел еще год в Падуе, изучая право, доктором которого я стал в шестнадцать лет[21]. По гражданскому праву у меня была тема «de testamentis»[22], а по каноническому – «Utrum hebrei possint construere novas Synagogas»[23].
Мне хотелось обучаться медицине, к ней я чувствовал неодолимую тягу, но меня не слушали: хотели, чтобы я занимался юриспруденцией, а к ней я испытывал непреодолимое отвращение. Вполне естественно, что я не стал ни юристом, ни врачом. Возможно, этим объясняется моя привычка никогда не прибегать к услугам адвокатов при отстаивании своих законных претензий перед правосудием и не звать врача, когда я заболевал. Семейств, разоренных законниками, куда больше тех, кому они помогли, а принявшие смерть из рук врачей бесчисленны в сравнении с теми, кого они вылечили. Разве это не доказательство того, что мир был бы гораздо счастливее как без тех, так и без других?
На лекции университетских профессоров нельзя было ходить в сопровождении, и я впервые стал появляться на людях один. Это было удивительное ощущение: до сих пор я никогда не чувствовал себя свободным, и, желая вполне насладиться неожиданной волей, я немедля завел дурные знакомства среди студентов, кои были отъявленными шалопаями, бабниками, игроками, завсегдатаями притонов, выпивохами, гуляками, обманщиками, развратителями порядочных девушек, словом, ни один из них не был обременен добродетелями. В обществе подобных людей начал я узнавать мир, изучать великую книгу жизни.
Он чувствует, что его истинная профессия – не иметь никакой профессии, слегка коснуться всех ремесел и наук и снова, подобно актеру, менять костюмы и роли. Зачем же прочно устраиваться: ведь он не хочет что нибудь иметь и хранить, кем-то прослыть или чем-то владеть, ибо он хочет прожить не одну жизнь, а вместить в своем существовании сотню жизней, – этого требует его бешеная страстность.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»Зажив по-новому и желая выглядеть не беднее своих новых товарищей, я пустился во все тяжкие. Я продал и заложил все, что можно, и все-таки влез в долги, которые не мог отдать. Так я впервые испытал на себе безденежье – самую острую беду для молодого человека, стремящегося к жизни на широкую ногу. В отчаянии написал я бабушке, умоляя ее о помощи. Она оказала мне ее, но не тем путем, на который я рассчитывал: она просто приехала в Падую и 1 октября 1739 года, горячо поблагодарив доктора и Беттину за все заботы обо мне, увезла меня в Венецию.
На прощание доктор прослезился и подарил мне очень ценную для него вещь: частичку мощей не помню какого святого. Эта реликвия и сейчас была бы со мной, не окажись она оправленной в золото. И все-таки и таким путем она сотворила чудо, выручив меня в минуту тяжелой нужды.
Всегда, когда я приезжал в Падую для своих занятий правом, я останавливался у моего добрейшего учителя. И всегда огорчался, видя рядом с Беттиной тупицу, данного ей в мужья, которому она никак не подходила. И клял предрассудок, заставивший меня сохранить для него нетронутым тот цветок, который я так легко мог когда-то сорвать.
Дальнейшие похождения Казановы
По возвращении в Венецию Казанова попробовал на вкус карьеру церковного юриста, работая у адвоката Мандзони, а после принятия пострига был посвящен в послушники Патриархом Венеции. Продолжая свои университетские занятия, он совершал поездки в Падую и обратно, однако бесконечные скандалы омрачили короткую карьеру Казановы в церкви. Он устроился в Риме секретарем влиятельного кардинала Трояно Аквавивы д’Арагона. На встрече с папой Джакомо дерзко попросил у первосвященника разрешения читать «запрещенные книги». Казанова также помогал другому кардиналу, составляя для того любовные письма. Но когда он стал «козлом отпущения» в скандале, кардинал Аквавива уволил Казанову, поблагодарив за благодеяние, но тем самым навсегда прервав его церковную карьеру.
В поисках новой сферы деятельности Казанова купил патент офицера Венецианской республики. В августе 1744 года он примкнул к офицерам венецианского полка острова Корфу, откуда совершил непродолжительную поездку в Константинополь якобы с целью доставить туда письмо от своего прежнего хозяина кардинала. Однако он нашел свое продвижение по службе слишком медленным, обязанности скучными и умудрился потратить бо́льшую часть жалования, играя в фараон. В октябре 1745 года Казанова прервал свою военную карьеру и вернулся в Венецию.
В возрасте двадцати одного года он решил стать профессиональным игроком, но, проиграв все деньги, оставшиеся от продажи офицерской должности, в поисках работы обратился за помощью к своему старому благодетелю Алвизо Гримани. Казанова начинает свою «третью карьеру», уже в театре Сан-Самуэле, в качестве скрипача. Он вел скандальный образ жизни, выдумывая и претворяя в жизнь самые немыслимые розыгрыши: отвязывает пришвартованные у частных домов гондолы, которые потом уносило течением, посылает по ложным вызовам повивальных бабок и врачей.
Фортуна вновь улыбнулась Казанове, недовольному своей участью музыканта, после того как он спас жизнь венецианскому сенатору Джованни ди Маттео Брагадину: того хватил удар, когда он возвращался со свадебного бала в одной гондоле с Казановой. Сенатору было сделано кровопускание, и врач наложил на грудь больному ртутную мазь (в то время ртуть, несмотря на токсичные свойства, считалась универсальным лекарством). Это привело к возникновению сильной лихорадки, и Брагадин стал задыхаться из-за вздувшейся трахеи. Уже был призван священник, так как смерть казалась неизбежной. Однако Казанова взял инициативу в свои руки, изменив ход лечения и приказав, вопреки протестам присутствовавшего доктора, удалить ртутную мазь с груди сенатора и обмыть ее холодной водой. Сенатор оправился от болезни и усыновил Казанову, став его пожизненным покровителем. Последующие три года Казанова провел под покровительством сенатора. Однако ему пришлось покинуть Венецию из-за серьезных скандалов: например, одному из своих недругов Казанова решил отомстить, разыграв его: он выкопал на кладбище труп и подбросил тому в кровать – но, к несчастью, жертву розыгрыша неизлечимо парализовало. В другом случае некая девица обманом обвинила его в изнасиловании и обратилась к властям. Позже Казанова был оправдан из-за отсутствия доказательств его вины, но к тому времени он уже сбежал из Венеции: ему инкриминировались воровство, богохульство и чернокнижие.
Затем в его жизни был трехмесячный роман с француженкой Генриеттой. Весь 1749 год Казанова провел в странствиях по Италии, посещая Милан, Мантую, Парму. Далее он возвратился в Венецианскую республику, но, выиграв в карты большой куш, ожил духом и отправился в Гран-тур, достигнув Парижа в 1750 году.
.
Глава 2 Франция
Итак, я <…> в Париже, единственном в мире городе, который надлежит мне считать моим отечеством; ибо я лишен возможности жить там, где я родился[24]; в отечестве неблагодарном и все же любимом мною: потому ли, что всегда чувствуешь какую-то нежную слабость к месту, где ты провел молодые годы, где получил первые впечатления; потому ли, что Венеция, действительно, так красива, как никакой другой город в мире. А этот громадный Париж есть место нужды или счастия, смотря по тому, как себя поставишь. <…>
Однажды, прогуливаясь на ярмарке Сен-Лоран, другу моему Патю взбрела мысль поужинать с одной фламандской актрисой по имени Морфи, он пригласил меня разделить сей каприз, и я согласился. Сама Морфи меня не прельщала, но неважно: доставить удовольствие другу – дело святое. Он предложил два луидора, каковые тотчас же были приняты, и после оперы отправились мы к красотке домой, на улицу Двух Врат Спасителя. После ужина Патю захотелось с нею лечь, а я спросил, не найдется ли мне какого канапе в уголку. Сестренка Морфи, грязная оборванка, предложила уступить мне свою постель, запросив за то три франка; я обещал. И вот она ведет меня в какую-то комнатушку, где вижу я лишь матрас на трех-четырех досках.
– И это ты зовешь постелью?
– Это моя постель.
– Мне такая не надобна, и денег ты не получишь.
– А вы разве собирались спать раздетым?
– Конечно.
– Что за глупость! У нас нет простынь.
– Значит, ты спишь одетая?
– Вовсе нет.
– Ладно. Тогда ложись сама и получишь, что я обещал. Я хочу на тебя смотреть.
– Хорошо. Только вы не станете ничего со мною делать.
– Ничего не буду.
Она раздевается, ложится и накрывается старым занавесом. Было ей от силы тринадцать лет. Я гляжу на девочку и, стряхнув с себя все предрассудки, вижу уже не нищенку, не оборванку, но обнаруживаю безупречнейшую красавицу. Хочу рассмотреть ее всю, она отнекивается, смеется, не хочет; но шестифранковый экю делает ее покорней барашка. Коль скоро единственным изъяном ее была грязь, я мою ее всю собственными руками; а, как известно читателю моему, восхищение нераздельно с иного рода способами одобрить красоту; малышка Морфи, я вижу, готова позволить мне все что угодно, кроме того, к чему я и сам не имел желания. Она предупреждает, что этого не разрешит, ибо это, по мнению старшей ее сестры, стоит двадцать пять луидоров. Я отвечаю, что на сей счет мы поторгуемся в другой раз; а пока она в залог будущей снисходительности выказывает и расточает услужливость во всем, что только мог я пожелать.
Испанский Дон Жуан, немецкий доктор Фауст, англичанин Байрон и француз Бодлер – все они, прежде всего, вечно неудовлетворенные… Казанова же при первом же поцелуе фаустовской Маргариты ощутил бы себя на седьмом небе и пожелал остановить мгновенье.
Маргарита Зарфатти. «Казанова против Дон Жуана»Малышка Елена[25], которой насладился я, оставив ее нетронутой, отдала сестре шесть франков и рассказала ей, что рассчитывает от меня получить. Та перед уходом отозвала меня со словами, что нуждается в деньгах и сколько-нибудь сбросит. Я отвечаю, что мы поговорим об этом завтра. Мне хотелось показать девушку эту Патю в том виде, в каком видел ее я, чтобы он сознался: более совершенной красоты невозможно и представить. Белая, как лилия, Елена наделена была всеми прелестями, какие только может произвести природа и искусство живописца. Сверх того, прекрасное ее лицо изливало в душу всякого, кто его созерцал, несказанный покой. Она была блондинка.
Вечером я снова пришел к ним и дал двенадцать франков, чтобы сестра уступила ей свою постель, и, наконец, уговорился платить всякий раз по двенадцать франков, покуда не заплачу шестьсот. Процент немалый, но Морфи <…> никаких угрызений совести на сей счет не знала.
Я, без сомнения, никогда бы не решился потратить двадцать пять луидоров, ибо после считал бы, что переплатил. Старшая Морфи полагала меня простофилей: за два месяца истратил я триста франков ни за что. Относила она это на мою скаредность. О какой скаредности речь! Я дал шесть луидоров одному немецкому художнику, чтобы он написал ее с натуры обнаженной, и она вышла как живая. Он изобразил ее лежащей на животе, опираясь руками и грудью на подушку и держа голову так, словно лежала на спине. Искусный художник нарисовал ноги ее и бедра так, что глаз не мог и желать большего. Внизу я велел написать: «O-Morphi». Слово это не из Гомера, но вполне греческое; означает оно Красавица.
Можно презирать его, нашего обожаемого друга, из-за недостаточной нравственности и отсутствия этической серьезности, можно ему возражать как историку и не признавать его как художника. Только одно уже не удастся: снова сделать его смертным, ибо во всем мире ни один поэт и мыслитель с тех пор не изобрел романа более романтического, чем его жизнь, и образа более фантастического, чем его образ.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»Но пути всемогущей судьбы неисповедимы. Друг мой Патю пожелал иметь копию портрета. Мог ли я отказать другу? Тот же художник написал копию, отправился в Версаль и показал ее в числе многих других портретов г-ну де Сен-Кентену, каковой показал их королю, а тому пришло любопытство посмотреть, верен ли портрет Гречанки. Государь полагал, что коль портрет верен, то он вправе стребовать у оригинала погасить тот пламень, что зажег он в его королевской душе.
Г-н де Сен-Кентен спросил живописца, может ли он доставить в Версаль оригинал Гречанки, и тот отвечал, что, по его мнению, дело это весьма несложное. Он явился ко мне, рассказал, в чем дело, и я рассудил, что дело повернулось недурно. Девица Морфи задрожала от радости, когда я сказал, что ей с сестрою в сопровождении художника предстоит отправиться ко двору и положиться на волю Провидения. В одно прекрасное утро она отмыла малышку, прилично ее одела и отправилась с художником в Версаль, где живописец велел ей погулять в парке, пока он не вернется.
Вернулся он с камердинером, каковой отправил его на постоялый двор поджидать сестер, а их самих отвел в зеленую беседку и запер. Через день сама Морфи рассказала, что полчаса спустя явился король, спросил, она ли Гречанка, вынул из кармана портрет, рассмотрел хорошенько малышку и сказал:
– В жизни не видал подобного сходства.
Он уселся, поставил ее между колен, приласкал и, удостоверившись своей королевской рукой в ее невинности, поцеловал. О’Морфи глядела на него и смеялась.
– Отчего ты смеешься?
– Я смеюсь, потому что вы как две капли воды похожи на шестифранковый экю.
Монарх от подобной непосредственности громко расхохотался и спросил, хочется ли ей остаться в Версале; она отвечала, что надобно договориться с сестрой, последняя же объявила королю, что большего счастья нельзя и желать. Тогда король запер их на ключ и удалился. Четверть часа спустя Сен-Кентен выпустил их, отвел малышку в покои первого этажа, передал в руки какой-то женщины, а сам со старшей сестрой отправился к немцу, каковой получил за портрет пятьдесят луидоров, а Морфи ничего. У нее он спросил лишь адрес и заверил, что даст о себе знать. Она получила тысячу луидоров и сама показывала их мне днем позже. Честный немец отдал мне двадцать пять луидоров за мой портрет и написал мне другой, сделав копию с портрета, что был у Патю. Он предложил писать для меня бесплатно всех красоток, каких мне будет угодно. С величайшим удовольствием глядел я, как радуется славная фламандка: любуясь пятьюстами двойных луидоров, она полагала себя разбогатевшей, а меня – своим благодетелем.
– Я не ожидала столько денег; Елена и впрямь хорошенькая, но я не верила тому, что она говорила о вас. Возможно ль, дорогой друг, что вы оставили ее девственницей? Скажите правду.
– Если она была девственницей прежде, то, уверяю вас, что из-за меня таковой быть не перестала.
– Разумеется, была, ибо никому, кроме вас, я ее не поручала. Ах! Благородный вы человек! Она суждена была королю. Кто бы мог подумать. Господь всемогущ. Дивлюсь вашей добродетели. Идите сюда, я вас поцелую.
Он до того правдив что не стесняется на себя наговаривать…
Альфред де МюссеО’Морфи, – ибо король никогда иначе ее не называл, – пришлась ему по сердцу, даже более простодушием своим (что было для него в диковинку), нежели красотою. Его Величество поселил ее в Оленьем парке[26], где держал свой сераль и где позволено было появляться лишь дамам, представленным ко двору. Через год малышка разрешилась сыном, каковой был отправлен в неизвестном направлении, ибо Людовик XV не желал знать своих незаконнорожденных детей, пока королева Мария была жива.
Через три года О’Морфи впала в немилость. Король дай ей четыреста тысяч франков приданого и выдал замуж в Бретань за одного офицера генерального штаба. В 1783 году я повстречал сына от этого брака в Фонтенбло. Было ему двадцать пять лет, и об истории своей матери, на которую походил как две капли воды, ему было неведомо. Я просил передать ей от меня поклон и начертал имя свое в его записной книжке.
Причиною, по какой впала в немилость эта красавица, была злая шутка г-жи де Валентинуа, невестки князя Монако. Дама эта, известная всему Парижу, прибыв однажды в Олений парк, подговорила О’Морфи рассмешить короля, спросив, как он обходится со своей старухой женою[27]. Простушка О’Морфи задала королю сей дерзкий и оскорбительный вопрос и настолько его удивила, что государь, поднявшись и испепелив ее взором, произнес:
– Несчастная, кто научил вас задать мне сей вопрос?
Дрожащая О’Морфи созналась; король повернулся к ней спиной, и более она его не видела. Графиня де Валентинуа вновь показалась при дворе лишь два года спустя. Людовик XV, сознавая, что как супруг не оказывает жене должного уважения, старался, по крайней мере, по-королевски ограждать ее от непочтительности. Горе было тому, кто осмеливался на сей счет шутить.
Последующие события
Казанова пробыл в Париже два года, большую часть времени проводя в театре. Выучив французский язык, он завязал знакомства с представителями парижской аристократии. Но вскоре его многочисленные любовные связи были замечены полицией (как это было почти в каждом из посещенных им городов). Он отправляется в Германию и Австрию. В 1753 году он вернулся в Венецию, где возобновил свои выходки, чем нажил себе немало врагов и привлек внимание инквизиции. Его полицейское досье превратилось в растущий список богохульств, соблазнений, драк и ссор в общественных местах.
В июле 1755 года (в возрасте тридцати лет) Казанова был арестован и помещен в Пьомби (венецианскую «Свинцовую тюрьму»). Эта тюрьма состояла из семи камер на верхнем этаже Дворца дожей и была предназначена для заключенных высокого положения и политических преступников. Свое название она получила по свинцовым плитам, покрывавшим крышу дворца. Казанова был без суда приговорен к пяти годам заключения в этой тюрьме, из которой еще ни разу не было ни одного побега, и все же Казанове удалось бежать, взломав свинцовую крышу тюрьмы. Скептики спорят, что побег Казановы был выдумкой, что его просто выкупил приемный отец. Однако в государственных архивах сохранились подтверждения рассказу нашего героя, в том числе сведения о ремонте потолка в тюремной камере.
…И вот Казанова снова в Париже. Он въезжает в него 5 января 1757 года…
…Вот я снова в великом городе Париже, <…> на этот раз мне должно было рассчитывать лишь на тех, у кого нашла пристанище слепая богиня Фемида. Я понимал: чтобы добиться чего бы то ни было, мне надлежало использовать все свои физические и моральные силы, свести знакомство с сильными и влиятельными людьми и стараться угодить всем тем, кто может служить моим интересам. <…>
Казанова всегда в восхищении от Парижа. Но сквозь это восхищение проглядывает иногда деловая забота. «Зачем вы едете в Париж?» – спрашивают его… «Я пущу там в оборот свои таланты».
П. П. Муратов. «Образы Италии»Мой первый визит был к г-ну Шуазелю[28]; я вошел к нему, когда был он занят своим туалетом: он писал письмо в то же время, как его причесывали. Закончив письмо, он по-итальянски сказал мне, что г-н аббат де Берни[29] рассказал ему историю моего побега. <…>
Аббат де Берни представлял меня не иначе как финансистом, дабы обеспечить мне благосклонный прием; в противном случае я бы нигде не был принят. Я досадовал, что не могу изъясняться на языке финансов. Назавтра, погрузившись в печальные размышления, я взял карету и велел отвезти меня в Плезанс к г-ну дю Верне. Плезанс чуть дальше Венсена.
И вот я у дверей сего славного мужа, что сорок лет назад спас Францию, едва не погибшую из-за системы, введенной Лоу[30]. Войдя, нахожу я его у пылающего камина в окружении семи-восьми человек. Он представляет меня, именуя другом министра иностранных дел и генерального контролера, и знакомит со всеми этими господами, причем трое или четверо из них были интенданты финансов. Я раскланиваюсь с каждым и в тот же миг вверяю себя Гарпократу[31].
Казанова вовсе не приписывает себе непременно благородную роль, не приукрашивает себя, он точен в своих описаниях, он стремителен.
Филипп Соллерс. «Казанова Великолепный»Поговорив о том, что нынче лед на Сене толщиною в целый фут, они погоревали о г-не де Фонтенель, что умер накануне, потом посетовали, что Дамьен не желает ни в чем признаваться и уголовный процесс этот встанет королю в пять миллионов; затем тема поменялась: заговорили о войне, и все с похвалою отозвались о г-не де Субизе, коего король поставил главнокомандующим. Отсюда перешли к расходам и средствам поправить дела. Час с половиной мне пришлось немало поскучать: слушая их речи, я ровно ничего в них не понимал, ибо были они пересыпаны специальными терминами. Еще полтора часа провел я за столом, открывая рот единственно для того, чтобы есть; после чего перешли мы в залу, и тут г-н дю Верне, оставив общество, пригласил меня и другого господина, лет пятидесяти и недурной наружности, следовать за ним, и мы прошли в кабинет. Мужчину, коего он мне представил, звали Кальзабиджи. Минутою позже туда вошли также два интенданта финансов. Г-н дю Верне с учтивой улыбкой вручил мне большую тетрадь и произнес:
– Вот ваш проект.
На обложке значится: «Лотерея[32] на девяносто номеров, из которых при ежемесячных тиражах выигрывают не более пяти» и тому подобное. Я возвращаю рукопись и признаю, что это мой проект.
– Вас опередили, сударь, – говорит он, – проект сей г-на де Кальзабиджи, что перед вами.
– Счастлив, сударь, что мнения наши совпали; но могу ли я узнать, по какой причине вы отвергли мой?
– Против него выдвинуто было множество весьма справедливых доводов, и ясных возражений супротив них не нашлось.
– Мне известен лишь один довод, способный отказать мне, – отвечал я холодно, – это если Его Величеству не угодно будет дозволить своим подданным играть.
– Этот довод не в счет: его Величество дозволит своим подданным играть; но захотят ли они играть?
– Сомнения ваши меня удивляют: надо лишь уверить народ, что, если кто выиграет, получит деньги.
– Хорошо. Допустим, они станут играть, убедившись, что деньги выплатят. Но откуда взять обеспечение?
– Королевская казна. Указ Совета. Мне довольно предположения, что Его Величество в состоянии уплатить сто миллионов.
– Сто миллионов?
– Да, сударь. Надо всех ошеломить.
– Но ведь допускаете же вы, что король может и проиграть эти деньги?
– Допускаю; но это может случиться лишь после того, как он получит сто пятьдесят миллионов. Вы знаете, что такое политический расчет, и должны исходить из этой суммы.
– Милостивый государь, я не могу решать за всех. Согласитесь, не исключено, что при первом же тираже король потеряет немалые деньги.
– Между возможным и действительным – расстояние бесконечное, но допустим. Если король проиграет при первом тираже большую сумму, успех лотереи обеспечен. О таковой беде можно лишь мечтать. Силы человеческой натуры рассчитываются, словно вероятности в математике. Как вам известно, страховые палаты[33] богаты. Перед всеми математиками Европы я вам докажу, что, лишь если на то не будет воли Господней, король не получит на этой лотерее доход один к пяти. В этом весь секрет. Согласитесь, математическое доказательство для разума непреложно.
– Согласен. Но скажите, отчего бы не завести ограничительного реестра, дабы Его Величеству был обеспечен верный выигрыш?
– Никакой ограничительный реестр не даст вам ясной и абсолютной уверенности в том, что король всегда останется в выигрыше. Ограничения риска позволяют сохранять лишь относительное равновесие: когда все ставят на один номер, или на два, или на три, то ежели номера эти выпадут, случится великий ущерб. Дабы уберечься от него, их объявляют «закрытыми». Но ограничительный реестр может дать уверенность в выигрыше, только если откладывать тираж, пока все шансы не уравняются. Но тогда лотерея не состоится, ибо тиража этого прождать можно с десяток лет, а кроме того, позвольте вам заметить, сама лотерея превратится в форменное мошенничество. Позорного этого титула позволит избегнуть единственно непременный ежемесячный тираж – тогда публика будет уверена, что и противная сторона может проиграть.
– Не будете ли вы так любезны, чтобы выступить перед Советом?
– С удовольствием.
– И ответить на все возражения?
– На все.
– Не угодно ли вам будет принести мне ваш план?
– Я представлю его, сударь, только когда предложение мое будет принято и я буду уверен, что его пустят в дело, а мне доставят те преимущества, что я попрошу.
– Но ведь ваш план и тот, что лежит здесь, – одно и то же.
– Не думаю. В моем плане выведено, каков будет доход короля в год, и приведены расчеты.
– Тогда можно будет продать лотерею какой-нибудь компании, а она станет выплачивать королю определенную сумму.
– Прошу прощения. Процветание лотереи возможно лишь, коли люди будут видеть, что есть выигравшие, этот закон должен действовать безотказно. У меня нет желания участвовать в деле ради того, чтобы услужить некоему сообществу, каковое, желая увеличить доход, решит умножить число тиражей и ослабит к ним интерес. Я в этом убежден. Сия лотерея, коли мне придется в ней участвовать, либо будет королевской, либо ее не будет вовсе.
– Г-н де Кальзабиджи того же мнения.
– Весьма польщен.
– Есть ли у вас люди, что умеют составить ограничительные реестры?
– Мне надобны одни только числительные машины, коих не может не быть во Франции.
– А каков, вы полагаете, будет выигрыш?
– Двадцать сверх ста от каждой ставки. Тот, кто уплатит королю шестифранковый экю, получит обратно пять, наплыв же будет такой, что ceteris paribus[34] народ станет платить государю, по меньшей мере, пятьсот тысяч франков в месяц. Все это я докажу Совету – при условии, что члены его, признав истинность расчетов, будь то математических или политических, уже не будут более увиливать и хитрить.
Я был доволен, что могу держать такую речь о делах, в которые впутался. Я вышел на минутку, а когда вернулся, увидал, что все они стоят и обсуждают мой проект. Кальзабиджи, приблизившись ко мне, спросил приветливо, можно ли, по моему проекту, ставить на «кватерну»[35]. Я отвечал, что публика вправе ставить хоть на «квинту» и что проект мой еще сильнее повышал ставки, ибо тот, кто играет «квинту» и «кватерну», должен непременно ставить и на «терну». Он отвечал, что в его проекте предусмотрена простая «кватерна» с выигрышем пятьдесят тысяч к одному. Я отвечал ему любезно, что во Франции много изрядных математиков, каковые, обнаружив, что выигрыш различен для разных ставок, изыщут способ для злоупотреблений. Тут г-н Кальзабиджи пожал мне руку, говоря, что желает со мною встретиться отдельно; я оставил ему свой адрес и, ввиду наступающей ночи, удалился, радуясь, что произвел на всех изрядное впечатление.
Так ярко, так образно рисует он характеры, лица и некоторые события своего времени, которых он был свидетелем, и так прост, так ясен и занимателен его рассказ! Ф. М. Достоевский. «Предисловие к публикации эпизода из Мемуаров»
Тремя днями позже явился ко мне Кальзабиджи. Прямо с порога сказал он, что своими речами я весьма поразил этих господ, и, по его убеждению, если бы я похлопотал перед генеральным контролером, мы могли бы устроить лотерею и извлечь из того немалые выгоды.
– Без сомнения, – отвечал я. – Однако ж сами они смогут извлечь выгоду еще большую и все же не торопятся; они не посылали за мною; а впрочем, мне есть чем заняться помимо того.
– Сегодня вы получите от них известия. Я знаю, что г-н де Булонь говорил о вас с г-ном де Куртеем.
– Уверяю вас, я его об этом не просил.
С величайшим почтением пригласил он у него отобедать, и я согласился. Мы как раз выходили из дому, когда получил я записку от аббата де Берни, извещавшего, что, если назавтра смогу я явиться в Версаль, он доставит мне случай говорить с маркизой[36]; там же повстречаю и г-на де Булоня.
Не столь из тщеславия, сколь из политических соображений я показал записку Кальзабиджи. Он сказал, что теперь все в моих руках и я могу даже принудить дю Верне устроить лотерею.
– И коли вы не настолько богаты, чтобы презирать деньги, то обеспечите себе состояние. Вот уже два года мы изо всех сил стараемся довести дело до конца, а в ответ слышим одни только глупые возражения, каковые вы обратили в дым на прошлой неделе. Проект ваш, конечно же, имеет большое сходство с моим. Давайте же соединим наши усилия. Не забудьте – действуя в одиночку, вы столкнетесь с необоримыми трудностями: числительных машин, что вам надобны, в Париже не найти. Все тяготы сего предприятия возьмет на себя мой брат; склоните Совет на свою сторону, а дальше согласитесь получать половину доходов от управления лотереей и наслаждаться жизнью.
– Стало быть, сударь, проект задуман вашим братом.
– Да, братом. Он болен, но голова у него светлая. Сейчас я вас с ним познакомлю.
Я увидал человека, лежавшего в постели и с ног до головы покрытого лишаями; это, однако, не мешало ему с отменным аппетитом есть, писать, беседовать и во всех отношениях вести себя так, словно он совершенно здоров. Он никому не показывался на глаза, ибо не только был обезображен лишаями, но и принужден был беспрестанно чесаться то тут, то там, что в Париже почитается отвратительным; этого не прощают никогда, чешется ли человек по болезни, либо по дурному обыкновению. Кальзабиджи сказал, что он так и лежит и никого не принимает, ибо кожа у него зудит, и нет для него иного облегчения, чем вволю почесаться.
– Бог даровал мне ногти именно с этой целью, – сказал он.
– Вы, стало быть, верите в конечные причины, поздравляю. Однако ж смею предположить, что вы все равно бы чесались, даже если б Господь и забыл даровать вам ногти.
Тут он улыбнулся, и мы заговорили о деле. Не прошло и часу, как я убедился в великом его уме. Он был старший из братьев и холостяк. Прекрасный математик, он знал до тонкостей теорию и практику финансов, разбирался в торговых делах любой страны, был сведущ в истории, остроумен, обожал прекрасный пол и писал стихи. Родился он в Ливорно, служил в Неаполе при министерстве, а в Париж приехал вместе с г-ном де Лопиталем. Брат его был тоже человек весьма неглупый, но уступал ему во всем.
Он показал мне кипу бумаг, где в подробностях изъяснил все, относящееся до лотереи.
– Если, по-вашему, вы сумеете без меня обойтись, поздравляю, однако вы только зря потешите свое самолюбие: опыта у вас нет, а без людей, искушенных в делах, теория ваша нимало вам не поможет. Что вы станете делать, добившись указа? Когда будете докладывать дело в Совете, лучше всего вам было бы назначить им срок, по истечении коего вы умываете руки. Иначе они положат дело в долгий ящик. Уверяю вас, г-н дю Верне будет рад, ежели мы объединимся. Что же до математических расчетов равных шансов для всех ставок, то я вам докажу, что для «кватерны» их учитывать не надобно. <…>
На другое утро отправился я в Версаль, где меня встретил министр, г-н де Берни, весело сказав, что готов поспорить, что без него я бы так и не узнал о своих талантах финансиста.
– Г-н де Булонь сказал, что вы привели в изумление г-на дю Верне, одного из величайших мужей Франции. Отправляйтесь тотчас к нему, а в Париже будьте с ним полюбезнее. Лотерею учредят, вам остается только извлечь из нее выгоду. Как только король отправится на охоту, будьте возле малых покоев, и в нужный момент я укажу на вас г-же маркизе. После вы отправитесь в Министерство иностранных дел и представитесь аббату де Лавилю, начальнику канцелярии, – он примет вас со всей благосклонностью.
Г-н де Булонь обещал, что, как только г-н дю Верне даст знать о согласии Совета Военного училища, он издаст указ об учреждении лотереи, и приглашал и впредь сообщать все мои замыслы, буде таковые возникнут.
Он был более деятельным, более живым, чем дюжина обывателей. Он был любителем с сотней интересов дилетант в пятидесяти областях.
Герман Кестен. «Казанова»В полдень г-жа де Помпадур прошла в малые покои вместе с принцем де Субизом и моим покровителем, каковой сразу же обратил на меня внимание сиятельной дамы. Сделав согласно этикету реверанс, она сказала, что с большим интересом прочла историю моего побега[37].
– Эти господа, что из тех краев, весьма опасны, – заметила она с улыбкой. – Вы бываете у посла?
– Наилучший способ для меня выказать ему свое почтение – это не бывать у него вовсе.
– Надеюсь, теперь вы решите обосноваться у нас.
– Это составило бы счастье всей моей жизни, но мне надобно покровительство, а, насколько я понял, в вашей стране его оказывают единственно людям даровитым, и это приводит меня в уныние.
– Думаю, тревожиться вам не о чем – у вас есть добрые друзья. Рада буду при случае оказаться вам полезной. <…>
Дома обнаружил я записку от г-на дю Верне, каковой просил меня быть завтра в одиннадцать часов в Военном училище. В девять явился ко мне Кальзабиджи и принес от брата большую таблицу с математическим обоснованием всей лотереи, дабы я мог доложить дело в Совете. То был расчет вероятностей, постоянных и переменных величин – доказательство того, что я пытался обосновать. Суть состояла в том, что, если б в лотерее тянули не пять, но шесть номеров, шансы на выигрыш и проигрыш были бы равны. Но тянули пять, а потому всякий шестой номер – то есть семнадцать из девяноста имеющихся номеров – непременно должен был принести доход устроителям. Из этого следовало, что проводить лотерею из шести номеров невозможно, ибо расходы на нее составляют сто тысяч экю.
С этими установлениями в руках и с мыслью, что должен в строгости им следовать, отправился я в Военное училище: заседание тотчас началось. На него приглашен был г-н д’Аламбер[38] как величайший знаток всех областей математики. В его присутствии не было бы нужды, будь г-н дю Верне один; но там были умники, которые не желали признавать действенность математических расчетов и отрицали очевидное. Заседание продолжалось три часа.
После моего доклада, длившегося не более получаса, г-н де Куртей подытожил сказанное мною, и следующий час прошел в пустых возражениях, которые я все с легкостью отклонил. Я изъяснил, что искусство расчетов состоит в нахождении одной-единственной формулы, выражающей взаимодействие нескольких величин, и что определение это равно справедливо и для морали, и для математики. Я убедил их, что в противном случае не было бы на свете страховых обществ, богатых и процветающих, каковые смеются над превратностями фортуны и над безвольными людьми, боящимися ее. Под конец я объявил, что нет в мире честного и сведущего человека, который мог бы обещать, что под началом его лотерея станет приносить доход каждый тираж, а коли найдется таковой смельчак, его следует прогнать, ибо одно из двух: либо он не исполнит свои обещания, либо исполнит, но окажется мошенником.
Г-н дю Верне, поднявшись, заключил, что, на худой конец, всегда можно будет лотерею упразднить. Подписав бумагу, заготовленную г-ном дю Верне, господа эти удалились. Назавтра пришел ко мне Кальзабиджи и сказал, что дело сделано и остается только ждать указа. Я обещал ему наведываться всякий день к г-ну де Булоню и добиться для него должности управляющего лотереей, как только узнаю у г-на дю Верне, что причитается мне самому.
Предложили мне шесть контор по продаже билетов и четыре тысячи франков от доходов с лотереи, сначала я на это согласился. То были проценты от ста тысяч франков, каковые я мог бы забрать, отказавшись от контор, ибо капитал этот служил мне залогом.
Неделю спустя вышел указ Совета. Управляющим назначен был Кальзабиджи; жалованья ему положили три тысячи франков за каждый тираж и еще пенсион в четыре тысячи франков в год, как и мне, и предоставили главную лотерейную контору в особняке на улице Монмартр. Из шести своих контор пять я тотчас продал, по две тысячи франков за каждую, а шестую, на улице Сен-Дени, открыл, роскошно обставив и посадив в ней приказчиком своего камердинера. То был молодой смышленый итальянец, прежде служивший камердинером у принца де Ла Католика, неаполитанского посланника. Назначен был день первого тиража и объявлено, что уплата выигрышей будет производиться через неделю в главной конторе.
Не прошло и суток, как я вывесил объявление, что выигрыши по билетам, на коих стоит моя подпись, будут выплачиваться в конторе на улице Сен-Дени на другой день после тиража. В результате того все явились играть в моей конторе. Доход мой составлял шесть процентов от сбора. Пятьдесят или шестьдесят приказчиков из других контор имели глупость пожаловаться на меня Кальзабиджи. Тот неизменно отвечал, что они вольны сделать то же, что и я, но для этого надобны деньги.
В первый тираж сбор мой составил сорок тысяч ливров. Через час после тиража приказчик принес мне расходную книгу и показал, что мы должны уплатить от семнадцати до восемнадцати тысяч ливров, причем все за «амбы»; я выдал ему деньги. Он же сам также разбогател, ибо, хоть и не просил, а получал чаевые от клиентов, отчета я с него не требовал.
Лотерея принесла дохода на шестьсот тысяч, при общем сборе в два миллиона. Один только Париж выложил четыреста тысяч ливров. На другой день обедал я у г-на дю Верне вместе с Кальзабиджи, и мы с удовольствием слушали его сетования, что выигрыш слишком велик. На весь Париж выиграли всего восемнадцать-двадцать «терн» – ставки небольшие, но создавшие, тем не менее, блестящую репутацию лотерее. Страсти разгорались, и мы поняли, что второй тираж даст двойной сбор. За столом, к немалому моему удовольствию, все стали в шутку бранить меня за проделанную мною операцию. Кальзабиджи уверял, что ловкий этот ход обеспечил мне ренту в сто двадцать тысяч франков, что вчистую разорило всех прочих сборщиков. Г-н дю Верне отвечал, что и сам нередко проделывал подобные трюки, и поелику и остальные сборщики вправе поступить так же, это только повысило престиж лотереи.
Во втором тираже «терна» на сорок тысяч ливров заставила меня одалживать деньги. Сбор принес шестьдесят тысяч, но накануне тиража я обязан был сдавать кассу биржевому маклеру.
В шикарных домах, где я бывал, в фойе театров, едва завидев меня, все давали мне деньги и просили поставить за них как мне заблагорассудится и выдать им билеты, ибо ничего в этом не смыслили. Мне приходилось носить с собой билеты на большие и малые суммы, я предлагал их на выбор и возвращался домой с карманами, полными золота. У других сборщиков такой привилегии не было: это были не те люди, каких принимают в свете. Я один разъезжал в карете; это создавало мне имя и открывало кредит. Париж был тем городом, – и остается таковым, – где судят по одежке; и нет второй такой страны, где столь легко сим пользоваться.
Всю жизнь Казанова был любимцем трех интернациональных групп: танцовщиц, высшей аристократии и мошенников.
Герман Кестен. «Казанова»Но теперь, когда читатель вполне осведомлен о лотерее, я стану упоминать о ней только при случае.
Спустя месяц после приезда моего в Париж мой брат Франческо, художник, тот самый, с коим покинул я сей город в 1752 году, прибыл из Дрездена: четыре года, что он там провел, он снимал копии с лучших батальных полотен знаменитой галереи[39]. Свиделись мы с радостью, но когда я предложил ему использовать свои знакомства в высшем свете, дабы доставить ему место в Академии, он отвечал, что не нуждается в протекции. Он написал картину, изображающую битву, выставил ее в Лувре и был единогласно принят. Академия дала за его полотно двенадцать тысяч ливров.
Став академиком, брат мой прославился и за двадцать шесть лет заработал почти миллион, но любовь к роскоши и два неудачных брака разорили его. <…>
Театральные фойе – это чудесные подмостки, где всякий желающий может поупражняться в искусстве завязывать интрижки. Сия приятная школа немалому меня обучила; для начала свел я близкое знакомство с их записными донжуанами и немало преуспел, научившись не выказывать ни малейших притязаний, действуя не столь непоследовательно, сколь без последствий. Надобно было лишь всегда держать наготове кошелек, но речь шла о сущем пустяке: расход был всегда менее доставленного удовольствия. Я знал, что так или иначе получу все, что мне причитается.
Камилла, актриса и танцовщица Итальянской комедии, каковую полюбил я еще семь лет тому назад в Фонтебло, привлекала меня более прочих благодаря удовольствиям, что неизменно находил я в ее домике у Белой заставы, где жила она со своим любовником, графом д’Эгревиль, каковой был немало ко мне расположен. Он был хорош собой, обходителен и богат. Ничто не радовало его больше, чем когда у его возлюбленной собиралось множество гостей. Любила она лишь его одного, но, будучи женщиной умной и ловкой, не обходила вниманием никого, кто испытывал к ней вожделение; не скупясь на ласки и не расточая их понапрасну, она кружила головы всем знакомым мужчинам, не опасаясь ни нескромности, ни разрыва, как правило, оскорбительного.
Кроме возлюбленного более прочих выделяла она графа де Ла Тур д’Оверня. Сей знатный господин боготворил ее, но был не столь богат, чтобы располагать ею полностью, и принужден был довольствоваться тем малым, что ему оставалось. Про него говорили, что он на вторых ролях. Она почти задаром содержала для него некую девушку, которую, можно сказать, ему подарила, заметив его к ней расположение в ту пору, когда та была ее служанкой. Граф де Ла Тур снял для нее в Париже меблированную комнату на улице Таран и неизменно повторял, что любит ее как подарок милейшей Камиллы. Нередко брал он ее с собою ужинать на Белую заставу. Было ей пятнадцать лет: скромная, наивная простушка, она говорила любовнику, что никогда не простила бы ему измены, разве что только с Камиллой, которой надобно уступать, ибо ей обязана она своим счастьем. Я так влюбился в эту девочку, что частенько ужинал у Камиллы с единственной мыслью увидать ее и насладиться простодушными ее речами, забавлявшими всех собравшихся. Я, насколько мог, сдерживал себя, но был столь влюблен, что всякий раз, вставая из-за стола, впадал в тоску, не видя возможности излечиться от страсти обычным путем. Я бы сделался посмешищем, если б кто догадался, а Камилла принялась бы безжалостно высмеивать меня. Но однажды случай исцелил меня от этой страсти, и вот при каких обстоятельствах.
Казанова выражает собою всего тогдашнего человека известного сословия, со всеми тогдашними мнениями, уклонениями, верованиями, идеалами, нравственными понятиями, со всем этим особенным взглядом на жизнь так резко от личающимся от взгляда нашего девятнадцатого столетия.
Ф. М. Достоевский. «Предисловие к публикации эпизода из Мемуаров»Домик Камиллы располагался у Белой заставы, и однажды, когда гости стали расходиться, я послал за экипажем, дабы воротиться домой. Но поелику засиделись мы за столом до часу ночи, слуга мой объявил, что коляски в сей час не сыскать. Граф де Ла Тур сказал, что отвезет меня и стеснений при этом не будет, хотя карета его была двухместная.
– Моя малышка, – сказал он, – сядет к нам на колени.
Разумеется, я соглашаюсь, и вот мы в карете: граф слева от меня, а Бабет устроилась на наших коленях. Охваченный желанием, стремлюсь я воспользоваться случаем и, не теряя времени, ибо кучер гнал вовсю, беру ее руку, пожимаю, она пожимает мою; в знак благодарности я подношу ручку ее к губам, покрываю ее беззвучными поцелуями и, горя нетерпением убедить ее в моей страсти, действую так, как обычно диктует природа, и в самый чудный момент раздается голос де Ла Тура:
– Благодарю вас, дорогой друг, за любезное обхождение, столь свойственное вашей нации; я и не надеялся удостоиться его; надеюсь, это не было ошибкой.
Услышав эти ужасные слова, я убираю руку – и касаюсь рукава его сюртука; в такие минуты невозможно сохранить присутствие духа, тем более что при сих словах он расхохотался, а это бы смутило кого угодно. Я отпускаю руку, не в силах ни смеяться, ни оправдываться. Бабет спрашивала друга, отчего это он так развеселился, но едва тот пытался объяснить, как его вновь разбирал смех, я же молчал и чувствовал себя полным дураком. По счастью, карета остановилась, слуга мой открыл дверцу, я вышел и, пожелав им спокойной ночи, поднялся к себе. Де Ла Тур пожелал мне того же, хохоча до упаду. Сам я начал смеяться лишь через полчаса; история и впрямь была потешная, но все же для меня – скорее обидная и досадная, ведь мне предстояло выслушивать ото всех насмешки.
Три или четыре дня спустя решился я явиться на обед к любезному вельможе, ибо Камилла уже посылала справиться о моем здоровье. История эта не могла мне воспрепятствовать бывать у нее, но раньше я хотел разузнать, как к сему отнеслись.
Увидав меня, милейший де Ла Тур расхохотался и, насмеявшись вволю, расцеловал меня, изображая девицу. Я просил его, наполовину в шутку, наполовину всерьез, забыть эту глупость, ибо не знал, как оправдаться.
– К чему говорить об оправданиях? – отвечал он. – Все мы вас любим, а забавное сие происшествие добавило и добавляет веселости нашим вечерам.
– Ужели о нем все знают?
– А вы сомневались? Камилла смеялась до слез. Приходите вечером, я приведу Бабет; она вас посмешит: она уверяет, что вы не совершили никакой ошибки.
– Она права.
– Как так права? Расскажите кому-нибудь другому. Слишком много чести для меня, я вам не верю. Впрочем, вы избрали верную тактику.
Склонный легче впадать в гнев, нежели в веселость, он, тем не менее, легко заставляет смеяться других.
Шарль де Линь. «Рыцарь Фортуны»Именно ее я и применил вечером за столом, притворно удивляясь нескромности де Ла Тура и уверяя, что излечился от страсти, которую к нему питал. Бабет называла меня мерзкой свиньей и отказывалась верить в мое исцеление. Происшествие это по непостижимой причине отвратило меня от нее и внушило дружеские чувства к де Ла Туру, который по праву пользовался всеобщей любовью. Но дружба наша едва не окончилась печально.
Однажды в понедельник в фойе Итальянской комедии этот милейший граф попросил меня одолжить ему сто луидоров, обещая вернуть их в субботу.
– У меня столько нет, но кошелек мой в вашем распоряжении, там есть луидоров двенадцать.
– Мне нужно сто и немедля, я проиграл их вчера вечером под честное слово у принцессы Ангальтской[40].
– Но у меня нет таких денег.
– У сборщика лотереи должно быть больше тысячи.
– Верно, но кассу трогать нельзя; через неделю я должен сдать ее маклеру.
– Ничто вам не помешает сделать это: в субботу я верну вам их. Возьмите из кассы сто луидоров и взамен положите мое честное слово. Ведь оно же стоит сотни луидоров?
При этих словах я поворачиваюсь, прошу его подождать, иду в свою контору на улице Сен-Дени, беру сто луидоров и приношу ему. Наступает суббота, он не является; в воскресенье утром я закладываю перстень, вношу в кассу нужную сумму и на другой день сдаю ее маклеру. Дня через три-четыре в амфитеатре Французской комедии встречаю графа де Ла Тура: он подходит ко мне с извинениями. В ответ я показываю свою руку без перстня и говорю, что заложил его, дабы спасти свое доброе имя. С печальным видом он отвечает, что его подвели, но в следующую субботу он непременно вернет деньги.
– Даю вам свое честное слово, – говорит он мне.
– Ваше честное слово лежит в моей кассе, оно более не может служить вам порукой; вернете сто луидоров, когда сможете.
При этих словах доблестный вельможа смертельно побледнел.
– Мое честное слово, – сказал он, – любезный Казанова, мне дороже жизни. Я верну вам сто луидоров завтра в девять утра в ста шагах от кафе, что в конце Елисейских полей. Мы будем одни, без свидетелей; надеюсь, вы соблаговолите прийти и прихватите с собой шпагу, а я прихвачу свою.
– Мне крайне жаль, господин граф, что вы хотите заставить меня столь дорого заплатить за шутку. Вы оказываете мне честь, но я бы предпочел попросить у вас прощения, если это может исправить положение.
– Нет, я виноват больше вашего, и вину эту можно смыть только кровью одного из нас. Так вы придете?
– Да.
<…> Я испытывал истинную симпатию к этому славному смельчаку, но и себя я любил никак не меньше. Я понимал, что не прав, шутка и вправду была рискованна, но не явиться на свидание не мог.
Я вошел в кафе вскоре после него; мы позавтракали, он расплатился, и мы направились к площади Звезды. Убедившись, что нас никто не видит, граф благородным жестом протянул мне сверток с сотней луидоров и объявил, что одного укола шпагой, нанесенного мною или им, будет достаточно. Затем, отступив на четыре шага, обнажил шпагу. Вместо ответа я обнажил свою, и, едва шпаги наши коснулись, я нанес ему удар. Уверенный, что ранил его в грудь, я отскочил назад и потребовал от него держать слово.
Кроткий аки агнец, он опустил шпагу и просунул руку под сюртук; он показал мне ее, обагренную кровью, и сказал, что удовлетворен. Пока он промокал рану платком, я произнес все приличествующие случаю учтивые слова. Взглянув на острие шпаги, я обрадовался: лишь самый кончик был в крови. Я предложил графу проводить его домой, но он не пожелал. Он просил меня молчать о происшедшем и впредь считать его своим другом.
Обняв его и обливаясь слезами, я воротился домой до крайности опечаленный: я получил хороший урок светского обхождения. Об этом деле никто никогда не узнает. Неделю спустя мы вместе ужинали у Камиллы.
…Этот ловкий красивый малый справляется со всеми придворными искусствами и физическими упражнениями – танцами фехтованием верховой ездой игрой в карты блистательно, не хуже любого знатного кавалера…
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»В те дни получил я двенадцать тысяч франков от аббата де Лавиля, награду за поручение, исполненное мною в Дюнкерке. Камилла сказала, что де Ла Тура поразил ишиас и он не встает с постели и что, если я не против, мы можем завтра утром проведать его. Я согласился, мы пришли, и после завтрака я с самым серьезным видом объявил, что, если он доверится мне, я его вылечу, ибо причина его болей – не то, что называют ишиасом, но влажный дух, который я изгоню печатью Соломона и пятью словами. Он расхохотался, но сказал, что я могу делать все что мне заблагорассудится.
– Тогда я пойду куплю кисточку, – сказал я ему.
– Я пошлю слугу.
– Нет, я должен быть уверен, что купили, не торгуясь, а потом, мне надобны еще кое-какие снадобья.
Я принес селитры, серного цвета, ртути, кисточку и сказал графу, что требуется малая толика его мочи – совсем свежей. Они с Камиллой рассмеялись, но я с серьезным видом протянул ему сосуд; задернул шторы, и он исполнил мою просьбу. Сделав раствор, я сказал Камилле, что она должна растирать бедро графу, покуда я буду произносить заклинание, но если она рассмеется, все пропало. Добрых четверть часа они смеялись без умолку, но наконец, взяв пример с меня, успокоились. Де Ла Тур подставил бедро Камилле, и та, воображая, что играет роль в комедии, принялась усиленно растирать больного, я же тем временем вполголоса бормотал слова, кои они не могли понять по той причине, что я и сам не знал, что произношу. Я чуть было не испортил дело, заметив, какие гримасы корчит Камилла, чтобы не рассмеяться. Смешнее не придумать.
Наконец я сказал, что можно прекратить, окунул кисточку в раствор и одним движением начертал на бедре графа такую пятиконечную звезду, знак Соломона. Потом, обмотав ему бедро тремя полотенцами, я обещал, что он выздоровеет, если сутки пробудет в постели, не снимая повязки. Они больше не смеялись, на лицах их была озадаченность. Я был тем доволен.
Магом и каббалистом Казанова слыл всю свою жизнь.
П. П. Муратов. «Образы Италии»После сего фарса, сочиненного и сыгранного мною без всякого умысла и преднамеренности, мы с Камиллой сели в фиакр, и по пути я рассказывал ей сотни небылиц, кои она слушала со всей серьезностью, и, когда мы расставались, на лице ее было немалое удивление.
Четыре или пять дней спустя, когда я уже позабыл, что делал тогда с графом де Ла Тур, услыхал я в восемь утра стук копыт под окном. Выглянув, увидал я, как де Ла Тур спешивается и входит ко мне в дом.
– Вы были так уверены в себе, – сказал он, обнимая меня, – что даже не зашли посмотреть, помогло ли мне тогда ваше чудодейственное лечение.
– Конечно, я был уверен, но будь у меня побольше времени, я бы вас навестил.
– Скажите же, могу ли я принять ванну?
– Никаких ванн, покуда не почувствуете себя совсем здоровым.
– Слушаюсь. Все кругом дивятся, ведь я не мог не рассказать о чуде всем своим знакомым. Самые недоверчивые подняли меня на смех, но пусть себе говорят, что им угодно.
– Вам надлежало быть осмотрительнее, вы же знаете Париж. Теперь я прослыву шарлатаном.
– Да никто так не думает. А я пришел просить вас об одолжении.
– Что вам угодно?
– Моя тетка – признанный знаток всевозможных абстрактных наук, великий химик, женщина умная, очень богатая, владеет большим состоянием; знакомство с нею ничего вам, кроме пользы, не принесет. Она умирает от желания видеть вас, уверяет, что вас знает и вы не тот, кем слывете в Париже. Она заклинала меня привести вас к ней на обед; надеюсь, вы найдете возможность. Тетка моя – маркиза д’Юрфе.
Я не был с нею знаком, но имя д’Юрфе произвело на меня впечатление, я знал историю знаменитого Анн д’Юрфе, прославившегося в конце XVI века. Дама сия была вдова его правнука, и я подумал, что, став членом этой семьи, она могла приобщиться к высоким таинствам той науки, что весьма меня занимала, хоть я и почитал ее химерной. Я отвечал де Ла Туру, что поеду к тетке его, когда ему будет угодно, но только не на обед, разве что при условии, что мы будем втроем.
– Каждый день она устраивает обед на двенадцать персон, – сказал он, – вы увидите самых примечательных людей Парижа.
– Именно этого я и не хочу, мне омерзительна слава чародея, каковую вы по доброте душевной, похоже, мне создали.
– Напротив, все вас знают и почитают. Герцогиня де Лораге сказала мне, что четыре или пять лет назад вы постоянно ездили в Пале-Рояль и проводили целые дни с герцогиней Орлеанской; о вас мне говорили также г-жа де Буфлер, г-жа де Бло и сам Мельфор. Напрасно вы не возобновили прежние занятия. Вы так легко исцелили меня, что, уверяю вас, вы можете составить огромное состояние. Я знаю в Париже сотню человек из высшего света, мужчин и женщин, что отдадут половину состояния, если вы их вылечите.
Мыслил де Ла Тур правильно, но я-то знал, что исцеление его – сущая глупость, и вылечился он по случайности, и отнюдь не стремился к известности. Я сказал, что решительно не хочу выставляться напоказ и готов нанести визит госпоже маркизе в любой день и час, когда она пожелает, но только втайне и никак иначе: она вольна назначить мне день и час. Воротившись в полночь домой, нашел я записку от графа; он просил меня быть завтра в полдень в Тюильри на террасе Капуцинов, там он встретит меня и отвезет обедать к тетке; он уверял, что мы будем одни и лишь для нас будут открыты двери.
На свидание пришли мы вовремя и немедля отправились к почтенной даме. Она жила на набережной Театинцев[41], рядом с особняком Буйона. Госпожа д’Юрфе, красивая, хотя и в возрасте, приняла меня благороднейшим образом, со всей изысканностью придворных времен Регентства. Полтора часа мы беседовали о посторонних предметах с намерением лучше узнать друг друга. Каждый хотел побольше выпытать у другого. Мне было нетрудно строить из себя невежду – я им и был. Госпожа д’Юрфе с трудом сдерживала любопытство, но я прекрасно видел, что ей не терпится блеснуть своими познаниями. В два часа нам троим подали обед, что обычно готовили на двенадцать персон. После обеда граф де Ла Тур покинул нас, дабы навестить принца Тюренна: у него с утра была высокая температура, и тут госпожа д’Юрфе завела речь о химии, алхимии, магии и прочих безумных материях. Когда добрались мы до великого деяния[42] и я простодушно осведомился, знакомо ли ей первичное вещество, она лишь из вежливости не рассмеялась; с очаровательной улыбкой отвечала она, что обладает тем, что зовется философским камнем, и все великие таинства ведомы ей. Она показала мне свою библиотеку, некогда принадлежавшую великому Юрфе и супруге его Рене Савойской. Библиотеку сию пополнила она рукописями, стоившими более ста тысяч франков.
Любимым автором ее был Парацельс[43], каковой, уверяла она, не был ни мужчиной, ни женщиной, и к несчастью отравился чрезмерной дозой жизненного эликсира[44]. Она показала мне небольшой список, где по-французски ясными словами изъяснялся способ изготовления философского камня. Она сказала, что не держит его под семью замками потому, что оно зашифровано, а ключ от шифра ведом ей одной.
И устно, и с пером в руках Казанова был великолепным рассказчиком. Он обладал завораживающим талантом всех настоящих эпиков: видеть все так, как будто он видит это первым, все переживать, как будто он переживает это впервые.
Герман Кестен. «Казанова»– Так вы, сударыня, не верите в стеганографию?[45]
– Нет, сударь, и если желаете, вот копия, извольте принять ее в подарок.
Я принял подарок и положил его в карман.
Из библиотеки прошли мы в ее лабораторию, что меня приятно удивила; маркиза показала мне вещество, каковое держала на огне вот уже пятнадцать лет; оно должно было нагреваться еще года четыре или пять. То был порошок, что бросают на металл, чтобы обратить его в золото. Она показала мне трубку, по коей уголь под собственной тяжестью равномерно падал в огонь, поддерживая таким образом в печи постоянную температуру, так что маркизе случалось по три месяца не заходить в лабораторию, не опасаясь, что огонь погаснет. Внизу была небольшая трубка, по коей ссыпался пепел. Обжиг ртути был для нее детской забавой; она показала мне прокаленное вещество и сказала, что может показать мне сей процесс, как только захочу. Она показала мне «дерево Дианы»[46] славного Таллиамеда, ее учителя. Таллиамед, как всем известно, – это ученый Майе, который, как утверждала госпожа д’Юрфе, вовсе не умер в Марселе, как рассказывал аббат Ле Мезерье, но жив и, добавила она с милой улыбкой, частенько шлет ей письма. Если бы регент Франции[47] послушался его, он был бы жив и поныне.
Она сказала, что регент был первый ее друг, он прозвал ее Эгерией и самолично выдал замуж за маркиза д’Юрфе. Были у нее комментарии Рамона Люлля, что толковал сочинения Арно де Вильнева, писавшего о Роджере Бэконе и Гебере, которые, по мнению ее, вовсе не умерли. Сей бесценный манускрипт держала она в шкатулке из слоновой кости, ключ от которой хранила у себя; лаборатория также была ото всех заперта.
Она показала мне бочонок, наполненный платиной дель Пинто, – ее могла она превратить в чистое золото, когда ей заблагорассудится. Ее собственноручно преподнес ей г-н Вуд в 1743 году. Она показала мне ту же платину в четырех различных сосудах: в трех первых серная, азотная и соляная кислоты не смогли разъесть ее, но в четвертом была налита царская водка[48], и платина не устояла. Маркиза плавила ее огненным зеркалом – иначе металл этот не плавится, что, по ее мнению, доказывало превосходство его над золотом. Она показала, что под действием нашатыря платина выпадает в осадок, чего с золотом не бывает.
Под ее атанором[49] огонь горел уже пятнадцать лет. Его башня была наполнена черным углем, из чего я заключил, что маркиза была здесь пару дней назад. Оборотившись к «дереву Дианы», я с почтением осведомился, согласна ли она с тем, что это детская забава. Она с достоинством отвечала, что создала его для собственного удовольствия посредством серебра, ртути и азотного спирта, кристаллизовав их вместе, и что почитает свое дерево, взращенное на металлах, отражением того великого, что может создать природа; но, присовокупила она, в ее власти создать «дерево Дианы», что было бы истинным солнечным деревом, каковое могло бы приносить золотые плоды, их можно было бы собирать; и так бы продолжалось, пока не закончится один ингредиент, что смешивается с шестью прокаженными металлами[50] в зависимости от их количества. Я скромно отвечал, что не считаю сие возможным без посредства философского камня. Госпожа д’Юрфе лишь милостиво улыбнулась в ответ. Она показала мне фарфоровую чашку с селитрой, ртутью и серой и тарелку с неразлагаемой солью.
– Полагаю, – сказала маркиза, – ингредиенты сии вам знакомы.
– Разумеется, – ответил я, – если сия неразлагаемая соль – уриновая.
– Вы угадали.
– Восхищен вашей проницательностью, сударыня. Вы сделали анализ амальгамы, коей я начертал пентаграмму на бедре вашего племянника, но никакой винный камень не откроет вам слов, придающих ей силу.
– Для этого нет нужды в винном камне, достаточно открыть рукопись одного из адептов, что хранится у меня в комнате, я вам ее покажу, в ней приводятся эти слова.
Я промолчал, и мы покинули лабораторию.
Войдя в комнату, она достала из шкатулки черную книгу, положила ее на стол и принялась искать фосфор; покуда она искала, я за ее спиной открыл книгу, сплошь испещренную пентаграммами, и, по счастью, увидал ту, что начертал я на бедре ее племянника; вокруг были имена Духов планет, за исключением двух, Сатурна и Марса; я быстро захлопнул книгу. Это были те же Духи, что агрипповы, кои были мне известны. Как ни в чем не бывало подошел я к маркизе, которая вскоре нашла фосфор, чей вид меня изрядно удивил, но об этом я расскажу как-нибудь потом.
Госпожа д’Юрфе устроилась на канапе, жестом пригласила меня сесть рядом и спросила, знакомы ли мне талисманы графа де Трева.
– Я никогда о таковых не слыхал, но мне знакомы талисманы Полифила.
– Говорят, меж ними нет разницы.
– Я другого мнения.
– Мы это узнаем, если вам будет угодно написать слова, что вы произносили, начертав пентаграмму на бедре моего племянника. Книга будет та же, если я в своей обнаружу ваши слова против того же талисмана.
– Согласен, это будет убедительное доказательство. Сейчас напишу.
Я написал имена Духов, маркиза нашла нужную пентаграмму, прочла мне имена, и я, разыгрывая удивление, протянул ей листок бумаги, и она, к несказанному своему удовольствию, прочла те же самые имена.
– Вот видите, – сказала она, – у Полифила и графа де Трева учение одно.
– Я соглашусь, сударыня, если обнаружу в вашей книге способ произношения имен не выразимых[51]. Известна ли вам теория планетарных часов?[52]
– По-моему, да, но ведь она для этой операции не надобна.
– Прошу прощения. Я начертал на бедре господина де Ла Тура Соломонову пентаграмму в час Венеры, и если б я не начал с Анаэля, духа сей планеты, мое лечение ничего бы не дало.
– Этого я не ведала. А после Анаэля?
– Потом надо двигаться к Меркурию, от Меркурия к Луне, от Луны к Юпитеру, от Юпитера к Солнцу. Получается, как видите, магический цикл Зороастра; я пропустил Сатурн и Марс, которые наука из этой операции исключает.
– А если бы вы, к примеру, начали операцию в час Луны?
– Тогда бы я начал двигаться к Юпитеру, потом к Солнцу, затем к Анаэлю, то есть к Венере, и, наконец, к Меркурию.
– Я вижу, сударь, что вы в совершенстве владеете теорией планетарных часов.
– Без этого, сударыня, ничем невозможно заниматься в магии: нет времени все вычислять, но это совсем нетрудно. Любому достанет одного месяца обучения, чтобы обрести надлежащий опыт. Гораздо труднее само учение, оно слишком сложное, но и его можно постичь. По утрам я не выхожу из дома, не уточнив, сколько в сей день минут в часе, и не настроив часы, ибо одна минута может стать решающей.
– Осмелюсь ли я просить вас ознакомить меня с сей теорией?
– Вы найдете ее у Артефиуса, а в более ясном изложении – у Сандивония.
– У меня они есть, но по-латыни.
– Я переведу их для вас.
– Вы будете столь любезны?
– Вы столько мне показали, сударыня, что я просто вынужден сделать это, по причинам, о коих я, вероятно, смогу поведать вам завтра.
– Отчего не сегодня?
– Оттого, что сперва я должен узнать имя вашего Духа.
– Вы уверены, что у меня есть Дух?
– Должен быть, если вы и впрямь обладаете философским камнем.
– Да, у меня он есть.
– Поклянитесь клятвой ордена.
– Я не решаюсь, и вы знаете почему.
– Завтра я постараюсь развеять ваши сомнения.
То была клятва розенкрейцеров, каковую нельзя произносить, не уверившись в собеседнике; госпожа д’Юрфе опасалась совершить недозволенное, а мне, в свою очередь, надобно было делать вид, что и я испытываю сей страх. Я понимал, что надо тянуть время: клятва эта была мне знакома. Мужчины могут давать ее друг другу без стеснения, но такой даме, как госпожа д’Юрфе, затруднительно произнести ее перед мужчиной, которого видит в первый раз в жизни.
– В нашем святом Писании, – сказала она, – эта клятва сокрыта. «Он поклялся, – гласит священная книга, – возложив руку себе на бедро». Но это не бедро. И потому мужчина никогда так не клянется женщине, ибо у женщины нет надлежащего Слова.
В девять вечера граф де Ла Тур зашел к тетке и был немало удивлен, что я все еще у нее. Он сказал ей, что у его кузена, принца Тюренна, температура поднялась еще выше и появились признаки оспы. Он добавил, что не будет появляться у нее по крайней мере месяц, ибо намерен ухаживать за больным. Г-жа д’Юрфе похвалила его рвение и вручила ему небольшой кисет, взяв обещание вернуть его, когда принц выздоровеет. Она велела повесить его больному на шею крест-накрест и уверила в скором его выздоровлении. Он обещал, взял кисет и ушел.
Я сказал маркизе, что, конечно, не знаю, что в том кисете, но, коль скоро это магическое средство, я не верю в его магическую силу, ибо она не дала племяннику никаких наставлений относительно часов. Она отвечала, что то был электрум[53], и, услышав сие, я поспешил извиниться.
Маркиза объявила, что ценит мою скромность, но полагает, что я не буду против того, чтобы познакомиться с ее друзьями. Она сказала, что каждого будет приглашать на обед по одному и так я смогу познакомиться со всеми по очереди, и потом я смогу со всеми общаться с приятностию. Таким образом, на следующий день обедал я с г-ном Гереном и его племянницей, которые мне вовсе не понравились. В другой день – с одним ирландцем, Макартни, старомодным физиком, нагнавшим на меня тоску. В третий день велела она своему привратнику впустить монаха, а тот, заведя речь о литературе, стал грубо отзываться о Вольтере, которого я в ту пору любил; потом он набросился на «Дух законов», при этом отказывая знаменитому Монтескье в авторстве. Он приписывал сие творение какому-нибудь монаху-смутьяну.
В другой день обедал я с кавалером д’Арзиньи, девяностолетним господином, носившим титул старшины петиметров[54]; он состоял когда-то при дворе Людовика XIV, сохранил все тогдашние манеры и помнил немало стародавних анекдотов. Меня этот господин изрядно позабавил; он румянился, носил помпоны на платье по моде минувшего века и уверял, что нежно привязан к любовнице; для нее снимает он маленький домик, где каждый вечер ужинает с ней и ее подружками, юными и прелестными, которые покидают любое общество ради него; и несмотря на это, он никогда ей не изменял и проводил с нею всякую ночь. Достойный сей человек, уже порядком дряхлый и трясущийся, был столь кроткого нрава и столь необычен, что я ни разу не усомнился в его словах. Опрятен он был необычайно. В верхней петлице его камзола неизменно был вдет пышный букет из нарциссов и тубероз; крепкий запах амбры, исходивший от помады, которой прилеплялись накладные волосы (брови были насурьмлены, зубы вставные), создавали сильнейший аромат, который г-же д’Юрфе был по нраву, а я его едва переносил. В противном случае я искал бы его общества как можно чаще. Г-н д’Арзиньи был убежденный эпикуреец; он уверял, что согласился бы получать девяносто палочных ударов всякое утро, если б это давало ему уверенности, что тем продлится его жизнь еще на сутки, и чем больше бы он старился, тем более жестокую порку он бы себе задавал.
В другой день обедал я с г-ном Шароном, советником Верхней палаты Парламента, что вел дело на процессе г-жи д’Юрфе против ее дочери[55], г-жи дю Шатле, каковую она ненавидела. Сей старый советник был ее счастливым любовником сорок лет назад, а потому считал своим долгом держать ее сторону. Судьи во Франции всегда держали чью-то сторону и чувствовали себя вправе держать сторону тех, кто пользовался их благосклонностью, поелику право судить купили они себе за деньги. Этот советник мне порядком надоел.
Но в другой день прониклись мы взаимной симпатией с господином де Виармом, племянником маркизы, молодым советником, пришедшим на обед со своею супругой. Милейшая чета, племянник, светлая голова: весь Париж читал его «Протестное послание Королю». Он уверял, что назначение советника Парламента – противиться королевским указам, даже благим. Доводы, кои приводил он в защиту этого принципа, были те же, что всегда выдвигает меньшинство во всяком собрании. Я не хочу докучать читателю пересказом их.
Самый занятный обед был с госпожой де Жержи; ее сопровождал славный авантюрист граф де Сен-Жермен. Этот господин, вместо того чтобы есть, непрестанно говорил, и я слушал его с великим вниманием, ибо лучшего рассказчика не встречал. Он показывал, что сведущ во всем, он желал удивлять – и положительно удивлял. Держался он самоуверенно, но это не раздражало, ибо человек он был ученый, говоривший на всех языках, превосходный музыкант, отменный химик, хорош собой; он умел расположить к себе женщин, ибо снабжал их пудрой, придававшей красоту коже, и в то же время дарил им надежду если не омолодить их, что, как он уверял, невозможно, то сохранить их нынешний облик посредством воды, чрезвычайно дорого ему стоившей; ее он преподносил в подарок.
Этот необычайный человек, самый бессовестный обманщик, без малейшего стеснения, как о чем-то само собою разумеющемся, говорил, что ему триста лет, что он владеет панацеей от всех болезней, что у природы нет от него тайн, что он плавит бриллианты и из десяти-двенадцати маленьких легко делает один большой, того же веса и притом чистейшей воды. Для него это сущий пустяк. Несмотря на бахвальство, противоречия и явную ложь, я решительно не мог почесть его за обыкновенного наглеца, но и уважения к нему не испытывал; против своей воли счел я его человеком удивительным – ибо он меня удивил. У меня еще будет случай говорить о нем.
Граф Сен-Жермен – ничего экстраординарного, стандартная карьера авантюриста восемнадцатого века, меньше амуров, чем у Казановы, и надувательства не так театральны, как Калиостро.
Умберто Эко. «Маятник Фуко»После того как г-жа д’Юрфе свела меня со всеми этими господами, я сказал, что буду обедать у нее, когда она пожелает, но только наедине, за исключением родственников ее и Сен-Жермена, чье красноречие и бахвальство забавляли меня. Этот человек, обедавший в лучших домах Парижа, никогда не притрагивался ни к одному блюду. Он уверял, что питается особой пищей, и с этим охотно примирялись, ибо он был душою всякого застолья.
Я сумел до тонкостей изучить госпожу д’Юрфе, что почитала меня за истинного адепта, укрывшегося под маской посредственности; она еще более укрепилась в этих химерических мыслях пять или шесть недель спустя, когда осведомилась, расшифровал ли я рукопись, где изъяснялось Великое Деяние. Я ответил, что расшифровал и вследствие этого прочел и что верну его ей, дав слово чести, что не снял копию.
– Ничего нового я там не обнаружил.
– Прошу простить меня, сударь, но сие никак невозможно без ключа.
– Вы желаете, чтобы я назвал вам ключ, сударыня?
– Извольте.
Я произношу слово, не принадлежавшее ни к одному языку, и повергаю ее в изумление. Она сказала, что это слишком, поелику считала, что одна знает это слово; его хранила она в памяти и никогда не доверяла бумаге.
Я мог сказать ей правду, что те же подсчеты, какие помогли расшифровать рукопись, открыли и ключ, но мне взбрело на ум заявить, что его мне сообщил Дух. Сие ложное признание окончательно сделало г-жу д’Юрфе моей пленницей. В тот день я понял, что полностью овладел ее душой, и я злоупотребил своей властью. Всякий раз, как я вспоминаю об этом, печаль и стыд охватывают меня, и ныне я совершаю покаяние, обязав себя говорить в этих Мемуарах правду.
Великим заблуждением госпожи д’Юрфе была вера в возможность общения с Духами, называемыми стихийными[56]. За это отдала бы она все свои имения; ей попадались уже мошенники, дарившие ей надежду узнать верный путь. Сведя знакомство со мною, уверилась она, что достигла цели, – ведь я дал столь убедительное доказательство своих познаний.
– Я не знала, что ваш Дух властен принудить моего выдать тайну.
– Ему принуждать ни к чему, он сам все знает, такова природа его.
– Ведомы ли ему тайны, сокрытые в моей душе?
– Без сомнения, и он откроет их мне, если я его спрошу.
– Вы можете спрашивать, когда хотите?
– В любой момент, если есть бумага и чернила; я могу заставить его отвечать вам, назвав его имя. Имя моего духа – Паралис. Напишите ему вопрос, как если б вы обращались к простому смертному, спросите, как сумел я расшифровать вашу рукопись, и вы увидите, как я заставлю его вам отвечать.
Дрожа от радости, г-жа д’Юрфе задает вопрос; я записываю его цифрами, составляю, как всегда, пирамиду и помогаю ей извлечь ответ, который она сама обращает в буквы. Она видит лишь согласные, но посредством другого действия отыскивает с моей помощью гласные, составляет слова и получает совершенно ясный ответ, изряднейше поразивший ее. Перед глазами своими видит она слово, кое нужно было знать для расшифровки ее рукописи.
Я ушел от нее, прихватив с собой ее душу, сердце, разум и остатки здравого смысла. <…>
Рассказы венецианского авантюриста о его влиянии… на д’Юрфе могли бы показаться неправдоподобными, но их подтверждают исторические документы.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Поелику принц Тюренн излечился от оспы, граф де Ла Тур с ним расстался и, зная любовь тетушки к абстрактным наукам, ничуть не удивился, узнав, что я сделался единственным ее другом. Я с удовольствием виделся за обедом с ним и другими их родственниками, чье доброе ко мне отношение радовало меня сверх меры. То были братья: г-н де Понкарре и г-н де Виарм, избранный в ту пору городской головой, и сын маркизы. Дочь ее, г-жа дю Шатле, сделалась из-за процесса заклятым ее врагом, и даже имени ее в доме не поминали.
Граф де Ла Тур вынужден был в то время отправиться в свой булонский полк в Бретань, и мы почти всякий день обедали вдвоем. Слуги маркизы почитали меня ее мужем; иного объяснения тому, что мы столько времени проводим вместе, быть у них не могло. Полагая, что я очень богат, госпожа д’Юрфе вообразила, будто я доставил себе место при лотерее Военного училища не иначе как для прикрытия.
Она полагала, что я владею не только философским камнем, но и способностью общаться со стихийными духами. Как следствие, она полагала, что мне подвластно перевернуть Землю, а также составить счастье или несчастье Франции. Необходимость скрываться она приписывала оправданному моему страху угодить за решетку, что, верила она, было неминуемо, когда бы министерство сумело вывести меня на чистую воду. Все эти нелепости внушал ей по ночам Дух, а воспаленная фантазия заставляла принимать на веру.
Выказывая немыслимую легковерность, она объявила однажды, будто Дух сообщил ей, что, поелику она женщина, ей не дано общаться со стихийными духами, но что в моей власти с помощью одному мне известной операции переселить ее душу в тело ребенка мужеского пола, рожденного от философского соития бессмертного мужа со смертной либо смертного с женщиной божественного происхождения.
Поддерживая химерические мечты этой дамы, я не считал, что обманываю ее: она обманывалась сама, и разубедить ее было невозможно.
Если послушать его, то единственным нравственным долгом философа на земле окажется – веселиться за счет всех глупцов, оставлять в дураках тщеславных, надувать простодушных, облегчать кошельки скупцов, наставлять рога мужьям, короче говоря, в качестве посланца божественной справедливости наказывать всю земную глупость. Обман для него не только искусство, но и сверхморальный долг, и он исполняет его, этот храбрый принц беззакония, с белоснежной совестью и несравненной уверенностью в своей правоте.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»Если б я, как истинно добропорядочный человек, сказал ей, что все идеи ее – одно лишь безумие, она бы мне попросту не поверила, и я решил избрать позицию наблюдателя. Мне не могло не льстить, что сия дама почитает меня за величайшего из розенкрейцеров и могущественнейшего из людей, – дама высокородная, состоящая в родстве с самыми знатными французскими фамилиями и к тому же богатая: у нее не только было восемьдесят тысяч годового дохода от имения и дома в Париже, но, что гораздо важнее, владела она ценными бумагами. Я ясно видел, что в случае надобности ни в чем отказать мне она будет не в силах, и пусть даже в намерения мои не входило завладеть ее богатствами, я не в силах был отказаться от этой власти.
Г-жа д’Юрфе была скупа. Тратила она от силы тридцать тысяч ливров в год, а с остальными средствами, составлявшими вдвое большую сумму, играла на бирже. Биржевый маклер доставлял ей королевские процентные бумаги, когда они шли по самой низкой цене, и продавал, когда их курс повышался. Таким способом приумножила она свое состояние. Она не единожды повторяла, что готова отдать все, чем владеет, лишь бы стать мужчиной, и ей ведомо, что я один способен совершить это.
Маркиза д’Юрфе была женщиной умной, может быть, ей не так уж трудно было бы разгадать Казанову, но, может быть, ей вовсе не хотелось его разгадывать. С верой в каббалистику были соединены последние радости ее жизни, а кто откажется от последних радостей, достающихся даже ценой обмана?
П. П. Муратов. «Образы Италии»Однажды я заявил, что и в самом деле могу осуществить сию операцию, но никогда не решусь на нее, поелику вынужден буду умертвить ее.
– Я знаю, – отвечала она, – знаю даже, какую смерть мне придется принять, и я готова.
– И какой вам представляется, сударыня, ваша кончина?
– Я умру от того же снадобья, от коего ушел в мир иной Парацельс, – быстро ответствовала она.
– И вы полагаете, что душа его перенеслась в иное тело?
– Нет. Но знаю почему. Он не был ни мужчиной, ни женщиной, а надобно непременно быть или тем, или другим.
– Правда ваша, но ведомо ли вам, как именно готовится сие снадобье? И знаете ли вы, что без вмешательства Саламандры изготовить его невозможно?
– Так, наверное, и есть, но этого я не знала. Прошу вас, спросите у каббалы, есть ли в Париже человек, обладающий сим снадобьем.
Я тотчас понял, что она полагает, будто снадобье есть у нее, и, не колеблясь, составил нужный ответ, изобразив глубокое удивление. Она же ничуть не удивилась, а, напротив, восторжествовала.
– Вот видите, – воскликнула она, – мне не хватает токмо ребенка, носителя мужского Слова, полученного от бессмертного существа. Мне ведомо, что это в вашей власти, и я не верю, что вам недостанет мужества решиться на сию операцию из-за неуместной жалости к старому моему телу.
При сих словах я встал и отошел к окну, что выходило на набережную; так простоял я полчетверти часа, размышляя над ее безумствами. Когда я воротился к столу, за коим она сидела, она посмотрела на меня внимательно и взволнованно воскликнула:
– Возможно ли, друг мой? Я вижу у вас на глазах слезы!
Я не стал ее разубеждать; вздохнув, взял шпагу и удалился. Ее карета, что была в моем распоряжении всякий день, ждала меня у ворот.
Воистину, у этого человека много огня, много отваги, великолепный цвет… этот Казанова… – великий художник!
Дени Дидро о Франческо КазановеБрат мой[57] был принят единодушно в Академию: он написал картину, представляющую батальную сцену, каковая заслужила одобрение всех ценителей. Академия сама решила приобрести картину и уплатила брату пятьсот луидоров, что он за нее попросил. <…>
Меньше чем в неделю женился он на танцовщице из кордебалета Итальянской комедии. Свадьбу пожелал устроить некий г-н де Санси, церковный казначей, весьма прежде любивший эту девушку, а в знак признательности за то, что мой брат взял ее в жены, г-н де Санси предоставил ему заказы на картины от всех своих друзей, открыв дорогу к богатству и великой славе.
Во время свадьбы г-н Корнеман начал толковать со мной о нехватке денег в казне, побуждая меня придумать какое-нибудь действенное средство, кое я мог бы подсказать генеральному контролеру. Он заявил, что если уступить по сходной цене королевские процентные бумаги амстердамской торговой компании, то взамен можно получить бумаги какого-нибудь другого государства, не воспрещенные к продаже как французские, кои можно будет легко обратить в деньги. Я просил его никому об этом деле не рассказывать и обещал им заняться.
На другое утро я немедля отправился к своему покровителю аббату; тот нашел предложение превосходным и посоветовал мне самому ехать в Голландию с рекомендательным письмом от герцога де Шуазеля к господину д’Афри, которому можно было бы перевести на несколько миллионов ценных бумаг и сбыть по моему усмотрению. Он велел сперва обсудить дело с г-ном де Булонем и, главное, не выглядеть человеком, не знающим, что он делает. Он убеждал, что если я не стану просить денег вперед, то мне дадут столько рекомендательных писем, сколько я захочу.
В Париже Казанова затевает одно предприятие за другим, он занят «делами», он добывает деньги. В Италии он их тратит и делает свое главное дело, то есть не делает решительно ничего…
П. П. Муратов. «Образы Италии»Я загорелся этой идеей. В тот же день отправился я к генералу-контролеру, тот нашел идею мою превосходной, сказал, что герцог де Шуазель должен быть назавтра в Доме инвалидов[58] и мне надобно непременно отправиться переговорить с ним, вручив записку, каковую он сейчас напишет. Он обещал отправить послу ценных бумаг на двадцать миллионов, каковые, так или иначе, вернутся обратно во Францию. Я, нахмурившись, отвечал, что надеюсь, бумаги не вернутся, если правильно повести дело. Он сказал, что скоро заключат мир, а потому я должен уступать бумаги с самой малой скидкой; в сим деле я буду подчиняться посланнику, каковой получит надлежащие указания.
Я был столь горд поручением, что во всю ночь не сомкнул глаз. Герцог де Шуазель, славившийся быстротой в делах, прочел записку г-на де Булоня, минут пять меня слушал и приказал составить письмо к г-ну д’Афри, кое прочел про себя, подписал, запечатал, вручил мне и пожелал счастливого пути. В тот же день выправил я паспорт в голландском посольстве, попрощался со всеми друзьями, за выключением госпожи д’Юрфе, у которой должен был провести весь завтрашний день, и доверил подписывать лотерейные билеты моему верному приказчику. <…>
Получив у г-на Корнемана переводной вексель на три тысячи флоринов на жида Боаза, придворного банкира в Гааге, я отправился в путь; в два дня добрался до Антверпена и там сел на яхту, на коей прибыл утром в Роттердам, где и переночевал. На следующий день отправился я в Гаагу и остановился у Жаке, в трактире «Английский парламент». В тот же день, а это был Сочельник, я отправился с визитом к г-ну д’Афри и явился в тот самый момент, когда он читал письмо герцога де Шуазеля, извещавшего обо мне и моем деле. Он оставил меня обедать вместе с г-ном Кудербахом, поверенным короля Польского, курфюрста Саксонского, и побуждал меня приложить все усилия, присовокупив, однако, что сомневается в успехе, поелику у голландцев были все основания полагать, что мир так быстро не заключат. <…>
Г-н д’Афри приехал ко мне в «Английский парламент» и, не застав меня, оставил записку с просьбой его навестить – он желал сообщить мне нечто важное. Я пришел, пообедал и узнал из послания, полученного им от г-на де Булоня, что он может предоставить в мое распоряжение двадцать миллионов только из расчета восьми процентов убытка, ибо мир вот-вот будет заключен. Посол посмеялся над этим, и я тоже. Он посоветовал мне не доверяться жидам, самый честный из которых всего лишь мелкий плут, и предложил рекомендательное письмо к Пелсу в Амстердам, каковое я с благодарностью принял; дабы помочь продать акции гетеборгской Индийской компании, он представил меня шведскому посланнику. Тот адресовал меня к г-ну Д. О. Я отправился на следующий день после праздника Иоанна Апостола[59] по причине собрания самых ревностных франк-масонов Голландии. <…>
Четыре или пять дней спустя г-н Д. О. сообщил мне, что они вместе с Пелсом и хозяевами шести других торговых домов порешили по поводу моих двадцати миллионов. Они предлагали десять миллионов наличными и семь ценными бумагами, то есть с уступкой в пять и шесть процентов, вместе с одним процентом комиссионных. Кроме того, они отказывались от миллиона двухсот тысяч флоринов, каковые французская Индийская компания должна была голландской. Я отправил копии этих предложений г-ну де Булоню и г-ну д’Афри, требуя скорого ответа. Неделю спустя г-н де Куртей прислал мне распоряжение г-на де Булоня; поелику сии условия их не устраивают, мне надлежало воротиться в Париж, ежели ничего более сделать не могу. И вновь мне твердили, что мир неминуемо заключат. <…>
Спустя неделю г-н Д. О. сказал свое последнее слово: Франция потеряет всего девять процентов при продаже двадцати миллионов при условии, что я не требую куртажа с покупателей. Я отправил с нарочным копии договора г-ну д’Афри, умоляя переслать их за мой счет генеральному контролеру вместе с письмом, где пригрозил, что дело сорвется, ежели он хоть на день позже представит г-ну д’Афри право дозволить мне заключить сделку. С той же страстью убеждал я г-на де Куртея и г-на герцога, уведомив, что ничего не выгадаю, но все одно заключу договор, уверенный, что мне возместят расходы и не откажут в Версале в моих законных комиссионных. <…>
Через десять-двенадцать дней после отправки ультиматума я получил письмо от г-на де Булоня, сообщавшего, что посол получил все необходимое для заключения сделки, и тот со своей стороны все подтвердил. Он напоминал, чтобы я принял все меры предосторожности: королевские процентные бумаги он выдаст, только получив восемнадцать миллионов двести тысяч франков звонкой монетой.
<…> Наутро мы покончили с послом все дела. <…>
Десятого числа февраля воротился я в Париж и снял себе прекрасную квартиру на улице Контес-д’Артуа неподалеку от улицы Монторгей. <…>
Первый визит нанес я своему покровителю[60], где застал большое общество; увидал я и посла венецианского, каковой сделал вид, будто меня не узнал.
– Давно ли вы приехали в Париж? – спросил министр, протягивая руку.
– Только что вышел из почтовой коляски.
– Так отправляйтесь в Версаль, там сейчас герцог де Шуазель и генеральный контролер. Вы показали чудеса – пусть теперь вами восхищаются. Потом возвращайтесь ко мне. Скажите г-ну герцогу, что я отправил Вольтеру королевскую грамоту, жалующую его званием палатного дворянина.
В Версаль в полдень не ездят, но так говорили тогда министры, когда они жили в Париже. Как будто Версаль тут, за углом. Я отправился к госпоже д’Юрфе.
Первые слова ее были, что Дух уведомил ее, что сегодня она меня увидит.
– Вчера Корнеман сказал мне, что вы совершили невозможное. Я уверена, что вы сами учли эти двадцать миллионов. Фондовые ценности поднялись, на будущей неделе в обороте будет, по меньшей мере, сто миллионов. Простите, что я осмелилась преподнести вам двенадцать тысяч франков. Это нищенское вспомоществование.
Говорят, что он был литератором, но вместе с тем обладал коварным умом, что он бывал в Англии и Франции и извлекал непозволительные выгоды из знакомства с кавалерами и дамами, ибо он имел привычку жить на счет других и пленять доверчивых людей… Подружившись с означенным Казановой, в нем не трудно обнаружить устрашающую смесь неверия, лживости, безнравственности и сладострастия.
Тайное донесение в Венецианскую инквизициюНе было надобности ее разубеждать Она велела сказать привратнику, что ее ни для кого нет, и мы повели разговор. Она задрожала от радости, когда я между прочим обмолвился, что привез с собою мальчика лет пятнадцати[61] и хочу отдать его в лучший парижский пансион.
– Я помещу его к Виару, там учатся мои племянники, – сказала она. – Как его зовут? Где он? Я знаю, что это за мальчик. Мне не терпится его увидеть. Почему вы не остановились с ним у меня?
– Я представлю вам его послезавтра, ибо завтра я буду в Версале.
– Он говорит по-французски? Пока я буду улаживать дела с пансионом, он обязательно должен жить у меня.
– Об этом мы поговорим послезавтра.
Зайдя в контору, где все было в полном порядке, я направился в Итальянскую комедию. <…>
Рано утром поехал я в Версаль. Г-н герцог де Шуазель принял меня, как и в прошлый раз: его причесывали, он писал. На сей раз он отложил перо. Холодно поздравив меня, он сказал, что если я смогу добиться займа в сто миллионов флоринов из четырех процентов, то получу дворянство. Я отвечал, что поразмыслю над этим, как только увижу, каково будет вознаграждение за все, что я уже совершил.
– Все говорят, что вы заработали двести тысяч флоринов.
– Все это лишь разговоры, ничего точного. Я имею право на комиссионные.
– Хорошо. Идите объясняйтесь с генеральным контролером.
Г-н де Булонь прервал работу и радушно встретил меня, но когда я сказал, что он должен мне сто тысяч флоринов, только улыбнулся.
– Я знаю, – сказал он, – что вы привезли вексель на сто тысяч экю.
– Ваша правда, но никакого отношения к этим делам он не имеет. Тут и говорить нечего. Я могу сослаться на г-на д’Афри. У меня есть верный проект, как увеличить королевские доходы на двадцать миллионов, и так, чтобы никто не стал жаловаться.
– Осуществите его, и я добьюсь, чтобы король пожаловал вам пенсию в сто тысяч франков и дворянские грамоты, если вы захотите принять французское подданство. <…>
Приехав к г-же д’Юрфе, обнаружил я своего приемного сына в ее объятиях. Она изо всех сил принялась извиняться, что похитила его, и я все обратил в шутку. Я сказал мальчику, что он должен относиться к г-же маркизе как к своей повелительнице и открыть ей сердце. Она заявила, что уложила было его с собой, но впредь ей придется лишить себя этого удовольствия, коли он не даст обещания вести себя примерно. Я восхитился, юнец покраснел и попросил объяснить ему, чем он провинился.
Маркиза сказала, что с нами будет обедать Сен-Жермен, – она знала, что чернокнижник сей забавляет меня. Он пришел, сел за стол – как всегда, не есть, а резонировать. Без зазрения совести рассказывал он самые невероятные вещи, делая вид, что сам в них верит, он утверждал, что сам был свидетелем тому-то и тому-то, или что играл главную роль; но когда он сказал, что обедал с членами Тридентского собора, я прыснул со смеху.
Госпожа д’Юрфе носила на шее большой магнит, оправленный в железо. Она уверяла, что рано или поздно он притянет молнию и так она вознесется к солнцу.
– Несомненно, – отвечал плут, – но я один в мире могу тысячекратно усилить притяжение магнита в сравнении с тем, что могут заурядные физики.
Я холодно возразил, что готов поставить двадцать тысяч экю, что он не сможет удвоить силы даже магнита, что на шее у хозяйки. Маркиза не дозволила ему принять пари, а потом наедине сказала мне, что я бы проиграл, поелику Сен-Жермен – чародей. Я был вынужден согласиться.
Несколько дней спустя мнимый этот чародей отбыл в королевский замок Шамбор, где король предоставил ему жилье и сто тысяч франков, дабы он мог без помех работать над красителями, что могли бы способствовать процветанию всех суконных фабрик Франции. Он покорил государя, оборудовав в Трианоне лабораторию, немало его забавлявшую, – король, к несчастью, скучал везде, кроме охоты. Алхимика представила ему маркиза де Помпадур, дабы приохотить его к химии; после того как Сен-Жермен подарил ей молодильную воду, она верила ему без оглядки. Эта чудодейственная вода, коей надобно было пользоваться строго по его предписанию, молодость вернуть не могла, – сей правдолюбец соглашался, что это невозможно, – но могла уберечь от старости, сохранив пользующегося ею на века in status quo[62]. Маркиза уверяла монарха, будто и вправду чувствует, что не стареет.
Король показал как-то герцогу де Депону алмаз чистейшей воды весом в двенадцать каратов, который носил на пальце: он верил, что собственноручно изготовил его, посвященный в таинства обманщиком. Он уверял герцога, что расплавил двадцать четыре карата мелких бриллиантов, которые соединились в один, но после огранки алмаз стал двенадцати каратов. Уверовав в учение алхимика, он отвел ему в Шамборе те самые покои, что всю жизнь отводил славному маршалу Саксонскому. Историю эту я сам слышал из уст герцога, когда имел честь отужинать с ним и шведским графом Левенхупом в Меце, в трактире «Король Дагобер».
Перед тем как покинуть госпожу д’Юрфе, я шепнул ей, что, как знать? – возможно, именно в этом мальчике ей суждено возродиться, но она все испортит, если не дождется его возмужания.
Она поместила его в пансион к Виару, дала всевозможных учителей и имя – Граф д’Аранда, хотя родился он в Барейте[63] и мать его слыхом не слыхала ни о каком испанце с таким именем. Я навестил его лишь три или четыре месяца спустя после его туда помещения. Я все боялся какого-нибудь досадного недоразумения из-за имени, которым наградила его духовидица без моего ведома. <…>
Решив снять загородный домик, я осмотрел многие и нашел подходящий в Малой Польше[64]. Был он превосходно обставлен и находился в ста шагах от заставы Мадлен, на горушке, рядом с «Королевской охотой», за садом герцога де Грамона. Владелец назвал его «Изысканной Варшавой». Там было два сада: один – на уровне второго этажа, там же располагались трое хозяйских покоев, конюшня на двадцать лошадей, бани, чудный винный погреб и большая кухня со всевозможной утварью. Хозяина дома звали «Король масла», и иначе он не подписывался. Сам Людовик XV прозвал его так, когда однажды, остановившись у него, отведал его масло и нашел его превосходным. Он сдал мне дом за сто луидоров в год и предоставил отменную кухарку по имени Лаперль, коей доверил мебель и посуду на шесть персон, уговорившись, что она будет выдавать ее, когда понадобится, по одному су за унцию. Он обещался также поставлять любые вина, какие мне будут угодны, – дешевле, чем в Париже, поелику закупал их за заставой, где все дешевле. Еще он обещал недорогого сена для лошадей, одним словом, всего, ибо жил я в пригороде и ввозную пошлину платить было не нужно.
За неделю или того меньше обзавелся я добрым кучером, двумя экипажами, пятью лошадьми, конюхами, двумя отличными лакеями, одетыми в ливреи. Госпожа д’Юрфе – ее я первую пригласил на обед – была очарована моим домом. Она решила, что все это ради нее, а я ее не разубеждал. Я также не спорил, когда она говорила, что малыш д’Аранда принадлежит Великому ордену, что он был рожден никому не известным способом, что он лишь на временном моем попечении и что ему суждено умереть и все же продолжить жить.
Все это было плодом ее фантазий, и я почитал за лучшее соглашаться со всеми ее умозаключениями, а она уверяла, что тайны ей открывает Дух, беседующий с ней по ночам. Я отвез ее домой и оставил наверху блаженства. <…>
Казанова рассказывает свои обманы с таким удовольствием, что, думается, им руководила здесь не одна только выгода Его занимала театральная обстановка магических операций, их комическая важность, их безудержная фантастичность.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Аббат де Берни, к коему ездил я с визитом раз в неделю, сказал мне как-то, что генеральный контролер[65] постоянно справляется обо мне, и я напрасно им пренебрегаю. Он посоветовал мне забыть свои претензии и поведать о том способе увеличения государственных доходов, что я когда-то упоминал. Высоко ценя человека, коему обязан был состоянием, я отправился к генеральному контролеру и, доверившись его порядочности, представил проект.
Речь шла о новом законе, который должен был утвердить Парламент, в силу чего все непрямые наследники отказались бы от доходов за первый год в пользу короля. Он распространялся бы и на дарственные, совершенные inter vivos[66], и не мог обидеть наследников – они могли себе вообразить, что завещатель умер годом позже. Министр сказал, что никаких сложностей с моим проектом не будет, убрал его в секретный портфель и уверил, что будущность моя обеспечена. Неделю спустя он ушел в отставку, а когда я представился его преемнику, г-ну Силуэту, тот холодно объявил, что, когда зайдет речь об издании закона, меня известят. Он вступил в силу два года спустя, и надо мной посмеялись, когда, объявив о своем авторстве, я заикнулся о правах. <…>
В ту пору г-же д’Юрфе пришла охота познакомиться с Жан-Жаком Руссо, и мы отправились к нему с визитом в Монморанси, прихватив ноты, которые он превосходно переписывал[67]. Ему платили вдвое больше, чем любому другому; притом он ручался, что у него не будет ошибок. Тем он и жил.
Мы увидали человека, который рассуждал здраво, держался просто и скромно, но ничто, ни внешность его, ни ум не поражали своеобычностью.
Особо учтивым его также было трудно назвать. Он показался нам не очень любезным, и этого было достаточно, чтобы г-жа д’Юрфе сочла его невежей. Видели мы и женщину, о которой уже были наслышаны. Но она едва на нас взглянула. Мы воротились в Париж, смеясь над странностями философа. Но вот точное описание визита, что нанес ему принц де Конти, отец нынешнего, которого звали в ту пору граф де Ла Марш.
Этот достойный принц нарочно является в Монморанси один, чтобы провести день в приятной беседе с философом, уже тогда знаменитым. Он находит его в парке, заводит разговор, изъясняет, что пришел к нему отобедать и провести целый день, поговорить вволю.
– Ваше высочество, только кушанья у меня самые простые; прикажу поставить еще один прибор.
Особо учтивым его также было трудно назвать. Он показался нам не очень любезным, и этого было достаточно, чтобы г-жа д’Юрфе сочла его невежей. Видели мы и женщину, о которой уже были наслышаны. Но она едва на нас взглянула. Мы воротились в Париж, смеясь над странностями философа. Но вот точное описание визита, что нанес ему принц де Конти, отец нынешнего, которого звали в ту пору граф де Ла Марш.
Этот достойный принц нарочно является в Монморанси один, чтобы провести день в приятной беседе с философом, уже тогда знаменитым. Он находит его в парке, заводит разговор, изъясняет, что пришел к нему отобедать и провести целый день, поговорить вволю.
– Ваше высочество, только кушанья у меня самые простые; прикажу поставить еще один прибор.
Он уходит, возвращается и, погуляв с принцем часа два-три, ведет его в гостиную, где должны были они отобедать. Принц видит на столе три прибора.
– Кто эта третья персона, что намереваетесь вы посадить за стол? – вопрошает он. – Я полагал, что мы будем обедать вдвоем.
– Ваше высочество, эта третья персона – мое второе я. Она не жена мне, не любовница, не служанка, не мать, не дочь, она – это мое все.
– Я верю вам, друг мой, но я пришел единственно, чтоб пообедать с вами, а посему оставляю вас наедине с вашим всем. Прощайте.
Вот какие глупости совершают философы, когда, желая быть оригинальными, чудят. Та женщина была м-ль Ле-Вассер, которую он удостоил чести носить свое имя – почти точную анаграмму ее собственного[68].
В те дни стал я свидетелем провала одной французской комедии под названием «Дочь Аристида». Автором ее была г-жа де Графиньи. Достойная сия женщина с горя скончалась через пять дней после провала. Аббат Вуазенон был донельзя опечален: именно он побудил ее представить пьесу на суд публики и, возможно, даже помогал в написании ее, равно как и «Перуанских писем» и «Сени». <…>
Образ жизни, что я вел, сделал Малую Польшу местом известным. Рассказы о блюдах, кои там подавались, передавались из уст в уста. В темном помещении откармливали цыплят рисом: они были белее снега и нежнейшего вкуса. К изысканной французской кухне добавлял я блюда, коими славна была Европа. О макаронах с соусом, пилао[69], ризотто и олья подрида[70] ходили легенды. Я с тщанием выбирал общество, для коего устраивал изысканные ужины, и гостям моим было очевидно, что мое удовольствие целиком и полностью зависит от того, насколько получали удовольствие они. По утрам в моих садах прогуливались самые изысканные и достойные дамы и неопытные юнцы, не осмеливающиеся с ними заговорить; я делал вид, что их не замечаю. Я угощал их свежими яйцами и маслом, качеством превосходящим Вамбр[71]. В довершение всего подавался мараскин Зара[72], лучше коего нигде невозможно было сыскать. <…>
Зачарованный подобной жизнью и нуждаясь для поддержания ее в ста тысячах ливров ренты, я частенько ломал голову над тем, как упрочить свое положение. Один прожектер, с коим свел я знакомство у Кальзабиджи, показался мне посланным небесами, коим было угодно, чтобы обеспечен мне был доход даже свыше моих желаний. Он поведал, какие баснословные барыши приносят шелковые мануфактуры и чего может добиться состоятельный человек, коли рискнет завести фабрику набивных шелковых тканей на манер пекинских. Он доказал мне, что шелка наши отменные, краски яркие, рисовальщики искуснее азиатов и на этом можно заработать немало. Он убедил меня, что, если запросить за ткани, что красивей китайских, цену на треть меньшую, они пойдут в Европе нарасхват, а хозяин дела, несмотря на дешевизну, все равно заработает сто к ста. Он изрядно меня заинтересовал, сказав, что сам рисовальщик и художник и готов показать образцы, плоды своих трудов. Я предложил ему прийти назавтра ко мне обедать, захватив образцы: сперва посмотрим их, потом поговорим о деле. Он пришел, я взглянул – и был поражен. Меня заворожил рисунок и красота цветов, а еще – что материал тот был устойчив к дождю. Золотая и серебряная листва превосходила красотой китайский шелк, что так дорого продавался в Париже и за его пределами. Я заключил, что дело это нетрудное: ежели приложить рисунок к ткани, то мастерицам, коих я найму и буду оплачивать поденно, останется только раскрашивать, как им объяснят, и изготовят они столько штук, сколько я захочу, в зависимости от их числа.
Идея стать хозяином мануфактуры пришлась мне по душе. Я был доволен, что подобный способ обогащения будет одобрен правительством. Но я все же решил ничего не предпринимать, не узнав всего как следует, не рассчитав доходов и расходов и не заручившись помощью верных людей, на коих мог бы я всецело положиться; тогда мне самому придется лишь присматривать за всем и следить, чтобы каждый был при деле.
Я предложил своему знакомцу пожить у меня недельку. Мне хотелось, чтоб он при мне рисовал и раскрашивал ткани всех цветов. Пребыстро со всем управившись и оставив мне все образцы, сказал он, что если я сомневаюсь в стойкости красок, то могу их как угодно испытывать. Образчики эти я пять или шесть дней кряду носил в карманах, и все знакомые восхищались их красотой и моим проектом. Я решился завести мануфактуру и спросил совета у моего знакомца, который должен был стать управляющим.
Решив снять дом в черте Тампля[73], я нанес визит принцу де Конти, который, горячо одобрив мое предприятие, обещал протекцию и всяческие послабления, каких я только мог желать. В доме, что я снял всего за тысячу экю в год, была большая зала, где должны были трудиться работницы, занимаясь каждая своим делом. Другую залу я отвел под склад, а прочие – под жилье для старших служащих и свое собственное, если вдруг придет мне охота там жить.
Я поделил дело на тридцать паев, из коих пять отдал художнику-рисовальщику, будущему управляющему, двадцать пять оставил за собой, дабы переуступить компаньонам в зависимости от их вкладов. Один пай пошел врачу, что поручился за складского сторожа, переехавшего в особняк со всем своим семейством, а сам я нанял четырех лакеев, двух служанок и привратника. Пришлось отдать еще один пай счетоводу, тот привел двух конторщиков; он также поселился в особняке. Я управился со всем этим меньше чем в три недели; многочисленные столяры сколачивали шкафы для склада и все прочее для разных работ в большой зале. Управляющему предоставил я найти двадцать красильщиц, коим должен был платить по субботам; завез на склад двести-триста штук прочной тафты, турского шелка и камлота белого, желтого и зеленого, дабы наносить на них рисунок; отобрал я их сам и платил за все наличными.
Мы с управляющим подсчитали, что ежели сбыт наладится только через год, то надобно сто тысяч экю; у меня они были. Я всегда мог продать паи по двадцать тысяч франков, но надеялся, что этого делать не придется, ибо рассчитывал на двести тысяч ренты.
Мне было ведомо, что, ежели сбыта не случится, я разорюсь; но бояться мне было не к лицу, ибо видел я, сколь хороши ткани, да и все мне повторяли, что не должно отдавать их задешево. На дом менее чем в месяц ушло около шестидесяти тысяч, и каждую неделю мне надлежало выкладывать еще тысячу двести. Г-жа д’Юрфе посмеивалась, полагая, что все это я делаю, чтобы пустить всем пыль в глаза, притом что цель моя – сохранить свое инкогнито. Изрядно порадовал меня, – а должен был скорее напугать, – вид двадцати девиц всех возрастов, от восемнадцати до двадцати пяти лет, скромниц, по большей части хорошеньких, внимавших художнику, обучавшему их хитростям ремесла. Самые дорогие стоили мне всего двадцать четыре су в день, и все слыли честными; их отбирала благочестивая жена управляющего, и я охотно доставил ей эту заботу, будучи уверен, что, случись мне в будущем возжелать одну из них, она станет мне сообщницей. <…>
Дальнейшие похождения Казановы
Казанова достиг апогея своей судьбы, но не смог на нем удержаться. Он плохо управлял своими делами, влез в долги и потратил бо́льшую часть своего состояния на беспрерывные связи с работницами своей мануфактуры: заводя связь с одной из них, при расставании он дарил ей домик, при этом каждая следующая «жертва» уже знала о полагающемся ей вознаграждении, а поскольку работниц было числом тридцать, Казанова разорился и за долги был снова арестован. На этот раз он был заключен в тюрьму Форлевек, но был освобожден из нее спустя четыре дня благодаря заступничеству маркизы д’Юрфе. К несчастью Джакомо, его покровитель де Берни к тому времени был уволен Людовиком XV, и враги Казановы стали преследовать его. Стремясь отдалиться от этих неприятностей, Казанова продал остатки своего имущества и добился второй поездки со шпионскими целями в Голландию, куда и отбыл в 1759 году.
Однако на этот раз его миссия провалилась, и он бежал в Кёльн, а затем (весной 1760 года) в Штутгарт, где удача окончательно отвернулась от него. Он был вновь арестован за долги, но смог сбежать в Швейцарию.
Устав от своей распутной жизни, Казанова посетил монастырь в Айнзидельне, где задумался о возможности изменить свою жизнь и стать скромным монахом. Он вернулся в гостиницу, чтобы поразмышлять о своих намерениях, но там встретил новый объект вожделения, и все его благие помыслы о монашеской жизни тотчас испарились.
Продолжив странствия по Швейцарии, он посетил Вольтера.
Глава 3 Швейцария
…Мы отправились к г-ну Вольтеру, и приезд наш пришелся на тот момент, когда он выходил из-за стола. Он был окружен дамами и кавалерами, а потому появление мое получилось весьма торжественным. Впрочем, в доме Вольтера эта торжественность мне отнюдь не навредила.
– Это самый счастливый момент моей жизни, – сказал я ему. – Наконец я вижу вас, дорогой мой учитель: вот уже двенадцать лет, сударь, как я ваш верный почитатель.
– Почитайте меня еще двадцать. А потом соблаговолите привезти мне мое жалование.
– Обещаю, а вы обещайте дождаться меня.
– Даю вам слово, и я скорей с жизнью расстанусь, чем его нарушу.
Общий смех одобрил первую остроту Вольтера. Так всегда бывает. Насмешники поддерживают одного в ущерб другому, и тот, за кого они, всегда уверен в победе. В этом почтеннейшем обществе так оно и было. Я не был тем удивлен и не терял надежды отыграться. И вот Вольтеру представляют двух только что прибывших англичан. Он встает со словами:
– Вот господа из Англии, а я желал бы быть англичанином.
Дурной комплимент, ибо он понуждал их отвечать, что они желали бы быть французами, а им, может статься, не хотелось лгать или недоставало совести сказать правду. Благородному человеку, как мне кажется, дозволительно ставить свою нацию выше других.
Едва сев, он вновь меня поддел, чрезвычайно вежливо заметив, что, будучи венецианцем, я должен, конечно, знать графа Альгаротти[74].
– Я знаю его, но не как венецианец, ибо семеро из восьми дорогих моих соотечественников и не ведают о его существовании.
– Я должен был сказать – как литератор.
– Я знаю его: мы провели с ним два месяца в Падуе семь лет назад, и я проникся к нему почтением по большей части оттого, что он – ваш почитатель.
– Мы с ним добрые друзья, но, чтобы заслужить всеобщее уважение, ему нет нужды быть чьим-либо почитателем.
– Не начни он с почитания, он не прославился бы. Будучи почитателем Ньютона, он научил дам беседовать о свете.
– И в самом деле, научил?
– Не так, как г-н Фонтенель в своей книге «Множественность миров», но все-таки можно сказать, что научил.
– Спорить не стану. Если встретите его в Болонье, не сочтите за труд передать, что я жду его «Писем о России»[75]. Он может переслать их посредством миланского банкира Бианки. Мне говорили, что итальянцам не нравится его язык.
– Еще бы. Он пишет не на итальянском, а на каком-то особом, своем языке, зараженном галлицизмами; без слез читать невозможно.
– Но разве французские обороты не украшают ваш язык?
– Они делают его невыносимым, каким был бы французский, нашпигованный итальянскими выражениями, даже если б на нем писали вы.
– Вы правы, надобно блюсти чистоту языка. Порицали же Тита Ливия[76], уверяя, что его латынь отдает падуанским наречием.
– Аббат Ладзарини говорил мне, когда я учился писать, что предпочитает Тита Ливия Саллюстию[77].
– Аббат Ладзарини, автор трагедии «Юный Улисс»? Вы, верно, были тогда совсем ребенком! Как бы я хотел свести с ним знакомство; но я близко знал аббата Конти, что был другом Ньютона, – четыре его трагедии охватывают всю римскую историю.
– Я тоже знал и почитал его. Оказавшись в обществе сих великих мужей, я радовался, что молод; нынче, встретившись с вами, мне кажется, что я родился только вчера, но это меня не унижает. Я хотел бы быть младшим братом всему человечеству.
– Вам бы больше понравилось быть патриархом. Осмелюсь спросить, какой род литературы вы избрали?
– Никакой, но время терпит. Пока я вволю читаю и не без удовольствия изучаю человеческую сущность, путешествуя.
– Это недурной способ узнать ее, но книги слишком многословны. Легче достичь той же цели, читая историю.
– Она вводит в заблуждение, искажает факты, нагоняет тоску. Гораздо приятнее исследовать мир, путешествуя. Гораций, коего я знаю наизусть, – мой проводник, я нахожу его повсюду.
– Альгаротти тоже знает его назубок. Вы, верно, любите поэзию?
– Это моя страсть.
– Вы сочинили много сонетов?
– Десять или двенадцать, которые мне нравятся, и еще две или три тысячи, которые я, по правде говоря, и не перечитывал.
– В Италии все без ума от сонетов.
– Да, если считать безумным желание придать любой мысли гармонический строй, способный выставить ее в благоприятном свете. Сонет труден, господин де Вольтер, ибо не дозволено ни продолжить мысль сверх четырнадцати стихов, ни сократить ее.
– Это прокрустово ложе. Потому так мало у вас хороших сонетов. У нас нет ни одного, но тому виной наш язык.
– И гений французской мысли, ибо ему ведомо, что мысль растянутая теряет силу свою и блеск.
– Вы иного мнения?
– Простите. Смотря какая мысль. Острого словца, к примеру, недостаточно для сонета.
– Кого из итальянских поэтов вы более всех любите?
– Ариосто[78]. Я не могу сказать, что люблю его более других, ибо люблю его одного. Но читал я всех. Когда пятнадцать лет назад прочел я, как дурно вы о нем отзываетесь, сразу сказал, что вы откажетесь от своих слов, едва его прочтете.
– Спасибо, что решили, будто я его не читал. Я читал, но был молод, мало знал ваш язык и, будучи предубежден итальянскими учеными мужами, почитателями Тассо, имел несчастье напечатать суждение, которое искренне почитал своим. Но это было не так. Я обожаю вашего Ариосто.
– Я вздыхаю с облегчением. Так предайте огню книгу, где вы выставили его на посмешище.
– Уже все мои книги предавались огню; но сейчас я покажу вам хороший образчик, каким образом можно отказаться от своих слов.
И тут Вольтер меня поразил. Он прочел наизусть два больших отрывка из тридцать четвертой и тридцать пятой песен сего божественного поэта, где повествуется о беседе Астольфа с апостолом Иоанном, – не опустив ни единого стиха, ни в одном слове не нарушив просодию; он открыл передо мной их красоты с гениальностью истинно великого человека. Ни один из итальянских толкователей не смог бы явить ничего более величественного.
Я слушал его не дыша, ни разу не моргнув, тщетно надеясь найти ошибку; оборотившись ко всем, я сказал, что я вне себя от удивления, что вся Италия узнает о моем искреннем восхищении.
– Вся Европа узнает от меня самого, – сказал он, – что покорнейше винюсь перед величайшим гением, какого она породила.
Жадный на хвалу, он дал мне на другой день свой перевод стансов Ариосто «Что случается меж князьями и государями». Вот он:
Попы и кесари, как им наскучит драться, Святым крестом клянясь, торопятся брататься, А час пройдет – гляди, опять друг друга мнут. Их клятвам краток век, лишь несколько минут. Их уверенья – ложь, нет веры их обетам, Божатся их уста, да сердце лжет при этом. Свидетелей-Богов их не смущает взгляд. Они лишь выгоду свою как Бога чтят[79].После чтения, снискавшего г-ну де Вольтеру рукоплескания всех присутствовавших, хотя ни один из них не разумел по-итальянски, г-жа Дени, его племянница, спросила меня, согласен ли я, что тот большой отрывок, что прочел дядя, – один из самых прекрасных у великого поэта.
– Да, сударыня, но не самый прекрасный.
– Значит, известен самый прекрасный?
– Разумеется, иначе синьора Лудовико не стали бы обожествлять.
– Так, значит, его причислили к лику святых, а я и не знала.
Тут все засмеялись, и Вольтер первый; я же сохранял серьезный вид. Уязвленный моей серьезностью, Вольтер произнес:
– Я знаю, отчего вы не смеетесь. Вы считаете, что его прозвали божественным из-за одного отрывка, недоступного смертным.
– Именно.
– Так откуда он?
– Тридцать шесть последних строф двадцать третьей песни, где описывается механика того, как Роланд сходит с ума. Покуда существует мир, никто не узнал, как сходят с ума, за выключением Ариосто, каковой сумел это записать, а к концу жизни сам сделался сумасшедшим. Эти строфы, я уверен, заставили вас содрогнуться, они внушают ужас.
– Припоминаю, они показывают, сколь устрашающа любовь. Мне не терпится перечесть их.
– Быть может, г-н Казанова любезно согласится прочесть их, – сказала Дени, хитро взглянув на дядю.
– Отчего бы нет, сударыня, если вы соблаговолите меня выслушать.
– Так вы взяли труд выучить их наизусть?
– Поелику я читаю Ариосто два или три раза в год с пятнадцатилетнего возраста, он отложился у меня в памяти без малейшего труда, можно сказать, помимо моей воли, за выключением генеалогии и исторических рассуждении, утомляющих ум и не трогающих сердце. Один Гораций остался в моей душе без изъятий, хотя в «Посланиях» многие стихи излишне прозаичны.
– Гораций куда ни шло, – вступил Вольтер, – но Ариосто – это слишком, ведь там сорок шесть больших песен.
– А если точнее – пятьдесят одна.
Вольтер потерял дар речи.
– Читайте же, – воскликнула Дени, – те тридцать шесть строф, что внушают трепет и заслужили автору титул божественного.
Тут я прочел их, но не так, как принято у нас в Италии. Чтобы слушатели оценили Ариосто, совсем необязательно напевать его строфы тем монотонным голосом, коим представляют его наши декламаторы. Французы справедливо находят сей напев несносным. Я прочел их, как если б то была проза, оживляя их голосом, глазами, меняя тон, чтоб выразить нужное чувство. Все видели и чувствовали, как сдерживаю я рыдания, и плакали, но когда я дошел до строфы:
Poich allargare il freno al dolor puote Che resta solo senza altrui rispetto Gi dagli occhi rigando per le gote Sparge un fiume di lacrime sul petto[80].– слезы выступили у меня на глазах столь явно и полились так обильно, что все кругом прослезились, г-жа Дени затрепетала, а Вольтер бросился мне на шею; но он не мог прервать меня, ибо Роланд, дабы окончательно обезуметь, должен был заметить, что лежит на том самом ложе, где некогда Анжелика, обнаженная, оказалась в объятиях счастливого сверх меры Медора, о чем говорилось в следующей строфе. Уже не жалоба и печаль звучали в моем голосе, но ужас, порожденный неистовством, что вкупе с его чудной силой содеяли разрушения, кои под силу только землетрясению или молнии. После чтения принимал я с печальным видом всеобщие похвалы.
Унаследовав от отца и матери актерские способности, он весь мир превращает в сцену и Европу в кулисы; шарлатанить, ослеплять, одурачивать и водить за нос для него, как некогда для Уленшпигеля, является естественным отправлением; он не мог бы жить без радостей карнавала, без маски и шуток.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»Вольтер вскричал:
– Я всегда говорил: хотите, чтобы все плакали, плачьте, но, чтобы плакать, надобно чувствовать, и тогда слезы польются прямо из сердца.
Он меня обнимал, благодарил, обещал завтра прочесть мне те же строфы и так же плакать. Он сдержал слово.
Продолжая разговор об Ариосто, г-жа Дени удивилась, как в Риме не занесли его в Индекс[81]. Вольтер возразил, что, напротив, Лев Х в своей булле отлучил от церкви тех, кто посмеет его осудить. Могущественные семьи Эсте и Медичи поддерживали его:
– Иначе, – добавил он, – одного стиха о дарственной, по которой Константин отдал Рим Сильвестру, где говорится, что он puzza forte[82], достало бы для запрещения поэмы.
Я сказал, извинившись, что еще больше возмущения вызвал стих, где Ариосто выражает сомнение, что род людской воскреснет после конца света.
– Ариосто, – продолжал я, рассказывая об отшельнике, каковой досаждал Африканцу, желая помешать Родомонту овладеть Изабеллой, вдовой Зербина, – пишет, что Африканец, устав от наставлений, хватает его и швыряет так далеко, что тот врезается в скалу и остается лежать мертвым, столь усыпленный, Che al novissimo di forse fia desto[83].
Вот это forse[84], что поэт вставил как риторическое украшение, вызвало возмущенные крики, которые, должно быть, немало посмешили автора.
– Жаль, – сказала Дени, – что Ариосто не мог обойтись без сих гипербол.
– Помолчите, племянница, все они уместны и без сомнения красивы.
Мы рассуждали о прочих материях, все больше литературных, и, наконец, разговор зашел о «Шотландке», что играли в Золотурне[85]. Здесь знали обо всем. Вольтер сказал, что если я не прочь играть у него, то он напишет г-ну де Шавиньи, чтобы тот разрешил г-же[86] приехать играть Линдану, а сам он возьмет роль Монроза. Я поблагодарил, сказав, что госпожа нынче в Базеле и к тому же я завтра должен ехать. Тут он стал громко сердиться, смутив тем общество, и объявил, что я нанесу ему оскорбление, если не останусь хотя бы на неделю. Я ответствовал, что приехал из Женевы единственно ради него, других дел у меня нет.
– Вы явились говорить со мной или меня слушать?
– Главным образом, слушать вас.
– Так побудьте хотя дня три, приходите непременно обедать, и мы поговорим.
Я обещал и, откланявшись, отправился в гостиницу, ибо мне надобно было написать много писем.
Через четверть часа городской синдик[87], чье имя я здесь называть не стану, и каковой провел весь день у Вольтера, зашел просить меня отужинать с ним.
– Я присутствовал, – сказал он, – при вашем споре с великим человеком, но вступать не стал. Мне бы хотелось побеседовать с вами часок без помех.
Я обнял его и, извинившись, что он застал меня в ночном колпаке, сказал, что он волен провести со мной хоть всю ночь.
Милейший этот человек пробыл у меня два часа, не сказав ни слова о литературе, но и без того понравился мне. Он был большой почитатель и последователь Эпикура и Сократа; история за историей, смеемся вволю, беседуем об утехах, какие можно доставить себе, живя в Женеве, – так провели мы время до полуночи. Расставаясь, он пригласил отужинать у него завтра, уверяя, что ужин будет веселый. Я обещал ждать его в моей гостинице. Он просил никому не говорить о нашей вечеринке.
Утром юный Фокс зашел ко мне в комнату с двумя англичанами, которых я видел у г-на де Вольтера. Они предложили составить партию в пятнадцать, по два луидора, и я, проиграв меньше чем за час полсотни, бросил карты. Мы пошли осматривать Женеву, а к обеду прибыли в Делис[88]. Туда как раз приехал герцог де Виллар – показаться доктору Троншену, тому, что десять лет сберегал его жизнь своим искусством врачевания.
За обедом я молчал, но потом Вольтер вовлек меня в разговор о венецианском правлении, предполагая, что я должен быть им недоволен; я обманул его ожидания. Я тщетно пытался доказать, что нет на земле страны, где можно наслаждаться большей свободой. Увидав, что предмет сей мне не по нраву, он повел меня в сад, который, как он сказал, разбил сам. Главная аллея оканчивалась у источника, и он сказал, что здесь берет начало Рона, кою он ниспосылает Франции. Он дал мне полюбоваться прекрасным видом на Женеву и на гору Белый Зуб, выше которой в Альпах нет[89].
Поменяв тему и заговорив об итальянской литературе, понес он всякий вздор с выражением лица важным и ученым, всякий раз делая нелепые выводы. Я в разговор не вступал. Он рассуждал о Гомере, Данте и Петрарке, а всем известно, что думает он о сих великих гениях[90]. <…> Я не сказал ничего, лишь заметил, что, если б сии творцы не снискали уважения у всех, кто их читал, их не вознесли бы на ту высоту, какую они занимают.
Герцог де Виллар и славный врач Троншен присоединились к нам. Троншен, красивый, высокий, хорошо сложенный, обходительный, красноречивый, но не болтун, отменный физик, светлая голова, врач, любимый ученик Буграве, не перенявший ни ученый жаргон, ни шарлатанство столпов медицины, очаровал меня. Лечил он по преимуществу диетой, но, чтоб пользовать ею, надобно быть философом. Это он исцелил от венериной болезни одного чахоточного, давая ему молоко ослицы, которой перед сим произвели тридцать ртутных растираний четверо здоровенных крючников. Я пишу с чужих слов и сам с трудом в это верю.
Персона герцога де Виллара заняла внимание мое без остатка. Увидав лицо его и фигуру, я было подумал, что предо мной женщина лет семидесяти, одетая мужчиной, худая, иссохшая, изможденная, что в молодости могла вполне быть красавицей. Щеки, в красных прожилках, нарумянены, губы крашены кармином, брови – сурьмою, зубы искусственные, как и волосы, что прилеплены были крепко к голове сильным воском, а большой букет в верхней бутоньерке доходил до подбородка. Манеры жеманные, голос до того сладкий, что не всякий раз было ясно, что он говорит. При всем том был он обходителен, любезен и церемонен, словно во времена Регентства.
Мне говорили, что в молодости он любил женщин, а в старости предпочел удовольствоваться скромной ролью женщины для трех или четырех красавцев, состоявших у него на службе и по очереди наслаждавшихся высокой честью спать с ним. Герцог сей был губернатором Прованса. Вся спина его была в язвах, и, согласно законам природы, вот уже десять лет как должен был он скончаться, но Троншен посредством особой диеты продлил его жизнь, питая язвы, которые иначе отмерли бы и унесли с собой герцога. Вот что значит мастерство.
Я проводил Вольтера в спальню, где он переменил парик и шапку, что всегда носил, остерегаясь простуды. Я увидал на большом столе «Сумму теологии» Фомы Аквинского и итальянских поэтов и среди них «Украденное ведро» Тассони.
– Это, – сказал он, – единственная трагикомическая поэма, написанная когда-либо в Италии. Тассони был монах, ученый, остроумец и талантливый поэт.
– Все верно, кроме того, что он ученый, поелику, осмеивая систему Коперника, утверждал он, что она не объясняет ни лунные месяцы, ни затмения.
– Где допустил он подобную глупость?
– В своих «Академических рассуждениях».
– У меня нет их, но я раздобуду.
Он записал это название.
– Но Тассони, – продолжал он, – немало критиковал вашего Петрарку.
– И тем опорочил и вкус свой, и творения, подобно Муратори[91].
– А вот и он. Согласитесь, познания его безграничны.
– Est ubi peccat[92].
Он открыл одну дверь, и я увидал архив, почти сотню громадных связок.
– Это, – сказал он, – моя переписка. Тут почти пятьдесят тысяч писем, на которые я ответил.
– Остались ли копии ответов?
– По большей части. Этим занимается слуга, нарочно для того нанятый.
– Я знаю издателей, что дали бы немалые деньги, чтобы заполучить это сокровище.
– Берегитесь издателей, коли вздумаете предложить что-нибудь на суд публики, – ежели еще не начали.
– Начну, когда состарюсь.
И я привел к слову макаронический стих[93] Мерлина Кокаи.
– Что это?
– Строка из знаменитой поэмы в двадцать четыре песни.
– Знаменитой?
– Менее, чем она того заслуживает, но, чтобы оценить ее, надобно знать мантуанский диалект.
– Я пойму. Добудьте мне ее.
– Завтра я вам ее вручу.
– Буду премного вам обязан.
За нами пришли, увели нас из спальни, и два часа мы провели за общей беседой: великий поэт блистал, веселя своих гостей, и снискал шумные похвалы; хоть был он язвителен, а порою желчен, но, постоянно посмеиваясь, вызывал одобрительный смех. Жил он, ничего не скажешь, на широкую ногу, только у него одного хорошо и кормили. Было ему тогда шестьдесят шесть лет, и имел он сто двадцать тысяч ливров дохода.
Литераторы во Франции восемнадцатого века нередко становились промышленниками или филантропами, например, Вольтер или Бомарше.
Герман Кестен. Казанова»Сильно заблуждаются те, кто уверял и уверяют, будто он разбогател, обманывая книгопродавцев. А вот книгопродавцы, напротив, вечно обманывали его, за выключением Крамеров, коих он обогатил. Он дарил им свои сочинения, и потому они повсеместно расходились. Когда я там был, он подарил им «Принцессу Вавилонскую», прелестную сказку, каковую написал он в три дня.
Мой эпикуреец-синдик зашел за мной, как обещал, в «Весы». Он привел меня в дом, что по правую руку на соседней улице, поднимающейся в гору. Засим представил он меня трем девицам (две из них были сестрами), созданным для любви, хоть и не писаным красавицам. Ласковый, учтивый прием, умные лица, искренне веселый вид. Полчаса перед ужином прошли в разговорах благопристойных, хотя и вольных, но за ужином синдик задал такой тон беседе, что я понял, что случится потом. Под предлогом изрядной жары мы, дабы насладиться прохладой, зная наперед, что нас никто не потревожит, разделись почти до природного нашего состояния. У меня не было причины не последовать примеру всех четверых. Какая оргия! Столь бурно мы веселились, что, продекламировав «Игрек»[94] Грекура, я почел своим долгом растолковать каждой девице в свой черед, в чем смысл наставления: «Gaudeant bene nati»[95].
Он не только бежал за всеми женщинами, каждой второй залезая под юбку, вставая со стула, чтобы увидеть в вырезе обнаженные груди, но и все его знакомые и друзья сводничали для него.
Герман Кестен. «Казанова»Я видел, что синдик гордится подарком, что преподнес в моем лице трем девицам, – как я приметил, те, видно, с ним беспрестанно постились, ведь вожделел он только в уме. То же чувство благодарности принудило их в час пополуночи помочь мне кончить, в чем я воистину испытывал нужду. Я целовал по очереди шесть прекрасных ручек, снизошедших до сего дела, унизительного для всякой женщины, что создана для любви, но не может исполнить свою роль в разыгранном нами фарсе: ведь, любезно согласившись пощадить их, я, подбадриваемый сластолюбивым синдиком, оказал им ответную любезность. Они без конца меня благодарили и донельзя обрадовались, когда синдик пригласил меня прийти завтра.
Но я и сам тысячекратно изъявил свою признательность, когда тот проводил меня обратно. Он сказал, что самолично воспитал всех трех девиц и что я первый мужчина, с которым он их познакомил. Он просил меня по-прежнему соблюдать осторожность, дабы они не забеременели: несчастье сие будет для него губительным в столь строгом и щепетильном в этом отношении городе, как Женева.
Утром написал я г-ну де Вольтеру послание белыми стихами, кои потребовали от меня более сил, чем если б они были рифмованные. Я отправил их ему вместе с поэмой Теофило Фоленго[96] и совершил тем самым ошибку: я должен был предугадать, что она ему не понравится. Затем я сошел вниз, к г-ну Фоксу, куда пришли два англичанина и предложили мне отыграться. Я спустил сто луидоров. После обеда они уехали в Лозанну.
Поелику синдик поведал мне, что девицы небогаты, я пошел к ювелиру, дабы расплавить шесть золотых дублонов, из коих сделать три шарика, по две унции каждый. Я уже знал, как поднесу их им, ничуть не обидев.
В любви он не был счастливым баловнем, случайным дилетантом. К сближению с женщинами он относился так, как серьезный и прилежный художник относится к своему искусству. Мудрено ли, что ему удавалось достигнуть иногда высокого совершенства.
П. П. Муратов. «Образы Италии»В полдень я пошел к г-ну де Вольтеру, он никого не принимал, но г-жа Денни меня утешила. Она была умна, начитанна, был у нее вкус, но без заносчивости; и она была заклятый враг прусского короля. <…> Она просила меня рассказать, как я бежал из тюрьмы, и я обещал исполнить ее желание в другой день.
Г-н де Вольтер к столу не вышел. Он появился только к пяти, держа в руке письмо.
– Знаете ли вы, – спросил он меня, – маркиза Альбергатти Капачелли[97], сенатора из Болоньи, и графа Парадизи?
– Парадизи не знаю, а г-на Альбергатти только в лицо и понаслышке, он не сенатор, а один из сорока, уроженец Болоньи, где их не сорок, а пятьдесят.
– Помилуйте! Что за головоломка?
– Вы с ним знакомы?
– Нет, но он прислал мне пьесы Гольдони, болонские колбасы, перевод моего «Танкреда» и намерен навестить меня.
– Он не приедет, он не так глуп.
– Не глуп? Ужели глупо ездить ко мне с визитами?
– Я говорю об Альбергатти. Он знает, что повредит во мнении, кое, быть может, вы составили о нем. Он уверен, что, если навестит вас, вы распознаете его ничтожество, и прощай иллюзии. Впрочем, он добрый дворянин с доходом в шесть тысяч цехинов и театральный поклонник. Он изрядный комедиант, сочинитель комедий в прозе, не способных рассмешить.
– Знатный титул. Но как это пятьдесят и сорок?
– Так же, как полдень в Базеле в одиннадцать[98].
– Понимаю. Как в вашем Совете Десяти семнадцать[99].
– Именно. Но проклятые сорок в Болонье – другое дело.
– Почему проклятые?
– Они не облагаются податями и посему вершат любые преступления, а потом покидают страну и живут себе на доходы.
– Это благодать, а не проклятие, но продолжим. Маркиз Альбергатти несомненно литератор.
– Он хорошо пишет на родном языке, знает его изрядно, но утомляет читателя, ибо слушает одного себя, и притом нелаконичен. К тому же в голове у него пусто.
– Он актер, вы сказали.
– Превосходный, коли играет свое, особенно в роли любовников.
– Красив ли он?
– На сцене, но не в жизни. Лицо невыразительное.
– Но пьесы его имеют успех.
– Отнюдь. Их освистали бы, если б поняли.
– А что вы скажете о Гольдони?
– Это наш Мольер.
– Почему он именует себя поэтом герцога Пармского?
– Чтобы обзавестись каким-нибудь титулом, ибо герцог о том не ведает[100]. Еще он именует себя адвокатом, но он только мог бы быть им[101]. Он хороший комик, вот и все. Я с ним в дружбе, и вся Венеция это знает. В обществе он не блещет, он безвкусен и приторен, как мальва.
– Он мне писал. Он нуждается, хочет покинуть Венецию. Это, верно, не по нраву хозяевам театров, где играют его пьесы.
– Ему хотели было дать пенсион, но решили отказать. Подумали, что, получив пенсион, он перестанет писать.
– Кума[102] отказала в пенсионе Гомеру, испугавшись, что все слепцы будут просить денег.
Мы весело провели день. Он поблагодарил меня за «Макароникон»[103] и обещал прочесть его. Он представил мне некоего иезуита, что состоял у него на службе, по имени Адам, но он не первый из людей. Кто-то сказал мне, что он с увлечением сражается с ним в трик-трак и, проиграв, любит запустить иезуиту в лицо кости и стаканчик.
Воротившись вечером на постоялый двор, я получил свои три золотых шарика, а минуту спустя объявился дражайший синдик и повел меня на оргию.
По пути он рассуждал о чувстве стыдливости, не позволяющем выставлять напоказ части тела, что сызмальства приучили нас скрывать. Он сказал, что зачастую стыдливость проистекает из добродетели, но, по его разумению, сия добродетель еще слабее, нежели сила воспитания, ибо не умеет противостоять нападению, когда посягающий с умом берется за дело. Самый простой способ, по его разумению, – не обращать на добродетель внимания, ни во что ее не ставить, осмеивать ее; надо делать ход конем, перепрыгнув через барьер стыда, – и победа обеспечена, бесстыдство нападающего враз уничтожит стыдливость атакованного.
– Климент Александрийский, ученый и философ, – сказал он, – говорит, что стыдливость, каковая должна столь сильно быть укреплена в голове женщины, на самом деле находится в ее рубашке, ибо как с них все снимешь, так тени стыдливости не увидишь.
Казанова придал соблазнению божественно-языческий, греховно-христианский, демонически-поэтичный характер. Небесные мифы, адский грех, земную трагедию любви он превратил в сексуальное приключение, в эротическую проделку, в сатиру, в страстную игру чувств. Сладострастие без греха, любовь без трагедии.
Герман Кестен. «Казанова»Мы застали трех девиц сидящими на софе в легких платьях и устроились напротив в креслах без подлокотников. Полчаса пред ужином прошли в веселых разговорах во вчерашнем тоне и беспрестанных поцелуях. Но после ужина случилась одна коллизия.
Удостоверившись, что служанка не придет более мешать нам, мы почувствовали себя покойно. Сперва синдик извлек из кармана сверток с тонкими английскими чехлами, расхваливая это чудесное охранительное средство против беды, могущей принести ужасные терзания. Оно было им знакомо, и они веселились, глядя, какую форму принимало надутое приспособление: но я сказал, что, разумеется, ставлю честь их выше их красоты, но никогда не решусь познать с ними счастье, закутавшись в мертвую кожу.
– Вот, – сказал я, доставая из кармана три золотых шарика, – что охранит вас от всех неприятных последствий. Пятнадцатилетний опыт позволяет уверить, что с этими шариками вам нечего опасаться, и не нужны будут более сии унылые чехлы. Почтите меня вашим полным доверием и примите от венецианца, обожающего вас, этот скромный дар.
– Мы вам весьма признательны, – отвечала старшая из сестер, – но как пользоваться сим прелестным шариком, дабы уберечься от пагубной полноты?
– Шарик должен всего-навсего находиться в глубине алтаря любви во время поединка. Зачатию воспрепятствует антипатическая сила металла.
– Но, – заметила младшая, – легко может случиться шарику выпасть до завершения деяния.
– Отнюдь, если действовать умело. Есть позиция, при которой шарик, влекомый собственной тяжестью, выскользнуть не может.
– Покажите-ка нам ее, – сказал синдик, взяв свечу, чтобы посветить мне, когда я буду класть шарик.
Очаровательная сестрица зашла слишком далеко, чтоб отступить и отвергнуть доказательство, столь желанное для всех трех. Я уложил ее у изножья постели так, что шарик, который я ввел, был не в силах выпасть наружу, но он выпал, когда все закончилось, и она заметила, что я сплутовал, но не подала виду. Подхватив его рукой, она предложила двум сестрам самим удостовериться. Они отдались тому с немалым интересом.
…Несомненно, в истории литературы встречались произведения столь же безнравственные, но ни одно из них не является более постыдным для автора, чем это: ибо здесь рассказчик и герой – одно лицо, которое не может заявить, как Марциал: «Пусть непристойны стихи, жизнь безупречна моя».
Профессор Алессандро д’АнконаСиндик, ничуть не веря в силу шарика, не пожелал ему довериться. Он ограничился ролью зрителя, и жаловаться ему не пришлось. Передохнув полчаса, я продолжил празднество без шариков, уверив, что им нечего опасаться, и сдержал слово.
При расставании я увидал на лицах девиц выражение печали: им казалось, что они получили от меня больше, чем я от них. Они спрашивали синдика, осыпая его ласками, как угадал он, что я достоин быть посвящен в их великую тайну.
Перед уходом синдик побудил девиц просить меня еще на день задержаться в Женеве ради них, и я согласился. Договорились на завтрашний день. Впрочем, день отдыха мне был нелишним. Синдик, наговорив множество любезностей, сопроводил меня в гостиницу.
После глубокого десятичасового сна почувствовал я в себе силы пойти насладиться обществом любезнейшего г-на де Вольтера, но великий человек пожелал в тот день быть насмешливым, колким и желчным. Он знал, что я завтра уезжаю.
За столом он сперва объявил, что благодарит меня за подаренного ему, разумеется, с самыми благими намерениями, Мерлина Кокая[104], но отнюдь не за похвалы, кои расточал я поэме, ибо я причиной тому, что он потратил четыре часа на чтение глупостей. Волосы мои встали дыбом, но я сдержался и весьма спокойно отвечал, что, быть может, в другой раз он сочтет ее достойной еще больших похвал, нежели мои. Я привел ему много примеров, когда одного прочтения бывает недостаточно.
Склад его ума и его остроты проникнуты утонченностью; у него чувствительное и способное к благодарности сердце, но стоит хоть чем-нибудь не угодить ему, он сразу делается злым, сварливым и уже совершенно несносным. Даже за миллион он никогда не простит самую пустячную шутку на свой счет.
Шарль де Линь. «Рыцарь Фортуны»– Это правда, но вашего Мерлина я оставляю вам. Я поставил его наряду с «Девственницей» Шаплена.
– Которая нравится всем ценителям, хоть и написана она в стихах. И поэма хороша, и Шаплен был поэт истинный, я чту его гением.
Мое признание, верно, покоробило его, и я должен был о том догадаться, когда он объявил, что поставит «Макароникон», что я ему дал, в один ряд с «Девственницей». Я знал также, что отвратная поэма с тем же названием, гуляющая по свету, слыла за его сочинение, но, поелику он от нее открещивался, я думал, он не подаст виду, что слова мои ему неприятны; но отнюдь – он стал язвительно меня опровергать, и я и сам сделался язвителен. Я сказал, что заслуга Шаплена в умении сделать предмет приятным, не домогаясь расположения читательского нечестивыми мерзостями.
– Так, – произнес я, – полагает мой учитель г-н де Кребийон.
– Вы ссылаетесь на великого судью. Но чему, скажите, мой собрат Кребийон учил вас?
– Он научил меня менее чем в два года изъясняться по-французски. Дабы выразить ему мою признательность, я перевел его «Радамиста» на итальянский александрийским стихом. Я первым из итальянцев осмелился подстроить сей размер под наш язык.
– Первым, прошу прощения, был мой друг Пьер Якопо Мартелло.
– Нет, это я, прошу прощения.
– Черт возьми! Да у меня в комнате стоят его сочинения, напечатанные в Болонье.
– Вы могли читать только четырнадцатисложные стихи без чередования мужских и женских рифм[105]. При этом он полагал, что передает александрийский стих, его предисловие меня рассмешило. Вы, верно, его не прочли.
– Сударь, я страстно люблю читать предисловия. Мартелло доказывает, что его стих звучит для итальянского уха так, как александрийский для французского.
– Он грубо ошибался; судите сами: у вас в мужских стихах двенадцать слогов, а в женских тринадцать; во всех стихах Мартелло их четырнадцать, если только они не кончаются на долгий слог, каковой в конце стиха всегда равен двум. Заметьте, что первое полустишие у Мартелло всегда состоит из семи слогов, тогда как во французском александрийском стихе их шесть, и только шесть. Либо ваш друг Пьер Якопо глух, либо ему на ухо наступил медведь[106].
– А вы, выходит, соблюдаете все наши правила, предписанные теорией?
– Все, несмотря на трудности; ибо почти большая часть слов наших оканчивается кратким слогом.
– Имел ли успех ваш новый размер?
– Он не понравился, поелику никто не умел читать стихов моих, но когда я самолично выступал с ними в обществе, то всегда с успехом.
– Вы не припомните какой-либо отрывок из вашего «Радамиста»?
– Сколь угодно.
Я прочел ему тогда ту же сцену, что прочел Кребийону за десять лет до того белым стихом, и мне показалось, что он поражен. Он объявил, что не замечает никаких трудностей, и это была для меня высшая хвала. В ответ он прочел мне отрывок из своего «Танкреда», кажется, тогда еще не напечатанного, коего потом по справедливости признали шедевром.
И все бы кончилось промеж нами хорошо, если б не один стих из Горация, который я привел в подтверждение его слов: он объявил, что Гораций был главным его наставником в театральном ремесле, ибо заповеди его не стареют.
– Вы нарушаете только одну, – сказал я, – но как истинно великий муж.
– Какую же?
– Вы не пишете contentus paucis lectoribus[107].
– Если бы Гораций, подобно мне, сражался с суеверием, и он писал бы для всех.
– Вы могли бы, мне кажется, избавить себя от непосильного бремени, ибо никогда вам с ним не сладить, а если все же сладите, скажите на милость, чем вы его замените?
– Мне это нравится. Когда я освобождаю род людской от лютого зверя, терзающего его, надо ли спрашивать, кем я его заменю?
– Он не терзает его, напротив, он необходим для самого его существования.
– Я люблю человечество и хотел бы видеть его счастливым и свободным, как я; а суеверие несовместно со свободой. Или вы находите, что неволя может составить счастье народное?
– Так вы хотите, чтоб народ был господином?
– Боже сохрани. Править должен один.
– Тогда суеверие необходимо, ибо без него народ никогда не будет повиноваться государю.
– Никаких государей, ибо это слово напоминает о деспотии, кою я обязан ненавидеть так же, как рабство.
– Чего тогда вы хотите? Если вам хочется, чтобы правил один, он не может быть никем иным, как государем.
– Я хочу, чтоб он повелевал свободным народом, чтоб он был его главой, но не государем, ибо никогда он не будет править самовластно.
– Аддисон[108] ответит вам, что подобного государя, подобного правителя нет в природе. Я согласен с Гоббсом[109]. Из двух зол надо выбирать меньшее. Без суеверия народ станет философом, а философы не желают повиноваться. Счастлив единственно народ угнетенный, задавленный, посаженный на цепь.
– Если б вы читали мои сочинения, то обнаружили бы доказательства того, что суеверие – враг королей.
– Читал ли я вас? Читал и перечитывал, и особливо, когда держался противоположного мнения. Ваша главная страсть – любовь к человечеству. Et ubi peccas[110]. Эта любовь ослепляет вас. Любите человечество, но умейте любить его таким, каково оно есть. Оно не способно принять благодеяния, коими вы желаете его осыпать; расточая их, вы делаете его несчастным, озлобляете пуще прежнего. Оставьте ему лютого зверя, что терзает его: зверь этот дорог ему. Я никогда так не смеялся, как читая про Дон Кихота, с трудом отбивающегося от каторжников, коих по великодушию своему освободил.
– А вы в Венеции считаете себя свободными?
– Насколько сие возможно при аристократическом образе правления. Свобода, коей мы пользуемся, не столь обширна, как в Англии, но мы довольны. Мое заключение в тюрьме, к примеру, было самым откровенным произволом, но я знал, что сам злоупотреблял свободой, мне временами казалось, что они были правы, отправив меня за решетку без должных формальностей.
– Вот потому-то никто в Венеции не свободен.
– Возможно, но согласитесь, чтобы быть свободным, достаточно чувствовать себя таковым.
– Так просто вы меня не убедите. Даже аристократы, государственные мужи несвободны, ибо, к примеру, не могут без дозволения путешествовать.
– Они сами поставили над собой закон, дабы оградить свое владычество. Сочтете ли вы несвободным жителя Берна, что подчиняется законам против роскоши? Ведь он сам законодатель.
Чтоб сменить тему, он осведомился, откуда я приехал.
– Я прибыл из Роша. Я был бы весьма огорчен, если б покинул Швейцарию, не повидав славного Галлера[111]. Я почитаю долгом своим засвидетельствовать уважение ученым, моим современникам, вы остались на сладкое.
– Г-н Галлер должен был вам понравиться.
– Я провел у него три чудесных дня.
– Поздравляю. Этот великий муж достоин преклонения.
– И я так думаю; вы относитесь к нему по справедливости, а мне его жаль, ибо он к вам не столь беспристрастен.
– Ах, ах! Очень возможно, что оба мы ошибаемся.
При сем ответе, удачном лишь быстротой своей, все кругом зааплодировали.
О литературе более не говорили, и я в дальнейшей беседе не участвовал, а когда г-н де Вольтер удалился, я подошел к Дени и спросил, не будет ли у нее каких поручений в Рим.
Казанова и Вольтер остались недовольными друг другом. Оба претендовали на универсальную компетенцию, играли специалистов в каждой области, имели исключительно строгий литературный вкус, выносили абсолютные приговоры в истории и политике, в дискуссии оба быстро достигали высоких градусов, и оба были весьма упрямы. Упрямые в критике и быстрые в репликах, в жажде блистать, ревнивые ко всеобщему вниманию и стремящиеся сорвать аплодисменты, они были менее склонны к соглашениям и даже были готовы к извержениям гнева и к ожесточенному молчанию вместо признания самого малого и мимолетного поражения. В беседах наедине оба были мягче и дружественней. Оглядка на публику ухудшала поведение обоих.
Герман Кестен. «Казанова»Я уехал, вполне довольный тем, что в последний день сумел урезонить такого гиганта. Но у меня осталось к нему неприязненное чувство, которое десять лет кряду понуждало критиковать все, что доводилось читать старого и нового, вышедшего и выходящего из-под пера великого сего человека. Ныне я в том раскаиваюсь, хотя, перечитывая все, что я написал против него, нахожу критику свою небезосновательной. Лучше было бы молчать, уважить его и презреть собственные суждения. Если сказать по правде, если бы не насмешки его, задевшие меня в третий день, я почитал бы его воистину великим. Одна эта мысль должна была принудить меня к молчанию, но человек во гневе всегда почитает себя правым. Потомки, читая, причислят меня к сонму зоилов[112] и, верно, не прочтут моих нынешних покорнейших извинений.
Часть ночи и следующего дня я провел, записывая три свои беседы с ним, каковые сейчас изложил вкратце. Вечером синдик зашел за мною, и мы отправились ужинать к его девицам.
Пять часов, проведенных совместно, предавались мы всем безумствам, какие только могли прийти мне на ум. Я обещал, расставаясь, навестить их на обратном пути из Рима и сдержал слово. Я уехал из Женевы на другой день, отобедав с любезным моим синдиком; он проводил меня до Аннеси, где я провел ночь. Назавтра пообедал я в Экс-ле-Бене, намереваясь заночевать в Шамбери. <…>
Дальнейшие похождения Казановы
Затем Казанова побывал в Марселе, Генуе, Флоренции, Риме, Неаполе, Модене и Турине.
В 1760 году Казанова начинает называть себя «шевалье де Сенгальт», коим именем будет все чаще пользоваться до конца жизни. Иногда он представлялся графом де Фарусси (по девичьей фамилии матери). В 1762 году, вернувшись в Париж, он продолжает свою самую удивительную аферу: намеревается при помощи оккультных сил дать бессмертие маркизе д’Юрфе.
Глава 4 Снова Франция
<…> Я поднимаюсь к маркизе, объявляю, что кушать подано, но обедать мы будем вдвоем, ибо важные причины принудили меня отослать аббата[113]– Бог с ним, он не умен. А Кверилинт?
– После обеда спросим совета у Паралиса. У меня возникли подозрения на него.
– У меня тоже. Мне кажется, он переменился. Где он?
– Лежит в постели с мерзкой болезнью, кою я не смею вам назвать.
– Уму непостижимо. Это деяние черных сил, но такого, сколько я знаю, никогда еще не случалось.
– Никогда, но сперва поедим. У нас сегодня будет много дел после освящения олова.
– Тем лучше. Придется совершить Оромазисов очистительный обряд, ужас-то ведь какой! Он должен был перевоплотить меня через четыре дня, а сам в таком ужасном состоянии?
– Давайте обедать, прошу вас.
– Я боюсь, что наступит час Юпитера.
– Ни о чем не беспокойтесь.
После отправления обряда Юпитера я перенес обряд Оромазиса на другой день и занялся каббалой, а маркиза переводила цифры в буквы. Оракул поведал, что семь Саламандр отнесли истинного Кверилинта на Млечный Путь, а в постели в комнате на первом этаже лежит коварный Сен-Жермен, которому некая гномида[114] сообщила ужасную болезнь, дабы стал он палачом Серамиды и та скончалась бы от того же недуга прежде назначенного срока. Оракул гласил, что Серамида должна предоставить Парализу Галтинарду (то бишь мне) отделаться от Сен-Жермена и не сомневаться в счастливом исходе перерождения, ибо сам Кверилинт ниспошлет мне Слово с Млечного Пути на седьмой день совершаемого мною обряда Луны. Последние слова оракула были: я должен оплодотворить Серамиду спустя два дня по завершении обрядов, когда прелестная Ундина омоет нас в ванной в той самой комнате, где мы сейчас находимся.
Обязавшись переродить милую мою Серамиду, я подумал: негоже будет мне оказаться не на высоте. Маркиза была красива, но стара. Могла у меня случиться оплошка. В тридцать восемь лет роковое это несчастье стало частенько меня одолевать. Прекрасной Ундиной, будто ниспосланной мне Луною, была Марколина[115], которая, обратившись купальщицей, должна была помочь мне обрести мужскую силу, в коей я столь нуждался. Тут сомневаться не приходилось. Читатель увидит, как я пособил ей спуститься с небес. <…>
Послезавтра, как сели мы обедать, маркиза, улыбаясь, протянула мне длинное письмо, которое этот подлец Пассано написал ей на прескверном французском – но что-то разобрать было можно[116]. Он извел восемь страниц, дабы убедить ее, что я обманываю ее, и в доказательство сей непреложной истины пересказал все как есть, не упуская ни малейших обстоятельств, кои могли бы мне повредить. Еще он писал, что я приехал в Марсель с двумя девицами, он не знал, где я держу их, но уж, конечно, я отправляюсь с ними спать каждую ночь.
Я спросил у маркизы, возвращая письмо, достало ли у нее терпения дочесть до конца, а она отвечала, что ровно ничего не поняла, ибо пишет он на каком-то варварском наречии, да и не старалась она понять – ибо ничего там не может быть, кроме измышлений, призванных сбить ее с пути истинного в тот самый момент, когда ей никак нельзя от него отступать. Такая ее осмотрительность весьма пришлась мне по душе, ибо я не хотел, чтобы она заподозрила Ундину, одного взгляда на которую мне хватило бы, чтобы завести телесный свой механизм.
Пообедав и наскоро совершив все обряды, потребные для укрепления духа бедной моей маркизы, я отправился к банкиру и выправил вексель на сто луидоров в Лионе на имя г-на Боно, и отослал ему с уведомлением, что ему надлежит деньги эти выплатить Пассано в обмен на мое письмо, кое Пассано должен предъявить для получения ста луидоров в тот самый день, каковой будет означен в письме. Если он представит его после означенного дня, то в уплате следует отказать.
Предприняв это, я написал Боно нижеследующее письмо, которое Пассано должен был ему вручить:
«По предъявлению сего уплатите г-ну Пассано сто луидоров, если вам его представят сегодня, 30 апреля 1763 года. По истечении этого срока распоряжение мое теряет силу».
С письмом в руке я вошел в комнату этого предателя, которому за час до того скальпелем продырявили пах.
– Вы – предатель, – говорю я ему. – Г-жа д’Юрфе не стала читать ваше письмо, но я прочел его. У вас есть выбор, но делайте его побыстрее, ибо я спешу. Либо вы немедленно перебираетесь в больницу, нам тут таких болезней, как у вас, не надобно, либо через час отправляетесь в Лион и едете без остановок, ибо даю я вам всего шестьдесят часов на сорок перегонов. В Лионе вы немедля относите г-ну Боно сие письмо, и он по предъявлению его уплатит вам сто луидоров – я вам их дарю; потом делайте что хотите, ибо у меня вы больше не служите. Я вам дарю карету, что мы выкупили в Антибе, и вот еще двадцать пять луидоров на дорогу. Выбирайте. Но учтите, что, если вы предпочтете больницу, я вам заплачу лишь за месяц, ибо сей же час прогоняю вас со службы.
Поразмыслив немного, он объявляет, что поедет в Лион, хоть и рискуя жизнью, ибо сильно болен. Тогда я позвал Клермона, чтоб он собрал его вещи и упредил трактирщика, что постоялец съезжает, – пусть немедля пошлет за лошадьми. Потом дал я Клермону письмо к Боно и двадцать пять луидоров, дабы он вручил их Пассано прямо перед отъездом, как увидит, что тот сел в карету. Покончив с сим предприятием, я отправился к любимой. Мне надо было о многом переговорить с Марколиной, в которую, я чувствовал, день ото дня все сильнее влюблялся. Всякий день она твердила мне, что ей, чтобы быть совершенно счастливой, еще бы понимать по-французски да иметь хотя тень надежды, что я возьму ее с собой в Англию.
Я ей того не обещал, и мне становилось грустно при мысли, что придется расстаться с сей девицей, исполненной любострастия и обходительности, которую врожденный темперамент делал ненасытной в постели и за столом: она ела, как я, а пила еще больше. Она от души обрадовалась, что я отделался от брата и от Пассано, и заклинала хоть изредка брать ее в комедию, где ей льстило, что все непременно хотели знать, кто она такая, и сердились, что я запрещаю им отвечать. Я обещал пойти с ней на следующей неделе.
– Ибо нынче, – сказал я, – я все дни напролет занят одной магической операцией, в коей понадобится мне твоя помощь. Я одену тебя мальчиком, и в таком виде ты предстанешь перед маркизой, с которой я проживаю, в назначенный мною час и вручишь ей письмо. Достанет у тебя храбрости?
– Конечно. Ведь ты там будешь?
– Да. Она с тобой заговорит, но поелику по-французски ты не говоришь, то ответить не сможешь и сойдешь за немого. Так в письме и будет сказано. Еще там будет написано, что ты поможешь ей и мне в купальне; она примет твои услуги, и в тот час, как она велит, ты разденешь ее догола, разденешься сама и разотрешь ее от носков до бедер, не более. Пока ты в ванне будешь все это с ней проделывать, я скину одежду и крепко обниму маркизу, а ты будешь на нас лишь смотреть. Когда я от нее отстранюсь, ты ласковыми ручками своими омоешь любовные места ее и вытрешь насухо. Потом ты окажешь мне ту же услугу, и я хорошенько обниму ее второй раз. После второго раза ты опять омоешь сперва ее, потом меня и покроешь флорентийскими поцелуями[117] инструмент, коим я недвусмысленно выкажу ей свою нежность. Я обниму ее в третий раз, и тут ты послужишь нам, лаская обоих до конца поединка. Тогда ты в последний раз совершишь омовение, вытрешь нас, оденешься, возьмешь то, что она тебе даст, и вернешься сюда. Через час я приду к тебе.
– Я все сделаю, как ты хочешь, но знай, мне это будет стоить дорого.
– А мне? Я ведь буду хотеть целовать тебя, а не старуху, которую ты увидишь.
– Она и впрямь старуха?
– Скоро семьдесят стукнет[118].
– Так много? Мне жаль тебя, бедняжка Джакометто. А после ты придешь, и мы будем ужинать и спать вместе?
– Ну конечно.
– В добрый час. <…>
Безудержной откровенностью и безмерной самовлюбленностью Казанова из авантюрной жизни очаровательного плута создал сюрреально громадную историю о неотразимом соблазнителе. Так он стал легендой. Но Казанова жил на самом деле. И сам написал свои мемуары. Он был естественным сыном жизнерадостного восемнадцатого века…
Герман Кестен. «Казанова»Я заказал для Марколины короткую зеленую бархатную курточку и такие же кюлоты, купил ей зеленые чулки, сафьяновые туфли и перчатки того же цвета, зеленая сетка на испанский манер с длинной кисточкой сзади скрыла ее пышные черные волосы. В этом костюме она была столь восхитительна, что, случись ей пройти по улицам Марселя, за нею увязалась бы толпа мужчин, ведь женскую ее сущность было видно за версту. Прежде чем отправиться на ужин, я отвез ее, одетую в женское платье, к себе, дабы показать, где ей спрятаться в моей комнате после операции в тот день, когда мне предстояло ее производить.
В субботу с обрядами было покончено, и я через оракула назначил перерождение Серамиды на вторник на часы Солнца, Венеры и Меркурия, что в планетарной системе алхимиков идут один за другим, если верить Птолемею. То должны были быть девятый, десятый и одиннадцатый час дня, ибо во вторник первый час принадлежит Марсу. В начале мая час длится шестьдесят пять минут; и читателю, пусть он и не алхимик, очевидно, что я должен был совершить сие деяние с г-жой д’Юрфе с полтретьего до без пяти шесть. В понедельник, едва наступила ночь, повел я в час Луны г-жу д’Юрфе на берег моря, сопровождаемый Клермоном, каковой нес ларец весом в пятьдесят фунтов. Убедившись, что за нами никто не следит, я сказал г-же д’Юрфе, что время пришло, и велел Клермону поставить ларец на землю и дожидаться нас в карете. Мы проговорили подходящую случаю молитву Селене и швырнули ларец в море – к великой радости г-жи д’Юрфе, но еще большей моей, ибо в преданном морю ларце покоилось пятьдесят фунтов свинца. Другой был в моей комнате, укрытый от нескромных взоров. Воротившись в «Тринадцать кантонов», оставил я маркизу, сказав, что ворочусь в гостиницу после того, как вознесу благодарность Луне в том самом месте, где семикратно поклонялся ей.
Я пришел ужинать к Марколине и, пока она переряжалась мальчиком, написал квасцовым камнем на белой бумаге крупными буквами:
«Я нем, но не глух. Я вышел из Роны, чтоб омыть вас. Час настал».
– Вот это письмо, – сказал я Марколине, – ты вручишь маркизе, как только явишься пред ней.
Мы выходим из дома, никем не замеченные проскальзываем в гостиницу, а потом я в своей комнате прячу Марколину в шкаф. Надеваю халат и вхожу к маркизе, дабы сообщить ей, что Селена назвала час и перерождение должно начаться завтра до трех и завершиться не позже пяти с половиной, чтоб не попасть в час Луны, следующий за часом Меркурия.
– Распорядитесь, сударыня, чтобы после обеда тут, у изножия вашей кровати, была приготовлена ванна, а Бруньоль не входила к вам до ночи.
– Я отпущу ее на весь вечер, но Селена обещала нам Ундину.
– Верно, но мне не ведомо, где она.
– Спросите оракула.
– Как вам будет угодно.
Она сама составляет вопрос, прося дух Паралиса не откладывать деяние, пусть даже Ундина и не появится, она готова омыться сама. Оракул ответствует, что предначертания Оромазиса неотвратимы и сомнения ее напрасны. Тут маркиза встает и совершает очистительный обряд. Мне трудно было жалеть эту женщину, уж очень она была смешна. Поцеловав меня, она молвила:
– Завтра, милый Галтинард, вы станете мне мужем и отцом. И пусть ученые впредь разгадывают сию тайну.
Я выхожу и отправляюсь к себе: извлекаю из шкафа Ундину, каковая, раздевшись, укладывается в мою постель, хорошенько уразумев, что должна поберечь мои силы. Мы проспали всю ночь, не взглянув друг на друга. Утром, перед тем как позвать Клермона, я покормил ее завтраком и напомнил, что после деяния ей надобно возвернуться в шкаф: нельзя было, чтобы кто-нибудь увидал, как она в таком виде покидает гостиницу. Я вновь повторил ей урок, посоветовал быть веселой и ласковой, помнить, что она нема, но не глуха, и ровно в два с половиной войти и, преклонив колено, протянуть бумагу маркизе.
Обед был заказан к двенадцати, и, войдя в комнату маркизы, я увидал у изножия кровати ванну, на две трети наполненную водой. Маркизы не было видно, но через две или три минуты она вышла из туалетной комнаты с нарумяненными щеками, в тончайшем кружевном чепце; шелковая ажурная косынка прикрывала грудь, краше коей сорок лет назад не сыскать было во Франции; на ней было старого покроя богатое платье, шитое золотом и серебром. В ушах – изумрудные серьги, на шее – ожерелье из семи аквамаринов, увенчанных изумрудом чистейшей воды, а цепочка была из сверкающих алмазов, в полтора карата каждый, числом восемнадцать или двадцать. На пальце у нее сиял карбункул, мне хорошо известный: она ценила его в миллион, но он был поддельный; все же прочие камни, коих я до тех пор не видал, были, как я потом удостоверился, отменного качества.
Его изумительная память бережно хранит все: имена людей, названия гостиниц, меню обеда, цвет камзола, число проигранных монет, слова женщины, занимавшей его два дня. Все это еще раз оживает в его мемуарах удивительно точными, осязаемыми образами.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Увидав Серамиду в таковом убранстве, я понял, что должен польстить ее самолюбию, и опустился на колени, чтоб облобызать ей руку; но она, не допустив этого, обняла меня. Сказав Бруньоль, что до шести она свободна, мы принялись беседовать, пока не подали обед.
Одному Клермону было дозволено прислуживать нам за столом, а она ничего, кроме рыбы, в тот день не пожелала. В полвторого велел я Клермону запереть ото всех наши комнаты и тоже отправляться погулять до шести, если есть у него охота. Маркиза начала волноваться, да и я стал показывать вид, будто бы волнуюсь: смотрел на часы, исчислял наново планетарные часы и твердил только одно:
– Теперь все еще время Марса, час Солнца еще не наступил.
Наконец часы пробили два часа с половиною, и спустя две или три минуты явилась прекрасная Ундина с улыбкой на устах и, мерным шагом подойдя к Серамиде, опустилась на колено и протянула листок. Увидав, что я не встаю, она продолжает сидеть, но велит подняться Духу стихий, взяв листок, и с удивлением видит, что он с обеих сторон белый. Я тотчас протягиваю ей перо, она понимает, что должна посоветоваться с оракулом. Она вопрошает его, что сие означает. Я беру у нее перо, преобразую вопрос в числовую пирамиду, она расшифровывает ее и получает: «В воде писанное, в воде читается».
– Мне все понятно, – говорит она, поднявшись, подходит к ванне, разворачивает листок и опускает в воду; засим читает проступившие буквы:
«Я нем, но не глух. Я вышел из Роны, чтоб омыть вас, час Оромазиса настал».
– Так омой же меня, дивный Дух, – произносит Серамида, бросает листок на стол и опускается на кровать.
Тогда Марколина, верная моим наставлениям, снимает с нее чулки, платье, рубашку, нежно погружает ноги ее в ванну и, мгновенно скинув одежду, входит в воду по колено, тогда как я сам тоже раздеваюсь и молю Духа омыть ноги Серамиды и быть божественным свидетелем моего с ней соединения во славу бессмертного Оромазиса, короля Саламандр.
Едва произнес я молитву, как немая, но отнюдь не глухая Ундина внимает моей мольбе, и я познаю Серамиду, восхищаясь прелестями Марколины, коих дотоле мне не случалось зреть столь благостно.
Серамида, некогда очень красивая, в то время была того же возраста, что я сейчас, и, не будь Ундины, деяние бы не свершилось. Впрочем, Серамида, нежная, влюбленная, благоухающая, отнюдь не была неприятна, и я не испытывал отвращения.
– Теперь надо дождаться часа Венеры, – произнес я, кончив.
Ундина отирает с нас следы любви; она обнимает супругу мою, омывает ей ноги, ласкает, целует, потом то же проделывает со мной. Серамида, вне себя от счастья, восхищается прелестями сего божественного создания, понуждая и меня насладиться ими, я нахожу, что никакая земная женщина не может с нею сравниться. Серамида становится еще нежнее, час Венеры настает, и, возбужденный Ундиной, иду я в другой раз на приступ, что должен был длиться более первого, ибо час-то длится шестьдесят пять минут.
Казанова… рассказывает про свою огромную жизнь без моральных прикрас, без поэтической слащавости, без философских украшений, совершенно объективно, такой, как она была, – страстной, опасной, беспутной, беспощадной, веселой, подлой, непристойной, наглой, распутной, но всегда напряженной и неожиданной…
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»Я вступаю на поле брани, тружусь полчаса, обливаясь потом, утомляя Серамиду, но никак не могу кончить, стыдясь своего обмана; она утирает мне со лба пот, стекающий с волос, смешавшийся с помадой и пудрой; Ундина, дерзновенно лаская меня, возвращает силы, меня оставляющие, лишь коснусь я дряхлого тела; природа отвергает негодные средства, избранные мной для достижения цели. Через час я решаюсь кончить, изобразив все обыкновенные проявления счастливого исхода. Выйдя из боя победителем, с видом еще угрожающим, я не оставляю маркизе повода сомневаться в моей доблести. По всему видать, она сочла, что Анаэль был несправедлив: он заявил Венере, что я – фальсификатор.
Даже Марколина обманулась. Начался третий час, надлежало ублажить Меркурия. Четверть его времени провели мы в ванне, погрузившись до чресел. Ундина ублажала Серамиду такими ласками, о коих герцог Орлеанский и помыслить не мог[119]; она полагала их обычными среди речных Духов, и все, что проделывала с ней женщина-Дух своими пальчиками, приводило ее в восторг. Разнеженная от благодарности, она попросила прелестное создание одарить и меня своими милостями, и тогда-то Марколина показала все, чему только может научить венецианская школа. Вдруг обратилась она лесбиянкой и стала принуждать меня ублажить Меркурия; но у меня все то ж: хоть молния и сверкает, гром никак не грянет. Я видел, что труд мой уязвляет Ундину, видел, что Серамида мечтает окончить поединок, длить его я больше не мог и решил обмануть ее второй раз агонией и конвульсиями, а затем полной неподвижностью, неизбежным следствием потрясения, кое Серамида сочла беспримерным, как она мне потом призналась.
Его приключение с маркизой д’Юрфе (которая ждет от сексуального суперколдуна Казановы, что он преобразит ее в мужчину) – одна из самых ошеломительных историй, когда-либо случившихся в жизни (или хотя бы рассказанных).
Филипп Соллерс. «Казанова Великолепный»Сделав вид, что пришел в себя, вошел я в ванну и совершил короткое омовение. Увидев, что я начал одеваться, Марколина стала одевать и маркизу, влюбленно глядящую на нее. Марколина скоро облачилась, и Серамида, вдохновленная своим Гением, сняла колье и повесила его на шею прекрасной купальщице, каковая, поцеловав ее по-флорентийски, убежала и спряталась в шкафу. Серамида спросила оракула, успешно ли свершилось деяние. Испугавшись вопроса, я заставил его ответить, что солнечное Слово проникло в ее душу и она родит в начале февраля себя самое, но только другого полу, а для того она должна сто семь часов лежать в постели.
Исполнившись счастья, она сочла повеление отдыхать сто семь часов исполненным божественной мудрости. Я поцеловал ее, сказав, что проведу ночь за городом, дабы забрать остаток снадобий, оставшихся после свершения лунных обрядов, и обещал обедать с нею назавтра.
Так как он хочет только свободы, так как деньги, удовольствия и женщины ему нужны лишь на ближайший час, так как он не нуждается в длительности и постоянстве, он может, смеясь, проходить мимо домашнего очага и собственности, всегда связывающей.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»Я от души забавлялся с Марколиной до половины восьмого, ибо не хотел, чтобы кто-то увидел, как я выхожу с нею из гостиницы, а потому был должен дождаться ночи. Я скинул красивый свадебный наряд, надел фрак и довез ее в фиакре до дому, прихватив ларец с небесными дарами, кои я честно заработал. Оба мы умирали с голоду, но отменный ужин обещал вернуть нас к жизни. Марколина сбросила зеленую куртку, облачилась в женское платье и отдала мне великолепное ожерелье.
– Я продам его, моя милая, и верну тебе деньги.
– Сколько может оно стоить?
– Не менее тысячи цехинов. Ты вернешься в Венецию обладательницей пяти тысяч дукатов звонкой монетой, там сыщешь мужа, будешь поживать с ним в свое удовольствие.
– Я отдам тебе все эти пять тысяч, только возьми меня с собой, милый друг, я буду тебе нежной подругой, буду любить тебя больше жизни, никогда не стану ревновать, буду холить тебя, как родное дитя.
– Мы еще поговорим об этом, красавица ты моя, но сейчас, раз мы как следует подкрепились, пойдем в постель, я влюблен в тебя как никогда.
– Ты, верно, устал.
– Устал, но не от любви, ибо, слава небесам, излился всего лишь раз.
– Мне показалось, два. Какая милая старушка! До сих пор не лишена приятности. Лет пятьдесят назад она, верно, была первой красавицей Франции. Но старость и любовь – вещи несовместные.
– Ты изрядно распаляла меня, а она охлаждала еще сильнее.
– Ужели ты всякий раз, как начинаешь нежничать с нею, ставишь перед собой юную девицу?
– Отнюдь, да ведь прежде[120] не требовалось делать ей ребенка мужеского полу.
– Так ты поставил целью обрюхатить ее? Ой, не могу, сейчас помру со смеху. Она, небось, и впрямь верит, что тяжела?
– Ну, разумеется, ведь она знает, что приняла от меня семя.
– Ну насмешил! А отчего сия блажь – на три раза подряжаться?
– Я мыслил, что, глядя на тебя, легко сие справлю, но ошибся. Руки касались дряблой кожи, а перед глазами совсем иное, и миг блаженства никак не наступал. Но сегодня ночью ты увидишь, на что я истинно годен. Ложимся же скорее, говорят тебе!
– Слушаюсь!
<…> Я не покидал постель четырнадцать часов и четыре из них посвятил любви. Я велел Марколине принарядиться и ждать меня: мы поедем в комедию. Большего удовольствия я не мог ей доставить.
Он любил со смехом, он любил со слезами, он любил с клятвами и с фальшивыми обещаниями, с искренними обетами и с правдивыми словесными каскадами, на свету и в темноте, с деньгами, без денег, для денег, а когда он не любил он говорил о любви и вспоминал о любви, и желал любви, и был полон любовью, полон единственной в своем роде и по-настоящему земной священной песнью любви, звучным гимном всему женскому роду.
Герман Кестен. «Казанова»Г-жу д’Юрфе застал я в постели, всю разодетую, причесанную под молоденькую и такую довольную, какой я ее никогда прежде не видал. Она объявила, что обязана мне счастьем, и принялась совершенно здраво изъяснять безумные свои идеи.
– Женитесь на мне, – говорила она, – вы станете опекуном моего ребенка, вашего сына, и тем самым сохраните мне мое богатство, станете хозяином всего, что я должна унаследовать от г-на де Понкарре, моего брата – он уже стар и долго не протянет. Если не вы позаботитесь обо мне в феврале месяце, когда я возрожусь в мужском обличье, то кто же? Бог весть, в чьи руки я попаду. Меня признают незаконнорожденным, лишат восьмидесяти тысяч ренты, а вы можете мне их сохранить. Подумайте хорошенько, Галтинард. Я уже чувствую себя мужчиной в душе и признаюсь, влюбился в Ундину, мне хотелось бы знать, смогу ли я спать с ней через четырнадцать или пятнадцать лет.
Думаю, да, если будет на то воля Оромазиса. Что за прелестное создание! Доводилось ли вам видеть подобную красавицу? Жаль, что она немая. Должно быть, ее любовник – водяной. Но, конечно, все водяные немы, в воде ведь не поговоришь. Странно даже, почему она не глухая. Я дивилась, отчего вы до нее не дотрагиваетесь. Кожа у нее немыслимо нежная. Слюна благоуханная. Водяные изъясняются знаками, их язык можно выучить. Как бы мне хотелось потолковать с сим созданием! Прошу вас, спросите оракула, где я должна родить; если же вы не можете жениться на мне, тогда, мне кажется, надобно продать все, что у меня есть, дабы обеспечить мою будущность, когда я возрожусь: ведь в раннем детстве я ничего не буду знать и понадобятся деньги, чтобы дать мне образование. Распродав все, можно было бы поместить огромную сумму в надежные руки, и тогда одних процентов достанет на все мои надобности.
Я отвечал, что оракул будет единственным нашим проводником, и я ни за что не потерплю, чтоб ее объявили незаконнорожденным, когда она изменит пол и станет моим сыном; она успокоилась. Рассуждения ее были чрезвычайно справедливы, но поелику основывались они на бессмыслице, то ничего, кроме жалости, она у меня не вызывала. Если кто-либо из читателей найдет, что я как честный человек обязан был разубедить ее, то мне жаль его: это было невозможно; но даже если б я и мог, то все равно бы не стал, чтоб не делать ее несчастной. Суть ее была такова, что она могла питаться одними химерами. <…>
На третий день после перевоплощения она просила меня узнать у Паралиса, где должна ожидать смерти, то бишь родов, и, воспользовавшись сей возможностью, извлек я предсказание, повелевающее совершить обряд поклонения духам воды на двух реках в течение одного только часа, после чего все и решится; тот же оракул предписал мне три искупительных обряда, дабы умилостивить Сатурна за то, что слишком жестоко обошелся с лже-Кверилинтом, а Серамиде в них вмешиваться не должно, а надобно поклониться Ундинам.
Нарочито задумавшись, где же сливаются две реки, я услыхал от нее самой, что Рона и Сона омывают Лион, и нет ничего проще, чем исполнить обряд в сем городе: я согласился. Задав вопрос, какие для того нужны приготовления, получил я ответ, что надобно только вылить бутыль морской воды в каждую реку за две недели до обряда, каковую церемонию Серамида может свершить самолично в первый Лунный час любого дня.
– Значит, надобно здесь наполнить бутыли, ибо все прочие французские морские порты находятся в отдалении; я уеду, едва лишь позволено будет мне покинуть постель, и буду ожидать вас в Лионе. Раз вы здесь должны умилостивить Сатурна, вам со мной отправляться не должно.
Я признал ее правоту, изобразив, как тяжело мне отпускать ее одну; назавтра приношу я ей две запечатанные бутыли, наполненные соленой средиземноморской водой, мы сговорились, что она выльет их в реки пятнадцатого мая, обещав прибыть в Лион до того, как истекут две недели; отъезд ее мы назначили на послезавтра, одиннадцатое мая. Я записал ей все Лунные часы и присоветовал, где ей остановиться на ночлег в Авиньоне. <…>
Мы выехали из Валанса в пять утра и, под вечер въехав в Лион, остановились в гостинице «Парк». Я тотчас поспешил на площадь Белькур к г-же д’Юрфе, каковая, как всегда, объявила, будто не сомневалась, что я нынче приеду. Она захотела узнать, правильно ли совершила обряды, и Паралис, разумеется, все одобрил, и она была весьма польщена; <…> я обещал, что буду у нее завтра в десять.
Мы посвятили день совместным трудам, дабы получить от оракула должные наставления касательно ее родов, завещания, того, как изыскать способ, чтобы ей, возродившись в мужском обличии, не оказаться в нужде. Оракул решил, что ей надлежит умереть в Париже, все завещать сыну, и отпрыск ее не будет незаконнорожденным, ибо Паралис обещал, что по приезде в Лондон я пошлю ей дворянина, каковой женится на ней. Напоследок оракул повелел ей собираться и через три дня ехать в Париж, взяв с собой маленького д’Аранда, которого надлежало мне отвезти в Лондон и сдать матери с рук на руки. Его подлинное происхождение не было уже для нее тайной, ибо маленький негодник ей все рассказал.
Но я воспользовался тем же средством, каким поборол нескромные откровения Кортичелли и Пассано. Мне не терпелось вернуть неблагодарного мальчишку матери, что беспрестанно слала мне наглые письма.
Дальнейшие похождения Казановы
В июне 1763 года Казанова отправился в Англию, надеясь продать ее властям идею государственной лотереи. Опираясь на свои связи и потратив бо́льшую часть драгоценностей, полученных им от маркизы д’Юрфе, он добился аудиенции у короля Георга III. Казанова, как обычно, не забывал и об амурных похождениях. Не говоря как следует по-английски, но желая найти женщин для своих удовольствий, он поместил в газету объявление о том, что «порядочный человек» снимет квартиру, и устроился у некой «госпожи Полины», которую вскоре соблазнил.
Многочисленные интимные связи наградили его венерическим заболеванием, и в марте 1764 года, будучи обвиненным в мошенничестве, Джакомо, разоренный и больной, покинул Англию. Он уехал в Бельгию, где оправился от болезни и пришел в себя.
В последующие три года он странствовал по Европе, посетив в числе прочих стран Пруссию.
Глава 5 Пруссия
На пятый день по приезде в Берлин нанес я визит милорду маршалу, что после смерти брата стал зваться Кейтом[121]. Последний раз я свиделся с ним в Лондоне, куда он приехал из Шотландии, где вернули ему все титулы и поместья, конфискованные за то, что последовал он за королем Яковом. Король Прусский, пользуясь своим влиянием, добился для него сей милости. Он жил тогда в Берлине, почивая на лаврах и наслаждаясь покоем; и более в свои восемьдесят лет ни во что не вмешивался.
Простой, как и прежде, в общении, он сказал, что рад вновь видеть меня, осведомился, проездом ли я в Берлине или же думаю пожить здесь какое-то время. Он немного был наслышан о моих злоключениях; я ответствовал, что охотно бы тут обосновался, ежели б король приискал мне местечко, соответствующее скромным моим дарованиям, и решил бы оставить меня при дворе. Но едва лишь попросил я его покровительства, он заявил, что более навредит мне, чем поможет, ежели предуведомит обо мне короля. Последний, мня себя великим знатоком человеческих душ, предпочитал сам судить о них и частенько распознавал великие достоинства, где их никто другой не мог и предполагать, и наоборот. Маршал посоветовал написать государю, что я мечтаю о чести беседовать с ним.
– Когда будете с ним говорить, можете невзначай сослаться на меня, и тогда, думаю, он спросит у меня о вас, и мой ответ вам будет на пользу.
– Мне, человеку неизвестному, писать королю, не имея никакого на то повода! Я никогда не решился бы на такой поступок.
– Уже то, что вы желаете с ним беседовать, и есть изрядный повод. В письме вы должны лишь объявить о своем желании.
– Ужели он мне ответит?
– Не сомневайтесь. Он всем отвечает. Он напишет, где и в каком часу угодно ему будет принять вас. Не медлите. Его Величество нынче в Сан-Суси[122]. Мне любопытно, как сложится беседа ваша с монархом, который, как видите, не боится, когда ему навязывают чужую волю.
Я не помедлил и дня. Я написал ему как можно проще, хотя и весьма почтительно. Я спрашивал, где и когда я могу представиться Его Величеству, и, подписавшись «Венецианец», указал адрес гостиницы, где проживал. Через день получил я письмо, написанное секретарем, но подписанное «Федерик». Он писал, что король получил мое письмо и велел известить меня, что будет в саду Сан-Суси в четыре часа.
…Нельзя не чувствовать симпатии к этому человеку. Иногда он восхищает, иногда глубоко интересует, иногда как то бесконечно развлекает иногда трогает но никогда его рассказы не оставляют за собой равнодушия.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Я являюсь к трем, одетый во все черное. Через узкую дверь вхожу во двор замка и не вижу никого: ни часового, ни привратника, ни лакеев. Всюду полная тишина. Поднимаюсь по небольшой лестнице, отворяю дверь и оказываюсь в картинной галерее. Человек, оказавшийся смотрителем, предлагает показать ее, но я благодарю, сказав, что ожидаю короля, написавшего мне, что будет в саду.
– У него сейчас небольшой концерт, – сказал он мне, – по обыкновению, после обеда играет он на флейте. Он изволил назначить вам час?
– Да, ровно в четыре. Впрочем, быть может, он о том забудет.
– Король ничего не забывает. Он спустится в четыре, вам лучше подождать в саду.
Я иду туда, и вскорости появляется король, сопровождаемый своим чтецом Катом и великолепным спаниелем. Завидев меня, он подходит и, манерно приподняв на голове старую шляпу, называет меня по имени и громовым голосом спрашивает, что мне от него надобно. Пораженный таковым приемом, я замираю, смотрю на него и не могу слова молвить.
– Ну, что ж вы молчите? Разве не вы мне писали?
– Да, Сир, но ничего более не помню: я и помыслить не мог, что величие короля столь ослепит меня. В другой раз со мной этого не случится. Милорду маршалу следовало бы предуведомить меня.
– Так вы знакомы? Давайте пройдемся. О чем вы желали со мной говорить? Что скажете об этом саде?
Спросив, о чем я желаю говорить с ним, он тотчас велит мне говорить о саде. Любому другому я бы ответил, что ничего в садах не смыслю, но коль скоро король почел меня за знатока, я не мог обмануть его ожиданий. Не желая выказать дурной вкус, я ответил, что нахожу его великолепным.
– Но, – говорит он, – ведь сады Версаля красивее.
– Разумеется, Сир, но всего лишь благодаря обилию воды.
– Верно; но если здесь нет воды, так то не моя вина. Чтоб пустить ее, я напрасно израсходовал триста тысяч экю.
– Триста тысяч экю? Если б вы, Ваше Величество, израсходовали их разом, воды было бы в избытке.
– А! Вижу, вы архитектор-гидравлик.
Нужно ли было мне признаться, что он ошибается? Я боялся разочаровать его. И опустил глаза долу. Это не значит ни да, ни нет. Но, слава Богу, король не пожелал толковать со мной об этой науке, коей даже азы были мне неведомы. Безо всякой паузы он спросил меня, каким флотом располагала Венецианская республика во время войны.
– Двадцатью линейными кораблями, Сир, и изрядным числом галер.
– А сухопутного войска?
– Семьдесят тысяч человек, Сир, и все венецианские подданные, по одному от селения.
– Быть того не может. Вы, верно, желаете посмешить меня, рассказывая подобные басни. Но вы, наверное, финансист. Каково мнение ваше о налогах?
Я впервые беседовал с королем. Ввиду его слога, неожиданных выпадов, переходов с одного на другое явилось у меня чувство, будто принужден я играть в сцене из итальянской импровизированной комедии, где при малейшей оплошке актера из партера несется свист. И, приняв вид финансиста и состроив подобающую мину, ответствовал я сему надменному монарху, что могу изложить ему теорию налогов.
– Это мне и надобно, практика – дело не ваше.
– Налоги бывают трех родов, согласно действию, ими производимому: первые – разорительные, вторые – необходимые, как бы того не хотелось, и третьи – превосходные во всех отношениях.
– Интересно. Растолкуйте.
– Разорительный налог – королевский, необходимый – военный, превосходный – народный.
– Что сие значит?
Приходилось изъясняться обиняками, ибо сочинял я на ходу.
– Королевский налог, Сир, это налог, коим государь облагает подданных, чтоб наполнить свои сундуки.
– И он всегда разорительный, как вы толкуете.
– Разумеется, Сир, ибо он губит денежное обращение – душу торговли и опору государства.
– Но военный вы считаете необходимым.
– К несчастью, Сир, ибо война, без сомнения, – несчастье.
– Возможно. Ну, а народный?
– Превосходный во всех отношениях, ибо король одной рукой берет его у своих подданных, а другой возвращает им в виде полезнейших заведений и установлений для их же блага.
– Вы, разумеется, знаете Кальзабиджи?
– Не могу не знать, Сир. Семь лет назад мы учредили с ним в Париже генуэзскую лотерею.
– А этот налог к какому разряду относите вы? Согласитесь, ведь сие тоже налог.
– Разумеется, Сир. Это превосходный налог, если король предназначает выигрыш для содержания какого-нибудь полезного заведения.
– Но король может проиграть.
– В одном случае из десяти.
– Точен ли этот расчет?
– Точен, Сир, как все политические расчеты.
– Они часто ошибочны.
– Прошу меня простить, Ваше Величество. Они никогда не ошибочны, если только не вмешается воля Божья.
– Возможно, я и соглашусь с вами насчет нравственных расчетов, но не нравится мне ваша генуэзская лотерея. Я почитаю ее мошенничеством и не желал бы ее установления, даже если б математически был я уверен, что никогда не проиграю.
– Ваше Величество рассуждает, как мудрец, ибо невежественный народ играет, поддавшись обманчивой надежде.
После такового диалога, который, понятно, делает честь образу мыслей сего великого государя, он чуток дал лиха, но я не растерялся. Пройдя под своды колоннады, он останавливается, оглядывает меня сверху вниз и снизу доверху и, поразмыслив, изрекает:
– А вы красивый мужчина.
– Возможно ли, Сир, что после столь долгой беседы на ученые темы Ваше Величество обнаружило во мне малую тень достоинств, коими славны лишь ваши гренадеры?
Высокая мощная фигура, широкие плечи, цепкие и мясистые, с крепкими мускулами руки, ни одной мягкой линии в напряженном, стальном, мужественном теле; он стоит, слегка наклонив вперед голову, как бык перед боем. Сбоку его лицо напоминает профиль на римской монете, – с такой металлической резкостью выделяется каждая отдельная линия на меди этой темной головы. Красивой линией под каштановыми, нежно вьющимися волосами вырисовывается лоб, которому мог бы позавидовать любой поэт, наглым и смелым крючком выдается нос, крепкими костями – подбородок и под ним выпуклый, величиной с двойной орех кадык (по поверью женщин, верный залог мужской силы); неоспоримо: каждая черта этого лица говорит о напоре, победе и решительности. Только губы, очень яркие и чувственные, образуют мягкий влажный свод, подобно мякоти граната, обнажая белые зерна зубов.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»Ласково улыбнувшись, он сказал, что, коль скоро лорд-маршал Кейт меня знает, он с ним обо мне поговорит, и с самым милостивым видом приподнял на прощание шляпу, с каковой никогда не расставался.
Дня через три или четыре лорд-маршал сообщил мне добрую весть, что я понравился королю и он сказал, что подумает, какое занятие мне можно приискать. Мне было весьма любопытно, что за место он мне доставит, я никуда не спешил и решился ждать. <…> Погода стояла прекрасная, и прогулка по парку помогала с приятствием коротать день.
Вскоре Кальзабиджи получил от государя дозволение проводить лотерею от любого имени и лишь уплачивать ему вперед шесть тысяч экю с каждого тиража. Тот немедля открыл лотерейные конторы, бесстыдно уведомив публику, что проводит лотерею на его счет. Дела его пошли. Хоть и запятнал он свое имя, но все же это не помешало людям играть, и такой был ажиотаж, что сбор принес ему доход почти в сто тысяч экю, с помощью коих уплатил он добрую часть долгов; еще забрал он у своей любовницы обязательство на десять тысяч экю, вернув ей наличными. Жид Эфраим взял капитал на хранение, уплачивая ей шесть процентов годовых.
После сего удачного тиража Кальзабиджи нетрудно было найти поручителей на миллион, поделенный на тысячу паев, и лотерея благополучно шла своим чередом еще два или три года, но под конец сей муж все-таки обанкротился и отправился умирать в Италию. Любовница его вышла замуж и воротилась в Париж.
В ту пору герцогиня Брауншвейгская, сестра короля, пожаловала к нему с визитом вместе с дочерью, на которой через год женился кронпринц. По этому случаю король прибыл в Берлин, и в ее честь в маленьком театре Шарлотенбурга была представлена итальянская опера. Я видел в тот день короля Прусского, одетого в придворный наряд: люстриновый камзол, расшитый золотыми позументами, и черные чулки. Выглядел он весьма комично. Он вошел в зрительную залу, держа шляпу под мышкой и ведя под руку сестру; все взоры были обращены на него, одни старики могли вспомнить, что видели его на людях без мундира и сапог.
На сем спектакле я был изрядно удивлен, увидав, что танцует знаменитая Дени. Я не знал, что она состоит на службе у короля, и, пользуясь правом давнишнего знакомства, решил завтра же отправиться к ней с визитом в Берлин.
Когда мне было двенадцать лет, матушка моя должна была ехать в Саксонию и отослала меня на несколько дней в Венецию с моим добрейшим доктором Гоцци. Мы пошли в театр, и более всего удивила меня там восьмилетняя девчушка, которая в конце представления с невероятной грацией танцевала менуэт. Девочка, дочь актера, игравшего Панталоне, так меня пленила, что я потом зашел в уборную, где она переодевалась, чтобы выразить ей мое восхищение. Я был в сутане, и она удивилась, когда отец велел ей встать, чтоб я мог поцеловать ее. Она повиновалась с превеликим изяществом, а я был весьма неловок. Радость столь меня переполняла, что не мог я удержаться и, взяв из рук стоявшей там торговки украшениями колечко, приглянувшееся девочке, но бывшее слишком для нее дорогим, преподнес его ей. Тогда, сияя от благодарности, подошла она, чтоб снова поцеловать меня. Я дал торговке цехин за кольцо и воротился к доктору, ждавшему меня в ложе.
На душе у меня было прескверно, ибо цехин тот принадлежал ему, моему дорогому наставнику, и я, хотя и чувствовал себя бесповоротно влюбленным в хорошенькую дочку Панталоне, еще сильнее чувствовал, что поступил глупо во всех отношениях: во-первых, потому, что распорядился деньгами, мне не принадлежащими, во-вторых, потому, что потратил их как простофиля, получив один лишь поцелуй.
Поелику назавтра надлежало мне держать отчет о деньгах перед доктором, и не зная, где занять цехин, всю ночь я не мог уснуть; назавтра все открылось, и матушка сама дала цехин моему учителю; но мне до сих пор смешно вспомнить, как я сгорал тогда от стыда. Та же самая торговка, что продала мне в театре кольцо, заявилась как-то к нам домой, когда все сидели за столом. Показав украшения, каковые все сочли чрезмерно дорогими, она стала меня нахваливать, сказав, что я не счел дорогим колечко, кое преподнес Панталончине. Сего было достаточно, чтобы мне был устроен допрос с пристрастием. Я думал прекратить дознание, сказав, что одна любовь была причиной моего проступка, и уверяя матушку, что таковой случился в первый и последний раз. При слове любовь все лишь засмеялись и принялись так жестоко надо мной насмехаться, что я твердо решил, что такого никогда больше не повторится, но всякий раз горько вздыхал, вспоминая о малышке Дзанетте; ее так назвали в честь моей матери, ее крестной.
Дав мне цехин, матушка спросила, не пригласить ли ее на ужин, но бабушка воспротивилась, и я был ей благодарен. На другой день я возвратился со своим наставником в Падую, где Беттина без труда заставила меня позабыть Панталончину.
С того времени и до встречи в Шарлотенбурге я ее более не видал. Минуло двадцать семь лет. Ей должно быть теперь тридцать пять. Если б мне не сказали имени, я б ее не узнал, ибо в восемь лет черты лица еще определяются. Мне не терпелось увидеть ее наедине, узнать, помнит ли она ту историю, ибо я почитал невероятным, чтобы она сумела меня признать. Я поинтересовался, с ней ли муж ее Дени, и мне ответили, что король принудил его уехать, ибо он дурно с ней обходился.
Итак, на другой день еду к ней, велю доложить, и она вежливо меня принимает, заметив все же, что не припомнит, чтобы она имела счастье видеть меня раньше.
И тогда я мало-помалу пробудил в ней жгучее любопытство, рассказывая о ее семье, детстве, о том, как она, танцуя менуэт, завораживала Венецию; она прервала меня, сказав, что ей было тогда всего шесть лет, и я отвечал, что, может даже и меньше, ибо мне было всего десять, когда я влюбился в нее.
– Я еще вам не говорил, но я никогда не мог забыть, как вы, повинуясь отцу, поцеловали меня в награду за мой скромный подарок.
– Ах, молчите! Вы подарили мне кольцо. Вы были в сутане. И я тоже часто вспоминала вас. Неужели это вы?
– Это я.
– Я так счастлива! Но я не узнаю вас, быть того не может, что вы узнали меня!
– Не может; если б мне не сказали ваше имя, я б не вспомнил вас.
– За двадцать лет, мой друг, внешность может измениться до неузнаваемости.
– Скажите лучше, в шесть лет внешность еще не складывается.
– Так значит, вы можете засвидетельствовать, что мне всего двадцать шесть; а злые языки набавляют мне лишний десяток.
– Пусть их говорят что угодно. Вы в самом расцвете лет, вы созданы для любви; я почитаю себя счастливейшим из всех мужчин, что могу наконец признаться, что вы были первой, кто зажег в моей душе огонь страстей.
Тут мы оба расчувствовались; но опыт научил нас, что на том надобно остановиться и повременить.
Он преследует воображение людей и его тревожит. Охотно рассказывая о «галантных похождениях» Казановы, его лишают глубины. Короче говоря, ему завидуют, о нем говорят со смутной досадой, тоном уязвленного покровительства. Феллини дошел до такой глупости, что назвал Казанову глупцом. А следовало бы воспринять его наконец таким, каким он был: простым, прямым, отважным, просвещенным, обаятельным, веселым. Философом в действии.
Филипп Соллерс. «Казанова Великолепный»Дени, еще красивая, молодая, благоухающая, убавляла себе десять лет; она знала, что я это знаю, и все одно требовала от меня подтверждений; она бы меня возненавидела, если б я, как последний глупец, решился отстаивать правду, известную ей ничуть не хуже, чем мне. Ее не заботило, что я о ней подумаю, это было мое дело. Быть может, она полагала, что я должен быть ей признателен, что столь извинительной ложью она позволяла и мне сбросить десяток лет, и объявляла, что при случае готова сие засвидетельствовать. Мне это было безразлично. Убавлять возраст – удел актрис, ибо им ведомо, что, невзирая на их талант, стоит им постареть, публика к ним охладевает.
С такой великолепной искренностью открыла она мне свою слабость, что я почел это добрым знамением и не сомневался, что она благосклонно отнесется к моим воздыханиям и не заставит понапрасну страдать. Она показала мне свой дом, и, видя, в какой роскоши она живет, я осведомился, есть ли у нее сердечный друг; она отвечала с улыбкой, что весь Берлин в том убежден, но что люди ошибаются: он скорей заменяет ей отца, нежели любовника.
– Но вы достойны истинного возлюбленного, мне не верится, что у вас его нет.
– Уверяю вас, меня это не заботит. Я подвержена судорогам, составляющим несчастье моей жизни. Я хотела поехать на воды в Теплице, где, как меня уверяли, я от них вылечусь, но король не дозволил; на следующий год уж я поеду наверняка.
Она видела мой пыл и, казалось, была довольна моей сдержанностью; я спросил, не будут ли ей в тягость частые мои посещения. Она со смехом отвечала, что, если я не против, она назовется моей племянницей или кузиной. На что я всерьез возразил, что это вполне вероятно, и она, возможно, мне сестра. Обсуждая это, заговорили мы о дружеских чувствах, каковые отец ее всегда питал к моей матери, и незаметно перешли к ласкам, для родственников вовсе не запретным. Я откланялся, когда почувствовал, что скоро зайду слишком далеко. Провожая меня до лестницы, она спросила, не желаю ли я завтра отобедать у нее. Я с благодарностью согласился.
Разгоряченный, возвращался я в гостиницу, размышляя о совпадениях, и порешил в итоге, что я в долгу перед божественным провидением, ибо должен признать, что родился под счастливой звездой.
Способный в один день со свежим пылом влюбиться сразу во многих, он всегда верил новому, верил, что на этот раз он будет любить как никогда прежде, и заражал возлюбленную трогательной верой в чудо.
Герман Кестен. «Казанова»На другой день я приехал к Дени, когда все ее гости уже собрались. Первым выскочил мне навстречу и расцеловал меня юный танцовщик по имени Обри, которого знавал я в Париже статистом в опере, а потом в Венеции – первым «серьезным» танцовщиком, прославившимся тем, что стал он любовником одной из первых дам города и любимчиком ее мужа, каковой иначе не простил бы жене, что она осмелилась соперничать с ним. Обри играл один против двоих, и дошло до того, что он спал между ними. Государственные инквизиторы с началом Великого поста выслали его в Триест. И вот, десять лет спустя встречаю я его у Дени, и он представляет мне свою супругу, тоже танцовщицу, по имени Сантина, на которой женился он в Петербурге, откуда они возвращались, чтоб провести зиму в Париже. Поздравив Обри, вижу я, как ко мне подходит какой-то толстяк и объявляет, что мы дружны вот уже двадцать пять лет, но тогда были так молоды, что не признаем друг друга.
– Мы познакомились в Падуе, – говорит он, – у доктора Гоцци, я Джузеппе да Лольо.
– Как же, помню. Вы были на службе у российской императрицы и славились как искусный виолончелист.
– Именно так. Нынче я возвращаюсь на родину, дабы более не покидать ее; и позвольте представить вам мою жену. Родилась она в Петербурге, это единственная дочь знаменитого учителя музыки, скрипача Мадониса. Через неделю я буду в Дрездене, где рад буду обнять г-жу Казанову, вашу матушку.
Я счастлив был оказаться в столь приятном обществе, но видел, что воспоминания двадцатипятилетней давности не по душе моей красавице г-же Дени. Переведя разговор на события в Петербурге, кои возвели на трон Екатерину Великую, да Лольо открыл нам, что был отчасти замешан в заговоре и почел за лучшее попроситься в отставку; впрочем, он довольно разбогател, чтобы провести остаток жизни на родине, ни от кого не завися.
Тогда Дени поведала, что десять или двенадцать дней назад ей представили некоего пьемонтца по имени Одар, каковой также покинул Петербург, после того как свил нить всего заговора. Государыня императрица велела ему уехать, наградив сотней тысяч рублей.
Сей господин отправился в Пьемонт приобресть себе землю, рассчитывая жить долго, богато и покойно – было ему от силы сорок пять лет, – но выбрал дурное место. Два или три года спустя в спальню влетела молния и убила его. Если удар этот направила рука невидимая и всемогущая, то, конечно, не рука ангела-хранителя российской империи, решившего отмстить за смерть императора Петра III, ибо если б сей несчастный государь жил и правил, он причинил бы тысячи бедствий.
Екатерина, жена его, отослала, щедро наградив, всех чужеземцев, что помогли ей избавиться от супруга, бывшего врагом ей, сыну ее и всему русскому народу; и отблагодарила всех русских, способствовавших восхождению ее на престол. Она отправила путешествовать всех вельмож, коим сей переворот пришелся не по нраву.
Именно да Лольо и добрая его жена присоветовали мне отправиться в Россию, ежели король Прусский не предложит мне подходящего занятия. Они уверяли меня, что там я составлю себе состояние, и дали превосходные рекомендательные письма.
После отъезда их из Берлина я добился благосклонности Дени. Сблизились мы однажды вечером, когда у нее случились судороги, продолжавшиеся в течение всей ночи. Я провел эту ночь у ее изголовья и утром был вознагражден за двадцатишестилетнее ожидание. Любовная наша связь длилась до моего отъезда из Берлина. Через шесть лет она возобновилась во Флоренции, о чем я расскажу в своем месте.
Таков Казанова – он устраивает себе праздник из каждого мгновения, он не знает длительных помех, ничто его не гнетет, его развлекают и занимают даже собственные болезни и неудачи; и, конечно, всегда и всюду неожиданно возникают женщины, вовлекаемые в его магнетическую круговерть.
Филипп Соллерс. «Казанова Великолепный»Через несколько дней после отъезда супругов да Лольо она любезно вызвалась сопроводить меня в Потсдам, чтоб показать все, достойное обозрения. Поведение наше трудно было назвать предосудительным, ибо она всем рассказала, что я ее дядя, а я ее всюду называл любезной племянницей. Ее друг генерал на сей счет подозрений не имел, или попросту иметь не желал.
В Потсдаме мы видели, как король задал на плацу смотр своему первому батальону, где у каждого солдата в кармане мундира лежали золотые часы. Так король вознаградил отвагу, с каковой они покорили его, как Цезарь в Вифинии покорил Никомеда[123]. Тайны из этого не делали.
Окна комнаты, где мы остановились, выходили на галерею, по которой обыкновенно проходил король, покидая замок. Ставни были затворены, и хозяйка наша поведала тому причину. Она сказала, что одна красавица танцовщица по имени Реджана жила в той комнате, где теперь остановились мы, и король, проходя однажды утром, увидал ее обнаженной. Тотчас же приказал он закрыть ставни; с тех пор минуло четыре года, но их уже более не растворяли. Ее прелести напугали его. После любовной связи с Барбариной. Тайны из этого не делали.
Окна комнаты, где мы остановились, выходили на галерею, по которой обыкновенно проходил король, покидая замок. Ставни были затворены, и хозяйка наша поведала тому причину. Она сказала, что одна красавица танцовщица по имени Реджана жила в той комнате, где теперь остановились мы, и король, проходя однажды утром, увидал ее обнаженной. Тотчас же приказал он закрыть ставни; с тех пор минуло четыре года, но их уже более не растворяли. Ее прелести напугали его. После любовной связи с Барбариной[124] Его Величество стал очень замкнутым. Мы потом видели в королевской опочивальне портрет этой девицы, а также портрет м-ль Кошуа, сестры комедиантки, на коей женился маркиз д’Аржанс, и еще портрет императрицы Марии-Терезии в детстве. <…>
После того, как осмотрели мы дворцовые покои и восхитились их красотой и великолепием, удивительно было видеть, как живет он сам. В углу комнаты стояла за ширмой узкая кровать. Ни халата, ни туфель; бывший там лакей показал нам ночной колпак, который король надевал, когда простужался; а обыкновенно он оставался в шляпе, что, должно быть, весьма неудобно. В той же комнате перед канапе увидел я стол, где лежали письменные принадлежности и наполовину обгоревшие листы тетрадей; лакей сказал, что пожар случился в минувшую войну, и Его Величество столь огорчил вид обгоревших тетрадей, что он оставил свой труд. Но впоследствии он, верно, вновь за него принялся, ибо после его смерти сочинение напечатали[125], правда, интереса оно не вызвало.
Через пять или шесть недель после краткой беседы моей со славным монархом лорд-маршал сказал, что король предлагает мне место наставника в новом кадетском корпусе для молодых дворян из Померании, недавно им учрежденном. Числом их было пятнадцать, и он желал дать им пятерых наставников, из чего выходило, что каждый наставник получал троих, да еще шестьсот экю жалования, и столоваться мог с учениками. То бишь шестьсот экю, назначенные счастливому наставнику, можно было тратить лишь на одежду. У него не было других обязанностей, кроме как всюду сопровождать воспитанников и особливо при дворе в дни празднеств, облачившись в мундир с позументами. Мне надлежало как можно скорее решиться, ибо четверо уже прибыли, а государь ждать не любил. Я спросил милорда, где помещается корпус, дабы осмотреть место, и обещал дать ответ не позже, чем послезавтра.
Мне понадобилось все хладнокровие, отнюдь мне не свойственное, чтобы удержаться от смеха, услыхав столь вздорное предложение от столь рассудительного человека[126]. Но еще более я удивился, увидав, где живут пятнадцать дворян из богатой Померании. Я увидал три или четыре залы, почти без мебели, несколько комнат, в каждой из коих стояла убогая кровать, стол и пара деревянных стульев, юных кадетов двенадцати-тринадцати лет, скверно причесанных, одетых в скверные мундиры, с лицами крестьян. Меж ними видел я наставников, показавшихся мне их лакеями: они глядели на меня со вниманием, не смея вообразить, что я могу оказаться товарищем, коего они ожидают. Когда я собрался уходить, один из воспитателей взглянул в окно и сказал:
– Вон король подъезжает верхом.
Его Величество поднимается вместе с другом своим Квинтом Ицилиусом и начинает все осматривать. Увидев меня, ни слова мне не говорит. На шее моей сиял орденский крест, я был в щегольском фраке из тафты. Но я упал духом, когда увидал великого Фридриха, впавшего в ярость из-за ночного горшка, что стоял у постели одного кадета, и являвшего любопытному взору некий желтоватый осадок, изрядно, видать, вонючий.
– Чья это постель? – вопросил король.
– Моя, Сир, – отвечал один из кадетов.
– Пусть, до вас мне дела нет. Где наставник ваш?
Тут счастливчик предстал пред светлые очи, и государь, назвав его тупицей, устроил ему изрядную головомойку. Единственную милость он ему все же оказал: сказал, что у него есть прислуга, чье дело – наблюдать за чистотой в дому.
Поглядев на бесчеловечную эту сцену, я тихонько протиснулся в дверь и поспешил к лорду-маршалу: мне не терпелось поблагодарить его за великую удачу, какую небо ниспослало мне через его посредство. Он посмеялся, когда я в подробностях поведал ему все происшествие, и сказал, что я буду прав, если пренебрегу сей должностью, но прибавил, что мне надобно непременно выразить благодарность королю перед тем, как покину Берлин. Он, однако ж, вызвался сам уведомить Его Величество, что это место мне негоже. Я сказал милорду, что думаю отправиться в Россию, и взаправду начал готовиться к путешествию: <…> я немедля отписал г-ну де Брагадину, чтоб заручиться рекомендацией к петербургскому банкиру, каковой будет мне ежемесячно выплачивать сумму, достаточную, чтоб жить безбедно.
Он всегда хотел играть: в карты, чужой судьбой, собственным счастьем. Он хотел играть сотни ролей и выступать в сотнях масок Но в каждой роли он представлял одного и того же пестрого Казанову в сверкающем глянце. Герман Кестен. «Казанова»
Приличия требовали, чтобы я ехал туда со слугой, и вот судьба послала мне его, когда я не знал, как мне его сыскать. Как-то к мадам Рюфен заявляется один юный лотарингец, держа в руках узелок, – другой поклажи у него не было. Он сообщает ей, что зовут его Ламбер, что он только что прибыл в Берлин и намерен остановиться у нее.
– Пожалуйста, сударь, но вы будете платить за каждый день.
– Сударыня, у меня нет ни гроша, но мне вышлют, когда я напишу, где поселился.
– Сударь, не могу я вас у себя поселить.
Увидав, что он, разобидевшись, уходит, я сказал, что за этот день за него заплачу, и спросил, что у него в мешке.
– Две рубахи, – ответил он, – и два десятка книг по математике.
Я препроводил его в свою комнату и, найдя его весьма ученым, спросил, по какому случаю очутился он в таковом положении.
– В Страсбурге, – отвечал он, – кадет N* полка дал мне в трактире пощечину. На другой день явился я к нему в комнату и убил на месте. Я тотчас воротился в комнату, в которой проживал, сунул в мешок книги и рубашки и покинул город с двумя луидорами и паспортом в кармане. Я шел всю дорогу пешком, и денег мне достало до сегодняшнего утра. Завтра я отпишу в Люневиль матушке, и я уверен, она пришлет мне денег. Я рассчитываю поступить здесь на службу в инженерный корпус, ибо полагаю, что могу быть полезен, а на худой конец пойду в солдаты.
Я сказал, что поселю его в каморке для прислуги и дам денег на пропитание, покуда не получит он от матери ожидаемого вспомоществования. Он поцеловал мне руку.
Он сильно заикался, но не оттого почел его за обманщика, и на всякий случай тотчас отписал я в Страсбург г-ну Шаумбургу, чтобы вызнать, истинно ли происшествие, о коем он рассказал.
Назавтра поговорил я с офицером инженерного корпуса, каковой заявил, что молодых образованных людей так много в полку, что их более не принимают, разве что если они соглашаются служить солдатами. Мне стало жаль, что парень принужден будет избрать сей путь. Я проводил с ним часы, с циркулем и линейкой в руках, и, видя обширные познания его, вознамерился взять с собой в Петербург и сказал ему о том. Он отвечал, что я составлю его счастье и что охотно станет прислуживать мне в дороге, делая все, что я прикажу. Он дурно изъяснялся по-французски, но поелику был родом из Лотарингии, меня это не удивляло; все же я поразился, что он не только не знал латыни, но и, написав письмо под мою диктовку, сделал ошибки во всех словах. Я посмеялся, он ничуть не обиделся. Он сказал, что в школе учил одну геометрию да математику, радуясь, что скучная грамматика никакого касательства до этих наук не имеет. Сведущий в вычислениях, во всех прочих материях парень был круглым невеждой. Он не знал правил обхождения и по манерам своим и поведению выглядел совершеннейшей деревенщиной.
Дней через десять или двенадцать г-н Шаумбург написал мне из Страсбурга, что о Ламбере никто не слыхивал и в названном полку ни один кадет не был ни ранен, ни убит. Когда я показал ему это письмо, укоряя за ложь, он отвечал, что, думая поступить на воинскую службу, желал прослыть храбрецом, и я должен извинить его, что он рассказывал, будто мать вышлет денег. Ни от кого он помощи не ждал и принялся уверять, что будет мне верен и никогда не обманет. Я посмеялся над этим обещанием и сказал, что мы уедем дней через пять или шесть.
Я отправился в Потсдам с бароном Бодиссоном, венецианцем, каковой намеревался продать королю картину Андреа дель Сарто: я же хотел предстать перед Его Величеством, как мне советовал лорд-маршал.
Я увидел Государя, когда он прогуливался по плацу. Едва завидев меня, он тотчас направился в мою сторону, чтоб спросить, когда я намереваюсь ехать в Петербург.
– Дней через пять или шесть, Сир, с дозволения Вашего Величества.
– Счастливого пути. Но чего ищете вы в тех краях?
– Того, чего искал здесь, Сир, – быть угодным правителю.
– Вас рекомендовали императрице?
– Нет, Сир, только банкиру.
– Правду сказать, это много лучше. Коль будете возвращаться тем же путем, рад буду узнать от вас о тамошних новостях. Прощайте.
Таковы были две беседы мои с великим монархом, коего я более не видал. Распрощавшись со знакомыми и получив от барона Трейдена письмо к г-ну Кайзерлингу, великому канцлеру Митавы, и еще одно, к г-же герцогине, я провел последний вечер с милой Дени, купившей у меня почтовую коляску. Я отправился с двумя сотнями дукатов в кармане, которых хватило бы до конца поездки, если б я не оставил половину в Данциге на разудалой пирушке с молодыми купцами. Незадача эта не позволила подольше задержаться в Кенигсберге, где у меня были рекомендации к губернатору, фельдмаршалу Левальду. Я только на день остановился, чтоб иметь честь пообедать с сим любезным старцем, каковой дал мне письмо в Ригу к генералу Воейкову.
У меня было довольно денег, чтоб пожаловать в Митаву[127] знатным господином, и, наняв четырехместную карету, запряженную шестеркой лошадей, я в три дня доехал до Мемеля[128] вместе с Ламбером, каковой проспал в течение всего пути. В гостинице повстречал я одну скрипачку по имени Бергонци; она принялась оказывать мне знаки внимания, уверяя, что я был в нее влюблен, когда я был еще молодым аббатом. Обстоятельства, кои она поведала, делали историю вполне правдоподобной, но я никак не мог вспомнить ее лица. Я вновь увиделся с ней шесть лет спустя во Флоренции; это случилось в ту пору, когда вновь повстречал я Дени, жившую у нее.
На другой день, как мы отъехали от Мемеля, ближе к полудню, увидел я прямо среди дороги одиноко стоящего господина, в каковом я тотчас распознал жида. Господин сей подошел и заявил мне, что я въехал на участок земли, принадлежащий Польше, и что мне надлежит заплатить пошлину за товары, что я везу. Я тут возражаю, что никаких товаров со мной нет, тогда он объявляет, что должен учинить досмотр. Я говорю, что он спятил, и приказываю кучеру трогать. Жид хватает лошадей под уздцы, кучер не смеет отхлестать негодяя, и тогда я выхожу с тростью в одной руке и пистолетом в другой и принимаюсь колотить его; тот удирает. Во время сей стычки спутник мой даже не потрудился покинуть карету. Он сказал, что не хотел, чтобы жид мог сказать потом, что нас было двое против одного.
Через два дня после сего происшествия приехал я в Митаву и остановился напротив замка[129]. В кошельке у меня осталось три дуката.
Наутро в девять часов я отправился к г-ну Кайзерлингу, каковой, прочитав письмо от барона Трейдена, немедля представил меня своей супруге и откланялся, сказав, что поедет ко двору, дабы отвезти г-же герцогине письмо от ее брата.
Его главным прекрасным и сильным оружием были мотовство и счастье. Он растрачивал колоссально много и особенно свое время.
Герман Кестен. «Казанова»Г-жа Кайзерлинг велела подать мне чашку шоколада, каковую принесла горничная-полька ослепительной красоты. Она стояла предо мною с подносом в руке, опустив глаза, как будто дозволяя сколь угодно любоваться редкостной ее красотой. И тут взял меня каприз: извлек я из кармана три последних моих дуката и, возвращая ей чашку, незаметно положил их на поднос, не переставая беседовать с хозяйкой о Берлине.
Через полчаса канцлер воротился и объявил, что герцогиня не может сей час меня принять, но приглашает на ужин и бал. От бала я немедля отказываюсь, признавшись, что у меня одни летние камзолы да еще один черный. Стоял октябрь, и было уже холодно. Канцлер вернулся ко двору, а я вернулся в гостиницу.
Через полчаса явился камергер, дабы приветствовать меня от имени Его Высочества; еще он сказал, что на предстоящий бал-маскарад я могу прийти в домино. Его нетрудно сыскать у жидов.
– Сперва был объявлен бал, – сказал он мне, – но потом велели известить дворянство, что будет маскарад, поелику иностранец, бывший проездом в Митаву, отослал свой багаж вперед.
Я выказал сожаление, что явился невольной причиной сей перемены, но он уверил, что, напротив, всем по нраву более бал-маскарад, поелику там много позволено. Назвав час, он откланялся.
В России прусские деньги хождения не имели, и вот явился ко мне один жид осведомиться, не осталось ли у меня фридрихсталеров, предлагая обменять их на дукаты без какого-либо урона для меня. Я ответствовал, что у меня одни дукаты, он сказал, что сие ему известно, как и то, что я отдаю их задаром. Я не понял, что он замышляет, а он продолжил, что готов ссудить двести дукатов, а я возвращу их ему рублями в Петербурге. Немало удивленный услужливостью сего мужа, я сказал, что с меня довольно будет ста, и он сей же час мне их отсчитал. Я выдал ему вексель на имя банкира Деметрио Папанелополо, к коему у меня было письмо от да Лольо. Он поблагодарил и ушел, обещав прислать домино. Ламбер побежал ему вслед, чтоб приказать еще и чулки. Вернувшись, он поведал, что жид рассказал хозяину о моей расточительности: дескать, горничная г-жи Кайзерлинг получила от меня три дуката.
Вся его жизнь есть непрерывное движение от одного города к другому от одной любви к другой от удачи к неудаче и затем к новой удаче, и так без конца.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Итак, ничто в мире не бывает ни просто, ни трудно само по себе, а зависит единственно от наших деяний и капризов фортуны. Я ни гроша бы не сыскал в Митаве, не совершив безумного подношения из трех дукатов. Это было просто чудо, что девица тут же все разболтала, а жид, дабы заработать на обмене, поспешил предлагать дукаты знатному господину, швыряющему их на ветер.
Я велел к назначенному часу доставить меня ко двору, где сперва г-н Кайзерлинг представил меня герцогине, а та представила меня герцогу, знаменитому Бирону или Бирену, который был некогда фаворитом императрицы Анны Иоанновны и регентом Российским после ее смерти, а затем сослан на двадцать лет в Сибирь. Росту он был шести футов, и видно было, что был он некогда красив, но старость съедает красоту. Два дня спустя я имел с ним долгую беседу.
Бал начался через четверть часа после моего прибытия. Открывался он полонезом, и герцогиня почла за долг оказать мне, как иностранцу, честь танцевать с ней. Полонез я танцевать не умел, но он настолько прост, что любой, не учась, сумеет его танцевать. Это настоящая процессия, состоящая из множества пар, первая из которых ведет, и надо лишь повторять за ней туры направо или налево. Несмотря на однообразие па и движений рук, танец дозволяет паре выказать свое изящество. Это самый величественный и самый простой из танцев, где любой гость может явить себя во всем блеске.
После полонеза танцевали менуэты, и одна дама, скорее старая, чем молодая, спросила, умею ли я танцевать «любезного победителя»[130]. Я отвечал «да», ничуть не удивившись желанию дамы, ибо она, по всему видать, великолепно танцевала его в молодые годы. Со времен Регентства его более не танцуют. Все юные барышни были в восторге.
После главного контрданса, который я танцевал с девицей Мантейфель, самой красивой из четырех фрейлин герцогини, последняя прислала мне сказать, что сейчас будет подан ужин. Я поспешил предложить ей руку и оказался рядом с ней за столом на двенадцать персон, где я был единственный мужчина. Остальные одиннадцать были старые светские дамы. Я удивился, что в маленькой Митаве столько знатных матрон. Герцогиня выказывала мне внимание, вовлекая в беседу, и в конце ужина преподнесла бокал, полный напитка, каковой я принял за токайское, но то было всего лишь хорошо выдержанное английское пиво. Я расхвалил его. Мы вернулись в залу.
Тот самый юный камергер, что пригласил меня на бал, познакомил меня с прекрасной половиной здешнего светского общества, но у меня недостало времени ни за кем поухаживать.
На другой день обедал я у г-на Кайзерлинга, а Ламбера отправил к жиду, чтоб тот сыскал ему приличный наряд.
На следующий день я был приглашен ко двору герцога на обед, где были одни мужчины. Старый князь беспрестанно понуждал меня говорить. В конце обеда зашла речь о богатствах сего края, заключенных в рудах и минералах, и я позволил себе отметить, что богатства эти, от добычи зависящие, не вечны, и, чтоб подкрепить свое мнение, принялся рассуждать о сих материях, как если б я знал их до тонкостей и в теории, и на практике. Пожилой камергер, управлявший рудниками Курляндии и Семигалии, выслушав все, что подсказало мне воодушевление, углубился в сей предмет, возражая мне, но в то же время соглашаясь со всем, что я мог сказать дельного об экономии, от коей зависят доходы от добычи.
Нет такого предмета, в коем он не почитал бы себя знатоком: в правилах танца, французского языка, хорошего вкуса и светского обхождения.
Шарль де Линь. «Рыцарь Фортуны»Если б я знал, пустившись в многозначительные рассуждения, что слушает меня знаток подлинный, я бы, разумеется, был сдержанней в речах, ибо ничего в этом деле не разумел; но в таком разе не сумел бы я себя показать и много от того потерял бы. Сам герцог проникся уважением к моим познаниям.
После обеда он проводил меня в кабинет и попросил задержаться на две недели, если я не очень тороплюсь в Петербург. Я объявил, что всецело к его услугам, и он сказал, что камергер, что толковал со мною, покажет мне все заведения, каковые только есть в герцогстве, и он будет благодарен мне, коль скоро напишу я свои замечания об экономном ими управлении. Я немедля согласился, и отъезд назначили на завтра. Герцог, весьма довольный тем, что я пошел навстречу его желаниям, велел позвать камергера, обещавшего ждать меня на рассвете у ворот гостиницы в карете, запряженной шестеркой лошадей.
Придя домой, я немедля собрался и велел Ламберу взять с собой готовальню и быть готовым отправиться со мною; узнав, в чем дело, он уверил меня, что, хотя наука сия ему неведома, он поспешествует мне в силу своего разумения.
Ровно в назначенный час мы отправились: мы втроем сидели в карете, один слуга – на запятках, впереди двое других – верхом, с саблями и ружьями. Каждые два или три часа мы останавливались в каком-нибудь месте, чтобы переменить лошадей и чем-нибудь подкрепиться, попивая доброе рейнское или французское вино, коего у нас в карете был изрядный запас.
Он обманывал всех: врагов и подруг, и главным образом своих друзей, но так же часто он выставлял на всеобщее обозрение свои недостатки, как свои шелковые штаны, золоченую табакерку и дукаты, которыми он звенел во всех карманах, свою всегда готовую шпагу, а он был готов еще с ранней молодости, и фальшивый титул, и поддельный орден.
Герман Кестен. «Казанова»За две недели, проведенные нами в путешествии, посетили мы пять селений, где проживали те, кто работал в рудниках – медных или железных. Мне и не надо было быть знатоком: всюду можно что-нибудь взять на заметку, пораскинуть умом, в первую голову насчет экономии, о чем особо просил меня герцог. В одном заведении я понуждал переделать то, что почитал ненужным, в другом советовал увеличить число работников, что увеличило б доход. В главный рудник, где работали тридцать человек, я велел отвести канал от небольшой речки; канал сей шел под уклон и, хоть и был невелик, имел довольно быстрый ход, ибо вода в нем, падая сверху, при поднятом шлюзе, могла вертеть три колеса, позволявших управителю сберечь двадцать человек; а Ламбер по моим указаниям написал превосходный план: замерил высоты, начертил шлюз и колеса, расставил собственноручно знаки на земле, слева и справа, чтоб разметить весь канал целиком. Посредством многоразличных каналов я осушил обширные низменности, чтоб добывать во множестве серы и купороса, премного содержавшихся в землях, что мы объезжали.
Я воротился в Митаву довольный сам собой: оказывается, я не хвалился, а рассуждал здраво и открыл в себе таланты, о коих не догадывался. Весь следующий день приводил я в порядок свои наблюдения и отдал сделать увеличенные копии с рисунков, что присовокупил к отчету.
Через два дня представил я герцогу свои замечания, за которые он умел выказать мне величайшую признательность, и распрощался, поблагодарив за оказанную честь. Он заявил, что велит отвезти меня в Ригу в одной из своих карет и даст письмо к сыну своему, принцу Карлу, что стоял там гарнизоном. Умудренный опытом старец спросил, угодно ли мне получить в подарок перстень или его стоимость деньгами. Я отвечал ему, что от такого государя как он я бы предпочел деньги, хотя с меня достало бы просто удостоиться чести поцеловать ему руку. Тогда дал он мне записку для казначея с предписанием уплатить по предъявлению оной четыреста альбрехтталеров. Я получил их голландскими дукатами, отчеканенными в Митаве. Альбрехтталер стоит полдуката. Я отправился поцеловать руку г-же герцогине и во второй раз пообедал с г-ном Кайзерлингом.
…Казанова сознательно распыляет свои таланты в мгновениях; и тот, кто мог бы стать всем, предпочитает быть никем, но свободным. Его гораздо больше может осчастливить свобода, несвязанность и легкомысленное шатание, чем какая-нибудь профессия, требующая оседлости.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»Наутро знакомый мне молодой камергер доставил мне письмо от герцога к сыну и пожелал счастливого пути, упредив, что придворная карета, на коей отправлюсь я в Ригу, ждет меня у ворот гостиницы.
Дальнейшие похождения Казановы
В 1765 году полезные знакомства и уверенность в успехе привели Казанову в Россию.
Глава 6 Россия
…В ту пору императрица Екатерина II, желая посмотреть земли, властительницей коих сделалась, и себя показать, проезжала через Ригу по пути в Варшаву, где уже была немало известна: посадила она на престол Станислава Понятовского, давнего своего знакомца. И именно тогда, в Риге я впервые увидал эту великую государыню. Я был свидетелем, с какой ласковостью и приветливостью принимала она изъявления верноподданнических чувств от ливонского дворянства, как дарила поцелуи благородным девицам, подходившим к ручке. Сопровождали ее Орловы и еще трое или четверо других, бывших во главе заговора.
Для увеселения верных своих слуг царица любезно объявила, что намерена держать небольшой банк в фараон на десять тысяч рублей. Сей же час принесли золото и карты. Екатерина устроилась поудобнее, взяла колоду, сделала вид, что тасует, дала раздать карты первому попавшемуся на глаза и имела удовольствие лицезреть, как сорвала она банк после первой же тальи. Чего, впрочем, трудно было избежать, ибо понтирующие были в здравом уме: ведь ежели карты не стасованы, то, увидав первую, все тотчас поняли, какая карта выигрышная. На следующий день она уехала в Митаву, где ей устроили вход через деревянную триумфальную арку: то ли камень там был диковиной, то ли недостало времени соорудить что-либо более основательное.
Но на другой день к полудню всех охватила тревога, когда узнали, что в Петербурге едва не случилась революция. Из Шлиссельбургской крепости попытались силой освободить несчастного Иоанна, еще в колыбели провозглашенного императором и лишенного престола Елизаветой Петровной. Два офицера из крепостной охраны, коим был вверен царственный узник, убили невинного императора, чтоб воспрепятствовать похищению его, и схватили смельчака, решившегося на столь отчаянный поступок, который мог бы вознести его на вершину судьбы в случае счастливого исхода. Мученическая смерть императора произвела такое волнение в городе, что осмотрительный Панин, опасаясь бунта, стал немедля слать гонца за гонцом, дабы известить государыню, что ей надобно быть в столице. По той причине Екатерина покинула Митаву через сутки после приезда и вместо того, чтобы ехать в Варшаву, поспешила в Петербург, где, впрочем, к тому моменту все стихло. Повинуясь государственным интересам, она наградила убийц несчастного императора и велела отрубить голову честолюбцу, который, желая возвыситься, покушался свергнуть ее.
То, что, как говорят, она была заодно с убийцами, – чистая клевета. Сердце ее было хоть и холодным, но не жестким. Когда я увидал ее в Риге, ей было тридцать пять лет, из них вот уже два она была на троне. Красавицей она не была, но по праву нравилась всем, кто знал ее: высокая[131], хорошего сложения, приветливая, обходительная и, главное, всегда спокойная. <…>
Я покинул Ригу 15 декабря в жестокий мороз, но я его даже не почувствовал. Едучи день и ночь и не покидая дормеза, добрался я за шестьдесят часов. Быстрота сия проистекала оттого, что в Риге я оплатил наперед все перемены, выправив подорожную у губернатора Ливонии маршала Брауна. Путь этот примерно равен дороге от Парижа до Лиона, ибо французская миля равна примерно четырем верстам с четвертью. <…>
Молодой Ламбер, лежавший рядом со мной в дормезе, только и делал, что ел, пил и спал и ни слова не проронил, ибо ни о чем другом, кроме как о математике, что не много меня занимала, говорить не умел, да к тому же еще и заикался. Не изрекал он ни шутки, ни жалобы, ни единого замечания, ни одобрительного, ни критического, о том, что видели мы в пути; он был скучен и глуп, оттого-то имел он такую счастливую особенность никогда не скучать. В Риге, где я никому его не представил, ибо был он непрезентабелен, он ничего другого не делал, кроме как ходил в залу к учителю фехтования, или еще свел знакомство с местными бездельниками и ходил с ними в кабак накачиваться пивом; не знаю, как умудрялся он делать сие с небольшими своими деньгами.
За всю недолгую дорогу от Риги до Петербурга я только раз задержался на полчаса в Нарве, где надо было предъявить паспорт, какового у меня не было. Я объявил губернатору, что, будучи венецианцем и путешествуя для собственного удовольствия, я никогда не имел нужды в паспорте, ибо моя республика ни с какой державой не воюет, а российского посланника в Венеции нет[132].
– Ежели ваше превосходительство, – сказал я, – усматривает какие-либо препятствия, я готов воротиться назад, но я пожалуюсь маршалу Брауну, каковой выписал мне подорожную, зная, что никакого паспорта у меня нет.
Сей губернатор чуть поразмыслил и выдал мне нечто вроде паспорта, – он до сих пор у меня хранится, – и с ним я въехал в Петербург: никто его у меня не спросил и даже не заглянул в карету. От Копорья до Петербурга нет никаких мест, чтоб пообедать или переночевать, кроме как в частных домах, а не на станции. Край этот пустынный, и даже по-русски здесь не разумеют. Это Ингерманландия, и говорят здесь на особом языке, ни на один другой не похожем. Крестьяне сей губернии развлекаются тем, что тащут что придется у проезжающих, стоит лишь оставить карету на миг без присмотра.
Я въехал в Петербург вместе с первыми лучами солнца, позолотившими небосвод. Поелику то был день зимнего солнцестояния и я видел его восход над бескрайней равниной ровно в девять часов двадцать четыре минуты, то могу уверить читателя, что самая долгая ночь в тех краях длится восемнадцать часов и три четверти.
Остановился я на большой и красивой улице, что называется Миллионная. Мне сдали недорого две хорошие комнаты, в коих не было вовсе мебели, но мне немедля принесли две кровати, четыре стула и два столика. Едва увидал я громадные печи, стоящие всюду, подумал было, что нужно извести уйму дров, чтоб их протопить, – отнюдь; в России самые лучшие мастера класть печи, как в Венеции – лучшие мастера устроить водоем или источник. В летнюю пору исследовал я нутро квадратной печи высотой в двенадцать футов и шириной в шесть, что была в углу большой залы.
Неутомимое любопытство было настоящей страстью этого человека Возрождения, заблудившегося среди нелюбопытного, скептического и рассудительного XVIII века…
П. П. Муратов. «Образы Италии»Я осмотрел ее от топки, где сжигали поленья, до самого верху, где начинался рукав, по коему дым шел в трубу; так вот, я увидал печные обороты, что, извиваясь, поднимаются вверх. Печи эти целый день сохраняют тепло в комнате, кою обогревают, благодаря отверстию наверху у основания рукава, каковое слуга закрывает, потянув за веревочку, как только убедится, что весь дым от дров вышел. Как только через маленькое оконце внизу печи он видит, что все дрова стали углями, он преграждает ход теплу и вверху, и внизу. Крайне редко печь топят два раза в день, разве что у вельмож, где слугам запрещено закрывать заслонку. И вот какова причина мудрого сего запрета.
Если случится хозяину, пришедши домой уставшим с охоты или с дороги, приказать истопить ему перед сном печь, а слуга по оплошности или второпях закроет заслонку, когда еще не весь дым вышел, спящий не проснется более. Стеная и не открыв глаз, отдаст он Богу душу через три или четыре часа. Утром входят в комнату, чуют угарный дух, видят покойника, открывают поддувало внизу, оттуда вырывается облако дыма, тотчас заполняющего залу, распахивают двери и окна, но хозяина уже не воротить; тщетно ищут всюду слугу, но тот уже ударился в бега, его непременно находят, с легкостью удивительной, и без разговоров вешают, хоть он и божится, что не имел злого умысла. Средство верное, ибо без сего мудрого установления любой слуга мог бы безнаказанно отравить своего господина.
Уговорившись, сколько причитается с меня за дрова и стол, и найдя цену весьма умеренной (чего уж нет более, все так же дорого, как в Лондоне[133]), я купил комод и большой стол, чтоб на нем писать и разложить бумаги и книги.
Я обнаружил, что в Петербурге все, кроме простонародья, говорят на немецком языке[134], я с трудом понимал его, но мог изъясниться. Сразу после обеда хозяин сообщил, что при дворе дают бал-маскарад, бесплатно, на пять тысяч человек. Длился он шестьдесят часов. Была это суббота. Хозяин дает мне требуемый билет, каковой надо было лишь показать у ворот императорского дворца[135]. Я решаю идти: у меня ведь есть домино, что купил я в Митаве. Я посылаю за маской, и носильщики доставляют меня ко двору, где я вижу великое множество людей, танцующих в комнатах, под звуки различных оркестров. Я обхожу комнаты, вижу буфетные, где любой может утолить голод или жажду. Вижу всюду веселие, непринужденность, роскошь, обилие свечей, от коих было светло, как днем, во всех уголках, куда б я ни заглядывал. Все кажется мне пышным, великолепным и достойным восхищения. Три или четыре часа проходят незаметно. Я слышу, как рядом какая-то маска говорит соседу:
– Вон, верно, государыня; она думает, что ее никто не признает, но рядом тотчас увидишь Григория Григорьевича Орлова: ему велено следовать за нею поодаль; его домино стоит подороже десяти копеек, не то что на ней.
Я следую за ней и убеждаюсь сам, ибо слышу голоса сотен масок, повторяющих то же и делающих вид, что не узнают ее. Те, кто взаправду не признал государыню, натыкались на нее, пробираясь сквозь толпу; и я воображал, как должна она быть довольна, уверившись, что никто ее не узнает. Я видел, как частенько подсаживалась она к людям, беседующим промеж собой по-русски и, быть может, говорившим о ней. Так она рисковала услыхать нечто неприятное, но взамен получала редкостную возможность узнать правду, не льстя себя надеждой услыхать ее из уст тех, кто обхаживал ее без маски. Я видел издали маску, которую окрестили Орловым: он не терял ее из виду; а его все признавали по высокому росту и всегда склоненной голове.
Я вхожу в залу, где танцуют кадриль, и с удовольствием вижу, что танцуют ее изрядно, на французский манер, но меня отвлекает вошедший в залу мужчина, одетый венецианцем, – баута[136], черный плащ, белая маска, заломленная шляпа. Я уверяюсь, что он и впрямь венецианец: чужеземцу никогда не одеться, как мы. По случайности он становится посмотреть на кадриль рядом со мной. Мне взбрело на ум обратиться к нему по-французски; я говорю, что видел в Европе многих людей, одетых венецианцами, но его наряд настолько хорош, что я готов принять его за венецианца.
– А я и вправду из Венеции.
– Я тоже.
– Я не шучу.
– Я еще меньше.
– Тогда перейдем на венецианский.
– Начните, я отвечу.
Он начинает разговор, и по слову «Sabato», «суббота», я понимаю, что он не из Венеции.
– Вы, – говорю, – из Венето, но не из столицы, иначе сказали бы «Sabo».
– Так и есть, а, судя по вашему выговору, вы действительно из столицы. Я полагал, что в Петербурге нет другого венецианца, кроме Бернарди.
– Всякий может ошибиться.
– Я граф Вольпати из Тревизо.
– Скажите мне ваш адрес, я назову свое имя у вас, здесь я этого сделать не могу[137].
– Извольте.
Я покидаю его; спустя два или три часа меня привлекает девица, одетая в домино, окруженная толпой масок, она говорит тоненьким голоском на парижский лад, как на балу в Опере. Я не признаю ее по голосу, но по речам уверяюсь, что эта маска хорошая моя знакомая, ибо непрестанно слышу словечки и обороты, что я ввел в моду в парижских домах: «О! Хорошенькое дело! Дорогуша!»
Обилие подобных фраз моего собственного изготовления пробуждает во мне любопытство. Я молча стою рядом и терпеливо жду, когда она снимет маску, чтоб украдкой увидать ее лицо, и через час мне это удается. Пришла ей охота высморкаться, и с удивлением узнал я Баре, чулочницу с улицы Сент-Оноре, на чьей свадьбе в особняке Эльбефов я гулял семь лет назад. Какими судьбами в Петербурге? Угасшая страсть пробуждается во мне, я подхожу и этаким фальцетом говорю, что я ее друг из особняка Эльбефов.
Услышав сие слово, она замолкает, не зная, что отвечать. Я говорю ей на ухо: Жильбер, Баре: имена сии могла знать только она и один ее возлюбленный; в ней пробуждается любопытство, она говорит со мной одним. Я напоминаю ей об улице Прувер, она понимает, что мне все про нее известно, поднимается, покидает окружавших ее и принимается прогуливаться со мной, заклиная назвать себя, когда я говорю, что имел счастье быть ее возлюбленным. Она умоляет никому не сказывать то, что знаю о ней, говорит, что уехала из Парижа с г-ном де л’Англадом, советником руанского Парламента, коего она вскоре покинула ради директора комической оперы, каковой взял ее с собой в Петербург как актрису, что зовут ее теперь Ланглад, а содержит ее граф Ржевский, польский посол.
– Но кто вы?
Уверившись, что она не сможет отказать мне в визитах с глазу на глаз, я открыл лицо. Узнав меня, она безумно обрадовалась и сказала, что меня привел в Петербург ее ангел-хранитель, ибо Ржевскому надобно возвращаться в Польшу, а только такому человеку, как я, она могла довериться, дабы покинуть Россию, каковую терпеть не может, где принуждена заниматься ремеслом, для коего не создана, ибо не умела ни представлять, ни петь. Она сказала мне адрес и час, и я оставил ее веселиться на балу, чрезвычайно обрадованный встречей.
Для Казановы и деньги и известность были лишь средством Целью его была любовь Женщины наполняли его жизнь, и женщины составляют предмет всех его рассказов.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Я отправился в буфетную, где отменно поел и выпил, затем вновь воротился в толпу, где увидал, что Ланглад беседует с Вольпати. Он видел ее со мной и захотел вызнать мое имя, но, храня тайну, как я велел, она отвечала, что я ее муж, и так же она меня подозвала. Я подошел, и она сказала, что человек в маске не поверил этой правде. Признание юной сумасбродки было из тех, что делают на балах. Проведши там немало часов, я решил воротиться в гостиницу, сел в портшез и отправился спать, намереваясь наутро пойти к мессе. Отправляли службу в католическом храме длиннобородые монахи-францисканцы.
Поспав как следует, я открываю глаза и удивляюсь, что еще не рассвело. Поворачиваюсь на другой бок, засыпаю, но через четверть часа пробуждаюсь, сетуя, что так помалу сплю. Светает, я встаю в уверенности, что дурно провел ночь, зову слугу, одеваюсь, посылаю за парикмахером и велю слуге поторопиться, ибо хочу поспеть к воскресной мессе; он отвечает, что сегодня понедельник и что я провел в постели двадцать семь часов.
Уразумев, в чем дело, я смеюсь и убеждаюсь, что все правда, раз я умираю с голода. Вот единственный день моей жизни, который я и впрямь, можно сказать, потерял. Я велел отнести себя к Деметрио Папанелопуло, греческому купцу, у которого был открыт для меня кредит на сто рублей в месяц. С рекомендательным письмом от да Лольо я был принят исключительно радушно; он просил меня обедать у него все дни и тотчас уплатил за прошедший месяц, присовокупив, что учел мой митавский вексель. Он сыскал мне слугу, за коего поручился, и карету за восемнадцать рублей в месяц, что составляло чуть более шести цехинов. Такая дешевизна меня подивила; но нынче все не так, как прежде. Он оставил меня обедать, и за столом я свел знакомство с юным Бернарди, чей отец был отравлен по подозрению, о коем не должно мне здесь распространяться[138]. Юноша прибыл в Петербург ходатайствовать об уплате денег, что причитались покойному отцу за бриллианты, проданные императрице Елизавете. Он жил на пансионе у Папанелопуло. После обеда явился граф Вольпати и поведал о случае на балу, когда он повстречал неведомого венецианца, обещавшего нанести ему визит. Поелику он узнал меня по имени, то сразу смекнул, что это я, когда купец меня представил, и я не стал отпираться.
Сей граф собирался уезжать; о том уже пропечатали в газете; таков обычай в России – выдавать паспорт спустя две недели, как публику известят об отъезде. По этой причине купцы охотно поверяют чужеземцам на слово, а чужеземцы крепко думают, прежде чем залезть в долги, ибо надеяться им не на что. Бернарди не мог дождаться отъезда графа Вольпати, любовника некоей танцовщицы по имени Фузи, от каковой мог надеяться добиться известных благ лишь после его отъезда. Эта самая Фузи после отъезда графа так ловко повела дело с влюбленным и неопытным юношей, что женила его на себе, уронив его в глазах императрицы, велевшей заплатить ему, но не пожелавшей слушать тех, кто просил для него места. Спустя два года после моего отъезда он умер, а что сталось со вдовой – сие мне неведомо.
На другой день я отнес письмо Петру Ивановичу Мелиссино, тогда полковнику, а ныне генералу от артиллерии. Письмо было от г-жи да Лольо, он был когда-то ее любовником. Он принял меня ласково, представил любезной своей супруге и раз навсегда просил непременно ужинать у него. Хозяйство он вел на французский лад, у него играли и ужинали без церемоний. Я свел знакомство со старшим его братом, прокурором Синода, женатым на княжне Долгорукой. Играли в фараон; общество состояло из людей, не привыкших нигде ни сетовать на проигрыш, ни бахвалиться выигрышем, а посему уверенных, что правительство не дознается, что нарушают закон, запрещающий игры. Держал банк сын небезызвестного Лефорта, барон Лефорт. Он был в ту пору в немилости из-за лотереи, кою устроил в Москве в честь восшествия на престол императрицы, каковая сама предоставила обеспечение оной для увеселения придворных. Лотерея сия лопнула из-за нерадивости служителей, клеветники заставили подозревать в неудаче барона. Я играл по маленькой и выиграл несколько рублей. За ужином мы сидели рядом, свели знакомство, и, когда я позже посетил его, он сам поведал мне о своих невзгодах.
Казанова любил азартную игру; один раз он провел за картами, не вставая с места, сорок два часа. Он много выигрывал, много проигрывал, но больше все-таки выигрывал. Он хорошо знал игру, он знал также искусство помогать слепой фортуне, хотя и не любил прибегать к нему. Только крайность заставляла его играть нечестно. В большинстве случаев он играл на счастье и увлекался только такой игрой.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Заговорив об игре, я с похвалой отозвался о благородной невозмутимости, с которой князь N проиграл ему тысячу рублей. Он рассмеялся и сказал, что славный игрок, невозмутимостью коего я так восхищался, никогда не платит.
– А долг чести?
– В здешних краях честь от того не страдает. Существует негласный уговор, что тот, кто играет под честное слово, сам волен решать, платить иль нет, и никто тут ему не указ. Коль выигравший потребует уплаты, выставит себя на посмешище.
– Но тогда банкомет волен отказывать тем, кто играет под честное слово.
– Да, и никто не в обиде. Либо игрок уходит, либо оставляет залог прямо на кону. Юноши из самых благородных семейств выучились плутовать и похваляются тем; некто Матюшкин[139] уверяет, что никакому иноземному мошеннику его не обыграть. Он нынче получил дозволение отправиться на три года путешествовать и рассчитывает вернуться богачом.
Я познакомился у Мелиссино с молодым гвардейским офицером Зиновьевым, родственником Орловых, который свел меня с английским посланником Макартни, красивым и умным юношей, имевшим слабость влюбиться в девицу Хитрово, фрейлину императрицы, и дерзость сделать ей ребенка. Императрица почла сию английскую вольность неслыханной наглостью, девицу, превосходно танцевавшую на императорских подмостках, простила, а посланника приказала отозвать. Я знал брата сей фрейлины, уже тогда офицера, красивого юношу, подававшего большие надежды. На том самом дворянском придворном спектакле, где танцевала Хитрово, видел я также, как танцует девица Сиверс, ныне княгиня Н. Н., которую повстречал я четыре года назад в Дрездене вместе с дочерью ее, превосходно воспитанной, искусной рисовальщицей. Девица Сиверс очаровала меня. Я влюбился, но не имел случая объясниться, ибо так никогда и не был ей представлен. Танцевала она отменно.
Певец-кастрат Путини пользовался ее благосклонностью, заслужив ее своим талантом и умом. Он жил там же у графа Сиверса. Именно Путини вызвал в Петербург венецианского регента Галуппи по прозванию Буранелло, каковой прибыл на следующий год, когда я уезжал.
Деметрио Папанелопуло познакомил меня с кабинет-министром Алсуфьевым, огромным толстяком, недюжинного ума, единственным образованным человеком из всех, с кем свел я знакомство в России, ибо он черпал знания не из книг Вольтера, а учась в юности в Упсале[140]. Этот редкостный муж, любивший женщин, вино и изысканный стол, пригласил меня на обед к Локателли в Екатерингоф[141], в государев дом, пожалованный императрицей в пожизненное владение сему престарелому директору театров[142]. Он удивился, увидав меня, а я того пуще, увидав, что он стал ресторатором, ибо именно этим он и занимался в Екатерингофе, где по рублю с головы, ежели без вина, кормил всех приезжих превосходным обедом. Г-н Алсуфьев представил меня другому статс-секретарю, Теплову, любителю пригожих мальчиков; он выслужился, удавив Петра III, которого не смогли отравить мышьяком, ибо он пил лимонад. Третьему статс-секретарю, Елагину, проведшему двадцать лет в Сибири, меня представила его любовница, танцовщица Мекур, каковой я передал письмо от Сантины, мы с ней свели знакомство раньше, проездом в Берлине. Письмо от да Лольо сделало меня своим человеком в доме певца-кастрата Луини, обладавшего чудным голосом, красивого, обходительного, гурмана и хлебосола. Колонна, первая певица, была его любовницей. Они жили вместе, беспрестанно ругаясь. Я ни разу не видел их в согласии.
У Луини я свел знакомство с другим кастратом, любезным и ловким, по имени Миллико; последний частенько хаживал к обер-егермейстеру Нарышкину, человеку любезному и ценителю изящной словесности, где столь много рассказывал обо мне, что тот изъявил желание со мной познакомиться. Он был мужем известной всем Марии Павловны[143]. За роскошным столом обер-егермейстера я познакомился с калогером[144] Платоном, ныне архиепископом новгородским, а тогда духовником императрицы. Этот русский монах знал греческий, говорил на латыни и французском, был умен и красив, и, конечно же, преуспел в стране, где никогда дворянство не опускалось до того, чтоб домогаться церковных должностей.
Казанова высоко ценит людей преданных науке или искусствам. И такие люди часто испытывают к нему дружбу и даже уважение. П. П. Муратов. «Образы Италии»
Я отнес письмо да Лольо княгине Дашковой, что жила в трех верстах от Петербурга; ее удалили от двора после того, как она помогла императрице взойти на престол, рассчитывая править вместе с ней, а Екатерина умерила ее честолюбие. Княгиня носила траур по мужу, скончавшемуся в Варшаве. Она замолвила обо мне слово перед г-ном Паниным и спустя три дня прислала записку, известив, что я могу явиться к нему, когда мне будет угодно. Я невольно восхитился императрицей: она наложила опалу на княгиню Дашкову, но не препятствовала первому министру ездить любезничать к ней каждый вечер. Я слыхал от лиц, заслуживающих всяческого доверия, что граф Панин был не любовником г-же Дашковой, а отцом. Сия княгиня стала нынче президентом Академии наук. Ученые мужи сгорели бы со стыда, что ими правит женщина, когда бы не признали в ней Минерву. Единственное, чего России не хватает, – это чтобы какая-нибудь великая женщина командовала войском.
Меня поразила одна вещь, каковую наблюдал я вместе с Мелиссино: на Крещенье освящают воду в Неве, покрытой пятифутовым льдом. Детей крестят прямо в реке, опуская в отверстие, проделанное во льду. Случилось в тот день, что поп, совершавший обряд, выпустил в воде ребенка из рук.
– Другой, – сказал он.
Что означает: «Дайте мне другого ребенка»; но что особо меня удручило, так это радость отца и матери утопшего младенца, каковой, умерев в столь счастливый момент, верно, отправился прямо в рай.
Я отнес письмо от одной флорентийки, г-жи Бригонци, у которой однажды ужинал в Мемеле, к ее подруге, коей, как она уверяла, я могу быть полезен. Подруга ее была венецианкой, звали ее г-жа Рокколини; она покинула Венецию, дабы петь на петербургской сцене, притом что музыки она не училась да и никогда прежде не пела. Императрица, посмеявшись над таким сумасбродством, велела сказать ей, что для нее нет места; и что же тогда сделала синьора Виченца (так ее звали)? Она завела нежную дружбу с одной француженкой, женой купца француза Прот’е, жившей у обер-егермейстера. Дамочка сия была любовницей последнего и наперсницей его жены Марии Павловны, которая мужа не любила и была в восторге, что француженка избавляет ее от исполнения супружеского долга, если б того вдруг обуял подобный каприз. А Прот’е была тогда первой красавицей Петербурга. Была она в самом расцвете лет и соединяла в себе изысканную галантность с тонким вкусом. Ни одна женщина не могла сравниться с нею в умении одеваться, она тут же становилась центром в любой компании; стоило упомянуть в Петербурге имя г-жи Прот’е, как все наперебой завидовали счастью обер-егермейстера. Вот у этой-то женщины синьора Виченца и сделалась наперсницей. Она приглашала к себе тех, кто влюблялся в ее подругу, разумеется, если заслуживали они внимания, а Прот’е никогда не отказывалась навестить ее. Г-жа Виченца без зазрения принимала дары и с той, и с другой стороны.
Увидав г-жу Виченцу, я тотчас ее признал, но с той поры, как были мы вместе, минуло уж двадцать лет, она не удивилась, что я предпочел о том забыть, а сама напоминать не стала. Это же именно ее брат, по имени Монтеллато, выйдя как-то ночью из Ридотто[145], хотел убить меня на площади Святого Марка; это именно у нее дома был составлен заговор, что стоил бы мне жизни, если б я не выпрыгнул тогда в окно. Она встретила меня как дорогого соотечественника, как старинного друга, встреченного на чужбине, в подробностях поведала о своих горестях, превознося при сем собственное мужество. Она уверяла, что ни в ком не нуждается и превесело проводит время в обществе самых прелестных дам Петербурга.
– Удивительно мне, – сказала она, – как вы, столь часто обедая у обер-егермейстера Нарышкина, не познакомились до сей поры с красавицей Прот’е, его кралей; приходите ко мне завтра на кофе, и вы увидите чудо.
Вот я прихожу и вижу: она превыше всяческих похвал. Деньгами я не располагал, а потому, чтоб понравиться ей, мог полагаться токмо на свой ум; я спрашиваю, как ее имя, она говорит: «Прот’е», я отвечаю, что, значит, «Пром’е»[146]; я изъясняю смысл сей шутки, рассказываю истории, даю понять, какой огонь зажгла она в моей душе, не отчаиваюсь стать со временем счастливейшим из смертных: знакомство состоялось. С тех пор, бывая у обер-егермейстера, я не мог не зайти к ней в комнату до и после обеда.
Казанова, кроме изнасилования и убийства, не пренебрегал ни единым средством, чтобы овладеть женщиной, и ни единым, чтобы снова покинуть то, чего только что добился при помощи сотни уловок. Тонкий эгоист, знавший бесчисленные технические приемы и трюки, как добиться женщины, был, как он уверяет, в блаженстве, когда делал ее счастливой.
Герман Кестен. «Казанова»В ту пору польский посол воротился в Варшаву, и я принужден был покончить крутить любовь с д’Англад, принявшей лестное предложение графа Брюса. Я перестал у нее бывать. Сия обольстительница через полгода умерла от оспы. Я желал добиться благосклонности Прот’е и для того пригласил на обед к Локателли в Екатерингоф Луини с Колонной, гвардейского офицера Зиновьева, Прот’е и синьору Виченцу с одним скрипачом, ее любовником. Веселая пирушка выявила у гостей нежные чувства и после кофе всем парочкам захотелось уединиться; я начал сближаться с красавицей, но за недостатком времени до самого интересного не дошел. Мы пошли посмотреть, что за добычу принес Луини с охоты: он взял с собой собак и ружья.
Мы с Зиновьевым отдалились от государева дома шагов на сто, и я приметил там одну крестьяночку поразительной красоты; я указал на нее Зиновьеву, он смотрит, кивает, мы направляемся к ней, она убегает в избу, мы входим и видим отца, мать, все семейство ее, а она забилась в угол, как зайчик, боящийся, что его растерзают псы.
Зиновьев, каковой, заметим в скобках, провел двадцать лет в Мадриде в звании императорского посланника, долго разговаривает с отцом по-русски; я предполагаю, что речь идет о девушке, раз отец подзывает ее и она, покорная, послушная, подходит и становится рядом. Через четверть часа он выходит, я за ним, дав старику рубль. Зиновьев объясняет, что спросил у отца, не хочет ли он отдать дочь в услужение, и что отец согласился, но запросил сто рублей за ее девство.
– Изволите видеть, – сказал он, – ничего тут не выйдет.
– Как не выйдет? А если б я дал сто рублей?
– Вы бы получили ее, и она стала бы вам служить, и вы вольны были б спать с ней.
– А ежели она не захочет?
– Так не бывает. Вы будете ей господином, даже высечь ее вправе.
– Допустим, она противиться не станет. А вот извольте ответить: коли я получу от нее что мне положено и останусь доволен, я вправе ее у себя оставить?
– Да говорю ж, вы сделаетесь ее хозяином, и, коли случится ей сбежать, вы вольны приказать арестовать ее, ежели только она не возвернет заплаченные за нее сто рублей.
– А коли она будет жить при мне, какое жалование ей положить?
– Ни гроша. Кормите, поите, отпускайте в баню по субботам, и пусть ее ходит в церковь по воскресеньям.
– А когда я покину Петербург, волен ли я взять ее со мной?
– Нет, если только не получите особое дозволение, оставив залог. Девица сия, хоть и станет вашей рабой, все ж останется в первую голову государевой крепостной.
– Прекрасно. Окажите мне услугу. Я дам сто рублей и возьму ее к себе; уверяю вас, я не буду обращаться с ней, как с рабой; но хочу заручиться вашей помощью – в дураках остаться не хотел бы.
– Я дело сие улажу, и, уверяю вас, меня не обманут. Вам угодно сейчас этим заняться?
– Отнюдь. Лучше завтра, не хочу, чтоб о том прознали. В девять утра я у вас.
Мы возвратились в Петербург в фаэтоне, а наутро в названный час я был у Зиновьева; тот был рад услужить мне. По дороге он объявил, что, приди мне охота, он бы в несколько дней набрал мне сераль – из стольких девушек, сколько было бы мне угодно. Я дал ему сто рублей.
Мы приезжаем к крестьянину, девица дома. Зиновьев все ему растолковывает, крестьянин благодарит Николая-угодника за ниспосланную милость, обращается к дочке, та, взглянув на меня, произносит «да». Тут Зиновьев говорит, что я должен удостовериться, что она девственна, ибо должен засвидетельствовать своей подписью, что таковой взял ее на службу. По причине воспитания чувствовал я себя уязвленным, что призван нанести ей подобное оскорбление таковыми действиями, но Зиновьев ободрил меня, сказав, что ей будет в радость, коль я засвидетельствую сие перед родителями. Тогда я сел, поставил ее промеж ног, сунул руку и уверился, что она целая; но правду сказать, если б была она порчена, все одно не стал бы изобличать ее. Зиновьев отсчитал отцу сто рублей, тот дал их дочери, а она вручила матери. Тут вошли мой слуга и кучер подписью своей засвидетельствовать то, про что не ведали.
Он постоянно жаждал новых приключений, знакомств с новыми людьми и овладения новыми женщинами. У него всегда было лишь одно побуждение – духовное и чувственное удовольствие, по любой цене, без раскаянья или моральных сомнений.
Герман Кестен. «Казанова»Девушка, которую я решил звать Заирой[147], села в карету и поехала с нами в Петербург как была, в платье из грубого холста и без рубашки. Поблагодарив Зиновьева, я четыре дня не выходил из дому и не расставался с ней, пока не одел ее на французский манер, красиво, но без роскоши. То, что не знал я по-русски, мучило меня, но она менее чем в три месяца выучила итальянский: говорила она дурно, но довольно, чтоб изъяснить, чего ей надобно. Она полюбила меня, затем стала ревновать и однажды чуть не убила, как читатель увидит из следующей главы. <…>
…В тот день, как привез я Заиру, я выставил Ламбера: он всякий день напивался, я не знал, что с ним делать. Единственно, куда он мог пойти, это в солдаты. Я выправил ему паспорт и дал довольно денег, чтобы вернулся он в Берлин. Семь лет спустя в Гориции я узнал, что он поступил в австрийскую службу.
В мае Заира так похорошела, что, когда мне вздумалось поехать в Москву, я побоялся оставить ее в Петербурге и взял с собой, отказавшись от прислуги. Мне нравилось, как она изъясняется по-венециански. По субботам я ходил с ней в русскую баню, дабы помыться в обществе еще человек тридцати или сорока, мужчин и женщин, совсем нагих, кои ни на кого не смотрели, полагая, что и на них никто не смотрит. Подобное бесстыдство проистекало из чистоты нравов. Я дивился, что никто не глядит на Заиру, а ведь она казалась ожившей статуей Психеи, кою лицезрел я когда-то на вилле Боргезе. Грудь ее еще наливалась, ей было всего тринадцать лет, и не было приметно явственных следов созревания. Кожа ее была бела как снег, а черные волосы придавали белизне еще пущий блеск. Если б не проклятая ее неотступная ревность, коей изводила она меня ежечасно, да не слепая вера в гадание на картах, каковые она всякий день раскладывала, я бы вовек с нею не расстался.
Один молодой француз, красивый лицом, по имени Кревкер, чье воспитание, по всему было видно, не уступало происхождению, приехал в Петербург вместе с некой парижской девицей по имени Ла Ривьер, молодой и недурной наружности, но не обладавшей ни особым воспитанием, ни каким иным талантом, кроме того, что получают в Париже все девицы, живущие своими прелестями. Сей юноша вручил мне письмо от принца Карла Курляндского, где было написано только, что я доставлю ему превеликое удовольствие, ежели смогу быть чем-нибудь полезен этой паре. Он заявился с сим письмом вместе со своею красоткой в девять утра, когда я завтракал с Заирой.
– Я к вашим услугам, – сказал я, – скажите, чем могу быть вам полезен.
– Тем, что дозволите видеться с вами и пользоваться вашими знакомствами.
– Что до моего общества, оно мало что значит: я чужестранец; впрочем, извольте, я нанесу вам визит, вы же приходите ко мне, когда вам будет угодно, я буду рад; но я никогда дома не обедаю. Что до моих знакомств, то поймите, что, будучи иностранцем, я поступлю против правил, коль скоро представлю вас с сударыней. Она вам жена? Меня спросят, кто вы, по какому делу в Петербурге. Что надобно мне отвечать? Странно, что принц Карл не адресовал вас к кому-то другому.
– Я лотарингский дворянин. Я приехал сюда, чтоб развлечься; а Ла Ривьер – моя любовница.
– Под такими титулами навряд ли я смогу вас представить, да к тому же, полагаю, вы вполне можете понять местные нравы и развлечься без всякой на то помощи. Спектакли, гуляния, даже придворные празднества доступны всем. Я смею думать, денег у вас предостаточно.
– Их-то у меня и нет, и ждать неоткуда.
– От меня – не надейтесь. Вы меня удивляете. Что за сумасбродство ехать сюда без гроша?
– Это она уверила меня, что нам достанет денег, чтобы перебиваться со дня на день. Она убедила меня уехать из Парижа без единого су, и покамест все подтверждает ее правоту. Мы уже много где были.
– Так, значит, кошелек в ее ведении.
– Мой кошелек, – отвечала она, – в карманах моих друзей.
– Понимаю и, как вижу, вы находите их повсеместно; если б у меня были средства, я б во имя таковой дружбы охотно открыл бы вам свой кошелек, но я не столь богат.
Один гамбуржец по имени Бомбах, какового знавал я прежде в Англии, откуда он удрал, наделав долгов, приехал в Петербург, где ему посчастливилось поступить на военную службу; сын богатого купца, он завел дом, прислугу, купил карету, любил женщин, хороший стол, карты и занимал деньги у всех подряд. Он был некрасив, горяч и ума был того, что отличает всех распутников. Вот он является ко мне и прерывает беседу нашу с удивительной путешественницей, хранящей деньги в карманах друзей. Я представляю ему эту парочку и посвящаю его во все, за выключением одного пункта, касающегося карманов и кошелька. Бомбах в восторге от приключения, любезничает с Ла Ривьер, та принимает его ухаживания, как подобает ее ремеслу, и через четверть часа я едва сдерживаю смех, убеждаясь, что она была права. Бомбах приглашает их завтра на обед и умоляет ехать с ним сегодня в Красный кабак[148] откушать без затей; он зовет и меня, я соглашаюсь. Заира спрашивает, о чем речь, ибо по-французски не разумеет, я объясняю. Она объявляет, что коли речь о Красном кабаке, она тоже хочет туда ехать, я не перечу, зная ее ревность и боясь, что она, как всегда, будет дуться, плакать, сетовать и принудит меня, как не раз бывало, ее поколотить; то было единственное средство уверить ее в любви моей. После побоев она мало-помалу делалась нежнее, и примирение скреплялось праздником любви.
Везде он любил, и везде был любим. Его уста и его перо были переполнены всеми идеями и всеми предрассудками своего века Он вторгался всюду и не принадлежал никому, король паразитов, вечный жених, вечно налегке.
Герман Кестен. «Казанова»Бомбах, весьма довольный, откланялся, чтоб покончить с делами, обещав воротиться в одиннадцать, и, пока Заира одевалась, Ла Ривьер принялась изъяснять мне, что в светском обхождении я смыслю еще меньше, чем прочие мужчины. Но меня подивило, что любовник ее нимало не стыдился своего положения. Он лишь твердил в свое оправдание, что любит эту девку, чего я никак не мог принять.
Пирушка вышла веселая, Бомбах вел непрерывную беседу с искательницей приключений, Заира не слезала с моих колен, Кревкер ел, смеялся кстати и некстати и отправился пройтись; красотка предложила Бомбаху сыграть партию в пятнадцать, он самым галантным образом проиграл двадцать пять рублей и уплатил их, удовольствовавшись взамен всего одним поцелуем. Заира, радуясь, что принимает участие в вечеринке, на которой, как она опасалась, я мог бы ей изменить, стала потешаться над любовником француженки, не умевшим ее ревновать. Она не могла взять в толк, как терпит та подобную самоуверенность.
– Но я вот уверен в тебе, а ты меня все-таки любишь.
– Все потому, что я не давала тебе повода считать меня б…
На следующий день я отправился к Бомбаху, зная, что наверняка встречу у него молодых русских офицеров, которые бы наверняка принялись досаждать мне, обольщая Заиру на своем языке. Я застал у Бомбаха чету путешественников и двух братьев Луниных, в ту пору поручиков, а ныне генералов. Младший из братьев был белокур и красив как девица; он был любимчиком статс-секретаря Теплова и, будучи умным малым, не только плевал на предрассудки, но и поставил себе за правило добиваться ласками любви и уважения всех порядочных людей, с коими встречался. Предположив в гамбуржце Бомбахе те же наклонности, что и в г-не Теплове, и не ошибившись, он решил, что унизит меня, ежели не ублажит и меня. Посему он сел за стол рядом со мной и так кокетничал за обедом, что я, право слово, принял его за девицу, одетую в мужскую одежду.
После обеда, сидя у камина между Луниным и французской путешественницей, я объявил ему о своих подозрениях, но тот, оскорбившись, тотчас показал, чем превосходит он слабый пол, и, пожелав узнать, смогу ли я остаться равнодушным к его красоте, завладел мною и, решив, что он мне понравился, приступил к решительным действиям, дабы составить свое и мое счастье. И сие неминуемо бы свершилось, если б Ла Ривьер, оскорбившись, что юноша в ее присутствии попирает ее законные права, не вцепилась в него, понуждая отложить сей подвиг до более подходящего случая.
Их стычка меня посмешила, но поелику я не был тут безучастным свидетелем, то почел долгом вмешаться. Я сказал девице, что напрасно лезет она не в свои дела, а Лунин принял это за изъявление моего к нему благорасположения. Он выставил напоказ свои прелести и даже обнажил красивую белую грудь; он принялся подзадоривать девицу сделать то же, она от сего отказалась, обозвав нас п…, на что в ответ мы именовали ее б…, и она нас покинула. Мы с юным россиянином явили друг другу доказательства самой нежной дружбы, кою поклялись хранить вечно.
Лунин-старший, Кревкер и Бомбах, ходившие прогуляться, воротились ввечеру с двумя или тремя приятелями, которые легко утешили француженку, заставив ее забыть дурное наше с ней обхождение.
Бомбах держал банк в фараон до одиннадцати часов, покуда деньги не вышли, и мы сели ужинать. Потом началась великая оргия. Ла Ривьер держала оборону против Бомбаха, Лунина-старшего и двух молодых офицеров, его друзей. Кревкер отправился спать. Лишь мы с моим новым другом вели себя разумно, спокойно наблюдая за поединками, где позы менялись часто и быстро, а любовница бедняги Кревкера стояла насмерть. Оскорбившись, что она интересует нас токмо как зрителей, она время от времени жестоко нас поносила, но мы презрели ее насмешки. Мы напоминали двух добродетельных старцев, снисходительно взирающих на безумства буйной молодости. Расстались мы за час до рассвета.
Я возвращаюсь домой, вхожу в комнату и по чистой случайности увертываюсь от бутылки, которою Заира запустила мне в голову; она задела мне лицо, а если б попала в висок, то и убила бы. Я вижу, как в ярости бросается Заира оземь, колотясь головой об пол; я бегу к ней, насильно хватаю, спрашиваю, что с ней, и, решив, что она лишилась разума, думаю кликать людей. Она утихомиривается, но разражается потоком слез, называя меня душегубом и предателем. Чтоб уличить меня в преступлении, она показывает мне каре из двадцати пяти карт и вынуждает прочесть по фигурам, что всю ночь предавался я распутству. Она показывает мне непотребную девицу, постель, поединки, все, вплоть до моих противоестественных забав. Я ничего такого не вижу, но она воображает, что видит все.
Дав ей вволю наговориться, дабы утишить бешеную ревность, я швырнул в огонь ее треклятую ворожбу и, глядя в глаза, чтоб она почувствовала и гнев мой, и одновременно жалость, что внушала мне она, растолковал ей, что она чуть меня не прикончила, и объявил, что завтра же мы навсегда расстанемся. Я говорю, что и впрямь провел ночь у Бомбаха, где была девка, но открещиваюсь, как то и было, ото всех грехов, что она мне вменяла. После чего, нуждаясь в отдыхе, я раздеваюсь, ложусь и засыпаю, оставив без внимания ее попытки, кои предприняла она, легши рядом, заслужить прощение и уверить в своем раскаянии.
Спустя пять или шесть часов я просыпаюсь и, видя, что она заснула, одеваюсь, раздумывая, как бы избавиться от сей девицы, каковая в очередном приступе гнева весьма даже может меня и прикончить. Но как исполнить сие намерение, видя, как она, раскаявшись, опустившись на колени, отчаянно молит о прощении и жалости и клянется, что отныне всегда будет кроткой, как овечка? Итак, я заключил ее в объятия и выказал несомненное свидетельство своего благорасположения, взяв с нее слово, что не будет раскладывать карты, покуда живет у меня.
Кем же был подлинный Казанова? Он сам называл себя легкомысленным, но храбрым и в основе своей приличным человеком.
Герман Кестен. «Казанова»Через три дня после сего происшествия я думал ехать в Москву и наполнил ее радостью, уверив, что возьму с собой. Три вещи заставили эту девицу влюбиться в меня. Первая – та, что я частенько возил ее в Екатерингоф повидать родителей и всегда оставлял им рубль, вторая, что сажал ее за стол с гостями, и третья, что поколотил ее три или четыре раза, когда она хотела не дать мне уйти из дому.
Странный этот русский обычай – бить слугу, чтоб выучить его уму-разуму! Слова тут силы не имеют, убеждает только плеть. Слуга, душа у которого рабская, почешет в затылке после порки и решит: «Хозяин меня не прогнал; а коли бьет, значит, любит, я должен верно ему служить».
Когда-то Папанелопуло посмеялся надо мной: в начале жительства моего в Петербурге сказал я, что доволен своим казаком, знающим французский, и, желая снискать его приязнь ласкою, буду токмо словами наставлять его, когда он напьется виноградной водки до умопомрачения.
– Коль не будете его бить, – сказал он, – он однажды сам на вас руку поднимет.
Так со мною и случилось. Однажды, когда он так упился, что не мог мне прислуживать, я грубо изругал его и всего лишь с угрозой замахнулся палкой. Едва лишь взметнулась она вверх, он тотчас кинулся и ухватился за нее, и если б я не повалил его в тот же миг, наверняка бы меня побил. Я немедля его выставил. Нет в мире лучшего слуги, чем россиянин: неутомимый в работе, он спит на пороге господской опочивальни, дабы явиться по первому его зову, всегда послушен, коль провинился – не перечит и не способен на воровство; но он звереет либо дуреет, выпив стакан крепкого зелья, и этот порок присущ всему этому народу. Кучеру частенько приходится ждать всю ночь у ворот в жестокий мороз, лошадей сторожить; он не знает другого средства перетерпеть холод, как выпить водки. Случается, что, выпив стакан-другой, он засыпает на снегу и, бывает, уж более не просыпается. Он замерзает насмерть. Здесь частенько по неосмотрительности отмораживают себе ухо, нос до самой кости, щеку, губу.
Однажды, когда в сухой мороз я приехал на санях в Петергоф, некий русский увидал, что еще немного, и я лишусь уха. Он бросился тереть меня пригоршней снега и не успокоился, пока не спас ушную раковину. На вопрос, как он узнал, что мне грозит беда, он отвечал, что это тотчас видно, поелику помертвелый орган враз белеет. Что меня удивило, и до сих пор кажется невероятным, это что отмороженный орган иногда восстанавливается.
Принц Карл Курляндский уверял меня, что как-то в Сибири отморозил нос, а к лету все прошло. Многие мужики меня также в том уверяли.
В ту пору императрица приказала возвести просторный деревянный амфитеатр во всю ширину площади перед ее дворцом, построенным флорентийским зодчим Растрелли. Сей амфитеатр на сто тысяч зрителей был творением архитектора Ринальди, жившего в Петербурге уже пятьдесят лет и даже не думавшего возвращаться на родину, в Рим. В строении сем Екатерина решила задать Карусель для всех доблестных кавалеров ее империи. Должно было быть четыре кадрили, по сотне всадников в каждой, богато одетых в костюмы того народа, каковой они представляли, должны были биться за награды великой ценности.
Всю империю оповестили о великолепном празднестве, который давала государыня; и князья, графы, бароны начали уже съезжаться из самых дальних городов на великолепных лошадях. Принц Карл Курляндский отписал мне, что тоже приедет. Положили, что праздник состоится в первый погожий день, какой только будет: весьма мудрое решение, ибо вовсе погожий день, без дождя, ветра или нависших туч – редкое для Петербурга явление. В Италии мы ждем всегда хорошей погоды, в России – дурной. Мне смешно, когда русские, путешествуя по Европе, хвалятся своим климатом. За весь 1765 год в России не выдалось ни одного погожего дня; доказательство тому, что Карусель так и не состоялась. Подмостки амфитеатра укрыли, и праздник состоялся на следующий год. Кавалеры провели зиму в Петербурге, а у кого на то денег недостало, воротились домой. Среди последних был принц Карл Курляндский[149].
Все было готово для путешествия в Москву. Я сел с Заирой в дормез, сзади устроился слуга, говоривший по-русски и по-немецки. За восемьдесят рублей «шевощик»[150] подрядился доставить меня в Москву за шесть дней и семь ночей, заложив шестерку лошадей. Это было недорого, и коль скоро почтовых я не брал, то не мог ехать быстрее, ибо пути было 72 почтовых перегона, что есть 500 итальянских миль[151]. Мне казалось сие невозможным, но так он говорил.
Мы тронулись, когда выстрел из крепостной пушки известил, что день кончился; то был конец мая, когда в Петербурге вовсе нет ночи. Без пушечного выстрела, возвещающего, что солнце зашло, никто б о том не догадался. Можно в полночь читать письмо, и луна не делает ночь светлей. Все говорят, это красиво, а мне сие докучало. Этот бесконечный день длится восемь недель. Никто в эту пору свечей не зажигает. В Москве иначе. Всего-то на четыре с половиной градуса широты меньше, чем в Петербурге, а в полночь все же потребны свечи.
Мы добрались до Новгорода за двое суток, где «шевощик» дал нам пять часов отдыху. Тут произошел случай, немало меня удививший. Мы пригласили мужичка пропустить стаканчик, а он с грустью сказал Заире, что одна из лошадей не хочет есть и он в отчаянии: не поев, она с места не сдвинется. Мы пошли вместе с ним на конюшню и увидали, что лошадь недвижна, грустна, от еды воротится. Хозяин принялся говорить с ней самым ласковым голосом и, глядя нежно и почтительно, убеждал скотину соизволить поесть. После сих речей он облобызал лошадь, взял ее голову и ткнул в ясли; но все впустую. Мужик зарыдал, да так, что я чуть со смеху не помер, ибо видел, что он пытается разжалобить лошадь. Вволю наплакавшись, он опять целует лошадь и сует мордой в корм; все тщетно. Тут русский, озлившись на упрямое животное, грозится отплатить ему. Он выволакивает лошадь из конюшни, привязывает несчастное животное к столбу, берет дубину и добрых четверть часа колотит из всех сил. Устав, он ведет ее на конюшню, сует мордой в корыто, и вот лошадь с жадностью набрасывается на корм, а «шевощик» смеется, скачет, приплясывает от радости. Я был сверх меры удивлен. Я подумал, что такое может случиться единственно в России, где палку настолько почитают, что она может творить чудеса. Но я всегда полагал, что с ослом того бы не приключилось, он лучше переносит побои, нежели лошади.
Мне говорили, что нынче в России палка не в такой чести, как прежде. К несчастью, она все более входит в употребление во Франции. Со времен Петра I, каковой в гневе избивал, бывало, генералов палкою до крови, как мне рассказывал один русский офицер, повелось, что поручик должен терпеливо сносить побои от капитана, капитан от майора, майор от подполковника, тот от полковника, а тот, в свою очередь, от своего генерала. Нынче все переменилось. Мне о том поведал в Риге генерал Воейков, воспитанник великого Петра, родившийся еще до основания Петербурга.
Я, кажется, ничего не сказал о сем славном граде, существование коего и поныне кажется мне непрочным. Только гений великого мужа, подобного Петру, способный бросить вызов природе, мог замыслить возвести город, коему суждено было стать столицей обширнейшей империи, в столь неблагодарном месте, где сами почвы противятся усилиям тех, кто мыслит воздвигнуть здесь каменные дворцы, кои строятся с непомерными расходами. Говорят, нынче город возмужал, и заслуга сия принадлежит Екатерине Великой, но в 1765 году я застал его еще в пору детства. Все казалось мне нарочно построенными руинами. Мостили улицы, наперед зная, что через полгода их придется мостить вновь. Я видел город, который торопливый муж возвел наспех; и вправду, Царь родил его в девять месяцев. Девять месяцев ушли именно на роды, зачат он был наверняка задолго до того.
Созерцая Петербург, я вспоминал пословицу: Canis faestinans caecos edit catulos[152], но минуту спустя, любуясь великим замыслом и исполнясь уважения, добавлял: Diu parturit laena sed leonem[153]. Я предвижу, что век спустя горделивый Петербург поднимется по меньшей мере на две сажени[154], но великие дворцы не рухнут за недостатком свай. Воспретят варварскую архитектуру, занесенную французскими зодчими, годными лишь на то, чтобы строить кукольные домики, не станет более г-на Бецкого[155] (человека, впрочем, неглупого), предпочитающего Растрелли и Ринальди какого-нибудь парижанина Ла Мота, каковой подивил Петербург, соорудив дом в четыре этажа, где была одна, по его разумению, великая достопримечательность: нельзя было ни увидеть, ни догадаться, где лестницы.
Мы приехали в Москву, как возчик нам и обещал. Невозможно добраться скорее, не переменяя лошадей; но все ж на почтовых едут быстрее.
– Императрица Елизавета, – сказал случившийся при том человек, – проделала весь путь за пятьдесят два часа.
– Разумеется, – вступил другой русский, человек старой закваски, – она издала Указ, предписав потребное на то время. А доехала б еще скорее, если б указала меньшее время.
Сие верно: в те времена не дозволялось сомневаться в непреложности Указа: тот, кто осмеливался выказать сомнение в его исполнимости, почитался виновным в оскорблении Ее Величества. Раз в Петербурге я ехал по деревянному мосту вместе с Мелиссино, Папанелопуло и еще тремя или четырьмя попутчиками; один из них, услыхав, что я браню мост за неприглядность, сказал, что его сделают каменным[156] к такому-то дню по случаю празднества, когда должна была проехать по нему императрица. Поелику до названного дня оставалось всего три недели, я сказал, что сие невозможно; русский косо на меня взглянул и добавил, что сомневаться не приходится оттого, что на сей предмет издан Указ; я хотел возразить, но Папанелопуло сжал мне руку, дав знак молчать. В конце концов, мост так и не построили, но и я оказался не прав, ибо за неделю до срока императрица издала иной Указ, в коем повелела, дабы сей мост был построен в следующем году.
Российские цари всегда почитали и по сей день почитают себя самодержцами. Мне случилось видеть, как императрица, одетая в мужское платье, катается верхом. Ее обер-шталмейстер, князь Репнин держал лошадь под уздцы, чтоб она могла сесть; вдруг лошадь с такой силой лягнула его, что сломала ему лодыжку. Государыня с удивленным видом приказала увести лошадь и повелела, под страхом смертной казни, чтоб подлая скотина не попадалась ей впредь на глаза. Все придворные и поныне получают воинские чины, что говорит о природе правления. У первого кучера императрицы чин полковника, как и у главного повара, кастрат Луини был подполковник, а художник Торелли только капитан, ибо получал всего восемьсот рублей в год. Часовые, стоящие у входа в покои императрицы со скрещенными ружьями, спрашивают у каждого, кто желает пройти, в каком он чине, чтоб знать, разнять им ружья или нет. «Какой ранг?» – спрашивают они.
Когда меня спросили о том впервые и объяснили значение слов, я не знал, что сказать, но бывший там офицер осведомился, каков мой доход, и когда я ответил – три тысячи рублей, тотчас произвел меня в генералы, и меня пропустили. В этой самой зале я увидал минуту спустя, как государыня, входя, остановилась на пороге, сбросила перчатки и протянула часовым свои дивные руки для поцелуя. Подобным благодушным обхождением завоевывала она преданность войск, коими командовал Григорий Григорьевич Орлов, обеспечивавших безопасность ее особы на случай бунта.
Вот что увидел я, когда впервые последовал за нею на службу в ее часовню. Протопоп встретил ее у дверей, чтоб предложить святой воды, она поцеловала его перстень, в то время как владыка с бородою в аршин склонился, дабы облобызать руку своей повелительнице – мирской владычице и патриарху в одном лице. Во время службы она не являла никакого благочестия: лицемерие было ей не к лицу, зато удостаивала она улыбкой то одного, то другого из присутствующих и обращалась время от времени к своему фавориту, хоть сказать ей было нечего: она желала выказать особое к нему благорасположение, выделив его из всех остальных.
Однажды услыхал я, как она, выходя из оперы, где давали «Олимпиаду» Метастазио, молвила:
– Опера доставила всем немалое удовольствие, и я рада тому; но что до меня, я скучала. Музыка – чудесная вещь, но я не понимаю, как можно без памяти любить ее, ну разве что если вам нечем заняться и мыслей особых нет. Я нынче пригласила Буранелло; интересно, сумеет ли он пробудить во мне интерес к музыке.
Она всегда так рассуждала. Я расскажу в другом месте, что сказала она мне, когда вернулся я из Москвы. Мы остановились в отменной гостинице, где мне отвели две комнаты и поставили карету в сарай. После обеда я нанял двухместный экипаж и слугу, говорившего по-французски. Карета моя была запряжена четверкой лошадей, ибо в Москве четыре города[157] и надо исколесить немало улиц, – дурно или вовсе не мощенных, когда надобно нанести визиты.
У меня было при себе пять или шесть писем, я хотел их все разнести; зная, что мне не придется выходить из кареты, я взял с собой девочку мою Заиру, которой все было интересно. Не припомню, что за церковный праздник был в тот день, но всегда буду помнить оглушительный перезвон колоколов, что слышал я на всех улицах, ибо церкви были на каждом шагу. В ту пору сеяли пшеницу, которой урожай собирают в сентябре, и над нами посмеивались, что мы сеем на восемь месяцев раньше них, хотя в том не только нет никакой нужды, но и пагубно для урожая. Я не знаю, кто тут прав, быть может, и мы, и они.
Я развез все письма, кои получил в Петербурге от оберегермейстера, от князя Репнина, от моего банкира Папанелопуло и от брата Мелиссино. На следующее утро ко мне явились с визитом все, к кому меня адресовали. Все пригласили меня на обед с моей девочкой. Я принял приглашение г-на Демидова, пришедшего первым, и обещал остальным быть у них все следующие дни попеременно. Заира, узнав о предназначенной ей роли, была счастлива доказать, что достойна такого от меня уважения. Хорошенькая, как ангелочек, она была отрадой всякого общества, и никто не пытался вникнуть, дочь она мне, любовница или служанка. В этом вопросе, да и в сотне прочих, русские – народ сговорчивый. Те, кто не видал Москвы, не могут утверждать, что видали Россию, а кто судит о русских по Петербургу, не знает их вовсе, ибо при дворе они во всем отличны от естественного своего состояния. В Петербурге все они глядят иностранцами. Горожане московские, в первую голову богатые, жалеют тех, кто по службе, из-за денег или по честолюбию покинули отечество, ибо отечество для них – Москва, а в Петербурге видят они источник бед и разорений. Не ведаю, справедливо ли сие, я повторяю лишь с их слов.
За неделю я все осмотрел: фабрики, церкви, памятники старины, всевозможные кабинеты, включая по натуральной истории[158], библиотеки, кои меня ничуть не интересуют, славный Колокол, и еще заметил, что их колокола не раскачиваются, как наши, а накрепко прикреплены. Звонят в них посредством веревки, привязанной за язык.
Я нашел, что женщины в Москве красивей, чем в Петербурге. Обхождение их ласковое и весьма свободное, и, чтобы добиться милости поцеловать их в уста, достаточно сделать вид, что желаешь облобызать ручку. Что до еды, она тут обильная, но не слишком изысканная.
Стол открыт для всех друзей, и приятель может, не церемонясь, привести с собой человек пять или шесть, являющихся иногда к концу обеда. Не может такого быть, чтоб русский сказал: «Мы уже отобедали, вы припозднились». Нет в их душе той порочности, что понуждает произносить подобные речи. За дело берется повар, и обед возобновляется, хозяин или хозяйка потчуют «гастей». Есть у них один восхитительный напиток, название которого я запамятовал, вкуснее чем шербет, что пьют в Константинополе в домах знатных вельмож. Челяди своей, весьма многочисленной, пить дают не простую воду, а такую, что на вкус не противна и для здоровья пользительна, и столь дешева, что большая бочка им обходится в рубль. Я приметил, что особливо почитают они Николу-угодника. Они молят Бога только через посредство сего святого, образ коего непременно находится в углу комнаты, где хозяин принимает гостей. Вошедший первый поклон кладет образу, второй хозяину; ежели паче чаяния образа там не случится, русский, оглядев комнату, замирает, не зная, что и сказать, и вовсе теряет голову. Русские в большинстве своем суеверней прочих христиан. Язык у них иллирийский[159], но служба вся на греческом; народ в ней не разумеет ни толики, а священники, будучи и сами невежественны, с радостью держат его в невежестве. Я никак не мог втолковать одному калогеру, знавшему латынь, что единственная причина, по которой мы, в Римской церкви, крестимся слева направо, а в Греческой справа налево, это то, что мы говорим «spiritus sancti», а они по-гречески «агиос пнеума»[160].
– Если б вы говорили, – сказал я, – «пнеума агиос», вы бы крестились, как мы, или мы бы крестились как вы, коли произносили б «sancti spiritus».
Он отвечал, что прилагательное должно предшествовать существительному, ибо нельзя произнести имя Божие, не предварив его хвалебным эпитетом. Такого рода почти и все прочие различия меж двумя сектами, не говоря о нагромождении лжи, что видел я и у них, и у нас.
Слог его пространностью и многоречивостью напоминает старинные предисловия. Но когда у него есть о чем рассказать например про случавшиеся с ним перипетии он выказывает столько самобытности, непосредственности и чисто драматического умения привести все в действие, что невозможно не восхищаться им.
Шарль де Линь. «Рыцарь Фортуны»Мы возвратились в Петербург так же, как приехали; но Заира предпочла бы, чтобы я навовсе остался в Москве. Находясь подле меня во все часы дня и ночи, она так меня возлюбила, что я горестно думал о времени, когда принужден буду ее покинуть. На другой день после приезда свозил я ее в Екатерингоф: она показала родителю подарки, что я ей сделал, и расписала во всех подробностях, с каким почетом принимали ее, почитая за мою дочь, чем изрядно повеселила старичка.
Первая новость, услышанная мною при дворе, была об Указе, по коему надлежит быть воздвигнуту громадному храму Господню на Морской, насупротив моей квартиры. В архитекторы избран был императрицею Ринальди. Сей философ спросил, какую эмблему поместить над порталом собора, а императрица отвечала, что никакой не надобно, пусть только напишет большими буквами БОГ на том языке, на каком пожелает.
– Я изображу треугольник.
– Не надо никакого треугольника. БОГ, и ничего боле.
Другой новостью был побег Бомбаха, коего поймали в Митаве, где он мнил себя в безопасности; но г-н Смолин[161] арестовал его. Несчастный безумец содержался под стражей, и дела его были плохи, ибо сие почиталось дезертирством. Его все же помиловали, отправив служить на Камчатку. Кревкер со своей любовницей уехал вместе с деньгами, а флорентийский авантюрист по имени Билиоти бежал, забрав у Папанелопуло восемнадцать тысяч рублей, но некто Бори, человек Папанелопуло, также настиг того в Митаве и воротил в Петербург, где он сидит в остроге. В ту пору приехал принц Карл Курляндский и немедля дал мне знать. Я отправился к нему с визитом. Дом, где он проживал, принадлежал г-ну Демидову, владельцу железных рудников, коему угодно было построить его целиком из железа.
Стены, лестница, двери, полы, перегородки, потолки, крыша – все, за выключением мебели, было железное. Пожар ему был не страшен. Принц привез с собой любовницу, все так же брюзжащую: он ее более терпеть не мог, ибо она и впрямь была несносна, а он достоин был жалости, поелику не мог от нее отделаться иначе, как сыскав ей мужа, а такой муж, какого она желала, никак не находился. Я нанес ему визит, но она так мне наскучила, жалуясь на принца, что я туда более не ходил. Когда принц навестил меня и увидал мою Заиру, да еще поразмыслил, насколько дешевле обрел я свое счастие, сделав счастливою женщину, он узнал, как должен всякий умный человек, нуждающийся в любви, держать сожительницу; но коли муж глуп и склонен к роскоши, склонность сия все портит, и сладкий плод делает горьким.
Меня почитали счастливым, мне нравилось слыть таковым, но счастлив я не был. После тюремного заключения стал подвержен я геморрою, что разыгрывался у меня раза три или четыре в год, но в Петербурге стало не до шуток. Нестерпимая каждодневная боль в заднем проходе делала меня грустным и несчастным. Восьмидесятилетний доктор Синопиус, коего я позвал, сказал грустную новость, что у меня там образовался свищ, что называется неполным: а в прямой кишке образовалась фистула. Другого средства, кроме как жестокая операция, не было. По его словам, надо было без промедления на нее соглашаться. Сперва требовалось определить местоположение свища, и на другой день он пришел ко мне с искусным хирургом; тот исследовал мои внутренности, засунув в анус турунду из корпии, пропитанную маслом. Вытащив ее, он уразумел глубину и размеры свища, поглядев, в каком месте на турунде остались следы сочащейся жидкости. Малое отверстие в моей полости, сказал хирург, располагается на два пальца от сфинктера. Основание полости могло быть весьма широким; боль проистекала от того, что едкая лимфа, заполнявшая полость, разъедала ткани, чтобы проделать выход; таким образом, свищ становится полным, и тогда операция протекает легче. Когда отверстие сие будет сделано самой природой, сказал он, боли уйдут, но будут неудобства из-за беспрестанного вытекания гноя. Он посоветовал мне набраться терпения и подождать сей милости от природы. Думая меня утешить, он сказал, что для здешних жителей полный свищ в заду – вещь самая обыкновенная; здесь пьют превосходную воду Невы, что способна очищать тело, изгоняя из него вредные жидкости. Посему в России принято поздравлять тех, кто мучается от геморроя. Сей неполный свищ, понудивший меня соблюдать диету, оказал на меня, быть может, благотворное действие.
Театром была его жизнь, составившая из импровизированных актов комедию дель арте, которую он всю жизнь рассказывал и пересказывал со всеми сочными подробностями. Когда он был весел, он рассказывал, чтобы позабавить других; когда был в нужде – чтобы других растрогать.
Герман Кестен. «Казанова»Артиллерийский полковник Мелиссино пригласил меня на воинский смотр в трех верстах от Петербурга, где, как ожидалось, генерал-аншеф Алексей Орлов будет угощать самых важных гостей за столом на восемьдесят персон. На смотре намеревались показать, как палят из пушки двадцать раз в минуту.
Я присутствовал при том вместе с принцем Курляндским, и восхитило меня, что все в точности так и было. Полевое орудие обслуживали шесть бомбардиров; они зарядили пушки в минуту двадцать раз и столько же выстрелов произвели по врагу. Я наблюдал за сим, держа в руке часы с секундною стрелкою. Ровно три секунды: в первую пушка чистится, во вторую – заряжается и в третью – стреляет.
За столом я оказался рядом с секретарем французского посольства, каковой, возжелав пить на русский манер и сочтя, что венгерское вино сродни легкому шампанскому, пил столь усердно, что, встав из-за стола, на ногах не держался. Граф Орлов пришел ему на помощь, велев пить, покуда его не вырвет; потом он уснул, и его унесли.
За веселым застольем оценил я образчики тамошнего остроумия, «Fecundi calicas quem non fecere disertum»[162]. Поелику по-русски я не разумел, то г-н Зиновьев, сидевший рядом, изъяснял мне шутки сотрапезников, вызывавшие рукоплескания. Со стаканом в руках возносили блистательные здравицы в чью-нибудь честь, а тот обязан был с блеском ответствовать.
Мелиссино встал, держа огромный кубок, наполненный венгерским вином. Все замолчали, чтоб послушать, что он такое изречет. Он пил за здравие своего генерала, Орлова, сидевшего насупротив него на другом краю стола. Он сказал так:
– Желаю тебе умереть в тот день, как станешь богат.
Все разразились рукоплесканием. Так восхвалял он великую щедрость Орлова. Можно было б и осудить его, но за веселым столом не место для придирок. Ответ Орлова показался мне более мудрым и благородным, хоть опять же татарским, ибо вновь речь шла о смерти. Он тоже поднялся с большим кубком в руке и сказал:
– А тебе желаю умереть только от моей руки.
Ему рукоплескали еще сильней.
У русских энергичный разящий ум. Их не заботят ни красота, ни изящество слога, они тотчас проникают в суть.
Он постоянно жаждал новых приключений, знакомств с новыми людьми и овладения новыми женщинами. У него всегда было лишь одно побуждение – духовное и чувственное удовольствие, по любой цене, без раскаянья или моральных сомнений.
Герман Кестен. «Казанова»В ту пору Вольтер прислал императрице свою «Философию истории», писанную нарочно для нее, и ей же было посвящение в шесть строк. Через месяц полное сие издание, в трех тысячах томах, было доставлено морем и без остатка разошлось в неделю. Все русские, знавшие французский, купили себе сию книгу. Главами вольтерьянцев были двое вельмож, люди большого ума: Строганов и Шувалов. Я читал стихи первого, столь же распрекрасные, что у его кумира, а спустя двадцать лет – превосходную оду второго; но написана она была на смерть Вольтера, что немало меня подивило, ибо сей жанр досель не употреблялся для печальных тем. В те времена образованные русские, – военные и статские, – знали, читали и прославляли одного лишь Вольтера и, прочтя все его сочинения, полагали, что стали столь же учеными, как их кумир; я убеждал их, что надобно читать книги, из коих Вольтер черпал премудрость, и тогда, быть может, они узнают больше него. «Остерегайтесь, – сказал мне в Риме один умный муж, – спорить с человеком, который прочел всего одну книгу».
Таковы были русские в те времена, но мне сказали, и я в то верю, что нынче они стали основательнее. Я познакомился в Дрездене с князем Белосельским, что прожил в Турине посланником и после воротился в Россию: сей князь, изучив метафизику, надумал геометрически описать разум; его небольшое сочинение классифицировало душу и ум; чем больше я его читаю, тем более возвышенным нахожу. Одно жаль: атеисты вполне могут употребить его во вред.
Вот еще один образчик поведения, на сей раз – графа Панина, наставника Павла Петровича, наследника престола, столь ему послушного, что даже в опере он не смел рукоплескать арии Луини, не испросив на то его дозволения.
Когда гонец доставил весть о скоропостижной кончине императора Римского Франца I, императрица была в Красном Селе, а граф и министр – во дворце в Петербурге со своим августейшим учеником, коему было тогда одиннадцать лет. В полдень гонец вручает послание министру, стоявшему в кругу придворных, среди коих был и я, а Павел Петрович стоял по правую руку от него. Он распечатывает, читает про себя, потом говорит, ни к кому не обращаясь:
– Важное известие. Император Римский скоропостижно скончался. Большой придворный траур, который вы, Ваше Высочество, – добавляет он, глядя на великого князя, – будете носить на три месяца дольше, чем императрица.
– Отчего же я буду носить его так долго?
– Поелику вы герцог Голштинский и заседаете в имперском совете. Это привилегия, – добавил он (оборотившись ко всем присутствующим), – коей столь желал Петр Первый, но так и не мог добиться.
Я наблюдал, с каким вниманием великий князь слушает своего ментора, и как старается скрыть радость. Сия метода обучения весьма меня пленила. Ронять идеи в младую душу и предоставлять ей самой в них разбираться. Я расхвалил ее князю Лобковицу[163], бывшему там, каковой весьма оценил мое замечание. Князя Лобковица все любили, ему отдавали предпочтение перед предшественником его Эстерхази, и правду сказать, последний уж много во все мешался. Веселость и любезность князя Лобковица оживляли любое общество. Он ухаживал за графиней Брюс, признанной красавицей, и никто не почитал его несчастливым в любви.
В те дни давали смотр инфантерии в двенадцати или четырнадцати верстах от Петербурга; туда прибыла императрица со всеми придворными дамами и первыми сановникам. В двух или трех соседних деревнях дома были, но в столь малом числе, что сыскать пристанище оказалось затруднительно; но я все ж таки решился поехать, дабы заодно доставить удовольствие Заире, каковой не терпелось появиться на людях вместе со мною. Празднество должно было длиться три дня, должны были пускать фейерверк, изготовленный Мелиссино, показывать, как миной крепость взрывают, и проводить множество воинских маневров на обширной равнине: все сие обещало преинтереснейшее зрелище. Я поехал с Заирой в дормезе, не заботясь, будет у меня хорошее или дурное жилье. То было время солнцестояния, и ночи не было вовсе.
Мы добрались к восьми утра на место, где в первый день до полудня производились многоразличные маневры, после чего подъехали мы к одному кабачку и велели подать нам обед в карету, ибо дом был битком набит, места было не сыскать. После кучер мой обходит всю округу в поисках пристанища, но ничего не находит; я о том нимало не печалюсь и, не желая возвращаться в Петербург, решаю ночевать в экипаже. Так и жил я три дня и все весьма меня одобряли, ибо многие деньги растратили, а устроились скверно. Мелиссино сказал, что государыня сочла уловку мою весьма разумной. Стало быть, дом у меня был на колесах, и я располагался в самых верных местах, дабы с удобствами обозревать маневры, производимые в тот день. Вдобавок карета моя была прямо-таки создана для того, чтоб быть там с любовницей, ибо то был дормез. У меня одного на смотру был такой экипаж, ко мне являлись с визитами, Заира блистательно поддерживала честь дома, беседуя по-русски, а я к досаде своей ни слова не разумел. Руссо, великий Жан-Жак Руссо, сказал как-то наобум, что русский язык есть греческий говор. Подобная оплошность не делает чести столь редкостному гению, и все же он ее допустил.
В те три дня частенько я толковал с графом Тотом, братом того, что служил в Константинополе и звался бароном. Мы познакомились в Париже, потом видались в Гааге, где я имел честь оказать ему одну услугу. Он покинул пределы Франции, чтоб избежать затруднений, чем грозила ему встреча с офицерами, его сотоварищами, сражавшимися под Минденом[164]. Он приехал в Петербург вместе с г-жой Салтыковой, с коей свел знакомство в Париже и влюбился. Он проживал у нее, был принят при дворе, всем пришелся по нраву. Был он весел, умен, хорош собой. Два или три года спустя он получил приказ императрицы покинуть Петербург, когда из-за польской смуты началась война с Турцией. Уверяли, что он переписывался со своим братом, служившим тогда в Дарданеллах, и целью его было помешать проходу российского флота под водительством Алексея Орлова. Что сталось с ним после отъезда из России, того не ведаю.
Он оказал мне немалую службу, ссудив пятьсот рублей, кои я не имел случая ему вернуть, но я еще пока не умер.
В ту пору г-н Маруцци, греческий купец, имевший в Венеции торговый дом, но теперь вовсе отошедший от дел, приехал в Петербург, был представлен ко двору и, имея вид приятный во всех отношениях, стал вхож в лучшие дома. Императрица отличала его: она остановила на нем выбор, желая сделать его доверенным лицом в Венеции. Он ухаживал за графиней Брюс, но соперники нимало его не опасались: хоть и был он человеком богатым, все ж сорить деньгами не умел, а в России скупость почитают за великий грех, в глазах женщин вовсе не простительный.
Я в те дни много ездил в Царское Село, Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт: надо везде побывать, когда путешествуешь и желаешь потом сказать, что был там-то.
Я писал о различных материях, чтоб попытаться поступить на государственную службу, и представлял свои сочинения на суд императрице, но усилия мои были тщетны. В России уважительно относятся только к тем, кого нарочно пригласили. Тех, кто прибыл по своей охоте, ни во что не ставят. Может, они и правы. <…>
…Он поехал, прельщаемый разными надеждами, в Россию. Он высказывал эти надежды принцу де Линь. «Быть может, меня оставят при дворе Екатерины, я стану ее библиотекарем ее приближенным ее секретарем ее поверенным в делах или воспитателем одного из великих князей. Отчего бы и нет?» Но надежды Казановы не оправдались, он был едва замечен в России…
П. П. Муратов. «Образы Италии»…Я надумал уезжать с наступлением осени, а г-н Панин, равно как и г-н Алсуфьев, все твердили, что мне не должно пока отправляться в путь, если не смогу рассказать потом, что говорил с императрицей. Я отвечал, что сам о том горюю, но, не сыскав никого, кто желал бы меня представить, мне остается лишь оплакивать свою злую долю.
Наконец г-н Панин сказал мне погулять как-нибудь спозаранку в Летнем саду, куда она частенько хаживала, и где, повстречав меня ненароком, должно быть, заведет разговор. Я дал понять, что желал бы повстречать Ее Императорское Величество, когда он будет рядом. Он указал день, и я пришел.
Прогуливаясь в одиночестве, я осматривал статуи, обрамлявшие аллеи: все они были из скверного камня да вдобавок дурно сделаны, но презабавные, коль прочесть надпись, выбитую внизу. На плачущей статуе было высечено имя Демокрита, на смеющейся – Гераклита, длиннобородый старик назывался Сапфо, а старуха с отвисшей грудью – Авиценна[165]. И все прочие были в том же роде.
Тут я вижу в середине аллеи приближающуюся государыню, впереди граф Григорий Орлов, позади две дамы. По левую руку шел граф Панин, она беседовала с ним. Я придвинулся к живой изгороди, дабы пропустить ее; поравнявшись, она, улыбаясь, спросила, по нраву ли мне сии красивые статуи; я отвечаю, пойдя следом, что полагаю, их тут поставили, дабы одурачить глупцов или посмешить тех, кто хоть немного знает историю.
– Я знаю единственное, – отвечала она, – что добрую мою тетушку обманули, впрочем, она не озаботилась разобраться в сих плутнях. Однако смею надеяться, что все прочее, вами у нас увиденное, не показалось столь смехотворным.
Я погрешил бы против истины и приличия, если б, услыхав изъяснения от дамы такого ранга, не принялся доказывать, что в России смешного ничтожно мало в сравнении с тем, что восхищения достойно; и почти час толковал о том, что примечательного обнаружил в Петербурге.
Как-то упомянул я короля Прусского, восхваляя его на все лады, но почтительнейше посетовав на одну его особенность: государь никогда не дослушивал до конца ответ на вопросы, кои сам задавал. Она премило улыбнулась и велела рассказать о моих с ним беседах, что я и сделал. Она любезно сказала, что никогда не видала меня на «куртаге»[166].
«Куртаг» – это концерт с пением и музицированием, что дает она во дворце всякое воскресение, куда каждый может прийти. Гуляя, она приветливо обращалась к тем, кого желала удостоить этой чести. Я отвечал, что был там всего один раз, ибо на беду свою не люблю музыку. Тут она, смеясь, сказала, взглянув на Панина, что знает еще одного человека, у которого та же беда. То была она сама. Она перестала слушать меня, дабы поговорить с подошедшим г-ном Бецким; поелику г-н Панин покинул ее, я также вышел из сада, немало обрадованный оказанной мне честью.
Государыня, роста невысокого, но прекрасно сложенная, с царственной осанкой, обладала искусством пробуждать любовь всех, кто искал знакомства с нею. Красавицей она не была, но умела понравиться обходительностью, ласкою и умом, избегая казаться высокомерной. Коли она и впрямь была скромна, то, значит, она истинно героиня, ибо ей было чем гордиться.
Несколько дней спустя г-н Панин сказал, что императрица дважды справлялась обо мне, и он уверен, что я ей понравился. Он советовал постараться увидеться с нею и уверил, что, поелику я ей пришелся по вкусу, она велит мне приблизиться всякий раз, когда увидит, и коли я желаю поступить на службу, она может попомнить обо мне.
Для какой службы мог бы я быть пригоден в сей стране, к тому же мне неведомой? И все же я обрадовался, узнав, что смею надеяться получить доступ ко двору. И вот я стал прогуливаться по утрам в саду. Обстоятельно описываю вторую нашу беседу. Увидав меня издали, она через молодого офицера велела мне подойти.
Поелику все только и говорили о Карусели, что не состоялась из-за дурной погоды, она спросила, просто чтоб что-нибудь спросить, – устраивают ли подобного рода празднества в Венеции, и я немало порассказал о том, какие празднества там устроить невозможно, а какие – возможно, причем таковых в иных местах и не увидишь; все это немало ее позабавило; к сему я присовокупил, что на родине моей климат более благоприятный, нежели в России, что там обыкновенно стоят погожие дни, а в Петербурге они редки, хотя всякий иноземец скажет, что здешний год моложе, чем во всех прочих странах.
– Это верно, – отвечала она, – у вас он на одиннадцать дней старее.
– Осмелюсь спросить, – продолжил я, – не было бы деянием, достойным Вашего Величества, принять григорианский календарь? Все протестанты с тем примирились, да и Англия четырнадцать лет назад укоротила февраль на одиннадцать последних дней, выгадав на том несколько миллионов. При таком всеобщем согласии Европа дивится, что старый стиль все еще существует в стране, где государь – глава Церкви и есть Академия наук. Многие полагают, Ваше Величество, что бессмертный Петр, повелевший начинать год с первого января[167], повелел бы заодно отменить старый стиль, если б не счел необходимым сообразовываться с Англией, способствовавшей тогда процветанию торговли в обширной вашей империи.
– А вам ведомо ли то, – сказала с любезным и лукавым видом, – что великий Петр не был ученым?
– Я полагаю, Ваше Величество, что он был больше, нежели ученым. Государь сей был истинным и неподражаемым гением. Заместо учености была в нем необычайная проницательность, позволявшая ему справедливо судить обо всем, что видел он окрест себя, что полагал он годным для процветания его подданных. И тот же гений не дозволял ему поступить неправильно, давал силу и мужество искоренять злоупотребления.
Императрица намеревалась ответить, но увидала двух дам и велела их подозвать.
– В другой раз я охотно отвечу вам, – сказала она и оборотилась к дамам.
Сей другой раз представился через неделю или десять дней, когда я уж решил, что она более не желает со мной беседовать, ибо она видела меня, но не подзывала.
Она начала разговор, сказав, что желание мое, направленное на увеличение славы российской, уже ею исполнено.
– На всех письмах, – сказала она, – что отправляем мы в чужие страны, равно как на всех законах, могущих для истории интерес представить, мы ставим две даты, одну под другой, и все знают, что та, что на одиннадцать дней больше, по новому стилю дается.
– Но, – осмелился я возразить, – по скончанию нынешнего столетия останется двенадцать лишних дней.
– Отнюдь, все уже продумано. Последний год сего столетия, что у вас по григорианской реформе не будет високосным, и у нас таковым не будет. А посему никакой разницы, по сути, между нами не останется. Согласитесь, сего укорочения достанет, чтоб ошибки не множились, не так ли? Даже хорошо, что разность составляет одиннадцать дней, ибо именно столько прибавляют всякий год к лунной эпакте[168], и мы можем считать, что у нас та же эпакта, что у вас, но с разницей в год. А в последние одиннадцать дней тропического года[169] они совпадают. Что же касаемо празднования Пасхи, то пусть остается как есть. У вас равноденствие аккурат двадцать первого марта, у нас десятого, и все те же споры с астрономами, что есть у вас, есть и у нас; правда то за вами, то за нами, ибо равноденствие частенько запаздывает или наступает раньше на день, два или три; но когда мы уверены в равноденствии, мартовский лунный цикл становится пустым делом. Видите, вы не во всем согласны даже с евреями, у коих, как сказывают, есть дополнительный месяц. В конце концов, разница в праздновании Пасхи не вредит общественному порядку, не добавляет трудов полиции, не вынуждает переменять важнейшие законы, до правительства касательство имеющие.
– Суждения Вашего Величества исполнены мудрости и ничего кроме восхищения во мне не вызывают; что же до Рождества…
– Только в этом Рим прав, ибо вы верно хотели сказать, что мы не празднуем его в дни зимнего солнцеворота, как должно. Нам это ведомо. Позвольте вам заметить, что это сущая безделица. Я предпочту лучше допускать сию небольшую оплошность, чем нанести подданным моим великую обиду, убавив на одиннадцать дней календарь и тем лишив дней рождения или именин два или три миллиона душ, а пуще того – всех, ибо скажут, что по своему неслыханному тиранству я убавила всем жизнь на одиннадцать дней. В голос никто сетовать не будет, сие здесь не в чести, но на ухо друг другу будут твердить, что я в Бога не верую и покушаюсь на непогрешимость Никейского Собора. Столь глупая смехотворная хула отнюдь не рассмешит меня. У меня найдутся и более приятные поводы для веселья.
Она насладилась моим удивлением и оставила меня пребывать в нем. Я уверен, что она нарочно исследовала сей предмет, дабы блеснуть передо мной, или посоветовалась с каким-нибудь астрономом после нашей последней беседы, когда я заговорил о реформе календаря. Г-н Алсуфьев сказал мне через несколько дней, что, возможно, императрица прочла небольшой трактат на сию тему, где изъяснялось то, что она изложила, а может, что-то и поболее, и посему она превосходно в сем деле разобралась.
Мнение свое она высказывала весьма скромно, но решительно, и, казалось, невозможно сбить ее с толку или вывести из себя, всегдашняя улыбка ее свидетельствовала о ровности характера. Поведение сие вошло у нее в привычку и, верно, без труда давалось, но от того не менее заслуживает уважения, ибо для сего потребна сила духа, превосходящая обычную природу человеческую. Обхождение государыни, во всем противоположное обхождению короля Прусского, свидетельствовало о более выдающемся гении. Напускная доброта, коей она всех ободряла, обеспечивала ей успех, тогда как резкость другого изрядно ему вредила. Любезным своим обхождением Екатерина способна была добиваться многого. Исследуя жизнь короля Прусского, восхищаешься отвагою его, но видишь, что без помощи фортуны ему бы не устоять; исследуя же жизнь самодержицы Российской, убеждаешься, что она не полагалась на слепое божество. Она довела до конца предприятия, кои прежде ее восхождения на трон вся Европа почитала великими, казалось, она пожелала убедить мир, что почитает их пустяшными.
Я прочел в одной из нынешних газет, где журналист удалился от обязанности своей, желая привлечь внимание к своей собственной персоне, и высказывает мысль, не заботясь о том, что оная может оскорбить читателя: дескать, Екатерина II скончалась счастливо, как жила. Скончалась она, как всем про то ведомо, скоропостижно. Сей журналист, именуя счастливой таковую смерть, дает понять, не говоря того напрямую, что хотел бы и себе подобной кончины. В добрый час, каждому свое, мы можем лишь пожелать ему насладиться таковой в меру. Но смерть может быть счастливой единственно, если тот, кого она сразила, хотел ее; а кто сказал ему, что для Екатерины она была желанной? Ежели он предполагает сие, зная глубокий ум, в коем никто не мог ей отказать, то осмелюсь спросить, на каком основании решает он, что глубокий ум почитает внезапную смерть счастливейшей? Не судит ли он по себе? Не будь он глупцом, он убоялся бы ошибиться; а коли он ошибается, значит, и впрямь глупец. Из сего следует, что наш журналист равно достоин титула глупца, ошибается он или нет. Чтоб в сем удостовериться, спросим теперь почившую в бозе императрицу.
– Довольны ли вы, Ваше Величество, внезапною вашею кончиной?
– Какая чушь! Подобный вопрос возможно задать женщине отчаявшейся либо слабой здоровьем, боящейся мучительной смерти от долгой и тяжкой болезни. Но ни то, ни другое отношения ко мне не имело, я была счастлива и чувствовала себя превосходно. Худшего несчастья случиться не могло, ибо сей единственной вещи я не могла предугадать, будучи в здравом уме. Несчастье сие помешало мне окончить сотню дел, кои я завершила бы без малейшего затруднения, если б Господь ниспослал мне хоть какую болезнь, малейший из признаков коей понудил бы меня помыслить о смерти. Уверяю вас, я уразумела бы о ней тотчас безо всякого врача. Но случилось по-иному. Я услыхала небесный глас, повелевший мне отправиться в самое далекое путешествие, не давши времени на сборы, в тот самый миг, когда я вовсе не была к тому готова. Можно ли почесть меня счастливой от того, что я умерла, не ведая, что смерть подошла так близко? Те, кто полагают, что у меня недостало бы сил смиренно подчиниться естественному закону, коему подвластны все смертные, верно, углядели в душе моей трусость, коей я за всю жизнь никому не давала повода подозревать. Могу поклясться, что, став ныне бесплотной тенью, я была бы довольна и счастлива, если б жестокая Божья воля, сразившая меня, даровала мне ясность мысли за сутки до кончины. Я бы не сетовала на несправедливость.
– Как, Ваше Величество! Вы обвиняете Бога в несправедливости?
– Сие нетрудно, ибо я осуждена на вечную муку. Скажите, может ли осужденный, даже если на земле он был самым виновным из всех смертных, почесть правым приговор, обрекающий его на вечные страдания?
– Право слово, я полагаю, что сие невозможно, ибо, признав, что осуждены справедливо, вы тем отчасти утешитесь.
– Весьма резонно, а осужденный принужден вечно оставаться безутешным.
– А ведь находятся философы, что вследствие таковой смерти вас счастливой почитают.
– Скажите лучше – глупцы, ибо слова мои, что вы только что услышали, доказывают, что скорая кончина сделала меня несчастной, даже если б я сейчас почитала себя счастливой.
– Вне всякого сомнения. Осмелюсь спросить, допускаете ли вы, Ваше Величество, чтоб за злосчастной смертью воспоследовало вечное блаженство или за счастливой – телесные муки?
– Ни то, ни другое не является возможным. Вечное блаженство следует за нисходящим на душу покоем, в момент, когда она покидает бренную плоть, а на вечную муку обречен отлетевший дух, раздираемый угрызениями либо тщетными сожалениями. Но довольно, положенная мне кара не позволяет более говорить с вами.
– Помилуйте, что это за кара?
– Уныние: мне скучно. Прощайте.
После столь долгого поэтического отступления читатель будет мне признателен за возвращение к предмету моего рассказа.
Узнав от г-на Панина, что через пару дней императрица поедет в Красное Село, я отправился показаться ей, предвидя, что другого случая уж не будет. Итак, я был в саду, однако, коль скоро собирался дождь, я вознамерился было уйти, но тут она послала за мной и велела проводить в залу первого этажа, где прогуливалась с Григорием Григорьевичем и еще одной дамой.
– Я забыла спросить, – молвила она с достоинством и любезностию, – полагаете ли вы, что сие исправление календаря от ошибок избавлено?
– Само исправление допускает погрешность, Ваше Величество, но она столь мала, что скажется на солнечном годе лишь на протяжении девяти или десяти тысяч лет.
– Я того же мнения и потому полагаю, что папа Григорий не должен был в том признаваться. Законодателю не должно выказывать ни слабость, ни мелочность. Тому несколько дней меня разобрал смех, едва уразумела я, что, если б исправление не изничтожило ошибку, отменив високосный год в конце столетия, человечество получило бы лишний год через пятьдесят тысяч лет. За это время пора равноденствия сто тридцать раз отодвигалась бы вспять, пройдясь по всем дням в году, а Рождество пришлось бы десять или двенадцать тысяч раз праздновать летом. Великий римский понтифик нашел в сей мудрой операции простоту, что не нашел бы он в моем, строго блюдущем древние обычаи.
– Я все же осмелюсь думать, что оно покорилось бы Вашему Величеству.
– Не сомневаюсь, но как огорчилось бы наше духовенство, лишившись праздников сотни святых и великомучениц, что приходятся на эти одиннадцать дней! У вас их всего по одному на день, а у нас больше десятка. Я вам больше скажу: все древние государства привязаны к своим древним установлениям, полагая, что, коли они сохраняются, значит, хороши. Меня уверяли, что в республике вашей новый год начинается первого марта[170]; мне сие обыкновение представляется отнюдь не варварством, а благородным свидетельством древности вашей. Да и то сказать, по мнению моему, год разумней начинать первого марта, нежели первого января. Но не возникает ли тут какой путаницы?
– Никакой, Ваше Величество. Две буквы М. V., кои мы добавляем к дате в январе и феврале, исключают ошибку.
– И гербы в Венеции другие, не соблюдающие вовсе правил геральдики; рисунок на них, говоря начистоту, нельзя почитать гербовым щитом. Да и покровителя вашего, Евангелиста, вы изображаете в престранном обличии, а в пяти латинских словах, с коими вы к нему обращаетесь, есть, как мне сказывали, грамматическая ошибка[171]. Но вы и впрямь не делите двадцать четыре часа, что в сутках, на два раза по двенадцать?
– Да, Ваше Величество, и начинаем отсчитывать их с наступлением ночи.
– Вот видите, какова сила привычки? Вам это кажется удобным, тогда как мне представляется весьма неудобным.
– Взглянув на часы, Ваше Величество, вам всегда будет ведомо, сколько еще длиться дню, и не надобно для того будет ждать выстрела крепостной пушки, что оповещает народ о переходе солнца в другое полушарие.
– Это правда, но у вас лишь одно преимущество против наших двух: вы всегда знаете час скончания дня, а мы – что в двенадцать часов дня наступит полдень, а в двенадцать ночи – полночь.
Засим стала она толковать о нравах венецианцев, их страсти к азартным играм и спросила к слову, прижилась ли у нас генуэзская лотерея.
– Меня хотели убедить, – сказала она, – чтоб я допустила ее в моем государстве. Я согласилась бы, но токмо при условии, что наименьшая ставка будет в один рубль, дабы помешать играть беднякам, кои, не умея считать, уверуют, что легко угадать три цифры.
После сего изъяснения, полного глубочайшей мудрости, я мог только покорнейше кивнуть. То была последняя беседа моя с сей великой женщиной, умевшей править тридцать пять лет, не допустив ни одного существенного промаха, соблюдая во всем умеренность.
Перед отъездом я устроил в Екатерингофе для друзей своих празднество с фейерверком, не стоившим мне ничего: то был подарок друга моего Мелиссино. Но ужин, что я дал на тридцать персон, был отменно вкусен, а бал великолепен. Хоть кошелек мой и не был набит, все же почел я своим долгом выказать друзьям признательность за всю их обо мне заботу.
Поелику уехал я с комедианткой Вальвиль, здесь должно поведать читателю, каким манером я свел с ней знакомство.
Отправился я как-то раз в одиночестве во французскую комедию и сел в ложе третьего яруса, оказавшись рядом с одной премилой дамой, мне незнакомой, что была совершенно одна. Я завел с ней разговор, то браня, то хваля игру актеров и актрис, и она, отвечая, пленила меня умом, красоте ее не уступающим. Очарованный ею, я осмелился к концу пьесы спросить, русская ли она.
– Я парижанка, – ответствовала она, – и комедиантка по профессии. Сценическое имя мое Вальвиль, и ежели оно вам не знакомо, я ничуть не удивлюсь, ибо я только месяц как приехала и всего раз играла субретку в «Любовных безумствах»[172].
– Отчего только раз?
– Оттого, что не имела счастья понравиться государыне. Но поелику ангажировали меня на год, она велела платить мне по сто рублей в месяц, а через год выдадут паспорт, денег на дорогу, и я уеду.
– Я полагаю, императрица думает, что милостиво обошлась с вами, платя, хоть вы вольны не работать.
– Верно, так она и мыслит, она ведь не актриса. Откуда ей знать, что, не играя, я теряю много больше, чем получаю от нее, ибо, еще не научившись ремеслу, забываю начатки оного.
– Надо известить ее о том.
– Я желала бы, чтобы назначила она мне аудиенцию.
– В том нужды нет. У вас, конечно, есть любовник.
– Отнюдь.
– Невероятно.
На следующее утро я посылаю ей таковое письмо: «…Я желал бы, сударыня, завязать с вами интригу. Вы пробудили во мне тревожащие душу желания, и я взываю к вам: дайте мне удовлетворение. Я прошу у вас ужина и желаю знать наперед, во что он мне станет. Поелику намерен я в следующем месяце ехать в Варшаву, я предлагаю вам место в дормезе, что причинит вам только то неудобство, что я буду спать рядом с вами. Я знаю способ получить для вас паспорт. Подателю сего велено ждать ответа, который, надеюсь, будет столь же ясен, как мое письмо».
Вот ответ, полученный мною через два часа:
«Милостивый государь, умея с легкостью распутывать любую интригу (стоит лишь почувствовать, что узлы затянуты некрепко), я без труда соглашаюсь завязать ее. Что до желаний, кои я в вас пробудила, то мне досадно, что они вас тревожат, ибо мне они льстят, и я соглашусь удовлетворить их с тем, чтоб сильнее разжечь. Желаемый вами ужин будет готов сегодня вечером, а после мы поторгуемся, что за ним воспоследует. Место в вашем дормезе будет мне тем более дорого, если кроме паспорта вы сумеете добыть мне денег на дорогу до Парижа. Надеюсь, что сии слова покажутся вам столь же ясными, как ваши собственные. Прощайте, сударь, до вечера».
Я застал сию Вальвиль одну в прелестной ее квартирке, обратился к ней запросто, и она приняла меня, как старого товарища. Заговорив сразу о том, что занимало ее пуще всего, она сказала, что почтет за счастье ехать со мной, но сомневается, что я смогу добыть ей дозволение. Я отвечал, что уверен в том, коли она подаст прошение императрице, как я его составлю; она просила написать его, принеся бумагу и чернила.
Вот сии несколько строк:
«Ваше Императорское Величество! Умоляю Вас представить, что, оставаясь здесь год без дела, я забуду ремесло свое, тем паче, что еще не довольно выучилась ему. Оттого щедрость Ваша приносит мне вреда более, нежели пользы; я буду сверх меры Вам признательна, коли дозволите мне милостиво уехать».
– Как? – сказала она. – И это все?
– Ни слова более.
– Ты ни о чем не пишешь, ни о паспорте, ни о прогонных средствах, а я небогата.
– Подай сие прошение, и, либо глупей меня на свете нет, либо ты получишь не только денег на дорогу, но и жалование за год.
– Это было б слишком.
– Все так и будет. Ты не знаешь императрицу, а я знаю. Попроси переписать копию и подай собственноручно.
– Я сама перепишу. У меня отменный почерк. Мне кажется даже, будто я сама сие сочинила, так это на меня похоже. Думаю, ты лицедей покрепче моего, и я хочу сегодня же взять у тебя первый урок. Пойдем ужинать.
После весьма изысканного ужина, который Вальвиль приправила сотней шуточек на парижском жаргоне, весьма мне известном, она уступила мне безо всяких церемоний. Я только на минуту сошел вниз, чтоб отпустить карету и втолковать кучеру, что он должен сказать Заире, каковую я уж уведомил, что еду в Кронштадт, где и заночую. То был украинец, верность коего я уже многажды испытывал. Впрочем, я сразу понял, что, став любовником Вальвиль, я не смогу более держать Заиру.
Я обнаружил в сей комедиантке тот же характер и те же достоинства, что во всех французских девицах, кои, обладая очарованием и будучи неплохо воспитанными, полагают, что достойны права принадлежать одному мужчине; они желают быть на содержании и титул любовницы ставят выше звания жены.
В антрактах она поведала мне некоторые свои приключения, кои позволили мне угадать всю ее историю, не слишком, впрочем, долгую. Актер Клерваль, приехавший в Париж, дабы набрать труппу для петербургского придворного театра, случайно повстречав ее и оценив ее ум, убедил, что она прирожденная актриса, хотя сама о том не ведает. Сия мысль ослепила ее, и она подписала ангажемент с вербовщиком, не озаботившись удостовериться в своих способностях. Она уехала из Парижа вместе с ним и шестью другими актерами и актрисами; среди коих лишь она одна ни разу не выходила на сцену.
– Я полагала, – рассказывала она, – что тут, как у нас: девица нанимается в Оперу – в хор или в балет, не умея ни петь, ни танцевать, – этого вовсе не надобно, чтобы сделаться актрисой. Как иначе могла я думать, ежели сам Клерваль уверял меня, что я создана для того, чтобы блистать на сцене, и доказал сие, взяв меня с собой? Прежде чем записать меня, он единственно пожелал послушать мое чтение и велел выучить наизусть три или четыре сцены из разных пьес, кои разыграл в моей комнате вместе со мной, – он, как вы знаете, превосходно представляет слуг; он нашел во мне отменную субретку и, конечно, не желал меня обмануть. Обманулся он сам. Через две недели по приезду сюда я дебютировала и, что называется, провалилась, но плевать я на то хотела, мне стыдиться нечего.
– Ты, быть может, испугалась.
– Испугалась? Напротив. Клерваль клялся, что, выкажи я испуг, государыня, коя сама доброта, почла бы за долг ободрить меня.
Я покинул ее утром, после того как она своей рукой переписала прошение и сделала это превосходно. Она уверяла, что завтра самолично подаст его, и я обещал прийти к ней другой раз ужинать, как только расстанусь с Заирой, о которой ей рассказал. Она одобрила мою решимость Французские девицы, служительницы Венеры, наделенные умом и воспитанием, все такие, как Вальвиль: без страстей, без темперамента и потому любить не способны. Они умеют угождать и действуют всегда одним и тем же образом. Мастерицы развязывать связи, с той же легкостью они их и завязывают, всегда весело и шутя. И это не легкомыслие, а жизненный принцип. Если он не наилучший, то, по меньшей мере, самый удобный.
…Почти всегда делал своих возлюбленных счастливыми, как мы слышим из его собственных уст и читаем в сохранившихся и опубликованных подлинных письмах его подруг. Многие женщины продолжали любить его хотя он давно их покинул. С ним они побывали в волшебной стране счастья.
Герман Кестен. «Казанова»Воротившись домой, я нашел Заиру спокойной, но грустной; это печалило меня больше, чем гнев, ибо я любил ее; но надлежало кончать историю и приуготовиться к боли, кою причинят мне ее слезы. Зная, что я должен уехать и, не будучи русским, не могу взять ее с собой, она беспокоилась о судьбе своей. Она должна была перейти к тому, кому я отдам ее паспорт, и вот это-то ее и беспокоило. Я провел с ней весь день и всю ночь, выказывая ей нежность мою и печаль от предстоящей разлуки.
Архитектор Ринальди, муж, умудренный семьюдесятью летами, из коих сорок провел в России, давно был влюблен в нее; он твердил мне, что я доставлю ему великое удовольствие, коль, уезжая, ее ему уступлю, и предлагал вдвое против того, что я за нее уплатил, а я ему всегда на то отвечал, что оставлю Заиру лишь тому, с кем она захочет быть по доброй воле, ибо намерен подарить ей все деньги, кои уплатит мне тот, кто приобретет ее. Ринальди сие пришлось не по вкусу, ибо он не льстил себя надеждой понравиться ей; но все же ее не терял.
Он явился ко мне в то самое утро, что я назначил, дабы покончить дело, и, хорошо зная русский, изъяснил девчонке свои чувства. Она отвечала по-итальянски, что будет принадлежать тому, кому я отдам ее паспорт, и посему ему надобно обращаться ко мне, а она себе не хозяйка; и никаких привязанностей у нее нет. Не сумев добиться от нас более ясного ответа, честный старик откланялся после обеда, ни на что особо не надеясь, но все же полагаясь на меня.
После его ухода я просил ее сказать мне от чистого сердца, будет ли она держать на меня зло, коли я оставлю ее сему достойному мужу, каковой, разумеется, будет обращаться с ней, как с собственной дочерью.
Она намеревалась ответить, когда принесли письмо от этой Вальвиль, просившей меня поскорее прибыть, чтоб услышать приятные для меня вести. Я приказал немедля закладывать лошадей.
– Хорошо, – спокойно сказала Заира, – поезжай по своим делам, а когда вернешься, я дам тебе окончательный ответ.
Вальвиль была вне себя от счастья. Она дождалась императрицу, когда та шла из часовни в свои покои и сама спросила, что ей надобно, и тогда лишь она подала ей прошение. Государыня прочла его на ходу и, милостиво улыбнувшись, велела ждать. Через три или четыре минуты ей передали то же самое прошение, на коем императрица отписала статс-секретарю Елагину. Она начертала внутри четыре строки по-русски, кои Елагин сам ей растолковал, когда она поспешила отнести ему прошение. Государыня приказала выдать комедиантке Вальвиль паспорт, жалование за год и сто голландских гульденов на дорогу. Она была уверена, что за две недели все получит, поелику управа выдавала паспорт через две недели, как пропечатают весть об отъезде.
Вальвиль, исполнившись признательности, уверила меня в дружбе своей, и мы назначили время отъезда. Я объявил о своем отъезде через городскую газету спустя три или четыре дня. Поелику я обещал Заире вернуться и мне не терпелось узнать ее ответ, я покинул актрису, уверив, что буду жить с ней, как только устрою в хорошие руки юную девицу, кою принужден оставить в Петербурге.
За ужином Заира была весела, а после спросила, возвернет ли мне г-н Ринальди, взяв ее к себе, те сто рублей что я уплатил отцу ее; я подтвердил.
– Но теперь, – сказала она, – я небось стою дороже со всеми обновами, что ты мне оставляешь, да и по-итальянски могу изъясниться.
– Ну, конечно, малышка, но я не желаю, чтоб обо мне говорили, что я на тебе нажился, тем более что я решил подарить тебе эти сто рублей, что получу от него, вручив твой паспорт.
– Коли ты решился на сей дар, отчего б тебе не отвезти меня вместе с паспортом к родному батюшке? Тогда ты воистину будешь добр. Раз г-н Ринальди любит меня, тебе надобно единственно сказать, чтоб он приехал за мной к батюшке. Он говорит по-русски, они сойдутся в цене, я противиться не стану. Ты не осерчаешь, коль я не достанусь ему задешево?
– Да нет же, дитя мое, совсем напротив. Я рад пособить семейству твоему, ибо г-н Ринальди богат.
– Вот и славно. Век тебя буду помнить. Идем спать. В Екатерингоф отвезешь меня не раньше, чем поутру. Идем же спать.
Вот и вся история расставания моего с девицей, благодаря коей я столь благонравно прожил в Петербурге. Зиновьев уверял, что, оставив залог, я мог бы уехать с ней, и вызывался доставить мне эту радость. Я отказался, помыслив о последствиях. Я любил ее и сам бы стал ее рабом, но, быть может, я б о том и тревожиться не стал, если б в ту самую пору не влюбился в Вальвиль.
Все утро Заира собирала пожитки, то плача, то смеясь, и каждый раз видела слезы у меня на глазах, когда, оторвавшись от своего сундучка, подбегала меня поцеловать. Когда я отвез ее к отцу, вручив ему ее паспорт, все семейство упало передо мной на колени, молясь на меня, как на Бога. Но в избе Заира выглядела прескверно, ибо за постель они почитали сенник, где все спали вповалку.
Среди крайнего разврата бурной юности в жизни, полной приключений, нередко сомнительных, он выказывал благородство, утонченность и мужество.
Шарль де Линь. «Рыцарь Фортуны»Когда я обо всем поведал г-ну Ринальди, он ничуть не рассердился. Он сказал, что надеется заполучить ее, и, заручившись ее согласием, без труда столкуется с отцом ее о цене; со следующего дня он стал наведываться к ней, но добился толку лишь после моего отъезда; она видела от него только хорошее и жила у него до самой его смерти.
Последующие события
Затем Казанова отправился в Варшаву, откуда был изгнан после дуэли с полковником графом Браницким. Он колесил по Европе, безуспешно пытаясь найти покупателя своей лотереи. В 1767 году его заставили покинуть Вену (за шулерство). В том же году, возвратившись на несколько месяцев в Париж, Казанова вскоре был изгнан из Франции личным приказом Людовика XV (главным образом, из-за его аферы с маркизой д’Юрфе). Теперь, когда дурная слава о его безрассудствах прошла по Европе, ему уже сложно было добиться успеха. Поэтому он направился в Испанию, где о нем почти не знали. Он попробовал применить свой обычный подход, полагаясь на свои знакомства (в основном, среди масонов), выпивая и обедая с высокопоставленными лицами и пытаясь получить аудиенцию у короля Карла III. Но так ничего и не добившись, он безуспешно колесил по Испании (1768). В Барселоне его едва не убили, и он оказался в тюрьме на шесть недель. Потерпев неудачу в своем испанском турне, он возвращается во Францию, а затем и в Италию (1769).
…В то время[173] я отправился в Ливорно в надежде разбогатеть: хотел я предложить свои услуги графу Алексею Орлову, командующему эскадрой, что должна была отправиться в Константинополь. <…>
Я прибыл в Ливорно, где застал графа Орлова лишь благодаря дурной погоде. Английский консул[174] немедленно представил меня графу, каковой жил в его доме. Едва он меня увидел, показалось мне, что был он рад встрече: он знавал меня в Петербурге. <…> Еще сказал он, что будет очень рад видеть меня у себя на корабле; он предложил мне отправить на корабль вещи, ибо собирался сняться с якоря при первом же попутном ветре. Был он крайне занят и вскоре оставил нас одних с консулом, каковой спросил меня, в каком качестве я намереваюсь сопровождать адмирала в Константинополь.
– Это-то именно я бы хотел знать, прежде чем отсылать на корабль свои вещи, – сказал я, – нам надобно объясниться с графом. <…>
Наутро я передаю ему записку, в коей сказано, что, прежде чем приказать нести вещи на борт корабля, мне надобно поговорить с ним четверть часа наедине. Адъютант говорит, что граф еще не вставал и пишет в постели, а потому просит меня подождать.
– С превеликим удовольствием.
И тут вижу я г-на да Лольо, посланника польского в Венеции, старого друга. Мы знакомы были в Берлине, да и семьи наши имели давние связи.
– Что вы тут делаете? – спрашивает он.
– Мне надобно говорить с адмиралом.
– Он чрезвычайно занят.
Сообщив мне сию новость, он входит к графу. Какова бесцеремонность! Не значило ли сие, что для него адмирал не слишком был занят? Прошла еще минута, и вижу я маркиза Маруччи с орденом Святой Анны на груди, каковой, приблизившись, с чопорным видом поприветствовал меня. <…> И тоже прошел к адмиралу. Я был немало разозлен, что эти господа были приняты, я же оставался ждать. Прожект мой все менее был мне по нраву.
Спустя пять часов адмирал выходит, сопровождаемый всей своей свитой, чтобы ехать к кому-то, мне же с самым учтивым видом говорит, что побеседуем за столом или после обеда.
– После обеда, – отвечаю я.
Он возвращается к двум часам, усаживается за стол, где уже расселись приглашенные. К счастью, я был в их числе. Орлов то и дело повторял: «Кушайте же!», сам же был занят чтением писем, где черкал что-то карандашом и отдавал секретарю. После обеда, во время коего я не проронил ни слова, все принялись стоя пить кофе. Граф вдруг взглянул на меня и, молвив: «à propos»[175], взял меня под руку и отвел к окну, где сказал мне, чтобы я поторопился отправить вещи на корабль, потому как, если ветер будет, как нынче, он назавтра отправляется.
– Позвольте, граф, спросит-ь вас, на какой пост вы меня предназначаете?
– У меня нет никакого дела предложить вам, может быть, после? Вы можете следовать в качестве друга.
– Ценю эту любезность и считал бы за честь защищать ваши дни с риском собственной жизни; но чем я буду вознагражден до и после экспедиции? Как бы ни почтил меня своим доверием Ваше Сиятельство, все же прочие будут смотреть на меня косо и почитать меня человеком, годным лишь на то, чтобы увеселять вашу свиту своими рассказами. Я убью первого же, кто хоть как-то выявит свое ко мне высокомерие. Я нуждаюсь в занятии, которое давало бы мне право носить вашу форму. Я могу во многом быть вам полезен. Вместо вашей бесценной дружбы предложите мне место и жалование…
– Невозможно, милый друг, мне решительно нечего вам предложить.
– В таком случае, желаю вам доброго пути, а я отправлюсь в Рим. Очень желаю надеяться, что ни разу вы не пожалеете о том, что не взяли меня с собою. Без меня вам ни за что не пройти Дарданеллы.
– Ужели это пророчество?
– Предсказание оракула.
– Посмотрим, дорогой мой Калхас[176].
Таков в точности был разговор наш с этим достойнейшим человеком, который так и не пробился через Дарданеллы. И никто не может знать, пробился бы, если б я был с ним.
Поразительное воображение, живость, присущая итальянскому характеру, его путешествия, все те занятия, кои ему пришлось сменить, твердость перед лицом всяческих невзгод душевных и физических все это делает из него незаурядного человека, а знакомство с ним – истинным подарком судьбы. Он достоин уважения и величайшей дружбы тех весьма немногочисленных благосклонности.
Шарль де Линь. «Рыцарь Фортуны»Дальнейшие похождения Казановы
Потерпев очередную неудачу, Казанова уезжает в Рим, где намеревался подготовить свое возвращение в Венецию. Ожидая разрешения на въезд, Казанова начал переводить на итальянский язык «Илиаду», писать книгу «История смуты в Польше» и комедию. Наконец, долгожданное разрешение было прислано: Казанове было позволено вернуться в Венецию в сентябре 1774 года, после восемнадцати лет изгнания.
Поначалу он был сердечно принят и стал знаменитостью. Даже инквизиторы пожелали узнать, как ему удалось сбежать из их тюрьмы. Но средств к существованию оказалось ничтожно мало, и он скрепя сердце продолжил заниматься шпионажем в пользу правительства Венеции. Затем он снова вынужден покинуть Венецию из-за своих скандальных публикаций. Казанова прибыл в Париж и в ноябре 1783 года, во время доклада, посвященного воздухоплаванию, встретился с Бенджамином Франклином. Затем Казанова служил секретарем Себастьяна Фоскарини, венецианского посла в Вене. В это же время он знакомится с Лоренцо да Понте, либреттистом Моцарта, который написал о Казанове: «Этот необычный человек никогда не любил оказываться в неловком положении». Записи Казановы свидетельствуют о том, что он давал Да Понте советы, касающиеся либретто оперы Моцарта «Дон Жуан».
В 1785 году, после смерти Фоскарини, Казанова начал искать себе другое место. Несколько месяцев спустя он стал библиотекарем графа Йозефа Карла фон Вальдштейна в замке Дукс в Богемии (Духцовский замок, Чехия). Граф, будучи сам франкмасоном, каббалистом и заядлым путешественником, высоко оценил Казанову, когда они встретились годом ранее в резиденции посла Фоскарини. Хотя служба у графа Вальдштейна обеспечила Казанове безопасность и хороший заработок, он описывает свои последние годы как принесшие скуку и разочарование. Его здоровье сильно ухудшилось, и он находил жизнь среди крестьян недостойной себя.
Хотя Казанова был в хороших отношениях с приютившим его графом, тот был значительно моложе его и имел свои прихоти: часто игнорировал Казанову за столом и не знакомил с важными гостями. Более того, Казанова, вспыльчивый чужак, вызывал к себе сильную неприязнь со стороны других обитателей замка. В отчаянии Казанова задумался было о самоубийстве, но затем решил жить, чтобы записать свои мемуары, чем он и занимался до самой смерти.
Вспоминая прошлое, Казанова словно возвратил себе молодость. Он забыл болезни и оскорбления… Он непрерывно работал. Вскакивал с постели, чтобы писать и переписывать заново. Как он сообщал одному из своих все еще многочисленных корреспондентов, даже сновидениях книга не оставляла его.
Бонами Добре. «Три фигуры восемнадцатого столетия. Сара Черчилль, Джон Весли, Джиакомо Казанова»Джакомо Казанова умер 4 июня 1798 года в возрасте семидесяти трех лет. Последними его словами были: «Я жил как философ и умираю христианином».
Разумеется, Казанова жил не для того, чтобы написать свои мемуары Верно и то что он писал мемуары. то, писал, только чтобы еще раз пережить в воображении свою чудесную жизнь. Но ее стоило прожить, хотя бы затем, чтобы написать эту чудесную книгу.
П. П. Муратов. «Образы Италии»Список иллюстраций
1. Менгc А. Р.Джакомо Казанова
2. Сомов К. А.Юноша на коленях перед дамой
3. Каналетто А.Площадь Сан-Марко (фрагмент)
4. Гревидон Г.Портрет Принца Шарля Де Линя
5. Грез Ж. Б.Maльчик с корзиной цветов и одуванчиком
6. Лонги П.Концерт
7. Ватто А.Актеры французского театра
8. Каналь А.Вид островов Сан-Микеле, Сан-Кристофоро и Мурано с набережной Фондамента Нуове
9. Грёз Ж. Б.Маленький лентяй
10. Грёз Ж. Б.Посещение священника
11. Тернер Д. У.Догана и Сан-Джорджо
12. Шарден Ж.-Б. С.Медный котелок и три яйца
13. Грёз Ж. Б.Девушка, читающая историю Абеляра и Элоизы
14. Ферье Г.Справедливость
15. Наполетано Ф.Натюрморт
16. Йенсен Й.Корзина с цветами
17. Грёз Ж. Б.Девушка в сиреневой тунике
18. Каналь А.Падуанское каприччо с террасой
19. Лонги П.Венецианские монахи
20. Шарден Ж. Б.Мальчик с волчком
21. Бoголюбов А. П.Дворец дожей в Венеции
22. Шарден Ж. Б.Карточный домик
23. Каналетто А.Прием французского посла в Венеции
24. де ла Тур М. К.Людовик ХV
25. Буше Ф.Обнажённая на софе. Miss O’Murphy
26. Буше Ф.Мадам де Помпадур
27. Токе Л.Мария Лещинская, королева Франции
28. Рагене Н. Ж.-Б.Состязание моряков между мостом Нотр Дам и мостом Менял
29. Хогарт У.Заключение брачного контракта (фрагмент)
30. Перель Г.Вид на Версальский дворец со стороны сада
31. Натье Ж.Портрет мадам Д’Этиоль
32. Ланкре Н.Портрет танцовщицы Камарго
33. Йенсен Й.Букет цветов
34. Мартен П. Д.Вид замка
35. Штоскопф С.Натюрморт с книгами, свечой и бронзовой статуей
36. Мериан М. (Старший). Макрокосм и микрокосм
37. Дуглас В. Ф.Алхимик
38. Целариус А.Солнечная система по Птолемею
39. Рагене Н. Ж.-Б.Новый мост в Париже
40. Неизвестный художник. Граф Сен-Жермен
41. Буше Ф.Дама за туалетом
42. Фрагонар Ж. О.Портрет Дидро
43. Ларжильер Н.Семейный портрет (фрагмент)
44. Ренуар П.-О.Розы и жасмин в дельфтской вазе
45. Юбер Р.Большая галерея Лувра
46. Ланкре Н.Четыре возраста. Молодость
47. Неизвестный художник. Портрет Ж.-Ж. Руссо
48. Караваджо. Натюрморт с цветами и фруктами
49. Йенсен Й.Примула высокая
50. Караваджо. Корзина с фруктами
51. Ларжильер Н.Вольтер
52. Гюбер Ж.Вольтер, встречающий гостей
53. Шарден Ж.-Б. С.Натюрморт с атрибутами искусств
54. Неизвестный художник. Женщина в белом платье
55. Фрагонар Ж. О.Фантастическая фигура
56. Лиотар Ж. Э.Натюрморт с китайским сервизом
57. Письмо Вольтера Екатерине II
58. Драгоне А. Д.Три Грации
59. Станнард Е.Натюрморт с гвоздиками
60. Гюбер Ж.Завтрак Вольтера
61. Неизвестный художник. Проверка кондомов
62. Гюбер Ж.Вольтер за шахматным столом
63. Ланглуа П. Ж.Вольтер
64. Фрагонар Ж. О.Женщина, играющая с собачкой
65. Ферье Г.Письма любви
66. Буше Ф.Купание Дианы
67. Йенсен Й.Корзина с цветами
68. Лиотар Ж. Э.Девушка с письмом
69. Буше Ф.Отдыхающая девушка
70. ван Дил Я. Ф.Розы в стеклянной вазе
71. Прокачинни К. А.Флора
72. Ланкре Н.Сцена из трагедии Тома Конеля «Граф Эссекс»
73. Фрагонар Ж. О.Девушка, читающая письмо
74. Грез Ж. Б.Портрет мальчика
75. Граф А.Фридерик Великий
76. План Сан-Суси. Гравюра
77. фон Менцель А.Колоннада перед фасадом дворца Сан-Суси
78. фон Менцель А.Концерт для флейты в Сан-Суси
79. Ларжильер Н.Семейный портрет (фрагмент)
80. Фрагонар Ж. О.Поцелуй украдкой
81. Розальба К.Головка блондинки
82. Ланкре Н.Танцы в павильоне
83. фон Менцель А.Круглый стол в Сан-Суси
84. Шарден Ж. Б.Юный рисовальщик
85. Фрагмент оформления стены дворца Сан-Суси
86. Ваза из дворца Сан-Суси
87. Лиотар Ж. Э.Шоколадница
88. Неизвестный художник. Эрнст Иоганн Бирон
89. фон Менцель А.Бал с ужином
90. Лонги А. Портрет леди
91. Рокотов Ф. С.Портрет императрицы Екатерины Второй
92. Дамам-Демартре М.-Ф. Петропавловская крепость
93. Алексеев Ф. Я.Вид дворцовой набережной от Петропавловской крепости
94. Cомов К. А.Как одевались в старину
95. Антропов А. П.Портрет Екатерины II
96. Сомов К. А.Галантная сцена
97. Урениус И.Петербург. Зимняя канавка
98. Сомов К. А.Зима. Каток
99. Куртен Ж.-Ф.Молодая женщина перед зеркалом
100. Левицкий Д. Г.Портрет графини Екатерины Романовны Дашковой
101. Cомов К. А.Спящая молодая женщина
102. Венецианов А. Г.Девушка в платке
103. Жакотте Ж. по оригиналу Шарлеманя И.Невский проспект
104. Десять рублей 1762 г. Санкт-Петербургский монетный двор
105. Венецианов А. Г.Гадание на картах
106. Крыжицкий К. Я.Зимний пейзаж со стогами
107. Грузинский П. Н.Масленица
108. Дамам-Демартре М.-Ф.Петербург. Аничков мост
109. Патерсен Б.Невские ворота Петропавловской крепости
110. Алексеев Ф. Я.Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве
111. Христинек К. Л.Портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского
112. Алексеев Ф. Я.Соборная площадь в Московском Кремле
113. Галактионов С. Ф.Вид на Неву со стороны Петропавловской крепости
114. Эриксен В.Портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского
115. Боровиковский В. Л.Граф Панин Никита Иванович
116. Алексеев Ф. Я.Вид Английской набережной со стороны Васильевского острова
117. Неизвестный художник. Царское село. Вид на Камеронову галерею и Фрейлинский садик
118. Дамам-Демарте М. Ф.Петербург. Симеоновский мост
119. Лампи (Старший) И. Б.Екатерина II
120. Старинная астролябия
121. Боровиковский В. Л.Екатерина II в Царскосельском парке
122. Редуте П.-Ж.Пионы
123. Сомов К. А.В боскете
124. Шарден Ж.-Б. С.Леди пишет письмо
125. Сомов К. А.Интимные отражения в зеркале на туалетном столике
126. Хруцкий И. Ф.Цветы и плоды
127. Бонне Л. М.Сломанный веер. Цветная гравюра по рисунку Ж.-Б. Гуэ
128. Неизвестный художник. Почтовый тракт
129. Бoголюбов А. П.Русская эскадра в пути
130. Бoголюбов А. П.Морской бой
131. Берк И.Джакомо Казанова в возрасте 63 лет. Гравюра
132. Страница из рукописи Дж. Казановы
133. Сомов К. А.Влюбленные
134. Бенуа А.Версаль. Фонтан Бахуса зимой
135. Фрагонар Ж. О.Счастливые возможности качелей
Примечания
1
Шевалье де Сенгальт – дворянский титул, который Казанова присвоил себе сам. Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Не понимать личной выгоды – не понимать ничего (лат.).
(обратно)3
Марк Валерий Марциал (ок. 40–ок. 104 года) – римский поэт-эпиграмматист.
(обратно)4
Речь идет о войсках Карла V (испанские и немецкие наемники), воевавших в Италии против Франциска I. Разграбление Рима произошло в 1527 году. (Прим. авт.)
(обратно)5
В 1798 году – году написания мемуаров.
(обратно)6
Говор области Фриули.
(обратно)7
То есть младший брат, второй по рождению. Имеется в виду библейская притча о первородстве: Иаков обманом получил благословение отца, обманув его и брата Исава.
(обратно)8
Использовалась при лечении нервных и сердечно-сосудистых болезней, мигрени, заживления ран, параличей и как спазмолитик.
(обратно)9
Есть подозрения, что настоящим отцом Казановы был Микеле Гримани. Об этом Казанова упомянул не в мемуарах, а в памфлете, который опубликовал в Венеции в пятьдесят семь лет. (Прим. авт.)
(обратно)10
Впрочем, это не помешало одной из сестер Казановы стать танцовщицей в Дрезденском театре.
(обратно)11
Лимфа (лат.).
(обратно)12
Баффо Джорджо (1694–1768) – венецианский поэт. Автор легкомысленных и непристойных стихов, написанных на венецианском диалекте. Это первый поэт, которого Казанова видел и слышал въявь, он первым распознал в ребенке способности. (Прим. авт.)
(обратно)13
«То, что презирается, со временем забывается» (Тацит).
(обратно)14
Несомненно, имеется в виду гелиоцентрическая теория.
(обратно)15
Славоны – народность в Далмации, нынешней Хорватии.
(обратно)16
Приверженцы философской доктрины Аристотеля.
(обратно)17
Пусть-ка грамматик мне объяснит, почему же cunnus мужской род имеет, a mentula женского рода? (Cunnus (лат.) – женский половой орган; mentula (лат.) – мужской.)
(обратно)18
Тем объясню, что рабыня носит хозяина имя (лат.).
(обратно)19
Иоанн Мерсиус (младший). Ему приписывает Казанова скандальную книгу «J. Meursii Elegantiae latini sermonis» («Изящные латинские диалоги»). Эта книга, представляющая собой настоящую энциклопедию сексуальной практики XVII века, на самом деле принадлежала перу Николя Шорье.
(обратно)20
Никто не может дать того, что не имеет (лат.).
(обратно)21
Чтобы получить степень доктора, нужно было проучиться юриспруденции четыре года подряд. (Прим. авт.)
(обратно)22
«О завещаниях» (лат.).
(обратно)23
«Могут ли евреи возводить новые синагоги» (лат.).
(обратно)24
После побега из венецианской тюрьмы «Пьомби» Казанова был вынужден бежать из Италии.
(обратно)25
На самом деле, О’Морфи звали Мари-Луиза. Казанова назвал ее Еленой из-за ее красоты. Другая неточность: была она не фламандка, а ирландка.
(обратно)26
Олений парк – это старое название Версальского квартала, построенного во времена Людовика XV на месте парка с дикими зверями времен Людовика XIII. В 1753 году, когда Людовик XV искал скрытое от посторонних глаз место для встреч, он выбрал домик в этом квартале. Там он и поместил Луизон Морфи – с дамой для охраны. В дальнейшем он предназначался для встреч Людовика XV с многочисленными и часто меняющимися фаворитками. После того, как та или иная девушка переставала интересовать короля, ее выдавали замуж. Причем король обеспечивал ей приличествующее приданое.
(обратно)27
Согласно многим историкам, дерзкий вопрос касался не супруги, а «официальной любовницы» Людовика, маркизы де Помпадур.
(обратно)28
Этьен Франсуа Шуазель – выдающийся французский государственный деятель.
(обратно)29
Берни Франсуа Жоашен Пьер де (1715–1794) – французский государственный деятель, дипломат, поэт; аббат, член Французской Академии.
(обратно)30
Лоу Джон (1671–1729) – шотландский финансист и предприниматель. В начале 1720 года – генеральный контролер финансов Франции, но созданная им система потерпела крах: выпущенные Королевским банком банкноты быстро обесценивались, что привело к инфляции и тяжелым социальным потрясениям. (Прим. авт.)
(обратно)31
У греков – бог молчания.
(обратно)32
Казанова говорит о лотерее, но на самом деле речь идет о генуэзском лото, которое было в тогдашней Франции неизвестно (его принцип в общих чертах соответствует нашему «Спортлото»).
(обратно)33
В то время страховые палаты покрывали только риски морской торговли.
(обратно)34
При прочих равных условиях (лат.).
(обратно)35
В лотерее, описанной Казановой, ставят или просто на то, что тот или иной из пяти номеров выиграет (простая ставка), или что выиграют два (ambe), три (terne), четыре (quaterne) или все пять (quinterne). Выигравший терну получал в четыре тысячи восемьсот раз больше, чем ставил, кватерну – в шестьдесят тысяч раз больше, выигравший квинту получал баснословную сумму.
(обратно)36
Де Помпадур.
(обратно)37
Из тюрьмы Пьомби в Венеции.
(обратно)38
Жан Лерон Д’Аламбер (1717–1783) – французский ученый-энциклопедист. Широко известен как философ, математик и механик. Член Парижской академии наук (1740), Французской Академии (1754), Петербургской (1764) и других академий.
(обратно)39
Дрезденская галерея.
(обратно)40
Это была мать российской императрицы Екатерины (заметка Казановы на полях). (Прим. авт.)
(обратно)41
С 1791 года – набережная Вольтера. Особняк Буйон располагался в нынешнем доме семнадцать по набережной Малакэ.
(обратно)42
Синоним философского камня: превращение металлов в золото (opusalchemicum), главная цель алхимиков.
(обратно)43
Парацельс Теофраст (1493–1541) – швейцарский натурфилософ, естествоиспытатель, врач.
(обратно)44
Жизненный эликсир – одно из алхимических названий философского камня.
(обратно)45
Тайнопись.
(обратно)46
Так алхимики называли ветвистые кристаллы, образующиеся на поверхности ртути при ее взаимодействии с раствором соли серебра.
(обратно)47
Герцог Орлеанский был убежденным адептом алхимии.
(обратно)48
Смесь серной и азотной кислот.
(обратно)49
Алхимическая печь, в которой постоянно горит огонь.
(обратно)50
В алхимии – шесть металлов меньшего значения (серебро, ртуть, свинец, медь, железо и олово), которые с помощью порошка превращаются в золото («вылечиваются»).
(обратно)51
Речь идет об именах злых духов: было опасно писать их и произносить. Нередко записывали их цифрами.
(обратно)52
Каждый час имел свое каббалистическое название и управлялся ангелами «дня» и планетами, находящимися под их управлением.
(обратно)53
Сплав из трех частей золота и одной части серебра.
(обратно)54
Petit ma tre: во Франции XVII века кличка участников «фронды», которые вели борьбу против кардинала Мазарини, носившего титул главного начальника – le grand ma tre – артиллерии.
(обратно)55
Дочь г-жи д’Юрфе осуждала последнюю за незаконное присвоение крупных сумм, принадлежавших ей. (Прим. авт.)
(обратно)56
Духи, которые, по средневековым суевериям и согласно каббалистам, управляют стихией: на земле это гномы, в воде – ундины, в воздухе – сильфы, в огне – саламандры.
(обратно)57
Франческо Казанова, известный в ту пору художник-баталист.
(обратно)58
Дом инвалидов (Les Invalides) в Париже – архитектурный памятник, строительство которого было начато по приказу Людовика XIV в 1670 году как дом призрения заслуженных армейских ветеранов («инвалидов войны»).
(обратно)59
Масонский праздник.
(обратно)60
Аббат де Берни
(обратно)61
В Голландии Казанова встретил возлюбленную своей юности Терезу Имер и ее детей – пятилетнюю Софи, его собственную дочь, и двенадцатилетнего Джузеппе, сына танцовщика Помпеати. Он взял мальчика на воспитание.
(обратно)62
В том же состоянии (лат.).
(обратно)63
Пруссия..
(обратно)64
Историческая область на юго-востоке Польши. Столицей Малой Польши считается Краков.
(обратно)65
Г-н Булонь.
(обратно)66
Между живыми (лат.).
(обратно)67
В 1756 году, чтобы жить в согласии со своими принципами, Руссо выработал программу «независимости и бедности», отказался от предложенной ему должности кассира в финансовом ведомстве, поселился в «Эрмитаже» в лесу Монморанси и переписывал ноты по десять сантимов за страницу.
(обратно)68
Le-Vasseur – если, согласно тогдашним правилам, заменить «v» на «u», можно получить R-usseau. (Прим. авт.)
(обратно)69
Блюдо, напоминающее плов.
(обратно)70
Испанское блюдо, популярное в Кастилии и Галисии: тушеное с овощами мясо.
(обратно)71
Возможно, название фермы близ Парижа.
(обратно)72
Бесцветный сухой фруктовый ликер, изготавливаемый из мараскиновой вишни, измельчаемой вместе с косточкой для придания напитку вкуса горького миндаля.
(обратно)73
В то время Тампль принадлежал принцу Конти
(обратно)74
Франческо Альгаротти (1712–1764) – крупнейший в XVIII веке авторитет в области искусства.
(обратно)75
Речь идет о книге Альгаротти «Путешествие в Россию», вышедшей в Венеции в 1760 году. Вольтер, знавший Альгаротти с 1735 года, хотел использовать это произведение для своей «Истории Российской Империи при Петре Великом».
(обратно)76
Древнеримский историк.
(обратно)77
Древнеримский историк, реформатор античной историографии.
(обратно)78
Лудовико Ариосто (1474–1533) – итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.
(обратно)79
Перевод Елены Костюкевич.
(обратно)80
Но вот уходят все. Отброшен стыд, И можно отпустить узду страданий, Потоком слезы хлынули с ланит, Он стонет, задыхаясь от рыданий.(Перевод Е. Солоновича. «Ариосто. Неистовый Роланд». Песнь 23, стр. 122, стихи 1–4.)
(обратно)81
Список книг, запрещенных католической церковью (index librorum prohibitorum).
(обратно)82
Putia forte pue (итал.) – шибко воняет. (Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь 34, октава 80, стих 6.)
(обратно)83
Что, может быть, проснется в день иной (итал.). (Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь 24, октава 6, стих 4.)
(обратно)84
Может быть (итал.).
(обратно)85
Комедия Вольтера «Шотландка» была опубликована в 1760 году и поставлена в Золотурне (Швейцария).
(обратно)86
Имеется в виду баронесса Мария Анна Ролл. В ту пору Казанова был в нее влюблен и поэтому не называет ее по имени. (Прим. авт.)
(обратно)87
Глава городского совета Женевы.
(обратно)88
Особняк, в котором жил Вольтер (теперь в нем расположен Институт и Музей Вольтера).
(обратно)89
Монблан.
(обратно)90
Например, хорошо известно скептическое восклицание Вольтера в «Философском словаре», что Данте, по сути, никто не читает. (Прим. авт.)
(обратно)91
Лудовико Антонио Муратори (1672–1750) – священник, крупнейший историограф своего времени.
(обратно)92
И тем погрешает (лат.) (Гораций. Послания. Кн. II, 1, 63.)
(обратно)93
Шуточный, сатирический стих (итал.: poesia maccheronica).
(обратно)94
В этом стихотворении рассказывается о человеке с раздвоенным концом.
(обратно)95
«Да возрадуются счастливо сложенные» (лат.).
(обратно)96
Теофило Фоленго (1491–1544) – выдающийся итальянский поэт, наиболее видный представитель так называемой макаронической поэзии.
(обратно)97
Итальянский писатель, драматург, актер-любитель.
(обратно)98
В Базеле до 1791 года часы отставали на час. Этому есть несколько объяснений, одно из которых заключается в том, что мастер, установивший на соборе солнечные часы, неправильно выставил стрелку. (Прим. авт.)
(обратно)99
Формально Совет Десяти в Венеции состоял из десяти советников, однако они не могли самостоятельно принимать решения, а только вместе с дожем и шестью его личными советниками по районам Венеции (систере), тем самым Совет фактически состоял из семнадцати человек.
(обратно)100
На самом деле, Гольдони был приглашен герцогом Пармским написать пьесы для его театра; ему была назначена пожизненная пенсия в семьсот ливров годовых и пожалован титул поэта герцога Пармского.
(обратно)101
На самом деле, Гольдони получил юридическое образование, вступил в адвокатское сословие (в Венеции) и с успехом вел судебные процессы.
(обратно)102
Один из семи греческих городов, споривших о чести быть родиной Гомера. (Прим. авт.)
(обратно)103
Комический трактат Т. Фоленго.
(обратно)104
Псевдоним Т. Фоленго. (Прим. авт.)
(обратно)105
Александрийский стих (название получил в XV веке от поэмы XII века об Александре Македонском французского поэта Ламберта ле Торта) – во французской силлабической поэзии – двенадцатисложный стих с цезурой после шестого слога и ударными константами на шестом и двенадцатом слогах; чаще – с парной рифмовкой («героический александриец»), реже – с перекрестной или иной рифмовкой («элегический александриец»).
(обратно)106
Действительно, Мартелло пытался найти итальянское соответствие александрийскому стиху и писал свои трагедии четырнадцатисложными стихами, рифмующимися попарно. Это так называемый мартеллианский стих, тяжеловесный и жестоко высмеянный К. Гоцци.
(обратно)107
Пиши для немногих (лат.) (Гораций. Сатиры. Кн. 1, 10, 74.)
(обратно)108
Джозеф Аддисон (1672–1719) – публицист, драматург, эстетик, политик и поэт, защищал либеральные взгляды вигов.
(обратно)109
Томас Гоббс (1588–1679) – английский философ, выступал за абсолютную монархию.
(обратно)110
И тем погрешаешь (лат.) – измененная цитата из Горация.
(обратно)111
Альбрехт фон Галлер (1708–1777) – швейцарский анатом, физиолог, естествоиспытатель.
(обратно)112
Зоил (Zoilos) – древнегреческий философ IV века до н. э. Автор работ «Порицание Гомеру» и др. В древности получил известность как ниспровергатель авторитетов. Имя Зоила стало нарицательным для обозначения придирчивого, недоброжелательного и язвительного критика.
(обратно)113
Деньги г-жи д’Юрфе были для Казановы существенным подспорьем, и он помнил, что должен превратить ее в мужчину. При этом он не мог рассчитывать на юного д’Аранда (Помпеати) – двуличный мальчишка начал вести свою игру. Тогда он сговорился с одним приятелем, что тот будет изображать аббата, но тот стал претендовать на деньги и Казанова его прогнал.
(обратно)114
Женщина-гном, дух земли (так же как ундины – это духи воды).
(обратно)115
В тот момент – любовница Казановы.
(обратно)116
Письма Пассано к г-же д’Юрфе найдены и опубликованы. Генуэзец, разоблачавший Казанову, впоследствии сумел занять его место при маркизе. В 1768 году в Барселоне он из мести добился ареста Казановы. (Прим. авт.)
(обратно)117
Bacio fiorentino (итал.), или french kiss – поцелуй языком.
(обратно)118
Тогда маркизе было пятьдесят восемь лет. (Прим. авт.)
(обратно)119
Герцог Орлеанский – регент Франции (1715–1725), в молодости был любовником маркизы д’Юрфе. (Прим. авт.)
(обратно)120
Казанова в своих мемуарах ни разу не говорил напрямую, что имел с маркизой отношения. Похоже, здесь он случайно о том проговорился. (Прим. авт.)
(обратно)121
Джордж Кейт (1693–1778) – шотландский дворянин, брат российского генерал-аншефа, гетмана Малороссии, позднее прусского фельдмаршала Джеймса Кейта. После смерти королевы Анны высказался за Стюарта, был подвергнут парламентом опале и заочно приговорен к смерти. Позднее в Берлине подружился с Фридрихом Великим, литературные интересы которого он разделял.
(обратно)122
Любимая резиденция короля Фридриха II в Потсдаме.
(обратно)123
Намек на исторический факт, рассказанный Светонием: Юлий Цезарь, тогда еще девятнадцатилетний юноша, уехал из Рима, чтобы присоединиться к штабу Марка Минуция Терма в Азии с целью обучения военному делу. Терм отправил Цезаря доставить флот от царя Вифинии Никомеда IV. Цезарь надолго задержался при царском дворе, и поэтому поползли слухи о его сексуальной связи с царем.
(обратно)124
Фаворитка короля, впавшая в немилость из-за связи с сыном канцлера Кокцея. (Прим. авт.)
(обратно)125
«История семилетней войны». Берлин, 1788. (Прим. авт.)
(обратно)126
На самом деле, в этом корпусе должны были учиться не одни только юноши из Померании. Речь шла об учреждении Академии для дворян самого высокого уровня, куда принимались лучшие из лучших, избранные. Так что предложение Фридриха вовсе не было унизительным. (Прим. авт.)
(обратно)127
Губернский город в Курляндии, ныне Елгава.
(обратно)128
Ныне – Клайпеда.
(обратно)129
Митавский или Елгавский дворец – крупнейший по размерам барочный дворец Прибалтики, построенный в XVIII веке по проекту Б. Растрелли как парадная городская резиденция герцогов Курляндии.
(обратно)130
Галантный танец, созданный Прекуром, учителем танца Людовика XIV.
(обратно)131
Когда Казанова лично встретится с Екатериной, он запишет, что была она среднего роста.
(обратно)132
Русские посланники были в Венеции лишь до 1724 года. (Прим. авт.)
(обратно)133
Зачеркнуто, исправлено на: «в Париже». (Прим. авт.)
(обратно)134
Важное наблюдение, оспаривающее расхожее мнение о русской галломании в XVIII веке. Правда, среди аристократов, с которыми встречался Казанова, многие говорили по-французски (Чернышев, Нарышкин, Елагин, Зиновьев, Олсуфьев, Панин, Дашкова и сама Екатерина).
(обратно)135
Это был новый Зимний дворец на Неве, построенный в 1753–1762 годах, на месте бывшего Зимнего дворца. Эрмитажный театр Казанова еще не видел.
(обратно)136
Одна из самых популярных венецианских масок, жутковатого вида.
(обратно)137
В России Казанова путешествовал под именем графа Фарусси, но, чтобы быть узнанным Вольпати, должен был назвать свое истинное имя; не стоит забывать, что Казанова прославился в Венеции после своего побега из тюрьмы Пьомби. (Прим. авт.)
(обратно)138
Ювелир Бернарди был одним из преданных доверенных лиц тогда еще великой герцогини Екатерины, в те времена, когда готовился заговор, вознесший ее на трон. Но в руки Елизаветы попали бумаги, компрометирующие великую герцогиню. Бестужев, Бернарди и Елагин были отправлены в ссылку. Бернарди умер в ссылке в Казани.
(обратно)139
Возможно, речь идет о Дм. Мих. Матюшкине (1725–1800), «красавце Матюшкине», женившемся в 1754 году на Анне Александровне Гагариной.
(обратно)140
В описываемую эпоху университет в Уппсале (Швеция, осн. в 1476 году) был очень известен благодаря тому, что профессура была интернациональной, а также благодаря своей богатейшей библиотеке.
(обратно)141
Парк в юго-западной части Санкт-Петербурга с дворцом, построенным Петром I для Екатерины I в 1711 году.
(обратно)142
На самом деле, при Екатерине II дворец некоторое время сдавался Локателли; тот давал здесь обеды и устраивал представления, именно в этом дворце побывал и Казанова.
(обратно)143
Знаменитой своими любовными историями. (Прим. авт.)
(обратно)144
Монах.
(обратно)145
Казино в Венеции.
(обратно)146
Игра слов по-латыни: Pro-te – «для тебя», Pro-me – «для меня».
(обратно)147
Заира – рабыня иерусалимского султана в трагедии Вольтера «Заира».
(обратно)148
Располагался между Петербургом и Петергофом; был известен тем, что там провела несколько часов Екатерина в ночь с 28 на 29 июня 1762 года, когда происходил переворот, вознесший ее на трон.
(обратно)149
16 июня 1766 года на Дворцовой площади состоялась знаменитая Петербургская Карусель, отличавшаяся особой роскошью и размахом. Участники Карусели делились на четыре кадрили: Римскую, Славянскую, Турецкую и Индийскую. Каждая группа имела соответствующие наряды, лошадиную сбрую, вооружение, особые колесницы для участвующих в состязании дам и даже различные музыкальные инструменты, все это делали специально для праздника. На площади, которая тогда представляла поросший травой луг, был построен пятиярусный деревянный амфитеатр на несколько тысяч зрителей с ложами для Екатерины и великого князя Павла. Поверху шла балюстрада, украшенная вазами, а барьер был расписан гирляндами, воинскими доспехами, львиными головами. Победителями среди дам стала графиня Наталья Чернышева, а среди кавалеров Григорий Орлов в уборе римского воина на гнедом коне.
(обратно)150
Слово, составленное Казановой из двух русских слов: «извозчик» и «ямщик».
(обратно)151
Итальянская миля – 1,86 км.
(обратно)152
Торопливая собака слепых щенят пожирает (лат.).
(обратно)153
Долго рожает львица, но льва (лат.).
(обратно)154
То есть на четыре метра.
(обратно)155
И. И. Бецкой заведовал Канцелярией строений, способствующей украшению Петербурга: при нем появились памятники Петру I на Сенатской площади, гранитные набережные Невы, Екатерининского канала и Фонтанки, дом Академии художеств, Эрмитажный дворец и др.
(обратно)156
При Екатерине под руководством Бецкого было построено тридцать гранитных мостов.
(обратно)157
За исключением Константинополя, Москва в эти времена занимала площадь большую, чем все другие европейские города. Она, в самом деле, состояла из четырех городов: Кремль, Китай-город, Белый город, Земляной город; каждый был обнесен стеной со рвом.
(обратно)158
Вероятно, Кабинет натуральной истории, ставший потом Зоологическим музеем.
(обратно)159
Язык, условно включаемый в группу палео-балканских языков. Вероятно, Казанова имел в виду язык славянский.
(обратно)160
Spiritus sancti – дух святой (лат.); άγίος πνεύμα – святой дух (греч.).
(обратно)161
Русский резидент в Курляндии.
(обратно)162
«Кого не делали красноречивым полные кубки» (лат.). Гораций, «Послания».
(обратно)163
Австрийский посол в Петербурге (1764–1777).
(обратно)164
Эпизод из Семилетней войны: битва под Минденом – победа английских, войск над французскими; граф Тот покинул поле битвы до ее начала, это не было дезертирством, но имя его было опозорено.
(обратно)165
Демокрит – древнегреческий философ, один из первых представителей атомизма; Гераклит – древнегреческий философ, сформулировавший ряд диалектических принципов бытия и познания; Сапфо – древнегреческая поэтесса; Авиценна – средневековый ученый, философ и врач.
(обратно)166
Из немецкого: Cour-Tag, был заведен со времен царствования Анны Леопольдовны.
(обратно)167
В 1700 году. (Прим. авт.)
(обратно)168
Дни от последней новой луны до 1 января называются лунной эпактой.
(обратно)169
Год, определяемый возвращением солнца в весеннее равноденствие.
(обратно)170
В Венеции до 1797 года началом нового года считалось 1 марта, называемое «more Veneto»(M. V.).
(обратно)171
Покровитель Венеции – Евангелист Марк. На книге, которую держит лев, написано: «Pax Tibi Marce Evangelista Meus!» – «Мир тебе, Марк, мой Евангелист!» Meus стоит в именительном падеже, а должен быть в звательном: mi.
(обратно)172
Пьеса Жана Реньяра (1655–1709) – французского комедиографа, одного из преемников Мольера.
(обратно)173
В начале апреля 1770 года.
(обратно)174
Джон Дик, известный тем, что передал в руки А. Орлова княжну Тараканову.
(обратно)175
Между прочим (фр.).
(обратно)176
Греческий прорицатель, сопровождавший Агамемнона при осаде Трои и посоветовавший построить большого деревянного коня.
(обратно)
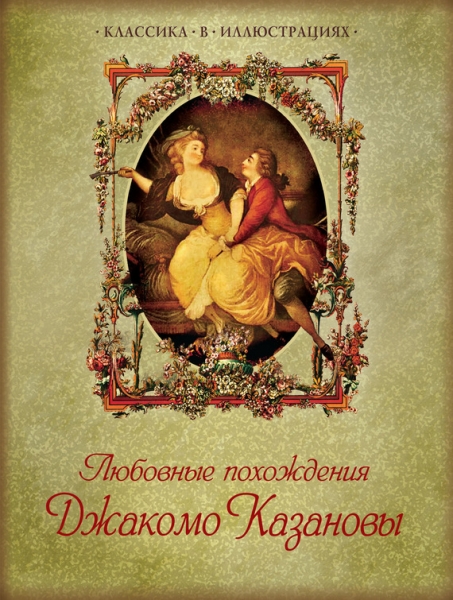
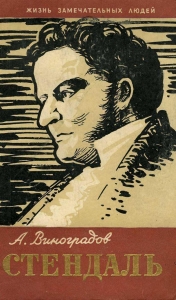


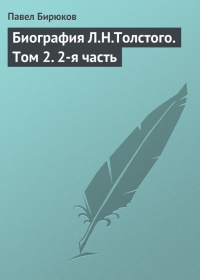
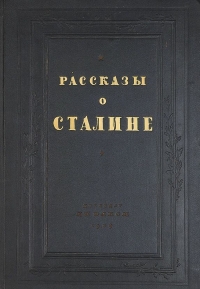



Комментарии к книге «Любовные похождения Джакомо Казановы», Джакомо Казанова
Всего 0 комментариев