Гегель. Биография
Предисловие
Перед нами новый Гегель, совсем не такой, каким мы его привыкли видеть. В конце XX века на многие вещи смотришь иначе, ранее неизвестные или недооцененные документы проливают на них дополнительный свет.
Рассказывая жизнь Гегеля, приходится, конечно же, опираться на труды первых биографов, в особенности, на биографию Гегеля, опубликованную Карлом Розенкранцем в 1844 г. Часто только благодаря этому биографу мы располагаем сведениями о том или ином факте, и, судя по всему, его свидетельства, как правило, надежны и честны. Но Розенкранц знал о Гегеле не все, а рассказал еще того меньше.
Замечено, что Гегель склонен был умалчивать, с большим или меньшим успехом, смотря по обстоятельствам, о самых разных сторонах своей жизни, деятельности, мышления. Так это было в делах семьи, вопросах религии, политики, философии… Последователи философа и его враги, руководствуясь собственными соображениями, дружно сошлись в решении навалить на эти лакуны плиту забвения.
Пришло время заново открыть Гегеля. Кое в чем историю его жизни биографы передали неверно. Речь идет о корректировке искажений или, скажем так, о попытке их корректировки. Особое внимание — с риском увлечься перестановкой акцентов — здесь будет уделено тому, чем пренебрегли, то ли по неведению, то ли умышленно, другие. Меньше места и времени мы посвятим, хотя и об этом тоже будет говориться, вещам общеизвестным и всеми признанным.
Не ищите наивности в жизни и в мыслях великого философа. Гляди в оба, читатель! Эта книга не исчерпает вопросов, поставленных судьбой такого человека. Она всего лишь хочет открыть новые перспективы, разобраться с которыми предстоит будущим исследователям. Досье Гегеля, ныне снова с трепетом открываемое, никогда не захлопнется окончательно. Но, невзирая на очевидные пробелы и, возможно, кое — какие ошибки в деталях, автор надеется воссоздать здесь образ Гегеля, беспокоящий и раздражающий, живой.
Аббревиатуры и пометки
В скобках помещены аббревиатуры заглавий наиболее часто цитируемых произведений вместе с указанием страницы (С, В, R, D, B. S.). Например, (D 383).
Сноски отсылают к примечаниям в конце тома.
Аббревиатуры
(В1), (В2), (В3), (В4) соответствуют четырем томам Briefe von und an Hegel (Письма от Гегеля и Гегелю) изд. Johannes Hoffmeistern Rolf Flechsig, Hamburg, Meiner, 1952–1960.
Эти тексты цитируются чаще всего во французском переводе Жана Каррера: Correspondance de Hegel (Paris, Gallimard). Каррер не перевел IV том Писем (Briefe), но дополнил несколькими документами том III «Переписки» (Correspondance): (С1) том 1,2–е изд., 1962; (С2) том II, 2–е изд., 1963; (С3) том III, 2–е изд., 1967.
(R) Karl Rosenkranz. Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s Leben (Жизнь Гегеля). Berlin: Duncker und Humblot, 1844.566 S.
(D) Dokumente zu Hegel’s Entwicklung (Документы, относящиеся к эволюции Гегеля), опубликованные Йоханнесом Хоффмайстером, Stuttgart, Fromman, 1936.
(B. S.) Berliner Schriften (Берлинские сочинения), изданные Йоханнесом Хоффмайстером, Hambourg, Meiner, 1956.
Небольшие изменения в цитируемых переводах отмечены указанием mod в ссылке. Например: (С3 47 mod).
Поясняющие добавления к тексту оригинала помещены в квадратные скобки: […].
I. Неправильные похороны
Был поднят занавес, а я чего‑то ждал…
Бодлер. Мечта любопытного
У Гегеля все шиворот — навыворот. «Конец, — говорит он, — только потому и конец, что он одновременно начало».
И правда, когда знаешь, как он умер, глубже схватываешь смысл этой жизни. Лучше, стало быть, начать со смерти. В похоронах Гегеля много загадочного. Большинство его современников не заметили странностей или, во всяком случае, предпочли о них не распространяться. Только некоторые близкие были в состоянии пролить на эти странности свет, пусть неполный.
Торжественная церемония происходила 16 ноября 1831 г. Гегель умер за два дня до этого. Вдова и двое законных сыновей следовали за катафалком, запряженным четверкой лошадей, за ними огромная толпа преподавателей и студентов.
Все эти облаченные в траурные одежды люди понимали, кого они предают земле, представляли себе богатство и масштабность гегелевского учения. Они знали наперед, что ему суждена слава на века. Им было ясно, как велика эта внезапная утрата для Берлинского университета, для немецкой философии, для Пруссии, даже если не всегда отдавали себе отчет в том, что с Гегелем классическая философия достигла вершины, которую отныне предстоит всего лишь наново покорять. Гегель, согласно одному из его из — любленных выражений, «составлял целую эпоху», и они хоронили эпоху.
Кое‑кто из них приходил к нему каждый день и теперь вспоминал о его добродушии, простоте, точности суждений, вкусе к беседе. При том им было невдомек, что за внешностью еще вполне бодрого и простосердечного человека прячутся черты характера, тянется след событий и поступков, каковые — узнай они о них — сильно бы их удивили. Каждый из них удержал в памяти лишь какую‑то частицу образа и лишь какой‑то кусочек прошлого.
Все они были потрясены. Весть о смерти Гегеля облетела Берлин с поразительной, если учесть обстоятельства, быстротой. Эпидемия холеры только что пошла на убыль, но все еще собирала обильный урожай. Люди, во всяком случае, те, кто не побоялся остаться в столице, старались не выходить из дому и не встречаться с друзьями.
Чтобы избежать опасности, семья Гегеля, как и многие другие, поначалу укрылась на лето в деревне. Вернувшись осенью, Гегель возобновил свои занятия и все, казалось, идет хорошо. Однажды воскресным утром он занемог, и назначенные на этот день встречи с друзьями были отменены. Ему становилось хуже, позвали врачей, которые поначалу обнадежили: это не холера. Вскоре они переменили мнение и поставили страшный диагноз, сделав назначения, которые ныне выглядят смехотворными. В ночь на третий день больной умер, без мучений, словно заснул.
Последний бой
Правда ли, что Гегель умер от холеры? Обстоятельства его кончины и погребения нам известны только из рассказа вдовы, содержащегося в письме к сестре Гегеля, отправленном сразу после событий (R 422–424). Еще первый биограф Гегеля, Розенкранц, выписал из него лишь то, что, по его мнению, «принадлежит всем», воспроизведя, таким образом, письмо в урезанном виде. Ущерб от этого кромсания был достаточно велик: хотелось бы знать, что именно мадам Гегель стремилась скрыть от «всех».
Если бы письмо затерялось, мы бы вообще ничего не знали об этих событиях или почти ничего. Описав их, вдова философа спрашивает свояченицу: «Скажи мне, есть ли тут, по — твоему, хоть один признак холеры?». Она явно сомневается в диагнозе: «Врачи нашли у него холеру, точнее, одну из ее разновидностей, поражающую изнутри, очень быстро и без внешних симптомов. А что там у него внутри, они не видели».
Если не видел своими глазами, имеешь ли право свидетельствовать?
Ведь в иных случаях объявление о том, что больной умер от холеры, оказывалось удобным, поскольку не вызывало подозрений. Оно позволяло быстро отделаться от трупа: ночью без провожающих трупы грузили на подводу и сваливали в общую могилу на особом кладбище; тогда в ходу было выражение, приобретшее позже еще более зловещий оттенок — bei Nacht und Nebel… В ночи и тумане.
Холера «без явных симптомов»… Этого задним числом не оспоришь, зато думать можно все что угодно. Как бы то ни было, но даже в смерти Гегель остался верен скрытым чертам своей натуры — двойственности и нерешительности. У него были верные друзья, в том числе из высших государственных сфер, среди столь любимого им прусского чиновничества, — и, прежде всего, это господин советник Шульц, которого госпожа Гегель, вполне сохраняя присутствие духа, вовремя велела позвать, и он оставался рядом с ней все это время.
Биографы уделили не слишком много внимания формулировкам, впрочем, очень точным и взвешенным, из письма вдовы. А она говорит без обиняков: разрешение на «нормальные» похороны удалось получить лишь ценой «неописуемых баталий» (nach unsäglichen Kämpfen) (R 424) между теми, кто стоял за упрощенный вариант, за похороны на скорую руку, и теми, кто желал подобающей церемонии. Одни надеялись поскорее стереть память о Гегеле, другие, напротив, намеревались защищать и распространять его учение. Последние преуспели, но не без уступок, как видно из процедуры похорон: хотя и разрешенные, они были мелочным образом урезаны в деталях; кому‑то не хотелось, чтобы событие, хотя и согласованное, несмотря на сопротивление в высоких властных сферах, наделало бы слишком много шуму. Но оно приобрело неожиданный размах, смело мелочные препоны, развернулось во всю ширь, привело в замешательство. Как Гегель жил, так он и умер.
Согласно госпоже Гегель, похороны были разрешены как «первое и единственное исключение» (R 424) из правил, введенных в связи с холерой. Борьба за покойника была жестокой. Друзья победили лишь с незначительным перевесом. Враги не оставляли попыток отыграться.
Первой из них — как это было ясно всем, кто был хоть сколько‑нибудь в курсе дела, — была отставка префекта полиции Берлина, которой незамедлительно потребовал король. Фон Арним, выдавший в конце концов разрешение, стал таким образом своеобразной жертвой уже другой эпидемии, с которой не сумел управиться, несмотря на королевские указания[1].
Из уведомления о церемонии было исключено всякое упоминание об эпидемии холеры, поскольку похороны в таком случае оказались бы невозможны. Но ораторы на кладбище, конечно, посвященные не во все тайны, туманно на нее намекали, и это было «проколом» наряду с другими оговорками.
Начальство не сразу смирилось, поначалу холерная комиссия строго держалась правил, распорядившись наглухо закрыть окна и двери в квартире Гегеля, обработать и дезинфицировать ее принятым тогда способом. Давно ли философ сам разбирался в своих трудах с философским смыслом страшных эпидемий?[2] В начале века их стало больше. Жители Берлина могли сравнивать кончины Гегеля и Фихте, его прославленного предшественника в Берлинском университете, умершего в 1814 г. от тифа, рядом с которым Гегель, начиная с 1818 г., выражал желание быть погребенным: этакие двое зачумленных, закопанные один возле другого.
Как правило, рассказывая о жизни и смерти Гегеля, историки предпочитают ничему не удивляться. Факт, однако, очень примечательный: повальный страх и элементарная осторожность не помешали друзьям придти в квартиру покойного сразу после того, как они узнали о смерти Гегеля, выразив тем самым исключительную привязанность к нему. Свидетельствами этой привязанности отмечены все дни похорон.
16 ноября преподаватели и студенты всех факультетов — не только философы — собрались в большом зале университета, в котором один из ближайших друзей Гегеля, пастор Мархейнеке, тогдашний ректор, произнес первую речь.
Затем составился внушительный кортеж, сначала проследовавший к дому покойного и потом за гробом на знаменитое «французское кладбище». Биографы не проявляют интереса к замечанию, тем не менее показательному: госпожа Гегель не преминула сообщить свояченице о том, что «экипажей было не счесть», а «студенческой процессии не было видно конца» (der unabsehbare Zug der Studenten) (R 424). Это необычайное стечение народа говорит о многом. В 1831 г., как и в предшествующие годы, политическое положение в Берлине, осложненное философско- религиозными конфликтами, было очень напряженным. Студенты, строго обособленной группой, решительно и громогласно выступили против короля и правительства, ответивших на выступления жестокими, слепыми, несоразмерными репрессиями.
Несмотря на холеру и полицию, студенты собрались в таком количестве выразить уважение Гегелю, поскольку у них были серьезные основания почитать его, а политическая и правовая ситуация в Пруссии позволяла публичные манифестации разве что на похоронах.
Студенты образовали две длинные шеренги по пути следования кортежа при въезде на кладбище. Им было разрешено по обычаю размахивать факелами, но — вот они, полумеры — запрещено зажигать их, приходилось довольствоваться обертыванием факелов траурным крепом. Когда процессия вошла на кладбище, студенты запели — к сожалению, нам неизвестно, что именно. Все говорит о продуманных и согласованных действиях. Префект полиции не сумел ни предусмотреть их, ни воспрепятствовать им; за это он будет наказан.
Волнения протестующего студенчества вносили смуту в последние годы жизни Гегеля, но он безбоязненно вмешивался в их дела и возлагал на себя студенческие заботы. Все свидетельства характеризуют студенчество как народ решительный, задиристый, фанатичный, склонный к бунтарству, исключающий какие бы то ни было конформизм и компромиссы. Студенты не стали бы столь горячо воздавать почести человеку, считавшемуся — ошибочно или нет — их врагом, ни даже преподавателю, равнодушному к их делу, какой бы важной фигурой в ученом и академическом мире он ни был.
Еще большую значимость массовому скоплению студенчества придает, можно сказать, демонстративное отсутствие представителей власти: ни один член правительства — даже из тех, кто покровительствовал Гегелю, не явился на церемонию, ни тем более никто из членов королевского совета. Что уж говорить о принце, очень враждебном к нему, или о самом короле, завидовавшем малейшему знаку внимания, когда его удостаивался не он сам, а кто‑нибудь из его подданных. «Власти», насколько нам известно, не прислали даже обычного соболезнования, не выразили ни малейшего сожаления, пусть лицемерного, в связи с уходом так называемого «философа абсолютной прусской монархии». На самом деле этот внезапный уход, судя по тому, что мы о них знаем, мог их по многим соображениям только радовать.
Родственники Гегеля отмечают другие прискорбные отсутствия на похоронах: на них не было его незаконнорожденного сына, который недавно умер в Батавии, — известие об этом еще не достигло Европы, так что отец так и не узнал о смерти сына; не было его сестры, жившей далеко от Берлина и к тому же считавшейся сумасшедшей, хотя длинное, подробное, доверительное письмо, которое ей отправила госпожа Гегель, заставляет задуматься о природе и степени этого «безумия».
Внимательный наблюдатель нашел бы, о чем поразмыслить. Неожиданности множились по ходу дела. Пик пришелся на речи, особенно на вторую.
Первым в университетской аудитории взял слово пастор Мархейнеке, он, как того и следовало ожидать, выступил подобающе христианину.
Чтобы оценить действительное значение происходивших событий, не следует забывать о том, что в те времена никто не отваживался на публичное упоминание о них, за исключением Ганса, любимого ученика, мыслителя — еретика, автора проверенного цензурой некролога[3]. Тот факт, что единственным, кто в письменной форме публично выразил дань уважения памяти Гегеля, был еврей, видный деятель еврейского движения в Берлине, либерал, республиканец, сен — симонист, говорит о многом. Молчание прочих на этом фоне весьма красноречиво. Немногие, доверившие мысли бумаге в письмах или мемуарах, не предавали их огласке и опубликованы они были много позже. Теперь нам приходится отыскивать эти тексты и истолковывать, делая это с трудом и часто вслепую.
К счастью, сразу же были отпечатаны версии речей[4], но ряд признаков заставляют сомневаться в точности их воспроизведения. Нам трудно судить о них главным образом потому, что оба выступавшие в тот день оратора были лишены возможности высказаться враждебно по отношению к существующему политическому режиму и господствующей идеологии, противниками или, по меньшей мере, суровыми критиками которых они, надо думать, на самом деле были. К тому же, и тот и другой были не в курсе важных сторон жизни Гегеля, а может быть, решили их не касаться под давлением, из осторожности или по соображениям благопристойности.
Без Мархейнеке было не обойтись. Конечно, на погребении философа, то и дело заявлявшего, что он лютеранин, предполагался пастор. Впрочем, любые другие похороны, кроме как по христианскому — или еврейскому — обряду, были в то время невозможны, просто немыслимы. Мархейнеке же являлся ко всему прочему ректором университета и коллегой Гегеля. Все сходилось на нем.
Тем не менее, если Мархейнеке и был рыцарем без страха, он все же оказался рыцарем не без упрека. Да, он был пастором. Но пастором — гегельянцем, преданным спекулятивному идеализму, на каковой религиозные авторитеты, уже относившиеся с большим недоверием к этому учению, вскоре обрушатся. Он — друг Гегеля, готовый воевать с его врагами (он резко выступит против доктрин Савиньи и Шеллинга), охотно друживший с друзьями Гегеля, например, либеральным евреем Эдуардом Гансом, конечно, «обращенным» христианином, но все равно состоявшим под надзором, преследуемым.
Те, кто его слушал, по большей части знали о его дружбе и с Гегелем, и с Гансом. Свои убеждения пастор подтвердит еще раз в речи, которую произнесет на могиле Ганса в 1839 г.[5] Лахман, профессор филологии в университете (1793–1831) отзовется тогда о Мархейнеке грубо и с ненавистью, поскольку упомянутая надгробная речь составит что‑то вроде длинной отповеди Савиньи и его реакционной политической философии[6]. Мархейнеке напишет очень резкий памфлет на старого Шеллинга, призванного в университет с целью противостояния посмертному влиянию Гегеля[7].
Мархейнеке по привычке причисляют к «старым», или «правым», гегельянцам, пытавшимся после ухода учителя поддержать и укрепить в противовес «левым», или «младогегельянцам», религиозную и консервативную сторону его учения. Но следует понимать: различение на «правых» и «левых» имеет смысл лишь внутри гегелевской школы. А сама эта школа в целом помещается левее религиозной ортодоксии и монархического абсолютизма, для которых всякое гегельянство подозрительно и пахнет ересью.
В памфлете на Шеллинга Мархейнеке старается показать, возможно, вопреки всякой очевидности, что философия Гегеля лучше согласуется с христианской религией, чем философия Шеллинга, таким образом в некотором смысле «возвращая» Гегеля «правым». Но не стоит доверять упрощениям. Ведь одновременно он дает бой «правше» Шеллингу! Забавная получается картина: те, кто тянут Гегеля направо, и те, кто хотел бы завербовать его в левые, сообща выступают против властей, правой политики, правящей ортодоксии. Чтобы опровергнуть антигегельянца Шеллинга, Мархейнеке, не колеблясь, ссылается на самые смелые публикации самых крайних «младогегельянцев»: Бруно Бауэра, Фридриха Штрауса, и даже Фридриха Энгельса[8]. Он записывает этих неверующих в защитники гегелевского христианства!
Не бунтовщик и не экстремист, но все же гегельянец, ректор Мархейнеке вряд ли выглядел совсем незапятнанным в глазах прусских властей, и им не составляло труда призвать в этот день на роль оратора какого‑нибудь более ортодоксального и более удобного двору богослова. Но это еще вопрос, согласился ли бы он сказать что‑то хорошее о Гегеле?
Мархейнеке не сказал ничего необычного, во всяком случае, ничего такого, что прозвучало бы странно на наш, людей XX века, слух. Выбор определялся его положением: обычные слова пастора о расставании души с телом и ее одиноком блаженном полете после того, как она оставила тело здесь на земле. Студенты Гегеля знали, что сам Гегель ни во что такое не верил. Для присутствовавших на церемонии друзей, из тех, кому он выражал соболезнования по случаю траура, как, например, Генриху Бееру, не составляло тайны, что в подобной ситуации он тщательно избегал упоминаний о бессмертии индивидуальной души, личном боге, о какой‑нибудь молитве… (С3 299–300)[9].
Но наряду с бессмертием на небе оратор приберег место для бессмертия земного, несомненно, более дорогого философу: его творения сохранятся запечатленными в мыслях и сердцах грядущих поколений.
Мархейнеке превознес «благородство духа, ощутимое во всяком проявлении его натуры, доброй, приветливой, благожелательной; в возвышенном образе мыслей, в безупречном поведении и обходительности, в величавой невозмутимости и детском простодушии характера»…[10] Он хорошо описал, каким был Гегель. Но кое — какие черты он оставил в тени. Благожелательный и обходительный? Да, конечно, но не всегда. Насчет «детского простодушия» Мархейнеке перебрал. Многие при этих словах, должно быть, скрыли улыбку.
Не исключено, что вместо улыбки на некоторых лицах отразилась досада, когда пастор похвалил «свойство ума, благодаря которому Гегель легко примирялся с любым предрассудком (Vorurteil) при условии его точного познания». Сомнительная похвала. Разумеется, труды Гегеля отнюдь не свидетельствуют о таком благодушии по отношению к тому, что по праву или по недоразумению философ считал предрассудками. Он их отвергал и опровергал со всей строгостью. Выдвигая ложную идею «примирения», Мархейнеке, возможно, сам того не сознавая вполне, присоединяется к попытке однозначно истолковать Гегеля: мол, к концу жизни он «приладился» к политической и религиозной ситуации в Пруссии и принял все, что она подразумевала, включая «предрассудки». Единственное, что тут можно сказать, так это то, что если Гегель и впрямь «примирился» с предрассудками, то предрассудки, со своей стороны, никак не желали с ним мириться.
Второй оратор привел строгие тому свидетельства, не пренебрегая при этом минимумом мер предосторожности в отношении цензуры, полиции, юстиции, с которыми он не так давно поучительным образом столкнулся.
Большая часть собравшихся должна была удивиться, увидев, как к гробу Гегеля неожиданно выходит этот человек — Фридрих Фёрстер. Кто его пригласил? При чем тут он? Публика, верно, приготовилась слушать философа, который скажет прощальное слово над могилой знаменитого философа. При этом большинство присутствующих, в частности студенты, не иначе, ожидали, что этим человеком станет Ганс. Но не слишком ли бы это было дерзко? И не столь скомпрометированные философы, ученики Гегеля, и те подверглись репрессиям, оставаясь под подозрением. Кто‑нибудь просил их выступить? Существовали какие‑то договоренности, о которых нам ничего не известно?
Правда, Фёрстер считался другом Гегеля. Храбрый участник войн за национальное освобождение, в свое время поэт, и главное, историк Пруссии, он не поладил с репрессивным монархическим аппаратом. Но когда он несколько обуздал себя, по крайней мере, в публичных выступлениях, Фёрстер снискал милость короля. Некогда профессор военной академии, он был отстранен от преподавания, хотя ему дали официальный пост, позволявший «заработать на хлеб», а историческими штудиями он занимался в частном порядке. Позже Фёрстер скромно и неназойливо примет участие в первом издании полного собрания сочинений Гегеля «силами друзей покойного» (1832–1845)[11]. Опорой прусского деспотизма его никак нельзя считать.
Философом он не был. Составляя список учеников Гегеля, Розенкранц не вписывает туда ни Шульца, ни Фёрстера. В исторических трудах Фёрстера гегельянства не сыщешь.
Так как никто из философов то ли не мог, то ли не хотел произносить речь на могиле Гегеля, сказать слово прощания надлежало Фёрстеру. И если удивляет само его появление в таком качестве, то о речи и говорить не приходится! Биографы по большей части воздерживаются от рассказа о ней. Тем же, кто все‑таки ее упоминает, она кажется «экстравагантной», «чрезмерной» в формулировках[12]. Они винят в этом эмоциональное потрясение, из‑за которого безутешный друг потерял голову. Искать другие причины этих очевидных странностей они не стали. Ничего не остается, как искать их нам, спустя сто семьдесят пять лет после кончины Гегеля.
Нам кажется заведомо невозможным, чтобы такой человек как Фёрстер, участник боев, потерял над собой контроль в связи со смертью друга, пусть даже самого дорогого, и позволил себе на кладбище «экстравагантности». Рядовым слушателям и не слишком любопытным историкам его речь, однако, вполне могла показаться «страдающей преувеличениями».
Еще бы: В то время как с дубов и берез берлинского кладбища опадают последние листья, Фёрстер рисует Гегеля — «ливанским кедром»! А заодно «лавром, увенчавшим науку», и также «звездой на солнечном небосклоне мирового духа» (R 562–563).
Решительно ничего специфически гегелевского в этих образах нет, но они не случайны в устах Фёрстера, и не по легкомыслию или наитию обращается он к ним.
На самом деле достаточно перелистать «Словарь франкмасонства», чтобы понять, о чем речь. «Ливанский кедр» — это «главный предмет рассуждений на 22 ступени Древнего Обряда… (Рыцарь Королевского Топора)»; «Ливан» — «словопароль» для данной ступени; кедр изображен на переднике масона, к ней принадлежащего, именуемого, впрочем, «Ливанский принц»[13]… Так Фёрстер подает знак внемлющим.
«Древо» обряда 4 ступени — «символ победы, одержанной над самим собой», который хорошо иллюстрирует обращение самого Фёрстера в гегельянство. «Лавр» и «лавровый венок» также обозначают 22 шотландскую ступень. Что касается «звезды», столь частого символа в масонстве, указанный словарь уточняет, что она редко связывается с солнечной системой, за исключением 20 ступени того же обряда[14].
Сколько символики! Присутствующие франкмасоны большего и пожелать не могли бы. Что же до непосвященных, то им оставалось только удивляться напыщенному стилю Фёрстера, неуместному и нелепому. Масоны сохранили «тайну». Непосвященные поудивлялись и забыли. Но довольствуйтесь после этого объяснением текста, которое не выходило бы за рамки непосредственно в нем сказанного!
Великая берлинская ложа действительно находилась в ведении Йоркского царственного обряда. Фихте, имя которого Фёрстер не преминул упомянуть, вступил в нее в 1799 г., пройдя посвящение в 1794 г. в Рудольфштадте[15]. Некоторые историки характеризуют эту ложу как «консервативнохристианскую»[16], но такая характеристика могла означать в то время совершенно различные, иногда прямо противоположные вещи. Может статься, целью намеков Фёрстера в 1831 г. была некая captatio benevolentiae со стороны властей? Ведь фактически, к этому времени масонство, несмотря на изменчивое многообразие внутренних течений, а также, несмотря на умение приспосабливаться, в целом продолжает вызывать у властей беспокойство. Меттерних на Венском конгрессе вопреки Гарденбергу, выступившему адвокатом масонства, потребовал повсеместного его запрещения. В Берлине полиция и правосудие жестоко расправлялись со всеми, кого считали объединившимися в тайное общество, а масонство периодически причислялось к подрывным организациям.
Выяснить, каковы были отношения у масонов с прусской монархией (Фридрих Вильгельм III официально был членом ложи), и каковы были связи Гегеля с масонством, дело нелегкое. Принадлежность к масонам — компонента поведения Гегеля, ее значения не следует ни отрицать, ни преувеличивать. Но нужны предварительные исследования. Было бы неплохо, если бы масоны или хорошие историки масонства компетентно разобрались со «случаем Гегеля» в связи с его ныне подтвержденным членством. Если верить Фёрстеру, масоны гордятся тем, что Гегель — один из них.
«Экстравагантная» речь Фёрстера строго следует плану. Она разделена на три части: масонское начало сменяется христианскими темами, завершаемыми философско- политическим финалом. Многие кажущиеся сейчас вполне безобидными высказывания тогда производили взрывной эффект. Оратор старался говорить намеками, прибегал к обтекаемым выражениям, всякий робкий выпад обставлял риторическими фигурами. Иначе жди репрессий!
Вторая часть речи Фёрстера посвящена христианству Гегеля, и в этом смысле она дополняет то, что было сказано Мархейнеке. Была ли речь Фёрстера речью, приличествующей случаю? У гроба Гегеля, в этой непростой исторической ситуации, публика ловит малейший намек в надежде на громкие разоблачения. Прозвучавшие слова рождают в воображении этой публики мысли, которых у оратора, возможно, и не водилось. Оратору все это известно, он должен быть начеку во избежание непонимания и клеветнических толкований.
Распространяясь на религиозные темы, Фёрстер, похоже, принял все меры предосторожности, если судить по опубликованному тексту речи. Не был ли он чрезмерно осмотрителен, когда умалчивал о широко известных высказываниях Гегеля? На самом деле он прекрасно знал, что и эти умолчания будут свидетельствовать против него. Враги Гегеля, а значит и Фёрстера, пользовались любым предлогом, а если его не было, изобретали таковой сами.
На следующий после похорон день некто Менцель, писатель, завистливый неискренний человек, обвинил Фёрстера в том, что тот в своей речи уподобил Гегеля Святому Духу[17]. «Менцель сокрушал рационализм, в частности, Паулюса и Фосса, а также философию Гегеля, которому он противопоставлял Шеллинга, но больше всего нападал на Гёте, «главного растлителя нашего времени»[18]. Борн посвятил Менцелю книгу под названием «Менцель, гроза французов» (der Franzosenfresser).
Яркое, однако, созвездие выдающихся немецких умов удостоилось этой вражды: Гёте, Гегель, Паулюс, Фосс!
На сей раз Менцель вторил ходячему обвинению: в своей философии Гегель кощунственно отождествил Бога и человека.
В опубликованном тексте Фёрстера можно прочитать такую фразу: «Разве не он [Гегель] примирил неверующего с Богом, научая нас, как должно распознавать Иисуса Христа» (R 565)? С одной стороны, слова Фёрстера могут свидетельствовать христианскую веру Гегеля, но предубежденное ухо способно услышать в них нечто прямо противоположное. Что это такое: «распознавать, как должно, Иисуса Христа»? И ведь о таких вещах спорили, из‑за таких нелепостей философ ставил на карту репутацию, место, свободу и даже порой жизнь!
Власти и публика относились, стало быть, ко всему этому очень серьезно. Менцель слышит в словах Фёрстера не то, что тот, судя по всему, намеревался сказать. Одно из двух: либо ему что‑то просто — напросто кажется, и тогда он — клеветник, либо — это не исключено — Фёрстер и в самом деле выразился иначе, не так, как напечатано в опубликованном и прошедшем предварительную цензуру тексте. От интонации ведь тоже многое зависит.
Наводит на предположения о различиях между устным и печатным словами странное свидетельство, с которым вмешался в спор Давид Фридрих Штраус. Он поручился за правоверность всего сказанного Фёрстером и тем самым за правоверность гегелевского мышления! Среди бесчисленных учеников Гегеля, еретиков и безбожников, Штраус фигура экстремальная. Он станет автором нашумевшего атеистического комментария к Евангелиям. И он, некогда ученик Гегеля, возьмется подтвердить в споре с «интегристами» религиозную чистоту мысли покойного! Отвечая на коварные обвинения Менделя, Штраус утверждает, что Фёрстер не уподоблял Гегеля Святому Духу, но всего только «сравнивал» их…[19]
Но вот беда. Сравнение, на которое ссылается Штраус, сыскать в опубликованной речи Фёрстера еще труднее, чем уподобление из доноса Менделя. Ни понятие, ни словосочетание «Святой Дух» в речи не встречаются. Приходится допустить, что слова, сказанные на кладбище, приведены неточно. Несомненно, оратор позволил себе кое — какие отклонения. При этом Штраус подчеркивает, что сам был на похоронах Гегеля и слышал сказанное собственными ушами. Маловероятно, впрочем, чтобы такая гарантия чистоты веры из уст такого свидетеля произвела большое впечатление на недоверчивых верующих… Никто ничего не сказал ни за, ни против. Молчание, однако, говорит само за себя.
При внимательном чтении текста Штрауса возникает особое затруднение. В подкрепление своих слов автор анализирует приписываемую Фёрстеру фразу. Он разбивает ее на две части, как обычно делали те, кто слушал лекции Гегеля. Первая часть — это автор допускает — могла обеспокоить верующих. Тут мы совсем теряемся в догадках. Что может встревожить в тезисе «примирил неверующего с Богом»? Нужно ли понимать это так, что Гегель «примирил» неверующих с Богом, при этом неверующие остались неверующими, поскольку Гегель снабдил их неверие теоретическим обоснованием? Слишком уж хитрое толкование слов Фёрстера!
Так или иначе, Штраус, допуская, что первая часть фразы способна вселить тревогу, отыгрывается на второй части, долженствующей вполне успокоить слушателя. Как он пишет: «но тотчас следует продолжение: “…научая нас, как должно распознавать Иисуса Христа”»[20]. Нынешний читатель не испытывает беспокойства от первой части фразы и не успокаивается от второй. Какой всепроникающей была богословская подозрительность, и какими мелочными власти, чтобы из‑за короткой темной фразы, на которую сейчас никто не обратит внимания, возникла бы такая суровая тяжба. Вот он интеллектуальный, религиозный, политический мир, в котором Гегелю приходилось жить, думать, преподавать, публиковать свои труды!
Худшее Фёрстер приберег, как и полагается, под конец. Его манера выражаться, до того описательная и «экзальтированная», внезапно превратилась в резко полемическую. Употребленные им слова особенно ошеломляли в специфической политической обстановке, сложившейся в Берлине в 1831 г., поскольку звучали призывом к бою, исходящим от человека, которого окружал ореол воинской славы.
Мыслимое ли дело, и это над могилой философа, порой выглядевшего пассивным созерцателем, отвлеченным мыслителем? Чтобы подбодрить единомышленников, Фёрстер бросает вызов врагам — и в каком тоне: «Ну же, фарисеи и законники, невежественные и спесивые, отвергайте и клевещите, мы сумеем постоять за его славу и его честь! Вперед, глупость, безрассудство, низость, предательство, лицемерие, фанатизм! Вперед, раболепие и мракобесие, мы вас не боимся, ибо нас ведет его дух» (R 556)!
Ни слова обличения неверия, пантеизма, атеизма, конституционализма, либерализма, — всех этих призраков, которых ежедневно заклинали власти и благомыслящие граждане города Берлина.
Вот настоящий Святой Дух, призываемый Фёрстером, дух Гегеля. Это уже не кладбищенская речь, а призыв к крестовому походу. Пусть услышат повсюду благую весть гегельянцев: «Да будет отныне нашей задачей сохранение, возвещение (Verkündigen), подтверждение его учения»! Исполненный профетического и патриотического оптимизма, Фёрстер уверен, что «немецкая наука», такая, какую «долгими бессонными ночами созидал Гегель, станет царицей всемирного царства духа».
Понять это можно только в рамках жестокой полемики тех времен. Фёрстер был сторонником гегельянства как новой спекулятивной, религиозной и политической философии, которая разительно отличалась от дышащих на ладан обветшалых учений.
Он ловко и, несомненно, неумышленно, на манер Burschenschaft, совместил интеллектуальный порыв к обновлению с бурным патриотическим восторгом и «германизмом», к которому сам Гегель всегда относился подозрительно. Но именно благодаря этому ему удалось донести до слушающих главный смысл своих слов, быть слушателями понятым, по крайней мере об этом свидетельствует сама судьба гегельянства.
Он вмешался уже не в ученый спор, но в войну за бренные останки учителя, ведь отныне предстояло отстаивать его учение — взгляды, более или менее известные, более или менее адекватно интерпретируемые. Он не слишком упорствовал, говоря о «доброжелательности» и «детской наивности» философа. На поле боя под его командованием вскоре будут атакованы «раболепие» и «обскурантизм», в которых глубоко погрязла столица Пруссии.
В самом деле, в обстановке замешательства, неуверенности и расхождений память учителя пришлось защищать от нападок с самых разных сторон. Хотя и очень осторожно, но Фёрстер дает понять: жизнь Гегеля в Берлине не была идиллической: «Мы часто видели в его глазах слезы уныния и печали» (R 564)…
Несомненно, никто из гегельянцев не сказал бы лучше Фёрстера. Такое исповедание веры потребовало мужества. Следовало поскорее рассеять сомнения, вызванные вынужденной сдержанностью. Власть в Берлине отвергала философию Гегеля, но зато принимала философию его противников, теоретиков и практиков. Гегельянство пользовалось успехом лишь в узких кругах интеллектуалов, и власти готовили контрнаступление также и на этом фронте. Они все строже судили Гегеля, возлагая на него ответственность за распространение подрывных доктрин, проистекавших из его учения.
Для сравнения посмотрим, как они отнеслись к смерти его ученика Эдуарда Ганса, когда тот безвременно скончался несколькими годами позже. Похороны Ганса — и человек другой, и обстоятельства иные — дали повод в 1839 г. к более впечатляющей и мощной либеральной манифестации. Холера уже не препятствовала массовым собраниям, да и политическая ангажированность Ганса была более открытой и явной.
Фарнхаген фон Энее, один из немногих современников, оставивших записи в связи со смертью Гегеля, был также другом Ганса. В связи со смертью Ганса он отмечает в своем «Журнале»: «При дворе очень довольны, что Ганс умер: наконец‑то от него отделались»[21].
При всех отличиях двор в связи со смертью Гегеля должен был испытывать облегчение того же порядка. Король, двор и правительство очень желали, чтобы гегелевское учение было предано забвению, как тело земле. Речь Фёрстера заставила их почувствовать подспудное сопротивление. С целью изведения философии Гегеля, власть сначала пригласила в Берлинский университет на кафедру, с которой эта философия преподавалась, одного из самых недалеких ее представителей[22]. Но эффекта не воспоследовало, и для ее дискредитации был приглашен заклятый враг, самый авторитетный и многообещающий враг — Шеллинг.
Как позже скажет в своей антишеллингианской диатрибе Мархейнеке: «На закате гегелевской философии они ждали восхода новой звезды первой величины»[23]. Радуясь провалу Шеллинга, Мархейнеке отмечает разочарование и горечь среди поклонников философии абсолюта. Еще в 1843 г. пастор требует свободы для мысли и учения Гегеля, которым, как он считает, препятствует Шеллинг. Этот гегельянец, бездумно зачисленный в «правые», радуется тому, что философия Гегеля выжила и распространяется, и заявляет: «полиция и правосудие против нее бессильны»![24]
Философ, так до конца и не признанный философами, сомнительный христианин, разоблаченный франкмасон, мыслитель, на чью мысль притязают несхожие философские фракции: на выходе с кладбища коллеги, студенты, поддерживавшие с Гегелем отношения, неизбежно задавались вопросом — какой она была, жизнь Гегеля. Но на этот раз с наступлением сумерек сова Минервы вылетать не спешила.
II. Рождение философа
«Я ощущаю в себе жизнь,
которую не вдохнул в меня никто из богов
и не подарил никто из смертных.
Я думаю, что мы живем сами по себе, и одно лишь свободное влечение тайно связывает нас со Всем»…
Гёльдерлин[25]
Чтобы в конце концов умереть, ему, конечно, сначала пришлось родиться. Гегель признает эту неизбежность во многих местах своих произведений, и, похоже, иногда ей радуется. Но по большей части, он держится платоновской традиции: тело — могила души. Душа, заживо погребенная, изо всех сил старается выбраться на свет, долгое время безуспешно, хотя удача в финале ей достаточно надежно обеспечена. Какое счастье!
Жизнь, как ее обычно понимают, от реального рождения до смерти погружена в то, что наш философ истории, прежде чем раскрыть благородный и даже возвышенный смысл этой науки, пренебрежительно называет «историческим», отличая тем самым историческое от концептуального, спекулятивного, истинно философского. Ведь философ, смиряясь с собственным банальным приходом в этот мир, смиряется исключительно для того, чтобы вернее отречься от мира в теории. Общий удел не для него.
Штутгарт
Итак, отдавая дань событийной стороне повествования, скажем, что Георг Фридрих Вильгельм Гегель увидел свет 27 августа 1770 г. в Штутгарте. Семейное и социальное окружение, обеспечив ему условия необходимые, но недостаточные, сразу подтолкнуло его к тому, чтобы стать тем, кем он стал.
Не все дети, родившиеся в таких семьях, как у него, достигли величия, но все великие люди Швабии родились именно в семьях потомственных ремесленников, и уже из них вышли пасторы, правоведы, чиновники. Эти мелкие буржуа по праву зовутся интеллектуалами. У них нет ни земель, ни редких в те времена мануфактур, ни капиталов, ни наемных рабочих. В нарождающейся торговле и промышленном производстве они не участвуют. Все это им не светит, вот и приходится трудиться над душой.
Восходящий, как говорится, общественный класс, обслуживающий буржуазию, в фарватере которой он и пребывал, самая скромная часть третьего сословия, пока молчащая, но уже лелеющая замысел возвысить голос. Из нее произойдут великие, родственные Гегелю, умы: Рейнхард, Гёльдерлин, Шеллинг, Пфафф и другие. Лишенные всех средств к существованию, кроме духовных, они вполне объяснимо преувеличивают значение духа; они любят его, как крестьянин своих волов, богач — свои сундуки с золотом, знать — гербы, они ценят творения духа. Гегель отважится на сравнение: «Жена крестьянина, как к родной, относится к своей лучшей корове, а равно, к Смольке, Пеструшке и т. д., а равно к малышкам Мартину и Урсуле. Вот и философу точно так близки движение, бесконечность, познание, законы природы и т. п. И то, что фермерше ее покойный брат или дядя, такими же родственниками для философа окажутся Платон, Спиноза и другие. Эти столь же реальны, сколь те, разве что эти — на века» (R 539) или (D 355).
Ничем и никем на самом деле не распоряжаясь, кроме самих себя, стремясь к самостоятельности и власти, мелкие буржуа охотно превозносят собственную духовность. Вместе с тем эти гордые собой духовные субъекты остаются «субъектами» во втором смысле слова[26], (по — немецки еще более хлестко: Untertan[27]), бесправными подданными самих деспотичных и посредственных властителей, каким был, в случае Гегеля, герцог Вюртембергский с его приспешниками и наушниками.
Горожанин по рождению, Гегель не будет знаться ни с крестьянами, сроднившимися с землей, ни — разве что в качестве слуги — со знатью из окружения власть имущих, этими двумя категориями людей, кому общественное положение закрывает доступ к знаниям, культуре, науке и философии.
Юному Гегелю все это станет доступно, благодаря успешному поступлению в Штутгартскую гимназию, превосходное учебное заведение. Окончившие его лучшие, но располагающие лишь скромным достатком ученики, почти неизбежно оказывались в протестантской семинарии Тюбингена, знаменитом Stift, в котором могли продолжать обучение, благодаря герцогской стипендии. После чего, как им хотелось верить, наилучшим образом оснащенные, они вылетали вольными птицами во взрослый нешуточный мир.
Случай или рок благоволили будущему философу. Он достигнет интеллектуальной зрелости к тому времени, когда Франция, в 1789 г., станет политически совершеннолетней. А его жизнь, поровну разделившаяся между двумя столетиями (1770–1831), совпадет с жизнью Гёльдерлина в поэзии (1770–1844), Бетховена в музыке (1770–1827) и Наполеона в политике (1769–1821).
Гегель мало говорит о семье, считая, впрочем, ее влияние само собой разумеющимся. Зато он будет безмерно радоваться своему второму рождению, «обращению» в философию, каковое воспримет как радикальный разрыв со всем, что чуждо чистому мышлению, включая воспитание и учебу в детстве.
В преддверии непредсказуемого события обращения он вел себя как послушный ребенок и хороший сын. Отец Гегеля, о котором, как видно, у мальчика не сохранилось слишком живых воспоминаний, был добросовестным воспитателем. Более предан сын памяти о матери, умершей, когда он был еще очень юным. Неплохо образованная, она первая начала формировать детский ум, очень рано озаботившись его будущим. Пятидесятилетний Гегель в письме сестре, датируемом 20 ноября 1825 г., дает проскользнуть искреннему чувству: «Сегодня годовщина смерти нашей матери, день, о котором я всегда помню» (С3 88).
Одна из эпидемий, которые тогда периодически опустошали города, посетила Штутгарт, измучив всю семью дизентерией. Мать скончалась. В мире высокой детской смертности Гегелю удалось выжить, но, наравне с отцом, братом и сестрой, он всю жизнь страдал от последствий этой болезни.
Брат Гегеля, Людвиг, убежденный, как и сестра, сторонник безбрачия, пошел в военные, принял участие в наполеоновском походе в Россию и был убит в 1812 г. В переписке философа о нем совсем ничего не говорится, что не означает нерасположения: в 1807 г., терпя связанные с подобной акцией неудобства, он согласился быть свидетелем при крещении незаконнорожденного сына Гегеля в Иене. Новорожденный получил имя Людвиг.
Сестра, Кристина Луиза (1773–1832), обеспечила себе более важное место в жизни и в сердце Гегеля, иногда выступая в них на первых ролях. Немного моложе брата, она являла собой личность незаурядную. Сестру ждала драматическая судьба, некоторые впечатляющие эпизоды которой изобразил в своей Bilderbuch 1849 г. хорошо знавший ее поэт Юстинус Кернер. Кернер мог наблюдать за ее жизнью главным образом в Людвигсбурге, где она, начиная с 1807 г., служила гувернанткой в знатной и знаменитой семье Берлихингенов (Гёте: «Гец фон Берлихинген» — 1774 г.).
До этого за Кристиной Луизой какое‑то время ухаживал друг Гегеля Исаак фон Синклер, в 1805 г. серьезно замешанный в революционном заговоре, обвиненный в государственной измене, но потом ставший дипломатом, и по — братски поддержавший Гёльдерлина в период невзгод. Один поступок вполне характеризует Кристину в молодости. Когда демократ Август Фридрих Хауф (1772–1809), тот самый, по — видимому, человек, который рекомендовал Гегеля на место воспитателя в Швейцарии и будущий отец поэта Вильгельма Хауфа, сидел в крепости Хоэнасперг (Вюртембергская «Бастилия»), она тайно носила узнику письма жены. Крепость Кристина посещала, переодевшись служанкой, а письма были спрятаны в двойном дне корзины, в которой заключенным было разрешено передавать пищу.
Юстинус Кернер описывает эти опасные затеи[28]. Конечно, надзор и репрессии еще были не такими, как в наше время. Но Хоэнасперг, в котором довелось побывать Гёльдерлину, — и он тогда просил поэта Шубарта о благословении — все же окружала мрачная слава, тюрьма внушала ужас[29]. Мадемуазель Гегель оказалась достаточно мужественна и вольнолюбива.
Со временем характер у нее ожесточился, и, отвергнутая Антигона, Кристина, позже, по мнению госпожи Гегель, страдала приступами патологической ревности. У нее было странное расстройство рассудка. В 1815 г. она помешается умом, и ее придется запереть в специализированном учреждении, в котором содержались также — это правда — политически неблагонадежые[30]. Освободят Кристину только в 1824 г., доверив заботам врача, брата философа Шеллинга. Она сама положит конец печальной жизни, утопившись в 1831 г. в реке Нагольд, спустя неполных три месяца после смерти брата.
Гегель, испытывавший к ней глубокую симпатию, постоянно о ней тревожился. Она — последний штрих в горестной картине жизни его семьи: с одиннадцати лет сирота, брат убит на войне, незаконнорожденный сын, приносящий огорчения и сам несчастный, сестра не в ладах с законом и разумом, — какая уж тут идиллия.
* * *
Ежегодно семейство отмечало дату принятия их предком решения о переселении, которое привело его в Швабию. Скромный жестянщик, убежденный лютеранин, он предпочел покинуть свою родную Каринтию и вступить на путь изгнания, чем отрекаться от своей веры, обращаясь в католичество, к чему принуждал подданных правящий эрцгерцог. Гегелям лютеранская набожность вкупе с почитанием семьи не мешали быть верными изначально протестному духу своей веры. Философ всегда будет подчеркивать присутствие в протестантизме некой полемической прививки, настаивая на этой особенности даже тогда, когда Священный союз пожелает привести к согласию различные христианские конфессии.
С детства Гегель вкусил горечи изгнания и, соответственно, понял, какое счастье иметь домашний очаг и семью, место, где чувствуешь себя хорошо. Быть «у себя» (bei sich), также и с точки зрения жизни духа, — это и есть свобода! В своем Journal он сравнит незавидную судьбу короля, пользующегося в Версале ничтожно малой частью огромного дворца, которого он целиком не знает, с жизнью простого отца семейства в скромном доме, знакомого со всеми его углами и с «историей каждого гвоздя и каждой кладовочки»[31].
Небезынтересно, что Гегель родился именно 27 августа, в том же месяце, что и Гёте (1749–1832), но днем раньше. Близость дат рождения будет способствовать сближению обоих гениев, во всяком случае, в сознании их почитателей, склонявшихся иногда к тому, чтобы отмечать эти даты как совместный праздник в течение одной бессонной ночи. В 1826 г. совмещение празднований еще больше озлобит прусского короля, озабоченного исключительно тем, чтобы никому не уступать в мелочности. Его возмутят размах и многолюдность празднования: один великий человек рядом с ним — и то слишком. Но сразу оба!
Лицеист до 1788 г., примерный ученик, Гегель проявляет живой интерес ко всем формам познания. Сохранившиеся документы говорят о нем как о человеке, жадном к свежим новостям, методически штудирующем разные книги, наблюдающем природные явления, ставящем небольшие опыты: энциклопедический ум en puissance, которому не терпится стать en actes[32].
В нем заметна склонность к античной культуре, особенно к идеализируемой учителями греческой. Он делает пометки почти обо всем, чем занимается, и сохраняет записи. Аккуратно ведет Journal, этот эскиз формирования собственной личности. Очень скоро он перенимает чисто немецкую привычку к большим выпискам из прочитанного (Exzerpten) с точными ссылками на источник: так становятся эрудитами.
Гегель читает «Антигону» Софокла, на нее не счесть ссылок. Переводит из Лонгина, Эпиктета, Тацита. Его увлекает история. В 1786 г. он поверяет своему Journal сожаление о том, что «еще не изучил историю достаточно глубоко и по — философски» (D 37). Упущенное он быстро наверстает.
Навыки рассуждения учителя привили ему очень рано. В зрелости он сам напомнит об этом преждевременном посвящении: «Я также помню, что в свои двенадцать лет выучил, раз уж надо было поступать в семинарию, вольфовские определения, начиная с того, что такое idea clara, и в четырнадцать освоил все фигуры и правила силлогизмов, которые с той поры храню в памяти» (В. S. 550).
После этого замечания немногого стоит позднее заявление о «внезапном решении» категорически порвать с прошлым и заняться философией. Романтическая пыль в глаза!
По мнению Дильтея[33], косвенное влияние Монтескье и Вольтера несомненно подтолкнуло юношу к размышлениям, в которых угадывается его будущая философия истории: «Я много дней размышлял над тем, какой может быть прагматическая история. И кое‑что сообразил. Она состоит, на мой взгляд, не только в том, чтобы рассказать о фактах, но и в том, чтобы определить характер знаменитого человека, дух, свойственный целой нации, ее нравы, религию, найти причины падения и процветания великих империй, показать, как сказалось то или иное событие на их устройстве, на национальном характере и т. д.» (R 433).
С тех пор он без устали будет разбираться с «духом наций», описывать его, объясняя процветание таковых и упадок. В общем, он испытает влияние той особенной формы великого европейского Просвещения, которая получила в Германии название Aufklärung. Его не оторвать от великих книг, представляющих эту школу мысли: Вольфа, Лессинга («Натан Мудрый»), при этом он не гнушается весьма известными в те времена менее знаменитыми авторами: Гарвэ, Зульцер, Николаи. Серьезным чтением его читательские увлечения не исчерпываются, иногда для развлечения он читает популярные романы.
Преподаватели поощряют самостоятельные занятия Гегеля. Сохранились некоторые его учебные сочинения. Их темы очень далеки от наших сегодняшних забот, но нужно признать, что в тогдашних условиях они способствовали выработке прекрасных и полезных качеств ума. В пятнадцать лет Гегель сочиняет «Беседу о триумвирате между Антонием, Октавием и Лепидом», в которой выражает уже сформировавшиеся политические взгляды. В семнадцать лет рассуждает «О религии греков и римлян», рассматривая античное многобожие сквозь призму Просвещения, а не под углом зрения христианства. Напомним, что «Римское многобожие» Бенжамена Констана (1767–1830) было издано посмертно в 1833 г. Именно в духе Aufklärung истолковывает Гегель слова умирающего Сократа: принесите жертву Эскулапу! Речь, согласно юному лицеисту, идет о сообразовании философской мудрости с религиозными предрассудками еще не просвещенного народа (D 10). Здесь, таким образом, предугадывается принцип «двойного языка», религиозного и философского, который позже он будет обосновывать теоретически.
В 1788 г. в одном из сочинений Гегель рассматривает «Некоторые характерные различия между древними и новыми поэтами»: он хвалит древних, пишущих на темы национальные и общенародные, а не новых, обращающихся только к узкой элите.
В 1788 г., по завершении учебного года, Гегелю поручают — это знак большого отличия — произнести от имени учеников традиционную прощальную речь на тему: «Плачевное состояние искусств и наук у турок». Неизвестно, сам ли он ее выбрал. «Турки», на языке того времени, означало: «не христиане».
В этом тексте (R 19–20) и (D 52–54) Гегель упражняется в искусстве лести, которым отныне в большей или меньшей степени, по необходимости и без оной, будет пользоваться всегда, искусстве, без которого в те ненадежные времена не мог обойтись ни один интеллектуал. Сравнение — роковым образом тема делала его неизбежным — должно было показать, как хорошо жить в герцогстве Вюртембергском, а не среди «турок», обретая спасение в христианской религии, и при наличии таких прекрасных учителей, но, прежде всего, такого замечательного герцога. Герцогскую стипендию для Тюбингенской семинарии нужно было заполучить во что бы то ни стало.
Однако выучившись также искусству лавирования, он уже в своем эссе «Религия греков и римлян» — высказал мысль о том, что разнообразие религиозных верований должно побудить нас критически отнестись к нашим собственным религиозным убеждениям, ибо они «могут прекрасно оказаться ложными все разом или истинными только наполовину» (R 18)! Так Гегель заходит много дальше Лессинга, возмутившего христианскую общественность всего‑то намеком на то, что разные монотеистические религии могут быть истинными все, и что христианство не исключение.
Со временем Гегель, конечно, изменится. Но изначальная чеканка нестираема. Он всегда будет работать как вол, не так блистая, как иные, превосходя многих в основательности и серьезности.
Документы и свидетельства позволяют считать, что обучение в гимназии проходило в атмосфере спокойного доверия, благожелательности, приветливости. Учителя охотно шли навстречу ученикам, в первую очередь, конечно, лучшим из них. Их связывали дружеские отношения, совет не предполагал принуждения, пример подавался ненавязчиво. Гегель относится с величайшим почтением к своим наставникам, его глубоко печалит смерть одного из них, пастора Леффлера. Там царят учтивость и порядочность высокой пробы: по меньшей мере гимназистам так кажется, — ощущение это вскоре их покинет. Его оттеснит опыт жизни в реальном мире, который окажется обманчивым, разобщенным, враждебным.
Сотворение себя
Почему и как становятся философом? Гегель не желал признавать решающей роли семейной и школьной подготовки, которая, так или иначе, не могла объяснить выбор, предпочитая отвечать на этот вопрос по — разному в зависимости от времени и настроения.
Во многом его первое большое произведение, «Феноменология духа» (1807), представляет собой именно такой развернутый ответ. Речь идет о грандиозном, удивительном, единственном в своем роде произведении философской литературы, о тексте, чрезвычайно насыщенном, причудливо сочетающем самые разнообразные темы, которые в итоге оказываются моментами или ступенями единого и систематического процесса развития. Наряду с решением других задач, в этой книге Гегель претендует на описание того, как обычное сознание, поначалу наивное и неразвитое, получает доступ к философии, к абсолютному знанию; как, после первого пробуждения, оно, благодаря последовательным актам осознания себя, достигает конечной цели, скрытой в нем с самого начала.
Требовалось строго определить исходный пункт этого пути. Гегель сразу же, без всякой критики, сообразуясь с традицией идеализма, начинает с сознания, а именно, с предполагаемого первозданного его состояния. Попросту говоря, он описывает эту предполагаемую исходную форму человеческого сознания как — теперь бы это назвали «наивным реализмом» — непосредственное отождествление чувственных впечатлений с действительностью самой по себе, сопровождаемое безотчетной уверенностью в действительном и независимом существовании мира. Это предполагаемое начало жизни сознания и его последовательного развития Гегель называет «чувственной достоверностью»[34].
Отталкиваясь от исходной формы, и вскоре порывая с ней, сознание переходит на более высокую ступень развития, на ступень «восприятия», и затем, шаг за шагом, достигает последней стадии — сознания философского. Этой последней предшествуют уже достаточно высокие ступени, представленные искусством и религией. На пути к абсолюту философия обгоняет религию лишь у самого финиша.
Вполне очевидно, что вся эта конструкция последовательных ступеней развивающегося сознания существует лишь в поразительно изобретательном воображении философа. Небезынтересно знать, как соотносятся эти умозрительные построения, которые исподволь пытается навязать своим читателям Гегель, с тем культурным путем, который прошел он сам, чтобы стать философом?
«Чувственная достоверность» — исходная точка не более и не менее прочих «формообразований» сознания, она тоже этап развития, начавшегося много раньше. Ей заблаговременно потребны для формирования жизнь, практика, опыт; словом, обучение и даже что‑то вроде критики. Реализм, чувственный он или нет, никогда не бывает наивным. Порой за него приходится сражаться в открытом бою. Поглядев на мир, времен ли Гегеля, или наш, ясно видишь, что большей части человеческого рода, погруженной в дореалистическое, магическое или мифологическое сознание, до реализма еще далеко.
«Чувственная достоверность» — всего лишь предположение, философ выдвигает его задним числом, пытаясь добраться до начал. Но подлинные начала совсем иные. Гегель неявно допустит их значительно позже. Он решит, что неким народам — он сочтет эти народы «первобытными», живущими в «природном состоянии» — вещи и их чувственные качества представляются не такими, каковыми их видит наше сознание. Эти народы, живущие в мире воображения, обитают в безбрежном «не — реализме». Гегеля достало бы распространить это утверждение даже на древних греков, какими их описывает Жан Поль Дюмон: «философствующее человечество в окружении богов», почитавшее «так много божеств, сил, не скрытых, но явных», которые «отвечают на все вопросы»[35].
В процессе формирования человеческого сознания религия появляется не к концу пробега перед философским откровением в финале, — хочет убедить нас автор «Феноменологии духа», — она направляет его ход с самого начала.
Любопытно, что в самых первых опытах самостоятельного мышления, в начальных строках первого сохранившегося сочинения — сам Гегель так его и не опубликует — он описывает религию как действительное и первое условие «наивного реализма», предпосылку, за которой реализм может воспоследовать и которой он может быть противопоставлен: «Религия — одно из самых важных дел в нашей жизни. Еще в детстве нас приучали шептать молитвы Всевышнему, наши ручонки уже были воздеты к небесам, наша память полнилась множеством фраз, тогда непонятных, но предназначенных для использования и утешения в будущем.
Когда мы становимся взрослыми, дела религии начинают занимать большое место в нашей жизни; у многих круг мыслей и предпочтений насаживается на религию, как колесо на свою ось»[36].
Первая прививка сознанию — не «чувственное», а религиозное отношение к миру, даже если оно сформировано непроизвольной чувственностью. В религиозных семьях, таких, как семья Гегеля, детей как можно скорее приучают отнюдь не к «реалистическому» или даже просто «эмпирическому» отношению к окружающему. И то же самое в семьях нерелигиозных: дети верят в папашу Ноэля[37] раньше, чем увидят печную трубу, через которую он проникает в дом.
Религия не предпоследняя остановка перед конечной — философией. На Гегеле с самого нежного возраста ее печать, и он это знает. Его отношение к религии по ходу времени будет существенно и в разных направлениях меняться, но даже если ему случится склоняться порой к атеизму, тон его повествования останется религиозным, а эрудиция в религиозных вопросах пребудет непременным оружием, как, впрочем, и у его первых учеников, объявивших себя безбожниками: Фейербаха, Штрауса, Бауэра… Ведь этот атеизм, как и его временное безбожие — вполне христианские, конституирующиеся не иначе как по отношению к христианству и в предпочтительных терминах последнего. К примеру, когда Гегель, опережая Фейербаха, заявит: «Нашему времени суждено вернуть людям, по крайней мере, в теории, сокровища, которые были растрачены на небесах»[38].
Это совмещение, или смешение христианских языка и стиля с нерелигиозным содержанием может удивить и дезориентировать французского читателя, привыкшего к четкости формулировок своих соотечественников- атеистов и к более строгой ортодоксальности своих христианских авторов.
* * *
Во всяком случае, если в этой области Гегелю нравится напускать идеологического тумана, то в собственно философских выводах — рискованные следствия из которых, едва обрисованные, ускользают от многих читателей — он куда более однозначен.
Философ — идеалист неожиданно обнаруживает крутой нрав. Кровью набухают жилы, им овладевает приступ ярости: никто ему не нужен, ничего никому он не должен, пропади все пропадом — «чувственный» мир, семья, культура, религия! Втулка слетела с колеса: телега катится под откос.
Эта, разумеется, чрезмерная, и тем не менее обычная в философии вспышка, описана у Гегеля вполне романтически: «Первая идея — это, естественно (natürlich!), идея себя самого как бытия абсолютно свободного. Одновременно с сознающим себя свободным бытием из ничего возникает целый мир — единственное творение, могущее считаться истинным и мыслимым» (D 219).
Метафизик не занимается «восстановлением» мира, он его творит, сотворяя себя самого. Творение себя собой — но можно ли именовать подобную операцию творением? — ведь помимо всего прочего это сотворение философом всей совокупной божьей твари. От философа, по существу, рождается реальность, поскольку нет вещей, независимых от сознания. Это утверждение содержится уже в тексте, написанном рукой юного Гегеля, но составленном, вероятно совместно, в тесном сотрудничестве с Гёльдерлином и Шеллингом. Ему дано название: «Первая программа немецкого идеализма», и, конечно, он первый во всех смыслах этого слова[39].
Пресловутое радикальное обращение в философию как раз и предполагает этот полный разрыв со всем, что могло бы считаться условием или предпосылкой мышления: ничто не провоцирует полагание себя собой и не влияет на него.
Такое притязание по сути дела — угроза и культуре и религии. Идеалист рождается из ничего, порождая все из себя. У себя за письменным столом он всему владыка. Он подчеркивает, что начинает с нуля, но это значит, что он отрицает все исторические обретения. «Позитивные» культуры и религии между тем ничуть не смущены: подумаешь, великое дело, эти мысленные испепеления в итоге умственных бурь в нескольких головах, — все будет по — старому. Не исключено, однако, что эти уверенность и безмятежность нимало не оправданы. В конечном счете следствия из гегелевской философии выйдут катастрофические. Гегелю в конце жизни самому доведется увидеть — риторические уловки не возымели действия — как его умозрительный идеализм изобличают в пантеизме, атеизме, и вообще, приписывают ему подрывной характер.
Зато молодые студенты профессора Гегеля в Йенском, Гейдельбергском или Берлинском университетах поистине в упоении! Священный союз, комиссия Майенса, репрессивные декреты связали их по рукам и ногам, лишив возможности на что‑либо влиять, они потерпели крах в патриотических и политических начинаниях, и вдруг — теоретически — их наделяют необоримой творческой силой! А Гегель опытный демагог и умеет подавать умозрения драматически. Не исключено, что героико — комический наркотический напиток, щедро разливаемый другим, в конце концов ударил в голову ему самому[40]. В своей «Вступительной лекции» в Берлине в 1818 г., уверенный в том, что аудитория должна воспламениться, он упражняется в красноречии, в частности, подчеркивая в рукописи те красочные места, на которых следует повысить голос: «Решение философствовать принимается в чистом мышлении (мысль пребывает наедине с собой), оно принимается, словно в безбрежном океане; нет больше красок, нет точек опоры, погасли все фонари, дружески светившие нам. Горит одна лишь звезда, она внутри, это полярная звезда. Но конечно (natürlich!), некий озноб заставляет содрогнуться душу, оставшуюся наедине с собой: она еще не знает, к чему причалит и куда ей плыть. Среди утраченного много такого, чего ей никак не хотелось бы терять, и вот, она одна, ничто еще не вернулось, и нет уверенности в том, что все это опять обретется, что все восстановится.
Одиночество, неуверенность, ненадежность, шаткость всего…» (В. S. 19–20).
Вот они, родовые муки философии!
Шеллинг посмеялся над этой игрой воображения, однако в его картезианской версии, в отличие от гегелевской, не столь патетичной, исходно более смелой, но, возможно, более наивной, он говорит: «Рене Декарт действует, как революционер, в полном согласии с духом своей нации: он действительно начал с того, что оборвал связи с предшествующей философией, предал забвению все, что было сделано до него в этой науке, начав воздвигать ее целиком и наново, словно до него никто никогда не философствовал…»[41]
Пойдет ли Гегель дальше этого экзотического революционера? По крайней мере, он всячески подчеркивает дерзость критического философского духа, посягающего на распространенные предрассудки: «Больше того, не одни только чувственные формы отменяются, но и абсолютно все другие, привычные сознанию, точки опоры. В нашем обыкновении воображать вещи мы опираемся на некие основания, которые всегда при нас; к примеру, Бог остается надежной основой представления в качестве субъекта, и все, что о нем говорится, относится именно к этому основанию как одному из его свойств; и то же самое с моим восприятием и моим представлением внешних тел, моим чувством правоты […]. Философия уходит от освоенного человеческим умом способа видеть мир, жизнь, мышление, истину, справедливость, Бога…» (В. S. 19).
Даже Бога!
Все эти крутые повороты, на которых настаивает Гегель, подразумевают на деле скрытую преемственность. Гегель хорошо это знает. Впрочем, он несколько переоценивает собственную способность убеждать, воображая, что студенты всерьез прельстятся духовным одиночеством и идеей абсолютного полагания себя. О гибельный путь, он делает вид, что скрывает, как это страшно. Сцена принимает фарсовый характер, когда Гегель начинает успокаивать тех, на кого, как ему кажется, нагнал страху. Затишье после бури. Душа успокаивается после смятенья: «Дух не опасался утратить что‑либо, в чем его истинный интерес- философия возвратит ему (wiedergeben) все, что истинно в представлении» (В. S. 20–21). Все было готово заранее, и фокус удался.
В океане спекулятивной мысли Гегель уверенно поведет свой корабль, хотя время от времени последнему предстоит опасно накреняться из‑за рискованных поворотов руля. Как бы то ни было, причудливо скрещивать самый неистовый идеализм с самым заземленным здравомыслием Гегелю суждено постоянно. Все же это большая удача — родиться не у «турок», и он сумеет извлечь из нее всю возможную пользу. И тогда начнется медленное и трудное пробуждение сознания, его собственного сознания, путь к философии, временами извилистый, тот, которым он будет продвигаться.
Гуру исчезает — добросовестный штутгартский школьник, первый ученик в классе, вот кто говорит сейчас его устами. В 1804 г. Гегель составляет для министерства образования curriculum vitae, несомненно, в целом столь же мало искренний, сколь формальны обычно надгробные речи или вступительные лекции, но все же заслуживающий доверия в объяснительной части, представляющей собой некие качели, задающие тон и ритм всему им сказан — ному. Например, нечто решительно утверждается и тотчас утверждение ограничивается, смягчается при помощи обтекаемой формулировки или отвлекающего маневра: «я выбрал карьеру пастора в согласии с волей моих родителей и остался верен изучению теологии из личной склонности, поскольку таковая имеет отношение к классической литературе и философии. После зачисления я избрал среди доступных моему статусу видов деятельности такой, какой, помимо собственно пасторских обязанностей и проповеди, оставлял бы досуг для занятий древней литературой и философией, а также предоставлял возможность пожить в других краях и в ином окружении» (С3 344).
Прекрасное согласование возможности выбора с ее отсутствием!
В зависимости от того, на какой части фразы сосредотачиваешься, получаются два очень разных портрета философа. Зато фамилия значится одна и та же: это точно тот самый родившийся в Штутгарте в конце XVIII века Гегель, которому было суждено так повлиять на весь девятнадцатый век. Он не смог бы стать тем, кем стал, в другое время и в другом месте.
На протяжении всей жизни всеми силами Гегель будет отстаивать истины философского идеализма. Мы, однако, склонны считать, что идеализм рождается не из теоретических выкладок — это стихийный, в некотором смысле врожденный идеализм. Кроме как в минуту рассеяния думать иначе Гегель просто не может. Впрочем, он и не пытается. И это никакая не личностная особенность: такая же судьба у Гёльдерлина, Шеллинга и многих других.
Швабия
Стоит ли в этой связи говорить об уникальности края, избранного местом рождения, Швабии, бывшей тогда «независимым» государством, герцогством Вюртембергским?
Самое важное, что это немецкое государство, провинция, область, среди стольких прочих. Гегель испытывает некоторую нежность к своей малой родине. Но к нежности примешивается изрядная доля горечи, и эта горечь преобладает: всего лишь малая родина. Ныне стоит большого труда представить себе убогость политического положения тогдашней Германии, разделенной на более чем три сотни независимых государств, часто крохотных, без точных границ. Эта раздробленность особенно заметна в сравнении с относительным единством монархической Франции, и она будет огорчать еще больше, когда Революция решительно упрочит национальную сплоченность французов.
Священная римская империя германской нации, в которую все эти мелкие немецкие государства, по идее, входят, выглядит при сравнении смешной и призрачной. Гегель, наряду со многими немецкими патриотами, уязвлен отсутствием монолитности, препятствующей какому‑либо экономическому, социальному, политическому развитию и провоцирующей разного рода неудачи, индивидуальные и коллективные, а равно, инертность, бессилие, отсталость, узость кругозора.
Швабия являет собой убедительный пример такого парализующего регионализма. Другие немецкие государства для нее — «иностранные». Мелочность и скудость коснулись здесь всех сторон существования. Особенно остро Гегель это ощутит, когда, оказавшись за границей, столкнется с другим образом жизни. Тогда‑то он и станет грезить о немецком единстве. В одном из первых сочинений, рукопись которого он сохранил, Гегель, подавляя боль и возмущение, бесстрастно свидетельствует: «Германия больше не государство»[42]. Присоединение к Пруссии, с которой после 1815 г. связываются все патриотические упования, естественно и объяснимо. Жизнь и преподавание предоставили ему возможность наблюдать все изъяны и пороки политического устройства страны. Но он склонен многое прощать единственному немецкому государству, обещающему стать залогом единства и могущества в более или менее долгосрочной перспективе, и готов терпеть невзгоды ради его выживания, роста, процветания. Прощай, Швабия!
Французская революция воодушевила Гегеля и его друзей по самым разным соображениям, ими были: освобождение личности, провозглашение ее прав, отмена тирании и т. д. Но больше всего примером высвобождения энергии нации, образцом национального единения. Отвергнув регионализм, она дерзко и достойно утвердила себя под одним знаменем и под звуки одного гимна, сделавшись тем самым непобедимой.
Бедная Швабия! Край, сам по себе радушный, привлекательный, живописный, во многих отношениях являл собой печальное зрелище, погружая своих обитателей в состояние тяжелого уныния. Злодеяния абсурдного деспотизма достигали в нем размаха едва ли не невиданного. Правящий герцог воплощал собой все недостатки обычной тирании: безудержное самоуправство, неумеренную роскошь, бесстыдные оргии в официально лютеранском государстве. Своих противников и критиков режима он заточал в Хоенасперг, он принуждал чиновников приводить жен и дочерей на пышные балы, выбирая из них себе любовниц, он раздобывал деньги, набирая рекрутов и попросту продавая другим воюющим суверенам целые полки швабских солдат, которые отправлялись умирать вдали от родины, воюя за чужое дело («Caplied» Шубарта).
Когда шокированные его скандальным поведением придворные ему робко напоминали об интересах родины, он говорил, подражая Людовику XIV: «При чем тут родина? Родина это я!». Однажды, когда финансы пришли в полное расстройство, он придумал задобрить своих возмущенных подданных публичным покаянием, лицемерие которого превзошло все допустимые пределы. После притворного раскаяния разгульная жизнь продолжилась. Деспотизм в Швабии перешел все границы[43].
Многие, и среди них лучшие из интеллектуалов, давно уже думали только об одном: как бы удрать! Именно это они и сделали, как только смогли, — Гегель, Гёльдерлин, Шеллинг и их самые близкие и самые отважные друзья. Каждый из них искал и нашел, не без труда, «случай пожить в других краях и в ином окружении». Сказать тем не менее, что перед ними распахнулись двери рая, нельзя.
В Швабии конца XVIII века почти все подчинялось мертвой традиции, слегка расцвеченной Aufklärung. Нравы, предписания, институты, утварь, материалы, — все дышало архаикой. Невозможно адекватно понять мысль и жизнь Гегеля, не поместив их в нишу его времени. Жилье оставалось «готическим». Гегель окрестил этим словом тесноту и потемки[44]. Дома окаймляли узкие, дурно пахнущие улицы. Освещение было свечное, писали гусиными перьями, топили дровами, те, у кого были деньги, перемещались верхом или в почтовой карете; лечились, в основном, кровопусканиями. Сделавшись профессором, Гегель частенько получал заработную плату — с большими задержками — натурой: мешок ячменя, вязанка дров. В немецких землях повседневная жизнь людей со скромным достатком была трудной, стесненной, экономной, отличаясь как от крестьянской нищеты, с одной стороны, так и от вызывающей роскоши двора и богачей — с другой.
Одну особенность герцогства Вюртембергского, поскольку она играет роль в формировании молодого Гегеля, следует упомянуть отдельно. У герцога были ленные владения (фьефы) на французской территории, Монбельяр и кантоны на границе с Кольмаром. Швабия, таким образом, была теснее связана с Францией, чем другие немецкие государства, и Гегель, учась в Тюбингенской семинарии, часто заходил к французским стипендиатам герцога, очень рано сблизившись с французскими языком и образом жизни.
Но даже без этого частного преимущества Швабия была местом, откуда было очень удобно наблюдать за Францией и небывалыми событиями, в ней происходящими. Не было во всей Германии, за исключением Рейнской области, лучшего наблюдательного пункта, чтобы следить за Французской революцией, и нигде ее ход не порождал большего эмоционального и интеллектуального отклика. Многие вюртембержцы, с которыми Гегель был близко знаком, сразу пошли на службу Революции, разумеется, вернувшей Франции вюртембергские «владения» по эту сторону Рейна.
Некоторые комментаторы находят в трудах Гегеля влияние традиционной швабской мистики, и тому есть основания. Действительно, мистика в них есть, но влияние ее не глубже влияния иных направлений мысли, немецкой или другой. Временами Гегель будет обращаться к истории своей страны, но в любом случае будет это делать реже Гёльдерлина[45].
После долгого отсутствия он один лишь раз, в 1818 г., приедет туда на короткое время: «Штутгарт, мой родной город, в котором я провел этой весной несколько дней после двадцатилетнего отсутствия» (письмо по — французски Виктору Кузену) (С2173).
Похоже, что после этой даты он больше ни разу не пытался туда ни возвращаться, ни возобновлять прежние знакомства. Он умел переворачивать страницу.
Если он покинул ее навсегда, то Швабия его так полностью и не отпустила. Гегель увез с собой родину в навыках речи. Швабский акцент, неисправимый и предательский, сохранится у него до конца дней, и он неизменно будет пользоваться характерными швабскими фразеологизмами. Прусские студенты поначалу будут над ними посмеиваться, но богатство и глубина его учения быстро заставят не замечать особенности произношения. Аудитория забудет, как и он сам, о Швабии, о провинции, о его земных предках, месте и дате рождения философа, мастера самого себя, и, когда эта аудитория будет внимать его безапелляционным речам от имени абсолюта, ей вдруг померещится, будто сам абсолют ежесекундно порождает себя прямо у нее на глазах.
III. Штифт
Протестантский пастор — дедушка немецкой философии, сам протестантизм — ее peccatum originale. Достаточно произнести слова «Тюбингенская семинария», чтобы сделалось ясно, что немецкая философия в своей основе — коварная теология… Швабы — лучшие лжецы в Германии, — они лгут невинно.
Ницше[46]
В туманной дали грядущего первое прибежище беспокойных душ — это Штифт, лютеранская семинария Тюбингена: обманчивое видение, чары которого быстро рассеиваются.
Но как горды поначалу ее питомцы!
С герцогской стипендией, исполненные надежд, они поступают в престижное «заведение»[47], меж тем хорошая школа — залог будущих отличий на стезе религии и службы герцогу. Пастор — а они все более или менее искренне собираются стать пасторами — у себя в селении все еще пользуется кое — каким уважением.
Поступление в Штифт вносит серьезные перемены в жизнь молодых людей: уход из семьи, стесненное, почти монашеское существование, во всяком случае, строго регламентированное, напряженный и целенаправленный, главным образом, на богословие, интеллектуальный труд; переутомление и школьное соперничество. Но вместе с тем обретение относительной внутренней независимости. Замкнутость поощряется, но за нее приходится платить безусловной административной и идеологической покорностью, — двери семинарии открыты лишь тому, кто признал себя христианином, лютеранином, монархистом, даже если в глубине души и по рождению ты не лютеранин и не монархист.
Герцоги основали Штифт, чтобы в нем готовить приходских пасторов; цель, по существу, религиозная, политическая, идеологическая. В Вюртемберге должны были быть увековечены набожность, конформизм в мыслях и поступках, феодальное сознание, послушание.
Но учреждения, при основании которых преследовались вполне определенные цели, не всегда повинуются данному им наказу, развиваясь по своим собственным законам. Долгое время Штифт служил начальству верой и правдой, позже поддался иным и чуждым влияниям, и тогда его монолитная структура пошла трещинами. Для неимущих юнцов пасторское «призвание» было способом получить средства на образование. Частенько Штифт так и называли: Stipendium, тем самым точнее определяя его подлинную социальную функцию.
С тем, что штифтлеры, проучившись на герцогскую стипендию, по окончании обучения не выполняют своих обязательств и не становятся пасторами или богословами, постепенно все смирились. Новые идеи все чаще проникали в лекции профессоров. Все более громкими становились протесты против порядков в Штифте, содержания преподавания, дисциплинарных мер, нравов и обычаев. Поступление Гегеля пришлось на период, когда кризис достиг наибольшей остроты.
Многие десятилетия штифтлерам, у которых не было выбора, приходилось более или менее мужественно терпеть муштру. Но в 1788 г. рабский дух, начавший осознаваться, стал покидать стипендиатов. С горячим призывом к эмансипации выступил Кант: долго еще вас будут опекать, как несмышленышей? Думайте сами, вы взрослые люди. Ветерок Aufklärung веял повсеместно, залетал он и в Штифт. Публицисты, ставшие потом знаменитостями, яростно обличали отсталость заведения, отжившие доктрины. Один из наиболее дерзких штифтлеров — его ждала необыкновенная участь — Рейнхардт (1761–1837), опубликовал в 1785 г. что‑то вроде злобного памфлета на всю тогдашнюю систему образования[48]. В итоге ему пришлось бежать, сначала в Швейцарию, а потом в Бордо, где он согласился на место воспитателя будущего главы жирондистов Жана Франсуа Дюко (1765–1793). Позже короткое время он будет министром иностранных дел Франции, потом, при Реставрации, сделается графом и пэром! Его пример показывал: Штифт открывает любые пути, если его вовремя удается покинуть.
Стипендиаты учились в Штифте в течение пяти лет: два года они отдавали философии, три года богословию, при этом собственно философия была пропитана христианским богословием, главным образом, вольфианством. После недолгого ознакомления с уставом и попыток приспособиться к нему, для самых даровитых Штифт оказывался невыносимым. Все в нем было отвратительно. С юношами обращались, как с детьми, но следили много строже, чем дома, проверяя, какие книги они читают. Раздражала форменная одежда странного покроя, делавшая их посмешищем в глазах всего города, особенно в глазах барышень. Из‑за нее учащихся прозвали «черными». Наказания, которыми они расплачивались за вполне заурядные шалости, тоже были нелепыми, с одной стороны, не очень серьезными, но в то же время унизительными: обед без вина, заключение в карцер и т. д. Все это сопровождалось всевозможными запретами, касающимися расписания занятий, личной жизни, права на суждение, а также того, что именовалось «нравственностью».
Хроники того времени рисуют унылую картину жизни в Штифте: разительно отличавшуюся от той, о которой мечтали юные швабы. Больше чем от мелочного административного произвола, страдали они от постоянного идеологического давления. У учителей было много достоинств, да и учили они вещам полезным, преподавание, однако, не предполагало свободного обсуждения, представляя собой систематическую обработку умов, особенно тягостную для тех учеников, кто не намеревался вкупе с ними впрягаться в телегу, становясь пастором.
Легко представить себе тоску и уныние школяров: три года теологии, чей избыток обескуражил бы даже ее поклонника. Гегель от всего этого в отчаянии и, как он сам об этом пишет, кнутом гнал бы теологов отовсюду (С1 22)[49]; нетрудно вообразить и поглощаемые в молчании обеды, за вычетом тех случаев, когда не очень‑то набожные студенты, вынужденные слушать, не слыша, читаемую по очереди проповедь, устраивали дым коромыслом. Вовсе не все они были антиклерикалами, хотя атмосфера заведения побуждала ими становиться, но их воротило от ханжества, от этой «позитивной», стало быть, коррумпированной формы религии. Они ненавидели проповеди, порождавшие, говорит Гегель, в лучшем случае скуку[50].
Взбунтоваться можно и от меньшего, но швабы терпеливы. Школяры довольствовались безобидными формами сопротивления. Они изгоняли зло, высмеивая его. Один такой, Клюпфель, рассказывал, что несчастный, обреченный на чтение проповеди, или старался говорить тихо, чтобы его никто не слышал, или, напротив, вынужден был громко кричать, когда его сотоварищи учиняли им же самим спровоцированный базар. Откровенные места из Ветхого завета давали повод к «не слишком поучительным экзегетическим прениям»…[51]
Проделки школяров? Запоздалое желание отличиться? Да, конечно, с одной стороны. Тем не менее будущим пасторам лучше было бы оставить шутки для более подходящего случая. Жизнь некоторых из них, избравших путь протеста, сомнения, инакомыслия, ясно показывает, что именно Штифт, который всеми средствами препятствовал инакомыслию, подтолкнул их к нему.
Профессора однозначно исповедовали догматическую теологию, в которую, после прививки Aufklärung, в глубине души, возможно, не слишком верили. Скептицизм сказывался и в их речах[52]. Те из них, кто, по — видимому, был по — прежнему верен обветшалым догмам и способам их выражения, ничтожно мало влияли на умы, взбудораженные приходом новых времен. Например, в философии приверженцем вольфианства оставался Флатт, и это при том, что критика с вольфианством давно расправилась, да и сам Вольф при жизни не всегда был ортодоксален. Студенты тайком передавали друг другу книги Канта, а равно другие запрещенные тексты, презирая Флатта.
Преподаватель богословия, Штор, предлагал своим ученикам «рационализованный» протестантизм, или «сверхнатурализм». Наряду с прочими, он защищал основополагающие догматы христианской религии как таковые и ничего иного нельзя было ждать от человека, работавшего в Штифте. Вместе с коллегами он производил выборки из текстов, безоговорочно считавшихся «священными», оставляя то, что ему представлялось разумным, и отсеивая то, что, на его взгляд, относилось к устарелой мифологии. Преподаватели стремились сохранить веру в существование личного Бога, бессмертие души и свободу воли, но они же ее подрывали, допуская подчиненность божественного деяния вечным законам природы.
Эти плохо сочетаемые и, по правде говоря, несовместимые утверждения, сосуществующие только благодаря инертности и благодушию, были большой теоретической помехой для юных умов, воспитанных в строгой и однозначной системе верований, и к тому же интеллектуально требовательных. Учащиеся плохо понимали, как согласуются эти эклектичные теории с пассажами Священного Писания, наиболее поражающими людское воображение, которые так любят комментировать пасторы. Старания «сверхнатуралистов» подменить некоторые чисто религиозные понятия якобы научными терминами во имя спасения пересмотренной и вовремя подправленной религии, — попытки, которыми авторы гордились, — оказывались напрасными.
На непредвзятый взгляд, эти компромиссы были не чем иным, как уступкой неверию века. К учащимся, поначалу сбитым с толку, быстро возвращалось хладнокровие, и они начинали по части скепсиса и иронии в отношении к догмам превосходить своих учителей.
С точки зрения соблюдения нравственных норм, Штифт их тоже отталкивал: разве не беспринципны интеллектуальная нестрогость, а пуще того, лицемерие и дурная вера, которые для них, с их юношеской прямотой, были неприемлемы прежде всего?
Впрочем, мнения администрации, профессоров и классных учителей могли сильно розниться. Расхождения заслуживают отдельного рассмотрения. Но на взгляд гитифтлеров, и особенно в глазах трех будущих гениев, там повстречавшихся, Гегеля, Гёльдерлина и Шеллинга, оттенки ничего не значили. Они отторгали доктрину в целом. «Никогда не мириться с догмой» сделалось их девизом (С1 41)[53]. Штифт пробуждал в них стойкую неприязнь.
Они жили, чувствовали, думали в полном духовном согласии без малого два десятка лет, заряженные энергией отрицания по отношению к Штифту. Гораздо больше, чем несостоятельность учений, их задевало лицемерие окружающих или то, что им таковым казалось. Оно их возмущало, и реакция была самой живой. Они верили, что сами ему не подвержены и алчут исключительно истинной горькой правды. Молодым, чистосердечным, умным, вполне неимущим, — чего им было терять? Они сделались кантианцами, потом фихтеанцами. Они буквально восприняли нравственные заповеди, прозвучавшие на новом языке: не лгать! И пока они были друзьями, их снедало стремление срывать маски и облекать истину в слова. Ради этого они во враждебном окружении присягнули на верность «союзу истины», подписали «пакт истины», захотели вступить в «Невидимую церковь»…
Опыт пребывания в Штифте прямо противоречил всему, во что их ранее приучили верить. Благодаря ему они лишились невинности. Как всем молодым людям, переступающим порог зрелости, собственный опыт казался им чем‑то небывалым, уникальным, неслыханным. Это и вправду было столкновение крайностей: обветшавших норм в старом учебном заведении и совершенно новых идей, дурной посредственности и становящихся личностей великого немецкого поэта и двух самых великих немецких философов. Пребывание в Штифте способствовало разрыву сложившихся связей и расставанию с изношенными идеями. Пребывание в нем способствовало самосознанию и самоутверждению, хотя бы и в противовес заведению, становясь предметом критической рефлексии. В Штифте начинают понимать, что все, или почти все, — обманщики, маскирующие истинное лицо. Ничью речь нельзя понимать непосредственно, никому нельзя верить на слово.
Такова наука жизни, таков мир, и Штифт не что‑то исключительное. Хуже другое: студенты чувствуют, что их хотят интегрировать в систему, стремятся превратить в инструментарий для сделок с совестью. В какой‑то миг они восстают, наотрез отказываясь участвовать в игре. Им все еще не хочется разбавлять молодое вино водой. Они еще не видят исторической необходимости этой тлетворной культуры и пользы от нее, поразительно тонко проанализированной позже Гегелем. Бежать некуда. Постепенно они поймут, что ложь и лицемерие — только симптомы, болезнь засела глубже, большинство ее вовсе не замечает. В конце концов, как‑то с ней сживаются. Но пока что у школяров на уме одно: удрать!
Штифт обманывает простодушные детские надежды. Презирает верность. Карает за искренность. Гёльдерлин: «Юные ученики муз подрастают в лоне немецкой нации полные любви и надежд, в них обитает дух; встретив их семью годами позже, ты видишь тени, молча и вяло бредущие. Они как поле, которое враг засыпал солью, чтобы на нем не выросло ни колоска»[54].
Сопротивляясь гниению, которое они болезненно переживают, молодой Гегель и его друзья замышляют, заручившись взаимной поддержкой, восстановить преданность и искренность… они присягают друг другу на вечную верность! Разве не избрал Жан Жак Руссо, произведения которого они жадно читают тайком, своим девизом Vitam impendere vero?[55] Разве Кант не сделал безоговорочным, по крайней мере в теории, требование правдивости? А Фихте, он ведь не побоялся провозгласить: «Пусть мир погибнет, но да свершится правосудие»![56] Друзья немного перегибают палку по части словесной приверженности «идеальным ценностям». Простодушные ученики, они позже обнаружат, что учителя — освободители сами мирились с ложью, ущемляли справедливость, предавали ценности, пренебрегали идеалами. Тогда они — Гёльдерлин, впрочем, менее охотно — выработают более умеренные, трезвые, сдержанные взгляды и стиль поведения.
К концу пребывания в Штифте трое друзей все еще не хотят смиряться с положением дел. «Век неизлечим»[57], — выносят они приговор без смягчающих обстоятельств. Штифт — воплощение зла. Они срывают злость на немцах вообще, виновных больше других народов[58]. Они осуждают догматичность, но выносимые ими вердикты уж слишком умозрительно сталкивают добро со злом, правду с ложью, чистосердечие с недобросовестностью.
Их неприязнь к Штифту обретает характер по преимуществу религиозной и политической вражды. Наивные идеалисты, они рассматривают религию, Град (la Cite) как образ мыслей, подпадающий под догматические категории суждения, поскольку находящийся в ведении самого же мышления.
Друзья вменят себе в вину то, что Ницше позже назовет «скрытым богословием». Они и вправду вскоре сделаются распространителями скрытого богословия, именуемого немецкой идеалистической философией. Во всяком случае, диалектики посильнее Ницше, они прекрасно понимали — а если не понимали, имелись охотники довести это до их сведения — что философия, таящая богословие, необходимо предполагает богословие, за которым стоит философия. Впредь богословию предстоит распространяться потаенно, под маской спекулятивной мысли, потому что шествовать по миру открыто, без маскарадного одеяния, уже не в его власти. Но как часто предосторожности влияют на существо дела.
Такая игра мысли с собой, при которой собеседники постоянно меняются ролями, принесет плоды в окончательной системе Гегеля. Его самые проницательные противники сумеют это предугадать. Они побьются об заклад, что философу не выбрать между богословием и философией. Что же касается друзей, им нелегко будет разобраться с тем, где Гегель ловчит, где лукавит, где заблуждается, а где воистину глубок. Лукавец роковым образом водит за нос себя самого. Гегель показал, что с иными — не с ним — так и получается: он знал, о чем говорил.
Между тем в Штифте недоверие к сути доктрин и резкая критика учебного заведения не мешали плодотворной работе. Учителя были разными, думали различно и учили многим полезным вещам. Штифтлеры сами выбирали, чем им заниматься и как. Что касается Гегеля, — это к нему относится больше, чем, например, к Гёльдерлину, — всякий, слишком односторонний взгляд, пусть опирающийся на отдельные свидетельства, исказит общую картину. Более сложной и противоречивой личности, чем этот «систематик», не сыщешь. Он собирал урожай, где доведется, равно в жизни и в книгах.
Как бы то ни было, в заведении он получил хорошую богословскую закваску. Запаса цитат из Писания ему хватит на все случаи жизни. Ему лучше даются древние языки: еврейский, греческий, латинский. Упражняется в красноречии, правда, без большого успеха: читает — трудно сказать, как — обязательные проповеди.
В Штифте изучали также и классическую культуру, ее преподавание было, в частности, обязанностью репетитора Карла Филиппа Конца (1762–1827). Сам Конц — поэт, историк литературы, литературный критик, личность примечательная во многих отношениях и несогласная с существующими порядками. Видимо, он оказал сильное влияние на Гегеля, следы этого влияния имеются даже в позднем творчестве философа. Страстный поклонник греческой культуры, умевший заразить других своим увлечением, Конц зажег эту страсть в Гегеле и Гёльдерлине.
Любовь к древней Греции… не уводит ли она от жизни, помогая забыться? Не была ли она своего рода эскапизмом? В действительности эта любовь разбужена двойственным порывом. Верно, что, с одной стороны, она удаляет от настоящего и его пороков, предлагая взамен нечто идеальное, отвлекая от реальной деятельности.
Но одновременно выступая в роли эффективной критики действительности, свидетельствует презрение и неприятие общественной и культурной реальности Германии. Комментаторам часто доставляет удовольствие это детище Гегеля и Гёльдерлина, пленительный симбиоз христианства с эллинизмом. Языческих идолов, по примеру Полиевкта, друзья не сокрушали, но чистота христианства, конечно, от этого компромисса пострадала. «Гармонизация», поэтическая ли, философская ли, двух столь различных культур, из которых одной история назначила разрушить другую, приводит обоих друзей к результатам удивительным: и у одного и у другого Иисус оказывается то Вакхом, то Сократом!
На самом деле увлеченность Древней Грецией, и именно ее религией, язычеством, предполагала отход от христианской современности, и, прежде всего, разрыв с ее наиболее догматической, узко ортодоксальной стороной. Это движение влечения и отталкивания порождало сложные представления, довольно смутные в сравнении с ясностью, к которой пришли французские «философы» XVIII в., оппозиционные по отношению к религии. Как и во всякой живой смеси, соотношения менялись: часто в душе штифтлера перевешивало христианство, но иногда верх одерживало язычество. В исключительные моменты обе формы религиозности разом оказывались превзойденными. Порой можно наблюдать, как чаши весов смещаются вверх и вниз на одной и той же гегелевской странице.
Отбирая из преподаваемого в Штифте все, что они считали полезным лично для себя, и нетерпеливо отбрасывая все, что в нем было устаревшего, три товарища одновременно жадно собирали сведения, чаще всего тайно, о философских, научных, литературных новинках.
Устав заведения предполагал ограждение стипендиатов от всякого внешнего возмущающего воздействия, но соблюдался нестрого и неэффективно. Нельзя, впрочем, безоговорочно утверждать, что начальство стремилось навязать безусловную ортодоксальность и абсолютный политический конформизм, хотя и делало вид, что в целом придерживается такой линии. Но в некоторых случаях, когда юные бунтовщики особенно рисковали навлечь на себя герцогский гнев, те же самые начальники в своих официальных отчетах герцогу пытались сгладить углы, защитить своих учеников, преуменьшить значение вменяемых им проступков и замять серьезные дела. Вероятно, они не слишком гневались, когда видели, как молодежь рвется к свободе, порыв, на который сами они не осмелились. Им доставало соблюдения приличий, и то ли вялые и безвольные, то ли мягкосердечные, они отпускали поводья. От штифпглеров требовалось прежде всего не переходить определенных границ, гораздо более широких, чем официально предписанные. Ведь читали они тайком, не слишком при этом рискуя, книги, запрещенные уставом.
Шеллинг характеризует Гегеля как «завсегдатая у Лессинга» (С1 26). Другой соученик сообщает, что «он в любой миг охотно брался за Руссо»[59]. Известно, что, усердно изучая произведения Монтескье, Гегель просматривал также труды Якоби. И нетерпеливо ждал выхода в свет творений великого новатора: «Критики практического разума» (1788), «Критики способности суждения» (1790), «Религии в пределах только разума» (1793).
Разум ставит пределы религии! В заведении, в котором готовят пасторов, в иные времена такое сочли бы богохульством. Критика? Это звучит угрожающе. Фихте оставит Канта позади по части радикализма, и штифшлеры предпочтут его.
Гегель предается частным изысканиям, которые несут на себе печать совершенной особливости. Они и сейчас вызывают удивление. Плоды этих трудов так и не выйдут в свет, возможно потому, что он считал их непроверенными и незавершенными, хотя доработать их в расчете на издание ничего не стоило. Но тогда бы вышли наружу потаенные в них ересь и протест, доработка сделала бы публикацию окончательно невозможной. Всю жизнь он хранил рукописи этих исследований просто потому, что в условиях репрессивных режимов, при которых он жил, публикации они не предполагали.
С дотошностью, всегда его отличавшей, Гегель изучает в этих опытах политико — религиозные проблемы своего времени, которые он формулирует и ставит совершенно по — новому. Греческая древность предоставляет ему удачный пример взаимного влияния религии и политики, он примеряет эту согласованность к современности. Не скрывая религиозной заинтересованности, Гегель в то же время занимает позицию едва ли не социолога, во всяком случае, он придерживается исторической точки зрения, рассматривая, при каких объективных условиях христианство — глубоко реформированное или аутентичным образом восстановленное, а еще точнее, полностью обновленное — могло бы служить опорой и средством укрепления государства, содействовать выработке гражданского и патриотического чувства, наставлять индивидов в общественной морали.
Эта мысль, по крайней мере задним числом, кажется губительной для религии, как она тогда понималась и практиковалась, особенно в Швабии. Гегель дышит воздухом эпохальных перемен. Нельзя недооценивать, невзирая на огромные различия, ее родство с мыслительной работой, осуществляемой одновременно во Франции. Заглавие одного из сочинений аббата Фоше, очень отличного по содержанию, вполне бы подошло Гегелю: «О национальной религии» (1789).
О том же речь идет и у Гегеля: об основании национальной религии, предположительно, общенародной, учреждающей или фундаментально реставрирующей человеческое сообщество. Как точно заметил Дильтей в 1905 г., «теологические работы Гегеля, помимо исследования религиозных проблем, предполагали созидание нового религиозного идеала, консолидирующего новую человеческую общность»[60].
Дильтей употребляет термин «теологические» в связи с несколько поспешным наименованием, данным Розенкранцем кое — каким из этих юношеских эссе, и пренебрегшим тем обстоятельством, что у ряда других очерков имеется название «Фрагменты критики богословия» (R xxxv и 462)! Вскоре, в 1907 г., Ноль, оставив только первое из названий, опубликует все рукописи молодого Гегеля с 1793 по 1800 гг. под общим наименованием «Богословские труды молодого Гегеля»[61]. В них и в самом деле речь идет по преимуществу о Боге и религии, но ведь и в памфлетах Вольтера, опубликованных, кстати, в немецком переводе под заглавием «Богословские труды Вольтера», речь о том же[62]. Учитывая направленность этих гегелевских работ, зачастую выразительно полемическую, тексты вполне можно было бы назвать анти — теологическими. При том что, по правде говоря, в них рассматриваются не столько вопросы религии, сколько история и политика.
Гегель рассматривает проблемы человеческого сообщества под новым углом зрения, возникшим благодаря событиям, главным образом, политическим в широком смысле этого слова. Его интересуют возможности восстановления общественных взаимоотношений, в ту пору в Германии ослабленных или разорванных, восстановление национальной идентичности и национального единства, воссоздание целостности разложившегося, разошедшегося с самим собой, расколотого индивида. Нужно покончить с этим трагическим разделением, с этой горестной раздробленностью, и Гегель отчаянно ищет способ, как это сделать. Как сделать явью мечту о гармонии, единстве, красоте, которые привиделись ему в классическом греческом полисе и в греческой личности?
На этом пути Гегель приходит к мысли о любви, которая, какую бы форму она ни обретала (плотская, чувственная, мистическая), соединяет противоположности, являя собой в этом плане некую аналогию разуму, понятому диалектически.
Он ничего не говорит в рукописях об осуществлении этих проектов, о какой бы то ни было реформе социальной и политической жизни, но они явно предполагаются, равным образом предполагается невозможность их осуществления без участия религии. Совокупность разнообразных условий заставляет его продолжать размышлять со знанием дела, своеобразно и тонко, но именно поэтому у наших современников интерес к этим работам доминирует над интересом к зрелому философскому творчеству Гегеля.
Современный читатель по — разному относится к этой эссеистике. Порой ему доставляет удовольствие находить в юношеских работах некое подтверждение традиционному способу веровать, дерзко переналаженному для духовных запросов иных времен. Порой он предпочитает подчеркивать собственно новизну подхода, и то, что никак не согласуется с прежними представлениями. В этом последнем случае главное в этих текстах — не теологический слой, но дерзость мысли, которая принесет лучшие свои плоды в творчестве знаменитых последователей и учеников Гегеля.
* * *
Эрудиция, проницательность, своеобразие Гегеля не были бы столь исключительными, если бы не двое его несравненных соучеников и друзей. Они росли вместе и вместе развивались.
Штифт всегда отбирал себе лучших из молодых швабов. Но то, что случилось в те годы, было из ряду вон выходящим: Гегель, Гёльдерлин, Шеллинг!
Гёльдерлин (1770–1843), родившийся в том же году, что и Гегель, поступает в Штифт с ним одновременно. В одном подростке миру спешит явить себя великий поэт, в другом, несколько позже, — великий философ, при том что оба юноши ощущают свое превосходство над остальными, знают о нем и признают это превосходство друг в друге. Скромностью они не страдают.
С 1790 г. они живут одной комнате, в которой поселится и Шеллинг, еще один выдающийся пансионер, заметно моложе летами (1775–1854), тотчас получивший прозвище «ранний гений»! Встретившись, они сразу сделались неразлучной троицей. Роберт Миндер скажет: «Три тюбингенских товарища».
Если судить о молодом Гёльдерлине, зная, каким он стал потом, то контраст будет разительным. Красивый, образованный, предельно чувствительный, он витал в облаках, соприкасаясь с землей, только когда этого было не избежать, и страдая от соприкосновения. Слишком высоко парил этот дух, чтобы у большинства возникало желание за ним последовать. Невероятно повезло тому, кто в юности был близок этому исключительному человеку и заслужил его уважение и любовь.
Трех товарищей объединяли культ античной Греции, но также воодушевление, которое они испытывали по отношению к новой философии. Они вместе открывают «Письма о Спинозе» Якоби, из которых узнают, что за благонамеренным обликом одного из их любимых авторов, Лессинга, скрывался тайный спинозист, и, стало быть, как считалось в то время, переодетый пантеист или подпольный безбожник[63]. Они тоже легко обратились — если это подходящее слово — в пантеистических монистов, чему есть множество подтверждений в их тетрадях, и лапидарную формулу которого Гельдерлин вписал — конечно, по — гречески — в альбом Гегеля: «Исповедание веры: en kaï pan!» «Одно и Все!» (В4 48).
Шеллинг был принят в Штифт семнадцати лет, первый ученик, первый во всем, изобретательный, уверенный в себе, дерзкий, жаждущий успеха и славы; перед ним открывалось блестящее, кипучее, разнообразное будущее. В течение нескольких лет он являл собой интеллектуальный образец для своего друга Гегеля, более тяжелого на подъем, более медлительного, но зато более серьезного, методичного и систематичного, считавшего его едва ли не своим учителем. Так и говорили: «Гегель, ученик Шеллинга», и со временем это стало звучать обидно. Дружба двух юных философов продолжалась вплоть до 1807 г. Некоторые полемические пассажи «Феноменологии», в которых Гегель без обиняков утверждал свой приоритет, окончательно подорвали ее.
Об этих пяти годах учебы в Штифте, как правило, складывается тяжелое впечатление: невыносимая дисциплина, неприятная работа, теоретическое приспособленчество, религиозные мучения. Все это приуготовляет к представлению о строгом философе и соответствует суровому виду, который Гегелю нравилось напускать на себя в конце жизни. На портретах он не улыбается. Не так просто представить себе молодым философа, если знаешь его по печальному облику в старости, — так эти лики несхожи.
Тем не менее в заведении три товарища вели себя так, как свойственно молодым людям, в меру уступая естественным склонностям юности: веселились, шалили, часто тайком. Не отказывали себе в удовольствиях, особенно Гегель. Вместе пили и пели в трактирах, заигрывали с барышнями, устраивали мальчишеские забавы. Все это скромно, по нынешним меркам.
В этот период жизни поведение Гегеля очень переменчиво. Что это, внезапные прихоти настроения или несерьезность свидетельств? Товарищи зовут его «стариком» и изображают старческий профиль. Но в альбоме этого «старика» записано: «Конец прошлого лета был хорош, конец этого еще лучше. Девизом прошлого лета было вино, девизом этого — любовь» (В4 65). Гегель совершает долгие верховые прогулки, иногда возвращается в Штифт очень поздно. Ему выговаривают, за проступки сажают в карцер. Преувеличивая, обвиняют в «бродяжничестве»! Он не лишает себя приятностей и удовольствий. Эта отрадная сторона жизни разворачивается, скорее, за пределами Штифта, и вместе с друзьями он, возможно, склонен сгущать неприятности темной стороны — в стенах заведения. Свободным он себя чувствует только за порогом.
IV. Революция
Первая реальная победа философии…
Гентц (в 1790 г.)[64]
Известие о Французской революции перевернуло жизнь в протестантской семинарии, и без того взбудораженной вихрем новых идей. Все неурядицы, конфликты, огорчения разом обострились. Событие, изменившее судьбу Европы, также направило в иное русло жизнь и мысль Гегеля и его соучеников. Все сердца забились в унисон с Революцией и, так сказать, под гром ее пушек.
14 июля 1789 г. восставшие парижане берут штурмом Бастилию. Сейчас трудно себе представить, какое смятение произвело это событие в душах современников, особенно следивших за ними из Германии: случившееся нельзя было ни вообразить, ни осмыслить, оно было невероятнее библейских чудес, к которым в Штифте относились с иронией. Но чудо произошло! В течение всей жизни Гегель будет добросовестно отмечать годовщину взятия Бастилии, часто в обществе студентов, давая свой комментарий случившемуся.
Для Католического института в Тюбингене это было искрой, упавшей в солому. Но прошу обратить внимание: возгорелся исключительно дух. Воспарили души штифтлеров и прочих швабов, но тела, насколько известно, за душами не вознеслись и не поднялись на штурм Хоэнасперга. Убедительных свидетельств тому, что были сделаны какие‑то конкретные шаги, нет. Действовать открыто в своей стране не представлялось возможным. Кто знает, что из этого могло выйти? Только считанные швабы, не скрываясь, стали служить революционной Франции: Рейнхардт, Кернер, Котта… Знакомые и друзья Гегеля, кому вослед через Рейн он не поспешит.
Насколько сегодня известно, Революция, судя по всему, оказала лишь косвенное влияние на поведение штифтлеров, если не считать нескольких спонтанных акций, о которых потом много говорили. В сердцах трех друзей вспыхнули невероятные надежды, надолго воодушевив их.
Спустя сорок лет, когда Реставрация достигнет апогея, и Священный союз будет диктовать свою волю, Гегель не побоится в хвалебном тоне напомнить о владевшем ими тогда состоянии духа: «Мысли, понятию права, сразу было придано действительное значение, и ветхие сваи, на которых держалась несправедливость, не смогли устоять. Итак, с мыслью о праве была выработана конституция, и отныне все должно было основываться на ней. С тех пор как солнце находится на небе и планеты обращаются вокруг него, не было такого, чтобы человек взялся за ум, т. е. начал опираться на свои мысли и сообразно им строить действительность. Анаксагор первый сказал, что vouç (ум) управляет миром, но лишь теперь человек признал, что мысль должна управлять духовной действительностью. Таким образом, это был чудесный восход солнца. Все мыслящие существа приветствовали эту эпоху. В то время господствовало возвышенное, трогательное чувство, мир был охвачен энтузиазмом, как будто только теперь наступило действительное примирение божественного начала с миром»[65].
И даже если так это и было, все равно слишком рискованно для лютеранского мыслителя помещать «примирение божественного начала с миром» в одна тысяча семьсот восемьдесят девятый год от Рождества Христова.
Энтузиазм молодого Гегеля в связи с событиями Французской революции был сродни горячности Канта, проявленной в политической ситуации, требовавшей от него большой сдержанности. Кант провозглашает в 1798 г.: «Революция талантливого народа, происходящая на наших глазах, может закончиться удачей или провалом, может быть в такой мере полна бедствий и злодеяний, что здравомыслящий человек даже в надежде на счастливый исход не решился бы проделать столь дорогой ценой эксперимент вторично — и тем не менее эта революция, говорю я, встречает в сердцах всех зрителей (которые сами не были замешаны в игре) такое сочувствие [это Кант выделяет слово Teilnehmung], которое граничит с энтузиазмом[66], и проявление которого опасно, сочувствие, стало быть, не имеющее другой причины, кроме присущей человеческому роду нравственной склонности»[67].
Заметна общность этих торжественных заявлений Канта и Гегеля: оба целиком на стороне революции, оба восхищаются и любуются ею, хотя делают это очевидно по — разному.
Прежде всего, и тот и другой настаивают, возможно вослед друг другу, на том, что по отношению к Революции они — зрители. Оба хотели бы избежать всякого обвинения в деятельном участии, в подстрекательстве к революции в собственной стране, обвинения, которое повлекло бы за собой крупные неприятности. Но такая осмотрительность неизбежно предполагает отступление мысли перед жестокостью власти.
И потом, как они ни увлечены событиями, оба уступают извечной немецкой склонности: один, Кант, хочет видеть во Французской революции в первую очередь подходящий случай для обнаружения зрителями у себя нравственных чувств! Они должны узреть их у самих себя! Другой, Гегель, видит заслугу Революции в «примирении божественного начала с миром». На это французские революционеры вполне могли бы возразить, сказав, что у божественного начала с 14 июля, 10 августа или с Жерминалем общего мало. Что касается Франции, там эти возвышенные речи корреспондируют разве что с речами Робеспьера.
Вольно или невольно, но Гегель недвусмысленно подчеркивает нравственный и теоретический характер своей юношеской приверженности Французской революции. И поскольку все так и считают, следует все же смягчить его категоричность.
Реальной возможности революционного развития политической ситуации ни в Вюртемберге, ни в других землях, ни вообще в Германии не существовало. И нечего удивляться тому, что реакция штифтлеров ограничилась созерцанием и морализаторством. Что не исключает отдельных попыток активного вмешательства в ход событий. О некоторых нам известно. И мы не можем утверждать, что их не было больше, ибо, учитывая обстоятельства, о них не очень распространялись. Уверенно исключать такую возможность мы не можем.
В настоящее время из документов, которых обнаруживается все больше, явствует, что историки и комментаторы, намеренно или нет, несколько притушили революционный пыл молодого Гегеля. Когда какое‑либо свидетельство кажется им не вполне надежным, они сразу отметают его в сторону или перетолковывают в пользу консерватизма и квиетизма, выбирая самую умеренную и самую безобидную интерпретацию. При этом они зачастую столь неловки, что искушенному взгляду нетрудно распознать скрытый умысел. Сами противники Революции или ее поздние хулители, они неспособны допустить, что мнение будущего философа могло отличаться от их собственного. Гегель революционер? Этого они себе представить не в состоянии. Как же мог он не быть «разумным», «рассудительным», «уравновешенным» ровно в том смысле, в каком это обычно понимается? Как мог молодой человек, в глубине своей души уже ставший таким мудрым и таким уважаемым профессором, каким для внешнего мира ему еще предстояло стать, водить вместе с прочими хороводы вокруг древа свободы? И неважно, что факт доказан, в любом случае это немыслимо.
Так что, оценивая отношения штифтлеров к Французской революции, следует проявлять осторожность: потребны как холодная отстраненность, так и живая отзывчивость. А это не просто.
Как бы там ни было, некоторые факты известны с давнишних времен, и они проливают свет на действительное положение дел.
* * *
Большинство штифтлеров, и в первую очередь те из них, кто был родом из Кольмара и Монбельяра, и в ком ощущение национальной угнетенности удваивало ненависть к тирании, с самого начала всей душой были на стороне Революции. В самой Франции протестанты, как правило, делали такой же выбор. Гегель и Гёльдерлин, а за ними и Шеллинг, пришли к тому же решению более или менее обдуманно.
С той поры союз трех друзей, основанный на общности чувств, эстетических, религиозных и философских представлений, был скреплен и общей политической страстью. Теперь это и в самом деле было некое братство. Со временем они стали «жирондистами», враждебными «монтаньярам», Робеспьеру и Марату. Биографы не любят вспоминать, что жирондисты тоже были на свой манер революционерами, цареубийцами, что их политика была милитаристской и интервенционистской. Несомненно, их программа и призывы распространить революцию на всю Европу, сами по себе весьма сомнительные, должны были больше всего нравиться вюртембергским школярам, у которых своих сил на это не хватало. Герцогу Вюртембергскому, его двору и чиновничеству жирондисты, чем бы они ни были на деле, отнюдь не представлялись «умеренными», все они скопом вместе с монтаньярами, и, в конце концов, всеми французскими патриотами подлежали осуждению и приговору, на всех было одно клеймо — якобинцы! Мало — помалу в Германии это слово приобретает очень широкий смысл — все те, кого страшатся сторонники старых порядков.
Люди во Франции наконец ясно высказались насчет существующих порядков и начали героическую борьбу во имя замены сущего должным. Три друга страстно уверовали в многообещающее обновление уже потому только, что оно было обновлением и обновлением осознанным.
Больше всего подкупало их патриотические чувства пробуждение к жизни поблекших при деспотическом правлении старинных добродетелей: бескорыстия, самоотверженности, мужества, готовности умереть. Они высоко чтили революционные идеалы свободы, равенства, братства, загораясь при мысли о возможности сражаться за них и умереть: свобода или смерть! Это легко прочитывалось и по — другому: свобода через смерть. Еще в 1802 г. Гёльдерлин будет восхвалять у французов то, что назовет «отношением к смерти как искусству, утоляющему жажду познания»[68].
Есть что‑то исконно христианское в их восхищении французскими революционерами: ради идеала они презирают блага этого мира и жертвуют ими; бойцы республиканских армий, они предают тело и душу всеобщему, они думают только о счастье своих братьев и детей, тысячами умирают за идею на европейских полях сражений. Гёльдерлин только о том и говорит, на все лады превознося это свойственное им всем переживание. Гегель также восхваляет его, но в менее возвышенных выражениях. Революция научила народ, как стать самим собой, сделаться selbstbewusst, сознательным в обоих смыслах слова: сознающим свою действительность, свою сущность, и отдающим себе отчет в собственной значимости, ведь именно она, революция, научила индивида без сожаления расставаться со всем, что дорого, а то и с жизнью.
Революция возрождает в людях основополагающий моральный настрой, то, что Гёльдерлин называет в них «божественным». Гегель прибегает к такой же терминологии. Биограф рад такому удобству — судить о мыслях каждого из друзей, а также чаще всего Шеллинга, по сказанному кем‑то одним из них.
Они не отличают умозрительного от практического, нравственного от реального. Иногда это кое‑что проясняет. На их взгляд, Революция, которая набирает силу во Франции, сопровождается философским обновлением в Германии: так по — разному могла бы звучать одна и та же мелодия, исполняемая по разные стороны Рейна.
В Германии кантовская критика, благодаря нескольким энергичным популяризаторам, таким как Рейнхольд, медленно завоевывала известность. Радикально новая, представляющаяся нынешней публике доктриной, которая, занимая свое место среди других на полках библиотек, постепенно бледнеет и утрачивает четкость очертаний в тумане прошлого, в конце XVIII века она производила эффект разорвавшейся бомбы.
Она решительно порывала — по крайней мере, такова была претензия — с прошлым. Слово революция ни в одном философском тексте не повторялось так часто, как в 1787 г. в «Предисловии» ко второму изданию «Критики чистого разума». Уже одно это приводило в сильное смущение цензоров и многих читателей. Но после 1789 г., и особенно после 1793 г., это кантианское слово обретало гораздо более определенный смысл, воспламеняющий одних, опасный и угрожающий другим. Сам Кант всячески настаивал на ниспровергающей силе своих теоретических открытий: «критическая философия ведет себя так, словно никакая другая до нее не существовала… До появления критической философии никакой философии не было»[69].
Французским революционерам также было не чуждо обманчивое впечатление полного разрыва со всем на свете, например его с гордостью демонстрировал Бриссо. Да и Леба в Конвенте выражался ясно: «Все пути к отступлению отрезаны»[70].
После Канта становится окончательно ясно — назад пути нет.
Вопреки традиционной теологии и философии, до той поры единодушно религиозной, Кант отвергал рациональное доказательство существования Бога и вообще основополагающие христианские установления. Беспощадный ниспровергатель, он приводил общество в ужас: нет смысла прибегать к доказательствам в области метафизики и, с точки зрения морали, человеческая личность абсолютно суверенна. Бог не дает людям моральных законов, но лишь в той мере, в какой люди сами дают себе моральные законы, для них возможна вера в существование Бога.
В наше время эти кантовские идеи больше не приводят в трепет религиозные умы. Они и не такое слыхивали! Но какой бы ни была в те времена степень широты взглядов, допускаемая Aufklärung, суждения Канта в некоторых кругах, и особенно в лютеранской семинарии, произвели эффект интеллектуального катаклизма. Разумеется, все это было бурей в стакане воды, если не отожествлять мир со Штифтом, но штифтлеры именно так и поступали.
Гегель острее других почувствовал глубокую связь между политической революцией во Франции и кантовской философской «революцией», проистекавшими, как он полагал, из одного источника: одного и того же обновления или омоложения мирового духа. Он восславит плодотворность этого переломного момента в берлинских «Лекциях»: «Философии Канта, Фихте, Шеллинга: в них отложилась революция, выразив себя как мышление, революция, к которой в последнее время в Германии приблизился дух; в последовательности этих философий являет себя направление мысли. В этой великой эпохе мировой истории […] приняли участие лишь два народа: немецкий и французский, как бы они ни противостояли друг другу, вернее, как раз потому, что они друг другу противостояли… В Германии французская революция отозвалась как мысль, как дух, как понятие; во Франции это было вторжением в самое действительность»[71].
Философ более не занимается собой, он лишь глашатай мирового духа, субъект истории, которая задает революционное задание тому и другому народу. От субъективизма отдельной личности идеализм переходит ко всеобщей субъективности. И это потому, что здесь прошла Революция.
Более того, Гегель уверует в то, что кантовская созерцательная революция — раз уж в мире верховодят идеи — неизбежно вызовет в Германии революцию политическую, которая будет лучше французской, ибо ей будет предшествовать нравственное очищение: «От кантовской системы в ее наиболее полной форме я жду революции в Германии — революции, которая будет исходить из уже существующих принципов, нуждающихся лишь в общей доработке и распространении на все предшествующее знание» (С1 28).
Короче говоря, в иных гимназических «дортуарах» кипение мысли, как это и бывает, привело к очевидному интеллектуальному перегреву. Немецкая созерцательность не помешала, однако, штифтлерам предпринять кое — какие практические шаги, сохранились и кое — какие свидетельства этой деятельности.
Не смогшие записаться во французскую армию гимназисты затевали потасовки и дрались на улицах Тюбингена с французскими эмигрантами, объектом единодушной ненависти.
Гегель и Шеллинг, но также, несомненно, и Гёльдерлин, относительно которого ошибочно полагают, будто он в данном случае дистанцировался от друзей, стали членами «политического клуба» в Штифте (R. 33), бледной, но показательной копии больших парижских клубов. Говорят об имевших там место «злоупотреблениях»[72]. Читая биографов, догадываешься, что упомянутые злоупотребления состояли в чтении французских революционных публикаций и несдержанности на язык. Если такие вещи считались прегрешениями, можно себе представить, как квалифицировалась сама Французская революция. Так или иначе, но Гегель назван одним из самых пылких ораторов на заседаниях клуба.
Говорят, что Шеллинг перевел на немецкий «Марсельезу», равно его подозревают в связях со вступившей в Германию республиканской армией Кюстина. Очевидно, что об этом не могли не знать Гегель и Гёльдерлин.
Гегель, пишет историк, «поддался этим грезам о свободе» (Freiheitsschwärmerei)[73]. Кант никогда не стал бы говорить о Schwärmerei и никогда не назвал бы свободолюбие злоупотреблением. Свободу, духовную и политическую, он счел последней целью человеческого рода, самим предназначением человека.
Кант говорил Schwärmer о мистиках, вроде Сведенборга. Историк, для которого восхищение Французской революцией было всего лишь грезой, Schwärmerei, не лучшим образом подготовлен к тому, чтобы описывать и оценивать революционные склонности молодого Гегеля. Он уподобляет их припадку безумия или капризу школьника. Среди всех этих школяров Гегель был относительно самым рассудительным, самым взвешенным, и вполне очевидно, что не он позволял себя «увлечь», но увлекал за собой других.
Здесь не представляется возможным перечислить все поступки, все пылкие речи, приписываемые молодым богословам из Тюбингена[74]. Твердость их убеждений сомнений не вызывает, как и незначительность произведенных эффектов. Они были одиноким островком в море равнодушного и бездеятельного населения, поэтому благородные порывы оставались утопическими.
Возникает вопрос методологического характера: что важнее для понимания личности или учения, складывающихся и развивающихся в условиях религиозного, политического и культурного авторитаризма и подавления? Человек не в состоянии высказать все, что думает, ни оповестить обо всем, что делает. Следует ли в таком случае воспроизводить то, что он излагает и без конца повторяет в согласии с навязанными образцами, и не лучше ли обратиться к смелым высказываниям, пусть редким и отрывочным, которые дезавуируют официозный дискурс? Одно единственное откровенно безбожное заявление, вышедшее из‑под пера автора, слывущего религиозным, одна единственная революционная фраза в череде благопристойных, разве их не достаточно для того, чтобы навеки запятнать или выправить представление об образе мыслей?
Примеров такого рода в жизни и в творчестве Гегеля более чем достаточно, и следует иметь это в виду, если мы не хотим, чтобы наше представление о философе было слишком монолитным и залакированным. О важности корректировок говорит уже то, что их внесению стараются всячески помешать. Дебаты по этому поводу — знак серьезного отношения к делу.
Стало быть, имеет смысл напомнить о некоторых фактах. По соображениям краткости ограничимся лишь двумя из них, примечательными не столько из‑за занятой Гегелем позиции, сколько из‑за возникшей в связи с ней перепалки.
Первый касается совместного деяния Гегеля, Гёльдерлина и Шеллинга, часто описываемого в их биографиях, второй — некая историко — литературная одержимость, до настоящего времени замалчиваемая или не замеченная.
Древо свободы
В 1849 г. Клюпфель, библиотекарь Тюбингенского университета, бывший штифтлер, сын штифтлера, соученика Гегеля, написал в своей замечательной «Истории и описании Тюбингенского университета»: «Однажды на рыночной площади было посажено древо свободы, и около него мы застали философа Гегеля и поэта Гёльдерлина, оба тогда были стипендиатами и восторженными почитателями свободы»[75]. Другой документ говорит примерно о том же, но оба не приводят более подробных сведений, которыми их авторы, по — видимому, не располагали.
Сам по себе факт, «высаживание древа свободы» в присутствии Гегеля и Гёльдерлина, часто считают легендой или выдумкой, впрочем, любопытно, что чаще так думают биографы Гегеля, чем Гёльдерлина. Забывая о других источниках, они сожалеют о том, что Клюпфель единственный свидетель: Testis unus, testis nullus! Однако озабоченные удостоверением этого факта, они нисколько не тревожатся об удостоверении прочих событий из жизни Гегеля, о которых они так длинно рассказывают, опираясь на одноединственное свидетельство. Естественно, хроникеры и мемуаристы не стремились увековечивать поступки и речения никому в те времена не известных трех семинаристов из Тюбингена. И что осталось бы от жизнеописаний великих людей, прежде всего, от их юности, когда бы отвергались единственные свидетельства? Это большое счастье, если находится хоть один документ, способный заполнить лакуну!
Оппоненты не столь уж бескорыстны. Именно те, кто оспаривает этот факт, без всякой проверки принимают членство Гегеля в «Unsinncollegium», «школе глупости», воображаемом игровом сообществе, даже не спросив себя, не скрывается ли под этой вывеской политический клуб! В одном случае — детское легкомыслие: принимается любое свидетельство, в другом — когда речь идет о революционных настроениях — требуются неопровержимые доказательства.
Конечно, упорство в отыскании строгой исторической правды, пусть в мелочах, никогда не будет чрезмерным. Но в данном случае оно избирательно. Клюпфель, как никто, располагал благоприятными условиями для написания истории семинарии. Были еще живы современники и друзья Гегеля, и они могли возразить, например, Шеллинг, умерший только в 1854 г., а также Бильфингер, он умер в 1850 г., или Паулюс (1851). Но они ничего не оспаривали. В 1849 г. разразился шумный спор «младо-» и «старо-» гегельянцев. С какой стати Клюпфелю было изображать Гегеля слишком «революционным», напротив, все должно было склонять его к затушевыванию юношеских революционных порывов.
Было время, когда чуть ли не повсюду в Швабии и Германии высаживали деревья свободы, и участники этих церемоний редко были так откровенно «революционно» настроены, как Гегель и его друзья. За неимением точных сведений удивляться пришлось бы не тому, что они посадили древо свободы, а тому, что они воздержались от этого жеста, в общем, мало говорящего об их взглядах, о которых лучше известно из других источников.
Сам по себе факт большого значения не имеет. Ожесточение, с которым его опровергают, свидетельствует, скорее, о неправоте оспаривающих.
Значим в конечном счете не столько сам факт, впрочем, трудно опровержимый, сколько рассказ о нем — правдивый или ложный — Клюпфеля. В 1849 г. на месте преступления можно было рассказывать — не рискуя быть опровергнутым свидетелями эпизода или их прямыми потомками, в числе которых и сам рассказчик, а также тогдашней администрацией Штифта, — о том, что однажды Гегель участвовал в высадке древа свободы. Вот то, о чем все знают, и что безусловно допускают: да, он был на это способен!
Вот удобный повод повторить в связи с этим поступком Гегеля, но с большим правом, сказанное им же — в согласии с глубинной интуицией идеализма — о чудесах Иисуса: «Вместо того, чтобы объяснять принятие христианства с помощью чудес, поинтересуйтесь: каков должен был быть век для того, чтобы чудеса, и именно те, о которых нам рассказывают, оказались возможными»[76]. Ибо чудо, как и всякое другое явление, не может заключаться ни в чем ином, как в сложившемся о нем представлении! Каково же было представление о Гегеле, если его можно было вообразить пляшущим вокруг древа свободы?
Другой факт. Однажды в Штифте узнают о казни Людовика XVI. Штифтлеры, по крайней мере кое‑кто из них, празднуют событие. Чтобы отчитать студиозусов специально приезжает герцог. Разобраться в этом происшествии можно, только поместив его в социокультурный контекст.
Дело в том, что большинство немецких интеллектуалов с самого начала были на стороне Французской революции. Когда она началась, она вызвала волну энтузиазма, захватившую Канта и Гегеля, при этом никто, или почти никто, не намеревался на практике подражать отважным французам. Революционные трудности возрастали, как следствие насилие тоже, и очарование мало — помалу рассеивалось. Большинство немцев, которые поначалу воодушевились и поддержали Революцию, разуверившись, отвернулись от нее, а некоторые выказали откровенную враждебность. Небывало жестоким событием, подытожившим разрыв, стала казнь Людовика XVI 21 января 1793 г. Символический смысл обезглавливания, чье эмоциональное воздействие со временем стерлось, тогда не ускользнул ни от кого.
Все мелкие тираны Германии были страшно напуганы и возмущены, как и — в меньшей степени — их подданные, испытывавшие перед начальством (Obrigkeit) вообще атавистическое чувство преданности и покорности. Они привыкли к самому несправедливому и самому жестокому (колесо, дыба, костер, топор) обращению с подданными, о котором Гегель часто упоминает, чтобы его заклеймить, но не с королями! В дальнейшем, лет на сто вперед сделалось хорошим тоном прилюдно громко осуждать цареубийц (Königsmörder), выказывая законным властям знаки уважения и преданности. Без этого вход в приличное общество был закрыт.
За одним, по меньшей мере, исключением: Штифт. Стипендиаты, в совокупности, не только не осудили убийство Людовика XVI, но отпраздновали его, и можно предположить, что, поступая так, они имели в виду герцога Вюртембергского: если бы добрый герцог был убит, неважно кем и как, штифтлеры и не подумали бы плакать. Они осмелились отпраздновать казнь французской монархии в лице казненного монарха.
Как отмечают биографы — позаботимся о сохранности их выражений — «злоупотребления» в поведении штифтлеров «вынудили герцога лично сделать им внушение».
Не для того же давались деньги религиозному заведению, чтобы плодить революционеров в Швабии! Но в эти страшные годы даже пасторы меняли окраску. Во Франции они повально присоединялись к Революции!
Одна из уловок тиранов, чувствующих угрозу своей власти, заключается в том, чтобы самим открыто и шумно осудить тиранию в принципе, отмежевавшись некоторым образом от нее, и тем самым отвести от себя обвинение. Во времена Гегеля не было нужды выяснять, кто осуждает самовластие, а кто нет: всяк на публике его клеймил, как мог. Нужно было назвать имя тирана.
Что следует именовать тиранией, часто смешиваемой с понятием деспотизма, — на этот счет у Гегеля, Гёльдерлина и Шеллинга сомнений не было никаких. Они вменяли в вину тиранию персонально герцогу Вюртембергскому и его кумиру — королю Франции.
Серьезное отношение и быстрота отклика властей, получивших более или менее точные сведения об опасных настроениях, показательны как реакция на революционные настроения штифтлеров. Герцог поменял маршрут и поспешил возвратиться с дороги! Даже если бы на студентов возводилась напраслина — что очень маловероятно — очевидно, во всяком случае, что все, включая герцога, верили в способность штифтлеров нанести его величеству преступное оскорбление, никто не считал невозможным и немыслимым столь гнусное деяние.
Герцог достаточно часто заявлялся в Штифт собственной персоной, дабы поддержать администрацию и учителей, поторопить с расследованиями. Заведение, призванное избавить его от забот, парадоксальным образом их ему и добавляло.
Радость штифтлеров по поводу смерти Людовика XVI не была случайной, она была связана с одной из навязчивых политических идей. Даже в Альбоме Гегеля фигурировали призывы: In tyrannos! Не подлежит сомнению, что Гегель и штифтлеры были заодно. Исключительный случай для литературы его времени: во всем гегелевском наследии не найти слова сочувствия к Людовику XVI, он даже нигде не упоминает его имени. Но очевидным образом понятно, кого Гегель имеет в виду, когда высказывается против «несказанной несправедливости, обусловленной вмешательством духовной власти в секулярное право, или той, которая порождается оправданием коронованных особ, то есть их самоуправства, коль скоро это самоуправство помазанника, стало быть, произвол божественный, священный»[77], или когда он радуется, видя, как рушится «старое здание беззакония» французской монархии[78].
И пусть у Гегеля нет никаких иллюзий относительно политического строя мелких немецких государств, и он с хирургической точностью вскрывает пороки олигархического правления в Берне, все же именно французская монархия для него, как и для всех его современников, являет миру чистый образец тирании, страны, в которой король оправдывает свои решения знаменитым: «ибо такова наша воля». Людовик XVIII вернется в 1815 г. к этой формуле, наверняка не обрадовав Гегеля. Ему ненавистен личный произвол, «акт насилия со стороны облеченного властью», и в конце жизни он предложит для обсуждения план конституционной монархии, очень умеренный, но, по меньшей мере, призванный избавить от такого сорта деспотизма.
В 1797 г. Гегелю случилось определить деспотизм как «отсутствие политической конституции» (D 283), он забыл о том, сколько конституций остаются мертвой буквой, и сколько их, в действительности, узаконивает скрытый авторитаризм. Гегель прожил всю жизнь под деспотической властью. Пруссия, в которой он завершил свой путь, приняла конституцию лишь в 1848 г., после его смерти. Политическое мышление Гегеля намного опережало политическую реальность.
У него не было причин, ни в юности, ни позже, жалеть Людовика XVI. Гегель отвергает якобинскую диктатуру, но, конечно, не во имя монархии. Он, скорее, вместе с Гёльдерлином причисляет себя к лагерю жирондистов, с воодушевлением проголосовавших за смерть короля. К концу жизни он нанесет памятный визит генералу Карно в его немецком изгнании, цареубийце, одному из самых беспощадных «террористов», и отзовется о нем как о «приятном старике» (С2 295).
Окончание Штифта
Покидая Штифт, Гегель, Гёльдерлин и Шеллинг подняли свой собственный мятеж, однако внутреннего порядка и незначительный по масштабам.
После пяти лет обучения Гегель получил пасторское образование и мог рассчитывать на должность репетитора в Штифте по богословию и философии в надежде позже занять должность преподавателя в том же заведении.
По истечении первых двух лет он получил звание «магистра философии», успешно защитив диссертацию на тему: «Возможно ли исполнение нравственных обязанностей без веры в бессмертие души». После анализа имеющихся на этот счет разнообразных точек зрения, в ней в кантианском духе утверждается, что нравственность должна изучаться сама по себе, и что личные мнения ученого можно не принимать во внимание.
После трех лет изучения богословия Гегель становится «кандидатом по теологии», т. е. фактически кандидатом в пасторы. С этой целью он защищает диссертацию на тему, скорее, историческую: «Об испытаниях вюртембергской церкви».
Похоже, его судьба, как и судьба его товарищей, решена, но ему удается от нее ускользнуть.
У большинства биографов не возникает вопросов при соположении двух плохо совместимых фактов. Один из биографов пишет: «После того как Гегель выдержал кандидатский (на пастора) экзамен, он занял место домашнего учителя в Швейцарии»[79]. Но это все равно, что сказать — аналогия здесь полная — что, «выдержав экзамен на врача, молодой человек начал работать в аптеке»!
На самом деле решение Гегеля — результат крутого идеологического поворота, настоящий вызов судьбе, предсказуемый, впрочем, если проследить его интеллектуальную эволюцию.
Ссылка на то, что «пасторство было ему не по вкусу»[80], недостаточна, ибо тогда зачем ему было ввязываться в это дело? Позже он лицемерно будет утверждать, что пошел по этой дорожке «по желанию родителей», присовокупляя к этому оправданию довод совершенно иного рода, мол, у него была «склонность к богословию»[81]. Но когда он поступил в Штифт, он возненавидел этот сорт богословия.
Ни Гегель, ни Гёльдерлин, ни Шеллинг, ни многие их соученики по Штифту не пожелали стать швабскими пасторами или богословами. Гёльдерлин вскоре, когда для обоих настанут не лучшие времена, откровенно скажет Гегелю: «Если, в конце концов, однажды нам придется рубить лес или торговать притирками и ваксой, тогда; возможно, мы спросим себя, не лучше ли было сделаться преподавателями в Тюбингене. Меня воротит от Стипендиария (Stipendium, т. е. Штифт), он воняет на весь Вюртемберг и всю Баварию, как гроб, в котором уже копошатся черви» (С1 44 mod).
И это спустя три года по окончании Штифта, такое стойкое отвращение!
В результате три друга должны были устраиваться домашними учителями в знатные или богатые семейства, занимая положение, тяжелее и унизительнее которого была в их глазах только служба в Штифте.
Гегель был не из упрямых, долго стоять на своем его не хватало. Он был склонен к компромиссам, и даже к сделкам с совестью. Но всему есть границы: кем угодно, раз уж деваться некуда, но только не пастором! В лучшие свои религиозные минуты он полагает, что «позитивные» церкви предают «божественное начало». Вместе с друзьями он грезит о «Невидимой церкви», предреченной Лессингом и Кантом. От существующей церкви он будет держаться в стороне.
Причинами, на которые часто ссылаются для объяснения его отречения от пасторства, стало быть, следует пренебречь. Иногда упоминают об «отсутствии дара красноречия», вменяемого ему в недостаток. Но, с одной стороны, мы видели, что его друзья, кому подобные упреки не адресовались, не менее упорно, чем он, уклонялись от пасторства. С другой стороны, те, кто стали пасторами, набирались из наименее способных учеников, несомненно, также неловких и в искусстве проповеди. И, наконец, не Штифт и церковь его отвергли, но он сам motu proprio от них удалился.
Не каждому доброму лютеранину суждено стать пастором. Но что нам думать о религиозности человека, который долго и целеустремленно готовился к карьере богослова, мог достичь в ней самых больших успехов и на пороге предпочел свернуть в сторону и вступить на путь изгнания, сделав выбор в пользу тягостной и монотонной жизни домашнего учителя?
Покидая Штифт и Швабию, убежит ли он тирании?
V. Слуга
Думаю, лучше уж мне умереть, чем быть домашней прислугой […]. Тому положению, о котором вы мне говорите, я предпочитаю занятие самое жалкое и самое тяжелое, какое только можно вообразить, лишь бы сохранить свободу, когда мне придется искать здесь счастья.
Мариво. Жизнь Марианны
Жизнь тюбингенским семинаристам представала совсем не в розовом цвете. Но какой черной она станет потом, они и вообразить не могли. После окончания заведения они пытались избежать заурядной и унизительной участи, чуждой их натуре, но меняли шило на мыло. В конце концов они не выдерживали физически или нравственно. Приходилось уступать.
Пасторство Гегель упорно отвергал как занятие постыдное, средствами на жизнь он не располагал, а потому не оставалось иного выхода, как согласиться на место домашнего учителя. На самом деле он очень даже стремился такое место получить, и устройству предшествовал обстоятельный торг, касающийся жалованья и условий проживания. Речь шла о месте в одной патрицианской семье в Берне. Для гонимых нуждой молодых немецких интеллектуалов, чаще всего швабов, служба в Швейцарии стала такой же традиционной повинностью, как служба швейцарских наемников во французской армии.
Такое зависимое положение тяготило юные души, исполненные сознания собственного превосходства, честолюбивые, тщеславные. Какой контраст между самым возвышенным о себе представлением, притязаниями на безусловное духовное водительство, высокой субъективной самооценкой и объективным положением, печальной участью домашней прислуги. Сам себе господин и властелин целого мира во время ночных бдений, будущий философ изо дня в день терпит оскорбительную зависимость, живя в условиях, которые кажутся ему невыносимыми. Впору с ума сойти или стать циником.
Воздушные замки можно строить из идей, но для жизни нужна хоть какая‑то конура. Впрочем, конура, — это для красного словца, полагают, что в Швейцарии у Гегеля была своя маленькая на одного человека комната[82] — далеко не всем так везло, и хозяева были настолько снисходительны, что время от времени ему дозволялось сидеть на дальнем конце семейного стола.
Нужно признать, что хозяева сами часто оказывались в двусмысленном положении. Для своих дорогих крошек им нужны были лучшие учителя, и значит, самые умные и образованные из им рекомендованных. В этом смысле в лице Гегеля, Гельдерлина, Шеллинга они получали то, чего желали. Но им самим, чаще всего хуже образованным, не таким умным, лишенным столь высоких притязаний, в свою очередь приходилось испытывать тайное унижение в связи с интеллектуальным и моральным превосходством прислуга. Особенно, когда жены осмеливались сравнивать их между собой.
Домашний учитель безоговорочно считался прислугой, челядью (Gesinde), как прямо говорят об этом историки[83]. К концу XVIII века с таким статусом уже трудно мириться. Гегель знал о бунте Марианны из Мариво, чьи романы раскрыли ему многое в человеческой душе. Но для свободы нужны деньги. У него не было выбора, как его не было у умершего в 1791 г. Моцарта.
Домашний учитель, как и слуга, значимая фигура для немецкого общества конца века. Это может показаться странным. Слуги и учителя составляют незначительное меньшинство населения. Их роль в обеспечении основных условий общественной жизни далеко не так важна, как роль крестьян, гораздо более многочисленных, которые это общество кормят, или ремесленников и даже солдат. Однако в литературе эпохи чуть ли не об одних только слугах и речь; трудно найти театральную сцену, в которой им не отводилась бы главная роль. Дело в том, что литераторов, профессоров, публицистов в основном поставлял именно этот слой, а они предпочитали говорить о том, что хорошо знают и непосредственно пережили сами.
Унизительное положение
Удел домашнего учителя карикатурно описан в знаменитой пьесе Ленца (1751–1792) «Домашний учитель», которую Гегель знал. Ее играют еще и сегодня, даже во Франции. Молодой незадачливый простолюдин влюбляется в дочку своих хозяев, а то и в саму хозяйку. У Ленца история кончается кастрацией. Гёльдерлину во Франкфурте, неподалеку от Гегеля, вскоре придется пережить что‑то подобное, правда, до кастрации не доходит, но не исключено, что последствия были для него еще более жестокими.
Когда романисты эпохи изображают домашние дела, речь, как правило, идет о любовных взаимоотношениях: о любви учителя к служанке, лакея к маркизе, гувернера к жене банкира. И действительность, бывает, подражает выдумке, оказываясь даже более суровой: страсть Гёльдерлина к Диотиме обернется настоящей драмой.
Оценить степень отвращения к Штифту можно, лишь зная, на что пошли молодые люди, только бы не оставаться в нем. Позже Гегель мог сколь угодно смущенно признавать свое учительство результатом свободного решения, продиктованного «личными запросами»[84]. На самом же деле, он, выразимся иначе, свободно запродал себя, поскольку иного выхода не было.
Он знал, на что шел, соглашаясь «наняться к кому- нибудь слугой», «служить у кого‑нибудь». При том что особенно выбирать не приходится, он все‑таки выбирает. Лучше уж «торговать ваксой или колоть дрова», чем оставаться в Штифте, но также: лучше наихудшее рабство, чем «самое ничтожное ремесло», обеспечивающее хоть какую- то независимость…
Образ слуги (Knecht), легко уподобляемого рабу — символ подневольного состояния — занимает такое важное место в «Феноменологии духа», что кое‑кто даже хотел по существу свести всю книгу к знаменитой «диалектике господина и раба», буквально «слуги» (Herr und Knecht), развернутой в важной и оригинальной главе.
Но в данном случае нелишне вспомнить о том, что и сам Гегель был слугой, причем довольно долгое время. Он не просто стал слугой, он жил среди слуг, что совсем не должно было доставлять ему удовольствия, и наблюдал поведение слуг более низкого ранга, с которыми общался изо дня в день.
Удел домашнего учителя был общей судьбой многих молодых немецких интеллектуалов, привычка к этой барщине, однако, нисколько не меняла ее социального смысла и не делала менее унылой.
Гегелевская диалектика господина и слуги оригинальна и впечатляюща. Она фиксирует и неосмотрительно универсализует определенный социальный опыт и важный аспект культурного пейзажа. В то же время положение дел в этой диалектике искажено. Непременное присутствие лакеев, служанок, горничных воспринимается как подтверждение их фундаментальной общественной функции. Но в действительности оно обусловлено тем иллюзорным представлением, которое составили о самих себе основные действующие на исторической сцене лица.
Аристократ и богач напрямую общаются только с людьми состоятельными и с положением или же имеют дело с прислугой, включая управляющих, служащих им универ — сальными заступниками и посредниками. Лишь иногда они бросают рассеянный, за редкими исключениями, взор на своих крепостных, крестьян, «поденщиков», истинных производителей благ, обеспечивающих их привилегированное существование. Лишь в редких случаях появляются в комедиях и романах выставленные смешными нелепыми маргиналами крестьяне и поденщики.
По отношению к полностью зависящему от него слуге аристократ или богач порой тоже испытывает смутное чувство зависимости, даже можно сказать, что у них обоих извращенная тяга к такого рода зависимости. Чем бы был Дон Жуан без Сганареля или Господин без Жака Фаталиста? Сообразительность и плутовство позволяют слуге взять своеобразный реванш за свое рабство.
Положение слуги, какие бы формы оно ни принимало, ощущается как крайне унизительное теми, кто поначалу не представлял себе, что это такое, и у кого жизнь сложилась так, что он «оказался» в этом положении. Напротив, рабы по рождению принимают его без долгих раздумий и послушно, считая следствием некоего естественного закона.
Как водится, эксплуататоры также ссылаются на естественный закон, возлагая на обездоленных ответственность за закабаление: челядью делает не социальное принуждение, но естественная склонность. Слугами становятся те, кого страх смерти заставляет отступить перед ничего не страшащимся господином!
В некоторых отдельных, исключительных случаях, к примеру, в случае Гегеля и Гёльдерлина, имеет место нечто похожее. У них была возможность задуматься о пути, на который они вступают. Писатели ошибочно делают из этих особенных случаев общее правило и объясняют изъяны социального строя низкой моралью большинства.
Как следствие, ни Гегель, ни Гёльдерлин не предполагают отмены или преодоления рабского положения. Главным образом они сетуют на то, что несправедливо в него попали. Они‑то, конечно, заслуживают лучшего. Им бы не слугами быть, а самим их иметь.
Гегель, согласившийся «жить у кого‑нибудь» на правах домашней челяди, всегда будет настаивать на раболепстве слуги, на свойственной ему исходной низости, при том что сам согласился на такую же участь. Правда, что в течение шести лет учительства, сначала в Берне, потом во Франкфурте, он будет черпать силы лишь в желании и надежде бросить это занятие и приложит к тому немало усилий.
Такая предвзятая оценка объективной ситуации приводит к неправомерным выводам. «Чувствуя себя плохо в этой шкуре» — а им было плохо — несчастные униженные жертвы ополчаются не на положение дел как таковое, а на скверное поведение хозяев.
Домашний учитель учит детей своего хозяина в соответствии с его указаниями, но с ним самим обращаются как с ребенком. Хозяева, зачастую необразованные и спесивые люди, презирают тех, чьими услугами пользуются, и дают им это почувствовать. Ну а слугам, находящимся в положении, о котором они неспособны отдать себе ясный отчет, это не нравится.
Гёльдерлин сбежал от своего хозяина во Франкфурте не потому, что устал от роли слуги, но потому, что больше не мог терпеть, как неприкрыто ему указывают на его подчиненное положение. Ощущение унижения, бывшее следствием, значило для него больше, чем причина, — объективное состояние зависимости. Он поделился переживанием с матерью, и нужно думать, выразил, хоть и чересчур эмоционально, то, что было на душе также и у Гегеля.
«Высокомерное хамство… представление, что домашний учитель — та же прислуга…»[85], вот с чем не может смириться Гёльдерлин, не с социальным статусом прислуги, а с адресованными ему бестактными замечаниями, когда он забывается, претендуя на большее! И напротив, он без колебаний возлагает вину на крестьян, когда те пытаются немного облегчить гнет и нужду. Он пишет матери в 1798 г.: «Впрочем, беспорядки не обещают быть такими ужасными. Если крестьяне обнаглеют и устроят беспорядки, как вы опасаетесь, их сумеют усмирить»[86].
Эти амбициозные лакеи испытывают по отношению к «простонародью», к «землепашцам», одно лишь презрение, и тем большее, что сами они унижены теми, кто стоит на социальной лестнице ступенью выше.
Их раздражает, когда хозяева указывают им: «Вы всего лишь слуга!» — им нужно, чтобы с ними обращались по- другому: «Эксплуатируйте меня, но будьте при этом вежливы».
* * *
Свои отношения с последовательно менявшимися хозяевами, возможно, в чем‑то отличные от отношений Гёльдерлина со своими, Гегель характеризовал не в столь резких выражениях. Он вообще больше помалкивал на этот счет, и его молчание само по себе говорит о многом. Ни одного доброго слова, ни одного письма после отъезда, ни одного воспоминания ни о хозяевах, ни о детях. Он относился к ним еще неприязненнее, чем Гёльдерлин…
Гегелевская диалектика отношений господина и слуги, будучи шире описания простых отношений с прислугой, все же утверждает, что преодоление отрицательных сторон положения слуги не предполагает отмены оного. В самом деле, речь идет не об отмене отношений «наниматель- хозяин — наемный слуга», но только о «признании» в наемном работнике «человека».
Слепота по отношению к своему собственному положению позволяет хозяину уличать слугу в раболепстве, в котором, по здравому разумению, он должен был бы обвинять самого себя. Гегель был очень доволен одной из своих формул, которую случилось повторить самому Гёте: «Для лакея нет героя; но не потому что последний не герой, а потому что первый — лакей»[87].
При таком взгляде на вещи не избежать противоречий и путаницы.
Ни себе, ни Гёльдерлину он не мог вменить в вину наличие рабской души, а потому иногда приходилось объяснять положение слуги не природным раболепством, а как‑то иначе. В этом прямо касающемся его вопросе он разрывался между двумя противоположными решениями: одно проистекало из его собственного опыта, другое диктовалось выстроенной им теорией — теорией, которая норовила ловко воспользоваться кое — какими уроками жизни. В его случае трудно было сделать выбор. Но так или иначе, победу одержало то, что лучше согласовывалось с философским идеализмом.
Вообще же, стремясь покончить с рабством, иного средства, помимо заблаговременного духовного самовоспитания, Гегель не предусмотрел. Самое важное в диалектике господина и раба это то, что и тот и другой, поначалу пребывая в отношениях независимости и зависимости, непокорности и готовности уступить, со временем свои отношения преобразят. В конце концов, в ходе пышного диалектического развертывания (ибо диалектика достигает своих целей так же хорошо в воображении или во сне, как и в рациональном мышлении, или объективной реальности) они «признают друг друга» в правовом отношении равными. И может статься, пожмут друг другу руки, обнимутся и обольются слезами. После чего каждый отправится к себе: слуга в прихожую, хозяин в гостиную. Печальное зрелище, как, в сущности, и в «Острове рабов» Мариво.
Гегель разделяет широко распространенную иллюзию своего времени. Она родственна заблуждению Робеспьера, убедительно описанному и подвергнутому критике Жаном Жоресом[88].
Однако эти соображения, это помещение абстрактного человека в конкретные социальные условия жизни имели важные последствия и далеко не безобидный результат. Они означали поворот в понимании человеческого мира, характерный для конца XVIII столетия, он прихотливо сопутствует происходящим объективным переменам, с их едва ли поддающимся анализу сплетением субъективных и объективных факторов. Осознание себя человеком, обусловленное у слуги изменением его реальных отношений с господином, влечет за собой продолжение и способствует углублению начальных перемен. К тому же у Гегеля встречаются всевозможные противоречивые пометки, мнение его на этот счет на протяжении жизни менялось.
Гегель делается слугой как раз в то время, когда сам статус слуги становится предметом рефлексии. Это было подневольное общество, в котором процветало угодничество, и нужно было приспосабливаться или умирать. На самом деле никто или почти никто до 1789 г. не верил в возможность другой жизни и не мечтал о ней. И даже после 1789 г. самым непокорным порой приходилось смиряться. Фихте часто упрекали в строптивости и несговорчивости в связи с оказавшимся для него фатальным «делом об атеизме» в Йене. Изобрази он покорность, худшего удалось бы избежать. Все простые люди и даже великие писатели, адресуясь к вышестоящим, заканчивали свои послания уверением в покорности: «Ваш покорный слуга (Knecht)».
Пребывание домашним учителем ощущалось Гегелем как одна из форм рабства, тяжкое воспоминание о которой он сохранит на всю жизнь; ему последовательно пришлось испытать на себе разные формы подчинения, и трудно было решить, какая из них худшая. Учительство отличается лишь непосредственно очевидным характером повиновения. Однако зависимость может, принимая другие, более скрытые формы, быть еще жестче.
У Гегеля не было достатка Декарта, который, хотя и слыл человеком небогатым, имел прислугу: «У него было мало слуг, по улицам он ходил без свиты […] не носил шляпы с перьями и шпаги, каковых требовало его положение, и от чего в то время никак не мог уклониться человек благородный»[89].
С той поры, однако, статус философа в мире изменился, в философию пришло пополнение.
За исключением краткого периода нестабильности, вызванного Французской революцией, Гегель неизменно жил в строго иерархизованном мире, в котором всякий человек с более высоким статусом, более влиятельный или богатый, считал тех, кто располагался ниже, слугами. Этого всеобщего хамства к концу его жизни в мире станет еще больше; Гегель не поладит с прусским принцем королевской крови, уже тогда выказывавшим норов. Этот надменный недоумок, Фридрих Вильгельм IV, ставший королем вскоре после смерти философа, доведет в 1842 г. до сведения прусского населения, что все их имущество на самом деле составляет его наследственную собственность, которой он распоряжается по своему усмотрению, и что все население не только его подданные, но и слуги: «Я желаю править теми моими подданными, которые, как малолетние дети, в этом нуждаются, карать тех, кто позволяет сбить себя с толку, привлекать, напротив, к управлению моим имением тех, кто этого достоин, давать им право личного владения и защищать их от заносчивой наглости лакеев»[90].
На политику отца, Фридриха Вильгельма III, не повлияли ни гегелевская доктрина, ни кантовская концепция человека, изложенная в известной статье «Что такое Просвещение?». Да и сам Гегель всегда видел у лакеев одно лишь неоправданное «самомнение». Поэтому он, еще меньше, чем Кант, требовал отмены этого социального института и не предвидел таковой. Для этого нужно было бы совершить невозможное — во всяком случае, невозможное по тем временам — упразднить наемный труд.
Гегель требовал лишь того, что он именует «признанием»: признания равного достоинства всех людей, по закону и на словах, признания их равной «моральной» ценности, что, хотя и не затрагивало социальных различий, было важным шагом вперед.
Он выставляет только очень скромные требования, — такими они представляются нам сейчас, но в его времена они казались дерзкими и внушали опасения.
Открыто Гегель формулирует лишь, так сказать, идею минимума свободы, которая ныне выглядит очень робкой, но в то время вслух сказать больше было нельзя, и этой идеей можно было задеть короля, прусского принца крови, да и весь двор: «Затем люди, если они должны действовать для дела, хотят [они только „хотят”!] также и того, чтобы оно вообще нравилось им, чтобы они могли принимать в нем участие, руководясь своим мнением о его достоинствах, правоте, выгодах, полезности». И ему хватает смелости утверждать: «Это в особенности является существенным моментом в наше время, когда люди не столько привлекаются к участию в чем‑нибудь на основе доверия, авторитета, а посвящают себя тому или иному делу, руководясь собственным умом, самостоятельным убеждением и мнением»[91]. Так пусть же господа придумывают собственное оправдание установленных ими порядков! В их глазах слуги никогда не станут менее ленивыми, лживыми, наглыми, и никогда достаточно льстивыми. Если они повинуются, это угодливость. Если сопротивляются, — наглость.
Швейцария
И вот осенью 1793 г. Гегель отправляется в Швейцарию, великое путешествие для того, кто ни разу не покидал родного Вюртемберга, и довольно заманчивое, потому что Гельвецию многие считают страной свободы. Личный опыт быстро разрушит это заблуждение.
Но пока что его душа ублаготворена. Конечно, от тягот учительства и положения слуги никуда не уйдешь, но, коль скоро они неизбежны, следует радоваться хотя бы тому, что удалось получить место, благодаря которому у него будет досуг для продолжения любимых занятий, и немного гордиться тем, что выбор влиятельного бернского семейства, благодаря важным рекомендациям, пришелся именно на него.
Это время жизни Гегеля принято называть «бернским «периодом». Благоразумнее сохранить это название, ныне общепринятое, хотя оно и неточно и неверно. Нанявшая его семья Штайгеров отличалась от других Штайгеров — ибо их было несколько ветвей — местом проживания: Штайгеры из Чугга (Steiger von Tschugg), поскольку она владела поместьем Чугг (Аннет) возле Бьеннского озера, которое можно посетить и сейчас, хотя оно принадлежит больничному учреждению. Штайгеры, и с ними Гегель, проводили в Чугге большую часть года и, во всяком случае, лето. По- видимому, Чугг значил в глазах Гегеля так же много, как и Берн. Там он мог видеть из окна Бьеннское озеро, озеро Жан — Жака, а, преодолев несколько километров, легко оказывался в Нойшателе, прусском княжестве с относительно либеральным правлением, приютившем много свободных умов, изгнанных из своих стран. Также совсем близко была расположена страна Во, что‑то вроде кантона — слуги при кантоне — хозяине, Берне, которой однажды Гегель займется обстоятельно. По роду своей административной и политической деятельности Штайгеры были втянуты в нескончаемые распри между притеснителем, Берном, и притесняемым, кантоном Во.
Образ жизни домашнего учителя, полностью зависящий от прихоти хозяина, менялся вместе со сменой последнего. Учитель обязан был терпеть хозяйские причуды и настроения. Если уж доходило до крайностей, учитель бежал, и не то чтобы это не считалось неким правонарушением. Так, Гёльдерлину пришлось внезапно оставить несколько мест, одно за другим. После каждого такого одностороннего разрыва получить новое место оказывалось все труднее, и бедный поэт из‑за этого страдал еще больше.
Гегелю не случалось рвать с хозяевами, а может, он считал такое поведение неразумным. Другое место могло оказаться хуже. Но у Штайгеров он никогда не чувствовал себя комфортно; можно было устроиться и получше: друзья, центры немецкой культуры, университеты страны, библиотеки были далеко…
Гегелю было не по себе в чужих — географически и культурно — местах, в непривычном социальном окружении, с которым он до той поры не имел дела, не таким, как у него на родине, хотя тоже господским. В доме Штайгеров царил дух консерватизма, судя по всему, довольно умеренного, но все же очень далекого от революционной восторженности семинаристов из Тюбингена.
Берн был в те времена независимым, могущественным городом и занимал в Швейцарии доминирующее положение. Им управляла реакционная олигархия, жестоко угнетавшая другие кантоны и простой люд: «Две сотни», из которых Штайгеры составляли значительное число. Власть олигархии держалась на насилии и интригах. О степени ее самоуправства и высокомерия можно судить по уведомлению, остававшемуся в силе еще в 1793 г., которое бальи[92] Лозанны, представлявший власти Берна, направил в 1759 г. Вольтеру, позволившему себе шутки в их адрес: «Месье де Вольтер, говорят, вы пишите против Бога, — это плохо! Но, думаю, Он простит вас; а еще говорят, вы возводите хулу на Господа нашего Иисуса Христа, — это тоже плохо; но я все- таки думаю, что и Он гоже простит вам это по великой своей милости; но месье де Вольтер, остерегитесь писать против их Высочеств в Берне, наших верховных правителей, ибо, будьте уверены, они вам этого никогда не простят»[93].
Позже Гегель осмелится «писать против их Высочеств в Берне», но в то время, приехав в страну, он сначала должен был убедиться, что они не лучше герцога Вюртембергского.
Среди бернских олигархов Штайгеры часто оказывались самыми неуступчивыми, самыми беспощадными в борьбе со своими противниками. Прямой работодатель Гегеля, майор Карл Фридрих фон Штайгер (1754–1841), впрочем, от вершин власти уже отодвинутый, возможно, был исключением в семействе, поскольку придерживался довольно широких взглядов. Каталог его библиотеки, которой Гегель свободно пользовался, включает первоклассную литературу. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кем ты хотел бы быть…
Существует два мнения: одни считают, что Гегель не переносил атмосферу этого дома. Другие полагают, что ему у Штайгеров жилось не так уж плохо, поскольку они, на то похоже, и сами были против притеснений в Берне и на зависимых территориях, в отличие от остальных членов семейства. Какое же мнение справедливо?
Неведение — причина наших колебаний, оно по- прежнему скрывает от нас личность «принципала» Гегеля, и эго тем более обидно, что неведение устранимо. Должны же быть какие‑то свидетельства и документы. Чтобы ответить на вопросы достаточно было бы, чтобы какой‑нибудь исследователь, и именно швейцарский, уделил время и силы изучению соответствующих материалов.
Мы еще весьма мало знаем о жизни Гегеля в Швейцарии в течение, как‑никак, трех лет! Кого тогда могла заинтересовать личность домашнего учителя — иностранца, кто мог предугадать его будущую славу?
В Бернском кантоне царила атмосфера несправедливости, насилия, жестокости. Гегель вскоре это заметит: «Ни в одной другой стране не вешают, не колесуют, не обезглавливают, не сжигают на медленном огне столько народу, сколько в этом кантоне», — и добавляет на полях: «В Берне еще применяются пытки, и для вынесения смертного приговора не требуется признания преступника» (D 252)… Иллюзии насчет «свободной Гельвеции» рассеялись, но, похоже, Гегель все еще воображает, что в иных местах все не так плохо.
В итоге ситуация в Берне не могла вызвать у молодого философа желания сбросить маску, к которой он уже привык. Он по — прежнему прячет эссе, продолжая над ними работать, несомненно, рассчитывая на более благоприятные для публикации дни, — которые, впрочем, никогда не наступят. Он не сумел бы издать их ни в одной стране, разве что во Франции во время краткого хаоса Революции.
У Штайгеров Гегель должен был учить двух девочек и мальчика, все трое — еще малые дети. Сверх того он исполнял кое — какие мелкие поручения. Было ли это знаком особого доверия или, напротив, он был мальчиком на побегушках?
Служба у Штайгеров давала кое — какие преимущества. Лучше служить богатым и могущественным, чем бедным и слабым: ведь от достатка господ зависит положение слуг. Для наблюдений за общественной, политической и культурной жизнью дом этих патрициев оказался исключительно удобен. В этом смысле ему повезло, и он сумел воспользоваться случаем.
Он с интересом рассматривает предстающий ему феномен, — бернскую олигархию. Не улетая нимало духом в философские Эмпиреи, он уделяет много внимания — прямо с какой‑то страстью к конкретным вещам — самым что ни на есть реальным сторонам политической жизни. Его исследования насыщены критикой. Ненависть не менее прозорлива, чем любовь. Он изучает тем тщательнее, чем строже судит. При нем проходили выборы в кантональный совет Берна, он отмечает интриги и гнусный торг, посредством которых устанавливается абстрактная власть денег. Он выносит приговор в адресованных Шеллингу нескольких словах: «Творящиеся среди бела дня низости, махинации, после которых интриги двоюродных братьев и сестер при дворе не стоят упоминания, описать невозможно. Отец назначает сына или мужа дочери, за которым самое крепкое наследство, и все в том же духе. Чтобы научиться разбираться в аристократической конституции, надо провести здесь одну из этих зим, перед Пасхой, когда проходят дополнительные выборы» (С1 28).
Где осуществлялись эти делишки, — в штайгеровском семействе или в его окружении? Как бы, однако, ни вели себя хозяева, они принадлежали бернской аристократии, классу господ.
Наряду с вынесением моральных оценок, Гегель продолжает методично и очень детально, с привлечением статистики, исследовать швейцарскую финансовую систему. Разумеется, он оставляет эти исследования при себе. Их публикация, невозможная, оказалась бы опасным разоблачением властей. Одновременно его занимают размышления более общего характера, например об изменениях в ведении войн, связанных с переменой политического строя (R 62).
Неизвестно, в Швейцарии ли он начал — а может быть, даже в основном завершил — работу по переводу, составлению примечаний, сбору сведений, продолженную в исключительных условиях во Франкфурте, в связи с публикацией «Писем» Жан — Жака Карта, швейцарского революционера. Трудно представить себе, что мысль об этом пришла ему не в Швейцарии, в которой он мог собственными глазами видеть, как обстоят дела, каким гнетом — он так его осуждал — подавлена страна Во, в Швейцарии, где он мог встретить людей, о которых повествовал, и — кто знает — может быть, самого автора. Однако издание перевода состоялось в 1798 г., во время «Франкфуртского периода».
Какими бы тягостными или, хотя бы, малоприятными, ни были для него его педагогические обязанности, как бы сильно ни тосковал он по утраченной молодости — особенно когда сравнивал свою участь с судьбой своего друга Шеллинга, — как бы жестоко ни страдал от интеллектуального одиночества, он умел обратить свой досуг себе на пользу. Он продолжал свою теоретическую работу.
В Берне идеи Гегеля развиваются в направлении, в котором он начал размышлять еще в Тюбингене: причудливая смесь разного рода соображений на религиозные, исторические и политические темы.
Переписка, частично сохранившаяся, несомненно, выдает с достаточной откровенностью его умонастроение. Создается впечатление, что полное освобождение от религиозной опеки Штифта происходит тогда, когда он сталкивается с политическим устройством, ничуть не лучшим, чем порядки в Вюртемберге.
В письмах Шеллингу и Гёльдерлину он подтверждает свое враждебное отношение к Штифту, и в частности, — в язвительном тоне — к вольфианской, или догматически- христианской, философии, которой там по — прежнему обучают. Он прочит триумф адептам новой философии, кантианской: «Пока кто‑нибудь вроде Рейнхольда или Фихте не займет кафедры, толку не будет. Нигде старая система не охраняется столь преданно, как там» (С1 18 mod).
Гегеля раздражают богословы, к чьему сословию душа его никогда не лежала, но о которых он редко высказывался так грубо. Разве теперь они не пытаются присвоить критическую философию Канта, чтобы заставить ее служить своим обветшавшим догмам? Гегель делится неприязнью с Шеллингом: «Я думаю, было бы забавно поглубже разворошить плоды муравьиного труда богословов, спешащих укрепить свой готический храм выдержками из критики; надо перегородить им дорожки, выгнать их изо всех закоулков, служащих им укрытием, чтобы нигде они себе норы не нашли и им пришлось бы гулять нагишом при свете дня» (С1 22).
В текстах, написанных Гегелем в этот период, все больше и больше дает о себе знать влияние Канта, а также — все более очевидно — Фихте. В январе 1795 г. он объявляет Шеллингу: «С некоторых пор я вернулся к изучению кантовской философии, с тем чтобы научиться применять самые важные ее результаты к некоторым идеям, нам близким и привычным, или развертывать их в свете упомянутых результатов» (С1 31).
Это то самое время, когда Кант публикует «Религию в пределах только разума». Гёльдерлин, обосновавшийся в Иене, сообщает ему о своем увлечении Фихте, лекции которого он слушает. Шеллинг переправляет ему свои первые сочинения.
Гегель, со своей стороны, не слишком распространяется об исследованиях, продолжающих те, что были начаты им в Тюбингене. Они небезынтересны, и наверняка привлекли бы внимание его друзей.
Он по — прежнему интересуется судьбой политических и религиозных институций, обреченных после творческого взлета — и как раз в связи с успехом — на отмирание, превращение в обездушенные пережитки, в «позитивную» реальность. Дух живительный их покинул. Он анализирует именно таковой ход событий, типичный для крупных исторических феноменов — иудаизма, греческой и римской религий, христианства. Ясно ощущается, что этими воспоминаниями о прошлом движет интерес к современности.
Среди швейцарских рукописей одна — «Жизнь Иисуса» (1795) — неординарна. В изложении, стилизованном под евангельскую простоту, основатель христианства полностью уподоблен учителю кантианской морали. Он не творит чудес, не окутан тайной, учит внутренней свободе и человеческому достоинству, как это делал бы философ Просвещения, если бы был совершенен.
Другое важное произведение, написанное в это время и также только с очень большим запозданием ставшее известным публике, было названо «Позитивность христианской религии» (1796). Гегель рассматривает здесь христианские догматы и обычаи, те же, что были предметом критики Вольтера. Но он подходит к ним иначе, как бы изнутри.
Вольтер нападает на христианскую ортодоксию с внешней ей точки зрения, как неизвестно откуда взявшийся неприятель: при помощи метода «рассудка», как это называет Гегель, который иногда действует так же, все чаще совмещая этот метод с историческим и имплицитно диалектическим подходом. Вместо того чтобы опровергать христианскую религию извне, он показывает, как она развивается сама по себе в заданном направлении, обращаясь в собственную противоположность, порождая отрицания, которые поначалу, казалось, упали с неба идей, вечного и независимого. То, что при своем появлении было разумным, в этой отдельной религии, или в других религиях, со временем и в конкретном историческом контексте становится «позитивным»: слова, жесты, институции, утратившие по пути глубокий первоначальный смысл, — балласт, от которого истинная религия должна избавляться. В этой работе больше не осуждают обман, в ней разбирают идеологию.
И только позже Гегель заметит, что религия, если она не позитивна, вообще не религия. И тогда, вместо того чтобы окончательно распрощаться с позитивностью, оставшись при радикальном идеализме, он иногда будет пытаться свести их вместе: сосуществование тем более затруднительное и необъяснимое, чем более суров и нетерпим прежде был он сам к позитивности вообще. Отсюда эта странная доктрина «двойного языка» истины — «спекулятивной» для философов, «позитивной», или религиозной, для прочих людей!
При таком взгляде христианская религия подчинена в своем развитии некой необходимости, даже року, «судьбе», которая делает ее чуждой самой себе, враждебной своим первоначальным интенциям: «отчуждает от самой себя», но в Берне Гегель еще не пользуется этой терминологией. В представленной Гегелем религии она ускользает всякого творения и провиденциального управления. Произведение людей, она всякий раз, на разных этапах происходит из «народного духа» (Volksgeist) или из «духа времени» (Zeitgeist), который ее вынашивает и лепит по своему образу и в соответствии со своими нуждами.
В атмосфере гнета и подобострастия подобные взгляды сразу рассматриваются как заслуживающие наказания. Чтобы убедиться в этом, достаточно напомнить о том, что стало поводом для изгнания в 1799 г. Фихте из университета в Йене, самого либерального в Германии. Огромное «дело об атеизме», обвинения, клевета, полемика были спровоцированы заявлением, конечно, дерзким по отношению к общепринятому мнению, но безобидным в сравнении с тем, о чем тайно писал в Берне Гегель. Фихте заявлял: «Живой и действующий нравственный порядок — это сам Бог; другого нам не надо и по — другому мы его не можем понять. Ничто не подталкивает разум к выходу из нравственного порядка универсума и к допущению — посредством заключения от следствия к причине — особого сущего как источника этого следствия. Такое заключение — дело не здравого рассудка, но философского недоразумения»[94].
Выбор слов — дело свободное, кто‑то имеет полное право назвать христианством, или религией, такой взгляд на вещи, который заранее исключает саму идею личного бога и — a fortiori — представление о «сыне бога». Но кто‑то вправе отвергнуть такое понимание, что и делают власти Веймара под давлением духовенства и набожной публики. Они осудили автора этих слов, Фихте.
Гегель явно идет гораздо дальше Фихте в своем инакомыслии. Ему не требуется, как Фихте, явных внешних ограничений, он сам подверг себя радикальной цензуре. Его юношеские произведения, обнаруженные с опозданием, много более смелы и критичны по отношению к религии и политике, чем зрелое творчество. Вопрос в том, чтобы понять, сохраняют ли мудрые намеки поздних текстов что‑то от этой юношеской мысли, и не для того ли Гегель в конце концов смягчил или облачил в иные одежды свои заповедные мысли, чтобы хоть как‑то донести их до публики.
Библиотека Штайгера в Берне и Чугге не могла заменить больших библиотек немецких университетов. В нашем распоряжении каталог: все же она была достаточно богата, чтобы послужить с пользой Гегелю. Во всем его творчестве есть отсылки к произведениям, которые он читал или просматривал именно там.
Так, Гегель смог проштудировать в Швейцарии «Церковную историю» Мосгейма (1776), откуда он сделал значительные выписки; «Историю обеих Индий» Рейналя; «Историю Англии» Юма; «Исторические произведения» Шиллера; труды Монтескье и Гиббона, ставшие для него источником вдохновения (R 60).
Каким бы одиноким он ни был, как бы ни переживал одиночество, дружеских связей в Швейцарии он был не вовсе лишен. Общественная жизнь бурлила, особенно в княжестве Нойшатель, личной собственности прусского короля, а также в стране Во. Знаменитостей, местных и приезжих было полно, а Гегель всегда и везде умел подобраться к интересным персонажам. Но об этих швейцарских знакомствах у нас только отрывочные сведения.
Известно из его доверительной записки Шеллингу, что он встречается в Берне в 1794 г. с К. Э. Ольснером (К. Е. Oelsner)[95] — «Совершенно случайно» (С1 17) — пишет Гегель! Это мог быть только эвфемизм. Скромный немецкий учитель в знатном семействе Штайгеров не мог встретиться «совершенно случайно» и в обстановке, позволившей им побеседовать, с силезцем, известным своей преданностью Революции, вынужденным обстоятельствами покинуть Францию и являвшимся объектом внимательной слежки со стороны бернской полиции, как и все посещавшие его друзья или сообщники. Гегелевское «случайно» дает понять или сделать вывод о том, что эта встреча никак не была случайной. Впрочем, в то же самое время Гегель сообщает своему корреспонденту Шеллингу, что уже читал «Минерву» Аршенхольца со знаменитыми «Письмами» Ольснера.
Тем более очевидно, что нет никакой случайности в его визитах к швабскому художнику Зонненшайну. У последнего, рассказывает нам Розенкранц, были «улыбчивые жена и дочка, у них дома играли на пианино, пели, в частности, “Песни” Шиллера». Упоминание одной из этих «Lieder» (R 43) вносит больше ясности: это знаменитая «Ода к радости», которую друзья Гегеля пели после его отъезда в Берн «в память» о нем, та самая «Lied», которую торжественно и в полный голос распевали Гёльдерлин, Магенау, Нойффер с друзьями[96], повернувшись к Неккару. Масонские мотивы этой поэмы и ее революционный смысл были очень внятны современникам.
Жизнь Зонненшайна до той поры была сплошной чередой конфликтов с герцогом Вюртембергским: мятеж, полицейские и юридические преследования, убежище в Швейцарии, требование экстрадиции со стороны Вюртемберга, отказ швейцарских властей и т. д.
Розенкранц считает нужным добавить, что некий Флейшманн «разделял эти невинные (harmlos) семейные забавы». Были ли в самом деле столь невинными эти посещения?
В июле 1796 г. Гегель с товарищами, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они были саксонцами, предпринимает путешествие в бернский Оберланд. По этому случаю он, следуя моде, пишет «Путевой дневник». Он записывает в нем свои непосредственные впечатления, которые часто любопытным образом отражают его философскую позицию и личные вкусы. Никакого намека на «романтическое» любование дикой природой. Напротив, взгляд Гегеля оказывается чисто «утилитаристским»: его интересует, как выделывают сыры и как их продают, стараясь надуть покупателя. Совершенное презрение к вызывающим восхищение у его современников величественным горным вершинам. Позже он скажет, что «вечные горы не величественнее цветка быстро осыпающейся розы с ее короткой жизнью»[97]. Пока же он замечает недвижность огромных горных масс. Нет движения, нет жизни: Es ist so! (Вот так), больше о них ничего не скажешь (D 224).
Зато он очарован зрелищем водопада в Рейхенбахе, который уже вдохновил Гёте на стихи: «Песнь духов над водами». К мыслям, навеянным шиллеровскими «Письмами об эстетическом воспитании», он добавляет «диалектическую» метафорику. Этот роскошный водяной каскад являет собой образ «вечно того же», которое вечно иное (R 44). Несомненно, он припоминает изречение Гераклита, переводя его на язык современности. Сколько силы в этом могучем движении вод, сколько жизни! Гегелю претит все неподвижное, застывшее, мертвое. Лучше бы оно двигалось.
Жизнь горцев внушает ему мрачные мысли и сомнения по поводу расхожих мнений о целесообразности в природе. Не похоже, чтобы природа стремилась благоприятствовать человеку, не для него она создана: «Сомневаюсь, чтобы даже самый верующий богослов осмелился приписать природе этих гор такую цель как польза человеку, ибо с трудом вырывает человек у нее крохи для своей скудной жизни», и т. д.[98]
Гегель все больше убеждается в том, что одно лишь общество и только оно создано людьми и для людей, но что оно в конечном счете еще сквернее природы!
Насколько можно судить, Гегель многое узнал в Швейцарии — из книг и из опыта, но там ему не слишком понравилось, его не устраивало собственное положение. С ним всякий раз, везде и всегда именно это и будет случаться, всю жизнь вплоть до конечного возвышения в Берлине.
Всякий раз, когда Гегелю ценой определенных усилий и благодаря терпению удавалось найти место и должность, он по разным причинам спешил их оставить. Нетрудно представить себе, как скоро ему захотелось уехать подальше от Берна, Чугга, Швейцарии и Штайгеров.
Он чувствует себя созревшим, лучше подготовленным, более сдержанным. Возможно, он еще не совсем понимает, что приобрел благодаря этому трудному опыту.
Все еще склонного к самообману, его ждут разочарования.
VI. Переписка
Письма вскрыты. Надеюсь, больше такого не будет. Но будьте добры, осматривайте очень внимательно конверт!
Фихте Шеллингу[99]
Частная переписка великих очевидно являет собой особо ценный источник для тех, кто хочет знать, о чем они думали. Она говорит о том, о чем они прилюдно молчали.
0 трехлетнем пребывании Гегеля в Швейцарии прямых свидетельств у нас почти нет. К счастью, о состоянии его духа, конечно же, повлиявшем на дальнейшую жизнь, мы отчасти знаем из семи сохранившихся писем друзьям, а также из десяти полученных от них ответов, — пяти от Гёльдерлина и пяти от Шеллинга. Если бы в те времена рычал телефон, а тайного прослушивания и записей разговоров не велось бы, мы бы не знали о швейцарском Гегеле вообще ничего.
Содержание этих писем, своеобразие и независимость изложенных в них мыслей, воинственность обескураживают читателей, в чьих умах давно сложился растиражированный традицией ложный образ Гегеля. Кто и как уберег эти письма от исчезновения, восстановил, хранил так долго? Это мог быть только друг и сообщник. Скорее всего, Гёльдерлин, очень на него похоже, и — с меньшей вероятностью — Шеллинг, первыми позаботились о сохранности компрометирующих посланий.
Чтение писем позволяет оценить, насколько далеки были тайные мысли Гегеля от того, что дозволялось произносить вслух в окружении, среди которого он жил. При всех он должен был выказывать услужливость, набожность, уважительность; сам с собой он мог немного отпустить поводья, дать выход возмущению. Заметим, однако, что, даже будучи откровенным, он осторожничает, часто говорит намеками.
Дело не в условностях эпистолярного жанра, есть много примеров того, что при случае Гегель умел выражаться достаточно ясно, когда было можно и ему этого хотелось.
Часть писем Гегеля, скорее всего, пропала. Не все его адресаты были с ним так почтительны, как Гёльдерлин и Шеллинг. Было бы очень странно, если бы он за эти три года никому, кроме них, не писал, ни отцу, ни брату, ни даже сестре, ни старым приятелям по Штифту, к которым был сердечно привязан.
Эти «Швейцарские письма» составляют, таким образом, исключение среди многих пропаж. Проблемы, возникающие в связи с ними, во всех отношениях специфические. Хотели они того или нет, биографы были вынуждены считаться с ними. Кроме того, это хороший повод проанализировать переписку Гегеля в целом, обилие писем, накопившихся за всю его жизнь.
Десятилетиями Гегель писал письма очень разным и очень многочисленным адресатам. Их посмертная публикация в свою очередь стала увлекательной историей. Некогда они составили три толстых тома в очевидно неполном издании. Неизвестные ранее письма Гегеля продолжали находить повсюду.
В целом эти письма исключительно богаты содержанием; их прямота позволяет подтвердить или опровергнуть известные пункты экзотерической доктрины философа. Широко, но все еще недостаточно использованные, они предоставляют богатый материал для серьезного комментария к ней.
Среди них попадаются необычные письма со странными, труднообъяснимыми замечаниями, методически правильно было бы обратить на них особое внимание.
Тем не менее это не повод оставлять без внимания или недооценивать обычную переписку именитого философа, профессора, отца семейства, сослуживца, зачастую ведущего себя точно так же, как и все прочие. Более или менее банальные, эти письма, однако, существуют, превосходят числом остальные и требуют признания своего места и роли. Гегель похож на своих современников во многих отношениях, даже когда особо присматриваешься к тому, что отличает его от них. Об этом не надо забывать.
Так или иначе, швейцарские письма сильно отличаются от большинства тех, что Гегель будет писать позже из тех мест, в которых ему доведется жить. Еще больший контраст с рукописями, относящимися к тому же периоду, впрочем, тоже не такими уж смиренными.
Что в них больше всего поражает, помимо общей протестной тональности, так это отвага их автора, поверяющего бумаге официально наказуемые заветные мысли. Не очень‑то было принято в те времена изливаться в письмах, которые вскрывались полицией почти повсюду без всякого стеснения.
Три тюбингенских товарища наивностью не страдают, их весьма беспокоит надежность их почты. Обычно подозрительные, тут они, однако, оказываются очень доверчивыми. Шеллинг, несомненно, поделился с Гегелем опасениями в ныне утраченном письме, и последний его всячески успокаивает: «Меглинг недавно сказал мне, что все письма в Швейцарию вскрываются; но я тебя уверяю, вы можете быть совершенно спокойны на сей счет» (С1 18). Откуда такая уверенность? Ее причиной могли быть только заверения некоего высокопоставленного лица.
Коль скоро, однако, сомнения остаются, три приятеля прибегают к кое — каким предосторожностям. Они используют тайные формулы, ключ к которым есть только у них. Кое‑что они оставляют для беседы при личной встрече. Так, Шеллинг, сообщив о предосудительных, на его взгляд, богословских начинаниях, считает неуместным распространяться далее на эту тему: «Когда‑нибудь я тебе расскажу об этом периоде; думаю, что знаю тебя, лучше, чем кого‑либо. Бьюсь об заклад, для тебя это будет потрясением» (С1 31).
Никто из авторов писем не уточняет значения выражений, к которым они стали прибегать еще во время пребывания в Штифте. Можно предположить, что там между ними, а равно и другими соучениками, образовалось что‑то вроде тайного сговора интеллектуалов, скорее всего, идеального и чисто символического, но также не исключено, что и — хотя формальных доказательств тому нет — реального и действующего. Тогда‑то и был придуман их словарь.
Почти с маниакальным упорством они употребляют слово Bund (альянс, союз, ассоциация, объединение), как правило, обозначающее некое сообщество. Вместе они стремятся к установлению «Царства Божия» на земле, но неизвестно, каким они себе его представляют. Единодушно присоединяются к «Невидимой церкви». Гегель напоминает об этом Шеллингу: «Да приидет царствие Божие, и да приложим мы к этому руку […]. Разум и свобода — по- прежнему наш девиз, и Невидимая церковь остается для нас общим домом (Vereinigungspunkt)» (С1 23).
Выражения, заимствованные из языка религии, здесь очевидным образом обретают какой‑то другой смысл, остающийся неявным, к которому нельзя придраться какому- нибудь бестактному полицейскому.
Комментаторы писем отсылают в этой связи к тексту проповеди, прочитанной Гегелем в Тюбингене и посвященной идее «царства Божия», согласно Евангелию (Мф. 5:1–6) (D 179 sq.). Достаточно интересная сама по себе, эта отсылка никак не проясняет смысла терминов, употребляемых явно в иных значении и контексте. Если нас хотят убедить в чисто религиозных намерениях автора, то ссылка убеждает в обратном, поскольку делается очевидным иное понимание термина. Французский переводчик поступил мудро, без шума убрав эту неуместную ссылку (С1 386). Да, конечно, и там и тут царство Божие, но для проповедника оно располагается исключительно в душе верующего, для штифтлера — и впрямь на земле как «дело рук»! Понятие «Невидимой церкви» знало самые разные, и среди них несовместимые толкования. Похоже на то, что все трое штифтлеров вкладывали в этот термин единый смысл, продиктованный их особыми убеждениями. Так или иначе, это смысл, противоположный понятию «видимой», сложившейся, «позитивной» церкви. Наряду с видимой церковью, фактическим объединением людей, Кант выделял церковь невидимую, «простую идею союза всех честных людей, руководимых божественным управлением»…[100] Но Гегель, видимо, все‑таки мечтает о построении этой «Невидимой церкви» на земле.
Реальная Невидимая церковь может быть только подпольной. Об этом думает Гегель? Слово Vereinigung часто означает нечто позитивное: некое сообщество.
Если уже Кант употреблял понятие «Невидимой церкви» в разных смыслах, то другой автор обращался с ним еще смелее. Лессинг, предмет восхищения Гегеля, постоянно им цитируемый, подразумевал под ним франкмасонство, как он себе его представлял. В «Эрнсте и Фальке, масонских диалогах» (1778), охарактеризовав образцовых, по его представлению, людей, он добавляет: «И раз эти люди живут не в полной изоляции, однажды они перестанут быть Невидимой церковью»[101]… тогда все увидят, что они составляют франкмасонское братство, которое явится при свете дня! У читателя Лессинга не должно было оставаться ни тени сомнения: Невидимая церковь — это франкмасонство. Масоны, как он их понимает, образуют ныне «Невидимую церковь».
Гегель, Гёльдерлин, Шеллинг прекрасно знали эти тексты. И даже если они употребляли термины в смысле, далеком от того, который вкладывал в них Лессинг, они не могли не иметь в виду также и этого значения. При этом они всегда склонны употреблять традиционные религиозные формулы, помещая их в контекст, затемняющий и нейтрализующий их религиозный смысл, но не лишающий их этого смысла полностью. Так, Гёльдерлин в письме 1795 г. их общему другу Иоганну Фридриху Эбелю (1764–1830), демократу, революционеру, просветителю, говорит о своих надеждах: «Мыслящие люди, Вы это знаете, должны общаться между собой везде, где заметно малейшее дыхание жизни, объединяться во всем, что не подлежит отторжению, с тем чтобы этот союз, эта Невидимая и воинствующая церковь произвели великого Сына Времен в тот День из дней, о котором человек — ему принадлежит моя душа — (апостол, столь же мало понятый современными эпигонами, сколь мало они понимают самих себя) говорит, что это будет Пришествие Господне. Я должен остановиться, а то не остановлюсь никогда…»[102]
Начало этого отрывка подхватывает идею, используя почти те же выражения, масонского призыва Лессинга. Гёльдерлин просит Эбеля приветствовать от его имени этих «достойных друзей»…[103] Текст письма можно соотнести как с письмом Гёльдерлина Гегелю от 10 октября 1794 г., действительно с ним созвучным, так и с посланием апостола Павла (I Фес. 4, 15), из которого позаимствованы некоторые слова: совершенно очевидно, что явные религиозные аллюзии имеют в виду что‑то другое. Гёльдерлин, при случае, мог бы сослаться на первый смысл, но какие изменения он претерпел в этом несообразном окружении? Кто этот человек, которому принадлежит душа Гёльдерлина? Что может знать о нем Эбель? Чем объяснить эти Сивиллины пророчества? Гёльдерлин пользуется если не, собственно, шифром, то, несомненно, условным языком. Будучи замеченным у лиц, уже находящихся на подозрении, он только бы укрепил подозрения. Герцог Вюртембергский вскоре сорвет крупный заговор революционеров. Его полиция всюду ищет заговорщиков. Как бы она истолковала — ошибочно или нет — «День из дней»?
В политике, в религии Гегель двусмыслен и осмотрителен. Трудно сказать, где здесь интеллектуальная робость, а где тактическая трезвость. Его письма изобилуют успокоительными выражениями, он придерживается того, что называет «узаконенной (философски) нуждой Бога в нас» (С1 22)…
Но в том же самом письме он может наброситься на богословов. Рассыпаться антиклерикальными, революционными, дерзкими заявлениями. Попади эти послания в руки Штайгеров, их величеств из Бернского совета, кантональной полиции, швейцарских пасторов, что подумали бы они о таком странном «духовном наставнике»?
Осмотрительность
После пребывания в Швейцарии Гегель никогда больше не распахивал своей души в письмах, доверенных почте. В этой стране он пользовался особым положением, по крайней мере так ему казалось.
В разные годы проживая подле близких, Гегель не будет писать им: бумага осталась чистой, а отзвучавшие слова растаяли в воздухе. Время шло, круг общения менялся. Гельдерлин неотвратимо погружается в безумие. Шеллинг, увлеченный соперничеством, и, как следствие, нарастающей враждебностью, от него отдаляется. Гегель обращается к новым коллегам или возобновляет старые знакомства, например, с Кнебелем. Но в первую очередь именно с Иммануэлем Нитхаммером (1766–1848), сотрудником Фихте в Йене, влиятельным баварским администратором — с ним Гегель уже встречался во время учебы в Тюбингене — поддерживает он интересную переписку до тех пор, пока, после переезда философа в Берлин, и эта связь, в свой черед, не ослабевает.
После Реставрации, живя при политических режимах, держащихся на полицейских порядках и подавлении свобод, Гегель и его корреспонденты должны будут соблюдать осторожность. Один лишь факт такой сознательной предусмотрительности говорит об оппозиционном, протестном, читай подрывном, характере их мнений.
Полиция не только тайком вскрывала письма, иногда она это делала официально. Во времена преследования иллюминатов, главным образом, хотя и не исключительно, между 1784 и 1790 гг., на баварской почте были созданы специальные бюро по перлюстрации переписки. Множество людей подверглось преследованиям в судебном порядке вследствие такой практики. Люди благоразумные — а Гегель был из их числа — по крайней мере знали, с кем имеют дело.
Эта практика, всем известная в Баварии, более или менее регулярно, хотя и не столь открыто, применялась во всех немецких государствах, а в конечном счете во всей Европе. Так, в 1790 г. полиция потревожила Мовильона, известного Aufklärer’a, просветителя, друга Мирабо, товарища юного Бенжамена Констана в Брюншвиге, потом знаменитого иллюмината, в связи с некоторыми его взглядами, ставшими ей известными, благодаря перлюстрации его писем. Дроз напоминает об этом деле: «Цензуре подлежит также и корреспонденция. В 1790 г. ландграф Гессе велел вскрыть два письма друга Мирабо Мовильона, одно библиотекарю города Касселя Кюту, в котором он писал, что французская революция распространится на всю Германию, и другое — канцлеру Кноблауху в Нассау — Дилленбург, клеймящее союз богословия и деспотизма. Ландграф заставил Кюта [адресата письма!] подать в отставку и потребовал от компетентных властей привлечь к ответственности Мовильона, а при случае и Кноблауха…»[104]
Этот пример, взятый из тысяч подобных только потому, что он касается важных персон, с которыми не принято вести себя так бесцеремонно, как с остальными, показывает достаточно ясно, какому риску подвергали себя «три товарища» во время пребывания Гегеля в Швейцарии, обмениваясь в письмах мнениями, вполне совпадавшими со взглядами Мовильона.
Также из‑за письма, адресатом которого он был, надолго посадили в тюрьму «репетитора» Гегеля, его ученика и друга Хеннинга (1791–1866)[105]. Почти все подозреваемые и обвиняемые, судьбой которых столь живо будет интересоваться Гегель в Берлине, будут задержаны в связи с высказываниями, содержавшимися в письмах, вскрытых или изъятых полицией.
В такой ситуации первая и естественная, хотя и радикальная, предосторожность состоит в отказе от переписки. Тот, кто хорошо знаком с письмами Гегеля, отчетливо ощущает, что иногда он прибегал к этой мере, поскольку в некоторых письмах присутствуют неясные намеки на те или иные сведения, отсутствующие в предшествующих письмах, переданные, по — видимому, иным способом, скорее всего устно, путешественниками или дружескими посланниками.
Другая благоразумная мера — миновать официальную почту, использовав для передачи писем поездки друзей. Гегель знает, что его курьера, как и посланника его друзей, проводят в «черный кабинет». Нарочными — сам Гегель говорит: «телесными вестниками», т. е. вестниками из плоти и крови (leibhaftig) — выступают коллеги или студенты. Это главным образом кандидаты, сдающие экзамены и переезжающие из одного университета в другой, обеспечивая функционирование того, что Гегель и Нитхаммер называют Kandidatenpost, добровольной и конфиденциальной «кандидатской почтой».
Гегель внедряет этот способ переписки: «Для такого общения я полагаю необходимым пользоваться не публичной и открытой (öffnende), но частной и закрытой почтой» (С2 80). Замечено, что Карл Гегель опустил эту фразу в своем грубо подчищенном издании 1887 г. «Писем» отца[106]. В то время было еще рискованно объявлять, что Гегель вел в некотором смысле подпольную переписку, и упоминание «открытой» почты походило на разговор о веревке в доме повешенного. Но очевидно, что из‑за таких опущений образ Гегеля искажался, оказываясь приглаженным.
Не полагаясь на «открытую почту», Гегель поступал мудро — ведь он провозглашал торжество светского духа, великодушно приписывая его протестантизму («наши университеты и школы — это церкви»), и подвергал суровой критике княжеский произвол, «акты насилия со стороны властей» (С2 82) (12 июля 1816 г.), от которых только что пострадал Нитхаммер. Но даже после такого прямодушия он дает понять, что сказано далеко не все и недостаточно отчетливо, заканчивая или прерывая изложение почти ритуальной формулой: «Но довольно уже об этом, и так много наговорено» (С2 84). Достаточно намека, догадливый читатель сообразит сам. Примерно так заканчивает Гегель свое очень резкое письмо против Реставрации, датированное 5 июля 1816 г.
В письмах, тайком пересылаемых посредством Kandidatenpost, их автор не вполне откровенен. В письме, направленном против Реставрации, кое‑что остается неясным. К тому же адресат не пожелал сохранить его полностью, и оно дошло до нас изувеченным. Можно предположить, что вырезанные места были более компрометирующими, чем оставшиеся.
В некоторых случаях Гегель прибегает к еще более осторожным и хитроумным способам. Например, в 1825 г. в переписке с Карлом Ульрихом, этим восторженным Burschenschaftler’oM. Ульрих должен был покинуть родину, тем не менее Гегель поддерживает с ним переписку, опасную как таковую, и к тому же довольно рискованного содержания. Надлежаще предупрежденный, он отправляет письма третьему лицу, взявшемуся передавать их настоящему адресату.
Ульрих называет посредника в письме, которое Гегель, к счастью для нас и с большой опасностью для посредника, сохранил: «Будьте добры отправить письмо (которое я как обычно разорву, внимательно прочитав) господину Экхарту» (С2 287).
Обращение с письмами Гегеля требует, по крайней мере в том, что касается особенно животрепещущих тем, величайшего внимания и величайшего недоверия. Истинные смыслы в них зачастую специально затушеваны и потаены. Далеко не всегда сказанное следует принимать за чистую монету. Часто приходится подыскивать какой‑то другой язык, помещать сказанное в иной контекст. Авторы не только не говорят всего, что думают, изъясняясь по преимуществу намеками, опасливо маскируя смысл сказанного, но порой из тактических соображений говорят ровно противоположное, чтобы хоть как‑то уравновесить смелость отдельных фраз.
Так, Лихтенберг, писатель, которым Гегель восхищался и которого он цитирует в «Феноменологии», в одном из писем ловко скрывал мятежные настроения — в данном случае согласие с некоторыми политическими взглядами Форстера — за чрезмерной и лицемерной хвалой правлению, при котором ему выпало «редкое счастье» жить! Адресат письма, Земмерлинг (1755–1830), иллюминат, друг Гёльдерлина, не мог ошибиться: он знал о давней неизбывной ненависти Лихтенберга к этой власти![107] Удалось ли ему обвести полицию вокруг пальца?
Тем, кто знал Гегеля, несомненно, удавалось разгадать смысл сказанного, хотя бы написанное и опровергало его подлинные мысли. Современный читатель часто смущен — он не понимает, перед ним искреннее ли признание, дипломатическая маска или более или менее горькая ирония?
В письме от 29 мая 1831 г. издателю Котта вскользь говорится о тогдашней ситуации. Перечислив очень щекотливые политические вопросы, которыми занимался живший в Мюнхене Котта (свобода печати, смешанные браки и т. д.), Гегель замечает, что немецкие князья начинают ощущать неудобство из‑за французских свобод, которым прежде стремились подражать, а ныне создающим им трудности. И добавляет: «На днях король, возвращаясь после смотра вольтижировки, едва смог помешать тому, чтобы находившиеся на улице люди — народ, что называется — распрягли лошадей его экипажа и сами довезли его до дворца. Призвав народ не уподобляться тягловому скоту и заявив, что в противном случае ему придется идти пешком, он смог, наконец, продолжить свой путь в экипаже, сопровождаемый рукоплесканиями» (С3 293).
Не исключено, что Гегель в какой‑то миг позволил этой двойной нелепости — смехотворному поведению народа и короля — растрогать себя. Однако он только что узнал, что специальным рескриптом этого самого короля была внезапно запрещена публикация последней части его статьи о Reformbill…
В конце того же письма Гегель поведал Котта о кончине королевского цензора без особых, судя по всему, сожалений: «Наш всемирно знаменитый цензор Гранов умер тому несколько дней — но цензура не умерла вместе с ним — оплаканный, согласно уведомлению о кончине, теми, кого он оставил (уж не рукописями ли, которые он не успел проверить?)» (С3 294 mod).
Гегель проявляет большую сдержанность в ответах людям, впервые к нему обращающимся, с которыми он не был знаком. Это не должно удивлять. Нелепо открывать душу первому встречному. Но не исключено и то, что он сделал для себя выводы из истории с Блюмауэром. Пытаясь проникнуть в тайные общества, полиция отправила за подписью последнего, очень сомнительной, фальшивое письмо, составленное ею же, дабы побудить адресата, известного революционера и иллюмината, барона Книгге ответом разоблачить себя. Провокация была не вполне успешной. В отправленном Книгге и тотчас перехваченном полицией ответном письме не было ничего, за что она могла бы зацепиться, несмотря на провокационный характер вопросов в фальшивке: никаких списков лиц, которых сразу можно было бы задержать! Замысел был разгадан, враг изобличен[108].
Корреспонденты Гегеля умели читать между строк, его комментаторы часто гораздо более наивны.
Нужно сказать, что литераторы той эпохи скрытничали порой весьма неумело. Они путались в собственных хитростях. Бывало, что они предупреждали о вскрытии писем… в тех самых письмах, которые они доверяли почте. Так, Фихте предостерегал Шеллинга; естественно, полиция считает, что предостерегает тот, кому есть что скрывать. Вот так рождаются подозрения и подозреваемые.
Не без удивления мы обнаруживаем такую же оплошность у Гегеля, в письме супруге, женщине столь простодушной. Он едет в Австрию, в разгаре «дело Кузена», и вдруг ему приходит в голову предупредить госпожу Гегель не посылать ему компрометирующих писем. Но пишет он ей об этом в письме, которое по сей причине как раз и ставит ее под подозрение: «Кроме того, не забудь, что в Австрии письма читают, так что никакой политики…». Зачем предупреждать полицию насчет того, что у госпожи Гегель могут появиться предосудительные намерения? Гегель спохватывается и спешит поправить ситуацию, добавляя и усугубляя промах: «…чего бы ты и так не сделала» (С3 47 mod)! Наверное, это последнее, о чем стоит говорить в письме, если заведомо известно, что полиция вскроет конверт.
Корреспонденты Гегеля также совершали подобные оплошности: упоминание во «вскрываемых» письмах о возможных «недомолвках» философа, о тайных доктринах, эзотерических учениях. И как раз в то время, когда злые языки обвиняли его в тайном распространении еретической философии и подстрекательских идеях.
Свидетельство тому — письмо Гешеля, доброжелательное, но опасное.
В 1829 г. в Берлине появилось полуанонимное сочинение «Афоризмы о не — знании и об абсолютном знании в связи с исповеданием христианской веры. В помощь изучающим философию наших дней, Карл Фредерик Г…ль». Его автором и был Гешель, судебный советник в Наумбурге. Гегель одобрил труд, поскольку автор пытался доказать в нем согласие гегелевской философии с христианской религией. Труд появился вовремя — именно тогда, когда авторы разных публикаций злонамеренно пытались приписать учению Гегеля антихристианский характер. Гегель получил возможность при случае сослаться на эту работу, оправдывая себя в глазах общественного мнения и властей. Гешель давно интересовался философией Гегеля и вполне мог считаться его учеником. Проводя различие между разными способами соотнесения знания и веры: отдающим предпочтение вере перед знанием в ущерб последнему, как это свойственно простонародью, или предпочитающим абсолютное знание, радикально противостоящее верованиям — Гешель приписывает Гегелю заслугу восстановления согласия между знанием и верованием и отводит от него любое обвинение в пантеизме. Очень своевременное выступление!
Гегель ограничился тем, что приветствовал публикацию Гешеля в статье, помещенной в «Анналах научной критики», и от всего сердца поздравил ее автора: «Угроза досадного впечатления пристрастности в оценке собственного дела не может помешать автору заметки говорить со счастливой признательностью о содержании [этого произведения] и о поддержке, которую он оказал и окажет истине; тем более она не помешает ему пожать, наконец, с благодарностью руку автора, с которым он лично не знаком, ибо написанное теснейшим образом связано с его трудами на благо спекулятивной философии» (В. S. 329).
Правда ли, что нашелся человек, который счел его воззрения невинными и безопасными? Должны ли мы буквально понимать хвалебные речи Гешеля? Все не так просто.
Гешель, похоже, был не слишком уверен в своей правоте. Он изложил и защитил то, что считал экзотерической философией Гегеля, и в одном из писем он радуется гегелевской похвале. Одновременно он ставит вопрос о значении философии Гегеля в целом, ибо этот «ортодоксальный» толкователь публичной философии Гегеля не может поверить, что за ней не скрывается другая, тайная доктрина, в связи с чем поверяет мэтру подозрения, каковые одновременно суть надежды, — и все это в письме!
Громоздко и пространно говорит он о том, какой исключительный интерес представляло бы для него устное общение с Гегелем, оно позволило бы ему понять те мысли, которые философ не захотел доверить бумаге: «Кстати, я обрел бы источник радости и возможность совершенствования, если бы в будущем году смог повидаться с Вами, господин профессор, я мог бы задавать вопросы и слушать Ваши ответы; содержание Вашего последнего письма, столь поучительного, и предисловие к 3–му изданию Вашей Энциклопедии, в связи с размышлениями д—ра Мархейнеке, которого я высоко чту […], доставили мне в этом смысле богатый материал. Написанное и застывшее слово всегда будет уступать живому раскованному общению, при котором досадные недоразумения тут же устраняются и заполняются возможные пробелы.
К примеру, мне очень хотелось бы поговорить с Вами насчет особого места философии, которое Вы, как кажется, предписываете ей вместе с Цицероном, это непросто понять, если Вы рассматриваете философию наподобие божества Эпикура, которому ни до чего нет дела, или как суровый уход “в покойные и святые тайники сердца” — хотя Вы недвусмысленно отвергли и то, и другое. Правда, что философии часто именно это и приписывают, хотя из этого не следует, что она не должна протестовать против этого приговора» (С3 278–279).
Гешель обнаруживает очевидное противоречие между тем, что предназначается читателю Гегеля и тем, что он пишет в письмах.
Это заставляет его быть более точным и, возможно, более настойчивым, говоря о предполагаемой эзотерической доктрине Гегеля в терминах, явно относящихся к классическим философским практикам: «В этом пункте я предпочел бы, дорогой и почитаемый профессор и мэтр, внимать Вам непосредственно. Как видите, я пытаюсь различить письменную науку и не — письменную, а именно, agrapha, autoprosopa, acroamatica (выражаясь по — гречески) учителей философии[109]. Во всех наших университетских заведениях разве не покоится преподавание на тех ценностях, которые письменное обучение заменить не в состоянии» (С3 280)?
Разумеется, к тому времени различные публикации Гегеля еще не были собраны в Полное собрание сочинений. Но в 1828 г. Гешель располагает уже немалым количеством опубликованных книг и пускается в размышления относительно доктрины как таковой. Ему не приходит в голову, что Гегель довольно долго не публиковался. Ему могло показаться, что Гегель недостаточно ясно и полно изложил то, о чем думал, и в этом Гешель видит очевидное объяснение досадных несообразностей. Ему хотелось бы внести ясность в этот вопрос.
Так, он настаивает: «Как бы мне хотелось иметь возможность обсудить все это с Вами! Вероятно, такая возможность будет предоставлена мне в течение будущего года…» (С3 280).
Однако письмо (от 13 декабря 1830 г.), которое Гегель отправил ему в ответ на выражение благодарности за хвалебную рецензию на его труд, Гешеля смутило. Гегель в самом деле не постеснялся заявить в нем, что «Афоризмы» Гешеля не слишком способствовали пониманию философии — да и философов: «так единым махом оказывается удовлетворенным удобное требование предоставить философию самой себе…».
Гегель замечал, кроме того, что «огромный интерес, вызванный в настоящее время политикой, поглотил решительно все, и то, что до сих пор обладало незыблемой ценностью, похоже, подвергается сомнению…» (С3 276–277).
И, наконец, он утверждал, что «философия должна — хотя бы для собственного спокойствия — отдавать себе отчет в том, что она предназначена исключительно маленькому человеку…».
Но после прочтения имевшихся в его распоряжении произведений Гегеля у Гешеля сложилось совсем другое впечатление. В них Гегель предлагал совсем другое понимание философии, ее роли, ее аудитории. Письмо Гегеля его озадачило.
Из этого он заключил, что Гегель, должно быть, задумал что‑то иное. Но каково было бы его смятение, знай он, что Гегель в это время собирался писать статью об английском Reformbill, и что, стало быть, философия не могла быть «предоставлена самой себе», что она прямо и открыто вмешивается — под пером Гегеля — в политические дела!
Ни публикации, ни лекции, ни письма не содержали последней тайной доктрины берлинского философа, и можно сомневаться, а была ли она!..
Временами Гегель говорит о письмах, полученных им от госпожи Гегель или от детей во время его или их отъездов. Не сохранилось ни одного из этих писем. По всей видимости, вдова и дети старательно их уничтожали. Из скромности?
Но довольно об этом, и так много наговорено!
VII. Элевсин
У франкмасонов еще сохранись остатки этой древней церемонии.
Вольтер[110]
К концу своего пребывания в Швейцарии Гегель, так и не блеснувший талантом в нескольких попытках стихосложения и не заблуждавшийся на этот счет, вдруг сочиняет гимн — «Элевсин»! Посвященные Гёльдерлину, эти стихи, дошедшие до нас лишь в первом наброске, написаны в Чугге и датируются августом 1796 г. Автор не рассчитывает на художественный эффект, но выбирает выражения, способные привлечь внимание к образам и идеям.
Биографы, бездумно полагая, что тот, кому посвящено стихотворение, — одновременно и есть его адресат, находят очень естественным желание Гегеля довериться другу столь необычным и замысловатым способом, несмотря на то, что в это же самое время он шлет ему длинные письма, которые с исключительной ясностью и прямотой подтверждают давнюю общность их мыслей.
Некоторые из биографов, не гадая о каких‑то особых намерениях, объясняют все минутным настроением. Желание написать стихи пришло к философу, «вдохновленному прекрасными августовскими вечерами»[111]. Хотя берега Бьенского озера благоприятствуют размышлениям о древнем греческом святилище не более, чем березы берлинского кладбища наводят на мысль о ливанских кедрах. Когда вопросов нет, зачем мучиться с ответом…
Но с Гегелем никогда ничто не происходит попросту и незатейливо. Стихотворение «Элевсин» — подходящий случай — а таковых всегда больше, чем у нас возможностей ими воспользоваться — разобраться с важными и малоизвестными сторонами личности автора, а равно культурной среды, в которой эта личность сложилась.
Текст опирается на греческую мифологическую традицию, осовременивая ее. Подспудно идеологический, он подчас походит на разбавленный лирикой теоретический манифест. Если Гёльдерлин когда‑нибудь его читал, он должен был бы остаться довольным: в нем на разные лады превозносится свойственное обоим молодым людям пантеистическое мировоззрение.
Поэма изображает чествование Деметры, греческой богини Земли, упоминаемой здесь под ее римским именем Цереры. Гёльдерлин сам сочинил поэму «Матери — земле»[112], он очень часто возвращался к этой политической и религиозной теме, обязательно в связи с еще одним сюжетом, а именно, «Детей Земли», с которыми он отождествляет людей, неизменно памятуя о том, что Платон, особо дорогой ему философ, так сказать, окрестил этим именем попрекаемых им грубых материалистов. Гегель мечтает об Элевсине, в котором отправляется один — единственный культ — Деметры — Цереры. Содержание поэмы не лишено интереса само по себе, независимо от истории его создания и контекста. Здесь можно лишь кратко о нем напомнить.
Текст (С1 40–43) начинается с «поэтического» заклинания местности, окружающей автора, и воспоминания о недавних счастливых днях, проведенных с другом, Гёльдерлином, которого Гегель надеется вскоре увидеть. Поэт различает вдали светлую полоску воды Бьенского озера, увековеченного Жан — Жаком Руссо, — его и впрямь видно из усадьбы Штайгеров. Ему, конечно, вспоминается девиз Женевского гражданина, и это воскрешает в его душе клятву «союза», скрепленного в Тюбингене: «жить ради одной только истины, никогда не мириться с догмой, сковывающей мысль и чувство (С1 41 mod)», — настаивает поэма, и ясно, что именно из‑за этих слов ей не суждено быть опубликованной.
Душа Гегеля чувствует себя уносимой в бесконечные пространства, к ночным звездам; она забывает о косных и ограниченных желаниях и теряется в созерцании неизмеримого и вечного: «Я в нем, я все, я только это!».
Позже Гегель чего только не сделает, чтобы отвести от своей философии снова и снова возникающее обвинение в пантеизме. Но в этих стихах он без всяких предосторожностей отважно декларирует пантеизм. Во всяком случае, тотчас вслед за этим объятием мира в его всеобщности, Гегель использует определенный прием, смысл которого прояснится позже, прибегая к некоему «второму языку»: воображение поэта «сочетает браком вечное и образ», от этого брака рождаются «возвышенные духи», которых читатель волен уподобить греческим богам, — вполне мифологическая картина.
И тогда Гегель дерзко обращается к самой Церере: да откроются передо мной двери твоего святилища! Пьяный от восторга, я пойму смысл твоих откровений (Offenbarungen)! Но Элевсинский храм молчит, боги покинули оскверненный мир. «Дитя посвящения» (der Sohn der Weihe) слишком чтил священную науку Элевсина, чтобы осмелиться разглашать ее тайны, и она осталась неведомой. Бедные слова не могли ее выразить, а у посвященных была печать на устах. Пытавшиеся нарушить тишину умолкли, повинуясь мудрому закону. Почитание божества не удел простонародья. И ныне искатели в раскопках находят лишь пепел, черепки и знаки, смысл которых утрачен.
Однако Церера открывает Гегелю не только это. Многозначительно переходя от форм прошедшего времени к настоящему и, стало быть, от воспоминания об античном культе к исповеданию нынешней веры, он восклицает:
«Еще пока жива ты в их делах [в делах твоих Сыновей], Этой ночью я ощущал твое присутствие, божественная, Это ты открываешь мне часто, чем живут твои дети, В тебе предчувствую я душу их дел, Ты — возвышенный дух и твердая вера, Которые, подобно Божеству, несгибаемы, даже когда все гибнет».(С1 43 mod)
Этот отрывок приобретает совсем другой смысл, если его перевести неточно, как это делает Рок (Roques): «те, кто были твоими детьми»… «ты была душой»… «ты их вдохновила» и т. д.[113] Вполне очевидно, что Гегель обращается к живым «Сыновьям Элевсина», к современным ему «Детям посвящения», а не к давно ушедшим персонажам.
На самом деле поэма заимствует образы из сокровищницы мифологического масонского арсенала, инвентаризация которых была бы скучным занятием. Гегель почти буквально воспроизводит некоторые формулы «Масонских бесед» Лессинга[114]. Общий смысл поэмы схватывается лучше, если отставить в сторону ложные интерпретации.
Комментаторы, в общем, признают «пантеистический» характер изложенной «доктрины», но часто пытаются смягчить его, вводя христианские мотивы. Словно христианство вообще совместимо с культом Матери — земли!
Улыбаешься, читая у Розенкранца, впрочем, хорошего знатока Гегеля, о том, что последний в подражание Шил — леру объединил в «Элевсине» «сокровенную глубину христианской веры с духом античности»[115].
Дильтей усугубляет путаницу, предлагая считать, что «Гегель в поэме “Элевсин” расхваливал элевсинские таинства, потому что в них почести божеству воздавались тайно, и пребывало оно для греков не в догме, но в жизни и деянии»[116]. Равным образом можно было бы уподобить масонскую тайну христианской мистерии и записать Лессинга в отцы церкви! Дело, однако, в том, что отцы церкви никогда не поклонялись Матери — земле.
Гайм видит в поэме Гегеля «гимн богине Элевсина, элегию на руинах прекрасной веры, протест против прозы Aufklärung»[117]. Как если бы Гегель и впрямь поклонялся греческой Церере! Гегель вовсе не скорбит об архаической «элевсинской вере», он провозглашает ее всегда живой, но в очень особом смысле. Гегель приписывает ей доводы, приводимые Aufklärung против «догм», верований, внушаемых розгами, и т. д. Он многое заимствует у Лессинга, знаменитого Aufklärer’a.
Как такой искушенный германист и такой проницательный ум как Пьер Берто мог, сказав о пантеизме «Элевсина», добавить, что Гегеля и Гёльдерлина, должно быть, поразили «совпадения между элевсинским культом и христианской мистикой первых веков»?[118] Какие совпадения? В других произведениях Гегеля и Гёльдерлина можно найти множество апологий христианству и, пожалуй, следы мистической экзальтации, но здесь, в «Элевсине», христианские аллюзии суть измышления комментаторов. Едва ли найдется менее христианский текст, написанный в те времена в тех краях.
Но, может статься, Гегеля вдохновил Шиллер? Если и так, то, во всяком случае, не на то, чтобы «соединить сокровенную глубину христианской веры с духом античности». Вокруг поэмы Шиллера «Боги Греции» в 1788 г. разразился скандал. Чтобы притушить резкую и опасную критику, поэт согласился внести в текст изменения. Может быть, Розенкранцу была известна только исправленная версия? Первая версия никак не могла служить иллюстрацией «сокровенной глубины христианства»!
Смехотворными ныне кажутся попытки затушевать нехристианский характер гегелевской поэмы. Безрассудное превознесение христианским писателем пантеизма и попутно языческой религии под маркой поэзии и без помышлений о зле, может сойти такому писателю с рук, хотя и с трудом. Но теологу, несостоявшемуся пастору, философу! Гегель прекрасно знает о гневном и крайне резком осуждении элевсинских таинств отцами церкви. Безбожие сквозит как в поэме, так и в письмах из Швейцарии.
И тем не менее в этом гегелевско — гёльдерлиновском пантеизме, слишком близком к атеизму, нельзя не видеть некоторых религиозных черт, своеобразного религиозного чувства, трудно определимого: то ли это стыдливый и робкий пантеизм, как у Спинозы, то ли тот пантеизм, в котором Лессинг признался лишь на пороге смерти.
У великих умов эпохи, а в еще более очевидном виде у умов не столь великих, случаются временами приступы откровенности. Берут и официально объявляют себя христианами, но когда позволяют обстоятельства, прежде всего, в частном общении, не стесняются ударяться в сомнения, демонстрировать по определенным вопросам несогласие, делать разного рода оговорки. В некоторых крайних случаях, когда это продиктовано каким‑то частным практическим интересом, авторы смелеют, отваживаясь на исключительный радикализм, прибегая, однако, к завуалированным формам выражения, в данном случае, мифологическим. Очень может быть, что масоны тех времен, при всем многообразии лож, парадоксальным образом сочетали «просвещение» с мифологической и обрядной символикой, а это, в свою очередь, предоставляло неограниченные возможности практиковать такого рода высказывания. Французам, в отличие от немцев, не очень по нраву эти завораживающие непроглядные сложности. Но тому, кто хочет понять Гегеля, а равно Гёльдерлина, приходится к ним привыкать.
* * *
Отвлекаясь на время от содержания «Элевсина», о котором, разумеется, не стоит забывать, необходимо — если мы хотим понять смысл и значение поэмы — рассмотреть обстоятельства ее создания. Толкование текста, принимающее помощь извне, бывает, приводит к иным результатам.
На самом деле адресат поэмы — не Гёльдерлин, хотя она посвящена ему, но некое третье лицо, с которым Гегель знаком и хочет, по всей вероятности, чтобы это лицо поэму прочитало. Упоминание Гёльдерлина, живое желание быть с ним снова вместе, должны способствовать тому, чтобы тот, в чьей власти осуществить это желание, помог бы воссоединению друзей. Конечно, Гегель мог иметь в виду только Гогеля, своего будущего «принципала» во Франкфурте, от которого зависело их воссоединение.
Это было не просто!
Служба домашним учителем в Швейцарии, поначалу его, несомненно, устраивавшая, все же вынужденная мера, работа на крайний случай, чем дольше он влачит эту лямку, тем тяжелее ярмо становится. Пребывание в швейцарской ссылке тяготит все сильнее. Он скучает по Германии, по своим друзьям. Договор скоро заканчивается. Он мечтает о возвращении.
С другой стороны, если не родине, то друзьям его не хватает. Они испытывают к Гегелю истинную, основанную на глубоком уважении привязанность. Гёльдерлин переживает разлуку, возможно, острее, чем Шеллинг. Натура, много испытавшая, чувствительная и слабовольная, он понимает, что рядом с Гегелем, «человеком спокойного разумения», как он о нем дружески отзывается, ему было бы легче жить. Гегель поверяет тоску товарищам, и они подыскивают для него убежище в Германии.
Шаги, предпринятые Гёльдерлином, помноженные на усилия, очевидно более действенные, их общего друга Исаака фон Синклера, приводят к желанному результату. Гёльдерлин, домашний учитель во Франкфурте в семействе Гонтард, сообщает Гегелю о вакантном месте в семействе Гогелей, принадлежащем исключительно богатому роду крупных торговцев и финансистов.
Гегель воспринимает новость как надежду на освобождение. Гёльдерлин всячески расхваливает ему Гогелей, дело, стало быть, за их согласием. Соискатель вступает в переговоры с будущим нанимателем, Жаном — Ное Гогелем (1758–1825), ведя их неизменно через посредство Гёльдерлина. В связи с этим он в ноябре 1796 г. отправляет ему так называемое «показное» письмо, то есть предназначенное для показа Гогелю (С1 45–46).
Эта практика нам непривычна, но она была характерной для того времени. Она обеспечивала адресату моральное ручательство со стороны посредника, которого знают и уважают. В случае провала переговоров, ни та, ни другая сторона прямо о своем решении не сообщали, во избежание огорчений и унижения. Это позволяло сохранить лицо обеим.
Получив «показное» письмо Гегеля, Гёльдерлин обещает другу: «Я его ему прочту». Из письма Гогель должен узнать, как смотрит Гегель на педагогические и практические вопросы, связанные с такого рода службой.
Комментаторы поэмы «Элевсин» не замечают прямой связи между нею и «показным» письмом. Действительно, данных, подтверждающих эту связь, нет: ничего не известно об отправке поэмы Гёльдерлину, нет ни подтверждения получения, ни выражения признательности за посвящение. Получи Гёльдерлин, по меньшей мере, хоть один ее список, он непременно хранил бы его так же бережно, как сопроводительную записку к «показному» письму. Возможно, Гегель прислал свое «исповедание веры» прямо Гогелю.
Поскольку письмо датировано ноябрем 1796 г., можно было бы думать, что поэма, написанная в августе, с переговорами по времени не совпадает. Но Гегель задолго до этой даты знал имя своего будущего патрона и кое‑что о нем. В письме от 24 октября Гёльдерлин напоминал ему: «Помнишь, в начале лета я писал тебе об исключительно выгодном месте, и чего я больше всего желал бы для тебя и для себя, так это того, чтобы ты устроился здесь у этих добрых людей, о которых идет речь» (С1 43).
Конечно, выражение «добрые люди», звучащее по- французски немного снисходительно, следовало бы переводить иначе; brave Leute, пишет Гёльдерлин об этом авторитетном семействе в письме «начала лета», в котором он, конечно, должен был упомянуть имя, — единственном письме, которое почему‑то исчезло. К тому же, 24 октября он пишет так, словно это имя Гегелю уже известно: «Позавчера господин Гогель совершенно неожиданно зашел к нам и сказал мне, что если ты еще свободен и условия тебе подходят, он был бы очень рад» (С1 43). Но это значит, что переговоры уже велись.
Вот что важно: в октябре 1796 г., сочиняя «Элевсин», Гегель знал о том, что, по всей видимости, ему придется служить в семействе Гогелей, и у него было достаточно времени, чтобы кое‑что о них разузнать. Сделать это было, в сущности, нетрудно, ибо в определенных кругах Гогели были хорошо известны.
Они принадлежали богатой, влиятельной, уважаемой семье крупных торговцев и финансистов, как и семейство Гонтард, нанимателей Гёльдерлина, все это были типичные представители высшей буржуазии.
Но отличались они не только этим. Чтобы должным образом понять, какое отношение имеет к семейству Гогелей «Элевсин», нужно принять во внимание, что, будучи традиционно масонами, они играли исключительно важную роль в знаменитом Ордене баварских иллюминатов, тайном обществе, основанном в 1776 г. Вейсхауптом, который, однако, не следует путать с мистическими «иллюминистскими» ассоциациями.
Будущий «принципал» Гегеля принадлежал к династии высших сановников немецкого масонства и Ордена иллюминатов. Один из Гогелей был изобличен в масонстве публично во время захвата и публикации архивов ордена баварской полицией в 1784 г. Его имя фигурировало в этих архивах[119].
Он поддерживал тесные отношения с Книгге и с Цваком, expositus ордена. Воспоминания об этих неординарных персонажах сохранялись во Франкфурте, и в частности, в доме Гогелей.
В Германии не было другого дома, в котором бы столь безраздельно царила атмосфера масонства, хранилось бы больше книг, посвященных иллюминизму, документов, свидетельств.
Встречи
Так вот, иллюминаты окрестили в своем тайном мифологическом коде Элевсином город Инголыптадт, родину Вейсхаупта, основателя Ордена! Элевсин — Ингольштадт был чем‑то вроде столицы иллюминизма[120]. Там, судя по всему, получали наставления иллюминаты, а после 1784 г. и прочая искушенная публика, особенно «высоколобые» интеллектуалы.
Давая название «Элевсин», Гегель не мог не знать нового значения слова. Вейсхаупт и иллюминаты, распространители современных и опережающих свое время идей, по — детски привязанные, однако, к мифологическим фантазиям и конспирации, не случайно выбрали это имя. Франкмасонство злоупотребляло древними культами, и особенно элевсинским. Бесчисленные ложи носили это имя!
Баварская, швейцарская, или иначе, немецкая полиция, если бы поэма попалась ей на глаза, должна была сразу опознать в «Элевсине» Гегеля «Элевсин» Вейсхаупта. Содержание гимна слишком очевидно подтверждало это.
В качестве анекдотического, но поясняющего ситуацию случая отмечают, что Хейнзе, друг Гёльдерлина, дал под влиянием масонства своей книге такое название: «Laidion, oder die Eleusinischen Geheimnissen» («Лаидион, или Элевсинские мистерии» — 1774). Одержимость Элевсином на этом не иссякает: «Письма Константу», эзотерическая масонская философия Фихте, сборник его лекций, читанных в 1800 г. в Великой ложе Royal York, появятся в «Eleusinien des 19. Jahrhunderts» («Элевсинии XIX века)»[121]. Адаптация масонством Элевсина — процесс долгий и широко распространившийся.
В некотором смысле Гегель задачу сближения с семейством разделил на части: о практических вопросах он говорил в «показном» письме, «Элевсин» был идеологическим посланием. Трудно себе представить, чтобы поэма, столь подходящая, включая все детали, была бы написана с другими намерениями, нежели произвести на Гогелей благоприятное впечатление. Тогда это и впрямь была бы мистерия.
И даже если поэма и не была задумана в масонско- иллюминатском духе, Гогели все равно, попади она им «случайно» в руки, восприняли бы ее именно так. Ни один масон, ни один иллюминат не обманулся бы, столкнувшись с близкими ему темами и терминами, столь действенно внедренными Лессингом.
Чем тогда объяснялась бы столь пламенная декларация пантеизма, такое почтение к тайне в поэме, которая как раз тогда и писалась, если не мыслями о семействе Го — гелей? Ведь иных очевидных мотивов и стимулирующих вдохновение обстоятельств не было. Так или иначе, Гегель, менее всего страдавший наивностью, знал, что делал, когда выбирал название.
Иллюминаты
Возможно, никогда франкмасонство не осуществляло свою глубинную социальную функцию, о которой его приверженцы, зачарованные потрясающей архаической инсценировкой, чаще всего не догадывались, лучше, чем во времена создания и распространения Тайного ордена баварских иллюминатов. Здесь реальность превосходит вымысел и даже выставляет его в смешном виде. Не стоит забывать о том, что на протяжении всей юности Гегеля это шумное, возбудившее всеобщий интерес предприятие владело вниманием всех, не слишком того заслуживая.
Незадолго до того, как разразилась Французская революция, политические и интеллектуальные круги в Германии взволновались затеей, которая так и осталась малоизвестной во Франции, а именно: баварским иллюминизмом, разоблаченным в 1784 г. и с той поры преследуемым.
Орден баварских иллюминатов, тайная организация масонского типа, был основан в 1778 г. Адамом Вейсхауптом, профессором в Инголынтадте (Элевсине). Деятельность ордена, как и современных ему других подобных сообществ, была окружена тайной, и в конце концов он сделался некой сверхсекретной масонской организацией внутри масонства, которое и без того было весьма закрытым: почерпнутые у древних преображенные имена, (к примеру, Вейсхаупт это Спартак!), зашифрованный язык, невообразимые инициации, разные изолированные друг от друга ступени, строгая иерархия, — из обычного багажа тайных обществ ничто не было упущено, все пошло в дело.
Орден интересен не столько тем, что он дольше других хранил свои тайны, сколько тем, что главной его за — дачей было распространение смелых социальных и политических, «космополитических», идей и содействие их осуществлению. Не без умысла основатель и глава тайной организации назвал себя Спартаком! Идеология, которую Вейсхаупт попытался распространять диковинными средствами, — именно из‑за своей таинственности они плохо соответствовали смелым освободительным идеям — идеология, к которой примкнули его соратники, в большинстве заметные люди, была отменно радикальной hic et nunc.
Создатель ордена не производит, однако, впечатления очень смелого человека. Определяя основания и программу общества, поначалу названного Орденом пчел, затем Орденом совершенствующихся, и только потом иллюминатами, он подхватывает пресные мысли о моральном самосовершенствовании, которым должны заниматься посвященные, о благотворительной деятельности и т. п. Обычные клише Aufklärung.
При этом, однако, включаются и кое — какие экстремистские идеи, вроде враждебности деспотизму, стремления к социальному равенству, космополитизма. Очевидно, Вейсхаупт терпеливо приучал к ним тех людей, которых считал наиболее уважаемыми и деятельными, способными в некий день и час запустить, прежде всего в Баварии, революцию «сверху» — сенаторов, высших чиновников, руководителей крупных политических организаций, академиков, религиозных деятелей.
Цели и средства ордена уточнялись по ходу дела, к тому времени, когда Вейсхаупту удалось привлечь к сотрудничеству человека замечательного во всех отношениях, барона Книгге, он обрел многочисленных и важных сторонников. Очень деятельный франкмасон, преданный новым идеям, революционер в своем роде, Книгге смог своеобразно привить дичок созданного ордена на старое древо франкмасонства, соорудив тем самым питомник, в котором пестовали новых сторонников, использовавшихся руководством ордена одновременно как маневренная масса.
Книгге показал себя прекрасным пропагандистом, ловким вербовщиком. Он привлек в орден масонов, разочаровавшихся в масонстве, к которому когда‑то они обратились, разуверившись в религии. Осуществит ли орден их чаяния, которые не смогли удовлетворить ни позитивная религия, ни официальное масонство? Чаяния демократического оттенка, отчасти эгалитаристские, определенно индивидуалистические, питаемые немецкой буржуазией и все более увлеченно воплощаемые интеллектуалами в их произведениях.
Вейсхаупт и Книгге предприняли попытку завоевания лож, привлекая на свою сторону их руководство — таков случай с Гогелем, а также «обращая» наиболее уважаемых членов, с чьей помощью неорганизованная масса масонов сплачивалась в послушный отряд. Предприятие было небезуспешно. Полагают, что в лучшие времена орден насчитывал до двух тысяч сторонников, и каких сторонников! Среди самых известных наиболее точно идентифицируемые — позже все они сделались более или менее близкими знакомыми Гегеля — Гёте, Гарденберг, Миг, Рейнхольд, Кернер, Беттигер, Якоби, Виланд, Кампе, Песталоцци, Николаи… Но и оставшиеся в тени не уступали перечисленным членам ордена ни в том, что касалось их общественного положения, ни в том, что касалось влияния на умы.
Разумеется, не обязательно было принадлежать ордену, чтобы исповедовать новые смелые идеи в политике и социальной сфере, которые дух времени занес даже в Германию. Пантеизм, мифологизм, космополитизм, анархизм равно овладевали душами, ордену неподотчетными.
Возможно, это не более, чем совпадение, но дерзкие предложения, получившие название «Первой программы немецкого идеализма», пересекаются с некоторыми проектами Вейсхаупта, и пересекаются они именно в пункте, ставшем предметом самой непримиримой полемики и ожесточенных нападок, — в пункте об отмене государства, отмене, которая разными окольными путями проистекала из космополитической идеи.
Ясно, что подобная программа — совершенно неисполнимая — заходит гораздо дальше утопий Канта, Лессинга, Фихте. Она поражает читателя категоричностью формулировок, достаточно редких в более поздней политической литературе. Даже Маркс, предлагая в сущности ту же идею, идею исчезновения государства, представит ее в более завуалированной форме и тем не менее, поразив неожиданностью, она будет восприниматься иногда с воодушевлением, но часто с негодованием.
В 1784 г. (Гегелю тогда было четырнадцать лет) баварские власти, юстиция и полиция страны заметили, что ордену иллюминатов удалось убедить и привлечь в свои ряды министров, сановников, представителей знати, и решили, что орден представляет собой угрозу баварскому государству. Конечно, испуг был несоразмерен реальной опасности, но власть прибегла к исключительным предупредительным и репрессивным мерам: орден был запрещен, его члены отставлены от занимаемых постов, архивы ордена захвачены и отданы на растерзание газетчикам. Вейсхаупт, изобличенный, смешанный с грязью, оклеветанный, должен был бежать из страны, скрываться, и, в конце концов, отречься от своих взглядов, по крайней мере публично, в то время как его друзей арестовывали или отправляли в изгнание.
Дело взволновало всю Германию, оно спровоцировало раскол, хотя противодействие ордену в других землях часто обходилось без баварских крайностей. Во многих странах бразды правления были как раз в руках иллюминатов, впрочем, достаточно мирных. Так обстояли дела в Заксен — Веймаре и в Заксен — Гота. Хотя орден в принципе был распущен, иллюминаты подспудно выжили повсюду, и не было у них никаких причин не хранить, по меньшей мере, in petto[122] и в более или менее неизменном виде сложившиеся мнения и убеждения. Совсем по — другому все это стало выглядеть, когда грянула Французская революция. Друзья и враги ордена тотчас уловили родство орденских идей и революционных деяний. При желании можно было вообразить, что Революция, сама о том не ведая, осуществляет программу баварских иллюминатов. Кое‑кто из зачинателей Революции, достаточно выдающихся — Мирабо! — и впрямь были членами ордена. Неудивительно, что в обстановке неразберихи и таинственности, среди разбушевавшихся в противоборстве страстей некоторые воспламенившиеся умы готовы были объявить Французскую революцию делом рук баварских иллюминатов и франкмасонов[123].
У этого экстравагантного тезиса было немало сторонников в Германии, позже его программно излагал, какое- то время с очень большим успехом у контрреволюционной публики, — аббат Баррюэль. Даже в наше время у него есть адепты, переиздающие произведения этого публициста, включая его биографию Вейсхаупта, больше похожую на обвинительную речь в суде[124].
Все это вполне ясно показывает, что приблизительно с 1784 по 1805 гг. интеллектуальная, салонная, журналистская, университетская атмосфера была насыщена ядовитыми парами, просто пропитана разговорами о деле иллюминатов, несомненно, не заслуживающих тех избыточных почестей или поношений, которые выпали на их долю. Писатель, просто осведомленный человек, не мог в то время употреблять известные выражения, не отдавая себе тотчас отчета в том, что они наводят на мысль об иллюминатах: Элевсин, космополитизм, отмена государства, все эти слова не могли сохранить невинность в глазах читателей, даже будучи начертанными — во что не верится — невинной рукой.
Связи
Гегель, судя по всему, как и все остальные, был в курсе происходящего и, возможно, более в курсе, чем многие прочие. Он на протяжении всей жизни не прерывал общения с людьми, связанными с этими кругами. Учитывая неординарность его личности, образование, службу по окончании Штифта в разных местах, вплоть до Берлинского университета, он не мог не привлечь внимания членов ордена. Но, как правило, особенности отношений Гегеля с некоторыми его друзьями остаются вне поля зрения. Небезынтересно, к примеру, что Нитхаммер, какое‑то время ближайший соратник Фихте, оказался самым близким, самым преданным, и главное, самым верным другом Гегеля. Этот богослов — философ — педагог был немного старше и преподавал в Йене. После учебы в Штифте он часто запросто бывал у Гёте и Шиллера и в 1795 г. основал знаменитый «Философский журнал общества немецких ученых», именитым и более известным соиздателем которого стал с 1796 г. Фихте. Никто, стало быть, не был столь непосредственно и точно осведомлен о деле об атеизме, которое началось из‑за публикации в «Журнале» еретических речей Фихте вкупе со слишком смелой статьей Форберга. Нитхаммер не мог не быть так или иначе вмешанным в эту трагикомическую историю. Друг Гёльдерлина, Шеллинга, и, прежде всего, Гегеля, он затем продолжил и завершил карьеру в Баварии, ведая школьными и университетскими делами.
В юности и в начале Французской революции Нитхаммер вел себя не менее активно, чем Гегель и другие штифтлеры. Получив по рекомендации Рейнхольда место учителя в Клагенфурте, он удержался на нем очень недолго: в 1792 г. из‑за «сопротивления стражу порядка» он вынужден был бежать от грозившего ему судебного преследования[125].
Кое — какие признаки говорят о том, что он был франкмасоном и, более того, некоторое время состоял членом ордена Баварских иллюминатов. Во всяком случае, он был публично обвинен в принадлежности последнему в то же время, что и другие друзья Гегеля: Тирш и Якоби, а также Гарденберг. Что касается Якоби и Гарденберга, сомнений не было. В случае Тирша и Нитхаммера обвинение, по меньшей мере, отразило общее убеждение в их членстве[126].
Нитхаммер перевел для исторической серии Шиллера «Историю рыцарей Св. Иоанна Иерусалимского» (Йена, 1792–1793) аббата Верто (1655–1735) и «Громкие и интересные дела и вынесенные по ним приговоры» (Йена, 1792–1795) Гийо де Питаваля, произведения, удостоившиеся предисловия Шиллера.
Публикуя «Историю храмовников», Нитхаммер следовал совету Лессинга, данному им в «Эрнсте и Фальке, масонских диалогах». Автор, выдвигая предположения о происхождении масонства, многократно упоминал устав и роль ордена тамплиеров и призывал: «Читай внимательно историю ххх. Ты узнаешь это место» (утверждение, что тамплиеры были франкмасонами своего времени), что подтверждает роль, отводимую Лессингом «Храмовнику» в «Натане Мудром». Лессинг ратовал за восстановление ордена тамплиеров[127].
Произведение Верто сознательно или невольно поддерживало идею, по которой древний орден был прообразом масонства нынешнего. Что касается произведения Питаваля, оно прямо принадлежало масонской продукции: freimaurerische Pitaval (масонский Питаваль!)[128]. Переводы свидетельствуют, что Нитхаммер хорошо владел французским языком и словарем масонов.
Кроме того, Нитхаммер хорошо знал одного из французов, самым непосредственным образом вмешанных в тяжбу об иллюминизме, Жана Жозефа Мунье (1758–1806), известного политического деятеля, инициатора собрания сословий провинции Дофине в 1788 г., вдохновителя Клятвы в зале для игры в мяч. Недовольный тем, по какому пути пошла Революция, началу которой он содействовал, сторонник конституционной монархии английского типа, Мунье сначала эмигрировал в Швейцарию, в Берн (с 1790 по октябрь 1795 гг.), затем в Веймар, где в замке Бельведер на деньги великого герцога (масона и иллюмината) основал образовательное учреждение. Он покинул Веймар только в 1801 г., чтобы вернуться во Францию и там умереть.
В Заксен — Веймаре Мунье установил отношения со всеми важными веймарцами, и особенно с Нитхаммером, Бёттигером, Боде и с издателем Котта, известным своими либеральными[129] и иллюминатскими взглядами.
Хотя во Франции представляемое им политическое течение быстро уступило место более радикальным тенденциям, в Германии он тем не менее считался одним из зачинателей революции, противником абсолютизма, сторонником конституционализма.
Мунье прямо высказался о политической роли франкмасонства и баварского иллюминизма в своем широко известном произведении «О влиянии, приписываемом философам, франкмасонам и иллюминатам», опубликованном Котта в 1805 г. в Тюбингене в ответ на памфлет маркиза де Люше «Эссе о секте иллюминатов»[130].
В этой работе он опровергает предположение о заговоре иллюминатов в начале революции, пытается объективно определить природу, размах, границы движения, основанного Вейсхауптом.
Гегель, прибывший в Иену в 1801 г., никак не мог с ним видаться. Но не исключено, что он встречался с ним в Берне в 1794–1795 гг. и уж во всяком случае Нитхаммер говорил ему о своем важном знакомце.
Мунье, умеренный революционер, конституционалист, «монархист», вовсе не отрицал революцию в целом, скорее, он хотел защитить ее от злостной клеветы: «Конечно, обозвав якобинцем, можно возбудить ненависть к человеку, верящему в свободу и справедливость; для этого многое было сделано, и разве не к такому приему часто прибегают сторонники деспотизма и суеверий. Но теперь у таких людей есть новый и более действенный способ, они говорят: это иллюминат!.. при этом слове легковерных бросает в дрожь»[131].
Мунье писал это в 1801 г. в Заксен — Веймаре, где преподавал Гегель, в особой интеллектуальной атмосфере, в которой слово «якобинец» имело резко отрицательное значение, а об иллюминатах еще помнили все.
Заметим, кстати, что право последнего слова, к которому Гегель сведет королевское вмешательство в дела государства в последнем проекте конституционной монархии, было своеобразной версией права вето, которым «монархист» Мунье, хотел ограничить власть короля.
Стремясь ввести королевские влияние и могущество в определенные рамки, Мунье с его защитой иллюминатов и их политических преемников фактически выступил против Барруэля. Принадлежал ли он сам к ордену? По меньшей мере, он был неплохим попутчиком!
Официально распущенный в 1784 г., орден продолжал существовать в умах преданных и упорных, главным образом, в странах, менее враждебно настроенных по отношению к нему, чем Бавария. И хотя полной уверенности нет, весьма вероятно, Гогели тоже принадлежали к этим преданным и упорным. Попасть к ним было все равно, что проникнугь в храм нового Элевсина, в котором собирались «посвященные». Некоторые немцы безусловно доказали верность ордену. Например, поэт Баггезен (1764–1826), тот самый, призвавший герцога Шлезвиг — Гольштейнского, масона и иллюмината, помочь в тяжелую минуту Шиллеру.
10 июля 1794 г., еще до «Элевсина», Гельдерлин извещает Гегеля о прибытии в Швейцарию Баггезена, а также госпожи Берлепш: «Напиши мне подробно, когда сможешь, о них» (С1 16). Похоже, он ни секунды не сомневается в том, что Гегель встретится в Берне с обоими. Безусловно, Гегель никогда не жалеет усилий на то, чтобы «завязать знакомства», быть представленным каким‑нибудь знаменитостям. И тем не менее откуда у Гёльдерлина такая уверенность? Чем объясняется такой интерес к Баггезену?
Но что привело Баггезена в Швейцарию? Невероятно, но герцог Фридрих Христиан II Шлезвиг — Голыптейнский, патрон поэта, горячий сторонник, как и сам поэт, Французской революции, поручил Баггезену объехать Европу и разыскать остатки ордена иллюминатов, устанавливая контакты с теми, кого в новых обстоятельствах хотя и нельзя было считать «прежними» иллюминатами, но в ком был «еще жив» дух ордена, контакты с теми, «чья вера не поколебалась». Согласился ли Баггезен на эту оплачиваемую герцогом миссию дабы совершить прекрасное путешествие за чужой счет? Во всяком случае, он скрупулезно отчитывается перед Фридрихом Христианом о результатах в объемистых зашифрованных письмах, совершенно непонятно зачем их шифруя[132].
Разыскивая иллюминатов, он заехал в Тюбинген после отъезда Гельдерлина и Гегеля, ясно, однако, что ему хотелось к тому же поговорить о поэзии со штифтлерами. В Берне Баггезен задержался. Если, исполняя желание Гёльдерлина, Гегель с ним встретился, орден иллюминатов, предмет его миссии, не мог не стать темой разговора, да и вряд ли кто‑либо иной мог лучше и со знанием дела рассказать ему о Гогелях.
Что касается госпожи Берлепш, бывшей супруги «немецкого Мирабо»[133], то она также могла при случае сообщить полезные и редкие сведения. Еще в 1810 г. в одном из донесений тайной полиции о ней говорится как об «интриганке, распространительнице учения иллюминатов»[134].
Сам Шеллинг, был ли он иллюминатом? В письме, написанном в январе 1796 г., он рассказывает Гегелю, что «повсеместно все хотят знать, демократ ли я, Aufklärer, иллюминат и т. д.» (С1 38). Точно известно, что в это время он действительно демократ и Aufklärer. Не исключено, что иллюминатом он тоже был.
Шеллинг пишет родственникам 27 мая 1796 г. во время путешествия, приведшего его в Гейдельберг: «Мы вернулись поздно в гостиницу. Я собирался зайти к советнику консистории Мигу, к которому у меня было поручение от Хейльбронна, мне сказали, что он вышел, но что я найду его у проф. Ведекинда. Тем лучше! — подумал я. Мне было любопытно познакомиться с этим человеком, поскольку он приобрел известность в области естественного права и в связи с этим подвергался преследованиям»[135].
К сведению, советник Миг (1744–1819)[136] после Вейсхаупта и Книгге был одним из самых важных иллюминатов в Германии, провинциалом ордена по Пфальцграфству, деятельным пропагандистом, среди прочих привлекшим в орден Песталоцци.
Что касается Ведекинда (1761–1831), выдающегося врача, то вместе с Форстером они являлись символами якобинской революции в Майнце.
Миг поддерживал связи со многими немецкими революционерами, Юнгом — Штиллингом, Книгге, Бардтом, Форстером, Николаи и другими. Как видим, Шеллинг своим поведением не побоялся положительно ответить на вопрос, интересовавший публику.
Вполне понятно, почему отец тут же посоветовал ему быть осторожнее в письмах, за что Шеллинг по здравом размышлении его поблагодарил.
Возможно ли, чтобы простой случай свел, прямо или косвенно, Гегеля со всеми этими «просвещенными» франкмасонами, иллюминатами, либералами и демократами? Разумеется, эти связи не мешали ему встречаться также и с лицами, не столь определенно маркированными.
Но единственно значимые из швейцарских знакомств Гегеля, по меньшей мере тех, о которых нам известно, это встречи с масонами, иллюминатами или революционерами: Зонненшайном, Баггезеном, г — жой Берлепш, Ольснером…
Не эти ли родники питали «Элевсин»?
Тайна
В дополнение к темам, которые занимали Гегеля и Гёльдерлина ранее, в поэме появилось много нового. Иногда нововведения противоречат прежним установкам. Не изменяя общим для обоих друзей взглядам, не забывая о них, поэма настраивает на современное прочтение: любая из формулировок может быть интерпретирована как в эзотерическом масонском смысле, так и в общепринятом традиционном мифологическом людьми «непосвященными». Гегель легко сводит вместе оба значения.
Само появление таких слов, как «профанация», «посвященный» не лишено интереса. Они не характерны для обычного мифологического словаря обоих почитателей древней Греции и привносят новый мотив в их литературные труды. «Дитя таинства» и он же «Сын Материземли» хранит в душе особенное знание Элевсина, содержание которого в поэме не раскрывается, и «живет, сомкнув уста». Мудрый закон запрещает посвященному сообщать «увиденное, понятое, почувствованное в священной ночи» (С1 42).
Создается впечатление, что Гегель следует и подражает Лессингу, который после публикации своих «Масонских диалогов» оправдывался перед Великим магистром немецкого масонства, герцогом Фердинандом Бруншвигом (не путать с Бруншвигом знаменитого Манифеста 1792 г.!), утверждая, что никаких запретных тайн он не раскрыл[137].
Тема тайны особенно интересна.
Известно, что в классические времена посвященные в элевсинские таинства во исполнение религиозного закона обязывались хранить молчание в какие‑то временные периоды, возможно, под страхом смерти. Но что это было за молчание и каковы были его пределы, не вполне понятно, поскольку все афиняне считались «посвященными» в таинства, и, стало быть, не могли вероломно сообщить нечто такое, чего другой не знал.
Тайна, которую превозносит Гегель, больше всего похожа на секреты масонов, в частности, иллюминатов, которые пытались сохранить их всевозможными способами, зачастую довольно детскими. В этой увлеченности таинственным у руководителей ордена сливались осторожность, уважение к традициям «тайных» обществ, мошенничество и ирония. Гордыня в этом букете тоже присутствовала: никто из людей, даже членов ордена, не способен вполне постичь высшие цели ордена и оценить их.
Как указывают словари масонства, «по окончании каждого заседания ложи, франкмасоны повторяют клятву соблюдать закон Молчания», «ничего не открывать непосвященным»[138].
Такое требование, воспроизведенное в «Элевсине», нимало не имеет в виду кодекс поведения, принятый некогда тремя товарищами из Тюбингена. Напротив, они только и мечтали о рекламе, о шумных манифестах, заявлениях в журналах и газетах. Они собирались распространять истину повсюду, они намеревались всех познакомить с «наукой» как они ее понимали. Напротив, для франкмасонов принципиально важно «молчание»[139], и в «Элевсине» оно обретает мифологический смысл.
Без понимания того, что многие строфы «Элевсина» более или менее прямые масонские аллюзии, поэма осталась бы совсем темной, а отдельные строки — неизвестно зачем вставленными в стихотворение.
Речь идет о поэзии «на случай», и содержание поэмы намеренно приведено в соответствие с предполагаемыми взглядами конкретного лица, которое его прочтет. Представление о древнем Элевсине, которое эта поэма дает, с самого начала совершенно не согласуется с тем, каким Гегель рисует Элевсин в работах примерно того же периода.
В стихах он изображает величайшее почтение к жрецам Цереры, в других работах их собратьев, жрецов Кибелы, он презрительно именует скопцами. Скопцы физические и духовные, они олицетворяют отсутствие жизни, духовную пустоту, ничтожество[140].
Что же касается Элевсина не стихотворного, то несколькими годами позже в «Феноменологии духа» он говорит о нем нечто противоположное тому, что натужно внушает в поэме, и делает это красиво: «С этой точки зрения можно посоветовать тем, кто утверждает названную истину и достоверность реальности чувственных предметов, обратиться в низшую школу мудрости, а именно к древним элевсинским мистериям Цереры и Вакха, и сперва изучить тайну вкушения хлеба и пития вина; ибо посвященный в эти тайны доходит до того, что не только сомневается в бытии чувственных вещей, но и отчаивается в нем, и, с одной стороны, сам воплощает их ничтожность, а с другой стороны, видит, как ее воплощают другие. Даже животные не лишены этой мудрости, а, напротив, оказываются глубочайшим образом посвященными в нее; ибо они не останавливаются перед чувственными вещами как вещами, сущими в себе, а, отчаявшись в этой реальности и с полной уверенностью в их ничтожности, попросту хватают их и пожирают; и вся природа празднует, как они, эти откровенные мистерии, которые учат тому, что такое истина чувственных вещей»[141].
Звучание отрывка несколько меняется в зависимости от того, как переводить «offenbare Mysterien», — как «mystères on ne peut plus transparents»[142] (Ж. — П. Лефебвр) или как «mystères rélévés»[143] (Ипполит), но в любом случае намек на Откровение (Offenbarung) очевиден. В Элевсинских мистериях все открывает себя, тогда как автор поэмы, написанной в Чугге, жалуется на то, что больше «не понимает откровений» Цереры!
Гегель будет держаться этого мнения, повторенного много позже в «Лекциях по истории философии»: «В элевсинских мистериях не было ничего сокрытого»[144]. В «Лекциях по эстетике» он также совсем иначе, чем в чугговской поэме охарактеризует мистерии Элевсина: «возвышенные поучения», «священные» и «тайные» вещи попадают в разряд «явленных всем таинств», «пошлой мудрости», которой не лишена и скотина.
Все это заставляет отклонить еще одну интерпретацию «Элевсина». Некоторые комментаторы, помешанные на эллинизме, склонны видеть в Гегеле и Гёльдерлине неких поздних поклонников древней Цереры, немного фантазеров, но искренних, задним числом приобщающихся к таинствам Элевсина! Возможно, в поэме Гегеля есть намеки на что‑то такое. Но ни Гегель, ни даже Гёльдерлин, не одержимы до такой степени, чтобы им, христианам по вероисповеданию, пришло в голову обратиться в античную религию и начать поклоняться Деметре — все их усилия как раз в это время направлены на создание новой религии, национальной и патриотической по самой своей сути!
Если Элевсин и имеет какое‑то отношение к их «новой церкви», то это Элевсин иллюминатов, в котором они или сами состоят членами, или сообщаются с членами ордена во внешнем мире, наконец, избирают его символом, чтобы сделать приятное Гогелям.
Поэма и впрямь могла при случае открыть двери в дом этого исключительного семейства. Она свидетельствует об уме претендента, о таком уровне классической и современной культуры, какого не встретишь у иных прочих. По стихам видно, насколько тонко разбирается автор — «извне» или «изнутри» — в немецком франкмасонстве, в том, что о нем писал Лессинг, в баварском иллюминизме: наниматели могут рассчитывать на понимание и сдержанность. Одновременно Гегель доводит до их сведения, что он знает, кто они, и что он поступает на службу, зная и уважая хозяйское окружение, все это залог не обыкновенных отношений работника и нанимателя, но более прозрачных, более доверительных. Как пишет ему Гёльдерлин: «в его (Гогеля) характере и манере выражаться ты найдешь многое, что свойственно тебе самому» (С1 47).
Такое взаимопонимание с «церковным наставником», выпускником Тюбингенской семинарии, вполне способным предпочесть «готические» храмы элевсинскому капищу, трудно было с уверенностью предугадать.
Был ли Гегель членом франкмасонского братства? Биографы так старательно обходили этот вопрос, что теперь, чтобы ответить на него положительно, приходится расшибаться в доказательствах. Многие другие аспекты мысли и жизни Гегеля такого не требуют. Но следует признать, что потребна особая осторожность: речь идет о тайной организации, культивирующей мистериальное действо, деятельность и история которой окутаны легендами, и ставшей предметом, как неумеренных восхвалений, так и фанатичных обвинений. Нелегко разобраться, когда имеешь дело с людьми, жившими в конце XVIII — начале XIX веков!
Несмотря на то что их тайны были секретом полишинеля, а знаменитый «закон молчания» часто нарушался, франкмасонству все же в какой‑то — различной, впрочем — мере удавалось укрыться от любопытствующих глаз публики и даже иногда от пристального внимания властей. Известно, что оно собрало значительное число сторонников, но молва сохранила лишь несколько имен, наиболее — по весьма шатким критериям — выдающихся. Возможно, Гегель растворился в безымянной массе.
Необязательно было принадлежать масонству «организационно», чтобы познакомиться с кругом идей, вдохновлявших отдельные ложи или их объединения, обнаружить следы его влияния, последствия организационной деятельности. Во времена Гегеля масоны открывали себя публике, к примеру, в заведомо масонском и иллюминатском знаменитом «Берлинском ежемесячном журнале», в котором публиковал свои главные статьи Кант.
Как бы то ни было, лишь малая часть немцев, главным образом, интеллектуалы, богословы и политики, и в самом деле проявляла интерес к масонству.
Поэма Гегеля показывает довольно хорошее знакомство с масонскими фантазиями, с той направленностью, которую попытался придать масонству Лессинг, а также с особым колоритом баварского иллюминизма. Гегель черпал из чистых источников. Следует отметить, что в своей роли ходатая за Гегеля перед Гогелями Гёльдерлин опирался на посредника, чье содействие, возможно, было более весомым, и чья личность нам далеко не безразлична: на помощь их общего друга Исаака фон Синклера, также видного масона, мятежника, замешанного в швабском заговоре, одно время ухаживавшего за Христиной Гегель. Это не был обычный масон; распространенная легенда, которую многие масоны считают правдивой, возводит его род к предполагаемому предку Вильяму Синклеру Рослину, основателю масонства! Английское масонство неизменно хранит «St. Clair Charters»[145].
Исаак фон Синклер принял близко к сердцу судьбу несчастного Гёльдерлина.
Не так легко выяснить, чего же, в конце концов, добивался Гегель своим «Элевсином». Можно предположить, что целей у него, как это нередко случалось, было сразу несколько.
Совершенно ясно, что на первом месте находятся соображения выгоды. Не «прекрасная летняя ночь» служит ему источником вдохновения, но желание устроиться у Гогелей. Речь идет о том, чтобы обеспечить себе наилучшие, по возможности, условия существования. Искреннее или лицемерное увлечение масонством, о котором говорится в стихах, должно способствовать открытию врат этого храма богатства и комфорта. Гёльдерлин пропел ему песенку, слова которой он запомнил: «у тебя будет комната», «за обедом ты будешь пить прекрасное рейнское или французское вино»… «Гогели любезны и богаты»…
Гегель будет пускать в ход немного неуклюжую дипломатию обольщения в разных жизненных обстоятельствах. Заинтересованные лица не считают ее неискренней…
Но в то же время Гегель, несомненно, испытывает истинную склонность к франкмасонству своей эпохи в трех выдающихся его образцах — Лессинга, Гёте и Фихте. В целом оно сопутствует прогрессистскому интеллектуальному движению, несмотря на то что среди масонов попадаются реакционеры, сомнительные личности и явные мракобесы. Новые идеи в такой сложной ситуации являют себя в мифологических облачениях, выражаются в замысловатых речах, звучащих неожиданно из вражеских рядов.
Единственное эксплицитное упоминание принадлежности Гегеля франкмасонству есть в статье, посвященной масонам в «Большом Брокгаузе» за 1954 г.[146] Любопытно, что это упоминание исчезло из последующих изданий словаря. Членство Гегеля подтверждается тем не менее надгробной речью Фёрстера и разнообразными косвенными данными.
Имеет ли этот факт существенное значение, насколько вообще он важен? Даже если речь идет лишь о симпатиях к тайной организации.
Кое‑кто охотно ответит: никакого! И при этом укажет на великое множество и разнообразие идеологических ориентаций многочисленных немецких лож. Но как раз в этом разнообразии идеологическая направленность «Элевсина» вырисовывается очень четко: Гегель без колебаний делает очень определенный выбор.
Кто‑то заметит, что Великая ложа в Берлине, к которой он принадлежал в последние годы жизни — если так понимать сказанное Фёрстером — считалась «христианской и консервативной». В таком случае факт принадлежности к ней не прибавит ничего к тому, что нам и так известно о Гегеле: христианин и консерватор. Фридрих Вильгельм III был масоном, был им и Наполеон…
Тем не менее все не так просто. Ни одна прусская ложа официально не могла квалифицироваться иначе, нежели «христианская и консервативная». Такого рода квалификация, однако, ни о чем не говорила.
В Берлине 20–х годов это означало лишь, что в нее не принимали некрещеных евреев и открытых атеистов. Но, между прочим, ее члены прекрасно могли посещать и уважать евреев и атеистов, как это делал Гегель, в известной мере предпочитая их прочему окружению.
Если принадлежность Гегеля франкмасонству не имела никакого значения, то почему до сих пор биографы избегают говорить о ней, пространно рассказывая при этом о каком- нибудь юношеском увлечении или о похождении философа? Нужно признать, что вопрос этот касается всех великих, уступивших в те времена своему увлечению — Гёте, Виланда, Гердера, Форстера, Фихте, Рейнхольда и других. Откуда у христианина, приверженца позитивной[147] церкви, консерватора в политике, подданного наследственной монархии, занимающего видное положение в гражданском обществе, члена всевозможных ассоциаций, к тому же выдающегося и признанного интеллектуала, возникает желание присоединиться еще и к франкмасонству, едва ли не тайному обществу, если этот его поступок лишен веса и смысла?
Но этот поступок должен был как‑то определенно характеризовать человека, ведь не все же христиане и консерваторы — масоны, далеко не все. Франкмасонство, каков бы ни был его успех в то или иное время, всегда объединяло лишь меньшинство, состоящее — это правда — из тщательно отобранных людей, просвещенной знати, именитых граждан, богатых буржуа, интеллектуалов и художников.
Как минимум оно предлагало своим адептам укромное место и среду для завязывания отношений между людьми, несколько отличающимися по своему социальному положению. В этом смысле оно играет роль некоего rotary club. Масонство предполагает расширение кругозора и разнообразие занятия. Обеспечивает взаимопомощь братьев, облегчает невзгоды, поощряет меценатство. Так, поддержка масонов была спасительной для Шиллера. Очень может быть, что Гегель в Йене, пребывая в крайней нужде, также получил помощь такого рода, хотя бы и не был масоном. Таким предстает масонство в XVIII веке с наиболее очевидной своей особенностью: «они развлекаются и занимаются благотворительностью», — говорит Луи Себастьян Мерсье, имея в виду братьев.
Однако этого мало сказать о масонстве, явившемся предметом нападок и критики со многих сторон. Можно и без масонства праздновать, петь, подавать милостыню, укреплять людскую солидарность, особенно если ты — христианин. Невозможно поверить, чтобы Гёте, Рейнхольд, Краузе и столько других выдающихся умов — а фактически в то время почти все великие умы Германии — искали в нем всего лишь способ развлечься или выказать доброту. Они прекрасно могли сделать это в другом месте. Не легкомысленное масонство восхваляют или подвергают критике Лессинг и Фихте и не для него хотят открыть они новые возможности роста. Меттерних, выступая против Гарденберга на Венском конгрессе, делается заклятым врагом совсем не безобидного масонства.
На самом деле масонство или, по меньшей мере, некоторые из его лож, объединяли главным образом сторонников Просвещения, поклонников реформ в культуре и обществе. Не все масоны были инакомыслящими, реформаторами и революционерами, но почти все инакомыслящие, реформаторы и интеллектуалы — маргиналы были масонами. В масонстве они обрели площадку для организации, для провозглашения идей, их распространения, которой им было не найти в другом месте: да, она была невелика, но зато гарантирована и защищена. Не исключено, что кое- кто поддался чарам диковинных ритуалов и церемоний, разыгрывая временами этакую «Волшебную флейту», не такую веселую, как у Моцарта. А кое‑кто под крылом Богини Ночи чтил блестящие идеи и презирал простодушие. Чтобы не потеряться в этих дебрях, нужна нить Ариадны…
VIII. Франкфурт
Дела прежде всего.
Гонтар
Покидая Швейцарию в июле 1796 г., Гегель, прежде чем занять новое место домашнего учителя, на этот раз во Франкфурте, заезжает на довольно продолжительный срок в родной дом в Штутгарте. У него что‑то вроде каникул. Или реабилитационного периода. Со слов его сестры, молодой человек болен, мрачен, подавлен. Ему нужно набираться сил, бодрости.
Маленький лирический эпизод — он продлится несколько месяцев — поможет ему в этом. Единственные письма, отправленные им из Франкфурта, будут адресованы подруге его сестры, Нанетт Эндель (1775–1840), они немного продлят приятное знакомство.
Молодая девушка была католичкой, что делает неожиданным ее появление в доме Гегелей, у которых она жила. Она сделается компаньонкой баронессы Бобенхаузен, позже простой модисткой. Ее религиозная принадлежность дала повод для всякого рода предположений о состоянии духа Гегеля в то время. Якобы он «стал ближе» католицизму, испытал некоторое искушение сделаться католиком. На деле ничто не могло смягчить его сурового протестантизма. Письма к Нанетт показывают это с очевидностью: гораздо больше католицизма его интересует католичка.
Мы знаем об этой любовной истории только из писем Гегеля, не упоминаемых ни Розенкранцем, ни Куно Фише — ром в их биографиях и изъятых из переписки отца сыном Гегеля, Карлом. Карл, конечно, не мог допустить, чтобы у отца была юношеская любовь, легкомысленная, наивная, стыдливая. Он безжалостно вымарывает ее из биографии. Так вдова, сын, биографы оставляют будущему Гегеля, для которого не существует ничего, кроме мышления, чопорного, холодного, чуждого соблазнам и слабостям. Но Гегель был не таким.
Письма к Нанетт написаны галантным, веселым, остроумным, любезным молодым человеком. На смену увлеченности постепенно приходит искренняя дружба. Последнее письмо датировано 25 апреля 1798 г.
Вскоре забытая и так и не вышедшая замуж, Нанетт бережно хранила эти свидетельства заинтересованности, которую она сумела пробудить в человеке незаурядном, «мэтре философии», за чьей известностью она следила издали.
Так и представляешь себе пожелтевшие выцветшие листки, перевязанные розовой лентой, на дне потайного ящичка, в котором их нашли через много лет. Гегель, напротив, писем от Нанетт не хранил, или же, возможно, после его смерти их в раздражении уничтожил нечувствительный сын, однажды пожалованный дворянством (профессор Карл фон Гегель), не прибавившим ему благородства[148].
* * *
Гегель переезжает во Франкфурт в начале 1797 г., в город, который, возможно, менее всего походит на выдуманный Элевсин. Это уже столица крупной торговли и финансовой олигархии. Меркантильный дух правит там безгранично, и греческие боги прячут лицо. Блеск денег затмевает все, дряхлые идолы уходят в тень. Власть обитает в храме новых времен — на бирже. Там, в Берне, Гегель свел знакомство с плутократией, еще аристократической и патрицианской. Здесь патриархальные условности изжиты, деньги владычат, обходясь без красивых фраз.
Хозяева Гегеля, Гогели, также участвуют и более чем на равных со всеми в этом наступлении воинствующего капитализма, предвкушающего всемирную победу. Тем не менее можно предположить, что в их случае культ золотого тельца облагорожен гуманными и просвещенными чувствами, ибо они живут и мыслят во франкмасонской среде, унаследованной от XVIII века, дышат воздухом баварского иллюминизма, высшими представителями которого являются[149].
«Принципала» Гегеля, Жана Ноэ Гогеля, изберут в провинциальную ложу 5 декабря 1801 г.[150] Мы не будем задерживаться на описании повседневной жизни в доме Гогелей и царившей там интеллектуальной атмосферы. Вместо этого перелистаем страницы воспоминаний Шарлотты фон Кальб, у которой по рекомендации Шиллера служил домашним учителем с рождества 1793 г. по январь 1795 г. до своего отъезда во Франкфурт Гёльдерлин.'
Шиллер, который сам, возможно, официально не входил в орден, жил в окружении масонской верхушки. Когда он впал в крайнюю нужду, ему помогла выжить лишь существенная субсидия (ежегодная выплата тысячи талеров), пожалованная герцогом Шлезвиг — Голыптейнским Фридрихом Христианом, масоном и убежденным иллюминатом, по настоянию поэта Баггезена, именитого и преданного масона и иллюмината.
Именно для масонских лож по просьбе своего друга Кернера Шиллер сочинил знаменитую «Оду к радости», положенную на музыку сначала масоном Зельтером, другом Гегеля, а потом масоном Бетховеном. Этот гимн любили исполнять вместе Гёльдерлин и его юные друзья.
Воспоминания Шарлотты фон Кальб, опубликованные в 1879 г. Эмилем Паллеске, приводят в замешательство неподготовленного читателя[151]. Дом баронессы, впрочем, судя по всему крайне набожной, кишит братьями масонами, большинство из которых были также иллюминатами, высшими должностными лицами тайных орденов. Можно подумать, что там нашла себе пристанище ложа. Те, кто проживал в нем подолгу, каждый день могли встретиться со всеми знаменитостями этого очень особого круга: фон Хундом («храмовник Строгого Обета»), Хуфеландом, Варнхагеном, Кнебелем, Рейнхольдом, Кернером, Бертучем, Бонштеттеном, Маттисоном, Мигом, а также Книгге, душой баварского иллюминизма.
Шарлотта часто встречалась с главами масонства и иллюминизма и вне дома: «Во Франкфурте в одной из лож я встретила знакомых, а также доблестного Магистра, с которым я часто говорила несколькими годами раньше у Майнингена»[152]. Следует уточнение: это Книгге. В 1784 г., решающем для иллюминизма, во Франкфурте, городе, в котором один из Гогелей — старейшина Главной ложи.
По прибытии Гегеля во Франкфурт Гёльдерлин, служивший не только у Шарлотты фон Кальб, но одновременно и у Синклера, наверняка должен был его лично информировать о положении дел. Порой в коридорах роскошного жилища Гогелей слышны отзвуки речей об Элевсине. Как бы то ни было, материальными благами, которыми соблазнял его Гёльдерлин, Гегель пользуется. У него собственная комната рядом с комнатой его учеников. Гегель, которому тогда было двадцать семь лет, способен оценить эту привилегию. Человеку, грезящему о свободе, возможность обладать личной комнатой составляет едва ли не райское блаженство. Иногда ему, как в Берне, выпадает счастье обедать за хозяйским столом и отведывать хорошего хозяйского вина. Сидеть за столом богачей — какая удача, и в то же время, какое унижение, если они похожи на Бертина, над которым смеялся племянник Рамо.
По правде говоря, мы лучше представляем себе пребывание Гегеля во Франкфурте благодаря деталям, сообщаемым Гёльдерлином, чем со слов самого философа. К счастью, существуют и некоторые другие свидетельства… Со стороны Гегеля простирается эпистолярная пустыня. Конечно, у него не было весомых поводов писать, и все же, отцу, сестре, старым соученикам и друзьям в Штутгарте, Тюбингене, стародавним своим корреспондентам? Многие гегелевские документы этого периода утеряны или уничтожены. Мы почти ничего не знаем о его внутренней жизни в течение трех франкфуртских лет.
Однако три из ряда вон выходящих события, очень разные, привлекают внимание: любовная драма Гельдерлина, публикация Гегелем «Писем» Жан Жака Карта и его эссе о политическом положении в Вюртемберге.
Диотима
Приезд Гегеля во Франкфурт, с нетерпением ожидавшийся Гёльдерлином, который жил там уже в течение года, еще больше укрепил, если такое было возможно, горячую привязанность друзей. Возможно, вмешательство Синклера сыграло решающую роль, но посредничество Гёльдерлина тоже способствовало устройству Гегеля у Гогелей, и оно было еще более очевидным и трогательным. Испытываемое ими друг к другу доверие, братские отношения и взаимное восхищение столь же велики и исключительны, сколь радикальным окажется близкий разрыв. После отъезда, вернее, бегства, Гёльдерлина, они больше ничего не напишут друг другу и больше не встретятся.
Очень красноречиво молчание Гегеля, который отныне ни словом не обмолвится о Гёльдерлине. Позже в своем огромном и знаменитом курсе «Эстетики» он ни разу не упомянет имени одного из самых больших немецких поэтов, которого знал лучше всех с самых разных сторон, с которым по — братски делил горести, переживал драматические события, происшедшие, в частности, во Франкфурте. Тогда как Хайнзе, Иффланд, Хиппель и другие фигуры много меньшего масштаба им упомянуты…
Словно надгробную плиту навалили на память о дружбе. Гегель укрыл воспоминания в глубокой немой печали. Эта мужественная манера поведения не однажды сопутствует жизни Гегеля: сделать вид, будто события, оставившего глубокую рану в душе, вообще не было; упрятанное, однако, больше терзает.
Авторы, которых Гегель не упоминает и даже имени которых предпочитает не произносить, — вовсе не обязательно оказавшие на него наименьшее влияние, положительное или отрицательное.
Молчание Гегеля — не следствие забывчивости, невозможной, и не небрежения, немыслимого; оно свидетельство тяжело переживаемого разрыва. Такого, что и говорить о нем он не в силах. Конечно, он был менее эмоциональным человеком, нежели его друг, но переживал глубоко. История с Гёльдерлином, в которой он принимал деятельное участие, эпизоды и детали которой были известны только ему, замкнула уста Гегеля, ибо он любил бедного поэта. Не исключено, впрочем, что за эти три года во Франкфурте Гегелю самому случилось пережить что‑то подобное. Как узнать об этом? И был ли Гегель всего лишь конфидентом?
Гёльдерлин поступил на службу домашним учителем в семейство Гонтаров в начале 1796 г. Ему были доверены двое детей.
Семейство было родом из Франции, его глава, крупный франкфуртский банкир и торговец, интересовался только делами и финансами, не читая ничего, кроме сведений о курсах акций, и отвлекаясь от работы исключительно для самых банальных развлечений. Его девиз характеризует его сполна: «Дела прежде всего!».
По — видимому, они с супругой не очень подходили друг другу. Сюзетт Гонтар (1769–1802), чувствительная особа, мечтательная, восприимчивая к искусству, к поэзии, всему возвышенному, с прекрасным лицом, озаренным светом ума, являла собой во многих отношениях резкий контраст с обликом, стилем жизни и вкусами супруга.
Гёльдерлин, бывший, примерно, ее сверстником, восхищен и потрясен. Так должно было случиться: две благородные души с общностью склонностей и антипатий полюбили друг друга. Завистливая подруга дала знать часто отлучающемуся супругу, пробудив в нем ревность. Муж сделался раздражителен, и его можно понять, хотя и не одобрить.
Однажды вечером (1798) вспылив, он обошелся с Гёльдерлином грубее обычного.
Гёльдерлин, не упоминая о лирической подоплеке, решающей, однако, в этой истории, и даже, напротив, скрывая ее, перечисляет в письме к матери унижения, которые ему приходится претерпевать на службе у Гонтаров, подтолкнувшие его, по всей видимости, к решению оставить место. Примерно то же мог бы написать Гегель о своей службе у Гогелей, да и любой домашний учитель в Германии того времени. При всем при том следует уточнить, что ни Гёльдерлин, ни Гегель не переживали ничего из ряда вон выходящего, в их положении трудно было ожидать чего‑то лучшего, чем то, что им предлагалось у Гонтаров или Гогелей, как, впрочем, и ранее у Штайгеров.
Гёльдерлин пишет матери, уже покинув Франкфурт, из Гомбурга от приютившего его Синклера: «Привязанность [моих учеников] и счастливые плоды моих усилий часто радовали меня, облегчая мне жизнь. Но высокомерная грубость, неизменное сознательное презрение к какой бы то ни было науке, культуре, убежденность в том, что учитель, будучи прислугой, не вправе чего‑либо требовать, раз ему платят и т. п., а также многие другие замечания в мой адрес, ибо это обычная манера поведения во Франкфурте — все это меня ранило, несмотря на то что я пытался быть выше, и наполняло глухой злобой, вредящей как телу, так и душе. […] Если бы вы могли видеть, до какой степени богатые торговцы, в частности, во Франкфурте, раздосадованы нынешними событиями [подчеркнуто Гёльдерлином], и как они вымещают свою досаду на всех, кто от них зависит, вы поняли бы меня»[153].
Напомним, что менее, чем за два месяца до того, он уверял мать после встречи с братом: «Пусть мой дорогой брат, со своей стороны, скажет вам, легко ли оставить таких достойных людей, как те, у кого я живу, и столь образованное общество, ежедневно меня радующее. Г-н и г — жа Гонтар понимают, как и я, как вам хотелось бы, чтобы я был подле вас… Мы говорили о вашем письме и испытывали одни и те же чувства …»[154]
Тем временем атмосфера в доме Гонтаров становилась все более тяжелой. Быть слугой — куда ни шло, но возлюбленным хозяйки, унижаемым перед нею!
Поэт покинул место в других обстоятельствах и по другим причинам, чем те, о которых он писал матери. Он еще продолжал какое‑то время тайно обмениваться письмами с той, кого увековечит в своих произведениях под именем Диотимы. Трудно сказать, эта ли разлука стала причиной умственного расстройства поэта, или оно началось ранее. Так или иначе, отныне для двух и прежде хрупких существ, а теперь окончательно сломленных, жизнь сделалась невыносима. Сюзетт — Диотима вскоре умерла от тифа, в 1802 г. тридцати трех лет от роду, в это время Гёльдерлин жил в Бордо. Известие пришло в город, когда после очередного скандала он уехал и вскоре впал в безнадежное безумие. В Тюбингене недалеко от Неккара еще можно увидеть скромную башню, в которой он жил остаток жизни в помраченном состоянии у одного ремесленника вплоть до 1843 г.
Очевидно, что Гегеля эта романтическая история потрясла — он был не столько свидетелем, сколько братом, иногда советчиком — Гёльдерлин охотно прибегал к советам того, кого считал в отличие от себя «человеком рассудительным и спокойным», что также было преувеличением[155].
Позже Гегель будет вспоминать «злосчастный Франкфурт» (Das unglückselige Frankfurt). Добрых воспоминаний о пребывании в нем у него не останется. Несчастья Гёльдерлина, воззвавшего к нему о помощи, заслонили образ города. Для него это также был первый жестокий опыт разрыва отношений. Потом будут другие: он расстанется с Шеллингом. Тройственный союз «тюбингенских товарищей» распадется. Позже его ждет разрыв с йенской сожительницей, с родным сыном. Вскоре умрет Синклер.
Однако как раз во Франкфурте встречает Гегель этого нового друга, который действительно занимался его устройством к Гогелям. Исаак фон Синклер (1775–1815), личность исключительная, после бурной мятежной юности — «советник дипломатической миссии» во Франкфурте. Его дружба с Гегелем говорит об идеологических и политических симпатиях молодого философа даже больше, чем дружба с Гёльдерлином. Наследственный франкмасон, вослед отцу, в 1805 г. он очень решительно ввяжется в заговор против принца — курфюрста Вюртембергского, за что сядет на пять лет в тюрьму, обратится в фихтеанство и будет черпать поэтическое вдохновение у Шиллера и Гёльдерлина. Крупная личность!
Нет сомнения, Гегель не остался вовсе чужд мятежному духу Синклера и их общих друзей. К тому же, его имя упоминается в протоколах допросов злосчастных заговорщиков. Больше мы ничего не знаем[156].
Письма Жан — Жака Карта
О «внешней» деятельности Гегеля во Франкфурте нам на самом деле ничего не известно, за исключением одного эпизода, о котором ничего не знали почти все его современники, и даже друзья были осведомлены не все. Не знали в течение всей жизни Гегеля и еще долгое время после смерти. Но можно предположить, что он не собирался ничего скрывать, по крайней мере, от Гогеля, Гёльдерлина и Синклера.
В 1798 г. Гегель публикует анонимно у Йегера во Франкфурте немецкий перевод с собственным предисловием и примечаниями «Писем Жан — Жака Карта Бернару де Мюраль, казначею Страны Во, о публичном праве и современном положении» (Париж, 1793. «Серкль сосьяль»). Для этого он немного меняет название: «Конфиденциальные письма Жан — Жака Карта о недавнем политикоюридическом положении в Стране Во». Действительно, ситуация тем временем изменилась, репрессии из Берна, которые должны были обрушиться на Страну Во, не воспоследовали, главным образом, благодаря внезапному наступлению армии генерала Брюна. Написанное Гегелем предстало не как памфлет против бернцев, но как пример краха тирании в Швейцарии, урок и назидание другим странам. История все же учит.
Итак, Гегель осуществляет эту публикацию через два года после своего отъезда из Швейцарии. Не поддается выяснению, когда и при каких обстоятельствах были переведены и проанализированы эти письма. Изумляет время публикации! Впоследствии он никогда не хвалился этим подвигом, никогда, насколько известно, не упоминал его и умудрился в течение всей жизни скрывать свой переводческий труд. Правда и то, что анонимная публикация большого шума в его время не произвела. Возможно, она изначально предназначалась очень узкому кругу избранных читателей. Но тогда, берясь за такое ограниченное и не обещавшее значительных доходов издание, не рассчитывало ли издательство на помощь заинтересованного в нем мецената? Не был ли им Гогель?
Публике пришлось дожидаться публикации «Бюхерлексикон» Кайзера в Лейпциге, в 1834 г., чтобы узнать — при условии внимательного прочтения словаря — кто был автором немецкого перевода «Писем Жан — Жака Карта», прочно тогда забытых: Гегель! Без этого, очень позднего, упоминания (тридцать шесть лет прошло с выхода в свет!) никому бы и не вообразить подобное литературное отцовство, впрочем, тогда никто не обратил на публикацию внимания.
«Письма» написаны адвокатом из Во, Жан — Жаком Картом (1748–1813), патриотом и революционером, противником Бернской тирании, желающим освобождения своей стране, поклонником и сторонником французских жирондистов. Сами письма — типичный образчик революционной французской «пропаганды».
Выполненный и опубликованный Гегелем перевод был подпольной работой, прежде всего в смысле анонимности (имя автора перевода тщательно скрывалось), он был издан якобы за границей и очевидно ходил по рукам, о чем говорило и название. В настоящее время в мире известно три сохранившихся экземпляра. Недавно имело место переиздание.
Но это подпольный труд еще и потому, что французский оригинал, немецкой версией которого является гегелевский перевод, тоже подпольное издание.
Примечательно, что книгу Жан — Жака Карта в 1793 г. напечатало издательство «Серкль сосьяль», один из наиболее революционных и экстремистских клубов, судя, во всяком случае, по поставленным целям, если не по средствам их достижения. Следует вспомнить суждение Маркса. Не испытывая никакой симпатии к Робеспьеру, Марату, большинству якобинцев, он делает исключение для «Серкль сосьяль» и Бабефа, предшественников, по правде говоря, дальних, его собственных идей: «Революционное движение, начавшееся в 1793 г. в «Серкль со — сьяль», главными представителями которого в период расцвета были Леклерк и Руйи, и временно потерпевшее поражение во время заговора Бабефа, позволило вызреть коммунистической идее, которую друг Бабефа Буонаротти вновь оживил во Франции после революции 1830 г. Эта идея, развитая последовательно, есть идея нового состояния мира»[157].
Вдохновителями и руководителями «Серкль сосьяль» были аббат Фоше и Николя де Бонвиль, оба со скандальной репутацией революционеров — масонов, сторонников уравнительной идеологии.
Понятно, что гегелевская публикация должна была вольно или невольно оправдать вмешательство генерала Брюна во внутренние дела Берна. Стоит ли напоминать в связи с этим, что Брюн начинал свою карьеру в качестве наборщика у Бонвиля и что он, таким образом, также, хотя и ненадолго, оказался связанным с «Серкль сосьяль»? Совпадение, по — видимому, чисто случайное, но удивительное.
Фигура издателя книги Карта усугубляла сложность ситуации с враждебным памфлетом, напечатанным за границей и ввезенным в Швейцарию с очевидным намерением импорта революции! Так считали их Превосходительства. Поэтому бернские власти решительно указали на незаконный характер издания, категорически запретив его распространение в Швейцарии. Все печатники, книготорговцы, читальни и читальные общества должны были воспрепятствовать его распространению — «не привлекая, однако, к нему излишнего внимания […]»[158].
Если Гегель читал это произведение во время своего пребывания в Швейцарии, он мог это делать только втайне. Не в те ли времена он затеял его перевести, а, может быть, тогда же закончил перевод за вычетом кое — каких пояснений, добавленных во Франкфурте?
Текст Гегеля оказался еще опаснее памфлета Карта, если принять в расчет дату его появления и события, происшедшие за это время в стране Во; это предостережение, немного туманное, другим странам и людям, практикующим репрессии, об уроках, которые им было бы не вредно извлечь из событий в Швейцарии. К кому Гегель, собственно говоря, обращается?
В тексте звучит угроза, неустанно повторяемая всеми умеренными революционерами тех времен, оказывающими давление на власть и ждущими от нее уступок: Discite justitiam moniti[159], и он добавляет к традиционному предупреждению увещевание собственного изготовления: «С теми, кто остался глух, судьба обойдется сурово» (D 248).
Можно лишь удивляться резкости гегелевских угроз: французские армии только что сокрушили бернскую деспотию, захватив казну и учиняя в стране незаконные поборы, но в то же самое время учредив более демократическое правление. Обращаясь к монархическим или аристократическим режимам, Гегель говорит им: вот что вас ждет, если вы незамедлительно не проведете необходимых реформ.
Примечания, которыми он уснащает текст, помогают ощутить, насколько несносным и абсурдным был прежний бернский режим, описываемый и анализируемый в книге. Каких тогдашних угнетателей имеет он в виду, обращаясь к ним с предостережением?
Гегель мог повсеместно твердить, что философия «не имеет цели указывать, каковым быть миру»[160], что единственная ее задача — «понять то, что есть», не строя планов на будущее, до которого ей нет дела. Но так это лишь для крупных периодов, цивилизаций, глобальных социальных и идеологических структур. Порой Гегель склонен допускать то же и в случае менее масштабных событий и институций. Колебался ли он, определяя их границы?
Так или иначе, но в то же самое время Гегель не упускает случая дать властям совет относительно того, как им себя вести, поучая их, не допуская мысли о том, что история может закончиться. Более того, угрожая, предостерегая, он пугает тем единственным, что может их смутить, — революцией.
Таков конец его предисловия к «Письмам» Карта, и таким же будет в 1831 г. окончание его статьи о Reformbill.
Эта публикация говорит, во всяком случае, о прочных революционных настроениях Гегеля. Ему двадцать восемь лет, у него богатый жизненный опыт. Он знает, на что идет: это, и правда, был чреватый последствиями шаг.
Друзья Гегеля содрогнулись бы при одной мысли о том, что могло произойти, если бы в Берлине в 1818 г., когда решался вопрос о назначении в университет, ко многим причинам для подозрений добавилась бы новость о том, что он поставлял в Германию этакие подрывные идеи. Досталось бы ему! Или если бы в 1825 г. в самый разгар полицейских и судебных репрессий против тайной подрывной деятельности, в частности, заграничной, и во время суда над Виктором Кузеном вдруг в каких‑нибудь папках обнаружилось бы упоминание об этой рискованной франкфуртской публикации! Обвиняемые по делу Кузена так далеко не заходили, во всяком случае, они были достаточно осторожны и не оставляли столь явных, столь легко идентифицируемых свидетельств безрассудства.
Как это бывает со всякой «подпольной», в широком смысле, публикацией, ее литературное отцовство, очевидно, тайной было не для всех. Не верится, что Гегель не открылся Гёльдерлину и Синклеру, и что он действовал, не обсудив с ними упомянутые пункты памфлета. Еще менее представимо, чтобы «принципал» Гегеля, негоциант Гогель, был не введен в курс дела. Кто знает, может быть, Гогель все это и задумал? Возможно, он помог найти издателя, наверное,^это сделать было нелегко. Правда, этот самый издатель, Йегер, под общую мерку издателей не подпадает[161]. Но нам никогда бы не удалось завершить исследование, если бы мы захотели разведать все возможности, открывающиеся благодаря «Письмам» Жан- Жака Карта.
Знакомство с гегелевским демаршем исключительно важно для характеристики его личности. Как бы ни сложилась дальше его жизнь, в этот период он твердый шаг сделал. Забудет ли он когда‑нибудь дерзкую выходку, это диссидентство, этот мятеж? Оставит ли она след в его душе? Во всяком случае, кроме как в самой публикации, имя Жан — Жака Карта им ни до, ни после письменно или устно ни разу не упоминается.
Первые историографы Гегеля о многом могли не догадываться. Ни Розенкранц в 1844, ни даже Куно Фишер в 1901, а также Дильтей в 1905 г. о «Письмах» Карта не сообщают. Этот эпизод, как и многие другие из жизни Гегеля, остался неведом Ружу, Марксу, Энгельсу, Кьеркегору. Много времени должно было пройти, прежде чем неотчетливые очертания фигуры подлинного Гегеля, начали вырисовываться…
Насколько нам известно, во Франкфурте Гегель на такую дерзость больше не отважится. Другие его писания этого периода остались лежать в еще более глубоком «подполье», чем перевод «Писем»: он даже не будет пытаться их опубликовать, бережно сохраняя рукописи.
Листовка
В том же 1798 г. Гегель составляет то, что немцы тогда называли Flugblatt, «летучий листок», листовка, памфлет, касающийся его родины, Вюртемберга. Поначалу он называет его так: «Народ должен выбирать магистратуру (членов муниципалитета)!». Что, конечно, было радикальным новшеством! Потом, поразмыслив, выбирает, по крайней мере, более осторожное заглавие: «О новой ситуации в Вюртемберге, в частности, о статусе членов муниципалитета» (R 91–94).
В стране только что получил власть герцог Фридрих, будущий король. Гегель полагает, что смена власти благоприятствует проведению необходимых реформ. Он воодушевлен идеей глубокого обновления — тогдашним владыкам, а равно тем, с кем ему придется иметь дело до конца жизни, было чего опасаться. Гегель, можно сказать, a priori, провозглашает необходимость перемен в принципе, подтверждая эту необходимость на примере Вюртемберга. Как говорит Поль Рок, он развертывает «настоящую теорию мирной революции»[162].
У современных ему авторов едва ли встретишь подобный протест против безволия, терпения, безропотности: «Покорное подчинение существующему положению дел, отсутствие надежд, безропотная отдача себя на милость всемогущей судьбы сменились надеждой, страстным ожиданием чего‑то иного. Образ лучших, более справедливых времен живо запечатлелся в душах людей, и стремление к более чистому, более свободному состоянию, тоска по нему взволновали все сердца, поссорив их с действительностью. Желание смести жалкие преграды сделало их готовыми на что угодно, даже на преступление».
И еще: «Как слепы те, кто хотел бы верить, что институции, конституции, законы, более не соответствующие нравам, потребностям, людскому мнению и покинутые духом, проживут долго, а формы, к которым потерял интерес ум и охладело чувство, способны удержать народ в оковах»[163].
Итак, Гегель требует для Вюртемберга конституции, конечно, монархической, но представительской в современном смысле термина.
Это была большая дерзость.
Гегель, разумеется, собирался напечатать эту листовку. Однако, хорошо сознавая опасность и внимательно отслеживая конкретную политическую ситуацию, он предпочел «предварительно посоветоваться в письмах со своими друзьями из Штутгарта», а по существу, сообщниками, людьми, как и он, трезво мыслящими и информированными[164].
По их совету Гегель отказался от публикации.
Это полемическое эссе было равным образом осуждено на подпольное существование: рукопись, предназначенная для публикации, прочтения и оценки теми, на кого она могла бы повлиять, так и осталась рукописью.
Историческая теология
Гегель еще не сосредоточился на одном исключительном призвании. Он занимается разными вещами и пробует себя в разных областях. Известно, что во Франкфурте он написал комментарий, к несчастью утраченный, к сочинениям экономиста Джеймса Денхема Стюарта. Подготовил очерк о политическом положении в Англии. Затеял большой труд по вопросу о конституции в Германии, который продолжит и закончит уже в другом — очередном — месте своего пребывания, в Йене.
Разумеется, его философские размышления шли своим ходом, и трудно поверить, чтобы на них в какой‑то мере — очень опосредованно — не сказывались житейские дела и опыт политических начинаний. Памятуя о сказанном, уместно обратиться к одному произведению, в котором как раз в большей мере речь идет о жизни, чем о философской системе.
Франкфуртский период — время наибольшего распространения критической философии Канта. В 1797 г. вышла «Метафизика нравов», и Гегель сделал к сочинению комментарий. Следует принять во внимание, что Гегель знакомился с философией Канта по мере издания произведений философа, не имея возможности охватить систему его воззрений в целостности, разобраться с исходной точкой в ее отношении к финалу, не быв в курсе посмертных публикаций, всего того, что легко сделать в наши дни. Это был способ изучения философии Канта, сильно отличающийся от нашего.
Гегель разворачивает критику кантовского мышления, по мере того как появляются излагающие его точку зрения публикации. Всякий раз выход очередного произведения приносит большие или меньшие неожиданности. Гегель на них откликается примерно в том же духе, что и Фихте и Шеллинг, хотя последние не во всем с ним согласны. Он все более противится тому, что составляет самую основу кантовского учения, противопоставлению познающего духа и «вещи в себе», решительно отворачиваясь от этого противопоставления в сторону некой разновидности философского монизма. Постепенно он приходит к разработке некоего учения о «я», в котором оно перестает быть местом пребывания пустых отвлеченных форм, но утверждает себя как творческая деятельность, созидающая собственные содержания.
Он перестает доверять кантианской морали, прежде всего ее ригоризму, и намечает контуры этического универсума, основанного уже не на понятии долга, но на идее жизни.
Во Франкфурте у Гегеля хватает досуга: он много пишет, если судить по количеству сохранившихся или документально зафиксированных рукописей, причем, судя по всему, ничто из этого обильного наследия не пропало. Как в Тюбингене и в Швейцарии, он неустанно плодит тексты без расчета на публикацию, разбрасываться ими, впрочем, он тоже не будет, бережно сохраняя то, что затрудняло ему жизнь при долгих и частых переездах.
Вот еще одна проблема. У этого упорного желания сохранить писанное смолоду, очень особенного по характеру, вероятно, имелись не сиюминутные и преходящие причины, но основательные, с которыми было бы интересно разобраться. Пусть смерть настигла его внезапно, для него она не могла быть такой уж неожиданной, ведь не сомневался же он в том, что когда‑нибудь она придет, и тогда, учитывая его известность, исследователи начнут рыться у него в бумагах, обнаружат ранние труды, воспользуются ими в тех или иных целях, опубликуют. Если бы он опасался непредусмотренной публикации или не рассчитывал на нее, у него был радикальный способ избежать таковой, уничтожив пожелтевшие от времени листы.
Он этого не сделал, что наводит на мысль о преданности или привязанности к исследованиям и открытиям молодости, к идеям, позже так или иначе проглядывающим в зрелом творчестве, в котором они являют себя скрыто, и наиболее проницательные читатели порой угадывают их присутствие.
Среди франкфуртских сочинений имеется одно — ему Ноль даст отдельное название: «Дух христианства и его судьба».
Само заглавие гегелевского текста свидетельствует в каком‑то смысле его не слишком богословский характер, имея в виду тот смысл, которым обычно наделяют прилагательное «богословский» в наше время, по крайней мере во Франции. Гегель видит в христианстве некую институцию, подвластную «Стиксу и Судьбам» не меньше, нежели прочие человеческие учреждения.
Гегель дает реальное, едва ли не социологическое описание исторической эволюции христианства, как он себе ее представляет, эволюции в сторону «позитивизации» и вырождения, случившегося вопреки намерениям основателя христианства, намерениям все более неосуществимым. В самом подходе к вопросу угадываются чаяния автора, продолжающего поиски, вполне, впрочем, безнадежные, основания для новой религии, которая оказалась бы спасительной для народа. Последняя фраза произведения припечатывает поражение христианства, по крайней мере в указанном смысле: «Такова судьба христианской церкви: церковь и государство, служение Богу и жизни, набожность и добродетель, действие духовное и временное никогда не смогут образовать единства»[165].
«Христианство и его судьба» и другие религиознополитические произведения этого периода, вызывая неослабевающий интерес у наших современников, зачастую вводят их в заблуждение. Труды молодого Гегеля в ущерб трудам зрелого философа, берлинского Гегеля, оцениваются слишком высоко. Возможно, недостаточно учитывается такая отличительная черта гегелевского мышления, как его непрерывность. Как говорил Дильтей, в этих текстах молодости проявляется вся гениальность гегелевского историзма, который только что народился и еще свободен от пут системы»[166].
В этих текстах Гегель по — новому толкует многие вещи, и подчас они таят смертельную опасность для религии, питающейся из столь древних источников. Он все более и более решительно преодолевает (если словом «преодоление» переводить гегелевское Aufhebung, «снятие», которое означает для него одновременно отрицание, сохранение и возвышение) как традиционную религиозную и философскую догматику, так и отвергающее эту догматику Просвещение. Просвещение и его враги располагаются, на самом деле на одной и той же, как сказали бы сейчас, эпистемологической плоскости, или на одном и том же уровне развития сознания, — вот эту‑то плоскость, этот уровень и нужно покинуть во имя перехода на иной, более высокий уровень.
Гегель увлеченно описывает процессы развития, типичные формы исторической эволюции, их последовательные этапы, непохожие друг на друга и контрастирующие между собой, а также связи и взаимозависимости (Zusammenhänge) элементов, или моментов, казавшихся поначалу никак друг с другом не связанными и даже противостоящими и исключающими друг друга. Он начинает становиться философом истории.
Его мышление вначале интуитивно, затем обдуманно идеалистично. Он силится постичь то, что называет «духом» изучаемых им исторических сущностей, иудаизма, Древней Греции, христианства. Гегель определяет дух народа, эпохи и пытается перевести свое понимание на язык понятий, основываясь на многочисленных и самых разнообразных конкретных свидетельствах и документах.
В то же время он возобновляет исследования на тему — на самом деле смежную — «Позитивности христианства», работая над бернским текстом, для которого пишет новое введение (1800). Это наращивание усилий и умножение рукописей, похоже, говорит о желании опубликовать их, желании тайном и не воплотившемся.
Итак, во Франкфурте Гегель отдается плодотворной умственной деятельности, немного беспорядочной. Для биографа как раз и представляет интерес то, что однозначно философскими эти опыты не назовешь. По правде говоря, те из них, которые имеют отношение к «Позитивности» и «Судьбе», вообще не поддаются какой‑либо традиционной классификации.
Но как раз к концу пребывания во Франкфурте Гегель начинает заботиться о придании большей методологической строгости своему мышлению, и он ее демонстрирует на нескольких страничках, показательно названных им Systemfragment («Фрагмент системы») и завершенных 14 сентября 1800 г. незадолго до отъезда в Йену, куда он прибудет в январе 1801 г.[167]
Он мечтает, стало быть, о собственной философской системе. Он предлагает ее набросок, в котором исходит из понятия бесконечной жизни, сближаемого с понятием духа. Прощай Кант! Гегель часто будет прибегать к такому более или менее полному уподоблению одних фундаментальных философских понятий другим.
Его понимание духа диалектично настолько, что дух сам по себе оказывается трудноотличимым от духа диалектики. Он прибегает к формулировкам, логическим и спекулятивным в одно и то же время, от которых не откажется в более поздних произведениях: жизнь это бесконечное разнообразие, противостояние, бесконечное опосредование, равно как и дух, «живое единство разнообразия». Разве не это провозгласил Гераклит: ëv Siacpépou éauxco![168]
Промежуточный итог
Незадолго до того как покинуть Франкфурт, Гегель представляет своему ^другу Шеллингу, с которым он вскоре встретится в Йене, нечто похожее на путеводитель по своей интеллектуальной жизни. Это единственное письмо, оставшееся от франкфуртского периода, помимо игривых писем Нанетт Эндель. Оно датировано 2 ноября 1800 г.
Интересно, что Гегель рисует свою жизнь такой, какой бы ему хотелось представить ее другу. Можно сравнить этот автобиографический набросок с тем curriculum vitae, который он предоставит несколько лет спустя в распоряжение Гёте. Впрочем, не рассчитывает ли Гегель на то, что Шеллинг, уже устроившийся в Йене, познакомит с его письмом неких высокопоставленных лиц или, по меньшей мере, доведет до сведения этих лиц его содержание: «В моем научном образовании, которое началось с изучения самых насущных потребностей человека, я по необходимости был влеком к занятиям наукой, и идеалом моей юности неизбежно должна была стать форма рефлексии, преобразующейся в систему; и вот теперь я спрашиваю себя, коль скоро меня все это еще занимает: как сыскать средство, которое вернет нам способность воздействовать на человеческую жизнь. Из всех, кого я вижу вокруг себя, ты мне кажешься единственным, в ком я хотел бы обрести друга как с точки зрения выражения идей, так и в смысле воздействия на мир; ибо я вижу, что ты постиг человека совершенным образом, т. е. всей душой и без тени тщеславия».
И он добавляет, немного льстиво, немного просительно: «Вот почему я гляжу в твою сторону с таким доверием, я хочу, чтобы ты помог моему бескорыстному усилию и смог оценить его, даже если оно не достигает высоты твоих помыслов» (С1 60–61).
Что имеет в виду Гегель, говоря о «самых насущных потребностях человека», с которых он якобы начинает? Может быть, он имеет в виду не политические и религиозные вопросы, а бытовые, биологические, экономические проблемы? Шеллинг, который его знал, должен был об этом догадаться. По крайней мере он признает — да и как можно было скрыть это от товарища по Тюбингену — что поначалу его интеллектуально занимали вовсе не теология, философия или метафизика.
Когда Гегель покидает Франкфурт, завершается та половина его жизни, которая приходилась на XVIII век. Все его затянувшееся формирование происходило в век Просвещения и Революции. С наступлением XIX века он получает большую свободу. Избавляется от учительства. Становится более независимым. Смерть отца и полученное наследство освобождают его на какое‑то время от денежной зависимости. Жаждущий трудов и славы, он понимает, что отстал от других молодых философов, в первую очередь, от самого блестящего из них, самого близкого ему — Шеллинга.
Рубеж века станет также рубежом его жизни. На какое- то время он сможет полностью посвятить себя философии. Наемный труд, учительство, прямая зависимость от кого бы то ни было, от воспитанников, от чужой семьи, сменятся зависимостью, менее стеснительной, от общественных учреждений.
Он уезжает так, как это, похоже, вошло у него в привычку — не оглядываясь. Этот теоретик непрерывности неустанно практикует разрывы. У него больше не будет отношений, даже эпизодических, с Гогелями и его франкфуртскими учениками, как и со Штайгерами и учениками в Берне, ни с Гёльдерлином — вот ведь! — ни с другими, не такими близкими друзьями, которых он мог обрести во Франкфурте. Он просто прекращает поддерживать отношения. Самые сильные выражения недостаточно сильны, чтобы охарактеризовать его поведение. В целом, он приспосабливается к разным меняющимся ситуациям ничуть не лучше Гёльдерлина, но жалуется не так громко, переживает про себя, зная переживаниям меру, голову сохраняет холодной.
Два письма, относящиеся к тем временам, когда он уже уехал из Франкфурта, дают известное представление о том, что связывало Гегеля с этим городом.
В одном — от Виндишманна (С1 277 и 282) — упоминается имя Иоганна Христиана Эрмана (1749–1827), врача, сторонника Французской революции, активного, ангажированного франкмасона и иллюмината, друга семьи Гогелей. Он принял деятельное участие в заседании Ложи Союза в честь Жана — Давида Гогеля в 1798 г. Гегель неоднократно дружески отзывается о нем в своей переписке.
В другом — письме самого Гегеля (С1 67–68), адресованном Вильгельму Фридриху Хуфнагелю (1754–1830), богослову и педагогу, другу Паулюса, он просит передать привет друзьям. От такого количества франкмасонов в окружении философа у биографа уже поистине кружится голова: сам Хуфнагель, член коллегии (jury des prix) ложи Союза, коммерсант Фольц, банкир Банза с семейством, профессор Моше, имена, многократно упоминаемые в «Анналах ложи Союза»[169].
IX. Йена
Если бы все, что я еще могу совершить, прибавить к тому, что Вы основали и возвели!
Гёте. Письмо Гегелю, 1824 (С2 42)
Гегель с облегчением оставляет «Франкфурт, город печали» (С1 297). Сказать по правде, не так уж много личных горестей пришлось ему там пережить. Привязанности к этому месту он чувствовал не больше, чем к любому другому из тех, в которых ему доводилось какое‑то время проживать, везде довольно стесненно.
На этот раз небольшое наследство предоставляет ему хоть какую‑то возможность выбора. Гегель останавливается на месте, обещающем в его положении наибольшие выгоды, — на Йене. В некотором смысле едва ли это выбор. Молодые немецкие интеллектуалы могут спорить насчет высокого духовного предназначения человека, но в том, что касается презренного земного удела, они единодушны: лучше Веймар — Саксонии убежища не найти.
Это был знаменитый центр культурной жизни, славный присутствием таких гениев, как Гёте и Шиллер с их неиссякаемой творческой энергией. Великие писатели и художники по большей части проживали в Веймаре. В Йене, втором по значению городе этого крошечного государства, располагался университет, в котором расцветала новая, живая, отважная философия.
В культурном отношении великое герцогство Веймар- Саксония превосходило другие немецкие «государства»: министром образования и культов в нем был не кто иной, как Гёте, величайший из поэтов и — хотя все в мире относительно — свободный и открытый ум.
С 1787 г. Рейнхольд начал преподавать в Йене философию Канта, с которой ему мало — помалу, действительно, удалось познакомить публику. Фихте наследовал ему в 1794 г., развернув философскую и педагогическую деятельность, шумную, напряженную, лихорадочную вплоть до 1798 г., даты, когда ему пришлось оттуда срочно уезжать.
Вослед этим двум светилам, решительно противостоя их доктринам, блистает ярче прочих Шеллинг, собирая вокруг себя любознательных, всех, кого больше не устраивала обветшавшая традиция, и кто стремился, часто вслепую, к обновлению.
Шеллинг, все еще верный друг, видел к тому времени в Гегеле более ученика, чем соперника. Он звал его придти и занять место рядом с ним в идеологической битве, обещал помощь и совет, предлагал сотрудничество. У Гегеля не было причин для колебаний.
По многим параметрам пребывание в Йене являет собой самый творчески активный период в жизни Гегеля. Не то чтобы он не произвел ничего великого впоследствии, и особенно в конце своего пути, — в Берлине. Но именно в Йене обрели форму идеи, отличающие его от других мыслителей, идеи, которые он всесторонне разовьет и модифицирует, применяя к самым разным ученым сферам: Йена — это вырабатывание того, что Гегель назвал «непостижимыми понятиями» (des concepts inconcevables).
Такой творческий взлет побудил многих биографов, особенно под влиянием экзистенциализма XX века разделить его духовную жизнь на две части, едва ли не противопоставляя одну другой: до и после Йены. Они превозносят «молодого» Гегеля, изобретательного и отважного, в сравнении со «старым», чей вялый склеротический ум питается жвачкой прежних интеллектуальных завоеваний. Поначалу революционер, а в конце обыватель, парвеню: какое падение!
Такое разграничение порождено оценками, по меньшей мере, спорными. Чтобы засомневаться, достаточно перели — стать пухлые тома берлинских «Лекций». Они, несомненно, многим обязаны йенским открытиям, но добавляют к ним обилие материалов, обретенных недавно, новых аспектов и сведений, уточнений и исправлений. К тому же все время на свет являются новые версии.
Как бы то ни было, Йена, конечно, была удивительно насыщенным периодом творчества, отмеченным интеллектуальными удачами, и также, это правда, периодом житейских и профессиональных огорчений, всегда поучительных для Гегеля, так или иначе на нем сказывавшихся.
Его отец умер в январе 1799 г. После раздела имущества между братьями и сестрой Гегель получил в наследство 3 154 флорина. Какое‑то время он мог жить совершенно независимо, но сначала он должен был закончить со своими обязательствами во Франкфурте.
В Йену он прибыл в январе 1801 г.; там ему предстояло прожить шесть лет. К несчастью, некоторые из знаменитостей, составлявших славу Веймар — Саксонии, только что покинули эту страну или собирались сделать это: Фихте, Нитхаммер, Паулюс… Шиллер умрет в 1805 г. С их уходом страна теряла престиж и притягательность. Но словно в возмещение этих печальных потерь на освободившиеся места хлынул поток молодых честолюбцев, ищущих должностей, творчества и известности. Подобно им Шеллинг и Гегель не отличались отсутствием аппетита. Они были готовы поглотить все.
Трудно даже вообразить обстановку соперничества, едва ли не вражды, созданную тогдашними, прежде всего, молодыми преподавателями университета. К концу своего пребывания в Йене Гегель обронит: «звериное царство духа»[170]. Мы бы, пожалуй, сказали: интеллектуальные и социальные джунгли.
Сначала Гегеля будут считать «учеником Шеллинга», как его аттестует Швайгхойзер в 1804 г. в первой французской заметке, в которой имена обоих друзей поставлены рядом[171]. На самом деле ему очень нужны публикации. Кроме анонимного перевода «Писем» Жан — Жака Карта, которым он не очень‑то мог хвалиться на публике, Гегель еще ничего не опубликовал. Гёльдерлин уже известен своими самыми значительными произведениями, да и Шеллинг то и дело громоподобно взрывается философскими сочинениями.
Более сносные условия жизни в Йене и предписания, вначале братские, Шеллинга, подвигают Гегеля на напряженную работу, результатом которой станет ряд статей и позже — «Феноменология».
Чтобы быть принятым в университет, он, чуть ли не сразу по прибытии в Иену, представляет для защиты «инаугурационное сочинение», что‑то вроде небольшой диссертации, об «Орбитах планет» (De orbitus planetarum), насчитывающее 25 страниц[172]. Несомненно, идеи на эту тему сложились у него, благодаря обширному чтению, уже в Швейцарии[173]. Они предполагают серьезную научную подготовку и отмечены острой критической направленностью.
Гегель объявляет в этой диссертации о решительном неприятии теорий Ньютона, которым он так до конца и останется враждебен. Резко выступая против всякой по существу «механистической», «математизированной» науки в пользу витализма и обычных установок «Философии природы», типа шеллинговой и некоторых других авторов, он непоправимо компрометирует свои научные исследования и размышления.
Гегель старается согласовать свой общий подход с законами Кеплера, по счастью, немецкого ученого. В отсутствие объективных данных, и принимая во внимание только даты, можно сказать, что окончательная версия диссертации была сшита на скорую руку, — это отчасти объясняет и извиняет как заносчивый тон, так и поразительные неувязки и лакуны.
Защита пришлась как раз на 27 августа 1801 г., день рождения Гегеля. Простое совпадение? Оно может навести на мысль о том, что испытание было не более чем простой формальностью.
Докторская работа Гегеля не имеет отношения к тому, что мы ныне называем, собственно, философией. Разумеется, философия в то время не имела своих строгих рамок и не отделялась от частных наук, но Гегель берется трактовать специфические проблемы астрономии! «Философия» здесь сводится к тому, чтобы укрыться под крылом шеллингианства и проявить бесцеремонность в обращении с результатами наблюдений. Чистая спекуляция, «спекулятивная» наука, — такова была входившая в моду ориентация «Философии природы».
В своем исследовании Гегель самонадеянно пытался теоретически заполнить лакуну в ряду известных тогда планет между Марсом и Юпитером. Но вскоре станет известно об открытии за шесть месяцев до того другой планеты, названной Церера. Так что теоретического восполнения лакуны не требовалось. Церера, которую Гегель не так давно восславил, подвела философа…
Если автор обнаруживал незнание и легкомыслие в диссертации о планетах, то куда смотрело жюри, присудившее ему степень доктора за недостоверное исследование? Но жюри было довольно тесным кругом знакомых, собравшихся вокруг кандидата по случаю его юбилея. И тогда содержание диссертации, — а так это бывало во все времена — возможно, не так уж важно, к тому же и выдумки «Философии природы» не казались такими шокирующими, какими они кажутся в наши дни.
К защите диссертации Гегель прибавил защиту «12 тезисов», также на латыни, которые должны были стать предметом публичной дискуссии, т. е. обсуждаться в присутствии жюри и двадцати пяти свидетелей. Тезисы говорят кое — что об уровне логико — философского и этического мышления Гегеля к 1801 г. (R 156–159).
Первый тезис звучит так: «Противоречие — мерило истинного, отсутствие противоречия — признак ложного».
Второй: «Силлогизм — начало идеализма».
Заметно, что контуры окончательной философии Гегеля уже проступают здесь очень четко, по меньшей мере, контуры ее оснований. Предваряют ее и некоторые другие тезисы. Шестой: «Идея — это единство конечного и бесконечного, и вся философия живет в идеях». Девятый: «Начало науки нравственности (Sittlichkeit) — это благоговение пред судьбой (Ehrfurcht vor dem Schicksal)». И еще более скандальный для кантианцев, двенадцатый: «Совершенная нравственность (Sittlichkeit) противоречит добродетели»!
Может быть, латинские тезисы значили столько же или больше для оценки кандидата, чем сама диссертация? При номинации начальство, несомненно, обращало внимание не столько на действительное содержание работ, сколько на репутацию кандидата, на рекомендации, которыми он обзавелся, на область философии, которую он избрал для занятий. В пору бурного подъема «Философии природы» на маленькую фактическую ошибку, затесавшуюся в общий ход суждения, внимания не обратили. Гегелевская гипотеза рискованно возникла в ряду других, порой несовместимых, но столь же ошибочных. Конечно, текст диссертации был опубликован лишь очень незначительным тиражом.
Начиная с этой даты, Гегель сопровождает свою подпись престижным титулом — Doctor des Weltweisheit. Философию все еще называли «Мирской мудростью», строго отличая от Gottesgelehrtheit, божественной науки, теологии. Великое герцогство Веймар — Саксонское, кичась дерзким обновлением, говорило о нем на языке средневековья…
После защиты деятельность Гегеля в Йене становится какой‑то лихорадочной, он очень спешит, словно торопится догнать других, старается пустить в ход, не допуская никакой передышки, все идеи, о которых размышлял прежде.
Спрашивается, что заставило Гегеля представить в качестве докторской диссертации по философии сочинение, так сказать, «научное», общего характера и, в итоге, ошибочное, тогда как у него уже имелся более серьезный труд, более близкий к действительно философским работам, и гораздо более важный для истории немецкого идеализма: «Различие между философскими системами Фихте и Шеллинга», который увидит свет также в Йене в июле 1801 г.
В нем Гегель отвергает позиции «субъективного идеализма», каковым он предстает, по его мнению, в учении Фихте, и высказывается в пользу шеллингианской попытки глобального постижения абсолюта. Но уже тут намекает на то, что теория тотального безразличия — полного неразличения — субъекта и объекта в том виде, как она сложилась к тому времени у Шеллинга, не вполне его удовлетворяет, давая тем самым почувствовать собственную оригинальность.
Это важно: в Йене Гегель самоутверждается как личность, он становится независим. Это второе рождение.
В зимнем семестре 1801–1802 гг. (сообразно традиционному расписанию немецких университетов) Гегель начинает преподавательскую деятельность в качестве приват доцента. Это всего лишь «частный курс», оплачиваемый напрямую самими студентами, хотя вскоре на него была выделена небольшая официальная субсидия.
Нет сомнения, что именно ради получения права читать этот курс, Гегель так поторопился с написанием текста на соискание степени доктора. Его первые лекции были по логике и метафизике, — позже он перестанет различать их.
Начиная с лета 1802 г., он «читал» естественное право. Затем один семестр пропустил, а, начиная с 1803 г., выбрал предметом лекций систему философии в целом. Так замкнулся круг типично гегелевских тем. В 1805–1806 гг. он приступил к преподаванию чистой математики, философии природы и духа и истории философии. Энциклопедический интерес, желание обозреть все области знания с единой точки зрения, каковая как раз из‑за своей всеобщности уже не представляет собой, собственно, «точки зрения», овладело им всецело.
Рукописи этих йенских курсов, с трудом поддающиеся прочтению, обнаруживают гегелевскую мысль в миг ее зарождения, трепетную, неповторимо изобретательную, радуя исследователей. Но такой конкуренции Шеллингу нечего было опасаться. А Гегелю, по — видимому, даже после отбытия этого блестящего профессора, не удавалось собрать много слушателей.
Наряду с чтением курсов Гегель много писал. Он продолжил и довел до счастливого завершения проект, задуманный еще во Франкфурте в 1798 г.: написать труд, в котором бы рассматривались крупные современные политические проблемы. Замысел претворился в «Конституцию Германии». Если в своем развитии, как Гегель однажды выразился, он проделал путь «от элементарных человеческих нужд» к созданию спекулятивной философской системы, то, уже создав ее, он равно никогда не забывал об элементарных нуждах.
Стараясь соответствовать собственным теоретическим требованиям, предъявляемым им к мышлению, Гегель в этом произведении ни плоско «объективен», ни идеологически нейтрален. Живое патриотическое чувство одушевляет его, пробуждая в читателе острое беспокойство за будущее страны, раздробленной, ослабленной, истерзанной. В начале он объявляет причины, побудившие его к написанию работы, следующий затем параграф перечеркивает написанное: «Последующие страницы отразили духовное состояние человека, которому горько отказываться от надежд увидеть когда‑нибудь немецкое государство, распрощавшимся со своей посредственностью, и который, прежде чем навсегда расстаться с ними, в последний раз предается очарованию угасающей мечты, едва ли рассчитывая на ее осуществление»[174].
Какая там беспристрастность!
На самом деле Гегель колеблется, ищет. Тоска по утраченному идеалу быстро сменяется какой‑то стоической отрешенностью или спинозианским фатализмом: «Обнародование мыслей, содержащихся в этом сочинении, не может иметь иной цели и следствия, нежели знакомство с пониманием существующего, а равно наиболее беспристрастным его истолкованием и способом осмотрительного отношения к действительному положению дел. Ибо не то, что есть, возмущает нас и заставляет страдать, но то, что оно не таково, каким должно быть; однако если мы согласимся с тем, что вещи таковы, каковыми им и надлежит быть, т. е. не произвол и случай в этом повинны, мы тем самым признаем, что все так и должно быть»[175].
Пусть, читая эти строки, читатель сам решит, как ему быть, что делать: смириться или взбунтоваться. Гегель же всегда сумеет отвести упрек в желании изменить ход событий, призыве к такому изменению или в том, что он его просто предвидел, «предсказал», и вместе тем ловко и вкрадчиво, в свойственной только ему манере обозначить некую перспективу, возможное вмешательство в политическую и общественную жизнь, ненавязчиво предложить наилучший, по его мнению, выбор.
Разве он уже этого не сделал в своем анализе Немецкой конституции? Что остается немцам, как не окончательно смести то, что отжило свой срок, когда, как следует из данного Гегелем описания, над ними возвышается «это сооружение с колоннами и волютами, которое торчит посреди мира, чуждое духу нашего времени»?[176] Приходится выбирать: предаваться ли дреме под сенью потрескавшейся колонны или пытаться догнать неуемный «дух времени».
Недовольство реальностью входит в состав реальности. Так вот, «все явления нашего времени указывают на то, что прежний образ жизни вызывает недовольство» и т. д.
Гегель не сдерживает горестных стонов уязвленного патриота: «Германия больше не государство!». Тюбингенский призыв: «Нужно отменить государство!»[177] больше не вспоминается.
Но слово у Гегеля не всегда совпадает с делом. Он его не публикует, этот решительный памфлет о Немецкой конституции, довольно ясный и будоражащий немцев! Современный читатель с интересом просматривает разные последовательные редакции текста, восхищается тщательностью, с которой Гегель дорабатывал текст, скрупулезностью в изложении наблюдений и анализе тех или иных вопросов. Брошюра была написана или доделана осенью 1802 г.
Почему Гегель отказался печатать брошюру? Причины, о которых обычно говорится, не слишком убедительны. Некоторые комментаторы, и среди них Розенкранц, ссылаются на то обстоятельство, что за время, прошедшее с момента замысла до осуществления задуманного, политическая ситуация в Германии настолько ухудшилась, что публикация и распространение брошюры не принесли бы никакой пользы. Она вышла бы слишком поздно, изменить уже ничего было нельзя (R 245–246).
Это объяснение неприемлемо. Во — первых, кое‑что в Германии приходилось делать, и в самом деле, позже! Кроме того, если отменять публикацию всех сочинений, запоздавших с выходом в свет, книжное дело пришлось бы свернуть. Но главное, с самого начала Гегель отметал в сторону всякую мысль о прямом воздействии. Ему хотелось только «понять».
Предостережение, или предвидение, все еще представляет интерес, даже когда о нем узнают после того, как подтвердившие его события произошли. Оно свидетельствует о прозорливости автора и — в сравнении с другими попытками — надежность метода анализа. Гегель никогда не верил, что история заканчивается, и невозможно представить себе, будто в 1802 г. он полагал, что судьба Германии навеки решена.
Можно предположить, что решение Гегеля было продиктовано другими неведомыми нам причинами или соображениями, разобраться в которых ныне нелегко.
Непрост удел первых произведений Гегеля, многочисленных и важных, обреченных на нелегальное существование, начиная с Тюбингена и вплоть до Йены, с 1789 по 1801 гг., да и в самой Йене остающихся частично под спудом в ящике стола. Тогда как в то же самое время Гельдерлин и Шеллинг обильно публикуются. Разница объясняется особенным характером гегелевских писаний. Он не меньше своих друзей, а может быть, и больше, хотел печататься, заставить говорить о себе, добиться, чтобы его оценили по достоинству, оказывать влияние, но при выборе сюжетов и тем не руководствовался соображениями пользы и не проявлял уступчивости. В окружении, среди которого он жил, а главное, у властей, которым он должен был подчиняться, его чувства и идеи вызывали раздражение.
Был ли он не в меру робок? Или не нашлось смелого издателя? Патриотические плачи, распространяемые им, слишком легко превращались в программу: в виду такой перспективы они и были непубликуемыми. Разве не утверждает он наряду с множеством других опасных намеков, что «без представительского корпуса ни о какой свободе нечего и думать»?[178]
Так или иначе, перечитывая это, погребенное в Йене, произведение, лучше понимаешь глубокую радость, которую Гегель испытает через пятнадцать лет в Берлине. После стольких упущенных возможностей и разочарований, он видит, что Пруссия поднимает, наконец, более или менее решительно, факел немецкой независимости и единства. Это вовсе не значит, что он одобряет правящий политический режим, во всяком случае, не все стороны его деятельности. Многие черты прусской монархии ему отвратительны. Но эпоха становления национальных государств еще не стала эпохой становления демократий. Он обрадуется национальному освобождению и связанным с ним надеждам, и наберется терпения в ожидании политической свободы. Германия снова становится государством, пусть и заурядным. Нужно его принимать таким, какое оно есть, потом усовершенствуем…
Бойня
В Йене Гегель охвачен какой‑то творческой лихорадкой. Он развивает и уточняет структуру и содержание философской системы, вынашиваемой с давних пор. Прежде всего он расчищает место для того, чтобы выстроить разом и новую жизнь, и новое мышление. Это момент деструкции. Гегель не изгоняет торгующих из храма, скорее, напротив, он их туда помещает, зато из храма философии удалены те, кого он считает растлителями и дешевкой. И он творит собственный образ, который захочет оставить потомкам: мэтр диалектического идеализма.
С осени 1801 года по осень 1802 он работает над рукописью по логике, метафизике и философии природы, которую впоследствии будет много раз переделывать, дополнит устными лекциями, и в которой все более заметно отклоняется от шеллингианской философской линии. Такой же новатор в философии, как и в политике, и подчиняясь тому же душевному движению, он добивается большей методичности и систематичности, чем Шеллинг, большей «научности» в собственном понимании этого слова.
Ему претит следовать примеру того, кто спешит публиковать разрозненные и отрывочные изложения своего меняющегося учения. Позже Гегель упрекнет Шеллинга в том, что «свое философское формирование он совершал на глазах у публики»[179]. Шеллинг отплатит ему, назвав «пришедшим в философию к шапочному разбору» (Spätgekommene).
Начиная с этих лет в Йене, Гегель стремится создать полную и завершенную систему философии, ибо, как он неосторожно заявляет в предисловии к своей первой большой книге, которая могла претендовать только на роль введения в систему: «Истинной формой, в которой существует истина, может быть лишь научная система ее»[180].
Несмотря на все усилия, ему придется до самого конца вносить изменения, исправления, добавления в первоначально задуманную систему, и даже в сам ее план. Так, «Феноменология», определенная поначалу как «Первая часть Системы Науки» (более 550 страниц!), в 1817 г. понизила свой статус до подраздела (10 страниц!) первой секции третьей части «Энциклопедии философских наук».
Но сначала, в Йене, нужно было дисквалифицировать и вывести из игры всех возможных конкурентов, все иные философские направления, и учредить монополию единственной истинной философии, — философии Гегеля. Для осуществления этой широкомасштабной операции Гегель на первых порах действует в союзе с Шеллингом, а затем, когда все прочие противники выведены из боя, он поворачивает оружие против Шеллинга.
Итак, для начала он отвергает «субъективный идеализм», приписываемый Фихте, и примыкает к шеллингианскому проекту абсолютного идеализма. Но уже появляются первые признаки расхождения. Мышление Гегеля по существу является логическим, и он строго подчиняет свою метафизику логике, заканчивая их полным слиянием. Он решительно становится тем, кем и является: мастером логико — диалектического метода.
Именно в работе «Различие между системами философии Фихте и Шеллинга» он сводит счеты с первым к относительной выгоде второго. Это подводит его к рассмотрению последствий указанного конфликта в общественной жизни и в нравственности. Гегель отмечает противоречие, необходимо возникающее между некой чисто юридической ситуацией, продиктованной требованиями рассудка, и жизнью общины, протекающей сообразно ее собственным нравам: «Община под властью рассудка предстает не такой, что она должна выдавать себя за высший закон, с одной стороны, класть предел […] бесконечности детерминации и власти, с другой — делать излишними законы, благодаря нравам, беспорядки недовольных жизнью, благодаря освящению владения и пользования, и преступления не находящих выхода сил, благодаря наличию больших целей»[181].
По — видимому, осенью 1802 г. эти попытки системных разработок, в которых многие комментаторы усматривают некоторую «искусственность приемов» (Konstruktive Künstelei)[182] из‑за того, что материал в них кажется недостаточно освоенным, завершаются созданием «Системы нравственности», — рукописи, само название которой переводится с трудом: «System der Sittlichkeit», что обычно переводят как «Система нравов» (Système de la vie éthique); однако можно, вслед за Домом Дешампом (Dom Deschamps), сказать: «Система нравственности» (Systeme de l’etat de moeurs) в отличие от «законности» (état de loi), или «правового состояния» (état de droit)[183].
Завершенное в конце 1802 или в начале 1803 г., это произведение было опубликовано в неполном виде Молла (Mollat) только в 1893!
В своем предисловии французский переводчик удачно комментирует пассаж о вышеупомянутом Различии'. «Таким образом, подлинная нравственность (Sittlichkeit) выходит за рамки отношения господство/рабство, делает недействительным царство закона, характеризует жизнь как полноту пользования (plenitude de jouissance) и обеспечивает ее силам полное выражение в достойных деяниях». Упоминает он и о «разрешении противоположностей в сопричастности»[184].
Занимаясь здесь не столько теоретическим содержанием произведений Гегеля, сколько жизненными обстоятельствами, как психологическими, так и внешними, работы над ними, мы вправе задаться вопросом, почему тридцатидвухлетний Гегель не опубликовал ни одного из них. Возможно, что‑то его беспокоило в теоретическом плане. Несомненно, он ощущал несовершенство сделанного в сравнении с обширным замыслом, все еще маячившим впереди как неясная цель и одушевлявшим его увлеченные поиски.
Ему бы не хотелось, чтобы его справедливо упрекали во фрагментарности, в недостатке воли к систематизации.
Кроме того, вероятно, он считал недостатком свою зависимость, все еще сильную и слишком очевидную, от мысли Шеллинга. К тому же, шумный успех его друга мог породить в нем некую боязнь появления перед публикой. Он чувствовал, что ему самому еще не все ясно. Но может быть, просто не нашелся издатель для рукописей, которые могли показаться темными и малопонятными?
Ответить на эти^ вопросы тем более затруднительно, что после 1802 г. в Йене Гегель, из которого била фонтаном творческая энергия, все же обнародовал ряд важных текстов. В этом ему существенно помогло основание, совместно с Шеллингом, но под руководством последнего и благодаря его известности, «Журнала философской критики» (Иена, 1802–1803 гг.). Никому так хорошо не служат, как самому себе, и лучший способ получить доступ на страницы журнала — это руководить им. В «Журнале философской критики» публиковались только статьи его основателей и руководителей. Спрашивается, как такое издание могло материально выжить? Вполне очевидно, что оно нуждалось во внешней поддержке, но с чьей стороны? Два тома, по три тетради, вышли один за другим.
В первой из них помещена статья Гегеля, довольно короткая в сравнении с остальными «О сущности философской критики вообще, и о ее отношении к современному состоянию философии, в частности». Статья представляет собой своего рода введение в «Журнал» и одновременно в новую философию, привилегированным органом которой он и становится.
Оба друга невероятно, до неприличия заносчивы, такими они, по крайней мере, выглядят в глазах коллег- философов, которые либо старше их, либо им ровесники. Заносчивость объясняется искренней убежденностью в собственном абсолютном превосходстве!
Они полагают, что речь идет не только о том, чтобы разорвать (Zerschlagen) путы, которыми, на их взгляд, повязаны другие философии, но и о том, чтобы расчистить (Wegebereitung) путь к торжественному и радостному триумфу единственной истинной философии — их собственной[185].
В том, что чистка будет немилосердно жестокой, у Гегеля уже нет никаких сомнений, он пишет Хуфнагелю: «Виды оружия у нашего журнала будут самые разнообразные, вот они: дубина, кнут и линейка. И все во имя благого дела и к вящей славе Божьей. Конечно, возопят и тут, и там, но без суровых мер не обойтись» (С1 67).
Это уже не драка, а методичное избиение.
Гегель клеймит без разбора все ошибочные или устаревшие, соперничающие между собой философии, дабы противопоставить им во всем ее блеске юную рождающуюся истину, саму себя провозглашающую, уверенную в себе.
Он совсем не отдает себе отчета в том, что, обращаясь к философиям в таком язвительном тоне и выставляя такого сорта аргументы, и он, и они пребывают в одной и той же эпистемологической, культурной и исторической плоскости — в плоскости догматической конфронтации.
В другой статье «Как здравый смысл понимает философию. По поводу произведений Круга» Гегель ополчается на мыслителей, представляющих на его взгляд «популярную философию», и в первую очередь, на одного из них, ставшего для него козлом отпущения, Вильгельма Трауготта Круга. Гегель апеллирует к новому критерию истины — доступности исключительно избранным. Истина не шатается по улицам. Она сохраняет себя для нескольких высших душ: «Философия по своей сущности являет собой нечто эзотерическое, она создана не для толпы и не обязана быть ей доступной; философия, она только тогда философия, когда именно противопоставляет себя рассудку (Verstand), и тем самым еще больше здравому смыслу […]; мир философии есть мир в себе и для себя, мир перевернутый (verkehrte Welt)… Фактически философия должна оставить народу возможность подняться до себя, но она не должна опускаться до его уровня», и т. д.[186]
Гегель часто будет поступать вопреки этому своему первоначальному решению в пользу эзотеризма. Но, по крайней мере, он высказался…
Памфлет, обращенный к профессору Кругу, безжалостен и очень груб по тону. У потомков на памяти, прежде всего, шуточки Гегеля по поводу вызова, брошенного Кругом спекулятивной идеалистической философии: вы, дескать, в состоянии дедуцировать из мысли решительно все, так дедуцируйте, пожалуйста, мое перо. Ответ Гегеля прячется под покровом иронии. Это, кстати, одна из вечных проблем идеализма — каким‑то образом, «не произвольно, и не предоставляя дело случаю…», обеспечить внутри философии необходимости место для случайных вещей и событий. Аргументация Гегеля опасно граничит с пошлостью, когда в ответ на замечание Круга он заявляет, что спекулятивная философия по сути своей такова, что способна к дедукции не только пера, но и железа, из которого оно сделано.
Но разве Кант в оправдание эмпирического реализма требовал от абсолютных идеалистов чего‑то большего, чем дедукция одного только пера? Без чувственной интуиции понятия остаются пустыми.
Тем временем именно фигура Круга мнится Гегелю легкой добычей. Он продолжает сражаться с ним во второй тетради «Критического журнала», заходя с другой стороны. Статья называется «Отношение скептицизма к философии, описание его различных модификаций, а также сравнение всего новейшего скептицизма с древним» (1802).
Здесь объявленный противник — это, прежде всего, Готтлоб Эрнст Шульце, заслуживающий внимания философ, опубликовавший в 1792 г. книгу под названием «Энесидем», в которой приводил доводы в пользу скептицизма, главным образом его форм, унаследованных от античности, и выступал против критической кантовской философии. И вот теперь, в 1802 г., он опубликовал новое произведение, первый том «Критики теоретической философии».
Гегель действует методом амальгамы, как сказали бы ныне. Он отбирает наперед то, что считает общим в философиях Круга и Шульце: оба не понимают сущности идеалистической философии и уводят от нее своих читателей и последователей: «Так, поскольку крайности сходятся, они, со своей стороны, вновь достигают высшей цели в эти счастливые времена, догматизм и скептицизм встречаются у подножия лестницы, протягивая друг другу дружескую, братскую руку. Скептицизм г-на Шульце соединяется с самым примитивным догматизмом, и догматизм Круга предполагает в то же самое время этот скептицизм»[187].
Даже материализм не ошибается так грубо, как ошибается Шульце[188].
Таким образом, Гегель довольно изворотлив в полемике. Он ведет войну, применяя стратегию политиков и военачальников: поражает врагов одного за другим, разделив их поначалу, как Гораций Куриациев, или при удобном случае выбрасывает всех вместе, невзирая на явные различия, на одну свалку. Есть в этом что‑то наполеоновское. Но делают ли честь такие маневры трансцендентальному идеализму?
В первой тетради второго тома «Журнала» Гегель публикует важную работу, также отважно нацеленную на врагов, которых абсолютный идеализм сам же себе и назначил, «Glauben und Wissen», «Вера и знание».
Ведя себя так, Гегель старательно изо всех сил выгораживает себе территорию, отмежевывая собственную философию от других форм идеализма. Это было актуально, потому что большинство философов эпохи, сами того зачастую не желая и не отдавая себе в этом отчета, эволюционировали примерно в том же направлении.
Идеализм определяет себя по отношению к своим противникам. Кто они такие, в конце концов, — Круг, Шульце, Кант, Фихте, Якоби, — если не идеалисты, когда их всех оптом сравнивают с материалистами? Современному читателю, любителю рискованных сближений, эти споры или дискуссии, в которых каждый — и Гегель больше всех — старается заставить другого проговориться, высказать нечто, что он либо скрывает, либо не очень осознает, и, стало быть, показать ему самому и всем прочим его истинное лицо, это «выведение на чистую воду» порой может показаться каким‑то концептуальным препирательством, столь же малопривлекательным, сколь непривлекательно препирательство обыкновенное. Пытаясь сорвать со своих противников маску, надетую ими не по своей воле, Гегель не оставляет искушенному уму сомнений в том, что сам он давно укрылся за маской, которую никому с него не сорвать.
Текст «Веры и знания» метит выше прочих. Разделавшись с мелкой сошкой, Гегель нападает на трех действительных конкурентов, единственно достойных рассмотрения, и действительно грозных по причине основательности их идей и известности — Канта, Фихте и Якоби. Вот это противники! Все трое еще живы, деятельны и продуктивны, и Гегель противопоставляет в целом идеализм тому, что он несколько искусственно объединяет под категорией «рефлексивной философии субъективности». Он обвиняет их совокупно в том, что их труды — плоды с древа Просвещения, которому они в глубине души остаются верны, хотя каждый по — своему. Но разве он сам в каком‑то смысле тоже не должник Aufklärung?
Он упрекает их в том, что подлинного метафизического обращения с ними не случилось, они не признали, что абсолют это Бог, а не человек. Смысл слова «Бог» в этом контексте остается довольно загадочным. Согласно Гегелю, указанные философы ограничивают разум формой конечности, формой общего рассудка. Им удается выработать одно лишь понятие, которое, будучи получено из конечного путем абстрагирования, само необходимо остается абстрактным и пустым, стало быть, немым, если только не набраться храбрости и заставить его говорить что попало.
Сам он, конечно, достиг подлинного понятия, поскольку таковое как раз и являет собой единство конечного и бесконечного.
Однако — и этот момент развития лучше всего обнаруживает особенность его мышления — Гегель не ставит крест на этих трех важных и представительных учениях. Ловкий тактик, он умеет так систематически и исторически соотнести их друг с другом, что они образуют тезис, антитезис и синтез. Таким образом, ему удается показать, что этот «рассудочный идеализм», движимый своими внутренними различиями, продолжается как некий диалог или дискуссия с самим собой, вставая на путь самопревосхождения, обращения во что‑то иное, что неминуемо приходит на смену, — в абсолютный идеализм.
Дух проходит через различные неустойчивые состояния, как через чистилище, к неминуемому, предначертанному освобождению. Чтобы сказать об этом, Гегель пользуется языком религиозной мистики, парадоксальным, околдовывающим, сомнительным: «[…] Тому, что еще ограничено то ли нравственной заповедью принесения в жертву эмпирического существа, то ли понятием формальной (formeller) абстракции, чистое понятие должно придать философское существование и, следовательно, внести в Философию идею абсолютной свободы и, тем самым, абсолютного Страдания, или духовной Великой пятницы, которая когда‑то случилась в истории; и он должен восстановить его во всей истине его дления…»[189].
И несколько отходя от полемической формы, помогшей ему вчерне обозначить собственную позицию, он стремится обзавестись более систематично разработанной структурой и делает это, в частности, в последней из статей, помещенных в «Журнале». Конечно, и здесь продолжается размежевание с ближайшими предшественниками в философии и современными ему конкурентами, но он также воспроизводит на свой манер идеи и тенденции великих философов — идеалистов прошлого: Платона и Аристотеля. Так, поверх столетий воссоединяется он с традиционной метафизикой и — в полемике с критической философией — с античной мыслью.
Это длинная статья, появившаяся во второй и третьей тетрадях второго тома под названием «Два способа трактовки естественного права; о его месте в практической философии и отношении к позитивным наукам о праве».
Не отказываясь от резкой критики противников, Гегель больше занимается здесь позитивной разработкой этики, права и философии, основанной на идее господствующей, живой, абсолютной Sittlichkeit. Он стремится восстановить мораль в отношениях между индивидуумом и государством по примеру отношений, на которых, как ему кажется, базировался античный полис. Он дает идеализированную картину последнего; в нем, дескать, объединены, по греческой формуле, прекрасное и доброе. Возможно, он немного спешит примирить в своем проекте жестоко разошедшиеся в реальности единичное и всеобщее: «Нравственная жизнь отдельного индивида есть биение пульса системы в целом и даже сама система в целом»[190].
Можно считать, что в этой статье Гегель отдаляется от Шеллинга решительнее, чем в других и, в частности, вручает пальму первенства философии духа, а не инспирированной духом философии природы.
В йенской философии царит атмосфера схватки, Гегель сражается сразу и за истину, и за место под университетским солнцем. Студенты, должно быть, со смесью восхищения и ужаса взирали на мэтра, жаждущего всеобъемлющей победы. Как говорит Макс Ленц, тайна успеха Гегеля — это «его безграничная вера в возможность безупречной системы»[191].
Но именно в такой вере и нуждались студенты, обращенные в скептицизм предыдущим преподаванием и предшествующими событиями.
Верхом на стуле в своем рабочем кабинете, как Наполеон на коне, Гегель может обозревать усеянное трупами поле философских баталий. Пришло время воскрешать и созидать.
Для этого у него есть интеллектуальное орудие, которое он отточит, значительно усовершенствует в Нюрнберге, в Гейдельберге: странная и глубоко модифицированная, гибкая логика, в сущности, целый аппарат, очень хитроумно устроенный и изощренно действующий, — диалектика. Конечно, это не его изобретение, и он всегда будет приписывать заслугу первых догадок о ней и попыток использования древним, главным образом, Гераклиту, затем Платону и Аристотелю, кое — кому из новых мыслителей.
С одной стороны, он целеустремленно вводит ее в действие, с другой — кодифицирует и систематизирует, открывает все ее импликации, и, кроме того, возвращает современникам вкус к ней. Он пытается, немного парадоксально, превратить этот живой способ мышления, стихийно согласующийся с реальной жизнью, в метод, допускающий точное определение, строгий, доказуемый и передаваемый другим.
В самой простой и наиболее скромной формулировке, за которой видны, однако, поразительная глубина и сложность, речь идет, прежде всего, о поиске и открытии во всякой единой реальности, материальной или духовной, живого противоречия, ее одушевляющего и томящего, должного разрешиться преобразованием реальности в целом.
В этой связи Гегель иногда дает определения, на вид очень простые, но их объяснение занимает множество страниц: «Знать противоречие в единстве и единство в противоречии — это и есть абсолютное знание: и наука состоит в знании полного саморазворачивания этого единства»[192].
Обширная программа!
Такая форма мышления требует всеобъемлющей, всеохватной, унифицирующей всякое различие системы, и, стало быть, предполагает философский монизм, в каком бы обличьи последний ни выступал. Гегель задумал его стихийно и изначально в идеалистической перспективе, в которой вся конечная реальность понимается как идеальная (idéelle), но тем не менее во многих жизненных и теоретических ситуациях он демонстрирует самый крепкий реализм, самую позитивную интеллектуальную деятельность, и даже временами эпизодический и частичный материализм.
Существует фундаментальное единство трех оснований, на которых крепится гегельянство: идеализм, системность, диалектика.
Обвал
Пока Гегель предается самым непостижимым ходам мысли, готовятся великие события, которые перевернут его личный мир и вообще все существование. Он должен будет признать тесную и жестокую зависимость своей жизни от внешнего мира.
Сначала, весной 1803 г. покидает Йену Шеллинг, чтобы занять место профессора философии в университете Вюрцбурга, в Баварии. Это новая потеря для Йенского университета, в котором он был одной из звезд, потеря, особенно ощутимая для Гегеля, которому Шеллинг оказывал значительную практическую поддержку — административную, а равно способствуя росту его популярности, поощряя словесно и собственным примером. Отчасти именно благодаря ему мысль Гегеля продвинулась вперед, была выражена эксплицитно и сделалась, наконец, известной.
Но с другой стороны, отъезд Шеллинга был для философской мысли Гегеля, следовавшей Шеллингу, несомненно, себе во благо, возможностью свободно и независимо вздохнуть. От свободного подражания Гегеля словно подтолкнули к самостоятельному изобретению. Шеллинг оставляет Гегеля в тот миг, когда он после долгой опеки пробует становиться на крыло. Отныне он приговорен быть собой, действовать на свой страх и риск.
Совершенно естественно, что он озаботится тем, чтобы дистанцироваться от своего более молодого и уже многое успевшего учителя, которому он стольким был обязан. Он недавно опубликовал эссе о различии между Фихте и Шеллингом, придерживаясь шеллингианской точки зрения. Теперь он принимается за труд, в котором среди прочего скажет, в чем состоит его собственное отличие от Шеллинга. Разрыв, как всегда резкий, — этот тем более, — случится преимущественно в «Предисловии» к «Феноменологии духа». Сказав это, Гегель останется в философском одиночестве.
Погруженный в размышления над этим большим самобытным произведением, которое должно показать, на что он годен, наряду с философскими умозрениями, Гегель занят научными проблемами. Он производит опыты, связанные с гётевской теорией цвета, ошибочной, но красивой, которой впредь останется верен. Он завязывает более тесные отношения с великим поэтом, и похоже, что и в этом плане отъезд Шеллинга тоже принес положительные плоды. Не исключено, что вездесущий Шеллинг был чем‑то вроде стенки между ним и Гёте.
В 1803 г. Гегель, набравшись смелости, решается преподавать то, что он называет «Системой спекулятивной философии»; наконец‑то у него система! Он делит ее на три части, такой структуры он будет держаться впредь:
1) Логика и метафизика (последнее именование скоро исчезнет).
2) Философия природы.
3) Философия духа.
Это уже план «Энциклопедии философских наук» 1817 г. Во время пребывания в Йене Гегель будет читать этот курс несколько раз в разных версиях.
Отзыв, проскользнувший в письме Шиллера Гёте от 9 ноября 1803 г., похвальный, но несколько уничижительный: «Философия заглохла не совсем, кажется, у нашего доктора Гегеля много слушателей, притом даже не выражающих недовольства его красноречием»[193].
В феврале 1805 г. Гегель получил звание «экстраординарного профессора» в Йенском университете. Экстраординарный, уж точно! То есть не получающий зарплаты и довольствующийся вознаграждением, о котором договариваются сами студенты.
Только в 1806 г., и то благодаря личному вмешательству Гёте, он получил ежегодную зарплату в 100 талеров. Он мог по — прежнему горестно сравнивать свою судьбу с карьерой Шеллинга.
По примеру Шеллинга коллеги и друзья Гегеля оставляли Йену ради Баварии, католической страны, решившей под влиянием просвещенных реформаторов принимать интеллектуалов — протестантов.
До Шеллинга туда успел перебраться «богослов» Нитхаммер. Продолжавшаяся всю жизнь тесная и постоянная дружба связывала его с Гегелем, и их исключительно доверительная переписка является незаменимым источником сведений о сокровенных мыслях философа.
Фридрих Иммануэль Нитхаммер (1766–1848) был штифтлером и познакомился с Гегелем еще в Тюбингене. Он также поначалу учительствовал, прежде чем стал преподавать в Иене, где обучал Гёте началам спекулятивной философии. В 1793 г. он получил звание профессора философии и в 1795 — «экстраординарного» профессора богословия. Именно там он вместе с Фихте основывает в 1795 г. знаменитый «Философский журнал» (1795–1797), в котором появятся статьи Форберга и Фихте, положившие начало бурному «спору об атеизме».
В 1803 г. он становится высшим советником по вопросам школ и культов в Мюнхене, пост, занимая который, он сможет оказать Гегелю важнейшие услуги.
Равным образом ориенталист и богослов, Паулюс предпочел уехать в Баварию осенью 1803 г.
Не лишено, возможно, интереса то обстоятельство, что когда Нитхаммер и Паулюс получили места в Вюрцбурге, католический епископ угрожал отлучением всякому студенту, буде он возымеет намерение посещать их лекции. Ясно, что если Гегель захочет там обосноваться, с ним обойдутся точно так же.
Йена, недавно блестящий университет, превратился к 1805 г. в подобие интеллектуальной пустыни, прежде чем был окончательно разрушен войной.
Гегель, который вскоре утвердит свое очевидное превосходство над всеми соперниками и партнерами, лучше него профессионально устроенными, и который, зная себе цену, завидует их успеху, явно хотел бы также уехать в Баварию, где в то время открылись обещающие перспективы.
Он настойчиво делится этим желанием с другом Нитхаммером. Стремится получить место в Эрлангене и думает, что Нитхаммер поможет ему в этом. Но ничего не получается.
Раз в Баварии не получилось, он охотно укрылся бы в какой‑нибудь другой стране. Летом 1805 г. в письме Йохану Хейнриху Фоссу, который также покинул Йену, чтобы по приглашению prince‑electeur de Bade получить место в Гейдельберге, он признается: «Вы, несомненно, лучше, чем кто‑либо знаете, что Йена утратила привлекательность, обретенную благодаря прогрессу в науке, который достигается общими усилиями, пробуждая и поддерживая также и в том, кто к нему стремится, веру в науку и в себя самого. То, что здесь утрачено, расцвело в Гейдельберге еще более пышно; и я питаю надежду, что моя наука, моя философия найдет там благоприятный прием и почву для возделывания» (С1 95). Он устремляет взыскующий взгляд в сторону Гейдельберга. Все равно куда, лишь бы сбежать из Йены!
Фосс старается изо всех сил раздобыть место. Но снова, какая неудача! Когда заветное место освобождается, его предлагают не Гегелю, а его самому презираемому и даже ненавидимому противнику в философии Якобу Фридриху Фрису, который также был приват — доцентом в Йене с 1801 г. В глазах начальства его преимущество перед Гегелем заключалось в том, что его лекции по философии были более понятными и легче усваивались. Гегель до конца своих дней в его сторону не глядел как из‑за этого предпочтения, которое счел несправедливым, так и по иным причинам. Его грызла зависть.
Положение Гегеля в Йене быстро ухудшается, становится почти невыносимым из‑за материальной нужды, осложнений в личной жизни, войны. Гегель непрестанно жалуется, в частности, в письмах Нитхаммеру 1805 и 1806 гг. Он выражает желание присоединиться к нему в Бамберге, в котором Нитхаммер тогда оказался (письмо от 5 сентября 1806 г.) (С1 109–110).
Долгое время жизни Гегеля сопутствует это тяжелое неустройство: он не знает, куда ему лучше поехать, куда деваться.
Одна черта его характера при этом остается неизменной: он умеет не смешивать превратности личной жизни с великими мировыми событиями, собственные невзгоды не мешают ему оценить перспективы универсального прогресса Духа, и особенно философии.
Об этом свидетельствует торжественное заключение лекций по спекулятивной философии, произнесенное перед несколькими студентами 18 сентября 1806 г., совершенно несообразное по тону и стилю, но очень возвышенное по мысли: «Господа! Мы живем в особенное время, в эпоху брожения, когда дух вырвался вперед и, оставив свою прежнюю оболочку, — обретает новую форму. Вся масса бывших до сих пор в употреблении идей и понятий пришла в движение, расторглись, словно в ночном кошмаре, мирские связи. Готовится новое явление духа, и кому как не философии надлежит приветствовать и признать его, тогда как прочие безуспешно сопротивляются, цепляясь за прошлое, и большинство из них, ничего о том не ведая, составляют массу его явления. Но философия, признавая его вечным, должна воздать ему почести…» (D 352).
В октябре 1806 г. Гегель закончил работу над «Феноменологией духа».
Это произведение, не подпадающее ни под одну рубрику, трактующее множество самых разнообразных тем и отличающееся новизной подхода, остается очень труднодоступным. Можно с полным правом считать, что оно вводит в научный обиход самые существенные из, собственно, гегелевских новаций и содержит, по меньшей мере в зародыше все то, что составит впоследствии богатство системы и дополняющих ее лекций.
В некотором смысле, в этой книге, полагает Гегель, он заполняет спекулятивную пропасть (Kluft), которую Кант вырыл, как ему казалось, навсегда, между феноменом и ноуменом, относительным и абсолютным, эмпирическим и трансцендентальным. Но не для того, чтобы принять тем самым точку зрения Фихте, который в течение зимнего семестра 1805–1806 гг. 4итал в Берлине курс о «Главных особенностях современной эпохи», ни точку зрения Шеллинга, очень болезненно отнесшегося к критическим намекам, содержащимся в «Предисловии» к «Феноменологии». Печатание произведения, направлявшегося издателю по частям ненадежными путями военного времени, началось в феврале 1806 г. и закончилось в начале 1807.
Участь «Феноменологии», считающейся ныне как хулителями, так и почитателями основным, «незаменимым» произведением, была в свое время жалкой. Начать с того, что для книги, видом и стилем обескураживающей обычного читателя, с большим трудом нашелся издатель. Последний никак не рассчитывал на бестселлер. Гегель злоупотреблял его терпением. В конце концов, понадобилось, чтобы Нитхаммер внес персональный денежный залог для обеспечения разумной отсрочки выпуска последних страниц. Славный Нитхаммер! Да, этот «богослов», «педагог», «философ», этот администратор был достаточно образован и проницателен, чтобы понять смысл и значение «Феноменологии». Он познакомился с Гёльдерлином и^ Гегелем еще в Тюбингене и стал ближайшим его другом в Йене. Но предложить безденежному идеалисту финансовые гарантии для публикации книги, когда все говорило о том, что успеха ей не видать!.. Побуждения Нитхаммера так сразу не разгадать. Был ли он сам таким уж обеспеченным человеком? Откуда взялись деньги, которыми он распорядился таким образом? И каков источник тех денег, которые Гёте посоветовал Кнебелю передать Гегелю в момент йенской катастрофы? Из кассы герцогства?
Конечно, Гегель мог испытывать большое удовлетворение как автор и самобытный философ от публикации произведения, в котором он сообразно и вполне выразил свою мысль. Но оно должно было доставить ему много огорчений. Например, немедленное ухудшение отношений с Шеллингом, раздраженным некоторыми нелюбезными фразами.
Много старого хлама надо было убрать, чтобы что‑то подлинно новое пробилось к свету.
Во всяком случае, публикация пришлась на наихудший, с точки зрения ее распространения и воздействия на публику, период времени, одновременно лихорадочная философская деятельность Гегеля в Йене была резко оборвана неожиданными событиями.
В октябре 1806 г. к Йене приблизились раскаты канонады. Армия Ланна, будущего герцога Монтебелло, о котором Гегелю еще представится возможность услышать, осаждает прусские войска в городе. Знаменитая битва опустошает Иену и окончательно рассеивает слабые надежды Гегеля сделать в ней карьеру. Его жилище разграблено, происходит опасная перебранка с наемниками, он должен искать убежище у друзей, и как раз у книготорговца Фромманна, дом которого, по счастью, остается цел. По крайней мере, он спасает самое ценное из своего имущества, рукопись «Феноменологии духа», которую изо всех сил старается закончить и опубликовать вопреки всему. Последняя часть рукописи располагалась у него в кармане во время боев и пожара в городе. Феноменологическая процедура подошла к концу под гром пушек, чье эхо звучит в «Героической» Бетховена, вначале посвящавшейся Бонапарту.
Кроме того, на Гегеле, при его нищете, еще и забота о беременной сожительнице и ее детях. Денег нет. Гёте отдает распоряжение Кнебелю распределить фонды среди нуждающихся интеллектуалов. Он пишет ему 24 октября: «Если Гегелю нужна помощь, выдайте ему десять талеров». С чего это Кнебель вдруг стал исполнять обязанности казначея?
На следующий день после, собственно, битвы, Гегель видит, как Наполеон совершает инспекционную поездку по улицам Йены. Он торжественно помечает дату письма к Нитхаммеру: «Йена, понедельник 13 октября 1806 г., день, когда Йену заняли французы, и император Наполеон въехал в город». И в том же письме оставляет свидетельство своего энтузиазма, ставшее знаменитым: «Я видел, как император — душа мира — выезжает из города для рекогносцировки, это действительно поразительное ощущение: видеть такого человека, который отсюда, из этой точки, сидя верхом на лошади, озирает весь мир и повелевает им». Он испытывает чувство восторга перед «этим необычайным человеком, которым нельзя не восхищаться» (С1 114–115).
Но позже он признает, что «идущие впереди великие фигуры часто вытаптывают цветы, им приходится разрушать множество вещей на своем пути»[194].
Но ведь Гегель и сам безжалостно уничтожает великие философские системы прошлого, как Наполеон, повергающий великие герцогства и отжившие королевства.
В отлитие от последнего, его победы остаются победами в области чистой мысли. Теперь он вынужден уехать из разрушенного города и университета, и вовсе не только потому, что Йену оставил дух.
Победа всеобщего достигается только ценой страданий отдельного. Гегель тут похож — трогательное сравнение — на маленький сломанный цветок. Он надеется вновь окрепнуть на новой почве. Снова предстоит отъезд.
Все вокруг него рушится, все терпит крах: священная Римская империя германской нации, Веймар — Саксония, университет Йены, его собственное положение при университете, и даже, по глубоким причинам, которые мы рискуем никогда не узнать, его связь с сожительницей.
Над этой картиной опустошения имперский орел простирает свои огромные крылья.
X. Внебрачный сын
Дитя, я видел, как ты идешь
Доверчиво навстречу миру.
И что бы ни сулило грядущее,
Утешься, взгляд друга тебя благословил.
Гёте, в альбом Луи Гегелю, 29 марта 1817 г.
Среди йенских творений Гегеля было одно, легшее на него до конца дней тяжким бременем, — ребенок, родившийся 5 февраля 1807 г. и названный Луи.
Отныне жизнь Гегеля начинает походить на буржуазную драму. Дидро, как всегда раньше всех, — за пятьдесят лет — открыл этот литературный жанр, написав «Внебрачного сына» и затем памятный комментарий к пьесе (1757). В 1802–1803 гг. Гёте опубликовал свою трагедию, написанную, конечно, в ином духе, «Внебрачная дочь». Драма ли, трагедия ли; так или иначе, речь о том, чему суждено отравлять жизнь Луи: тайна, зависть к братьям, общественное Презрение — Наличие незаконнорожденных детей ничуть не мешает жить знати и грандам, умножающим их число сколько душе угодно. Французский король и герцог Вюртембергский брюхатят придворных дам легко, как служанок, производя бастардов самых различных рангов. Тем более не возникает проблем, по меньшей мере нравственных или социальных, у рабов и бедняков, на этом уровне все дети — «природные», все они обречены на нищету.
Напротив, появление в буржуазной среде внебрачного ребенка означает непорядок, глубокий разлад: он незамед — лительно оказывается выброшенным из общества. Возникает беспокойство по поводу наследства. Буржуа и тех, кто, как Гегель, желают обуржуазиться, подобная незадача ставит в сложное положение, за которое, как правило, они расплачиваются нравственными муками: повсеместно их поведение расходится с публичным образом и декларируемыми убеждениями. Они занимаются любовью слепо и беспорядочно, как торговлей, за ширмой строгого гражданского порядка и суровой религии.
Позже Гегель опишет не без удовлетворения это плачевное состояние нравов: «Недавно некий г-н фон Халлер вышиб себе мозги; супруга сенатора фон Штремера бросила в воду дитя мадемуазели, своей дочери, и теперь сидит в башне; на днях будет колесован человек, совершивший инцест с дочерью; последняя будет обезглавлена, потому что оба убили ребенка. Другие дочки еще беременны; до того четырнадцатилетняя дочка одного моего знакомого уехала с комедиантом; через несколько дней за ней последовала другая; время от времени в воде находят утопленниц» (С1 303)…
О temporal О mores!
Гегель припоминает эти обыденные трагедии три года спустя после рождения Луи в письме Кнебелю, близкому другу, хорошо знавшему его историю.
Несомненно, Гегелю доставляет удовольствие перечислять этому «материалисту», переводчику Лукреция, гнусности, происходящие в одном из городов Баварии, кичащейся своей глубокой католической религиозностью. В 1810 г. там еще колесуют и охотно отрубают голову, и все без толку.
Сошлемся на смягчающее обстоятельство и простим Гегелю это усердие в перечислении преступлений и сексуальных отклонений: он всерьез думает жениться и доверяет Нитхаммеру, и главным образом его жене, заботу подыскать ему супругу. В таком случае сравнение в его пользу: он, Гегель, в отличие от всех этих безнравственных и жалких существ, отвечает за свои поступки, он официально и быстро признал новорожденного, взял на себя заботы о его содержании и образовании, не понуждал мать ребенка к самоубийству. По тем временам это достойное поведение, и не очень общепринятое. Оно характеризует его с хорошей стороны.
Участь незаконнорожденного ребенка, как и судьба его матери — неотступная тема литературы эпохи. Взять «Фауста» Гёте, первая часть которого вышла только в 1808 г., после того как были напечатаны отдельные ее фрагменты.
Любопытно, что именно со стороны незаконных семейных отношений приходит в буржуазное общество смутное осознание внутреннего разлада и опасности. Хотя общество и предпочитает считать, что угроза исходит от маргиналов и изгоев, а не из его собственной сердцевины.
Когда на свет является незаконнорожденный, никто не разражается радостными кликами. Такой ребенок расшатывает семью, подрывает веру в традиционные ценности, оскорбляет благомыслящую публику, бросает вызов господствующей идеологии. Он губит репутации, портит отношения, мешает карьере, самого ребенка ждут осуждение и горести, что, видимо, и предчувствовал Гёте, глядя на сына Гегеля. Лишь отдельные голоса поднимаются против этих варварских предрассудков, — Гегель прислушивается к ним, приводя в своей «Феноменологии» слова Дидро, Гёте…
Одна глава этого произведения, не менее, но и не более удивительная, нежели прочие, посвящена Гегелем указанному вопросу, она называется «Удовольствие и необходимость». Немецкое слово Lust означает как желание, вожделение, так и удовольствие, а слово Notwendigkeit отсылает также к невзгодам и нужде, позволяя сблизить его с роком и неизбежностью. Комментаторы с достаточным основанием соотносят эту главу с «Фаустом» Гёте. Но насколько более непосредственно, хотя и в скрытом виде, она связана со значимым эпизодом его собственной жизни в Йене! Тут есть что‑то, напоминающее «Исповедь» в манере Руссо, но в гегелевской главе меньше саморекламы и она более умозрительная.
Итак, Гегель — папа маленького Луи, так звали мальчика, переводя на французский имя одного из его крестных, Людвига, брата философа. Другим крестным был не кто иной, как издатель Фромманн, связанный со всеми крупными писателями Веймар — Саксонии, заметная личность. Исключительно изобильный год: маленький Луи и большая «Феноменология» приходят в мир почти одновременно при равно рискованных обстоятельствах.
В обоих случаях роды тяжелые: если Гегель когда‑то верил во всеобщую, предустановленную или устрояемую гармонию, то 1807 год разубедил его. Давно наученный уму — разуму, он знает, как ему быть в безжалостном мире.
Его вовсе не мучило сознание «греха» в религиозном смысле слова. Он вообще не верил в реальность греха[195] и оспаривал традиционные его определения. Никаких угрызений совести у него не было. Он поступил так, как кантианский долг тщетно предписывал поступить какому‑нибудь негодяю. Ему не было нужды повиноваться заповедям. Он взял на себя заботу о сыне и в радости и в горе, но горе перевесило: внебрачный сын всегда был причиной хлопот и печалей.
* * *
Ребенка Гегелю родила его квартирная хозяйка. Социальное положение этой женщины точно не определить, но оно было достаточно скромным. Звали ее Кристиана Шарлотта Жанна Буркхардт (1778–1817), она разошлась с мужем, и у нее уже было двое незаконных детей. По- видимому, Гегель какое‑то время на самом деле ее любил, пока не произошел разрыв, и кто был в нем виноват, сказать трудно, если вообще об этом стоит говорить.
Любовь ушла, остались заботы.
Жанна Буркхардт, пока была жива, оставалась для Гегеля источником волнений и неприятностей. Душа философа не проще и не яснее души любого другого человека. Разорвав с внешней стороны всякую связь с ней, он продолжает долгое время чувствовать подобие нежности к той, кого всегда называл «матерью моего ребенка» (С1 214). Обещал ли он ей жениться? Она этого хотела и мешала, насколько это было в ее силах, другим связям своего бывшего возлюбленного. Когда в 1811 г. Гегель вознамерится заключить союз с Марией фон Тухер, женщиной из совсем других социальных слоев, он попросит госпожу Фромманн, урожденную Вессельхёффт, которая следила за воспитанием его ребенка в Йене, ничего не говорить об этом «Буркхардт», чтобы та не чинила препятствий.
Когда она умрет, еще молодой, в 1817 г., он захочет стереть ее из памяти как можно скорее, и его надгробное слово будет кратким: «Фосс [Генрих(1779–1882), филолог, переводчик, сын знаменитого Фосса (Иоганн Генрих, 1751–1828)] привез к нам сюда Людвига. Я сказал ему о смерти его матери, о которой оповестил меня Фосс. Его она взволновала больше, чем меня. Я давно удалил ее из моего сердца и мог только опасаться нежелательных контактов между ней и Людвигом — и таким образом косвенных с моей женой […]. Для меня и моей жены Людвиг — предмет радости» (С2140).
Редки кончины, которым никто не радуется. Но маленький Луи никогда не забудет свою мать. Примечательно, что в это время ему шесть лет, и он пленяет всех: своего отца, мачеху, семейство Фромманнов, своих воспитателей Вессельхёффтов, Гёте, Кнебеля, который также пишет ему в альбом, Фосса, взявшегося сопровождать ребенка и со своей стороны пишущего барону де Ля Мотт — Фуке, знаменитому писателю, который уже наслышан о «незаконнорожденном сыне»: «Я был проездом в Йене, откуда привез старшего сына философа Гегеля, моего нынешнего коллеги, — чудесный ребенок, полон талантов (Talentvoll!), жизнерадостный, трогательный; Truchsess от него без ума» (В4 127).
Через несколько лет Луи все возненавидят, и он сам всех возненавидит тоже. Кто был тому виной?
Вполне очевидно, что наличие незаконнорожденного ребенка не облегчило женитьбу Гегеля на девушке из одного из патрицианских семейств Нюрнберга. К счастью для него оно сильно обеднело и не могло предъявлять больших требований. Конечно, о маленьком четырехлетием Луи нужно было рассказывать невесте, тестю и теще, пастору, и нетрудно предположить некоторые умолчания в деталях. Но гарантами репутации невесты выступали Нитхаммеры, как некогда они гарантировали платежеспособность заказчика при выходе «Феноменологии». Слишком уж много было препятствий: большая разница в возрасте — ей было двадцать, ему за сорок; происхождение претендента из простолюдинов и наименее простительная вина: бедность. Пришлось отложить дату бракосочетания из‑за отсутствия денег на оплату расходов. Впрочем, были кое — какие выгоды, среди прочего, талант, к которому невеста могла оказаться чувствительна: директор лицея в Нюрнберге, уже признанный интеллектуал, писатель, на будущее которого можно было рассчитывать.
Двое законных детей, появившихся позже, по- видимому, повели себя довольно враждебно по отношению к неуместному сводному брату и всячески препятствовали неоднократным попыткам Гегеля ввести его в семью, которым госпожа Гегель в своей трудной роли мачехи искренне содействовала. В конце концов, Луи был исключен из семейства, причем отец даже лишил его семейного имени. Он получил девическую фамилию матери: Фишер.
Но поначалу он был должным образом признан, и обоим законным детям оставалось только сожалеть об этом. Будучи еще молодыми, они, следуя в траурной процессии за гробом отца в 1831 г., должны были опасаться, как бы Луи не явился со своими претензиями, и третья часть наследства не ушла у них из‑под носа.
Гегель, вынужденный вскоре покинуть Йену без гроша в кармане, один, без своей сожительницы, не мог взять на себя заботу о новорожденном, а затем о маленьком мальчике, которого не оставили на попечении матери (можно представить себе, какие понадобились хлопоты и тяжбы). Ему повезло устроить его в заведение, которым заведовали знакомые с ним сестры Вессельхёффт, персоны уважаемые, родственницы Фромманнов. Спрашивается, был ли он в состоянии возместить им расходы и каким образом. Эти покровители и покровительницы маленького Луи в Иене были людьми неординарными. Фромманн, знаменитый книготорговец, чье имя всегда приносит славу издательскому дому, примерный франкмасон, играл важную роль в культуре того времени. Госпожа Фромманн была сестрой известного гамбургского издателя Фридриха Бона, человека «просвещенного» и отважного, у которого Фихте в трудные времена собирался публиковать одну из своих книг, ибо, писал он, «он не боится издавать самые рискованные (verfänglich) произведения»[196].
Юный Гегель, несмотря на свое внебрачное происхождение, сразу вошел в лучшее общество, круг общения семейства: Гёте, Фромманн, Бон, Вессельхёффт и многие другие, родственные им по духу люди. Забавно думать, что этот мальчишка, сын в те времена малоизвестного отца и отверженной матери, мог вспрыгнуть на колени Гёте в кабинете министра, самого великого из всех немецких поэтов. Но Гёте со свойственной ему прозорливостью в нескольких строках, вписанных в альбом десятилетнего мальчугана, сумел почувствовать, что придут времена, когда воспоминание о том, как дружеский взгляд великого человека покоился на ребенке в счастливом детстве, послужит тому утешением в таких возможных несчастьях.
Гёте предугадал, что благополучие внебрачного ребенка в те времена, дурные особенности которого он сам описывал, не может не быть шатким. Конечно, в разные периоды его жизни друзья Гегеля, часто люди, известные в культурных, как Нитхаммер, или же в политических или дипломатических кругах, как Ван Герт, будут стараться помочь «сыну Гегеля». Но ничего нельзя будет поделать. В конце концов, он пойдет ко дну. Ему недоставало теплого отношения, он быстро утратил доверчивость, которую разглядел в нем Гёте.
Его жизнь закончится в двадцать четыре года как вульгарная мелодрама или фильм ужасов: рок, сопровождающий человека, с первых дней отмеченного судьбой. Не раздумывая, он запишется в иностранную армию и бесславно погибнет в Батавии…
Оценки поведения этого сына Гегеля рознятся в зависимости от того, на какие отдельные документы они опираются, и главным образом от того, принимается ли в расчет краткая автобиография, которую он сам набросал в письме другу. Отмечают, что эта биография неплохо написана, хотя ее автор часто говорит о себе как «неудачнике», «никуда не годном» и т. д. В 1825 г. сын судит о себе довольно благосклонно, упрекая отца. Он даже отказывается называть его отцом. Но ведь правда, что и отец больше не называет его сыном.
Касающиеся этого сына письма философа, главным образом адресованные Фромманну, говорят о многолетнем сердечном внимании и беспокойстве, о гложущей заботе. Он хочет, чтобы мальчик кем‑то стал. Следит за его развитием, успехами с надеждой и разочарованиями.
После женитьбы и еще до рождения двух других детей он стремится вместе с супругой принять его в дом и воспитывать у семейного очага. Он радуется малейшему проявлению последним доброй воли, записывает его вместе с другими детьми во французскую гимназию в Берлине. Все эти попытки в конце концов терпят крах, который Гегель тяжело переживает. Луи везде чувствует себя отщепенцем, не преуспевает ни в каком учении и ни в каком занятии, его исключат, он сам себя изгонит отовсюду.
Отношения этого обделенного родительским теплом или считающего себя обделенным ребенка с отцом, уж не говоря о мачехе, представляют собой цепь размолвок, искренних, но неисполненных обещаний, временных примирений, неловких компромиссов, — печальная история отца и сына, сделавших в удручающе неблагоприятных обстоятельствах друг друга и себя несчастными.
Всего было в избытке: и просьб, и наказаний, с одной стороны, криков, бегства — с другой. На обвинение в неблагодарности Луи отвечает, что его натуру, первоначально добрую и обещающую, хотели сломить.
Один на редкость неприятный эпизод действительно свидетельствовал порочность. Луи был уличен в краже. Была ли это последняя капля, переполнившая чашу, или предлог, которым воспользовались? Сумма, в самом деле, была смешной: шестьдесят пфеннигов. Гегель впадает в ярость. Он отбирает у Луи свою фамилию. Впредь он не заслуживает славного имени Гегелей. Отныне его будут звать Луи Фишером. Мальчик воспринимает это как крайнюю несправедливость, как несмываемое оскорбление. Его отец отказывается позволить ему учиться медицине, к которой его тянет, и принуждает к учебе на торгового служащего, что противно его натуре. А то, что взгляд друга, будь им сам Гёте, его благословил, его не утешает. Он бунтует.
Смущает отсутствие более обстоятельных объяснений. О чем думал отец? Его поведение было отречением от первоначального признания отцовства. После всех фатальных неудач, ответственность за которые, безусловно, лежит на всех, так что нет смысла искать сейчас, на ком больше, в 1825 г. он покупает сыну офицерскую должность в колониальной голландской армии, и невозможно сказать, было ли это со стороны Гегеля попыткой обеспечить сыну достойное будущее или, напротив, самым быстрым способом отделаться от него. Луи отплывает в Батавию в 1826 г. и, после того как от него не будет вестей в течение пяти лет, умрет там 28 августа 1831 г., за три месяца до своего отца, который из‑за того, что письма шли долго, так и не узнал об этой смерти. В свидетельстве о смерти ее причиной названа «воспалительная лихорадка», столь же сомнительная, как и унесшая его отца «холера»…
Документы свидетельствуют о том, что, несмотря ни на что, Гегель все еще озабочен судьбой своего сына, его положением в армии уже после начала службы в Батавии. Вот уж воистину раздвоенная душа. Он спроваживает его, славное избавление! И как только тот уезжает, начинает хлопотать о нем, пытаясь помочь, несомненно, испытывая раскаяние.
Гёльдерлин пострадал во Франкфурте от несчастной любви; Гегель в Иене от несчастного отцовства. Один на этом потерял рассудок. Удивительно, что его не утратил второй.
Луи Гегель не выдержал гнета пошлых предрассудков, которые были причиной его регулярных эмоциональных срывов. Даже Хоффмейстер, которому принадлежит заслуга вполне благожелательного опубликования части касающихся Луи документов, (упрекающий другого сына Гегеля, Карла, историка, в том, что тот предпочел «непростительную тактику умолчания» (С3 378)) не останавливается перед обвинением Луи в «пагубных наследственных склонностях», очевидно, воспринятых от недостойной матери (С3 378). Эти пагубные «наследственные склонности» никак не проявлялись у ребенка. Гегель, которому под конец жизни нравилось давать педагогические советы, потерпел неудачу в воспитании своего незаконнорожденного сына, хотя правда, что положение у него было трудное.
В жизни Гегеля, как и во всякой жизни, присутствуют в разной степени радости и печали, надежды и разочарования, победы и поражения. Судьба отпустила ему несчастий полной мерой. Можно долго рассказывать о его успехах, справедливо восхвалять его интенсивное творчество, помпезно славить: всегда за всем этим будет слышен неустанный горестный аккомпанемент — жалоба незаконнорожденного сына.
Биографы Гегеля, как правило, превозносят его нравственные устои, о которых судят то ли в соответствии с собственными религиозными и консервативными взглядами, то ли в соответствии с требованиями, декларируемыми философом публично в конце жизни. Ему надлежало быть в жизни таким же разумным и мудрым, как в своих книгах: протестант старой закалки — таким его любит изображать традиция протестантизма. Согласно этому взгляду, Гегель уже в детстве обрел безупречный моральный облик, сохраненный им до конца дней. Говоря так, забывают, что самое существенное в его юношеских писаниях — это стремление показать, что публично практикуемые религия и мораль на самом деле «нежизнеспособны».
В 1912 г. Рок пишет, что «с ранних лет он сохранил как дань буржуазности (sic!) вкус к размеренной и простой жизни»[197]. Если у него был вкус к размеренной простой жизни, хорошо же он ему следовал!
Дильтей ранее, в 1905 г., был более точен: «Семейная обстановка, в которой он вырос, была простой, строгой, исполненной духа старого протестантизма. И даже если идеалы Веймара и Иены изменили позже его взгляды на жизнь, то, по меньшей мере, в частной жизни старые очень почтенные формы нравственности, окружавшие его с детства, оставались всегда решающими: он не допустил в собственную жизнь ни тени сомнения относительно протестантских нравов и жизненных правил отцовского дома»[198].
Было от чего плакать маленькому Луи в его колыбельке.
Ни Дильтей, ни Рок ничего о ребенке не слышали и о нем не упоминают. В гегелевские времена протестанты часто хвалились моральным ригоризмом и большей чистотой нравов по сравнению с представителями других религий или атеистами.
По правде говоря, мы в точности не знаем, какие «нравы» царили на самом деле в отцовском доме Гегеля. Допускали ли почтенные протестантские нравы, чтобы неженатый мужчина заводил ребенка от женщины, которая, расставшись с мужем, успела уже родить двоих?
Что касается Гегеля, то он предпочел на свой манер, в стиле крупных обобщений, дать объяснение своему развлечению, представив его типичным и необходимым этапом в развитии сознания. В отдельной главе «Феноменологии» он диалектически описывает фатальные последствия индивидуалистического желания. Сознание, уступающее желанию удовольствия, полагает, что достигает наиболее полного самоосуществления, но видит, как его действия оборачиваются против него, вынуждая действовать иначе, поднимаясь на следующую ступень поступательного движения.
Несмотря на туманы гегелевского стиля, искушенный читатель понимает, что в «желаниях — удовольствиях», анализируемых Гегелем, речь идет о чувственности. Не эксплуатируется ли в этой главе в интеллектуальных целях любовный эпизод из жизни автора? Сопоставление дат, однако, заставляет задуматься: Луи Гегель родился 5 февраля 1807 г., «Феноменология» вышла у одного бамбергского издателя при самых непредсказуемых обстоятельствах в марте 1807. Гегель сам настаивал, что закончил рукопись в полночь накануне Йенской битвы (14 октября 1806 г.). Гегель, конечно, уже был оповещен о беременности своей подруги, и, с другой стороны, известно, что он передавал рукопись издателю по частям, одну за другой, непрестанно добавляя что‑то, что‑то убирая, что‑то меняя, вплоть до общей структуры произведения. Но достаточно ли всего этого, чтобы заподозрить его в том, что, работая над главой об удовольствии, он думал о его последствии — младенце?
Та же проблема относительного опережения книгой события возникает в других обстоятельствах, о них уместно вспомнить. Это уже другая глава «Феноменологии», «Дух, отчужденный от себя самого»[199]: как объяснить, с точки зрения хронологии, впечатляющую ссылку Гегеля на «Племянника Рамо» Дидро? К вопросам, которые ставит само содержание этой отсылки, прибавляется следующий: когда Гегель столкнулся с гётевским переводом — а текст ему был доступен исключительно в форме перевода — если указанный был опубликован только в 1805 г.? Намерение Гегеля доработать и издать философскую систему восходит к 1802–1803 гг… В 1806 г. он рассчитывает лишь на введение в систему.
Точные указания, которые дает Лассон во «Введении» к своему изданию «Феноменологии», не касаются частной проблематики этой главы и никоим образом не проясняют обстоятельств цитации Гётевского перевода, связанных именно с хронологией событий. Так что, пока у нас нет более точных сведений, мы можем задаться вопросом о том, что предшествовало — идея отчужденного мира «Племяннику Рамо» или, напротив, именно так несколькими строками выше мы спрашивали о плаче маленького Луи и понятиях «Феноменологии», которые, не исключено, являют собой перевод этого плача на более возвышенный язык.
Что касается Луи Гегеля, то обе возможности, во всяком случае, одинаково интересны и неожиданны: был ли Гегель в своей главе об удовольствии вдохновлен скорым рождением сына, или же эта глава, вослед драме Гёте, передавала некое предчувствие самого рождения и грядущих из него следствий. Связь эта удивительна и в том, и в другом случае.
«Феноменология». Он закончил ее в день битвы. Случалось ли философскому произведению быть задуманным, написанным, опубликованным в более трудных и драматических обстоятельствах, нежели те, с которыми имел дело Гегель?
Не является ли натяжкой общепринятое слишком резкое противопоставление стиля жизни Гегеля, размеренного, «буржуазного», благоразумного, смятенному романтическому существованию кое — кого из его знакомых и друзей (Гёльдерлин, Шеллинг, Крейцер и др.). Если его жизнь «упорядочена», по меньшей мере с внешней стороны, то причину таковой следует искать в горьком опыте, имевшем необратимые следствия.
О хаотической композиции и судорожной работе над «Феноменологией», ее убогой публикации подробно рассказывает Лассон в своем введении к произведению[200]. Гегель работал над ним в стиле Наполеона — форсированным маршем, прибегая к гениальным импровизациям, медленно, долго, тщательно подготавливавшимся, всегда готовый поменять направление в зависимости от стечения обстоятельств.
Один более поздний эпизод помогает лучше представить себе, как скор на решения бывал Гегель в обстоятельствах такого рода, когда, не колеблясь, в последний миг вносил изменения. В 1821 г. он вставляет в «Философию права» очень резкое замечание, направленное против историко — политической доктрины Людвига Галлера, главного теоретика Прусского двора, от которого зависело мнение кронпринца. Это свидетельство неслыханной смелости. Тем не менее Гегель знает, что делает, цензура не вычеркивает замечания, репрессии не воспоследовали, ибо между временем окончания работы над «Философией права» (1820) и датой публикации (1821), задержанной на год из‑за работы цензоров[201], случилось неожиданное событие, приведшее в уныние прусских поклонников Галлера: он обратился в католицизм. В Пруссии он лишился поддержки и был там единодушно осужден. Критика Гегеля резка[202], но ведь он должен был прекрасно знать о случившемся.
Эти истории подтверждают, что Гегель мог очень проворно вводить новые, иногда чужеродные элементы в готовый текст. Его внебрачный ребенок стал для него неожиданностью, и, возможно, он захотел добавить патетики в тщательно расписанный феноменологический процесс.
У Гегеля последний миг всегда самый важный. Он извлекает пользу из новостей последнего года, дня, часа.
В Йене, в довольно открытой и свободной интеллектуальной среде, Гегель и не думал делать тайны из происхождения своего сына. Когда он вернулся в этот город, он ввел сына в лучшее общество, доброжелательно его принявшее.
Напротив, в дальнейшем, проживая в различных местах, Гегель вел себя в зависимости от обстоятельств. Когда ситуация вышла из под его контроля, он лавировал, как мог.
В Берлине под конец жизни для бывшего «богослова» из Тюбингена, апологета «теоретического обоснования» семьи, мнимого почитателя законности во всех областях кое‑что да будет значить то, что в тридцать семь он неосмотрительно произвел на свет и признал ребенка, впоследствии ставшего преградой у него на пути.
Легко вообразить, как воспользовались бы его враги этим случаем, стань он широко известным. Критики «Философии права» от души посмеялись бы над ним. И да будет существование Луи такой же тайной, как публикация «Писем» Жан — Жака Карта.
Приведем лишь один пример такого умолчания из множества известных случаев. Гегель записывает своих троих сыновей во Французский коллеж в Берлине. Замечено, что дата рождения Луи в списке учащихся лицея изменена — ноябрь 1821 г., оба других сына помечены как родившиеся в 1822 и 1823 гг. (В4127) Луи, таким образом, должен был сойти за сына госпожи Гегель, наравне с двумя другими. В голландском военном билете он записан как Людвиг Фишер, родившийся 5 марта 1807 г. (sic!), отец — Вильгельм Буркхарт (sic!).
В дурном лицемерном обществе, в котором он жил и которое хорошо знал, Гегель обязан был молчать. В Берлине ему действительно приходилось многое утаивать. Разве он не хотел сделать карьеру, разве не желал благополучия себе и семье?
Если такая благоразумная скрытность, в общем, объяснима, гораздо труднее объяснить и простить молчание и ложь потомкам и историкам. Сразу после смерти Гегеля семейство стало замалчивать это дело. Вероятно, это было решение не столько жены философа, отодвинутой в тень его кончиной, сколько обоих его законных сыновей, хотя их профессии — один, Карл, был историком, другой, Иммануил, — пастором — требовали от них правдивости. Они упорно молчали, боясь уронить честь семьи, о существовании Луи, стирая всякую память о нем. Историк ни разу не упоминает его имени в своей книге «Жизнь и воспоминания» (1900) и, публикуя впервые в 1887 г. собрание писем отца, тщательно вымарывает все, что имеет хоть какое‑то отношение к Луи. Друзья и знакомые Гегеля, по крайней мере, те, что были в курсе дела, сочли своим долгом присоединиться к этому умолчанию.
Розенкранц, который, собирая документы для своей «Жизни Гегеля» в 1844 г., конечно же, должен был что‑то слышать о Луи Гегеле, не говорит о нем ни слова. Ничего не говорит Куно Фишер в 1901 г., ничего — Дильтей в 1905. Сам по себе этот заговор молчания говорит о серьезном отношении к этой истории, долгое время считавшейся постыдной и достойной осуждения. Словно имея на руках некую доверенность, они дружно молчат об этом ребенке и после его смерти, и после смерти его отца.
Не исключено, правда, что они вообще не слышали о его существовании. Нужен был какой‑то частный источник информации или же знакомство с конфиденциальными материалами.
Ни все время гоняющийся за своей суженой Кьеркегор, ни перекладывающий на друга Энгельса проблемы своего неупорядоченного отцовства Маркс, ничего не знали о маленьком Луи. Так что и в этом плане они Гегеля оценивали неадекватно…
Первое письменное упоминание о Луи Гегеле, помимо переписки близких философа, находим в записке Варнхагена фон Энзе от 4 июля 1844 г., которая была опубликована Лассоном только в 1916 г. (С3 378). Варнхаген, друг и почитатель Гегеля, по случаю сотрудничавший в «Анналах критической философии», был вообще хорошо информирован о закулисной стороне берлинской жизни. И тем не менее он узнал о внебрачном ребенке только в 1844 г. из разговора с Лео (1799–1878), историком и публицистом. Последний, поначалу либерал и ученик Гегеля, стал после 1832 г. реакционером и антигегельянцем.
Лео выразил Варнхагену сожаление по тому поводу, что Розенкранц в своей «Жизни Гегеля» ничего не сказал о внебрачном ребенке. Лео говорил, что «этот ребенок сыграл важную и мрачную роль в жизни отца; до конца дней он был для него причиной терзаний», как сказано в сглаженном переводе (С3 378, прим. 4). На самом деле Лео, согласно немецкому тексту Варнхагена, имел в виду более тяжкие последствия: этот сын, «в конечном счете сильно затруднил ему жизнь (sein Leben tief eingeengt), оставаясь глубокой занозой в сердце»[203]. Фраза Лео в воспроизведении Варнхагена трудна для передачи по — французски, но она свидетельствует об острых отцовских переживаниях и о том, что существование сына отражалось не только на душевном состоянии отца, но и на всей его жизни. Он не мог быть спокоен.
Супругу Гегеля, по — видимому, не пощадил тот же неисцелимый недуг: «…она переоценивала свою любовь к мужу, когда выражала желание жить с сыном вместе, но потом нашла ношу слишком тяжелой, а препятствия (Widerdruss) непомерно большими, и невыразимо (unsäglich) страдала от этого» (С3 378. Смягченный перевод).
Фактически пришлось ждать до 1894 г. — более шестидесяти лет после смерти Гегеля! — пока о существовании Луи не узнали немногочисленные читатели «Анналов Гёте»[204]. Найдя четверостишие Гёте, посвященное ребенку, Редлих в нескольких строках напомнил, для кого оно было написано. Он изъяснялся предположительно: полстранички текста, включая стихи, и закончил неуверенно: «Луи Фишер позже отбыл в качестве солдата на службе у Голландии в Индию и, кажется, там умер» (wo er gestorben zu sein scheint).
Философам не везет с их внебрачными детьми. Одни умирают слишком рано, как маленькая Франсин Декарта; другие слишком поздно, как маленький Луи Гегеля.
XI. Бавария
Сумеречный день[189], встающий над всем цивилизованным миром…
Нитхаммер по поводу Реставрации (19 ноября 1815 г.) (С2 58)
Гегель был доволен результатом Йенской битвы. Это была победа Наполеона, великого человека новых времен, который насильственно экспортировал в Германию некоторые из политических и культурных завоеваний Французской революции. Но эта «всемирная» победа повлекла за собой наихудшие последствия для большого числа «частных лиц». Переживая самую крайнюю нужду, испытывая неудобства лирического порядка, Гегель вынужден искать счастья в иных местах, покидая в Йене, возможно, без больших сожалений, свою беременную подругу.
Он с благодарностью согласился на должность, которую Нитхаммер, занимавший важный пост в Баварии, раздобыл для него в одном из баварских городков — редактора местного издания, «Бамбергской газеты» (Die Bamberger Zeitung). Новая перемена: это не то, о чем мечтал Гегель, но приходится мириться с обстоятельствами. Он охотно согласился с этим новым положением. Когда ты уже послужил домашним учителем и знаешь, почем фунт лиха, служба пером представляется легким делом.
Поначалу Гегель круто взялся за гуж, решив, несмотря на очевидные трудности, преуспеть. Перспектива не была совсем уж обескураживающей. Бавария переживала обновление. После притчи во языцех — долгого периода неограниченного деспотизма и обскурантизма — Баварией управлял от имени короля Монжела (Montgelas) просвещенный ум, реформатор, бывший иллюминат. По сути дела, страна, примкнувшая к Конфедерации, находящейся под «протекцией» Наполеона, подчинялась директивам из Франции и, возможно, по этой причине ощущала известный подъем. Вместе с тем, как это часто бывает, покровительство во многих случаях оборачивалось закабалением, если не чем‑то худшим.
Важное следствие либерализации: Бавария на какое- то время открыла двери ранее изгнанным протестантским интеллектуалам. Многие из тех, кто лишился поддержки в Йене, приехали сюда. Шеллинг, Якоби, Нитхаммер, Паулюс, Уланд, если говорить только об окружении Гегеля, нашли себе убежище и хорошие места. При помощи каких средств и благодаря чьей протекции Нитхаммер сразу заполучил место Landesdirektionsrat (высокопоставленного баварского чиновника) и устраивал Гегеля на должность редактора журнала?
Он не будет торговать ваксой на улице, он будет источником новостей! Никакого сомнения, что последнее занятие предпочтительнее как более достойное. Конечно, ему больше подошла бы профессорская должность в каком- нибудь баварском университете, но к моменту прибытия все места были заняты. Он поступил разумно, смирившись с судьбой газетчика: «Дело это меня заинтересует, ибо […] я с любопытством слежу за событиями в мире, и мне бы надо, скорее, сожалеть об этом любопытстве и умерять его» (С1 136). Разве не написал он в Йене, что «чтение газет заменяет нам утреннюю молитву (D 360)»? Он, в самом деле, выказывал неумеренное любопытство и перед отъездом пожалел об этом, не подозревая, впрочем, насколько оправдаются его сожаления.
Работа началась в марте 1807 г. и продолжалась по ноябрь 1808. Опыт краткий, но очень поучительный и полезный.
И все же какое‑то ощущение неудовлетворенности у него остается. Сделав определенный выбор в новой ситуации, Гегель выгораживает себя перед Шеллингом: «Если само по себе это занятие и может показаться не очень подходящим в глазах света, по крайней мере в нем нет ничего зазорного» (С1 138)… Это не энтузиазм, но что‑то вроде веселого отречения. Гегель не сомневался в том, что его неудача была обусловлена общим ходом европейских дел, и не терял надежды на возрождение Германии с благоприятными лично для него последствиями в неопределенном будущем.
Такова оценка происходящего в письме одному из его прежних йенских студентов, Дельману, написанном незадолго до отъезда из этого города. Письмо свидетельствует о большом доверии адресату, поскольку Гегель, — при том, что пути письма были неисповедимы — имеет смелость писать: «Вы проявляете интерес к истории сегодняшнего дня; в самом деле, насколько убедительно культура одерживает победу над грубостью и дух над обездушенным рассудком и ложной мудростью» (С1 129–130).
Очевидно, что отмечаемая так и в те времена победа — это победа Наполеона.
Но воодушевление не мешает Гегелю советовать вести себя по — спинозиански мудро по отношению к мирским делам: «Только наука являет собой теодицею; она оградит нас как от животной ошеломленности событиями, так и от более разумного подхода, склонного приписывать все воле случая или таланту индивида, ставящего судьбы империй в зависимость от взятой или не взятой возвышенности, наука удержит нас от сетований по поводу победы несправедливости или беззакония» (С1 129–130).
Напрашивается сравнение Германии с Францией: «Благодаря революционной бане, французская нация не только освободилась от многих институций, которые ее возмужалый дух давно перерос, бывших ей и всем обузой, а также от бессмысленных оков; кроме того, выпав из привычного течения жизни, которое изменившиеся обстоятельства лишили надежности, отдельный человек избавился от страха смерти, — но это делает его сильнее в глазах окружающих. Обретенная сила превозмогает узость духа и душевную апатию окружения, которое тоже в итоге будет вынуждено ее преодолеть, распрощавшись с прежней действительностью, и зажить по — новому; не исключено (коль скоро внешнее действие не исчерпывает глубины переживаний), что они превзойдут своих учителей» (С1 129–130 mod).
Таково умонастроение Гегеля после приезда в Бамберг: революция дала французам превосходство, но немцы возьмут с них пример и, благодаря собственным качествам, вскоре их опередят. Ясно, он не мог такую вещь высказать публично.
Революционная и наполеоновская Франция — пример и наука. Гегель горячо верит: Германия, благодаря глубинам своего духа, добьется большего, чем учитель.
Бамберг
Выходившая ежедневно «Бамбергская газета» весьма мало походила на то, что мы сегодня называем газетой. В ней публиковались главным образом административные объявления, местные новости и происшествия, а сверх того общие суммарные отчеты о политических событиях в стране и мире. Редактору приходилось не столько комментировать или оценивать их, сколько извещать о них публику, черпая информацию исключительно в уже проверенной цензурой французской периодике.
Не то чтобы Гегелю не нравилось пользоваться наполеоновской прессой. Но как мог он заставить себя не думать, и, стало быть, не выступать от собственного лица, пусть со всеми предосторожностями, выбирая, представляя и редактируя те или иные сведения?
По — видимому, в «нормальных» условиях он был бы очень хорошим редактором газеты.
Чем бы он ни занимался, он во все привносил самое добросовестное, самое дотошное усердие. Он никогда не был безразличным или небрежным, свойство, особенно ценное для редактора. Больше всего его интересовала политическая жизнь в стране и в мире. Он высоко оценивал роль прессы вообще и связывал с нею определенные надежды. Будь он свободным и располагай деньгами, он сделал бы «Бамбергскую газету» образцовым средством информации и поводом для размышления. Ему уже случалось критиковать «этот безмятежный восторг и традиционное для Германии угодничество» (С1 168), которые он приписывал, в первую очередь, католикам. Протестанты, они ведь всегда протестуют.
Честности, тщательности, критического духа надзорные органы опасались больше всего. Он плыл, стало быть, против течения, ясно это сознавая и продвигаясь понемногу вперед благодаря ловкому маневрированию.
Биографы вообще диву даются, — и напрасно, — тому, как заботливо он отнесся к своей газете, сами они к такой жертвенности не способны. Они сочли эту работу лишь способом какое‑то время перебиться и заработать на хлеб, выйти из положения. Но у него было достаточно причин принять ее близко к сердцу, увидеть в ней нечто вроде миссии. Кроме того, надо сказать, что он в то время не знал, появится ли у него на горизонте еще что‑то.
В этом новом для него занятии он выказал практическую хватку, интерес к техническим деталям, вроде умения выбрать бумагу побелее и более четкие типографские литеры. Он старался раздобыть наиболее надежные, наиболее достоверные и интересные для читателей сведения, излагая их в живой увлекательной манере.
В своей газете он описал взятие Данцига генералом Лефевром, сражение при Фридланде, Тильзитский мир, французскую экспедицию в Португалию, бомбардировку Копенгагена французским флотом, начало той Испанской войны, к которой он позже сделает политический комментарий, встречу в Эрфурте… Так следил он за современными событиями, главным образом, военными.
Но читатель «Газеты», возможно, заметит, а более точно мы это знаем из писем того периода, что Гегель все больше и больше пользуется сведениями, полученными от непосредственных свидетелей, от осведомленных друзей, дополняя ими то, что он получал из проверенной цензурой французской прессы. Эта деятельность редактора независимого журнала не могла продолжаться долго. Лишь искреннее желание, а скорее, жестокая необходимость могли быть причиной того, что какое‑то время это дело устраивало философа, стремившегося разработать и преподать собственное учение. Трудные материальные условия, духовные ограничения быстро сделали его мучительным для свободной и одаренной души, которой поначалу оно, возможно, не казалось обременительным.
Ответственно относясь к своему делу, он фатально вошел в противоречие с многочисленными несообразными требованиями властей. Этот эксперимент, как и прочие, должен был закончиться плохо.
Конфликт разразился, и мы не знаем теперь, сам ли Гегель его осознанно спровоцировал, просто пустил все на самотек или был застигнут врасплох. Первые комментаторы или хранят молчание на этот счет (так, Мог (Moog), изображает дело так, будто Гегель оставил «Бамбергскую газету» по доброй воле!), или, кроме того, они немногословны и недостаточно внимательны к документам. Но правда, что по вполне понятному совпадению, Гегелю уже хотелось уехать, когда он был вынужден это сделать.
Гегель прибегал к помощи частных информаторов. Так, он обратился к Кнебелю, лицу, внушающему подозрения (друг Гёте, материалист, атеист), с которым он подружился в Йене, и который посвятил его в разнообразные детали, касающиеся переговоров в Эрфурте (С1 220–223, 224–225). Таким образом, Гегель смог публиковать, начиная с 5 октября, отчеты о начале знаменитой встречи императора с царем еще до того, как она завершилась (14 октября 1807 г.). Он возвращается к деталям этой встречи в номере «Газеты» от 26 октября, на этот раз, похоже, не нуждаясь в помощи Кнебеля. Так вот, именно из‑за этой статьи он получил выговор от правительства Баварии и предписание раскрыть источники, то есть фактически назвать имя своего предполагаемого информатора. Гегель этого не сделал.
Похоже, что власть больше всего была рассержена статьей от 5 октября, и что статья от 26 октября только подлила масла в огонь и послужила предлогом[206].
Недовольство вызвала уже более ранняя статья, от 19 июля, в которой указывались места расположения трех дивизий баварской армии. Нужен был повод для того, чтобы придраться? Тасуя содержание разных статей «Газеты», власти упрекали его в распространении материалов, добытых в данном случае не от частного информатора. Мы не располагаем письмом, в котором Гегелю предъявлялись обвинения, но зато у нас есть его ответ. Гегель неплохо защищается, объясняя, что вменяемая ему в вину статья от 26 октября представляет собой «выдержки из двух других газет, издающихся на оккупированной Францией территории», и что «и та, и другая прошли официальную цензуру». Он напоминает, что сам предостерегал от возможной ложной интерпретации новостей, передаваемых таким образом, и заканчивает письмо уверениями в полной лояльности властям (С1 232).
Даже если не входить в подробности этого конфликта, он оставляет странное впечатление. Человека обвиняют в ошибке, в которой он не виноват, и которая, как представляется, по меньшей мере, могла быть легко прощена; от него требуют назвать частного информатора по поводу новостей, почерпнутых из «официальных» газет! Но при этом ничего не говорится о статье, действительно основанной на частных сведениях, источник которых он вполне мог указать: Кнебель. Гегель получает официальное порицание именно тогда, когда его уход из редакции «Газеты» уже предрешен.
Неприятностей у редактора Bamberger Zeitung хватало вплоть до финального краха. В письме Нитхаммеру от 15 сентября 1808 г., в котором он сообщает о крахе, умоляя еще раз о помощи, Гегель утверждает, что «снова» стал жертвой «инквизиторских мер» и упоминает «это последнее из дел» (С1 218)…
Поль Рок (Paul Roques) полагает, что документ «случайно попал» в руки Гегеля[207], который в своем письме указывает только, что «получил его от типографского мастера».
Когда дело примет худой оборот, он не станет прибегать к жанру извинений (С1 231–232). Кто, в самом деле, поверит, что редактор газеты, обязанный искать сведения для публики, жаждущей новостей, «случайно» напал на одну из них, особенно если она «громкая».
Вот повод удивиться счастливой роли случая в личной жизни Гегеля, что же касается гегелевской теории на сей счет, в ней все обстоит сложнее. Он ведь вообще советовал «поостеречься» «полагать события делом случая» (С1 130).
И тем не менее Гегель настаивает, что встретился с Ольстером (Oelsner) в 1794 г. в Берне «совершенно случайно».
Позже Гегель окажется в Дрездене как раз тогда, когда туда прибудет Виктор Кузен, похоже, не предупредив друга. Из этого воспоследует настоящая драма[208].
И вот теперь в Бамберге текст декрета «случайно» попадает в руки журналиста!
Можно вообразить, что случай, на который открыто ссылаются в признаниях, или на него только намекают, поставляет избранному клиенту очень определенные, а главное, подозрительные обстоятельства, которые тот способен предугадать!
Если бы дело сводилось к тому, что Гегель изложил в своей «Декларации» 9 ноября 1808 г. перед генеральным комиссариатом города Бамберга, речь шла бы, в сущности, о «произволе властей», которые, пренебрегая какими бы то ни было законностью и порядком, игнорировали решения официальной цензуры.
Еще 15 сентября 1808 г. он написал Нитхаммеру: «С тем большим нетерпением желаю я оставить, наконец, мою журналистскую галеру, что снова недавно стал жертвой инквизиторской меры, которая мне напомнила, в каком положении я нахожусь […]. Все поставлено на карту из- за одной статьи, которую нашли возмутительной; решать вопрос о публикации подобной статьи должен был я, но сейчас меньше, чем когда либо, знаешь, что может вызвать возмущение; в подобных случаях журналист действует на ощупь. Цензуре — как в этом последнем случае — абсолютно не к чему придраться. В ведомстве ограничиваются тем, что просматривают газету, запрещают ее…».
Ниже Гегель с горечью отмечает: «в неясных делах такого рода часто решает случай или каприз». Он решается, если дело не уладится само собой, на крайнюю меру: «поскольку в подобных случаях надо действовать быстро, я не вижу иного выхода, как лично отправиться в Мюнхен просить о снисхождении» (С1 219). В этом случае речь могла идти только о королевской милости. Мы не знаем, в самом ли деле Гегель был вынужден пойти на эту крайность. Во всяком случае, он долго еще будет опасаться административных или юридических последствий этого дела (письмо от 20 февраля 1809 г.).
Тем временем Нитхаммер в Мюнхене был назначен Zentralschul‑und‑Studienrat, став очень влиятельным лицом в сфере образования. Действуя в рамках фундаментальной реформы общественного образования в Баварии, он исхлопотал для Гегеля место преподавателя «подготовительных к философии дисциплин» и (временно исполняющего обязанности) «ректора» Нюрнбергской гимназии (лицея). В течение девяти лет он будет применять на этом посту свои таланты организатора, педагога, наставника молодых людей в области интеллектуальной деятельности.
Пребывание в Бамберге, впрочем, не обошлось без кое- каких интеллектуальных приобретений, а также развлечений. Он сам описывает бал — маскарад, в котором принял участие в обществе дамы. В костюме слуги (Kammerdiener — некоторые биографы, озабоченные его достоинством, переводят это немецкое слово как «chambellan»[209] и меняют «платье слуги» на «ливрею»), он три часа тет — а-тет развлекался с некой мадам де Жолли, нарядившейся Кипридой![210]
Бамберг не поскупился, прежде всего, на жизненные уроки. Живя в стране, находящейся в конечном счете под властью Наполеона, Гегель мог убедиться в живучести деспотизма в иных формах. Непохоже, чтобы он сразу возложил вину за это на императора, но до поры до времени, скорее, на его баварских подданных, злонамеренных и некомпетентных. И, кроме того, причиной могла быть затяжная война, и не один император нес за нее ответственность.
Гегель знал по собственному опыту, насколько печально положение прессы и насколько тяжела участь журналиста. Если у него еще и оставались какие‑то иллюзии, то он должен был, по меньшей мере, прекрасно понимать «кухню» этого дела, а равно, с какой осмотрительностью надо читать газеты. Как распознать правду в том, что они говорят, и угадать о чем они молчат.
Примечательно, что Гегель вел себя в Бамберге не смиреннее, чем в других местах. Можно сказать, что дозволенными свободами философ не пренебрегал и всегда пользовался ими с предельной полнотой. Но в Бамберге, в частности, он переступил границу дозволенного, и власть не снесла такого оскорбления. Очень мало было в это время в оккупированной Германии, да и в «метрополии», во Франции, публицистов, которые осмеливались на свой страх и риск нарушать имперские порядки и установления.
Он мог бы оставаться благоразумным и послушным, раболепно угождать желаниям и поощрять уловки баварских монархистов, не таких отвратительных на его взгляд, какими были старорежимные защитники монархии. Но именно на это он не соглашался.
Он не испытал в жизни ничего, кроме притеснений. Ему не дано было даже отчасти воспользоваться буржуазной свободой, когда он мог бы, помимо прочего, опубликовать, пусть даже ценой переделок, кое — какие из рукописей, которые он возил всюду с собой.
Но в Бамберге на его долю выпало худшее: неподдельный произвол. Этой детали не заметило большинство комментаторов, хотя на самом деле деталь важная.
Гегель очевидно враждебен цензуре, и таким он останется навсегда[211]. Нет ничего удивительного в том, что он не заявляет открыто и торжественно об этом в публикациях, подлежащих той же цензуре! Так или иначе, писатели той эпохи в Пруссии или в Баварии не могли ни избежать цензуры, ни открыто выступить за ее отмену. Можно даже предположить, что они как‑то свыклись с ней. Как говорится, мирись с тем, что есть. Цензура составляет часть объективной действительности, как непогода или болезнь.
О ней забывают тем скорее, чем больше появляется неприятностей другого рода.
Что удручает и возмущает, так это запреты сверх того. По отношению к этим запретам цензура выступает чуть ли не средством защиты: материалы, прошедшие предварительную проверку, подчищенные и исправленные, по крайней мере считаются официально принятыми или одобренными, и значит, они в принципе защищены от произвольных нападок. Защищенность может казаться тем более надежной, что сами авторы, знакомые с известными или предполагаемыми требованиями цензуры, на всякий случай сами себя заблаговременно подчищают, чтобы выиграть время и избежать лишних осложнений.
Но редактор «Бамбергской газеты», опубликовавший сведения, сами по себе безопасные, и к тому же, почерпнутые, как это было принято или установлено, из уже проверенных и утвержденных публикаций, подвергся порицаниям, угрозам и санкциям со стороны высшей власти, которая, дезавуируя цензуру, ею же самой установленную и направляемую, принимает решение, очевидно нарушающее закон, постановление и обычай.
Это Гегель и назовет «наездом властей» (С2 82), когда жертвой такового станет Нитхаммер. В Бамберге он испытал его на себе.
Что государство — притеснитель, это вне сомнений. Но многие писатели, и Гегель, были бы довольны уже тем, что оно притесняет по правилам, в соответствии с принципами записанной конституции, согласно положениям принятого и опубликованного устава, чтобы каждый, по меньшей мере, знал точные границы того, о чем он вправе говорить!
Таким образом, первый протест Гегеля, вскормленный суровым бамбергским опытом, направлен против произвола, каприза властей, «благой воли» господ и начальников. С этой точки зрения философ — безусловно, уже expositus, по его собственному определению[212]. Но в то время — газетчик!
Нитхаммер избавит его от этой каторги.
Нюрнберг
В октябре 1808 г. Гегель занимает свой новый пост — директора лицея, полученный благодаря стараниям его друга, за отсутствием желанного места преподавателя в университете. Нитхаммер, безраздельно преданный, употребил все свое влияние, чтобы еще раз помочь другу, находящемуся в стесненных обстоятельствах.
Лицей, в котором будет Гегель трудиться, представляет собой протестантское учреждение, недавно основанное и, несмотря на бедность, гордо носящее имя Меланхтона. Гегель доволен новым назначением — что тут поделаешь! — и выражает радость по поводу того, что наконец‑то работает в сфере образования, даже если и не на том уровне, на который имеет право претендовать.
Кажется, он следует максиме интеллектуалов в трудные времена: всегда быть готовым поменять жизнь на лучшую, но вместе с тем вести себя так, как если бы нынешнее досадное положение должно было длиться вечно. Он хранит надежду на то, что когда‑нибудь его возьмут в университет Эрлангена, а пока что живет, сохраняя достоинство.
Есть еще один повод для удовлетворения, на сей раз идеологического свойства. Гегель счастлив, организуя лицей, вдыхая в него жизнь, участвовать в распространении протестантской культуры в католической Баварии. Известно, что он под этим понимает, в полном согласии с Нитхаммером, которому напишет 12 июля 1816 г.: «В этом заключается различие между католицизмом и протестантизмом. Среди нас нет мирян (непосвященных). Протестантизм не препоручает себя заботам какой‑либо иерархической церковной организации, но заключается единственно в общем формировании духа […]. Наша церковь — это наши школы и университеты» (С2 84).
Очевидно, от него самого не ускользнул вызывающий — и таким он мог показаться большинству протестантов и их руководителей — характер таких высказываний, и он предусмотрительно закрывает тему, заканчивая письмо: «и хватит об этом»…
Это особенный взгляд на протестантизм, который, как он полагает, вполне согласуется с его любовью к греческой античной культуре. Ибо одновременно он был избран, и на него была возложена обязанность провести в лицее большую, разработанную Нитхаммером, педагогическую реформу. К великой радости Гегеля реформа предусматривает восстановление и расширение классических штудий, в частности, изучение греческого языка и культуры.
Как директор он должен был произносить множество речей, главным образом, на церемониях награждения премиями. Почти всякий раз он пользовался случаем, чтобы восхвалить, полагая это своей обязанностью, лютеранскую веру, но также, чтобы снова и снова превознести перед властями, учениками и их родителями древнегреческую культуру. Он не считал, что преувеличивает, когда говорил, что тот, кто не знаком с творениями древних, не знает, что такое красота»[213]. По его мнению, «в первую очередь греческая, а затем и римская литература, должны составить основу высшего образования и оставаться ею. Совершенство и блеск этих шедевров должны обогатить дух, стать языческим крещением, которое придаст душе тон и окраску, всегда отличающие человека знающего и со вкусом»[214]. Что и говорить, вполне языческое крещение!
В резком контрасте с этой классической гармонией в Баварии все переделывалось под французским влиянием, беспорядочно и без плана, в условиях общеевропейской войны с ее переменчивым ходом, при полном национальном неустройстве, экономической и финансовой разрухе. Потрясениям не было конца.
Лицей имени Меланхтона был создан под давлением протестантской части населения Нюрнберга. Гегель должен был обеспечить начало работы. У него «все бы сияло», если бы было чему сиять. Но хранящееся в неприспособленных помещениях и используемое от случая к случаю школьное оборудование было самым скудным.
Еще больше хлопот, чем материальная база, доставляли директору, очень мало подготовленному к своей роли, но отнесшемуся к ней так, словно это было его земное предназначение, ученики. Почти все его время поглощали скучные и раздражающие административные обязанности, исполнению которых сопутствовали нескончаемые организационные и реорганизационные потуги правительства, зачастую приводившие к полной дезорганизации. Дети были плохо подготовлены к школьной жизни, Гегелю приходилось заниматься самими будничными, и даже совсем низменными вопросами, например, как обустроить отхожие места.
Надо было установить дисциплину, саму по себе не возникающую. Ученики привыкли курить, — это противоречило правилам, — а также драться на дуэли.
Кое‑что директору удалось сделать. Он сумел выказать себя ни недоступно строгим, ни мягкотелым. Завоевал доверие учеников, их родителей, жителей города. Дела в лицее понемногу улучшались.
Бытовая жизнь Гегеля отличалась полной неустроенностью. Он жил в ветхих строениях, и к тому же, из‑за царивших в Баварии анархии и разрухи, крайне нерегулярно получал свое, и без того очень скромное, жалованье. Короче говоря, постоянно сидел без гроша в кармане.
Лишенный, по печальному стечению обстоятельств, возможности преподавать в университете, чего он так страстно желал, Гегель старается, во всяком случае, поднять уровень лекций по «подготовительным к философии наукам», чтение которых входило в его должностные обязанности. Он назовет их, как требовалось, «Философской пропедевтикой», но современный читатель изумится, узнав, что приходилось слушать его ученикам, столь юным и так плохо подготовленным. Ибо на самом деле он преподавал им полную и завершенную философскую систему.
Способ его преподавания сегодня может показаться архаичным. Он диктовал свой курс, параграф за параграфом, из‑за отсутствия учебников, которыми он, несомненно, воспользовался бы, если бы написал их сам. Он сделает это позже: в Берлине и в Гейдельберге его лекции часто будут комментарием к какому‑нибудь «резюме» или «уточнению», опубликованному ранее.
Метод этот, возможно, слишком «школярский» для слушателей, предоставит следующим поколениям несомненные выгоды. Ибо заботливо сохраненные тексты параграфов открывают исчерпывающую картину этапа развития гегелевской мысли[215]. Но… вскоре Наполеон окажется побежден, и Бавария, освобожденная от французского влияния, с наступлением Реставрации опять погрузится в исконный маразм. Католическая реакция будет упиваться реваншем. При Наполеоне она постоянно обвиняла протестантских преподавателей в «демагогии» — как говорит сам Гегель, — а также в сочувствии «баварским иллюминатам», но независимо от того, были для этого основания или нет, фактически не могла повредить им.
Реставрация обеспокоила и напугала преподавателей. Встал вопрос о закрытии лицея Меланхтона, и профессиональное положение Гегеля опять оказалось в подвешенном состоянии. Некогда предполагавшееся назначение в университет Эрлангена отодвигалось в будущее, становясь все более призрачным.
И вот тогда это будущее один раз в жизни улыбнулось Гегелю. Его репутация философа упрочилась, и известность возросла, особенно после того, как к опубликованной «Феноменологии» добавилась «Логика». В 1816 г. ему пришел «вызов» (Ruf, как было принято у немцев) в университет Гейдельберга.
После затянувшегося пребывания в чистилище, открылись врата рая.
Женитьба
Тем временем крупное событие, важное, по меньшей мере для него самого, внесло приятное разнообразие в суровую жизнь философа, — он женился.
В апреле 1811 г. он обручается с Марией фон Тухер (Tücher), девицей из старой патрицианской нюрнбергской семьи, и женится на ней в сентябре того же года. Ему к тому времени исполнился сорок один год, ей — «едва ли двадцать». Она молода, красива и знатна, но, на его счастье, бедна. Гегель, со своей стороны, не лишен привлекательности, а положение директора лицея и намечающийся ореол философа добавляют ему престижа.
Обстоятельства женитьбы проливают свет на то, как вел себя Гегель в житейских делах.
В буржуазной среде того времени любовь, как мы ее сегодня понимаем, редко предшествовала браку. Чаще случалось так, что любовь рождалась и расцветала уже после того, как брак был заключен, поскольку представлялся приемлемым по экономическим, социальным и культурным соображениям. А если нет, обходились без любви. Похоже на то, что в случае Гегеля и его супруги все сложилось как нельзя лучше.
Чаще всего родные сами устраивали брак детей в соответствии со своими взглядами. Гегель, ясно, не мог на это рассчитывать. И еще раз Нитхаммер берет дело в свои руки. Госпожа Нитхаммер находит ему жену. Спрашивается, что могло подтолкнуть Нитхаммеров, людей рассудительных, брать на себя роль посредников в таком деликатном вопросе? В итоге Нитхаммер нес моральную ответственность за Гегеля перед семейством невесты, как недавно нес финансовую ответственность за него перед издателем. Но невесту еще надо было найти. А не могли ли ложи, в случае необходимости, быть не только бюро по найму воспитателей и местом встречи с издателями, но также и брачными агентствами?
Родственники девушки выставили условия. Отец счел, что директор лицея не слишком завидная партия для его дочери, кроме того, он знал о ненадежности его материального положения. Он потребовал, чтобы женитьба состоялась не ранее того, как Гегель станет преподавать в университете, на что, несомненно, рассчитывал будущий зять. Гегель поначалу признал справедливость такого требования и запасся терпением.
Однако, подталкиваемый Нитхаммером, Гегель стал вести себя решительнее. Родственники невесты чувствовали себя не вполне уверенно, как им этого ни хотелось. Семья быстро уступила, невеста не могла предъявлять требований: приданого не было никакого или почти никакого.
Гегель проявил себя человеком исключительно бескорыстным по тем временам. Мария, со своей стороны, увлеклась этим простым директором лицея, не имевшим за душой ни состояния, ни дворянства, ни надежного места.
Она влюбилась в примечательного человека, чье внимание сумели обратить на нее. В частных отношениях Гегель был приветлив, любезен, остроумен и способен производить впечатление на юных девиц. Невыносимым он был только в философии, ибо полагал, что здесь на него возложена высшая миссия. Но новоиспеченная пара вовсе не мечтала целиком погрузиться в философию.
У Гегеля было ощущение, что в Марии он действительно нашел свое счастье. Свадьбу отпраздновали 16 сентября 1811 г.
Гегель обрел эмоциональное равновесие и налаженный быт, о которых давно мечтал, и которые позволяли ему продолжить работу. Директор лицея и человек семейный, отныне он жил обычной добропорядочной жизнью. И речи быть не могло, с его стороны, о романтической любви, принесшей погибель многим его друзьям: безумие, самоубийство или чахотку.
Йенская история его охладила. Теперь он смотрел на вещи трезво. Позже он напишет, смеясь над тем, что называл «романтичностью»: «Какими бы резкими ни были столкновения человека с миром, как бы ожесточенно он с ним ни боролся, чаще всего тем не менее он кончает тем, что находит себе девушку, делает карьеру и становится обывателем, в точности таким, как все остальные; жена ведет хозяйство, не замедлят явиться дети; некогда столь обожаемая жена, несравненная, ангел, становится примерно такой, как у всех, на службе дела и неприятности, супружество превращается в домашнюю голгофу…»[216].
Минута дурного настроения из‑за несварения желудка? Или в глубине души Гегель думает, что это не про него?
На самом деле он испытывал к Марии привязанность, глубокую, спокойную, осознанную, отнюдь не исключавшую искренней нежности. Он знал человеческое сердце. Умел писать своей суженой вполне страстные, но вместе с тем поучительные письма: «Супружество по существу своему есть религиозный союз» (С1 326). Он сочинил для нее несколько маленьких чувствительных стихотворений, не вовсе складных. Были и ссоры возлюбленных, в которых не могли не всплыть напоминания о Нанетт Эндель или обозначиться навязчивый силуэт Жанны Буркхарт, держащей за руку маленького Луи. Мария показала себя рассудительной, мудрой, в конце концов, любящей женщиной. Супруги были счастливы до конца, насколько нам известно.
Гегель судил спокойно. «Таким образом, я достиг — не считая кое — каких неизменно желательных перемен — цели моего земного существования, ибо, если у тебя есть работа и хорошая жена, у тебя есть все, что нужно иметь в этом мире. Эти две вещи — главное из того, что следует стараться заполучить».
Неисправимый преподаватель, он, хотя и посмеиваясь, не может удержаться от описания своего счастья, уподобляя его устройству школьного учебника: «Это главные статьи. Все остальное — уже не главы, но параграфы и примечания» (С1 343).
Ну а что касается философского призвания, то это, конечно, увлекательные картинки — иллюстрации.
И все же Гегель не строил иллюзий. Под счастьем он понимал не безоблачность. Он представлял себе его сочетанием света и тени. Опыт научил его тому, что от жизни можно ждать чего угодно.
Как можно было предположить, молодожены оказались в стесненном положении. Директорское жалованье обычно выдавалось с большим опозданием. Накануне свадебной церемонии Гегель не располагал нужной суммой.
16 августа, получив в качестве служащего королевское разрешение на женитьбу, он спрашивает себя, стоило ли о нем хлопотать: «…ведь у меня нет главного, а именно, денег. Если я на самом деле скоро не получу невыплаченное за пять месяцев жалованье и прочие полагающиеся мне выплаты — или по меньшей мере не заручусь твердым обещанием, что мне заплатят к определенной дате — я едва смогу sustentare vitam quotidianam[217], даже живи я один, как перст, а тем более, если речь идет о двоих» (С1 340).
Вскоре речь шла уже не только о двоих. Так или иначе, Гегель должен был продолжать платить за содержание своего незаконного сына в пансионе сестер Вессельхёфт в Йене под благожелательным присмотром друга Фромманна.
В 1812 г. родилась дочка, но она умерла спустя несколько недель (июль — август 1812 г.).
Много позже, в Берлине, в свои последние дни, Гегель захотел утешить друзей, Генриха Беера и его супругу, потерявших ребенка. Ни молитв, ни упований на Бога, на встречу в ином мире… Гегель приводит в качестве примера самого себя в аналогичных обстоятельствах.
Он обращается к другу, перед которым ему было бы стыдно за полагающиеся в таких случаях успокоительные, но бессмысленные слова или иллюзорные утешения в связи с «непоправимой утратой», и он не видит другого средства, как задать ему тот же вопрос, «который я задал своей жене при сходной (но более ранней) потере пока еще единственного ребенка: что она предпочла бы? Счастье иметь такое дитя в его самом прелестном возрасте и потерять его или вообще не знать этой радости? В своем сердце Вы предпочтете первое. Да, все кончено. Но с Вами осталось ощущение этого счастья, воспоминание о чудесном ребенке, о его радостях, счастливых минутах, о его любви к Вам и к его матери, о его детских суждениях, а также о его доброте и приветливости ко всем» и т. д. (С3 299–300).
Генрих Беер, несомненно, был расположен слушать такого рода утешения. Госпожа Гегель в 1812 г. услышала их от мужа.
В 1813 г. у супругов родился сын, которого назвали Карлом. Ему предстояло сделаться довольно известным историком, и король пожаловал ему дворянство. Нужно ли жалеть о том, что сам Гегель не удостоился такого отличия?
В 1814 г. на свет появился второй ребенок, Иммануил, который, став пастором, достиг высокого положения в церкви: председатель церковного округа Бранденбург.
Курьезным следствием безденежья, от которого страдала семья Гегеля в Нюрнберге, стала спешка при написании его большого произведения «Науки логики». Он долгое время вынашивал его идею после обещания, данного в «Феноменологии», но она нуждалась в дополнении, обосновании, обработке, доведении до приличного состояния — огромная работа. В любом случае он справился бы с этим не в этом году, так в следующем, не в текущем десятилетии, так в грядущем. Но ради того, чтобы поскорее заработать несколько су, он принялся за дело с торопливостью, никак не способствовавшей ни ясности, ни элегантности слога, и вряд ли сделавшей веселее вечера молодоженов.
Он жалуется: «Не так‑то легко написать за первые шесть месяцев после женитьбы книгу в 30 листов (тетрадей) самого темного содержания. Но injuria temporum! Я не университетский профессор, чтобы искать подходящую форму, мне нужен год, но равно мне нужны деньги на жизнь» (С1 350).
Нынешние читатели, мучающиеся над головоломными страницами «Логики», возможно, расплачиваются за ту спешку, которая должна была обеспечить скорый доход нуждающемуся автору.
Гегель хотел привести в законченный вид свои главные философские идеи, считая их окончательной истиной, делая это ради людей, а также ради пополнения списка трудов кандидата на преподавательскую должность в университете. Но решающим фактором было в конечном счете желание добавить немного масла в обеденный шпинат.
Естественно, что во время пребывания в Нюрнберге вокруг Гегеля собирается обычное общество франкмасонов и бывших иллюминатов. Среди них некто Поль Вольфганг Меркель (1756–1820)[218], фигурирующий в книгах записей как «близкий друг» философа (B1 266), — дружеские отношения подтверждает переписка Гегеля. Что еще, кроме масонства, могло сблизить его с этим негоциантом, разумеется, интересовавшимся политической жизнью города, бывшим чем‑то вроде «столпа» ложи, и ставшим вскоре для Гегеля в Нюрнберге примерно тем, кем был для него в этом смысле во Франкфурте Гогель? Факт предоставления им финансовой помощи Гегелю отмечают все (С1 341).
Реставрация
Реставрация застала Гегеля в Нюрнберге.
О тех, кто ее поддерживал и проводил, говорили, что «они ничему не научились и ничего не забыли». Так вот, если они действительно ничего не забыли, то все же кое- чему научились.
Они на собственном опыте ощутили хрупкость своей власти и привилегий, понимая, что малейшее непредвиденное осложнение может привести к взрыву, что вполне может произойти то, что они долгое время считали невозможным: революция, казнь короля, абсолютный ужас. Чего они не выучили, так это уроков, преподанных им врагами. Они не желали ничего знать, запоминая лишь те уроки прошлого, которые споспешествовали их основной, неизменной цели: сохранению своего привилегированного положения. Они думали лишь о том, как поменять средства, приемы, уловки. Им нужны были обновленные меры предосторожности для избежания опасности, которую они теперь лучше видели.
Самым глубоким желанием союзных держав после победы над Наполеоном было тотчас возвратиться к прежним социальным, политическим, религиозным и культурным порядкам. Они умножили предупредительные меры ради их обеспечения и сохранения.
Слово «Реставрация» довольно хорошо, но недостаточно выражает смысл предпринятых ими действий. Прежде всего, имелась в виду Франция, страна Революции. Последствия этих действий были также порой очень ощутимы там, где революции не было, но куда были занесены вместе с войной кое — какие из ее результатов, главным образом в Пруссии. Привилегированные слои там также понесли убытки, и главное, они испытали панический страх, даже отчаяние. В какой‑то миг им показалось, что все потеряно.
Для всех тех, кто при старом режиме занимал привилегированное положение, Реставрация стала реваншем, и они от души попользовались наступившим временем, умножая преступления, преследуя, притесняя.
Восстановленная власть лучше осознает самое себя и отныне открыто делает то, что прежде делала, не слишком отдавая себе в том отчет. Но теперь ей уже не сослаться себе в оправдание на неведение и наивность.
Официально эти тенденции и усилия направлены на возвращение к прежним общественным отношениям, на точное их копирование, воспроизведение архаических форм поведения, провозглашение старых формул. Людовик XVIII не понимал, как он смешон, когда, забывая о реальном положении, заканчивал свои жалкие декреты величественными словами предшественников: «ибо таковая моя благая воля»… Поза Людовика XIV!
Он был смешон, потому что его восшествие на престол было следствием воли пруссаков, русских и австрийцев, и в первую очередь потому, что новые общественные устои окончательно упразднили прежние порядки, какой бы завесой из слов и институций ни прикрывала власть свою сущность. Деньги становились единственным господином, и девизом этого господина будет: «Обогащайтесь!». Нельзя, однако, быть слугой двух господ, особенно если эти господа ненавидят друг друга.
Возможно, в Германии Реставрация показала себя особенно ничтожной, особенно жалкой. В чем‑то немцы по- прежнему копировали французов, разбавляя заимствования провинциализмом, региональной замкнутостью, скудостью. Царьки, великие герцоги, князья церкви упорно стремились возместить все потери до последнего пфеннига, до каждой орденской ленточки. Подданные чувствовали, что их страдания возвратились, став более тяжкими, они теперь тоже яснее видели, что их эксплуатируют и закабаляют больше прежнего.
Поражение Наполеона вмиг разбило все надежды Гегеля на будущее и лишило редких минут удовлетворения настоящим. Реставрация резко и грубо притормозила — по меньшей мере в различимых пределах — процесс модернизации в Европе, который Гегель принимал в целом, хотя и не без оговорок в деталях.
Признавая за великими людьми исключительную роль в истории, Гегель испытывает глубокую скорбь при известии о падении Наполеона, героя новых времен. Он признается в этом Нитхаммеру в письме, скорее всего, переданном «закрытой почтой» и испорченном адресатом: «Мы стали свидетелями великих событий. Зрелище ужасающее и дивное — видеть, как великий гений разрушает сам себя. Ничего трагичнее не бывает. Посредственность, не зная ни отдыха, ни передышки давит всей своей массой, принуждая вознесшегося опуститься к ее собственному уровню, а то и ниже» (С2 31). Для большей торжественности он предпочитает греческое слово: tragikôtaton!
Со своей стороны, Нитхаммер не скрывает ненависти к Реставрации, с прямыми последствиями которой для Баварии, для общественного образования в стране, для собственной карьеры и Гегелю, и Нитхаммеру смириться было трудно: «Как червям, лягушкам и прочей нечисти нужен дождь, так и Вейлерам со товарищи нужен сумрачный день, распростершийся над всем цивилизованным миром. В этом вселенском потоке всплывают отбросы, подонки от литературы и педагогики, как и всякая другая мерзость, дождавшаяся, наконец, своего часа. Боюсь, они его и впрямь дождались» (С2 58)!
Гегель усматривает в происходящем некий цивилизационный изъян и на какой‑то миг уступает унынию: он не хочет больше «принимать близко к сердцу интересы дела и чести, даже если в них погрузился по уши» (С2 60 mod).
Нитхаммер в «частной и закрытой» переписке пытается ободрить его: «Народы борются за политическую свободу, как они 300 лет тому назад боролись за свободу религиозную; князья ныне так же слепы, как прежде, когда они пытались перегородить своими плотинами стремительный поток» (С2 80).
К Гегелю возвращается утраченный было оптимизм: «Я держусь той мысли, что мировой дух в наше время повелевает двигаться вперед. Этот приказ выполняется, сомкнутые вооруженные фаланги неудержимо движутся, заполняя пространство, и их поступь столь же неслышна, сколь неслышно движение солнца» (С2 81 mod)…
Итак, обращаясь к конкретной политической действительности и объективным формам социальной и политической жизни, Гегель констатирует историческое поражение, каковое являет собой Реставрация, по контрасту с его юношескими идеалами и сохраняющимся либерализмом. Но в то же время для него это поражение — лишь эпизод, несомненно необходимый, во всеобщем историческом развитии — развитии иного масштаба.
Для Гегеля характерно чередование душевных состояний, иногда любопытное смешение надежды и страха, трезвого покоя и экзальтации, непомерного оптимизма и гнетущего разочарования.
Но в конечном счете он всегда сохраняет веру в некий общий прогресс, который люди стремят своей деятельностью, даже того не желая, даже не замечая его, и который осуществляется словно бы сам собою как тайный закон жизни мира. Мировой дух, всегда действующий, всегда побеждающий, предстает его воображению в различных образах: «исполином прогресса» или «кротом», неустанно прокладывающим свой путь под землей (С2 86).
Как это у него всегда, он не забывает различать действительное положение вещей и то, как современники, менее искушенные, чем он, оценивают это положение. В его учении, и, возможно, на самом деле понятие «Реставрации» лишено какого‑либо смысла. Оно не вписывается в диалектический и исторический образ мыслей, исключающий всякий целостный повтор чего‑либо в мире и даже всякое его чрезмерное дление. Ничто не остается долгое время равным себе. Фундаментальная историческая категория — это Veränderung, изменение; Реставрация эту категорию ненавидит, но не может избавиться от страшного наваждения. Отвергая всякий консерватизм, гегелевская философия, по крайней мере вначале, a fortiori отрицает возможность какой бы то ни было Реставрации.
В природе Гегеля повергает в уныние мнимое обновление, тягостная монотонность. Зато в человеческом мире он не допускает никакого повторения. Все здесь творение духа, а дух — неистощимый изобретатель: «Омоложение не является возвращением духа к прежней форме, он есть очищение и самосозидание. Для выполнения своих задач, он ставит себе новые задачи и, делая это, умножает материал для трудов. Так, мы видим, что в истории он распространяется в неисчислимом множестве направлений и радуется себе, находя в том удовлетворение. Но итогом труда оказывается лишь то, что он снова множит деятельность, снова растрачивая себя. Непрестанно любое из его творений, в котором он нашел свое удовлетворение, противополагается ему как новая материя, требующая новой обработки. Все, что есть его произведение (culture), становится материалом, благодаря которому его труд достигает новой ступени культуры (culture)»[219].
Философ часто возвращается к этому диалектикоисторическому сюжету: «[Дух] не делает остановок в продвижении вперед, ибо один лишь дух и составляет это движение. Часто создается впечатление, что он забылся, куда‑то исчез, но, сам себе в себе противоборствующий, он непрестанно вершит незримый труд — как говорит Гамлет о призраке отца: “Ты хорошо поработал, славный крот!” — пока, внутренне укрепившись, однажды не вскинет слой земли, отделявшей его от солнца, от понятия духа. В такие времена рушится трухлявое и лишенное души строение, и помолодевший дух надевает сапоги — скороходы»[220].
Поначалу Гегель вполне естественно уступает диалектическому искушению усматривать в Реставрации иллюзорное творение тех, кто лишился привилегий. Они делают то, что, по его мнению, осуществить невозможно, и прячась от действительности за завесой успокоительных речей: «Я ждал этой реакции, о которой мы столько сегодня слышим. Они настаивают на своей правоте. Отталкивая истину, ей раскрывают объятия, — вот глубокая формула Якоби. — Реакция это еще не сопротивление […]. Ее стремление сводится — хотя бы она и полагала обратное — главным образом к тому, чтобы польстить собственному тщеславию, поставить собственную печать на то, что произошло, и что она больше всего ненавидела, дабы объявить миру: это моих рук дело» (С2 86).
Гегелю придется разочароваться. Реставрация будет более реальной и длительнее, нежели он рассчитывал, ему придется приспосабливаться.
Однако все это верно, интуиция его не обманывает. По сути, побеждает современность, современный способ иметь собственность. Но устаревшие политические институты умеют к нему приноравливаться. На своей шкуре Гегелю придется узнать, что если Реставрация, главным образом в Баварии и Пруссии, и не была в точности тем, чем она себя считала и выставляла, то все же кое — каких из своих целей она достигла — она отвратительным образом свирепствовала в политической и культурной жизни, подвергала преследованиям социальные круги, в которых любил бывать Гегель (студенты, патриоты, либералы, евреи), и она обрушит на него нечто большее, чем несколько «дождевых капель».
Ему придется жить при этом режиме, сносить его, не строя иллюзий и без какого бы то ни было компенсаторного утешения. В Пруссии обретения в деле становления национального государства помогут лучше перенести политические потери. Отступления в области политики всегда в конечном счете оказываются частичными и временными, но самим отступающим не всегда видны их реальные границы и сроки. Когда Гегель прибудет в Пруссию, положение, с этой точки зрения, в ней будет выглядеть безнадежным. Никакого «исполина прогресса» на горизонте. За пятнадцать лет ни одной серьезной и эффективной попытки сопротивления. Свинцовые тучи над Европой. И когда, наконец, во Франции, в 1830 г. разразится революция, и Гегель задастся вопросом о ее истинном значении и результатах, у него уже не достанет времени оценить масштаб события.
На самом деле Реставрация не была тем, чем представлялась, и в ином, нежели указанный им, смысле: она была хуже королевского строя (старого режима). Прусские прогрессисты, и с ними Гегель, будут жалеть о временах Фридриха II, память о котором постараются стереть «реставраторы». Возражая им, Гегель пишет ему апологию, говорящую о многом в таких обстоятельствах.
Гегель временами очень старается найти какие‑то хорошие стороны реакционного правления в Пруссии Фридриха Вильгельма III, трудно сказать, насколько искренне. При этом его поведение, даже публичное, но прежде всего приватное, было, скорее, протестным. Он противостоит апологетам Реставрации: Ансильону, Галлеру, Савиньи и т. д.
Его можно называть «философом Реставрации», разумея под этим лишь то, что он жил во времена Реставрации и разделил участь тех, кого называют во Франции «историками Реставрации», тех, кто при более или менее гнусном режиме посвятили себя прежде всего истории Революции: Огюстена Тьерри, Минье, Тьера, Мишле и даже Гизо. Они занимались историей Реставрации и заявляли себя ее сторонниками ничуть не более, чем Гегель, со своей стороны, творил угодную ей философию. Пребывая во Франции, он ищет встречи именно с Минье и Тьером, а вовсе не с подпевалами реакции.
В изложенной Гегелем политической философии встречаются консервативные и даже «реставраторские» мысли. Часть из них вполне непосредственны и искренни. После очевидного поражения Революции, после впечатляющего обвала империи все прогрессисты пребывают в растерянности. Ван Герт, голландский ученик, с тревогой спрашивает учителя в 1817 г.: «Похоже на то, что повсюду желают вернуться в средние века; но это невозможно, ибо дух времени слишком далеко ушел, чтобы смочь вернуться назад. Как можно желать невозможного» (С2 143)? Привилегированные слои прежних времен однажды уже видели, как случается невозможное: Революция! Настала пора «революционерам» свидетельствовать осуществление невозможного: Реставрация! В этом есть какая‑то неотвратимость, и Гегель вместе со своим окружением, конечно же, должен был разделять это ощущение.
Но в политической философии Гегеля имеется также ряд тактических уступок: не желание приспособиться к новой политической конъюнктуре, а скорее, неизбежная адаптация форм протеста и несогласия, новый способ отбивать нападение.
Понимание текстов Гегеля наталкивается на препятствия, которые иногда можно обойти, иногда частично разрушить, но никогда полностью преодолеть, совершенно уверившись в преодолении: как нам сейчас разобраться с намерениями и несоответствующими им средствами, часто потаенными, как соотнести размах со смыслом? По меньшей мере ясно одно: непосредственное прочтение оставляет впечатление острых противоречий, утопающих в хитросплетениях мысли и натужных поисках ее выражения.
Гегель пытался более или менее достойно выпутаться из этих трудностей, не роняя себя в глазах малообразованной публики. Выступи он открыто против, ему пришлось бы томиться в тюрьме, как стольким из его более смелых учеников. Займи он открыто реакционную позицию, он лишился бы уважения. Он был не против того, чтобы остаться вне публичной классификации. На критические выступления в адрес его «Философии права» он в письме Даубу реагировал с живостью, возможно, говорящей о нечистой совести: «Здесь, где публика льнет к громким выступлениям, и где к слову относятся как к puissance[221], я видел перед собой людей насупившихся или, во всяком случае, хранивших молчание. Они не могли отнести сказанное мной на счет того, что ранее называлось “обществом Шмальца” [автор особенно резкого реакционного памфлета], и, стало быть, пребывали в тем большем затруднении, что не знали, как им меня понять» (С2 231). Гегель рад тому, что в глазах публики избежал опасного причисления себя к какой‑либо категории.
Что поражает первых учеников Гегеля в Берлине, так это именно этот бросающийся в глаза контраст между политическим учением, смелым и протестным по сути, хотя и относительно умеренным по форме, и глубоко революционным характером общего стиля мысли философа, его диалектикой и историзмом.
Гегелю не удается разобраться с тем, что составляет фундамент и рычаги экономической и общественной жизни, какими бы ни были, впрочем, его познания и проницательность, хотя прогресс в этой области наблюдается с самого начала XIX века. Нельзя считать, что он в Берлине был подлинным революционером при всем разнообразии и противоречивости значений этого слова и при том, с другой стороны, что нам доподлинно не известна его берлинская жизнь. По существу он либерал, но политических партий в современном смысле слова еще нет. Люди не полагают себя обязанными делать однозначный, неизменный, контролируемый выбор. Комментаторам так хотелось бы привести мнения Гегеля — исполненные разных оттенков, неустойчивые, порой невнятные — к «порядку разума», очевидно принадлежащему не ему, а им самим.
Во всяком случае, первые читатели лишь по неразумию расточали ему похвалы или хулили его. Они не отдавали себе ни малейшего отчета в «двойном языке», не читали частных писем, не знали о подпольных деяниях, не задавались иными вопросами.
Они хвалили или ругали отдельные экзотерические положения, у которых был совсем другой — эзотерический — смысл. Маркс сожалеет о том, что Гегель в своей увидевшей свет «Философии права» «спекулятивно» оправдывает существование тюрем. Но он не знает, что Гегель ночью, в нарушение всех законов и рискуя получить пулю в лоб, идет поговорить с одним из учеников и друзей через окно в стене камеры.
Открытая критика майората и прусской тюремной системы сделала бы невозможным появление hic et nunc «Философии права».
В итоге мы не считаем Гегеля «философом Реставрации».
XII. Гейдельберг
В философии степень уклонения от вразумительности сделалась чуть ли не синонимом мастерства.
Шеллинг[205]
У счастливых людей и народов нет истории. Тем не менее они стареют. Пребывание в Гейдельберге — счастливый просвет в жизни Гегеля, разумеется, счастливый относительно. Но что про эту пору скажешь? Что толку рассказывать скучную хронику частной жизни, обделенной крупными событиями. Биографу этого мало.
Преподавание обеспечило Гегелю приличный, хотя и скромный достаток, прочную экономическую базу для семейной жизни: обеспеченность, за которую он впервые не платил полностью или частично собственно философскими занятиями. И они стали глубже и серьезнее.
В Гейдельберге материальное положение философа ощутимо улучшилось. Ежегодно ему были обеспечены 1300 флоринов зарплаты наличными, 6 мюи зерна и 9 мюи полбы натурой. Обмен равноценный: идеализм на злаки.
Достаток позволяет ему всецело предаваться семейным и профессиональным радостям, вести жизнь серьезную, трудовую, спокойную, в конце концов, освещенную светом сердечных и интеллектуально плодотворных отношений с приветливыми коллегами и внимательными и почтительными студентами.
Он являет собой фигуру классического Herr Professor, г-на профессора, занимая положение, о котором давно мечтал. Важничает, но не слишком: ему известна ненадежность человеческих отношений. И, кроме того, некие смущающие тени все же маячат на горизонте…
Гегель получил признание в том качестве, в каком всегда хотел выступать перед теми, с чьим мнением он считался: в качестве философа в широком культурном, а вовсе не в узко должностном смысле слова университетского преподавателя, который ищет и открывает истину, распространяя ее в молодежной среде. Он навсегда сохранит умиленное воспоминание об этом времени жизни, счастливо связанное с пленительным живописным видом города.
Назначение в Гейдельберг, положившее конец мятущейся жизни, означает начало, очень позднее, того, что можно было бы назвать карьерой. Он начинает делать ее осенью 1816 г. в возрасте 46 лет. Гегель получает должность университетского профессора, которая, как он пишет одному другу, составляет непременное условие интеллектуального роста: «Университетская кафедра, — вот о чем я так долго мечтал. При сложившихся порядках она чуть ли не неизбежное условие обращения с философией к более широким кругам. Только она делает возможным живое общение с людьми, оказывающее, в свою очередь, иное влияние на литературную форму, нежели простое изложение взглядов, и я в связи с этим надеюсь, что у меня будет больше возможностей сделать из моих писаний нечто удовлетворительное» (С2 125–126).
Давно пора, хотя лучше поздно, чем никогда. Гегель может с горечью сравнивать свою судьбу с успехами друзей и соперников. Фрис, «либерал», которого он считает посредственностью в философии, ушел далеко вперед, не исключено, что благодаря оголтелому антисемитизму.
Во Франции совсем молодые люди, такие как Виктор Кузен, занимают важные места в Сорбонне, во Французском коллеже, с которых их, правда, легко смещают.
Крупнейший немецкий философ получает доступ в университет лишь к пятидесяти годам! Гордиться особенно нечем.
Лучше него никого не было — утверждают задним числом. Чем тогда объясняется эта задержка, которая даже при общей неблагоприятной для интеллектуалов обстановке все же представляется из ряда вон выходящей? В Германии повсюду более или менее воюют, и в университетах разруха. В качестве причины запоздания можно припомнить, что он слыл нерасторопным, не блистал красноречием, бывал темен. Но все это ничто в сравнении с его выдающимся дарованием философа. Имеют ли отношение к карьерным затруднениям семейные дела, религиозные и политические мотивы?
Странным образом как раз ко времени назначения в Гейдельберг возникает мысль о переезде в Берлин, а баварское правительство открывает перед ним — слишком поздно — двери университета в Эрлангене. На него, так долго и тоскливо ожидавшего понапрасну, ныне спрос с разных сторон! Это льстит ему, он доволен — его этим попрекают! После скудости и нехваток — изобилие и излишки.
Благодаря усилиям, гораздо более длительным и упорным, нежели старания его конкурентов, он может, наконец, удовлетворить страсть к преподаванию, для которого он, как спервоначала казалось, так мало годился. Это было всего лишь начало, негромкое, но обещающее. Поначалу в аудиторию, в которой он читал, нашествия студентов не отмечалось. Но он набирался опыта, возможно, благодаря «живому общению», стал выражаться немного более внятно, стал лучше отдавать себе отчет в том, чему, собственно говоря, хочет учить. Он остановился на определенной форме своей системы, которой собирался впредь более или менее твердо придерживаться; у него появилась возможность апеллировать к собственному учению. Вскоре в скромной аудитории у него появятся ревностные приверженцы, кое‑кто останется верным навсегда: Карове, фон Икскюль[223], Хинрихс…
Официальная должность способствовала росту известности. Подтверждением тому явился, в частности, визит Виктора Кузена, посетившего его в 1817 г., визит, имевший столь неожиданное продолжение. Что свело их вместе: французского философа, скорее, студента, которому тогда было двадцать пять, и немецкого философа, с недавних пор с положением, приближавшегося к пятидесяти годам?
Кузен (1792–1867) стал читать лекции в Эколь Нормаль в 1813 г., двадцати одного года, и Руайе — Коляр доверил ему какое‑то время вести занятия на факультете вместо него. Учащаяся молодежь — почти сверстники преподавателю. Он был моложе некоторых студентов Гегеля, например, Карове (1789–1852).
Между Гегелем и Кузеном завязалась тесная дружба, не без трагикомических эпизодов в будущем, продолжалась она до смерти берлинца.
Такое редкостное взаимопонимание, возможно, объясняется тем, что Кузен говорил по — немецки еще хуже, чем Гегель по — французски: отменный способ избегать противоречий. Нет сомнений, каждому из них случалось открываться другу в том, что тщательно таилось от публики и от властей.
В Гейдельберге Кузен ходил вечерами к профессору Гегелю пить чай и мог быть свидетелем мира и согласия в этой семейной жизни. Последняя вплоть то той поры, когда супруги решили ввести в дом незаконнорожденного сына, Луи, чтобы воспитывать его в лоне законного семейства, внешне не омрачалась ничем. Они не сомневались в успехе адаптации, и Гегель заранее радовался тому, как все уладится.
Вот он, пропуск в буржуазию. Все у него есть: положение, жена, дети, недурная репутация. Маргинал перебирается с полей на середину страницы. На ней ему и суждено остаться. Теперь ему хочется думать, что он в Гейдельберге навсегда. Иные горизонты откроются позже. То, что казалось окончательным устроением, окажется временным пристанищем.
Он им воспользовался, чтобы завоевать расположение коллег, людей приятных, сведущих, смотревших на свою роль в обществе и в мире науки так же, как он.
Особенно тесно сошелся Гегель с профессором богословия Карлом Даубом (1765–1836), которому, как заместителю ректора, было поручено направить ему «пригласительное письмо» в Гейдельбергский университет. Дауб, покоренный личностью Гегеля, тотчас принялся усердно и тщательно изучать его философию, став чем‑то вроде ее «религиозного» адепта. Среди учеников этого богослова выделяются Карове и Фейербах.
Гегель встретил в Гейдельберге своих йенских друзей, Паулюсов.
Генрих Эберхард Паулюс (1761–1851), штифтлер, затем преподаватель восточных языков и теологии, преподавал в университетских городах, в которых тоже некоторое время жил Гегель: Йена, Бамберг, Нюрнберг, Гейдельберг. В 1784 г. на одно лестное приглашение он ответил, что «недостаточно чувствует себя христианином», чтобы занять пост секретаря Базельского христианского общества[224]. Он разработал крайне рискованное «рационалистическое» теологическое учение. Не собирался ли он основать «религию разума», в которой Иисус был бы представлен как просто «исключительный человек»? Наиболее ортодоксальные богословы, резко его раскритиковав, даже подали на него в суд.
После долгого дружеского союза он поссорился с Гегелем по поводу хода и итогов Ассамблеи «Вюртембергских государств» 1817 г., к которым отнесся несходным образом и, будучи, в сущности, таким же либералом, как и Гегель, дал им противоположную оценку.
Супруга Паулюса (1767–1844), автор романов, натура возвышенная и жизнерадостная, немало способствовала долгому сохранению сердечных отношений между двумя семействами, тесно друг с другом связанными. Дочка Паулюсов вошла в историю немецкой литературы, благодаря рискованному бракосочетанию с Августом Вильгельмом Шлегелем, который был старше нее на тридцать лет; спустя несколько недель брак с шумом и скандалом расторгли.
В глазах общественности Паулюс был одновременно ученым, неуемным человеком и критиком существующих порядков. Тесные и длительные отношения с таким «теологом» воспринимались ортодоксальными верующими как вызов.
Огромной заслугой Паулюса перед философией была публикация в 1803 г. первого издания Полного собрания сочинений Спинозы. Он пригласил Гегеля участвовать в этом большом предприятии, которое по тем временам не могло сойти за невинную затею: разве Гёльдерлин не назвал Спинозу «безбожником в точном смысле этого слова»?[225] Гегель, насколько известно, взялся за сопоставление и перевод латинских и французских текстов Спинозы. Но возможно, сотрудничество было и более широким. Во всяком случае, он относился к нему серьезно: под конец жизни он хвалится этим сотрудничеством публично в своих «Лекциях по истории философии»[226].
В Гейдельберге Гегель также близко сошелся с замечательным коллегой, Георгом Фридрихом Кройцером (1771–1858), известным специалистом по античной мифологии и мысли. Этого эрудита, введенного в кружок гейдельбергских романтиков, овевал ореол сентиментальной славы: из‑за безнадежной любви к нему Каролина де Гюндероде закололась кинжалом.
На лекции Гегеля приходило немного народа. Ходили разговоры о том, что, заводя речь о философии, он не очень умел сообразоваться с конкретными обстоятельствами.
Возникал разрыв между тем возвышенным о ней представлением, которое он себе составил и хотел бы привить другим, и более или менее жалкими условиями, в которых указанная философия преподавалась.
Так, 28 октября 1816 г. в Гейдельберге он так читает торжественную лекцию по поводу открытия курса, как если бы он находился в исключительно блестящем и многочисленном обществе. Перед четырьмя или пятью студентами он говорит так высокопарно, как если бы это был Коллеж де Франс и в партере сидели именитые люди. Пятерым слушающим он читает текст, который должен убедить их в победоносном пробуждении философии в Германии: «Ибо наступило, по — видимому, время, когда философия может снова рассчитывать на внимание и любовь, когда эта почти замолкшая наука получает возможность вновь возвысить голос и имеет право надеяться, что мир, глухой к ее поучениям, снова напряжет слух. В недавно пережитое нами бедственное время мелкие будничные интересы повседневной жизни приобрели такое важное значение, а высокие интересы действительности и борьба за них так поглотили все способности, всю силу духа, равно как и внешние средства, что для высшей внутренней жизни, для чистой духовности, для понимания уже не оставалось досуга, и те, кто обладали более возвышенным характером, были остановлены в развитии и частью пали жертвами этого положения вещей. Так как мировой дух был столь занят действительностью, то он не мог обратить свой взор внутрь и сосредоточиться в себе. Ныне же, когда этот поток действительности остановлен, когда немецкий народ своей борьбой покончил с прежним жалким положением, когда он спас свою национальность, эту основу всякой живой жизни, мы имеем право надеяться, что наряду с государством, которое дотоле поглощало все его интересы, воспрянет также и церковь, что наряду с царством мира сего, на которое до сих пор были обращены все помыслы и усилия, вспомнят также и о царстве божием; другими словами, мы можем надеяться, что, наряду с политическими и другими связанными с будничной действительностью интересами, расцветет снова также и наука, свободный разумный мир духа»[227].
И все же, спустя какое‑то время неловкое смущение уступает место удивленной зачарованности. Гегелевские лекции имеют некоторый успех, и по истечении двух лет он уже радуется тому, что его аудитория насчитывает семьдесят человек студентов, или «слушателей», как тогда говорили, потому что кроме собственно студентов, на лекциях могла присутствовать и другая публика.
Несколько юных умов, притом из лучших, увлекаются идеями мэтра. В Гейдельберге определяются его первые ученики, которые будут верны Гегелю до самого конца. Естественно, что о простом подражании учителю и воспроизведении его учения речь не шла. Каждый из них вносил что‑то от себя и думал по — своему. Но связавшие их тогда узы взаимопонимания, признательности и дружбы не были разорваны. Это были люди очень разные, что говорит об умении Гегеля поддерживать и обогащать различные направления мысли, зачастую кое в чем друг другу противостоящие. Столь же разными, впрочем, были их дарования и способности к философии.
Некоторые из них, с этой точки зрения, совсем не делали ему чести, но отличались иными заслугами. Так, эстонский барон Борис фон Икскюль не слишком разбирался в том, чему учил Гегель, но был горячим его сторонником. Он сам говорил, что больше всего его привлекают серьезность и усложненность философской мысли. Среди верных учеников надо также назвать Хинрихса (1794–1861), который позже тоже станет профессором философии.
Но именно Фридрих Вильгельм Карове (1789–1852) займет отныне в жизни Гегеля важное место. Он быстро сделается страстным, и даже фанатичным гегельянцем.
Воспитанный первоначально в католическом духе — исключительный случай среди учеников и друзей Гегеля — он в 1835 г. в эссе «О церковном христианстве» и «Римская католическая церковь» примется пророчествовать о «Всемирной церкви, в которой будут верить в Гегеля, как верили в Иисуса Христа». Он считает, что «зла не существует, что Бог живет исключительно в человеке, и что Небо — это не что иное, как целый мир», так, по крайней мере, излагает его один биограф, не без умысла несколько утрируя. Перед нами намеренное воспроизведение скандальных мнений, приписываемых в данном случае Карове, но которые повсеместно в конце жизни ставили в вину Гегелю[228]. Судьба Карове будет разочаровывающей и горестной, отчасти из- за влияния, оказанного на него Гегелем[229].
Если, сильно упрощая, можно сказать, что Йена явилась периодом разработки диалектики (что было немыслимо сделать, не озаботившись созданием систематической философии); то гейдельбергский период отмечен разработкой системы (которая могла быть построена лишь на основе завоеваний в области диалектики).
Именно здесь в мае 1817 г., публикует Гегель «Энциклопедию философских наук», третью большую книгу после «Феноменологии» и «Логики».
В ней Гегель ставит и стремится решить общий вопрос — о связи диалектики и системы.
Доброе старое право
В Гейдельберге Гегель, при всем, столь ему свойственном стремлении к покою, при всей увлеченности теоретической философской работой, при всей привязанности к радостям семейной жизни, не забывал интересоваться происходящим в мире и, прежде всего, политическими событиями.
Он мог бы полностью уйти в отвлеченную мыслительную работу, мудро оградив себя от жизненных проблем. Но он не был человеком чистого отвлеченного мышления, каким его часто изображают.
Чтобы опровергнуть подобный взгляд, достаточно прочитать длинную политическую статью, опубликованную им в 1817 г. в «Гейдельбергской хронике». Это годовщина празднества в Вартбурге, на котором студенты решительно выступили — наряду с прочими требованиями — за конституционный строй. Статья была перепечатана «Другом вюртембергского народа» и получила широкое распространение. Опубликованная после провала политических начинаний вюртембергского короля, она публично подводит итоги спорам о внутреннем устройстве.
Почему Гегель принял участие в жарких политических дебатах, разгоревшихся в соседнем с Баденом Вюртемберге?
Можно ссылаться на разные причины, но не следует забывать, что Вюртемберг был его родиной.
Кое‑кто, например, Гайм, полагают, что Гегеля побудил так выступить барон фон Вангенхайм, министр по культам в Вюртемберге (где жгли книги а ля Вартбург). Философ, дескать, «соблазнился» возможным назначением на должность канцлера Тюбингенского университета[230]…
Это возможно, хотя и маловероятно. Надо еще доказать, что Гегель состоял в доверительных отношениях с бароном Вангенхаймом.
Другое соображение — то, что Гегель уже давно следил за развитием событий, и что он, возможно, все еще переживал то, что в 1798 г. ему пришлось отказаться от публикации его «листовки» о положении в Вюртемберге.
Старый стипендиат Штифта, напрямую имевший дело с деспотизмом герцога Вюртембергского, он мог чувствовать удовлетворение от своего рода реванша, принимая участие в политических переменах, которые готовил тогда новый король. А главное, королевский проект, несмотря на недостатки, в значительной мере отвечал его собственным политическим взглядам, казалось, будто король услышал предупреждение: discite justiciam moniti!
Король Фридрих I Вюртембергский объединил «государства» своей страны (что‑то вроде прежних «генеральных штатов» во Франции) в марте 1815 г. В отличие от своих собратьев в других немецких государствах, без исключения отказавшихся даровать подданным конституцию, он сам предложил конституционную реформу либерального толка. Государства ее отвергли, ссылаясь на приверженность «доброму старому праву», обеспечивавшему им отдельные привилегии.
Было ли королевское предложение лицемерным, было ли оно политической западней? Были ли депутаты государств бескорыстны и демократичны? Мнения расходятся. Гегель задним числом выступил за королевский проект, который между тем в 1816 г. приказал долго жить.
Итак, дебаты уже закончены, причем из‑за несогласия государств, когда Гегель решил выступить с их оценкой. Текст философа выявляет тенденции его политической мысли, впрочем, часто противоречивые или смутные. Можно утверждать, хотя и с большими оговорками, что некоторые из них являются объективно «реакционными» по отношению к конкретной политической ситуации в Вюртемберге. Так, к примеру, Гегель критикует, в соответствии со своим несколько технократическим пониманием функций государства, некоторые особенности предусмотренного проектом всеобщего голосования.
Но в целом он, скорее, обращен к тому, что так или иначе составляет подлинное будущее: вместо установившегося абсолютизма — конституционная монархия, предложенная Фридрихом Вюртембергским, не требующему ее народу (в то время как народу, требующему ее во весь голос, Фридрих Вильгельм Прусский упорно в ней отказывает).
Не только общие политические установки Гегеля достойны внимания, но также слова, которыми он пользуется, и обоснования. Гегель ожесточенно нападает на любые изжившие себя привилегии, на политическую инертность, на провинциальный партикуляризм. Это лейтмотив его статьи, звучащий на редкость мощно и выразительно.
Гегель копает очень глубоко: конечно, это политика, но в смысле широкого и глубокого теоретического мышления.
По причинам, нам до конца неясным, Паулюс, Нитхаммер, Уланд и другие швабские друзья Гегеля, будучи либералами, взяли сторону мажоритарных представителей вюртембергских государств, выступив против королевского проекта. Они полагали, что защищают в этой дискуссии идею прогресса, позиция Гегеля была ими объявлена реакционной, что нынешнему читателю представляется удивительным.
Разногласия стали причиной разрыва с семейством Паулюсов; напротив, дружба с Нитхаммером выдержала испытание.
Так Гегель, хорошо понимая, что он делает, навлек на себя огорчения личного порядка, поддаться которым ему не позволила привычка к чистому созерцанию.
Темнота
Итак, в 1817 г. Гегель публикует «Энциклопедию философских наук». Он представляет ее как «Краткое изложение», полновесное переиздание которого он осуществит в 1827 г. Ученики действовали согласно с его намерением, когда поместили «Энциклопедию» в Полное собрание под заголовком «Система философии» (Издательство Глокнера).
В ней предлагается именно гегелевская система в соответствии с разработанным в Иене общим планом. То, что в каждой отдельной части было недоработанного и одностороннего, теперь должно быть дополнено и прояснено с помощью других частей и целого.
Так вот, обрели или нет искомую прозрачность целое и детали? Сетования не прекращаются: Гегель безнадежно темен. Все у него непонятно.
Лишь некоторые щедро одаренные эрудиты постигли в совершенстве смысл гегелевских рассуждений, но большинство читателей остается при своем непонимании, степень которого, впрочем, может быть различной. Оно относится не к той или иной книге, тому или иному периоду: решительно все созданное Гегелем, похоже, погружается, несмотря на отдельные проблески, в глубокую тьму.
Оратор
Уже в Штутгарте учителя упрекали юного лицеиста в недостатке красноречия. Позже в Тюбингене они не менее суровы: у него нет ораторских данных, ни голоса, ни жеста — свидетельствуют они.
Тем не менее это не помешало им объявить Гегеля хорошим проповедником, способным убеждать. Можно заподозрить излишнюю строгость суждений: возможно, им было жаль, наряду со столькими превосходными качествами констатировать некую капитальную неспособность, которая могла обесценить все остальное. Ему не хватает столь малого, чтобы достичь совершенства. Как жаль.
Это так. И с этим надо смириться. Гёте в письме Кнебелю в 1807 г. в двух словах подводит итог этому несовпадению: «Я хочу иметь изложение его мысли. Это такой выдающийся ум, и ему так трудно выразить себя» (С1 398). Изложение не замедлит появиться, но не более ясное: «Феноменология духа»!
Студенты, посещавшие лекции Гегеля, подтверждают эти оценки. Лекции Гегеля — не подарок.
Верный ученик, первый издатель его «Эстетики», Генрих Густав Хото дал ставшее классическим описание приводящих в замешательство лекций берлинского профессора. Он говорит об изумлении, которое сразу овладевало слушающими Гегеля: «Он сидел за своей кафедрой, голова, склоненная к плечу, расслабленный, насупленный, погруженный в себя и, не переставая говорить, перелистывал большую тетрадь in folio, заглядывал вперед, листал назад, искал наверху или внизу страницы. Непрестанно прочищал горло и откашливался, и это мешало ему говорить. Каждая фраза получалась словно отсеченной, раздробленной, казалось, она сходит с уст учителя ценой огромных усилий и падает куда придется… Каждое слово, каждый слог, казалось, отделяются не по своей воле, все порознь и все с первозданной весомостью — все это металлическим голосом на безнадежно швабском диалекте.
И тем не менее в целом речь его принуждала к вниманию и внушала уважение; от оратора исходила величественная серьезность».
Хото признает: «Несмотря на то что я изнемог и не понимал ничего из того, что говорилось, я чувствовал, что меня увлекает неодолимая сила».
Благодаря своим усилиям и настойчивости, Хото, как и другие, освоился с этой внешней стороной преподавания учителя, и перед ним все яснее раскрывалось необычное содержание произносимого. Он понял, что затруднения в речи порождены самой сущностью преподносимого им материала, и что иной формы для этого содержания не найти.
Какая разница! Впечатление было неизгладимым: «Он начинал нерешительно, с трудом продвигался вперед, возвращался к началу, снова останавливался, говорил и думал. Казалось, ни для чего нет нужного слова, но тут‑то оно и находилось: оно казалось совсем обычным, и тем не менее было подходящим, незаменимым, употребленным так, как его редко употребляют, а потому единственно верным. Смысл сказанного становился ясен, и мы с нетерпением ждали продолжения. Напрасно! Если ослабленное внимание на миг отвлекалось, если внезапный скачок возвращал к пройденному месту, тогда мысль мэтра, вместо того чтобы идти вперед, казалось, кружится вокруг одной и той же точки, повторяются без конца одни и те же слова.
Этот могучий ум спокойно копал и строил на недоступной глазу глубине, уверенный в себе, ничем не стесненный. Тогда голос его возвышался, глаза сверкали поверх собравшихся, он сиял, воспламенившись удачей, и достигал высот и глубин души с помощью слов, всегда не случайных…»[231].
Хото долго живописует это странное соединение редкостной силы мышления с досадным неумением справиться с речью. Почему у Гегеля не получалось выражаться проще, яснее, легче?
Обилие свидетельств, кажется, убеждает. Но возникают вопросы. Как Гёте мог разглядеть «выдающийся ум» в человеке, не умеющем себя выразить? Не объясняется ли это профессорское неумение говорить по большей части его небрежностью, безразличием на сей счет? Он мог бы, сдается, без особых усилий улучшить свою речь, манеру говорить, по крайней мере выправить некоторые досадные изъяны, но, возможно, это его не интересовало, возможно, какое‑то странное кокетство было в том, что он намеренно пренебрегал формой ради исключительно содержания, если только такое возможно: хороший мыслитель, чурающийся краснобаев и не желающий сходить за одного из них.
Не было ли у него также чувства, что кажущаяся темнота его речей может, в конце концов, сослужить ему службу, и что этим изъяном нужно наилучшим образом воспользоваться?
Но мог ли Гегель развернуть свои ораторские способности, когда в Тюбингене должен был читать насмешливым однокашникам и сообщникам проповеди, в которые он не верил, а то и считал зараженными фальшью? Учителя могли принять за отсутствие способности то, что было умышленным желанием быть непонятым или следствием дурного расположения духа. Разве не так же, по сути, обстояли дела в Берлине: как мог он развязать язык перед публикой, среди которой — он это знал — скрывались злобные ненавистники и шпики?
Оценивая задним числом гегелевскую «неспособность к красноречию», нужно также учитывать тот факт, что специалисты, как правило из лени или предосторожности, вторят ранее сказанному кем‑то. И человек, бывает, до конца жизни носит ярлык, приклеенный в юности: в случае Гегеля — «плохой оратор».
И тем не менее тому, кто показал себя «самым пламенным оратором» подпольного политического клуба в Тюбингене, кому в Берлине была поручена официальная речь по случаю торжественного празднования годовщины Аугбургского исповедания, несомненно, случалось порой говорить ясно и убедительно.
Разве не доверили ему, несмотря ни на что, уже в Штутгарте престижную «прощальную речь» по окончании занятий в Лицее?
Должно быть, у него было много возможностей проявить себя. Временами он очень даже умел быть понятным. Один показательный пример подтверждает это. Гегель устно комментировал компактные параграфы своей «Энциклопедии философских наук», печатный текст которой находился в распоряжении у слушателей и представлял собой лишь «Краткое изложение». Эти комментарии, к счастью, были собраны студентами с великим тщанием. Очень часто они являют собой удовлетворительное изложение какого‑нибудь вопроса гегелевской философии, который излагается сам по себе, вне зависимости от его тесной связи с другими частями системы. Читая их и наслаждаясь ими, не можешь отделаться от подозрения, что — о кощунство! — мысли Гегеля теряют в ясности и отчетливости, когда он методично и властно помещает их в системно выстроенное целое. Можно посоветовать начинающим, при первом знакомстве с Гегелем, читать его, справляясь с этими «Добавлениями» к Энциклопедии, которые поначалу были устными. Гегель умел объяснять, когда он этого хотел и обращался напрямую к студентам, желающим его слушать.
Но не всегда ситуация была такой.
Писатель
Та же самая невразумительность свойственна, между прочим, и писаниям Гегеля. Его манера письма кажется не более легкой, чем манера говорения. Его перо не ловчее и не гибче его голоса.
Он знал об этом своем недостатке, и ему о нем постоянно напоминали. В конце жизни он мог прочитать в одном учебнике по философии, которым сам пользовался, оценку, данную ему Вендтом, дружественным автором, относившимся к нему вполне благожелательно: «Огромная проницательность видна в том, как он использует свой прогрессивный метод (die fortschreitende Methode), но манера изложения настолько суха и шероховата, что делает понимание крайне затруднительным»[232].
Можно было бы без конца умножать подобные свидетельства того, что Гегеля читать трудно, но, чтобы в том убедиться, не достаточно ли заглянуть в «Феноменологию»? Сплошная мука. Конечно, дело пойдет лучше, если воспользоваться французским переводом — интерпретацией. Переводчик, чтобы сделать свое дело, просто обязан отыскать смысл в оригинале или снабдить его им. Но честный комментатор все‑таки не скрывает своих затруднений. Геринг, посвятивший большую часть жизни прояснению смысла «Феноменологии», признавался в 1929 г.: «Это секрет Полишинеля, — то, что по сю пору почти все изложения философии Гегеля или введения в нее оставляют полностью безоружным читателя, желающего приступить к чтению его произведений, и даже то, что среди интерпретаторов Гегеля очень мало способных привести к целому, слово за словом, хотя бы одну его страницу»[233]. Герингу хотелось верить, что ему это удалось лучше, чем предшественникам, но его самого раскритиковали те, кто шел за ним. С Гегелем всегда так.
Эта темнота Гегеля — осмелимся сказать, очевидная — не препятствует тому, чтобы его читали и перечитывали. Для одних это дополнительная приманка, для других — стимул к работе. У глубины и темноты — то общее, что они непроглядны. В них есть что‑то завораживающее. Хорошо подготовленный любитель вовлекается в игру дешифровки.
Но есть кое‑что похуже. Самая опасная темнота — та, которой не замечают, как не замечают в тумане наледи на дороге. Читателю кажется ясным пассаж, который на поверку окажется невразумительным. Декарт, когда темнит, предупреждает читателя, что, впрочем, делает темноты прозрачнее. Гегель никого не предупреждает. И читатель порой дает себя одурачить. Самая темная темнота — та, которая не видна.
В объяснение как незаметной и неуловимой тьмы, так и явных темнот, часто ссылались на особый склад гегелевского ума, приписывая ему что‑то вроде врожденного дефекта. Мол, этот врожденный, или «природный», недостаток не исправила даже его огромная культура.
Этот взгляд решительно опровергается, если посмотреть «Журнал» его юности, детские и школьные записи. В Штутгарте с помощью письма он выражался в высшей степени ясно, правда, там речь еще не шла, собственно, о философии, и тем более о гегелевской философии. Складывается впечатление, что он постепенно развивал свой дар выражаться темно. Тому свидетельство — признания его «второго рождения». Эта способность, сообразно с требованиями места и времени, сформировалась благодаря воспитанию и самовоспитанию.
Но прежде чем начать разбираться с гегелевскими темными местами, не ссылаясь на обстоятельства, следует посмотреть, насколько они вообще серьезны.
Не следует преувеличивать. Ответственность за непонимание лежит не только на авторе, часто он разделяет ее с читателем. Последний догадывается, что, приложив известные усилия, продвинется в постижении гегелевской мысли. Его тексты — не совершенно неприступные цитадели, какие‑то потайные дверцы можно открыть. Учение столь богато, что малейшая его частица драгоценна, величественный фрагмент стоит больше, чем заурядное целое. Иногда Гегель нагромождает множество неясных идей только затем, чтобы в их изобилии сверкнуло несколько простых мыслей, которые, будь они изложены по отдельности, не были бы столь блестящими.
Ответственность разделяют автор и читатель, но и издателю тоже надлежит взять на себя свою часть. Некоторые издатели, толкователи и переводчики затемнили его донельзя.
Один только пример. Это его любимый ученик, Эдуард Ганс, опубликовавший в 1833 г. впервые адаптированный и сокращенный текст его «Лекций по философии истории»[234]. Во «Введении» к этим «Лекциям» Гегель ведет речь о том, что называет «первой исторической категорией» — об изменении (Veränderung). По причинам, в точности нам неизвестным (типографская ошибка, цензура или опасение цензуры), этого слова нет в этом издании, единственно доступном в течение долгого времени. Читатели будут знакомиться с аргументами, объясняющими необходимость и важность фундаментальной исторической категории, не зная не только, что она такое, по Гегелю, но даже ее наименования! Отсутствие этого слова необходимо влечет за собой известную размытость мысли, которую очень удобно отнести на счет легендарной гегелевской невнятности. Похоже, первые читатели не заметили пропуска, настолько они свыклись с тем, что не понимают текст, и смирились[235].
В некоторых случаях написанное Гегелем достигает исключительной ясности. Не только его перо порой следует за мыслью с большой элегантностью, достигая высот стиля; он также умеет снабдить свои идеи, утонченные и новые, иногда ошеломляющие людей предубежденных, образами столь блестящими и волнующими, что они входят в речевой обиход и используются другими для пояснения своих мыслей: этот «темный» автор — один из наиболее часто цитируемых в наши дни в научных работах, литературных произведениях, в критике и ежедневной прессе. Кто не знает «совы Минервы, которая вылетает в сумерки», или «тихо роющего землю крота»?
Что одним кажется недоступным в творчестве Гегеля, другим представляется само собой разумеющимся; все зависит от образования, времени, культуры. Многие стороны его произведений, не составлявшие никакой трудности для современников, стали непроницаемыми в наше время, поскольку мы потеряли к ним ключ. И напротив, исторические и сравнительные исследования, тщательная экзегеза позволяют ныне понять те тексты Гегеля, которые представлялись большей части его слушателей загадочными.
Возделывание тьмы
Перечисление всех этих обвинений, оправданий, нюансов и оговорок не снимает, однако, самой проблемы гегелевских темных мест, которой они не решают.
Чтобы попытаться кое‑что прояснить, надо обратиться к иным причинам и условиям, чем одни только вокальные данные, застарелые провинциальные привычки, психологические мотивы или случайное стечение обстоятельств, не забывая, конечно, о том, что и они могли сыграть какую‑то роль.
На самом деле речь идет о философской составляющей. Гегель темен, конечно, но это ему и надо. Он, кстати, не колеблясь, выбрал одним из главных учителей Гераклита, философа, которого как раз и прозвали «Темным».
Темнота приобретает у Гегеля свойственный только ему колорит, но это общее отличие немецкой философии того времени. Речь о недавней моде: философия Вольфа, вышедшая из философии Лейбница, философия ясных идей, которой сам Гегель был пропитан в юности, царила в течение полувека.
Но тут появился Кант, радикально порвавший — во всяком случае, ему так хотелось думать — с вольфианским догматизмом и совершивший «переворот» в философии, введя в нее много новых и плодотворных идей и разошедшийся одновременно с традиционным требованием ясности и вкусом к ней.
Именно таким видят его ближайшие последователи, его ученики, в частности, Гегель. Дело не в недооценке мысли и творчества Канта каким‑то французом — шовинистом. Почти все его современники жаловались на непонятность. Кантовская философия, предназначенная сначала узкому кругу любителей, стала достоянием более или менее широкой публики, только когда его ученики, главным образом Рейнхольд, попытались ее изложить и объяснить более ясно и просто, рискуя при этом исказить или нарушить внутреннюю строгость.
И как раз лучшие ученики яростнее прочих нападают на стиль и манеру Канта. Фихте и Шеллинг с лучшими намерениями соперничают друг с другом в резкости обвинений в неясности, которую считают неотъемлемой от мышления Канта и объясняют разными причинами. Иногда они видят в ней хорошую сторону, удачный тактический прием: «Большой удачей Канта была его темнота», — говорит Фихте[236].
Но как только дорогие ученики берутся за труд прояснения кантианства, они принимаются браниться друг с другом, и всякий при этом обвиняет соратника в непонимании ни автора, ни самого себя. После нескольких лет разговоров, дискуссий Фихте разрывает отношения с Шеллингом (которого он когда‑то назвал ingenium praecox!) и выносит ему окончательный приговор: «Вы не поняли, не понимаете и — на том пути, по которому вы пошли, — никогда не поймете, что такое трансцендентальный идеализм!»[237].
Вина лежала не на одном Шеллинге, и Фихте знал это. Сам он потратит большую часть жизни на то, чтобы придать своему учению форму, если не «ясную, как солнце», то, по меньшей мере, более доступную образованной публике. Все немецкие философы того времени были не в ладах с ясностью.
Позже Шеллинг, временами очень ясно выражающийся, откровенно признается в «Предисловии к сочинению Кузена» (1834): «Немцы так долго философствовали исключительно между собой, ограниченные собственным кругом мыслей и слов, что понемногу все дальше уходили от того, что может быть понято всеми […], и степень этого удаления, в конце концов, сделалась чуть ли не мерилом философского мастерства».
Как насмешливо скажет Гейне: «Я касаюсь здесь комической особенности наших философов. Они без конца жалуются, что их не понимают»[238].
Гегель тоже будет сетовать: «Возможно, только один человек меня понял, да и тот меня не понял». Он обвинил Канта в невразумительности в резкой обличительной речи, не лишенной стилистических красот. Около 1802 г. он восклицал, обращаясь к йенским студентам: «Соблазнительно (verführerisch) в этой терминологии как раз то, что ею очень легко овладеваешь. Мне тем легче употреблять эти слова, что я могу позволить себе облечь в них любую глупость и банальность, разве что мне будет стыдно перед самим собой за обращение к людям на языке, которого они не понимают» (D 340).
И он еще долго рассуждал в том же духе: «При изучении философии вы не должны принимать эту терминологию за нечто существенное, вы не должны чувствовать к ней никакого почтения. Лет десять или двадцать тому назад казалось очень трудным освоиться с кантовскими терминами синтетического суждения a priori, апперцепции, трансцендентного и трансцендентального и т. д. Однако этот словесный вихрь уносится так же шумно и быстро, как принесся. Многим удалось овладеть этим языком, и тогда тайна перестала быть тайной: отталкивающая оболочка скрывает самые банальные мысли. Меня заставляют об этом говорить главным образом нынешняя прыть философии природы и те глупости, причина которых — терминология Шеллинга» (D 340).
Вот как осмеливается говорить Гегель о своем учителе Канте, а также о том, кто все еще его близкий соратник и друг, — о Шеллинге! Болтуны, чья заумь не скрывает никакой мысли. Какие же тогда оскорбления приберег он для врагов?
Случай Гегеля
Ясно, что Гегель, столь ярко живописующий недочеты других, был хорошо знаком с недостатками, грозившими всей немецкой философии. Если бы ему захотелось, в ряде случаев он мог бы выражаться гораздо яснее, на манер высказывавшихся, по его мнению, вполне ясно, предшественников. Он умело пользовался своей темнотой. В нем как‑то сочетаются, часто в трудно определимой пропорции, врожденная и невольная неловкость, намеренное утаивание и необходимая философская темнота, неизбежно проистекающая из разрабатываемой им системы.
Идеи Гегеля нелегко изложить прежде всего потому, что они, как правило, новые или обновленные старые, забытые и плохо понятые, к которым долго никто не обращался. Они противятся эксплицированию и внятному истолкованию, потому что порой они экстравагантны в некоторых отношениях. Гегелю случается быть непоследовательным и, похоже, он отдает себе в этом отчет, борется, как только может, с ожесточением и отчаянием, пытаясь исправить положение.
Это была невообразимая затея — предложить и потом защищать с помощью доступных соображений абсолютный идеализм. Ее единодушно отвергли сразу после смерти философа. Уже многим современникам философа казалось, что он не выдерживает критики. Читатели, вполне справедливо сетуя на неподготовленность, не должны себя упрекать: если они плохо понимают, это не только их вина, ни даже, в каком‑то смысле, вина Гегеля: обвинение должно быть предъявлено самой системе, которая больше распоряжается Гегелем, чем он ею.
Гегель должен был хорошо знать и в конце концов признать трудности своей манеры изложения. Он это делает, и иногда с юмором. Все его просьбы простить ему привычку выражаться темно сопровождает ирония, возможно, горькая. Отвечая Кнебелю, который, подобно стольким другим, упрекал его за это в связи со статьями в «Бамбергской газете», он заявляет, что дипломатическая и политическая ситуация сама по себе настолько запутана, что если бы он написал о ней ясным стилем… его бы никто не понял — ни редактор, ни читатели: «Я бы мог вывести заключение per contrarium, мой лишенный ясности стиль позволяет понять лучше» (С1 183). И он сетует на судьбу, которая не была столь щедра, чтобы позволить ему производить на свет нечто более удовлетворительное…
Следуя этой логике применительно к его философии, противники Гегеля могли бы нагло заявить: она настолько сумбурна, что, будучи изложенной ясно, не выдержала бы никакой критики. Злопыхатели примерно это и подразумевали. Учение поражено невразумительностью из‑за предпосылок, по большей части неразвернутых. Абсурдность доктрины не дает изложить ее ясно, и темнота выражения говорит о несообразности содержания. О том, чего нельзя хорошо постичь, нельзя написать ясно.
Вряд ли можно долго защищать теоретическую состоятельность учения, которое хочет, к примеру, сделать из природы инобытие духа. Предложенное Гегелем понимание этого самоотчуждения духа в природу еще непостижимее, чем идея божественного творения, которую он бесстрашно отвергает. Шеллинг, который все же рискует больше других, подтрунивал над этим пассажем, где Гегель в общих чертах описывает переход Идеи в Природу, или предписывает ей, как это делать: «Но абсолютная свобода идеи состоит в том, что она не только переходит в жизнь, и также не только в том, что она как конечное познание позволяет жизни светиться видимостью (scheinen) в себе, а в том, что она в своей абсолютной истине решается свободно произвести из себя момент своей особенности или первого определения и инобытия, непосредственную идею как свою видимость (Widerschein), решается из самое себя свободно отпустить себя в качестве природы»[239].
Уж лучше бы было сослаться на чудо.
Но нужно ясно видеть, что такое порождение природы — одно из главных условий идеализма, что оно представляет собой необходимое, недоказуемое, непроизвольное, изначально подразумеваемое его основание. Ни одно из положений философии Гегеля не устояло бы, если бы идеи или Идею или Дух стали рассматривать в качестве порождений заранее существующей всеобъемлющей природы на манер философов — материалистов или реалистов.
Скорбеть по поводу гегельянских предпосылок — дело совершенно лишнее. Все происходит так, как если бы он отчасти по наитию, отчасти по расчету поставил и предложил себе самые трудные условия и самые непреодолимые препятствия для акробатической игры идей; возложив на свои плечи задачу, исходя из сочтенных необходимыми, но на самом деле несовместимых посылок, возвести глобальную систему. Это означало с самого начала обречь себя на отчаянную интеллектуальную эквилибристику, трюк, который он, однако, сумел исполнить полностью, изящно, изобретательно и упоенно. Желая невозможного и фанатично стремясь к его осуществлению, философы совершают духовные подвиги.
Можно утверждать, что любой конститутивный элемент его доктрины и того, чем он хотел видеть свою систему, не мог бы быть развернут так изобильно, с такой продуктивностью, не будь он накрепко привязан к другим элементам, с которыми он, в сущности, несовместим. Гегель устанавливает планку все выше и выше и дерзает прыгнуть не требуя поблажек, самоотверженно.
Именно поэтому нужны были лакуны в гегелевских умозаключениях, поначалу замаскированные, ловко скрываемые, обнаруживаемые позднее. Подозрительные критики или даже недоброжелатели объявили о разрыве с логическим мышлением. Люсьен Герр очень настаивает на роли «чувства» в развитии гегелевского умозаключения[240].
Некоторые находят удовольствие внепривычных словесных играх, с помощью которых Гегель симулирует выход из трудных положений (например, возведение Qualität (качество) к Qual (мучение)[241]). Будучи обнаруженными и разоблаченными, эти хитрости изложения и языка ничуть не умаляют богатства и продуктивности гегелевской мысли. Но однажды с ними столкнувшись, их нужно иметь в виду, чтобы не понимать речь буквально.
Вполне вероятно, что, лукавя с другими, философ лукавит сам с собой. Он схоранивает некоторые вещи от самого себя, ведомый гой же диалектикой невинности и вероломства, которую он так хорошо умел описывать у других. Перед нами любопытная смесь наивности и мошенничества.
Романтический философ того времени похваляется глубиной мысли на том основании, что ее свидетельствует некая, вполне умеренная, темнота выражения. Ему нравится сходить за непонятого. Гегель не романтик, но и он позволяет палитре времени оставить на себе след. Он предпочел бы ясность, но в его случае она подразумевает некий философский диссонанс, и Гегель завораживает читателя так же, как в ином регистре завораживают поэтические диссонансы Гёльдерлина. Он хотел поженить огонь и воду и сделать это по — своему, не так, как Шеллинг, но столь же парадоксальным образом, заставившим Шеллинга образовывать двусмысленные понятия, вроде идеалматериализма или идеалреализма. Первые ученики разорвали эту фантастическую материю на куски, при этом каждый выбрал себе лоскут по вкусу.
Не надо жаловаться. Без этих помех, нагромождений, живых противоречий, гегельянизм не был бы самим собой. Они заставили его превзойти себя, и мы можем возгласить: Felix culpa! Отвага сестра творчества, но у нее есть цена: темнота. Ему приходилось быть виртуозом.
Сражаясь с языком, Гегель позволял звучать голосу времени, по примеру, как он полагал, всех философов прошлого. Он выражал мир разорванный, как он говорил, отчужденный, темный для самого себя мир, который сегодня с большим трудом поддается дешифровке. Не вина автора, если сами вещи говорят так невнятно.
Эти замечания относятся не к одному только Гегелю, но решительно ко всем немецким философам — идеалистам. Большая часть его великих современников были столь же темны, сколь темен он, если не более. Такие исключения, как, например, Якоби, выступая за более ясную философию, в результате оказывались более плоскими, поверхностными, догматичными, более декларативными.
Итак, не следует прятать правды за вуалью благопристойности: трудна не только их манера изложения, но сама философия их по сути своей мало прозрачна. Она была хрупкой и быстро развалилась — это не лишает ее смысла, но напротив, придает ей другой смысл, предполагающий иное употребление, нежели грезившееся авторам. Как признавал Шеллинг: «Прежде чем взяться за самого Канта, я бы сделал сначала замечание общего характера, которое более или менее приложимо ко всем человеческим действиям: то, что их делает действительно важными, так это их реальные последствия, а последние чаще всего не таковы, какими они виделись и ради которых действовали»[242].
Сама система по своей идее и программе не могла себя оправдать, чтобы ее защитить, требовалась искусственная аргументация, произвольные дополнительные построения, иногда фантастические. В этом тоже система Гегеля ничем не отличается от остальных, разве что, возможно, масштабами словесной эквилибристики.
Если бы ему удалось быть ясным, он изменил бы собственным исходным прозрениям и убеждениям своего времени.
Гегель приоткрыл причину своей темноты или, по меньшей мере, одну из причин, а также секрет оказываемого ею воздействия. В письме Нитхаммеру он напоминает, что «легче быть возвышенно непонятным, чем просто непонятным» (С1 163). Соблазняет его эта легкость? Иногда он строит из себя важную персону. Но ему известно противоядие: «Обучение юношества, а равно подготовка материалов к таковому — лучший пробный камень ясности» (ibid.).
На возвышенное он не скупится. И от него не укрывается, что оно тоже мало способствует пониманию.
Гегель насытил философию несовместимостями. Его задача заключалась в том, чтобы убедительно и последовательно сводить их вместе, соединяя то, что поначалу кажется самым несоединяемым, извлекать — как в случае лука и лиры — из несогласия согласие. Без этих противоположностей, без их непримиримости, он не знал бы к чему стремиться, какое дело делать, какое произведение создавать. Великому философу просто позарез нужно столкнуться лицом к лицу с задачкой с норовом, — проблематикой, которую навязали ему обстоятельства или он сам себе задал.
Но бывают противоречия и противоречия. Диалектическое противоречие приводит — тем или иным путем — к своему разрешению. Противоречие догматическое стоит на месте, упрямится, ни на что не решается, или, чтобы покончить с собой, требует выбора между противоположностями. Иногда оно прикрывается на время маской диалектики, но в конце концов его подлинный лик обязательно должен открыться.
В произведениях Гегеля есть несообразности, которые противоречат опыту, здравому смыслу, диалектической логике. Конечно, их не так‑то легко обнаружить, и раскрывают они себя некоторым образом лишь по мере погружения в них. Чувствовал ли это Гегель? Мог ли он при своей, как правило, образцовой ясности ума не сознавать, что вместо того, чтобы разрешить некоторые противоречия, он ограничился лишь их представлением, прибегнув поочередно к каждому из взаимоисключающих терминов, разумеется, в разных произведениях или в разных главах одного и того же произведения, хотя читатель ненароком может при случае столкнуть их непосредственно. Есть главы в «Истории философии», которые плохо выдерживают сопоставление с некоторыми параграфами «Науки логики». Положения, получившие развитие в «Философии истории», резко противоречат доктрине «Энциклопедии», где, впрочем, философия истории, по необходимости возвращенная в строй, занимает второстепенное и проблематичное место. Разумеется, Гегель изо всех сил старается установить согласие и возобновляет попытки глобального пересмотра всех понятий, но с сомнительным, по мнению многих, результатом.
Есть, в частности, одно противоречие, которое, вослед восторженному согласию, приводит в недоумение почти всех учеников: расхождение между диалектическим мышлением, отважно отдавшим приоритет движению, изменению, становлению, жизни, и проектом системы, которую Гегель силился оставить «открытой», но которая на деле не могла не предполагать стабильности, остановки, консервации, омертвения.
Гегель так высоко оценивал изменение, что принялся свысока смотреть на иностранные языки, на латинский и французский, заподозренные им в неспособности непосредственно выразить смысл изменения так же хорошо, как немецкий. Но было похоже на то, что, несмотря на все самые серьезные меры предосторожности, он был склонен к идее некоего конечного и всеобщего знания, неизбежно, впрочем, предполагавшейся абсолютным идеализмом.
Вместе с другими очевидными противоречиями, которые могли сыграть роль детонатора (религия — спекулятивное мышление, эзотеризм — экзотеризм, прогрессизм— консерватизм, созерцательность — интервенционизм и т. д.) это расхождение должно было привести к взрыву и поставить учеников перед выбором между диалектикой и возведенной, как полагал Гегель, на ее основе системой, подобно тому как многие оказывались вынужденными выбирать между «идеей критики» и «кантовской системой» (Леон Брюнсвик).
Предшествующие философии переросли сами себя, позволив взорваться заключенным в них противоречиям, и, опасаясь той же судьбы, Гегель старался, насколько это было возможно, не дать разойтись взаимоисключающим терминам. Эта негибкая гимнастика осуществлялась под покровом тьмы.
Гегель не только был вынужден перенять часть терминологии своих предшественников, которую он тем не менее порицал, но и прибавить к ней свою собственную, столь же необычную, даже вычурную, прокладывающую дорогу новой схоластике. Ему пришлось изобретать хитроумные комбинации, блуждать в надуманных дистинкциях, напускать двусмысленностей и туману, оттенять, делать вставки и оговорки.
С одной стороны, он предлагал новые идеи и стремился к тому, чтобы они не смешивались со старыми, это понуждало его коверкать обычный язык. С другой, возможно, он страдал какой‑то врожденной затрудненностью речи, степень которой трудно оценить. Ко всему добавлялась изрядная доля рассчитанной на публику таинственности. Вместе с тем он должен был скрывать некоторые свои сомнительные и подрывные идеи.
Когда его спросили о скрытых причинах общеизвестной темноты Гераклита, он, в конце концов, признал, что «они заключаются преимущественно в глубине, в спекулятивном характере мышления, выражающего себя таким образом»[243]. Никто не тянул его за язык! Он, стало быть, соглашается с тем, что его собственная философия, по существу своему спекулятивная, остается закрытой для большей части людей.
Несмотря на все усилия, на все его мастерство, ему не удалось предложить философию, приемлемую для всех, равно убедительную для властей и для публики. Среди прочих знаком этого поражения служит возобладавшая в финале тенденция к самоограничению, нерешительный отказ от поначалу провозглашенного философского универсализма, элитарность, в которой его упрекает Гешель, и сам не бывший вульгаризатором, — все это знаки поражения. Гегель дойдет до того, что решит доверить судьбу своей философии лишь кругу посвященных, своего рода «клиру».
В конце концов он поддастся соблазну запереть ее в полумраке святилища.
XIII. Берлин
В Берлине он позволил себя короновать и чуть ли не помазать на царство; с той поры он правил немецкой философией.
Генрих Гейне[225]
Как ни был напуган Гегель угрожающими переменами в общественной жизни, и прежде всего в политике, он не соблазнился мыслью окончательно удалиться от мира, укрывшись в сумраке меланхолии. Великие амбиции, хотя и ослабленные, поблекшие из‑за разочарований, неудач, ощущения бесполезности усилий, не давали ему покоя.
Это угадывается по разным признакам: он хотел бы, чтобы за его философией, о которой он, разумеется, был высокого мнения, последовало действенное вмешательство в дела этого беспокойного мира. Для этого ему всегда надо было «быть в центре событий», там, где все решается. Разве не был Аристотель наставником Александра, Вольтер — доверенным лицом Фридриха Великого, Дидро — советником Екатерины?
«Центр» Германии, начиная с 1815 г., переместился, скорее, на периферию, в Берлин. Ничто не могло больше удовлетворить Гегеля и польстить ему, чем назначение в столицу Пруссии. Преимущества были неоспоримыми, неудобства могли обнаружиться лишь задним числом. В то время все, казалось, сулило удачу.
Какое повышение! Какой триумф!
В конце 1817 г. Альтенштейн, министр образования и культов в правительстве Гарденберга, предлагает Гегелю кафедру философии, оставшуюся вакантной после смерти Фихте в 1814 г. Министр — либерал, придерживающийся прогрессивных взглядов, составляет исключение в правительстве, не чуждом, впрочем, современным веяниям. Он следует просвещенным советам и проявляет хороший вкус в выборе профессоров философии.
Гегель принимает назначение с радостью, это происходит осенью 1819 г., он на вершине, выше некуда, завидовать тоже некому. Теперь, напротив, это он — предмет зависти для других, что небезопасно. Возвышение радует его: отныне он окончательно «признан» и о себе он тоже думает, что лучше всех прочих.
После скромного детства в Штутгарте жизненный путь его был крутым и извилистым. Он одолел его и мог быть доволен тем, что кое — чего достиг. Добился известности, даже славы в определенных интеллектуальных кругах, и вдобавок относительной материальной обеспеченности.
Отныне ему суждено своей философией соблазнять самую осведомленную часть прусской интеллигенции, постепенно внедряя ее в немецкие университеты. Королевство с небольшим народцем — коллеги, эрудиты, студенты — однако оно, невзирая на малые размеры, может наделать много шума. Все же значение этой публики, как правило, всегда преувеличивалось. По прибытии в Берлин Гегель мог ожидать, что будет оказывать какое‑то влияние на правителей страны, на тех, кто его позвал, на самого канцлера Гарденберга, которому он посвятил только что вышедший экземпляр «Философии права и государства» (1821). Но стал ли он кем‑то вроде серого кардинала?
Гегель идет на службу к самому могущественному, самому многообещающему немецкому государству, под властью — скоро ей придет конец — самого «передового» из современных ему глав правительств, более всего расположенного к либеральным реформам и самого открытого для новых идей.
Возможно, удача немного вскружила голову философу. Но кто бы остался невозмутимым, отверзая уста с кафедры, с которой обращался к немецкой нации Фихте?
В то время, когда Гегель с готовностью отвечает на приглашение Альтеншгейна, Пруссия пожинает плоды кое- каких недавних усовершенствований. Когда‑то, в своей «Немецкой конституции», несомненно, написанной по следам визита в прусское княжество Нойшатель, по соседству с Чугг, он подверг их критике: «Тот же образ жизни, то же бесплодие царят в соседнем государстве с таким же устройством, — в Пруссии. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в какой угодно из ее городов или обратить внимание на редкую обделенность научным и художественным гением и не перепутать с реальной силой призрачные потуги какого‑нибудь одаренного одиночки»[245].
После 1815 г. это пристрастное суждение должно было измениться. Победоносная Пруссия казалась тогда примером всем немецким патриотам и, с некоторыми оговорками, Гегелю. Что же касается рождения «научного гения», то разве не лучшее подтверждение этому призвание философа в Берлин?
Вместе с обретением военной мощи Пруссия поворачивается, не без колебаний, к современности. Она обходится без жестоких методов французских революционеров, но пока Гарденберг еще у руля, может похвалиться кое- какими реформами. Довольно робкие, они повсеместно у населения пробуждают большие надежды. Идут разговоры о даровании политической конституции, пока подданные не успели в ней разочароваться; временно разрешается употреблять слово «прогресс», начинают заботиться об организации общественного образования; заметно возрастает численность населения, быстрее идет индустриализация. Страна похожа на маяк, к которому обращены взоры всех патриотически мыслящих немцев. Она так привлекает этих великих реформаторов, тех, кто ставит ее на ноги и возвращает ей силы, таких же пруссаков по рождению, как Гегель: Штейн, Гарденберг, Шарнхост…
Гарденберг завершает проект реформ, задуманных Штейном: отмена крепостничества, — уже само декларирование замысла было смелым вызовом! право собственности на землю для всех подданных; организация правительства под началом канцлера; выборы муниципальных властей в городах; роспуск цеховых корпораций; отмена феодальных повинностей и т. д.
Все это больше заявления и прожекты, чем действия. Но в Европе времен Священного союза только объявление о благих намерениях пробивало брешь в монотонной апологии рабства. Окончательное поражение Наполеона, «узурпатора», сделало возможным распространение по всей Европе крайне реакционной, в прямом смысле слова, политики, ее очевидной целью было возвращение к формам правления и общественной жизни, существовавшим до Французской революции. Она способствовала — и именно в Германии, благодаря влиянию Меттерниха с его «системой» — установлению еще более грубых методов управления и воцарению еще большего мракобесия в интеллектуальной сфере, чем при наполеоновской оккупации или даже при старом режиме. Немцы, как справедливо сказано, получили Реставрацию, не успев извлечь выгоду из революции. Там, где результаты революции были сразу упразднены, восстанавливаются государственная религия, государственные тюрьмы, еврейские гетто и т. д.
Всему этому движению вспять Священный союз стремился дать идеологическое обоснование: отвечающий ценностям христианства и абсолютизма пакт прусского короля, русского царя и австрийского императора; политическая троица, явным образом помещенная под знаком «Святой и неделимой Троицы». Религия использовалась самым циничным образом для моральной поддержки шаткого альянса заурядных династических интересов с остатками феодализма. Оценки молодого Гегеля получали неопровержимое подтверждение. «Религия и политика — как ярмарочные воришки, друг друга узнают с первого взгляда. Первая учит тому, чего хочет деспотия, — презрению к роду человеческому, его неспособности осуществить какое‑либо благо, представлять что‑то собой…» (С1 29)[246].
При этом отягчающим обстоятельством было то, что Священный союз лишал протестантизм свойственного ему протестного характера, который был так дорог Гегелю, втайне объединяясь с его врагом, католицизмом.
Прежде чем пытаться объяснять и оценивать поведение, публичные выступления, тайные речи, неафишируемые занятия, следует припомнить, как вообще обстояли дела вокруг, и какова была ситуация, в которой Гегель оказался в Берлине. Нужно взвесить груз, вынесенный им на своих плечах, и, принимая в расчет все, что мы знаем о Гегеле, признать, в Пруссии имелись нововведения, которым он мог радоваться, но равно было множество пережитков прошлого, которых он одобрить не мог.
Прусское правительство было раздираемо множеством противоречивых тенденций, упрощая, их можно поделить на две большие группы. Группы эти, однако, так и не сумели самоопределиться в отдельные устойчивые современные политические партии. Они эпизодически перетекали друг в друга, перемешивались, отчасти сливались, разобраться в этом было трудно.
Можно выделить направление реформаторов, влиятельное вплоть до смерти Гарденберга (1822) и в дальнейшем подававшее слабые признаки жизни. Реформаторы восстановили престиж и могущество Пруссии, были вдохновителями войн с Наполеоном за национальное освобождение. Они старались сделать страну современной и ввести в ней либеральные порядки при более или менее ясно декларируемом намерении в один прекрасный день объединить всю Германию вокруг себя. В тревожной военной обстановке они добились от короля торжественного обещания для восстановления народного доверия даровать этому народу политическую конституцию.
Реформаторы сталкивались с упорным сопротивлением другого течения, представленного феодалами, знатью, двором, дурной волей или — кто его знает — отсутствием воли у зауряднейшего из королей, который цеплялся за абсолютизм, попеременно находясь под влиянием обеих групп, пока после смерти Гарденберга его окончательно не перетянул на свою сторону двор, за которым стоял кронпринц, напичканный самыми ретроградными идеями.
После победы Наполеона, король Фридрих Вильгельм III, прибавив к уже известным порокам клятвопреступление, отказался утвердить обещанную конституцию. Он все время откладывал счастливое событие. Велико было разочарование прусских патриотов, и особенно интеллектуалов, на чью долю пришлась большая часть жертв, связанных с войной, они чувствовали себя обманутыми в надеждах, ради которых сражались. Как парижские санкюлоты, не отдавая себе в том отчета, сражались во имя установления буржуазной республики, так и прусские либералы восстановили, сами того не желая, абсолютистскую монархию. Гегель размышлял о такого рода исторических аберрациях в связи с другими примерами.
Несмотря на победу и отдельные успехи, взгляду внимательного наблюдателя — а именно таким был взгляд Гегеля — становилось очевидно, что в Пруссии поразительно сплелись ложь с очковтирательством, подозрительность с интригами, большие планы провалились, парадоксы сделались характерной жизненной особенностью.
Начиналось время, когда нации переживали период — как это назвали потом — «самоопределения». Победа над Наполеоном отвечала национальным чаяниям народов, на какое‑то время оказавшихся под властью империи и, в конце концов, взбунтовавшихся против нее. Но эта победа сопровождалась провалами в других сферах. Национальному прогрессу не сопутствовал прогресс социальный и политический, как это было во Франции в 1789 г. Жизнь и деятельность Гегеля в Берлине в какой‑то мере несет на себе отблеск этого несовпадения.
Основные политические задачи, объективно стоящие перед Пруссией, оставались нерешенными, они останутся таковыми до 1848 г. Повсеместно разнонаправленные усилия отдельных людей и целых коллективов тратились напрасно, ни к чему не приводя, все договоренности по принципу «и вашим, и нашим» оказывались построениями на песке. Гегель самонадеянно будет бахвалиться тем, что не выступает ни за одну из соперничающих «партий», по крайней мере публично, и тем, что предложил в своей «Философии права» учение, которое в конечном счете так и останется загадкой для всех[247].
Большинство людей, испытывая отвращение к общественной деятельности, презрев общественные интересы, занялись своими делами, замкнувшись в частной жизни. Хотя реакционному правящему клану такое поведение было не по вкусу — население представлялось ему завистливым сбродом, всегда склонным к бунту, и это население надлежит держать в строгом повиновении — но пусть дремлют, это лучшее, чего можно желать.
Знать, двор, верхи всякое стремление к обновлению и реформированию считали угрозой, тем более в свете недавней Французской революции такого рода искания выглядели прямо‑таки сатанинским делом. Никаких поощрений — больше надменности и запретов. Превентивные меры короля по укреплению принудительной системы неизменно поддерживались, верхи настаивали на суровом подавлении всего, что было или казалось им либеральным, конституционным, ущемляющим религию, словом, буржуазным.
Но даже и в этих условиях либеральное движение все равно существовало. Не имея поддержки в народе, оно увлекло лишь кое — кого из интеллектуалов, и прежде всего студентов. Ко времени смерти Гегеля в его рядах насчитывалось очень мало профессионалов, принадлежавших «гражданскому обществу». Понятно, что ни на какие успехи либералы рассчитывать не могли. Странным образом обрушившиеся на движение несоразмерные репрессии рождали иллюзорное впечатление его весомости. Власти были страшно напуганы. В специфически студенческой форме, в форме знаменитой Burschenschaft, движение привлекло к себе всеобщее внимание, косвенно повлияв на разнообразные жизненные сферы: в частности, оно ощутимым образом отразилось на жизни, карьере и образе мыслей Гегеля. Прусские студенты не отличались трезвостью суждений и результативностью действий, но необузданной храбрости им было не занимать. Они всех донимали.
В обстановке общей неопределенности, неуверенности и замешательства, когда какие‑то обдуманные и твердые мнения все же начинают обретать очертания, Гегель порой ведет себя как остальные. Ему приходится лавировать.
Как старый поклонник Наполеона, он поначалу не слишком симпатизировал прусской войне за национальное освобождение, приняв ее умом и сердцем достаточно поздно, фактически после назначения в Берлин. Без восторга встретил он победу поддержанных союзниками (войска союзников были набраны из населения стран, считавшихся отсталыми и реакционными, Гегель их с ксенофобским презрением именует «казаками», «хорватами», «чувашами», бранными, на его взгляд, словами) прусских армий. Позже его терминологией воспользуется Гейне.
Гегель констатирует результат: сложилось определенное положение дел, с которым приходится считаться. Жалким образом он старается подчеркнуть значение относительно положительных сторон Реставрации, упирая на пробуждение Пруссии. Что было делать немецкому патриоту?
Укрепление Пруссии сопровождалось, наряду с кое- какими незначительными улучшениями социального и политического характера, известным интеллектуальным оживлением. Благодаря этому оживлению в 1810 г. в соответствии с планами Вильгельма фон Гумбольдта был основан Берлинский университет, в котором первым ректором стал Фихте. Университет быстро превратится в самый сильный, самый богатый в материальном и интеллектуальном отношении, самый престижный из немецких университетов.
Долгое время терпевшие унижение из‑за бедственного состояния культуры, обнадеженные немецкие интеллектуалы воспрянули духом. Гегель и его окружение воодушевлены происходящими событиями. С 1815 г. друг Нитхаммер пишет философу: «[…] к счастью, культуре и духу не приходится больше искать убежища в Баварии, куда, похоже, их заманили лишь для того, чтобы убить» (С2 59). Он, ведущий отчаянную борьбу за развитие общественного образования и защиту прав протестантов в этой стране, теперь тоже поглядывает в сторону Берлина. В 1819 г. он выражает желание записать в Берлинский университет своего сына, да и сам не имеет ничего против своего в нем преподавания. Он вежливо намекает Гегелю на кое — какие шаги в этом направлении: «Я хотел бы только, чтобы у нас была возможность отправиться туда вместе […] Я знаю, что такой министр как Альтенштейн вполне мог бы найти мне применение […] и, возможно, достаточно будет того, чтобы он об этом знал» (С2186).
Его, как, впрочем, со всей очевидностью и Гегеля, вдохновляет не только скачок в развитии системы образования в Пруссии, он связывает с этой страной будущее столь дорогого ему протестантизма. Все это — несмотря на Священный союз, представляющийся ему, судя по всему, временной помехой на пути укрепления лютеранства в этой стране: «Кроме того, в отличие от многих, мне очень по сердцу роль, которую способна сыграть Пруссия для Германии с религиозной точки зрения» (С2186).
Не слишком возмущаясь поведением тогдашнего короля Пруссии, считавшегося главой лютеранства, протестанты того времени относились к католицизму как к пособнику политической реакции и абсолютизма в принципе. Лютеранство меж тем рассматривалось как своеобразная «религия свободы». В этом отношении, да и во многих других, Гегель, сознавая, что в Берлине дела обстоят не так замечательно, как хотелось бы, несомненно, полагал, что движение совершается в нужном направлении, и эта мысль согревала его сердце.
Чтобы лучше понять Гегеля, стоит напомнить в общих чертах о специфической прусской ситуации, ибо великая личность неизбежно обречена на то, чтобы встраиваться в ситуативный контекст, в котором ей удается более или менее счастливо раскрыться. Начиная с 1815 г., Гегель и Пруссия связаны неразрывно, хотя совместная эта жизнь насыщена конфликтами, отторжениями, горькими переживаниями, светлые периоды в ней соседствуют с темными полосами. В отсутствие прибора для измерения счастья приходится довольствоваться приблизительной оценкой, невыверенной и противоречивой. Как оценить душевную жизнь философа, разобраться была ли она прямодушной, бодрой, религиозной, насколько был философ либерален, удачлив, удовлетворен? Трудно сказать, но в целом все же вполне можно ощутить, в какую сторону клонится стрелка весов, хотя бы это и была область сугубой неопределенности.
Гегель не только пользовался большим уважением в интеллектуальной среде, которую он и сам чтил, он также достиг значительной материальной обеспеченности. Реальный уровень его материальной жизни поддается лишь очень приблизительному определению; слишком велики локальные и временные различия в курсе валют, ценах, образе жизни. Примерно сопоставимы лишь порядки величин.
Оклад Гегеля в Берлине был выше, чем в Гейдельберге, по крайней мере номинально, фактическое повышение не было значительным. Гегель пишет сестре, упоминая об этом, несомненно, для того, чтобы оправдать приостановку оказываемой ей помощи. Его жалованье достигло тогда 2000 талеров, тогда как в Гейдельберге он получал около 1500.
Это не те доходы, которыми можно хвастать, будь он и в самом деле в глазах прусской администрации тем, за кого его выдавали, именуя, в зависимости от обстоятельств, либо уничижительно, либо почтительно «философом государства», «диктатором в Прусском университете», «идеологом на службе у абсолютной монархии». Заработок Гегеля ничем не отличался от общепринятых. В Берлинском университете оклады профессора химии или медицины варьировались от 1500 до 2000 талеров, теолог получал от 2000 до 2500; юрист — от 2500 до 3000 талеров[248]. В 1841 г. новый король Пруссии, Фридрих Вильгельм IV, предложит 6000 талеров стареющему Шеллингу, поручив тому ликвидировать последствия гегелевского преподавания[249].
Поучительное сравнение: Фридрих Вильгельм III, король хуже некуда, вдобавок к своим «личным» доходам выделил на собственное содержание 2 500 000 талеров. Тирания и глупость, как это и должно было быть, получали в сто двадцать раз больше, чем ум и свобода духа, которым — это правда — цены нет.
Гегель часто жаловался на безденежье, возможно, по привычке и регулярно запрашивал возмещение расходов. Для путешествий, лечения, отдыха можно было получать с разрешения начальства правительственные вспомоществования. Профессиональный статус Гегеля не отличался от положения других служащих монархии: зависящие от расположения короля, они могли быть уволены всякий миг без надежды на пенсию по старости, лишенные какой‑либо взаимной поддержки и профсоюзной защиты, без помощи и средств, полностью предоставленные самим себе.
Благодаря разовым выплатам, Гегель время от времени совершал ознакомительные или культурно — просветительские поездки, в которых, в соответствии с обычаями и правилами, жена не могла его сопровождать. Государство возмещало только то, что было профессиональной необходимостью и шло на пользу службе или могло сойти за таковую пользу, еще оно оплачивало раболепие или более или менее очевидный конформизм. Привыкшие к такому порядку, отмененному лишь много позже под давлением общественности, служащие Его Величества, вероятно, не испытывали сильных угрызений совести в связи с унизительным характером процедуры получения помощи.
Министры и сам канцлер заботились о мелочах. Чтобы возместить расходы на поездку требовалось согласие самого Гарденберга! Для получения разрешения министр Альтенштейн направляет ему прошение, в мотивировочной части которого подчеркивается лояльность университетского профессора и одновременно признаются его действительные заслуги: «Профессор Гегель, — пишет он в 1822 г., — несомненно, самый глубокий и самый основательный из философов, которыми располагает Германия» (С2 346). Столь справедливая оценка нас радует. Но, чтобы получить от канцлера разрешение, министр добавляет: «он оказывает на молодежь большое благотворное влияние», — несомненно, это так, но хорошо бы знать, какого рода это влияние… «Горячо, серьезно и компетентно он препятствует пагубному проникновению поверхностной философии, расшатывая у молодежи самомнение. Благодаря таким взглядам, престиж его очень высок, и это — как и их благотворное воздействие — признают даже те, кто испытывает недоверие ко всякой философии» (С2 346).
Угодливая ложь или непростительное неведение? Враги философии не складывают оружия перед Гегелем — вовсе нет, они не считают его новую систему стоящей, они обливают ее грязью. Так что трудно сказать, «благотворны» ли воззрения профессора Гегеля, служащие оправданием денежной субсидии и разрешения на поездку. И все же эпоха Гарденберга, какой бы ущербной она ни была, это лучшее из времен.
Педагогическая и политическая деятельность Гегеля, столь же многообразная и неоднозначная, сколь неоднородна была публика, к которой он обращался, могла вызывать как доверие, так и неодобрение проправительственных группировок. Альтенштейн превозносит благотворное влияние Гегеля на молодежь как раз после инцидента в 1822 г. с капелланом собора Св. Ядвиги…
В Берлине Гегель будет наделен высокими университетскими званиями. Он станет членом экзаменационной комиссии Бранденбурга, примет участие в разработке проектов педагогической реформы, с октября 1829 г. по октябрь 1830 будет занимать пост ректора Берлинского университета. По правде говоря, к кому еще было обращаться власть имущим, как не к нему, да и университету оставлялась известная степень исподволь контролируемой свободы назначать должностных лиц.
Лучше Гегеля никого не было; его идеи, учение высоко ценились наиболее выдающимися прусскими интеллектуалами. Власти, как правило невежественные и ограниченные, не смели перечить Альтенштейну в выборе кандидатов. Они отважились на мятеж против философии Гегеля сразу после его смерти. В последние годы преподавания Гегеля все к этому шло, хотя тогда еще ощущалась некоторая неловкость.
Гегель предпримет немало интересных путешествий, которые в предшествующие годы жизни были невозможны из‑за безденежья.
В 1822 г. он посещает Нидерланды, включающие Бельгию, в сопровождении своего ученика и голландского друга Ван Герта. В 1824 отправляется в Вену, в которой его пленила итальянская опера. В 1827 г. при особых обстоятельствах наконец он гуляет по Парижу в компании Виктора Кузена, который показывает ему город. Идет в театр, обедает с Тьером и Минье. На обратном пути останавливается у Гёте. В 1829 г. едет в Богемию, и в Карлсбаде в последний раз встречается с Шеллингом, и встреча создает видимость примирения.
В Берлине Гегель посещает театры, концерты, художественные галереи, ходит на банкеты, на которых иногда слишком долго покоит взор на декольте хорошеньких актрис, смеющихся над старым селадоном. Ездит на костюмированные балы, как когда‑то в Бамберге.
Больше всего философ любит играть в вист или ломбер с несколькими друзьями; игрок он страстный, но доброжелательный и общительный.
После надлежащего, хотя и короткого, перечисления «положительных» и приятных сторон жизни философа в Берлине, которых, в общем, было немало, представляется интересным и поучительным более подробно рассмотреть «отрицательные», или неприятные ее аспекты, как правило, пропускаемые или сводимые к минимуму биографами.
Теперь уже совершенно невозможно представлять себе жизнь Гегеля в Берлине своего рода безоблачной идиллией, какой ее изображал его первый французский биограф, Поль Рок в 1912 г.: «После долгих лет нужды или достаточно скромной жизни, он оказался в положении, о котором мог только мечтать. Ему благоволят и он очень влиятелен; дома его ждут радости очага, у него есть друзья и восторженные поклонники, ежегодно празднуются именины — это его триумф: подарки, речи, стихи по случаю, все сполна; в 1830 г. чеканят медаль в его честь…»[250].
Как раз дни рождения Гегеля никогда не бывали вполне безоблачными. Всякому человеку консервативного толка свойственно в первую очередь стремление сохранить собственное благосостояние, моральный и материальный комфорт, душевный покой. Будь жизнь Гегеля в Берлине и в самом деле такой, какой ее изображает Поль Рок, философа и впрямь легко можно было бы записать в консерваторы.
Но она совсем не такая. В прусской столице Гегель не обрел ни блаженства, ни даже покоя. Вынужденный молчать — ибо протестовать против унижений значило выступать против «установленного порядка» и тем самым навлекать на себя еще большие неприятности — иногда он позволял себе тайком пожаловаться.
Едва устроившись в Берлине, он припоминает недавнее отрешение от должности профессора Ветте, передачу в суд дела одного из его юных друзей, Асвериуса, придирки цензуры и широкую практику судебного преследования за «выражение мнений» (délit d’opinion). Он пишет Крейцеру: «То, что все это, впрочем, мало способствует умиротворению умов, вполне очевидно, и Вам тоже. Мне скоро пятьдесят лет, из них тридцать пришлись на смутные времена чередования страхов и надежд, и я надеялся, что со страхами и надеждами покончено. А теперь приходится свидетельствовать, что все это продолжается; и в часы дурного настроения мне даже кажется, что дела идут все хуже» (С2195).
Но для кого, все‑таки, дела идут все хуже? Для Меттерниха? Для короля Пруссии? Да, потому что им приходится опасаться оживления политической оппозиции. Но в конце концов такого смехотворного противника они легко одолеют. На самом деле все хуже идут дела у оппозиции, которую душат цензурой, преследуют, лишают должностей, сажают в тюрьму. Гегель на стороне угнетаемых, с ними его симпатии, даже если не все их декларации и действия он поддерживает.
В 1821 г. в письме Нитхаммеру он приводит иные причины для грусти и вместе с тем уточняет личную позицию по отношению к происходящему, так, как он себе его представляет: «Вы знаете, что я, с одной стороны, человек беспокойный, а с другой — люблю покой; мне не доставляет никакого особенного удовольствия стеречь всякий год грозовые тучи на горизонте, хотя я и могу быть уверен, что на меня упадет самое большее несколько дождевых капель. Но Вы знаете также, что пребывание в центре событий имеет свои преимущества: лучше понимаешь, что делается просто ради того, чтобы создать видимость дел, а также обретаешь большую уверенность в себе и своем положении» (С2 238 mod)…
Несомненно, Нитхаммер хорошо понимал, о чем идет речь. Разве коснулись бы Гегеля политические «грозы», будь он, в самом деле, философом «прусского абсолютизма»? Почему ему приходится опасаться «нескольких капель», которые могут на него упасть? Откуда он знает, что все ограничится минимальными неудобствами? Значит ли это, что кто‑то его информирует о том, какие меры, осуществляемые королем, правительством, правосудием, полицией не следует принимать всерьез? Но в самом ли деле находился Гегель «в центре событий»? Намеки весьма туманные.
В действительности Гегелю не удалось избежать кое- каких серьезных неприятностей, скорее все‑таки ливня, нежели нескольких дождевых капель, вызванного чуть ли не им самим себе на голову — и это как раз составляет самую интересную и поучительную сторону жизни в Берлине.
Находясь, как ему казалось, «в центре событий» он, по- видимому, не оказывал на указанные события никакого влияния. Не заблуждался ли он относительно значения и достоверности получаемых сведений? Каждодневная политическая жизнь, проявление религиозных чувств, культурные события настолько превратно истолковывались властями, были подчинены настолько произвольным решениям, что от предсказаний того, что ждет страну, воздерживались даже высокопоставленные лица.
С течением времени и по мере того как естественный и искусственный туман над гегелевской философией понемногу расходился, Гегель все чаще становился объектом критики и мишенью для многочисленных и жестоких атак. Чувствуя надвигающуюся опасность, он защищался, отстаивал свое дело перед лицом обоснованных или клеветнических обвинений, ожесточенно полемизировал с остервенелым и злобным противником.
Дело дошло до того, что он, охваченный яростью, подумывал, не покинуть ли ему Берлин.
Зимой 1825–1826 гг. он подвергся нападкам со стороны викария католического собора Св. Ядвиги. В пакте о Священном союзе оговаривалось, что во входящих в него государствах три главные христианские конфессии (католицизм, протестантизм, православие) обязуются поддерживать друг друга. Власти не допускали никакой взаимной недоброжелательности.
И вот, в одной из своих лекций по философии религии Гегель довольно грубо посмеялся над католической концепцией Евхаристии. Присутствовавший на лекции с целью проверки ее содержания викарий был шокирован нападками и тотчас подал жалобу министру по делам религий Альтенштейну. Тот, через Йоханнеса Шульце, потребовал от Гегеля письменных объяснений.
В глубине души и при случае в конфиденциальных беседах Альтенштейн и даже король не могли не сочувствовать целям и поведению Гегеля в этой истории. Но официально они были связаны условиями договоренности и должны были «на публике» выказывать недовольство выходкой Гегеля. В зависимости от того, как складывались дипломатические отношения в такого рода случаях побеждали либо застарелая протестантская обида, либо интересы монархического альянса.
Уступка со стороны Гегеля была бы позорной сдачей. В своем безоглядном идеализме он наделял идеи, независимо истинные или ложные, статусом полновесных действующих сил истории. С другой стороны, религиозные вопросы казались ему наиважнейшими. В результате в лекциях по философии религии размежевание католицизма с лютеранством проводилось по линии различного понимания Евхаристии. Ему казалось, что великие исторические конфликты, включая войны, возникают из‑за столкновения чувств или идей. Исходя из этого, католицизм и разные протестантские конфессии, отделившись друг от друга, разошлись в понимании смысла и назначения гостии и именно поэтому затеяли между собой войну. Отсюда берут начало разделы государств, династические разбирательства, войны… В отношении истинности лютеранского понимания гостии Гегель не мог идти на компромиссы, разрушавшие целостность его философии. Альтенштейн, несомненно, знал и относился с душевным одобрением к этой точке зрения гегелевского учения, будучи противником католицизма, он в первую очередь интересовался тем, что считал национальными и политическими последствиями различия религий.
Гегель вышел победителем из стычки. И воспользовался плодами своей победы. Как сообщает Гайм, Гегель, на которого викарий смотрел в упор и с угрожающим видом, заметил ему: «Вы мне совсем не нравитесь, когда смотрите на меня так». Викарию пришлось покинуть аудиторию под [неодобрительный] топот студентов (С3 372).
Гегель наверняка знал, что в связи с этой историей ему ничто не угрожает, и, кроме того, непосредственность его реакции снискала ему большую популярность среди студентов. Не выставляя себя героем, он засвидетельствовал твердость убеждений, и каких убеждений! Речь шла о государственной религии Пруссии, рисковавшей раствориться в зыбком «христианстве вообще» во времена, когда для большинства его слушателей главным вопросом была связанная с либеральными веяниями проблема прусского единства, залога немецкого единства в принципе.
На дворе стоял 1827 год. Многим жителям Пруссии не было никакого дела до природы Евхаристии, в которую они не очень верили, и ничего не смыслили в тонких метафизических дистинкциях, проводимых на сей счет Гегелем. Они были привязаны к лютеранству по традиционным социальным, национальным, политическим мотивам. Они наверняка подозревали, что нападающие в тех обстоятельствах на католицизм вредят этим другим христианским конфессиям, и уж во всяком случае идеологическому обеспечению Священного союза. Гегелевское учение навлекает на себя множество обвинений в ереси, пантеизме, и даже атеизме. Времена Лютера ушли в прошлое, но все, сколько ни было в Пруссии страждущих душ, обманутых патриотов, пламенных националистов — все они не могли не радоваться поражению викария Святой Ядвиги. Протестующие, недо — вольные выиграли сражение — à la Клошмерль — и только такие они и выигрывали.
Итак, для Гегеля история ограничилась выпадением «нескольких капель дождя», разрешившись в его пользу.
Но она стала поводом оценить боеготовность врагов, уязвимость собственной позиции, необходимость защитных мер. А если бы Альтенштейн уже не был министром образования? И если бы король вмешался в спор и выступил на стороне требований Священного союза? Разве не достаточно было бы жалобы викария, чтобы привести в действие государственную машину и обязать профессора, ректора Берлинского университета, представлять отчеты о доктринальном содержании своих лекций? Пришлось бы доказывать, что он не думает ничего плохого о Пресуществлении. Впору смеяться, хорошо — задним числом. Но ведь речь идет о карьере, о том, оставят в должности или уволят мелкого служащего.
Тогда‑то пятидесятисемилетний Гегель, встревоженный одновременно другими признаками опасности, задумывается о новой эмиграции. В 1827 г., возвращаясь из поездки в Париж, куда ему так давно хотелось поехать, поездки, предпринятой также из соображений безопасности, будучи проездом в Бельгии, — в те времена зависящей от протестантской Голландии — он посещает кое — какие университетские центры в сопровождении верного ученика и страстного поклонника — голландского чиновника Ван Герта. Свои переживания в этой связи он поверяет в конфиденциальном письме жене: «В Льеже, равно как и в Лувене и в Генте, красивые университетские здания. Мы посетили эти университеты как возможные убежища на тот случай, если берлинские кюре сделают мое пребывание на Kupfergraben невыносимым. Во всяком случае, римская курия более достойный противник, чем жалкие берлинские святоши (Pfaffengeköchs!)» (С3176, mod). Куно Фишер полагает, что Гегель сказал это «в шутку» (scherzend)[251]. Скорее, это была мрачная ирония, связанная с приступом меланхолии, возможно, неадекватной.
Разумеется, для Гегеля отказаться от Берлина означало едва ли не умереть. Он будет держаться за столицу изо всех сил и вопреки всему. В то же время он не станет воздерживаться от слов и поступков, которые, невзирая на его находчивость и осторожность, нимало не сделают пребывание в столице более надежным.
Гегель подвергся нападкам со стороны не очень обширных прусских католических кругов, и это было естественно — ведь и он с ними не церемонился. Играя на плохо скрываемых внутренних противоречиях Священного союза, он довольно легко вышел сухим из воды.
Положение становится более деликатным, более рискованным, когда ревностные лютеране, не слишком убежденные в его набожности, в свою очередь, начинают выдвигать возражения против его философии. Со временем это происходит все чаще и чаще, и Гегель вынужден объясняться, все более и более невнятно. Среди прочих имеющихся в нашем распоряжении примеров можно назвать «дело Шубарта».
Шубарт (1796–1861), молодой интеллектуал, специализирующийся на эстетике, обрел дружбу и покровительство Гёте, благодаря своей работе «Оценка Гёте по отношению к родственным его творчеству произведениям искусства и литературы» (Бреслау, 1820). Он также опубликовал книгу «Гомер и его время». Главному его произведению предстояло появиться лишь в 1830 г.: «Лекции о “Фаусте” Гёте», после публикации философско — религиозного произведения «Стремление человечества к единству в связи с современным религиозным объединением» (1829) (С3 365).
Непрестанная апелляция к Гёте имела в глазах Гегеля решающее значение, кроме того, великий поэт горячо рекомендовал ему молодого человека, прося найти ему место в Берлине или, в случае невозможности, в каком‑нибудь другом прусском университете (С3 141). Гегель тотчас откликнулся на просьбу Гёте и устроил встречу Шубарта с Альтенштейном.
Доброжелательное личное отношение Гегеля не помешало Шубарту опубликовать вместе с Карганиго очень острую критику гегелевской философии под названием «О философии вообще, и о гегелевской “Энциклопедии философских наук”, в частности. К вопросу об оценке последней» (1829).
В этой работе среди прочего авторы жалуются на то, что нигде у Гегеля не нашли утверждения о бессмертии души, — странный для почитателей Гёте упрек. Большинство комментаторов полагают, что атака была неумелой, и Гегелю нетрудно было доказать несостоятельность предъявленных ему обвинений.
На самом деле в интеллектуальной атмосфере того времени под ударом оказывалась вся гегелевская философия. Не хватало только затевать дискуссию о бессмертии души! Еще в 1901 г. Куно Фишер выразит сожаление в связи с этим: «Когда хотят возбудить ненависть к какому‑либо философскому учению, нет лучшего средства, помимо подозрений в политической неблагонадежности, чем отказать этому учению в вере в бессмертие души или упрекнуть в ее недостатке»[252].
Антигегелевский памфлет не пренебрег ни одним из этих двух чувствительных пунктов, объявив также, что философия Гегеля враждебна государству. Гегель счел нужным ответить длинными статьями, помещенными в гегелевском журнале «Анналы научной критики» (В. S. 372–440). С грехом пополам он опроверг упреки Шубарта, намекавшие на некую тайную доктрину и похожие на клевету. По крайней мере, ортодоксально протестантские интерпретаторы Гегеля имели основания счесть упреки клеветой.
Нападение Шубарта не было нападением философского оппонента, но, поскольку он действовал, по — видимому, в соответствии с негласными пожеланиями начальства, ему важно было выбить у Гегеля почву из под ног, указать на его вину перед светскими властями. Варнхаген отмечает в своих «Воспоминаниях»: «Г-н Шубарт влился в ряды клевещущих на философию Гегеля и доносчиков, он присоединил свой голос к недавно вновь расшумевшимся противникам других, связанных с этой философией, интеллектуальных движений. Тенденции и научные суждения опровергаются перед посвященными и компетентными людьми не иначе как оружием той же науки, по крайней мере, так было принято во все времена, и так должно оставаться впредь. Но порочить перед властью научную доктрину и тех, кто ее придерживается при помощи бездоказательных обвинений, вызывать философию на суд начальства, вместо того чтобы сойтись с ней в научном споре, — за этим кроется нечто большее, чем просто легкомыслие писаки» (С3 366)[253].
Гегель не мог оставить донос без отповеди. Он защищался от обвинений Шубарта и одновременно от критики других оппонентов.
Тем не менее, несмотря на увесистость оправдательных статей, Гегель сделал вид, будто ни во что не ставит обвинение в антипрусской позиции и мятежности. Хоффмейстер выделяет этот действительно примечательный штрих. Гегель отвергал то, что называл «грязной полемикой», но в итоге некоторые инсинуации остались без ответа.
Куно Фишер удивляется такому обороту дел: «Каким бы жалким и корыстным ни был этот пасквиль, и как бы прочно ни были забыты два имени, связанные с этим гадким делом, мы не хотим, однако, замалчивать тот факт, что вопрос о соотношении гегелевской философии и учения о бессмертии души, столь важный и столь часто обсуждавшийся позже, возник тут впервые в литературе и действительно со стороны Гегеля остался без ответа»[254].
Но если Гегель не ответил, значит, на то у него были причины.
Он не мог в данном случае свободно излагать свое кредо. Если принять во внимание все сказанное и опубликованное, лгать пришлось бы слишком откровенно.
Гегель использовал разные способы, чтобы парировать выпады, в иных случаях более опасные. Однажды на него обрушилась критика прямо с самых верхов, — то был принц королевской крови.
* * *
Затруднительно, между тем, указать на гегелевские предпочтения в тех кругах, с которыми он поддерживал отношения в Берлине. К кому он был особенно привязан?
С одними более или менее близко дружил, другим более или менее определенно симпатизировал.
Естественно, многочисленная группа — те, с кем он волей — неволей сталкивался по работе: начальники, коллеги.
Можно также выделить в отдельную группу тех, с кем он пытался сблизиться из‑за их известности или славы, круга знакомств, дарования: писатели, ученые, художники, артисты, оперные певицы, живописцы и т. д.
Затем люди просто приятные — не вполне понятно, однако, как он мог настолько сблизиться с ними? — те, в чьем обществе ему нравилось поболтать и сыграть в карты: это Генрих Беер, Фредерик Блох (агент судоходной, позже железнодорожной компании). Возможно, какие‑то иные, неведомые нам мотивы, побудили его сойтись с ними и завязать близкую дружбу.
Помимо рабочих или досужих контактов, наиболее серьезные, «идеологические» отношения сложились с людьми сходных с его собственными религиозных или политических взглядов: преследуемые Burschenschaftler’bi, понимающие коллеги (Кузен, Нитхаммер, Мархейнеке, Фёрстер, Хеннинг и др.).
Некоторые знакомства могли относиться одновременно к разным категориям.
И все же среди его берлинских знакомцев один человек особенно выделялся: Эдуард Ганс (1798–1839). Исключение знаменательное и на многое проливающее свет, ибо частые встречи с ним безмятежными быть не могли. Если бы его надо было охарактеризовать с помощью одного слова, этим словом было бы — оппозиционер. Не говорун или провокатор, не восторженный тип, как многие студенты — «ораторы», но сухой, вдумчивый, трезвый и с ответственностью исполняющий ту объективную роль, которую назначили ему место и эпоха. Он слыл «главным любимцем» (der grosse Liebling) у Гегеля[255].
Похоронят Ганса в 1839 г. по — лютерански, слово прощания произнесет его друг — гегельянец, пастор Мархейнеке, и эти похороны станут поводом для огромной либеральной манифестации. Позже комментаторы назовут этого юриста, который наряду с Карове был одним из первых немцев, обратившихся к социализму, разумеется утопическому, Сен — Симона, «правым гегельянцем»!
Особенное отношение Гегеля к Эдуарду Гансу само по себе говорит о подводных течениях гегелевской мысли. Эта дружба, которую он не боялся афишировать, могла кое — кому показаться вызывающей.
Ибо Ганс принадлежал к еврейской семье и, с другой стороны, всегда заявлял себя — иногда очень неосторожно — либералом, демократом и даже, в конце концов, сенсимонистом. Евреи в Пруссии в начале XIX в. оставались вне общественной, политической, университетской жизни и страдали от всех последствий антисемитизма, одновременно официального и бытового. Ганс столкнулся с очень серьезными препятствиями как в начале, так и в продолжении своей университетской карьеры.
Разумеется, в 1825 г. он «обратился» в христианство, что дало ему право доступа в органы управления, но отчасти лишило симпатий «религиозных» евреев, хотя он продолжал бороться за их права. Сам Гейне, столь гибкий в вопросах религии, с трудом простил ему этот дипломатический акт.
Подобное «обращение», удостоверенное юридически и административно, очевидно, не было воспринято всерьез искренними христианами, которые видели в нем, скорее, косвенное свидетельство атеизма или, по меньшей мере, безразличия к религии. Следствием обращения была только большая толерантность в отношении неофита, но не горячий прием.
Такого, чтобы человек сам выбирал религию или атеизм, не допускалось, представления о правах человека игнорировались. Обращенные, отказавшиеся от своей исходной религии, парадоксальным образом продолжали считаться «евреями». Карл Гегель подтверждает в своих «Воспоминаниях», что его отец охотно посещал «еврейские семьи» в Берлине. На самом деле он именует так как семьи евреев, сохранивших иудаизм, так и христианские или атеистические семьи бывших иудеев, куча семейств: Бееры (вместе с Мейербеерами), Блохи, Варнхагены, Гансы и др.
Выступая против антисемитизма на стороне евреев, не будучи сам верующим, Ганс усложнял свое положение тем, что, временами публично, выступал как сен — симонист, политический либерал и конституционалист.
Принимая его в качестве сотрудника, друга и официального помощника в чтении курса, Гегель словно бы нарочно отличал того, кого при минимальной осмотрительности следовало бы избегать. Это правда, что Гансу какое‑то время покровительствовал Гарденберг, поскольку канцлер не забывал, что его отец, банкир, помог ему в свое время советами по части финансов. Но могущество и влияние Гарденберга, долгое время державшего оборону, тихо испарялось.
Читателя сбивают с толку, возможно, неумышленно, — так были сбиты с толку Эрдманн и вслед за ним Хофмейстер — когда без вхождения в тонкости вопроса внушают, что Гегель доверил в 1825 г. преподавание своей философии права Гансу потому, что «высоко ценил профессиональные качества» последнего[256]. Гегель наверняка ценил отменные качества Ганса, но он не был единственным учеником, доказавшим наличие таковых, и Гегель легко мог выбрать кого‑то другого. Объясняет предпочтение именно идеологическое, а точнее, политическое согласие, полное совпадение их взглядов. Во всяком случае, выбирая его, Гегель не мог не знать, что как раз в этом смысле Ганс был вполне expositus. Этот выбор подтверждает адекватность гансовского толкования философии права учителя: ведь именно его позвал Гегель преподавать вместо себя, тем самым подтвердив свое ему доверие. Он всегда покровительствовал Гансу, несмотря на угрожающие предостережения королевского принца, несмотря на призывы к осторожности Шульца и Бекка.
Арнольд Руге сообщает о «королевском» вмешательстве. Однажды Гегель был приглашен на ужин к наследному принцу. «Это скандал, — якобы сказал принц, — видеть, как профессор Ганс превращает всех наших студентов в республиканцев. На эти лекции по Вашей философии права, господин профессор, они приходят во множестве, и всем хорошо известно, что он придает Вашему курсу явно либеральный, и даже республиканский оттенок. Почему бы Вам самому не почитать эти лекции?» (В3 472 и С3 396).
Гегель не заставил себя просить дважды: он отставил Ганса от преподавания философии права и принялся сам обучать студентов в более осторожных выражениях.
XIV. Покровители
Убежден, что без особого покровительства какого‑нибудь князя нигде в пределах Германии я не смогу чувствовать себя в безопасности.
Фихте[237]
Воодушевленный отзывами о высоком профессионализме Гегеля, Альтенштейн позвал его в Берлин, рассчитывая склонить в пользу такого выбора других правительственных чиновников, что отнюдь не само собой разумелось. Альтенштейн был немного философом, поклонником Фихте, прежде чем дал себя совратить гегелевскими идеями, и этим отличался от большинства коллег, в принципе враждебных всякой философии. Разве не из‑за нее случилась Французская революция? Большая часть прусского правительства, за исключением группировки Гарденберг— Альтенштейн, выказала себя ярыми противниками любой формы науки и образования. Когда однажды Альтенштейн предложил запретить детский труд, по крайней мере до десятилетнего возраста, фон Шукманн, министр внутренних дел, возразил ему, что «труд детей на фабриках не так вреден, как стремление молодежи к образованию»[257].
Ныне мы можем сказать, что выбор Альтенштейна был удачным, и что с точки зрения того, что обычно имеют в виду, когда произносят слово «философия», Гегель удовлетворял самым высоким требованиям. История это подтверждает: Альтенштейн оказал доверие одному из самых великих философов, известных миру. Но при этом не обошлось без значительных трудностей, более или менее тесно связанных с университетскими порядками и культурной ситуацией в области философии.
Даже те, кто вместе с Альтенштейном трудились на ниве развития образования и культуры в Пруссии, умеренно симпатизировали делу философии, слывшей занятием, дестабилизирующим государство. А вообще редкие в высоких государственных сферах любители философии совершенно не доверяли ее кантовской составляющей, их отпугивало прочно приклеившееся к этой философии прилагательное «критическая».
Выступления в защиту культуры, хотя бы и без отчетливой религиозной или философской ориентации, уже были подозрительны. Аристократы ополчались в первую очередь на культуру «просвещенную», «иллюминатскую», «якобинскую». Высокопоставленным подданным надлежит больше читать Галлера, а не Фихте или Гегеля! А что касается народных масс, так лучше бы они вообще ничего не читали.
В Берлине Гегелю пришлось испытать недоверие и неприязнь именно как философу еще до того, как ему были предъявлены частные претензии. Одного королевского слова было бы достаточно, чтобы отвести всякие нарекания. Но этого слова не последовало.
Профессор философии, говорит Гегель, это всегда экспонент (Exponent), представитель, нечто похожее на мишень. Он представляет собой определенный способ думать и жить и оттого привлекает к себе всеобщее внимание, внушая всевозможные подозрения, провоцируя разнотолки и клевету (С2 237)[259]. Будучи профессионалом, он демонстрирует зрителям идеологический фасад, скрывающий несущие конструкции, зачастую, впрочем, их обнажая. Если он потакает конформизму окружающих и традиционализму, аудитория утрачивает доверие к его философии и передовая молодежь оставляет его наедине с самим собой. Если он проявляет независимость и критичность, власть запрещает или шельмует его учение.
Абсолютному монарху, такому, как Фридрих Вильгельм III, власть которого фактически ограничивалась только его личной бездарностью, очень нравилось, когда идеологи — Ансильон, Галлер, Савиньи, занимались ее теоретическим нравственным оправданием. Но как только в их речах появлялось что‑то помимо бесстыдного угодничества, они переставали ему нравиться. Он предпочитал, чтобы они не слишком затрудняли себя объяснениями характера его власти — эти объяснения давали повод думать, что власть должна соответствовать неким идеальным требованиям, и вообще может быть предметом обсуждения. Самовластие, сердечный покой и безмолвная и тупая покорность в подданных — вот истинная королевская услада. Подданные не должны задаваться вопросами. Что может быть лучше простодушной наивности: в религии — святой веры, в политике — безусловного доверия и слепой преданности (die Treue).
Защитники у монархии, религии, традиции появляются тогда, когда таковые переживают кризис. Апологии роковым образом оказываются реакцией на обвинения или разлад. Прилюдное обнародование защитительных речей имеет неоднозначные последствия, заставляя глубже осознать трудности. Ради более правдоподобной аргументации адвокатам приходится публиковать какие‑то факты, объясняя их. Часто эти объяснения неловки и неуместны. В лучшем случае им удается показать, что суверен как таковой заслуживает снисхождения, а этого он — ведь последнее слово всегда за ним — никак не может позволить.
Все теодицеи рано или поздно приводят к убийству Бога. От апологий монархии, всегда запаздывающих, никогда не было пользы. Власть, допускающая, чтобы ее защищали, лишается части власти.
Король Пруссии мог только с опаской отнестись к анонсу в 1821 г. «Философии права и государства» Гегеля. Маловероятно, чтобы он хотя бы перелистал произведение, имевшее прямое отношение к его правлению, автора которого он никак не мог заподозрить в том, что его известность вскоре полностью затмит жалкую монархическую славу.
Какой‑то придворный лицемер, явно желая возбудить в нем неприязнь к Гегелю, донес ему, что тот в своей книге оставляет за королем всего лишь право утверждать предложения кабинета министров, ставя точку над i. Ходили слухи, что дуралей встал в позу и ответил: «А если я не поставлю эту точку над i, что будет?», — оставив придворных гадать над смыслом заявления. Так оно, между тем, и было: король, как капризный ребенок, неоднократно отказывался ставить свою подпись под указами.
Не пользуясь доверием властей, Гегель не заручился и благосклонностью коллег, философов и богословов. Он неустанно созидал и укреплял собственную философскую систему, соперничающую с философиями Канта — Фихте, Гердера, Шлейермахера, Якоби, Шеллинга, все это, даже если не брать в расчет традиционные направления христианской мысли, такие как томизм, вольфианство и т. д. Все взгляды, отличные от его собственных, Гегель, одержимый идеей собственной исключительности, отвергал, не сомневаясь в том, что его философия — это философия в полном смысле этого слова. Гегель неустанно низвергал эмпиризм, эклектизм, догматизм, сентиментализм, субъективизм и т. д. Налагая, таким образом, некий запрет на интеллектуальное творчество вообще. Ему хотелось снести все до основания, победно воздвигнув на нем собственную монопольную мысль, нимало не плюралистическую. Но ему сопротивлялись, не давая себя удушить.
К беспощадной борьбе идей прибавлялся конфликт интересов.
Все философы, все интеллектуалы ожесточенно боролись друг с другом за место под солнцем, за должность, назначение или повышение, более высокую зарплату или более широкие авторские права. Тщеславие, зависть, ревность снедали как противников Гегеля, так и его самого, и это, можно сказать, было вполне нормально и закономерно. Он жил в мире конкуренции.
Но как выжить в джунглях современного общества без надежной и постоянной поддержки?
Активная неприязнь берлинского общества по отношению ко вновь прибывшему росла. Поначалу, похоже, его просто не хотели замечать: еще один философ, к тому же до крайности темный, странный и косноязычный. Противники лишь мало — помалу начинали отдавать себе отчет в опасности, которую представлял для них в идеологическом плане этот человек, хотя его общественный вес они, как и он сам, были склонны преувеличивать. Он становился едва ли не популярным, о нем говорили повсеместно, его радостно встречали, его имя упоминали в связи с действиями оппозиционеров…
Ко всем теоретическим и философским тревогам, вызванным преподавательской деятельностью Гегеля, вскоре прибавились подозрения религиозного и политического характера. Его публичная религиозная доктрина и более или менее открыто выражаемые политические взгляды, безусловно, обеспечили ему учеников и завоевали сторонников, зачастую страстных поклонников, даже среди персон, близких к властям. Но сколько могущественных и непримиримых врагов он обрел! Среди них самые высокопоставленные: король, министры внутренних дел и юстиции; они не могли не знать о некоторых его эскападах. Его дипломатичность не всех могла обмануть. В конце концов, Гегель, почти что разоблаченный, подвергся ожесточенным публичным нападкам, очевидно инициированным на самых верхах, Какое‑то время оказываемое ему покровительство отводило от него откровенные поношения. Но оно понемногу увядало, и очень заметно ослабло после кончины Гарденберга (1822). В последние годы его жизни определенно запахло разрывом. Холера или что‑то иное, возможно, избавила его от худшего. Часто полагали, что он умер «вовремя». Ученики разудало попирали мудро установленные границы учения, противники готовились окончательно его сокрушить за профессиональную и нравственную несостоятельность.
Перебирая документы и свидетельства, наблюдатель вполне может увидеть, что Гегель в последние годы отважно и неуклонно шел на этот разрыв, балансируя на грани, часто близкий к тому, чтобы потерять равновесие.
Какое обилие смелых выступлений, рискованных, и даже обреченных на неудачу политико — юридических демаршей! Связи с членами Burschenschaft, дело Кузена, подозрительные визиты, запрещенное чтение, поездка в Париж, проделка на Шпрее: это было слишком!
Если люди, облеченные властью, продолжали ценить пользующееся исключительным престижем гегелевское учение, умело представляемое его автором, то с течением времени их вера в лояльность Гегеля слабела. С известного момента публичная доктрина, даже если ей повезло быть одобренной «ортодоксальными» комментаторами, не могла больше служить покровом эзотерической мысли, наконец понятой и разоблаченной, и потому подвергшейся атакам со всех сторон. Грубые, к счастью, неумелые памфлеты имели целью настроить против Гегеля. При всей вульгарности они были не вовсе бессмысленными, поскольку выявляли нерелигиозные и нонконформистские аспекты гегельянизма.
Бдительным стражам уже давно следовало распознать эти негативные тенденции в публичных выступлениях и писаниях Гегеля: но в идеологическом климате Пруссии начала XIX века осторожные и совершенно безобидные на взгляд читателя века XX высказывания воспринимались как безудержная дерзость.
Не удивительна ли своего рода «неприкасаемость», которой Гегель пользовался в Берлине, особенно в начальный период пребывания в столице?
Конечно, его фрондерство выплывает наружу много позднее, и никто не торопится придавать этим фактам большого значения. Но можно ли представить себе, чтобы о том, о чем публика так долго не подозревала и что со временем становится предметом разнотолков, не проведала полиция и не обеспокоилась? Или она поверила его запирательствам?
Многие из тех подозреваемых и обвиняемых, кого он защищал, совершили менее значительные нарушения полицейских порядков. Приведем только один не заслуживающий серьезного внимания случай, за который полагалось много большее наказание, — получение «наполеоновских» писем от тещи (это послужило причиной заточения Хеннинга в тюрьму) или попытка во что бы то ни стало раздобыть запрещенную «наполеоновскую» литературу, в которой Гегелю помогал тот же Хеннинг.
С чем связаны причины исключительного благорасположения властей к философу? В этой области, как и во многих других, касающихся скрытых мотивов поведения, возможны лишь предположения.
Первой в голову приходит мысль о солидарности с культурным сообществом и обусловленной этой солидарностью слепоте. Гегель по своему официальному положению, благодаря университетскому образованию, научной репутации вхож в лучшие круги общества, будучи парвеню, он сообщается с лицами, более или менее обеспеченными, именитыми по рождению. Естественно, его считают союзником, соратником властей. Трудно себе представить, чтобы «герр профессор» — даже кронпринц будет обращаться к нему именно так — мог оказаться на стороне бунтовщиков, отщепенцев, и прочего сброда, как принято называть оппозиционеров.
Он пользуется теми же преимуществами, которыми по праву наделены представители «хорошего» общества. Таких, как он, уважают — до известной степени — люди богатые, знатные, занимающие высокое положение. Они закрывают глаза на некоторые их шалости, которых не принимают всерьез, а в случае необходимости санкции к не оправдавшим доверие применяют выборочно: с тюрьмами и особыми камерами, пребывание в которых не столь унизительно и тяжело.
Этой снисходительности, наверное, имевшей место, недостаточно для объяснения относительного спокойствия Гегеля, который верил, что в разыгравшихся политических бурях на него упадет лишь «несколько дождевых капель».
Что помогало ему держаться на плаву? Ссылаются на умение философа выходить из трудных положений, на его дипломатичность, предусмотрительность. По возможности он старался не возбуждать подозрений у полиции и судей и достигал этого, не прикладывая особенных стараний, ведь его рассуждения оказывались указанным лицам совершенно не по уму. К тому же сторонники, оправдывая его, всегда могли найти в его произведениях спасительные цитаты, компенсирующие обличительные абзацы.
Дошло до того, что какое‑то время в глазах услужливых или недалеких следователей он выглядел как «обращающий заблудших». Насколько известно все же, ему не удалось «обратить» ни одного из своих протеже, все они оказались в тюрьме, отставке, изгнании.
С течением времени все большие меры предосторожности перестали действовать, и для объяснения его относительной безопасности они недостаточны.
Проницательный наблюдатель сразу после появления Гегеля в Берлине не мог не увидеть в нем того, кем тот был на самом деле: умеренного оппозиционера, по необходимости скрытного, со своими повадками и особой манерой поведения. Реакционные круги его у себя не принимали, незнатное происхождение закрывало ему доступ к ним в дома. Так что как ни раскладывай известные факты, все равно не уйдешь от вопроса, чьей поддержкой он пользовался и в чем состояло оказываемое ему покровительство.
Покровительство могло быть лишь частичным и ограниченным: Гегель не принадлежал к правящей касте уже по рождению. Не он, а его отпрыск, вполне посредственность, Карл фон Гегель (1813–1901), был возведен королем Баварии во дворянство. Чтобы поступить на государственную службу в Пруссии, в любой сфере, включая высшее образование, нужно было обратить на себя внимание какого‑либо высокопоставленного лица и получить от него действенную рекомендацию. Все было милостью вышестоящего лица и зависело от его благосклонности. Конкурса при отборе чиновников не существовало, равно как не было никакой инстанции, которая занималась бы объективной оценкой заслуг, способностей, талантов.
Надо было, чтобы действенная поддержка одной из властных группировок, например, фракции Гарденберга и Альтенштейна, не слишком раздражала противную сторону — «юнкеров» и двор. Вражеская фракция установила за Гегелем слежку и противодействовала его планам и начинаниям. Никакая, впрочем, фракция, ни реакционная, ни либеральная не могли угнаться за ним в политике. Он же должен был быть доволен хотя бы тем, что его покровители вообще терпят его философию и тайные политические связи, и даже прикрывают его.
Он словно играл с властями в кошки — мышки, иногда расстраивая планы и минуя ловушки могущественного и жестокого противника. Но кто кого переигрывал в этой сложной, тайной, лицемерной игре — ответить на этот вопрос трудно.
Получил ли он от властей больше, чем те хотели ему дать? Удавались ли ему его хитрости? Или это власти скрыто доминировали в игре, затеянной ими по праву хозяев?
Вполне очевидно, что при всей своей сдержанности, он предпочел бы большую свободу выражения. Но он был реалистом. Трудная жизнь научила его сохранять голову холодной. Условия для введения либеральных, в самом широком смысле, порядков к тому времени в Пруссии еще не сложились. Он сам говорил: «Нечто необходимо должно стать действительностью, когда все условия налицо…»[260].
Но когда все или почти все условия отсутствуют?
Даже если бы Гегель вовсе не был противником существующих порядков, не делал никаких рискованных шагов и безропотно повиновался, ему все равно нужны были покровители для осуществления его важной официальной функции. Без поддержки философу устоять трудно, об этом говорят примеры Лейбница, Канта, Фихте. Предполагается непременное покровительство некоего придворного лица, а равно, ответная неустанная признательность за благосклонность. К чести Гегеля надо сказать, что он был обязан только тем лицам, которые сами по себе были людьми, достойными уважения, к тому же после его назначения на должность они являлись его официальными начальниками, а не людьми со стороны, пытающимися обеспечить ему какие‑то преимущества. Он пользовался, в каком‑то смысле, всеобщим покровительством именно в связи с интересами государства, а не касты, протежировали именно философу, а не частному лицу. Итак, можно сказать, что это была протекция, которая очевидным образом распространялась не только на Гегеля, а на целую категорию лиц, тем самым обретая вполне определенную, хотя и не во всех деталях осознаваемую, идеологическую окраску.
Гарденберг
Покровители Гегеля располагались на двух разных этажах власти: на одном обеспечивали престиж, на другом — эффективность. Не имея возможности назвать их всех, ни даже с достоверностью определить в качестве покровителей, укажем на некоторых, возможно, главных.
Сначала, на самом верху, канцлер Гарденберг. Если бы прусское правительство возглавлял не он, а какой‑нибудь другой, более реакционный канцлер, не видать бы Гегелю Берлина. Гарденберг гарантировал Пруссии некий умеренный, неявный, двусмысленный либерализм, совершенно — если исключить Саксен — Веймар — для Германии нехарактерный. Король, обязанный Гарденбергу всем, — сохранением короны, могуществом Пруссии, не мог отстранить его от власти ни по моральным соображениям, ни практически, хотя и не во всем одобрял политическую линию своего канцлера, впрочем, довольно изменчивую. Это создало неповторимую ситуацию: Гарденберг, обязавшийся проявлять гибкость и ловкость — качества, которых ему было не занимать — мог не опасаться непрестанно подверженного колебаниям суверена, к тому же не безоглядно доверяющего его политике, которую враги, непомерно преувеличивая, порой даже называли якобинской.
Гарденберг практиковал робкое реформаторство, порождавшее в обществе споры о том, является ли робость врожденной чертой канцлера, следствие ли она его, по- видимому, легкомысленного характера или продиктована внешними обстоятельствами. В своей известной «Записке королю» 1807 года (год публикации «Феноменологии») Гарденберг заведомо осуждал саму идею Реставрации: «демократические принципы в рамках монархического правления, — утверждал он, — такой представляется мне формула, соответствующая духу времени»[261]. Демократия и монархия вперемешку, какая каша! И все же таким образом идея демократии зарождалась в наиболее отчаянных душах. «Демократия», «дух времени» — слова, унаследованные от Французской революции, некоторыми сторонами которой Гарденберг восхищался открыто, — весьма опасный лексикон, который после 1815 г. резал слух прусским князьям, эрцгерцогам, придворным и мелкопоместным дворянам.
Ho Zeitgeist, «дух времени» был одним из главных понятий гегелевской философии истории.
Гарденберг был патриотом и заботился о национальном будущем Пруссии — и шире — Германии. Он разделял опасения Гегеля, изложенные в «Немецкой конституции». Канцлер провел некоторые реформы, как то равенства в налогообложении, свободы предпринимательства, отмены крепостного права, созыва ассамблей нотаблей и т. д.[262] Эти меры были совершенно необходимыми для успокоения недовольного и возмущенного общества. Реформы проводились частично и эпизодически, а потом от них вовсе отказались. Тем не менее Гарденберг временами выказывал примерное политическое мужество и энергию, к примеру, отправив в тюрьму кое — каких строптивых юнкеров и тем навлекши на себя неизбывную ненависть всей касты.
Кавеньяк, возможно, переусердствовал, расхваливая этого «якобинца», но показательна сама возможность подобной похвалы, рисующей образ человека, которого Гегель мог чтить и уважать. Перечисляя разных крупных прусских реформаторов того времени — все заметные фигуры — он пишет: «Гарденберг превосходит их всех широтой ума и тем уровнем, на котором он развивает свои ведущие идеи. Он не только опередил в 1811 г. Штейна и самого Шоена; не только сумел, искусно лавируя, придать прусскому правлению новый политический курс и склонить к нему короля; не только обеспечил доступ к ведению дел единственному человеку, который мог ему наследовать; […] но один с самого начала смог со всей ясностью увидеть, точно и на редкость вдохновенно изложить общие принципы проведения в жизнь того, что он называл восстановлением (regeneration) Прусского государства; и это были те самые принципы, которые провозгласила Французская революция»[263].
Чем бы ни оборачивалось осуществление властных полномочий, нет ничего ни удивительного, ни унизительного для Гегеля в том, что в 1821 г. он преподнес Гарденбергу свою новую «Философию права и государства». Книга представляет собой нечто большее, чем анализ наличной политической реальности, как она на то претендует; она намечает программу, выходящую далеко за рамки этой реальности и, по существу, развивает идеи Гарденберга или, по меньшей мере, трактует проблемы примерно в том духе, который отвечал установкам канцлера.
Насколько известно, королю своей книги Гегель не преподнес, то ли потому, что подобное подношение простого подданного могло быть сочтено неуместным, то ли пожалел лишнего экземпляра какому‑то тупице, то ли — что вероятнее всего — решил, что в прусском правительственном аппарате только Гарденберг с Альтенштейном способны при случае заглянуть в его книгу, оценить в ней некоторые пассажи и — кто знает? — извлечь из них кое- что для себя.
Посвящение, конечно, было хорошо обдуманным и взвешенным: «Мой опыт предполагает попытку понять в существенных чертах очевидное, коего плодами мы пользуемся; я не думаю, что слишком преувеличиваю, если полагаю, что, придерживаясь такого образа действия, ей приличествующего, философия оправдывает покровительство и расположение со стороны государства, которыми она пользуется, и что в своей сфере — в известной мере касающейся интимной природы человека, — философия может стать непосредственной помощницей правительства в его благотворных начинаниях» (С2 213–214).
Это предложение идеологических услуг было выражением вполне заслуженной благодарности. Гарденберг раскрыл над ним спасительный зонтик, защитивший от разверзшихся хлябей реставраторской реакции, это ему, как и стольким другим, обязан Гегель тем, что на него упали лишь несколько капель.
Альтенштейн
Вполне понятно, что Гегель, превознося заслуги правительства в целом, имел в виду ту в нем политическую фракцию, которой отдавал предпочтение, и прежде всего, речь шла о министре, от которого он зависел, министре образования и культов, Альтенштейне.
Протекция доходила до Гегеля, спускаясь, так сказать, по ступеням, через посредство лиц менее высокопоставленных, чем князь Гарденберг. Подчиненные канцлеру министры располагались ниже, оказываясь ближе к скромному профессору философии.
Альтенштейн — наиболее примечательный человек в этом кабинете, ибо, как сказал о нем Меринг: «Неспроста хотел он быть министром общественного образования в знаменитом государстве обязательного всеобщего школьного образования. Его руководство делами школы было, пожалуй, единственной относительно хорошей стороной ущербного правления прусским государством»[264].
Предлагая Гегелю новую модель достаточно умеренной тактики, которая позволяла понемногу продвигаться вперед, Альтенштейн уже заручился доверием и благоволением короля, осуществив пожелания последнего в области, особенно близкой королевскому сердцу: он подготовил объединение протестантских церквей в Пруссии. В порядке вознаграждения за свершенное — хотя на него «очень косо смотрели реакционеры» — он оставался министром в течение двадцати двух лет вплоть до своей смерти, «сделав Берлинский университет великим». Осуществляя, несомненно с молчаливого согласия сторон, некий размен, он, «если и позволил ортодоксии в лице Хенгштенберга утвердиться на теологическом факультете, то все же защитил свободомыслие Шлейермахера от всевозможных нападок»[265]. По существу, с него сталось бы сказать: «Дайте мне Гегеля, и я отдам вам Хенгштенберга».
Кавеньяк так обобщает его относительные успехи в делах университетов: «В итоге, невзирая на непрестанные доносы ортодоксов и помещиков, добившихся к своей радости санкций для профессора Де Ветте[266], несмотря на бдительность навязанных королем кураторов, прусские университеты сохраняли при Альтенштейне свободу научных изысканий, бывшую предметом их гордости»[267].
Свободу, очень относительную, которой Гегель умел так же ловко пользоваться, как Альтенштейн, действуя по взаимному согласию, по договоренности или взаимному умолчанию, а точнее сказать, в рамках согласия идеологического.
Свойственные Гегелю находчивость и такт в действительности проявились и в истории, которую можно назвать «случаем Галлера»: в ней видно, как умел Гегель пользоваться непредвиденными переменами в религиозной, политической и культурной жизни.
В длинном примечании к «Философии права», добавленном, судя по всему, когда работа над изданием уже достаточно продвинулась, Гегель резко ополчается — целой диатрибой — на Луи Галлера, немецко — швейцарского апологета Реставрации, который оказывал преимущественное влияние на формирование мнений прусского двора.
К. Л. фон Галлер (1768–1854) опубликовал после 1816 г. несколько томов своего «Восстановления политических наук» (Restauration des sciences politiques)[268], бывших политической «наукой» Реставрации. Если задаться вопросом поисков философии Реставрации, найти ее можно здесь, где она таковой и представляется, а не у Гегеля. Никто не отказывает Гегелю, по меньшей мере, в конституционализме, а вот Галлер утверждал, что «слово “конституция” — это яд для монархии, трупное слово (Leichenwort!), чреватое разложением и пахнущее смертью»[269], — и это в то время, когда Фридрих Вильгельм III упорно отказывался предоставить гражданам Пруссии обещанную конституцию. Галлер ратовал за Patrimonialstaat в форме, обретшей более отчетливые очертания в политике Фридриха Вильгельма IV. Он поддерживал и развивал, делая это с примечательной резкостью, все классические тезисы реакции и обскурантизма, и был очень почитаем при прусском дворе.
При этом сам Галлер оказался в очень странном, двусмысленном положении. В 1820 г., когда рукопись «Философии права» Гегеля была почти что завершена, но еще до того, как он ее опубликовал (в 1821 г.), по Западной Европе прокатилась сенсационная новость: «великий бернец», Галлер, только что обратился в католицизм. Ему не помешало торжественное признание перед Большим советом Берна себя исповедующим лютеранство! Вскоре он опубликовал знаменитое «Письмо г-на Шарля — Луи де Галлера его семье для объявления оной о возвращении в лоно апостольской католической римской церкви» с предисловием Де Бональда[270]. В письме Галлер признавался, что тайно в душе уже давно был католиком. Скандал в протестантской стране! В Берлине, столице лютеранства, Галлер незамедлительно превратился в человека, утратившего какую бы то ни было публичную поддержку. Теоретик Реставрации разоблачил себя как отступника и лжеца. Уличенный в клятвопреступлении, он был исключен из Большого совета Берна и эмигрировал в Париж, в котором его с энтузиазмом приняли «ультра». Прусские сторонники Галлера вынуждены были умолкнуть, а Гегель спокойно изобличал галлеровскую «тупость», «ненависть к закону», «лицемерие», и вообще, реакционную сущность, не боясь на тот момент никаких репрессий[271].
Очевидно, что если бы Галлер не объявил о своем обращении в католицизм, Гегелю не удалось бы так свободно подвергать критике его политические идеи, которые, впрочем, были с воодушевлением подхвачены Фридрихом Вильгельмом IV сразу по восшествии на престол в 1840 г. и открыто им провозглашены в 1842 г.
Так что Альтенштейну нужно было быть настороже, чтобы вовремя прикрывать дерзкие выпады своего находчивого философа.
Шульце
Ступенькой ниже и еще ближе к Гегелю в качестве его непосредственного начальника в администрации располагался директор департамента Высшего образования, советник Йоханнес Шульце (1786–1869), скоро ставший его самым энергичным и деятельным другом. Уроженец Мекленбурга, горячий патриот, лютеранин (даже сделался пастором), человек «просвещенный», он откликнулся на просьбу Гарденберга, примкнув к движению прусских «реформаторов».
К началу эпохи Реставрации он был чиновником в Ханау и с горечью наблюдал судорожные старания суверена Гессе — Касселя восстановить прежние порядки в учреждениях и реставрировать нравы. Уязвленный, он отправился тогда в Берлин, где, как он полагал, открывались другие перспективы.
Очевидно, что он был не революционером в «якобинском» смысле слова, но реформатором, трудно сказать, насколько радикальным. За ним тянулось, как и за Гегелем, беспокойное прошлое. В юности друг Сойме (Seume), несчастного писателя, жертвы княжеской торговли солдатами; Рюккерта, автора «Сонетов в латах»; Синклера, революционера, с которым был близок молодой Гегель. Он также был поклонником Гейзенау, отважного генерала, вдохновителя народной армии.
Шульце был франкмасоном и развернул внутри организации кипучую деятельность: его карикатурно масонские повадки вызвали неудовольствие Гёте, тоже масона[272]. В свое время Шульце симпатизировал Наполеону, так как ему, хотя и протестанту, покровительствовал архиепископмасон Карл фон Дальберг, которого Наполеон назначил примасом Рейнской конфедерации. В 1808 г. по его настоянию Талейран посетил Веймарскую библиотеку. Именно Гарденберг, познакомившись с ним в 1817 г., рекомендовал его Альтенштейну, последний незамедлительно ввел Шульце в прусскую администрацию в качестве директора департамента Высшего образования.
Про Шульце известно, что он поставил подпись под «Обращением к королю» с требованием конституции, подготовленным Герресом. Несколько раз он навлекал на себя подозрения прусских властей, но все же ему удалось удержаться на своем месте. Шульце завязал дружбу с Гегелем, чьи лекции слушал, он покровительствовал гегельянцам в прусских университетах и принял участие в посмертном издании «Сочинений» философа, взяв на себя публикацию «Феноменологии духа» (1832).
Это был классический тип патриота, человека бескорыстного, либерала в душе и прагматика в действиях, который, отправляя должность прусского чиновника, чиновника высокопоставленного, стремился по мере возможности изменить ход дел.
Со временем он сам подпал под подозрения. Положение Шульце становилось все более шатким, его влияние сокращалось.
Есть что‑то в высшей степени символическое в том, что только Шульце и госпожа Гегель были при философе в последние минуты его жизни.
Гегеля часто упрекали за непомерные хвалы бюрократии, переоценку роли государственных служащих. Но как по- другому он мог воздать бюрократии за то, что от нее получил?
Со своей стороны, король не мог отказать бюрократам в известных доверии и поддержке: благодаря им государство, худо ли, хорошо ли, функционировало, Пруссия богатела, могущество ее увеличивалось, рос престиж. Благодаря бюрократии король превращался в образцового немецкого правителя. Он щеголял в нарядах, сшитых из ее заслуг. Чиновники неизбежно трудились для него, но в то же время и для государства.
Слово «бюрократия» звучит не очень приятно, особенно для французского уха. Но бывают бюрократия и бюрократия. Какими бы ни были изъяны бюрократии, она спасла Пруссию. Гегель это понял и, испытав удовлетворение, зафиксировал.
«Гегель, — насмешливо писал Анри Се в своих “Заметках к философии истории Гегеля”, — видел спасение лишь в бюрократии на прусский манер»[273]. Чему тут удивляться? Задним числом понимаешь, что Пруссии больше негде было его искать: ни у разлагающейся и отсталой феодальной верхушки, ни у отжившей и глупой монархии, ни у только нарождающейся и еще слабой буржуазии, ни у Burschenschaft, студенческого движения, разношерстного, ограниченного, краткосрочного и взбалмошного; и также не у правительства, внутри разобщенного и теснимого другими ветвями власти.
Но именно благодаря этой слабости и раздорам бюрократия обрела на краткое время исключительную силу. Столкновение разнородных течений, без исключения слабых, во многом объясняет относительную независимость прусского государственного аппарата. В тот период (1815–1840) в Пруссии наблюдалось некое равновесие столкнувшихся классов.
В итоге мир чиновничества завоевал довольно прочную автономию. Государственные служащие, патриоты, они, не всегда это осознавая, противились общей тенденции и частным демаршам королевской власти, настроениям агонизирующей феодальной верхушки. Лучшие из немцев сошлись для участия в деле консолидации и модернизации Пруссии, одновременно, будучи людьми даровитыми, они обретали на государственной службе пространство для достойного действия.
Знающие люди высоко оценивают заслуги этой «замечательной прусской бюрократии»[274]. Деятельные, умные, увлеченные, они неизбежно склонялись в целом, хотя были и исключения, к своеобразному либерализму, несвободному от приступов радикализма и порой, конечно же, слабости.
Правда состоит в том, что Гегель «видел спасение как раз в бюрократии на прусский манер». Определив свою позицию, он отказывается искать защиты у короля, двора, знати, собственно, правительства.
Вполне вероятно, что, размышляя о таких, как Шульце — но не только о нем — Гегель утвердился в своем высоком мнении о немецком чиновнике и государственном муже, которое, впрочем, могло сложиться прежде того, а именно, когда он наблюдал за деятельностью Синклера, Нитхаммера и других. Перед его глазами были также примеры высших чиновников Наполеона.
Высокопоставленные друзья Гегеля вместе характеризуются очень точно: осторожные прогрессисты. Не замечено, чтобы он был осчастливлен дружбой или поддержкой князей, «придворной клики», идеологов абсолютизма и феодализма.
Тем не менее обычно отмечают двойственный, изменчивый, случайный характер оказываемых ему протекций или их практических результатов. Несомненно, его призвали в Берлин и оказывали ему в нем поддержку вплоть до самой смерти. Но, в конце концов, в то время он уже был тем, кого все знали, великим Гегелем, с которым, какое бы окончательное суждение о значении его творчества ни выносилось, никто из современников по критериям того времени в философии сравниться не мог.
Наградил же его король, скрепя сердце, орденом Красного орла в январе 1831 г. Вот уж вовремя!
И все же ограниченность покровительства вырисовывается ясно. Власти отказались официально поддерживать основанные им, правда, в компрометирующей компании Ганса, «Анналы научной критики». Ему не удалось стать членом Берлинской академии! Публикация его последней статьи была прервана по специальному предписанию короля…
Часто он действовал на свой страх и риск. Воздадим ему должное: как бы ни было удачно стечение обстоятельств, все равно отваги ему было не занимать.
XV. Вовлеченность
И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! Запрети ученикам Твоим.
Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что, если они умолкнут, то камни возопиют.
Евангелие от Луки, 19:39–40 (D 362)[251]
Разумеется, общее направление гегелевской мысли выявляется, прежде всего, в публичных выступлениях и напечатанных трудах — они основа любого истолкования Гегеля. Но когда становятся известными слова, сказанные украдкой, и дела, сотворенные в тайне, без уточнений, нюансов, оттенков не обойтись.
Среди утаенных дел и поступков, список которых становится все длиннее, выделяется заступничество Гегеля за членов Burschenschaft, Burschenschaftler’ы или, сокращенно, буршей (Burschen), преследовавшихся прусскими властями в 1810–1840 гг.
Тесное общение с буршами имело различную подоплеку, и не так легко разобраться с истинными причинами поведения Гегеля. Тем не менее, вопреки расхожим суждениям, существуют неоспоримые факты, из которых следует исходить. Они подтверждены документами, главным образом, полицейскими донесениями, юридическими актами. С документами такого рода нужно уметь работать, здесь требуется опытный глаз. Тот, кто не подвергался допросу, плохо представляет себе, что это такое. Самый наивный полицейский никогда не поверит в то, что способны принять за чистую монету историки. Каждый должен заниматься своим делом!
Первое замечание. В Берлине Гегель то и дело жалуется на беспокойную жизнь, говоря друзьям, что всему предпочитает покой. Так вот, ему было бы совсем нетрудно не вмешиваться в дела Burschenschaft и «демагогов», держась от них подальше, как это делали его коллеги. Нужно было только закрыть глаза, заткнуть уши и безмолвствовать, когда речь заходила об этом опасном движении. А если бы даже его о них спросили, возможностей уйти от ответа было немало. Из всех берлинских профессоров и всех именитых людей города Гегель единственный так живо и с таким постоянством интересовался делами преследуемых.
Когда Кузена задержат в Саксонии и позже, в Пруссии, арестуют, власти спросят Шеллинга, что он о нем думает, и получат довольно бесцветный, ни к чему не обязывающий отзыв. В то время как Гегель по собственной инициативе вмешивается в дело, самим фактом непрошенного вмешательства подвергая себя опасности. Он интересуется «буршами», «демагогами», либералами разных мастей, вместо того чтобы, оберегая покой, употребить свое время на что‑нибудь более приятное. Бесконечные полицейские и судебные дела, в которые он сует свой нос, отнимают у него энергию. Измученный, он мог бы умыть руки и позволить возопить камням. Но он, напротив, хлопочет и вмешивается.
Чем объяснить такое поведение? Возможны три гипотезы: или он, верно служа прусской монархии, вероломно действовал в ущерб тем, кого по видимости защищал; или вел своего рода двойную игру с властью и оппозицией; или в душе был на стороне этой либеральной и конституционалистской оппозиции, тактически поступая так, как ему больше нравилось.
Чаще всего поддерживается тезис, который выдвинул Розенкранц, употребив одно двусмысленное выражение, односторонне понятое большинством читателей. Согласно ему, Гегель якобы был Demagogenbekehrer, «миссионе — ром[276] среди демагогов» (R 338). Такая оценка пересекается с некоторыми заявлениями Альтенштейна, в свою очередь, неоднозначными: если кого‑либо называют в Берлине другом правительства, то надо еще уточнить, какого правительства, или, скорее, какой фракции в правительстве он друг — Гарденберга или Виттгенштейна? Друг одного, тем самым враг другого.
Для многих не задумывающихся читателей Розенкранца Demagogenbekehrer означает, что если полиция и правосудие стремились силой раздавить оппозицию и принудить ее к повиновению, то Гегель, со своей стороны, пытался разоружить их идеологически, с помощью пропаганды и убеждения исцелить от «демагогии», сделав верными подданными Его Величества. Одни лишают дееспособности, другой взывает к покаянию. Конечно, добровольному принятию на себя Гегелем столь выгодной для власти миссии власть была бы неслыханно рада. И уж нашла бы способ отблагодарить услужливого помощника.
Нужно, однако, ясно понимать, что Розенкранц, публикуя свою «Жизнь Гегеля» в 1844 г., в то время, когда слепота окружающих, политическая реакция, насилие, полицейские и судебные репрессии достигли своего пика, не мог признать, даже если бы хотел, что в 20–х годах Гегель исподволь кое в чем сочувствовал «демагогам».
В 1844 г. Розенкранц был не свободнее, чем Гегель в 1824 или 1830 г. Кроме того, у него, судя по всему, не было психологического опыта, знаний в области политики, сравнимых с гегелевскими, и, следовательно, он был не в состоянии вообразить его чувства и понять, чем тот руководствовался. Читатель вступает на зыбкую почву. Уже само слово «демагог», употреблявшееся консерваторами в уничижительном смысле, чтобы заклеймить всех, кто желал большей свободы, не лишено двусмысленности. Как это произошло со словом «импрессионизм», которое могло быть высокомерно присвоено себе теми, кому презрительно адресовалось.
Противники либералов, Demagogenriecher, ищейки, повсюду вынюхивающие демагогов, «охотники за ведьмами», напичканные обскурантистским бредом, у них есть доступ к власти. Сколько бы ни было у Гегеля подлинных или мнимых колебаний, противоречий, покаяний, нет никакого сомнения в том, что ни явно, в своем обнародованном учении, ни неявно или, тем более, тайно, он не на их стороне. Более или менее твердо, в зависимости от времени и обстоятельств, он выступает на стороне конституционалистов, либералов, и значит — опасливо и с оговорками — на стороне Burschenschaft. Не мог тот Гегель, каким его знают, симпатизировать прусским помещикам, «юнкерам», — цензура зачеркнет это слово в его последней статье, ибо достаточно упомянуть его, чтобы возбудить народную ненависть.
Одновременно он не мог перечислять без раздражения — как мы, хотя и задним числом, — ошибки, непоследовательные действия, оплошности Burschenschaft, их тупой национализм, смехотворный архаизм, антисемитизм, франкофобию; временами ему не удавалось удержаться от того, чтобы не одернуть буршей, попытаться просветить их: он был «миссионером», пытавшимся навязать студентам собственное видение немецких дел, обращавшим их в собственную веру, но никак не в монархическую «веру» прусского двора. Заблуждения Burschenschaft никак не могли заставить его забыть или недооценивать неискоренимой порочности феодальных порядков и поддерживавшего их абсолютизма.
Любимые занятия не поглощали Гегеля без остатка. Он вмешался в политическую жизнь Пруссии, насколько ему позволяли темперамент, простонародное происхождение, положение чиновника, собственные убеждения. Он не принял жизненной установки Декарта: «…скитаться по свету, стараясь быть более зрителем, чем действующим лицом, во всех разыгрывавшихся передо мною комедиях», — его поведенческой максимы, которой, по правде говоря, и сам Декарт не всегда оставался верен.
Не будучи ни героем, ни революционером, ни оппозиционным трибуном, он дошел в своем поведении до пределов, за которыми его ждал окончательный и катастрофический разрыв с существующими нормами гражданской жизни. Других возможностей не было, и никто в Берлине вплоть до 1840 г. — приблизительной даты принятия эстафеты «младогегельянцами» в радикально изменившихся обстоятельствах — не был более решителен.
Реальные схватки Гегеля с жизнью нам известны только в пределах доступной документации, главным образом, той, которая оформлялась полицейскими и судьями. С одной стороны, число этих документов ограничено и поиски продолжаются. Все время обнаруживается что‑то новое. С другой стороны, эти источники тенденциозны и должны использоваться осмотрительно и с осторожностью. Можно предположить, что о многих сторонах жизни Гегеля в Берлине мы никогда ничего не узнаем.
Но и знаем мы не так мало. Знакомство с потаенной или, по крайней мере, непубличной жизнью философа долгое время было возможно благодаря примечаниям, добавленным Хоффмейстером в 1952–1960 гг. к его изданию «Переписки» Гегеля после инвентаризации — по- видимому, слишком быстрой и поверхностной — архивов прусской полиции. Удивительно и очень значимо уже то, что в документах столь часто встречается имя Гегеля, единственного из всех берлинских философов удостоившегося такой чести.
Полицейские и судебные акты тех времен, призванные подтвердить подозрения и обосновать приговор, в наше время предоставляют возможность узнать и оправдать. Однако их интерпретация Хоффмейстером представляется несколько странной и спорной.
Многочисленные и разнообразные выступления Гегеля, известные нам благодаря Хоффмейстеру, оцениваются им как оправданные и похвальные лишь потому, что те, за кого он заступался, были, на взгляд Хоффмейстера, «невинными жертвами». Одновременно, не замечая противоречия, он полагает, что эти демарши имели целью отвратить обвиняемых от их политических убеждений, излечить от «демагогии», за которую те подверглись преследованию. Если они были невиновны, полицейские, задерживая их, совершали непростительную ошибку вкупе с неправедным в данном случае правосудием — к такому выводу подводит весь ход рассуждений Хоффмейстера. Но маловероятно, чтобы полиция могла так часто «ошибаться».
Все эти преследуемые на взгляд министров внутренних дел и юстиции вовсе не были «невинными», их подручные чиновники на этот счет получали вполне четкие указания. Полицейские и судьи не ошибались, разве что в редких случаях при определении степени «неблагонадежности» (die schlechte Gesinnung), зараженности либерализмом, а с определенного временного периода — сен — симонизмом, пресекая «политические контакты» с оппозиционерами. Действительно повинные во всех этих преступлениях, «демагоги» заслуженно осуждались и наказывались. Очевидно, что для какого‑нибудь другого правосудия, правосудия будущего, они, скорее, благородные и доблестные провидцы, а их преследователи — опозорившая себя юстиция.
Как однажды заметил Гегель: «[…] каждый лагерь утверждает, что право на его стороне, и в самом деле, мы имеем дело именно с противоречащими друг другу правами»[277].
Однако репрессии превысили пределы, до которых могли считаться оправданными. К тому же направлены они были против людей слабых, довольно безобидных и неопасных для власти, в каком‑то исступлении принимавшей меры подавления, явно не соответствовавшие совершенным правонарушениям. Причиной всему был страх. Более или менее смутно власть уже ощущала вынесение приговора той инстанцией, которую Гегель называл «великим правом истории». Именно ее и хотелось властям подвергнуть аресту: власть дошла до того, что запретила термин «протестант», как подстрекающий к протесту, вымарала слово «перемены» (Veränderung) из «Лекций» Гегеля, объявила вне закона представление о «прогрессе»…
Гегель симпатизировал либералам, солидаризуясь с ними, по меньшей мере, договаривался с этими «демагогами». Не будь это так, он никогда бы не заметил, что над Берлином «каждый год собирается новая гроза», а не моросит полезный людям и растениям благотворный дождик.
Безраздельная власть короля, высокомерие знати, высшего чиновничества, правящая идеология, религиозная и политическая, не встречали широкого, подлинно народного сопротивления или неприятия, за редкими исключениями на местах.
Либеральное или просто конституционалистское движение не находило отклика у населения Пруссии, в частности, в крестьянских массах, объединяя почти исключительно старых бойцов, сражавшихся за национальное освобождение Пруссии, возмущенных клятвопреступлением короля, и студентов, обманутых в своих национальных немецких и конституционалистских чаяниях.
Практически это движение воплотилось, прежде всего, в студенческих объединениях под общим названием Burschenschaft. Только они вели реальную борьбу с абсолютистской монархией и остатками феодализма, но борьбу бестолковую и неэффективную. Полиция и королевское правосудие в Пруссии навесили на всех своих противников, более или менее ясно заявивших о несогласии, уничижительный ярлык, обозвав их «демагогами», и именно Burschenschaft был главным поставщиком этих «демагогов».
Если власть показывала себя несостоятельной и глубоко порочной, то надо признать, что «либералы», «демагоги», Burschenschaftler’bi также допускали по молодости и неопытности серьезные просчеты, были идейно и организационно разобщены. Они действовали по наитию, без заранее подготовленной программы, непоследовательно и разрозненно.
Фактором, сообщавшим движению, вопреки всему, слабую согласованность, было то самое патриотическое чувство немцев, которое Гегель ностальгически описал в своем эссе 1798 года о Немецкой конституции. Все эти молодые немцы, а вместе с ними иные, не столь молодые, мечтали о восстановленном немецком единстве, об упразднении мелких политических образований в едином либеральном государстве (конституция, конституционная монархия), образец которого предложила революционная Франция.
Власть, чей характер обретал все более четкие очертания, в союзе с дворами и тираниями всех мелких немецких государств собирала полицейские и идеологические силы для противостояния спровоцированной ею же враждебной реакции.
Хороший наблюдатель, Фридрих фон Гагерн точно характеризует эту политику немецких дворов, включая берлинский: «Одна мысль неотступно преследует князей как наваждение: это страх перед тем, что немцы однажды могут вспомнить, что у них когда‑то была родина. Все усилия дворов направлены на то, чтобы стереть последние следы этой общности; цель всех предпринимаемых ими мер — отделиться, сделать немцев иностранцами друг для друга, взрастить провинциальный эгоизм»[278].
В те времена молодые немцы, и в первую очередь студенты, возглашали: «Да здравствует Германия!», — и этот лозунг был не по душе королю, князьям, эрцгерцогам и епископам.
Естественно, что национальное немецкое чувство нигде не могло воспламениться так легко, как в Берлине, большом прусском городе, который уже виделся как столица объединенной Германии, и именно здесь монархия наиболее решительно препятствовала проявлениям этого чувства.
Историк европейских наций, Жорж Вайль, хорошо описывает эту противоречивую ситуацию. Упоминая настроения патриотов, он объясняет: «Им были обещаны конституции, ибо движение 1813 г. было настолько же либеральным, насколько и национальным. Великий герцог Веймар — Саксонии, друг Гёте, первым сдержал слово. Но все либералы Германии с нетерпением ждали решения Пруссии. Канцлер Гарденберг, действительно, долгие годы мечтал о национальном представительстве и на Венском конгрессе предложил Фридриху Вильгельму ввести его в день торжественного въезда в Берлин. Он еще усилил давление после возвращения Наполеона с Эльбы, добившись от короля эдикта от 22 мая 1815 г., в котором Фридрих Вильгельм, наконец, обещал даровать “прусской нации” конституцию посредством “письменного акта”. Опубликованный через несколько дней после Ватерлоо, эдикт 1815 г. пробудил большие надежды, но месяцы шли, а конституция все заставляла себя ждать. Глухая упорная борьба продолжалась в окружении Фридриха Вильгельма между все еще влиятельным канцлером и не доверявшей „якобинцу” абсолютистской партией […] Монарх, отложив конституцию, временно ограничился созданием государственного совета»[279].
Невостребованный патриотизм, представленный почти исключительно студенчеством, социальной категорией разношерстной и непостоянной, легко сползал в ограниченный национализм, ксенофобию — особенно галлофобию, и главным образом, в антисемитизм. В нем часто воскресали замшелые предрассудки, застарелая злоба и отжившие привычки.
У многих Burschenschaftler’ы к благородному либеральному порыву своеобычным, но досадным образом примешивались ксенофобия, злобный антисемитизм. Многие из них тосковали по средневековью, карикатурно наряжались «древними германцами», и это делало их движение более похожим на студенческие забавы, чем на серьезное политическое движение. Они с завидной регулярностью дрались на дуэлях, воспринимая таковые как очистительный обряд.
Задним числом очень трудно объективно разобраться в этом винегрете. В целом представляется, что движение было, скорее, реформаторским, либеральным и прогрессистским, при этом парадоксально оттененным реакционностью и мракобесным скудоумием, из‑за чего некоторые масштабные умы, например, поэт Генрих Гейне, резко иронически относились к нему. Чего только не было намешано в этом Burschenschaft. В интеллектуальном и политическом отношении Гегеля привлекало в нем многое, но другие стороны движения несомненно были отталкивающими.
Будучи многообразным, Burschenschaft являло себя наиболее современно и радикально в Йенском и Гессенском университетах. Оно не случайно было основано в Йене, самом «прогрессистском» герцогстве. Затем распространилось по всей Германии, и процветающий Берлинский университет открывал перед ним большие возможности.
В условиях, которыми обуславливали его существование разные правительства, оно вынужденно принимало подпольные формы. «Связи» буршей должны были оставаться тайными, и именно эти «политические связи» — признак подрывной деятельности — старались выявить и оборвать, арестовывая участников, полиции разных немецких государств.
Поэтому очень скоро Burschenschaft перешел к публичным политическим акциям, которые могут показаться нам относительно безобидными, но в условиях того времени они оценивались как вызывающие, производили мобилизующее действие и были расценены властями как провокационные.
Так, 18 октября 1817 г. состоялась главная из них, знаменитое Вартбургское празднество. Оно состоялось по призыву Роберта Вессельхёффта, сделанному от имени Иенского Burschenschaft. Конечно, прошло десять лет с тех пор, как Гегель покинул Йену, но он не мог забыть ни теплого отношения к нему семейства Вессельхёффт, ни того, что папаша Вессельхёффт был другом и компаньоном Фромманна, с которым он переписывался в основном по поводу своего пасынка Луи. Ведь Луи был доверен заботам сестер Вессельхеффт, свояченицам г — жи Фромманн, как раз вплоть до 1817 г., когда мальчика забрали в отцовский дом в Гейдельберге.
Можно даже задаться вопросом, а не существует ли связь между причастностью Вессельхеффтов и Фромманнов к манифестациям Burschenschaft в Йене и переездом маленького Гегеля.
Итак, 18 октября 1817 г. в Вартбурге, месте, особо значимом в лютеранской традиции, собралось большое число студентов из протестантских университетов Германии, и они устроили манифестацию, свидетельствующую религиозные и фонтанирующие национальные чувства, но равно неожиданную вспышку патриотизма, свободолюбия и симпатий к конституционному строю. Манифестация очевидно была направлена против ретроградных монархий, особенно берлинской, нарушения данных обещаний, политической и культурной реакции.
Студенты и немногие присоединившиеся к ним профессора произнесли зажигательные речи. Среди них Карове!
Разные, очень неоднозначные события способствовали нарастанию у властей страха перед Burschenschaft, и это говорило об относительной эффективности союза. Организация, будучи очень слабой, решилась — чтобы доказать, что она реальная сила — на проведение индивидуальных актов терроризма, исполнителями которых были самые убежденные и отважные, но вовсе не самые умные и трезвые ее сторонники. Впрочем, индивидуальный терроризм больше соответствовал индивидуалистическому, идеалистическому и религиозному порыву, нежели трудноосуществимая массовая акция.
23 марта 1819 г. студент богословского факультета Йенского университета Карл Занд, близкий друг Карла Фоллена и Вессельхеффта, убил, нанеся множество ударов кинжалом, драматурга и публициста Августа фон Коцебу, царского агента в Германии и ярого противника либерального движения. Это преступление, совершенное Burschenschaftler’oM, несколько экзальтированным протестантом, вызвало всеобщее осуждение даже среди тех, кто, как Гегель, презирал Коцебу и был исполнен к нему отвращения. Была дружно осуждена тактика и преступный характер акции, но вовсе не враждебность по отношению к Коцебу.
Акт был столь же неуместен политически, сколь предосудителен морально. Он нимало не послужил делу либерализма, зато с удовлетворением был воспринят Меттернихом и реакционерами, которые получили давно искомый повод для усиления репрессивных мер против либерального движения. Эти меры становились все более жесткими и беззаконными. Карл Занд был судим и обезглавлен 5 мая 1820 г.
В целом, оставаясь очень умеренными в том, что касается политических целей, некоторые бурши были жестоки и неразборчивы в выборе средств. Требования этого движения сводились к незначительным переменам в политической и социальной системе, бурши удовольствовались бы кое — какими безобидными показными мерами, несколькими добрыми словами, которые тогдашние исполненные спеси сильные мира сего бросили бы им как кость собаке, — но они этого не сделали, настолько были уверены в своей неуязвимости. Их чаяния осуществились бы сполна, если бы король просто выполнил обещание, данное в 1815 г.: даровал написанную и обнародованную конституцию, сколь угодно иллюзорную и умеренную.
Кроме выступлений Burschenschaft и каких‑то либералов — одиночек, никакого политического движения в Пруссии не наблюдалось.
Не осталось республиканцев за вычетом нескольких лиц, когда‑то вполне разделявших идеалы Французской революции, а теперь разочарованных и отчаявшихся, предававшихся в горестной тиши сладким воспоминаниям.
Социалистов еще не было. Первые ростки социализма в современном смысле термина пробиваются только после смерти Гегеля, вслед за появлением во Франции того, что получило название «утопического социализма». Во всяком случае, сен — симонистские формулировки у Гегеля встречаются только в самом конце жизни, его ученики, «младогегельянцы» (например, Карове и Ганс), первыми станут пропагандировать сен — симонизм и созидать немецкий социализм.
Глупо упрекать Гегеля как в том, что он не был республиканцем, так и в том, что он не был социалистом: и та, и другая позиция были невозможны при тогдашнем раскладе.
Устройство Пруссии не оставляло места для легальной политической оппозиции, в отличие от того, что до известных пределов допускалось во Франции и в Англии. Никто в Берлине не мог открыто признаться в том, что он атеист, агностик, пантеист, республиканец или демократ, не подвергшись после признания самым суровым репрессиям. Должно было быть или выглядеть протестантом. Католиков терпели ради Священного союза, терпели даже евреев, если они подавали надежды на обращение, настоящее или показное. Но безбожники…
Затеи и выходки Burschenschaft заслуживают, таким образом, — принимая во внимание трудные условия, в которых оно вело борьбу, — более взвешенной оценки.
Можно обсуждать конституцию, формы принятия и провозглашения таковой с одним непременным предварительным условием о непререкаемом соблюдении норм политической жизни. К несчастью, это противоречило представлениям любимого теоретика короля, кронпринца и двора — Галлера.
Не было к тому времени профессора политической философии и права, столь методично мыслящего и с такими серьезными притязаниями на систематичность, который был бы так далек от Гегеля. Некоторые профессора, очень немногие, претендовали на звание теоретиков, но их претензии исчерпывались декларациями, в которых отсутствовала системность и продуманная аргументация, — таков был склонный к антисемитизму Фрис.
В этой, как и в других сферах публичной политики, не следовало ждать от Гегеля одного раз и навсегда сформировавшегося отношения, какой‑то твердой неизменной позиции по всем вопросам, единственной и неуклонной линии поведения. Те, с кем он имел дело, например, бурши тем более не отличались постоянством. Поэтому принципиально важно выявить у Гегеля общую направленность, предпочтительную склонность, которая, однако, допускала бы неопределенность, коррекцию, переоценку, эпизодическое сожаление.
Для профессоров общая ситуация и отдельные конкретные события не составляли никакой тайны. Они лично знали главных действующих лиц, — как студентов, так и правителей. Их участия в стычках и полемике требовали, и притом весьма настоятельно, обе стороны.
Большинству хотелось выказать лояльность властям, но было не вполне понятно кому — правительство само разделилось. Все пребывали в раздумьях, никто не хотел рисковать. Кое‑кто из преподавателей, очень немногие, шумно поддержали Burschenschaft, приняв участие в Вартбургском празднестве и в различных студенческих манифестациях, — среди них Фрис и Окен, — сделав это подчеркнуто демонстративно, «широковещательно», как сказали бы теперь, восстановив против себя большинство коллег. При этом распространяемые, например, Фрисом идеи антисемитизма и галлофобии, оказывали весьма вредное общественное влияние.
Де Ветте (1780–1849), профессор в Йене, позже — в Гейдельберге и Берлине, отправил матери Занда письмо, в котором пытался оправдать убийство Коцебу. Письмо опубликовали — разразился скандал. Де Ветте был смещен специальным указом короля, несмотря на то что университет высказался против отставки. Несколько профессоров тайно обеспечили Де Ветте ежегодное пособие с помощью взносов. Каждый делал взнос сообразно доходам: Линк — 30 талеров, Шлейермахер — 50, Гегель — 25 и т. д. Правительство так и не узнало об этой кассе взаимопомощи[280].
О позиции Гегеля ходили разные мнения, часто очень противоречивые, возможно, из‑за ее двойственности, кое — каких неясностей, но также — и в первую очередь — из‑за различий в умонастроении и точках зрения тех, кто ее истолковывал.
Проект юридического и политического устройства, представленный в «Философии права», по сути очень умеренный, в нем есть консервативные стороны, а временами даже складывается впечатление, что допускаются кое- какие уступки феодальным требованиям. Как правило, на деталях политической теории Гегеля исследователи долго не задерживаются. Некоторые из этих деталей спорны, выглядят отступлением не только в сравнении с нашими нынешними представлениями, но и по отношению к политическим тезисам, которые будут обсуждаться в Германии сразу после смерти философа.
Всему, однако, свое время. Необходимо заметить, что в 1821 г., когда вышла «Философия права», ни одна из хоть сколько‑нибудь заметных теорий, не была более либеральной, чем теория Гегеля, и выступавшие против Ансильон, Галлер, Савиньи выказывали куда больший консерватизм.
По крайней мере очевидно одно: объявляя себя сторонником конституционной монархии, какие бы оговорки при этом ни делались, Гегель разделял глубокое желание Гарденберга, которое последний не всегда мог выражать свободно, и присоединялся к главному требованию Burschenschaft и «демагогов», требованию введения конституции и единства Германии.
Понять поведение Гегеля или, по меньшей мере, попытаться его понять, можно лишь в рамках — пусть даже намеченной в общих чертах — картины политической жизни в Пруссии, поскольку это поведение теснейшим образом связано с ней, и связи эти весьма сложны.
Каждый год новая буря
Мы можем выделить несколько значимых событий из числа очевидным образом отозвавшихся на жизни Гегеля. Напоминая о них, мы пытаемся воскресить политическую атмосферу времени: атмосферу подозрительности, пода — вления прав и свобод, репрессий, манифестаций, покушений. Рассказывать о жизни Гегеля, не воспроизведя этот контекст, по меньшей мере, неразумно.
18 октября 1817 г. Крупная манифестация в Вартбурге, организованная Вессельхеффтом. Карове, наряду с прочими, произносит речь.
11 августа 1818 г. Дело Фридриха Фёрстера передано в Военный совет и он отстранен от должности. Это он произнесет речь на могиле Гегеля в 1831 г.
22 октября 1818 г. Первый курс лекций Гегеля в Берлинском университете.
2 марта 1819 г. Убийство Коцебу Зандом.
2 мая 1819 г. Праздник в Пишельсберге с участи ем Гегеля, во время которого Фёрстер провозглашает: «Мы поднимем бокалы не за здоровье Занда, но за то, чтобы зло пало не под ударами кинжала!»[281].
Осень 1819 г. Выход книги Карове: «Об убийстве Коцебу» (Веймар, 1819). В ней Карове неявно выражает точку зрения Гегеля. Его начинают преследовать.
8 апреля 1819 г. Арест Густава Асверуса.
1 июля 1819 г. Неудавшееся покушение Ленинга на президента Ибелля.
8 июля 1919 г. Арест Леопольда фон Хеннинга.
14 июля 1819 г. Арест Карла Ульриха и Давида Уль риха.
Конец 1819 г. Письмо Де Ветте матери Занда. Скан дал. Отставка Де Ветте. Его коллеги тайно организуют сбор пожертвований, в котором великодушно участвует Гегель.
Ноябрь 1819 г. Начало расследования дела Карове.
14 февраля 1820 г. Убийство герцога де Берри в Париже.
5 мая 1820 г. После попытки самоубийства Занд приговорен к смерти и обезглавлен.
1820 г. Конгресс в Карлсбаде. Европейские суверены ужесточают репрессивные меры.
Июнь 1820 г. Король запрещает преподавание «атеистической» философии Окена.
Начало 1823 г. Ульрих восстановлен в должности. Помилованный Фёрстер не восстановлен в должности профессора Военной академии, но занимает более низкие должности.
15 октября 1824 г. Арест Виктора Кузена в Дрездене. Заключение в Берлинскую тюрьму.
4 ноября 1824 г. Письмо Гегеля прусскому министру внутренних дел.
8 декабря 1824 г. Асверус приговорен к шести годам заключения в крепости.
1824 г. Арнольд Руге приговорен к шестнад цати годам заключения в крепости. Помилован в 1830 г.
20 февраля 1825 г. Прекращение без оправдания дела Кузена.
17 июля 1826 г. Прекращение дела Асверуса.
27 августа 1826 г. Празднование юбилея Гёте и Гегеля. Рескрипт короля, запрещающий отчеты в прессе о «частных» праздниках.
Конец 1827 г. Подозрения, связанные с поездкой Гегеля в Париж и со статьей в «Конститюсьонель». Шубарт обвиняет Гегеля в атеизме и враждебности правительству. Участие Гегеля в празднике «грекофилов».
1830 г. Убийство полицией в Лейпциге уче ника торговца.
Июль 1830 г. Революция во Франции.
Конец 1831 г. Княжеское предупреждение Гансу.
1831 г. Королевский рескрипт, запрещаю щий публикацию последней части статьи Гегеля о Reformbill.
1831 г. Смерть Гегеля.
1834 г. Арест в доме г — жи Гегель Burschen‑schaftler’a Якоба Хенле, отправившегося после тюрьмы и приговора к шести годам крепости в изгнание и ставшего известным врачом.
Гегель повсеместно упоминает кое — какие имена Burschenschaftler’ы, другие, не упоминаемые им имена, также ему известны. О его, судя по всему, очень тесных, очень продолжительных и очень подозрительных отношениях с Карлом Ульрихом мы узнаем только благодаря нескольким письмам, которые адресат имел неосторожность сохранить, несмотря на содержащиеся в письмах настоятельные просьбы отправителя их уничтожить. Нет гарантий, что он не переписывался таким же образом и с кем‑то еще.
Угнетенные
Авантюры Burschenschaftler’ы почти всегда оборачивались трагедией: заключение в камеру, долгое сидение в крепости, запрет на учебу или преподавание, сломанные карьеры, побеги, изгнания…
Вместе с тем иногда к трагическому примешивалось смешное.
Так, спеша арестовать Карла Ульриха, полицейские ошиблись и сначала задержали его однофамильца Давида Ульриха (1797–1844), швейцарского студента, продолжавшего учебу в Берлине[282].
Они не сразу заметили ошибку — счастливый промах! — ибо, производя у него обыск, обнаружили не меньше компрометирующих документов, чем позже у Карла.
Благословенные времена для прусской полиции! Ни разу она не возвращалась с пустыми руками. Она могла обыскивать жилье любого студента, не запасаясь особыми сведениями, — везде ее ждал чудесный улов, ибо все они, или почти все, были «демагогами».
Гегель ни разу не упоминает о существовании и судьбе этого второго Ульриха (Давида). Однако он очень внимательно, тщательно, упорно следит за ходом дела, возбужденного против первого (Карла). Некоторые историки, не разобравшись, как поначалу и власти, путают подозреваемых. В этой ситуации практически исключено, чтобы Гегель, заступаясь за Карла, ничего не услышал о Давиде. Однако он о нем ничего не говорит, и у нас нет явных доказательств, что он точно знает о недоразумении: еще одно необязательное свидетельство того, что рассказать свою истинную жизнь во всех подробностях Гегель не мог, и если мы хотим увидеть подлинного Гегеля, его собственными признаниями не обойтись. Приходится принимать во внимание факты, выводимые дедуктивным путем, не засвидетельствованные, но очевидно имевшие место.
Давид Ульрих, защищенный своим швейцарским гражданством, был вскоре отпущен. Впоследствии ему предстояло стать важной персоной в своей стране: юристом, профессором, политическим деятелем. В 1830 г. он сделался одним из руководителей радикально — либеральной партии и идейным вдохновителем народного движения, отчасти демократического, и был им до 1840 г. Таким образом, он надолго остался верен своей берлинской «демагогии».
Но что должен был думать Гегель о неловких манипуляциях полиции, о поведении и политике двора и короля?
Обстоятельно информированный о случае Ульриха, о деле Кузена и т. д., он не мог не знать в общих чертах также о начинаниях и несчастьях их сообщников. Эти люди составляли не только что‑то вроде культурной и политикорелигиозной общности, но также реально существующее объединение. На допросах и в судах их имена почти всегда упоминались вместе. Историки этого периода не делают между ними различий.
События разворачиваются на драматическом фоне. Власть имущие, мучимые воспоминаниями о Французской революции, боятся не только за свои привилегии, но и за жизнь. Оба лагеря настороже, и всяк следит, как за друзьями, так и за противниками.
Помогая заподозренным и обвиняемым, Гегель пишет прошения, вступает в переговоры с властями, предпринимает различные шаги, просит аудиенций, собирает документы и даже, в некоторых случаях, представляет поручительство.
Ни один из крупных философов Нового времени не рискует так себя вести.
Фёрстер
После приезда в Берлин Гегель сходится с Фридрихом Фёрстером, и они становятся друзьями. Почему именно с ним, и как это происходит? Фёрстер не был философом, и благоволением властей не пользовался.
Меж тем вот человек, которого король должен был бы любить больше всех. Ведь именно благодаря таким патриотам он сохранил свою корону. Фёрстер принял участие в боях за национальное освобождение Пруссии, проявив себя в них героически.
В 1812 г. он присоединился ко вспомогательному прусскому корпусу под командованием генерала Йорка, который не подчинился королевским приказам, вступил в переговоры с русскими и сражался вместе с ними с Наполеоном. Во многих отношениях это положило начало революционному, или народному движению, спасшему Пруссию в войнах 1813–1815 гг.
Фёрстер приобрел известность благодаря патриотическим стихотворениям, дружбе с национальным поэтом Кернером, а также тому, что раскрыл тайну легендарной Элеоноры Прохаска, когда она была убита. Этого человека окружала атмосфера патриотизма, мужества и благородства.
Король, терзаемый противоположными чувствами, втайне ненавидел прусских добровольцев, которым на публике не мог не выражать признательности, бойцов, силой заставивших его, сохраняя достоинство, в несчастье быть тем, кем ему надлежало быть по рождению. Сам он с самого начала предпочел бы, пойдя на переговоры с Наполеоном, подчиниться ему, а не вверять судьбу освободительной войне, опасным образом обретшей народный характер. Испытывая колебания, пошел он вослед патриотическому движению.
Стойкие патриоты, эти прусские бойцы в то же время более или менее определенно склонялись к либерализму. Вернувшись с полей сражений, они в качестве очевидной компенсации за жертвоприношения ожидали провозглашения обещанной конституции. Они ничего не имели против монархии, наивно надеясь, что она станет более разумной.
Что касается Фёрстера, то он осмелился опубликовать в 1818 г. статью, в которой без забрала нападал на шефа прусской полиции фон Камптца, причем, в журнале, ненавидимом реакционерами, — в издававшейся Люденом в Веймаре «Немезиде».
Фон Камптц сумел, как говорят, — хотя это еще надо проверить — легко отвертеться от обвинений, предъявленных ему Фёрстером, и последний оказался не только противником абсолютной монархии, ее правосудия и ее полиции, но еще и клеветником.
Фёрстер, бывший активным участником основания и становления Burschenschaft, был лишен кафедры в Военной академии. Последовали долгие препирательства. Обвиняемый в конце концов предстал перед военным трибуналом, который в порыве воинской и патриотической солидарности его оправдал. Тем не менее он не имел права преподавать и занимать административные посты вплоть до 1823 г., когда, возможно отчасти благодаря Гегелю, получил низшую должность, не связанную с преподаванием. Впоследствии он посвятил себя историческим и биографическим занятиям. В 1834 г. он сотрудничал с издателями Полного собрания сочинений Гегеля[283].
Полиция следила за дружбой Гегеля и Фёрстера. Найденное в архивах донесение напоминает нам о том, что саксонская полиция озаботилась в случае нужды извещать об известных ей фактах прусскую полицию в порядке некоего межгосударственного сотрудничества, в котором нетрудно предугадать грядущее сотрудничество, ставшее роковым для Кузена: «Гегель, прибывший из Берлина, доктор и профессор, проживал в “Голубой звезде” с 27. VIII по 11. IX; прибыл сюда вместе с прусским лейтенантом Фёрстером, и они вместе осмотрели окрестности»[284].
Этот лейтенант Фёрстер — брат Фридриха, также Burschenschaftler. Другой его брат, Эрнст, входивший в число знакомых Гегеля и Нитхаммера, также был членом Burschenschaft, его «Воспоминания» составляют важный источник для восстановления истории союза. Впоследствии Эрнсту Фёрстеру предстоит стать историком и видным критиком искусства.
На могиле Гегеля Фридрих Фёрстер бросит вызов мракобесию и «духу рабства», хотя по прошествии времен эхо этого вызова, возможно, не произведет на нас особенного впечатления. Но тем, кто тогда слушал Фёрстера, было ясно, что в устах этого человека — если принять во внимание его прошлое — вызов обретал вполне определенный смысл, более серьезный и более угрожающий. Атмосфера, в которой произносятся слова, исполняет их особым смыслом, особым смыслом наделяет их также фигура произносящего.
Карове
Особенное ожесточение у властей вызывали т. н. «репетиторы». Странным образом можно подумать, что Гегель намеренно шел на провокацию, выбирая помощниками людей, внушающих подозрения и по разным причинам заслуживающих осуждения. Арест и преследование предшественника не производили на него никакого впечатления, и он снова выбирал смутьяна. Разве не мог он найти умных и компетентных учеников, не связанных с протестующей публикой?
Все истории достойны тщательного изучения. Мы вкратце опишем лишь некоторые.
Фридрих Вильгельм Карове (1789–1852) был, по- видимому, если не самым блестящим, то, во всяком случае, самым верным учеником Гегеля. Он стал им еще в Гейдельберге, где слушал его лекции.
В Burschenschaft он с самого начала возложил на себя руководящую роль. От него непременно должны были исходить сведения о других деятелях движения, с которыми его связывала общность устремлений, не исключавшая расхождений и конфликтов (Карл и Август Фоллен, Арндт, Редигер, Асверус, Коббе, Юлиус Нитхаммер, фон Хеннинг, Фёрстер, Шульце, Вессельхёффт, Витт и др.). В этом разношерстном движении Карове представлял «умеренных», можно предположить, что его умеренность есть следствие гегелевского влияния, приложения гегелевской мысли к этой частной сфере.
Это слово обретает истинный смысл на фоне того, чему оно противопоставляется. Умеренность Карове заключалась в противостоянии дуэльной мании, антисемитизму, галлофобии, тевтономании, характерным для некоторых течений внутри Burschenschaft. В этом смысле Карове возвращался к политической ориентации Гегеля. Следует признать, что «умеренный» Карове выглядит подлинным реформатором, когда строго придерживается главных ориентиров студенческого движения — стремления к патриотизму, немецкому единству, либерализму, парламентарному устройству, когда он старается очистить движение от неприятных и вредных извращений. Если «умеренность» Гегеля, так иногда определяли власти его поведение, состоит в том, чтобы противостоять антисемитизму, ксенофобии, тевтонской одержимости определенных групп Burschenschaftler’ы, то эта умеренность есть не что иное, как передовые либеральные устремления и личное великодушие.
Фактически Карове пойдет гораздо дальше в свободолюбивом порыве, нежели его экстремистские соратники, безудержные исключительно в крайнем национализме и провоцировании погромов. Позже он станет сен — симонистом, почти что социалистом (его сочинение, озаглавленное «Сен — симонизм», датируется 1831 годом).
Взгляды Карове, отличавшиеся от общепринятых взглядов университетского студенчества, осуждали практику индивидуальных покушений. Вопрос, однако, заключается в том, можно ли считать такую позицию умеренной: Меттерних не скрывал радости в связи с убийством Коцебу, — оно дало ему повод для систематического усиления репрессий против политического либерализма.
В 1819 г. Карове опубликовал брошюру «Об убийстве Коцебу» — не исключено, что по подсказке Гегеля — в которой, не оправдывая убийство как таковое, объяснял причины происшедшего и, в некотором смысле, с политико — философской точки зрения его оправдывал, что противоречило официальному категорическому осуждению (В2 458).
Франкофил, переводчик французских авторов (Дидро, Констана, Кузена, Руайе — Кольяра, Стендаля) на Вартбургском празднестве он произнес чрезвычайно впечатляющую речь, выступая за допуск евреев и иностранцев в Burschenschaft, из‑за чего многие радикальные соратники, антисемиты и франкофобы, от него отвернулись.
В Гейдельберге время от времени Гегель использовал Карове в качестве помощника, пожелал он доверить ему эту миссию и в Берлине. Таким образом, хронологически Карове стал первым «репетитором» Гегеля в Берлинском университете.
Но на бедного Burschenschaftler’a обрушились правительственные репрессии: отстраненный от должности, он не получил разрешения на «габилитацию» в Берлине. В итоге университетская карьера Карове закончилась, едва успев начаться. После сложных разбирательств с полицией и правосудием положение быстро сделалось шатким, и он с трудом зарабатывал себе на жизнь в Бреслау, Франкфурте и Гейдельберге. При этом он так и не отказался от своих исходных гегельянства и либерализма.
Гегель сделал все возможное, чтобы отвести или смягчить катастрофические последствия полицейских и судебных преследований, полагая себя их причиной, поскольку побуждал Карове написать об убийстве Коцебу. В 1826 г. он возобновил попытки устроить Карове в университет и попытался сделать его секретарем издаваемых им «Анналов». Показательно, что все усилия, даже в тех случаях, когда он просил за Карове друзей, оказывались напрасными (С2 231). Карове не повезло! И не везет до сих пор: во французском переводе «Переписки» Гегеля не воспроизведена длинная записка Хоффмейстера, повествующая об этой злосчастной судьбе и об остервенении, с которым Карове преследовала полиция, а равно, о дружеской верности Гегеля, не прерывавшего с ним отношений. «Новая немецкая биография» даже не упоминает ни о его переводах с французского, ни о книге про сен — симонизм, ни о статье о Занде![285]
Нелишне заметить, что первоначально католик, с 1817 г. Карове был хорошо знаком с Кузеном, и что именно благодаря ему Гегель должен был быть в курсе политической и организационной деятельности французского философа, считавшегося по тем временам карбонарием.
На самом деле, преследуя в 1819 г. Карове, кое‑кто метил в Гегеля.
Хеннинг
Особенно настойчиво Гегель защищал своего «репетитора» Леопольда фон Хеннинга (1791–1866), арестованного 8 июля 1819 г.
Речь шла о бывшем добровольце и очень ревностном бурше. В документах эпохи его имя постоянно соседствует с именами Фёрстера, Карове, Асверуса, Ульриха, Занда, Вита, Вессельхеффта.
Официальная причина ареста показательна: во время обыска (очевидно, что он уже был на подозрении), у Хеннинга нашли письма к мачехе (свекрови?)[286], в которых он благоприятно отзывался о Наполеоне. Между тем высшие руководители Пруссии пытались всячески унизить того, в ком видели, прежде всего, наследника Французской революции, «узурпатора» власти французской монархии, пожирателя Европы, безбожника, «корсиканское чудовище».
После 1815 г. и в течение всего периода Реставрации и реакции нарастает и обретает более или менее ясные очертания некое общее сопротивление, стихийный общий фронт республиканцев, бонапартистов и либералов (ср.: Стендаль П. — Л, Курье и др.).
Различные свидетельства подтверждают, что Хеннинг и в самом деле был почитателем Наполеона, как и сам Гегель, которому он впоследствии тайно доставит французские документы, касающиеся жизни и изгнания императора, в то время строго — настрого запрещенные в Пруссии. Ни Хеннинг в те времена, ни Гегель до самой смерти не изменили своих чувств на этот счет. Гегель не мог и не хотел «обращать» ученика. Самое большее, в чем он мог его упрекнуть, так это в том, что тот поддался влиянию.
В 1819 г. Хеннинга держали шесть недель под арестом в особо тяжелых условиях, в камере его денно и нощно стерег жандарм — таким серьезным представлялся властям случай.
Такого человека выбрал репетитором для своего курса главный «философ государства»!
Принесло ли какие‑либо результаты заступничество Гегеля? Приблизительный ответ можно получить из дальнейших событий в жизни Хеннинга. После освобождения он эмигрировал, обретя убежище в не столь авторитарно управляемой стране, в Веймар — Саксонии, «цитадели якобинства», как полагали сторонники Священного союза. Именно там его, по рекомендации Гегеля, примет Гёте.
Гегель определенно принял близко к сердцу этот, непосредственно его касавшийся эпизод в жизни Хеннинга. Насколько позволяют судить пространственно — временные расстояния, именно этот заключенный стал целью тайного ночного визита, бесстрашно предпринятого Гегелем и его друзьями, о котором речь пойдет ниже.
Позже Хеннингу предстояло неплохо приспособиться к сложившейся политической ситуации, неизменной вопреки беспорядочным усилиям «демагогов». Он сам станет профессором, одним из наиболее компетентных распространителей гегелевской мысли, генеральным секретарем «Анналов научной критики» (основанных Гегелем и Гансом), одним из издателей полного собрания сочинений учителя.
Асверус
Асверус не был помощником — репетитором. Тем не менее Гегель очень заинтересованно следил за ходом его дела.
Этому студенту, сыну одного из его йенских друзей, адвоката, которому Гегель когда‑то поручал вести дело, вменялось в вину обычное в университетах нарушение — дуэль. Однако у дуэли была очевидная политическая подоплека, во всяком случае, Асверус был членом Burschenschaft и в письмах, вскрытых полицией, нелестно отзывался о правительстве.
Предъявленные обвинения поставили защиту Асверуса, как об этом рассказывает Хоффмейстер, в затруднительное положение. Историки пишут о «несправедливости» вынесенного приговора. На самом деле судьи хорошо понимали, что они судят врага. Судебный процесс и заключение Асверуса продолжались семь лет, заполненных разного рода происшествиями, пока, наконец, в 1826 г. король не приказал дело закрыть, не простив, однако, Асверуса.
Чтобы добиться временного освобождения арестованного до завершения на редкость долгого и сложного разбирательства, Гегель даже согласился внести залог в 500 талеров, который он потом не без труда возвратил (В2 432–442 и В4 440–442).
Ни ради кого Гегель так не старался, как ради этого юноши. При том что это вовсе не был «невинно» осужденный за патриотизм или национализм и конституционализм — в данном случае все было яснее ясного. Гегель был бы совершенным глупцом, если бы не понимал, что помогает патриоту, человеку не безгрешному, с достаточным основанием преследуемому властями. Что же касается этих самых властей, имя Гегеля вставало у них перед глазами почти на каждой странице дела.
Ульрих
Предлогом для ареста 14 июля 1819 г. Карла Ульриха, одного из руководителей Burschenschaft, также стала дуэль. Четырнадцатое июля! Эти студенты, конечно, имели глупость непрестанно драться на дуэлях. Но не всех дуэлянтов сажали. Только оппозиционеров.
Ульрих сто десять дней пребывал в тюрьме в качестве подследственного. Позже в 1820 г. его снова арестовали, несмотря на протест университетского Совета. Исповедуемые им политические взгляды не вполне ясны, но отсутствие ясности компенсировалось редкой настойчивостью, с которой они провозглашались. Судебное преследование Ульриха закончилось только в 1826 г. Ему не удалось вписаться в политическую систему Пруссии. Он — и он тоже! — предпочел эмиграцию. Укрылся в Гольштейне, откуда поддерживал с Гегелем странную тайную переписку (см. выше: С. 127).
Очевидно, Гегелю была несвойственна мимолетность порывов, он не страдал преходящими вспышками возмущения, он надолго и накрепко был связан со своими протеже и шел на риск, связанный с таким поведением.
Карл Ульрих был одним из руководителей Burschenschaft, причем из особенно неукротимых. Его прозвали Ulrico furioso.
Случай с Ульрихом свидетельствует о том, что Гегель не ограничивался тем, что вникал в жизненные трудности собственных учеников, — он устанавливал отношения с людьми, принадлежащими другим кругам, подавая советы некоторым «демагогам» тайно от полиции и правосудия, — в деле Ульриха его имя не фигурирует. Без колебаний он украдкой общался с самыми важными подозреваемыми, обвиняемыми и приговоренными, с «вожаками».
Руге и Тухер
Список всех учеников, «слушателей» или друзей Гегеля, пострадавших от полицейских придирок, здесь привести невозможно. Также не поддаются перечислению все те, кому он пришел на помощь: архивы не исчерпывают случаев вмешательства, какие‑то из них, несомненно, не были замечены.
Каждый случай был особым. На два исключения, быть может, следует указать.
В первом случае речь идет об Арнольде Руге (1802–1880), будущем сотруднике молодого Маркса, прослушавшем несколько курсов Гегеля и в 1824 г. арестованном за участие в деятельности Burschenschaft. Приговоренный к шестнадцати годам крепости, он через шесть лет был помилован. В тюрьме благодаря усердному чтению книг учителя, которые, несмотря ни на что сумел раздобыть, у него достало времени сделаться настоящим гегельянцем. После освобождения он вместе с некоторыми сотоварищами возглавил протестное, революционное движение «младогегельянцев», — еще один не «обращенный», не приверженец ни абсолютизма, ни религиозной ортодоксии, не политический и социальный конформист!
К тому же примечательный факт, показывающий, что Гегелю не требовалось перемещаться в пространстве, чтобы быть в курсе дел Burschenschaft: он поселил у себя в доме младшего брата жены Кристофа Карла Готтлиба Зигмунда барона Тухера фон Зиммельсдорф (1798–1877) и ежедневно беседовал с ним. Молодой шурин принадлежал к самой взбалмошной группировке в Burschenschaft, а среди его близких друзей находим основных берлинских «главарей»: молодого Нитхаммера, Асверуса, Пагенштехера, Рейнера, Фёрстера, Карове и др.
Письма Готтлиба фон Тухера, изъятые у Асверуса, послужили отягчающими обстоятельствами в процессе последнего. Они свидетельствовали, согласно тенденциозному суждению Хоффмейстера, «о том, что начитавшийся Шиллера юноша свихнулся на слове свобода (Freiheitsraserei!)». Одна из его драм заканчивается восклицанием: «Когда же займется кровавая заря!»[287].
Во время трапез за семейным столом у Гегелей скучать не приходилось! Опасные речи буршей в 1819 г. напоминали господину профессору собственные дерзости бывшего штифтлера.
Не приходится, стало быть, так уж удивляться тому, что вдова Гегеля до известных пределов оставалась верной выбору мужа. Знаменитого врача и анатома Якоба Хенле (1809–1885) арестовали у нее в доме в 1834 г., когда он был еще студентом. Также член Burschenschaft, Хенле был приговорен после четырех недель заключения к шести годам крепости, а позже в 1837 г. — помилован. Из‑за этого учебу ему пришлось продолжить вне Берлина[288].
Обращающий «демагогов»?
Насколько нам известно, Гегель не обратил никого! Никто из его друзей или протеже не сделался под его влиянием слугой абсолютной монархии, сторонником немецкой раздробленности или ортодоксом. Для этого следовало идти учиться к Савиньи или Галлеру.
Никто из «демагогов», с которыми он был связан, ни разу на него не пожаловался и не выказал в его адрес ни малейшего подозрения. Все они говорили о нем с доверием, уважением, восхищением. Его авторитет в их глазах нисколько не пошатнулся, что неминуемо случилось бы, окажись он пособником власти.
Впрочем, похоже на то, что власти не обращали никакого внимания на его заступничество, за исключением, возможно, вмешательства в дело Виктора Кузена. Возникает даже вопрос, не привели ли в совокупности демарши Гегеля к результату, противоположному тому, на который были рассчитаны? Не было ли его вмешательство в дела полиции дополнительным признаком виновности подсудимого, отягчающим обстоятельством? Не было ли оно в лучшем случае неуместным? Ведь все его подзащитные были официально признаны виновными.
Не следует ли в таком случае заняться разоблачением «двойной игры» Гегеля?
Какой‑нибудь шпион, к примеру, ведет двойную игру, одновременно продавая сведения обеим враждующим сторонам. Так поступал Витт — Деринг, который, считаясь другом «демагогов», предавал их властям, переходил из лагеря в лагерь, и всякий раз было непонятно, какая из сторон ему больше по сердцу. В конце концов он, правда, сделал выбор в пользу властей.
Конечно, ничего подобного с Гегелем не происходило. Тем более он не изображал себя героем, распахивающим перед расстрелом на груди рубаху, как это вскоре будут делать кое‑кто из его учеников «младогегельянцев»[289]. Он намеренно осторожен, ненамеренно колеблется и порой пребывает в смущении. Он — не каменный, а «демагоги» — не ангелы и не образцы тактической и теоретической изобретательности. Их ошибки и промахи время от времени выводят его из себя, но не более того.
Он издевается над их тевтономанией: Deutschtum, Deutschdumm (в рифму: германство — болванство), — не побоится сказать он. Его огорчали ксенофобия, антисемитизм, слепое насилие, между тем они были во власти бессмысленных порывов и… терпели поражение, — таковы Шнелль, Фоллен, Вессельхеффт. В конце концов им приходилось покидать поле битвы, бежать, отправляться в изгнание.
В сложных условиях Гегель выбирает более разумную тактику, дающую больше шансов на успех. Но по большому счету тогдашняя национальная, религиозная и политическая жизнь не давала никаких шансов. Положение вещей начало меняться лишь к началу сороковых годов.
А пока что приходилось сгибаться в поклоне, не теряя из виду главной цели, пользуясь всякой открывающейся возможностью. Виктор Кузен свидетельствует: «Гегель был синим»[290].
* * *
Каррер не переводит некоторые примечания Хоффмейстера, особенно длинные, информативные и поучительные, как он не переводит и пассажей, касающихся преследований Карове и Фёрстера; все прочее он излагает варварски сокращая, в частности, все относящееся к пребыванию Гегеля в Дрездене в 1820 г.
В связи с пребыванием в Дрездене (В2 482) он приводит лишь одно свидетельство из донесения дрезденской полиции, отправленного полиции берлинской, нимало не удивляясь и не возмущаясь тем фактом, что саксонская полиция, таким образом, шпионит за профессором из Берлина, помогая прусской полиции. При этом он полностью обходит молчанием объяснение, само по себе очень сжатое, причин этой слежки: «Это донесение, — пишет Хоффмейстер, — было затребовано ради выяснения связей между берлинской Арминией и заседанием Burschenschaft в Дрездене осенью 1820 г.».
В донесении сообщается, что Гегель встречался по этому случаю с лейтенантом Фёрстером (братом Фридриха Фёрстера), и что одновременно в Дрездене находились Бернхард фон Уксфюлль и Тирш. Там были также Грисхейм и Шульце.
Из всего этого следует, по меньшей мере, то, что прусская и саксонская полиция заведомо не исключала тайного участия Гегеля в сходках Burschenschaft. За Гегелем присматривают!
Такое обращение с примечаниями Хоффмейстера не остается без последствий. Каковы бы ни были мотивы — экономия бумаги? — оно фактически упраздняет свидетельства ангажированности Гегеля. Не потрудившись воспроизвести очень обширное примечание, касающееся Карове (В2 455–468), Каррер лишает читателя информации о суровых преследованиях, которым подвергся этот верный друг Гегеля, и не удостаивает сообщением о том, что статью об убийстве Коцебу Карове написал под влиянием идей Гегеля.
Более того, он не переводит ни примечания, в котором говорится о серьезных неприятностях Фридриха Фёрстера (Ibid. Р. 448–471), ни примечания об Асверусе (В2 432–442).
Также отсутствует (С2 342) примечание, в котором уточняется, что Хеннинга вначале арестовали из‑за содержания писем, полученных им от мачехи (В2 482 [9]).
Том (С2) насчитывает 376 страниц, тогда как в В2 их 508, а том (С3) 434 страницы при исходных (В3) 475!
С легким раздражением начинаешь, в конце концов, думать, что автор систематически утаивает подтверждения приверженности Гегеля либерализму.
Остается, однако, одна загадка или, если угодно, вопрос. Вообразим берлинскую жизнь Гегеля, унаследованный им от прошлого тяжелый политический и семейный багаж, скрыто опасные и явно вызывающие раздражение доктрины, вмешательство в дела полиции и судов, авантюрные эскапады… разве все это не наводит на мысль: как ему удалось, неуклонно идя таким путем, остаться при этом в целости и сохранности? Хватало ли у его покровителей, о которых мы знаем, власти, чтобы уберечь его? Или, может быть, у него за спиной витал вечно недремлющий ангел- хранитель?
Многосложность
Те немногие историки, которые считали возможным бегло упоминать о некой темной и тайной стороне жизни Гегеля, имели о ней сведения поверхностные и сомнительные. Им вовсе не была интересна эта его деятельность, они считали ее маргинальной и несущественной для философа вообще, ибо им самим никогда не приходило в голову заниматься в жизни чем‑то подобным. Они жили в мире, в котором мыслят и действуют иначе, и где такое поведение показалось бы неуместным и ошибочным.
Как правило консерваторы, не имея на этот счет никакого личного опыта, они были неспособны встать на точку зрения политического оппозиционера, каким бы умеренным он ни был. Больше всего им хотелось бы, чтобы поведение Гегеля послужило бы оправданием их собственной жизненной позиции. Они были бы возмущены, если бы кому‑нибудь пришло в голову украсть у них столь дорогой им образ Гегеля и обрушить привычные идеологические декорации, рискуя дисквалифицировать их труды.
Они сделали свой выбор.
Так вот, если существуют две стороны публикаций и преподавания Гегеля в Берлине — экзотерическая и эзотерическая, существуют и две стороны его жизни — их можно различать и даже противопоставлять друг другу: одна — публичная, внешняя, другая — та, которую иначе как подпольной назвать нельзя, памятуя о том, что слово это может обозначать самые разные формы и способы умолчания, маскировки, секретности.
Вместе с тем следует допустить существование самых разных переходных форм между двумя крайностями. Их различает образность и язык, балансирующие на грани эзотерики и экзотерики, способ действия, продиктованный одновременно храбростью и осторожностью или даже боязнью. Спрашивается, всегда ли самому Гегелю удавалось разобраться в себе, не смешав два (как минимум!) лика своей личности. Не был ли он похож на племянника Рамо, описанного Дидро, на которого ссылался, правда, гораздо более благоразумного и остепенившегося?
Не один Гегель находился в таком положении — двойственность, двусмысленный язык и двойная игра были навязаны всем — от короля на самом верху до самого, может быть, смиренного бедняка. Последнему меньше всех. У бедных не было ни желания, ни, вероятно, возможности, лгать. Им нечего было скрывать, ибо нечего терять. Также и о сильных мира можно было сказать, что они не скрывая, цинично выставляют напоказ пороки.
Но Лессинг до самого смертного часа скрывал, что он спинозист, иными словами, безбожник. Фихте, после скандала в связи с обвинением в атеизме, вынужден был покинуть Йену: ему вменялось в вину, — как об этом позже заявит Гёте, — не то, что он думал наедине с собой в душе, не то, что он где‑то что‑то сказал, но то, что он высказался открыто, без обиняков и уверток, с возмутительной откровенностью. А ведь мог бы «наводить тень на плетень» по примеру многих и многих других (С3 303).
Гегель сам различает в умозаключениях других философов, чему следует «придавать значение», а чему нет.
Разумеется, среди подданных наибольшие меры предосторожности должны предпринимать интеллектуалы, а среди них — больше всего философы. Им приходится непрестанно петлять, как зайцам, спасающимся от гончих.
Некоторые, считая помехой гегелевскую сложность, многообразие, хотели бы свести их к обманчивой видимости, открыв под ней единство и безупречную идентичность и тем самым создать превратное представление о личности философа, скрыть его противоречивость, отразившую отчужденное состояние мира, в котором он жил. Отчуждение, испытанное им на себе и проанализированное с таким блеском: Мир культуры, уходящий XVIII век, мир, отчужденный от самого себя (die sich selbst entfremdete Welt)![291] Мир предельно разорванный, исполненный соперничества, вражды, лицемерия, в котором ему выпало жить, вышучивая порой себя и свои мечты о каком‑то лучшем мире.
Другие, вместо того чтобы признать разнообразие Гегеля, предпочитают делить его жизнь на этапы. Следование вместо совмещения: отдайте нам консерватизм зрелости, и мы оставим вам мятежную юность. Расписывайте, сколько хотите, ее мятежность, позднее раскаяние от этого покажется лишь более очевидным и похвальным. Тогда можно будет сказать: «Не вечно же быть юным», констатируя, что юность, точно, позади.
Но такой интерпретационный размен покоится на обмане. Пришлось бы признать, что Гегель, в период зрелости, в Берлине, готов был покаяться. Так вот, даже если публичные суждения зрелого Гегеля достаточно умеренны (в юности они вовсе не были умеренными), он все равно дает понять, что за ними скрываются тайные мысли вполне мятежного свойства, выражение которых, возможно, потребовало бы нынче большей смелости, если учесть усиление репрессий.
Существует много возможных, в разной степени аргументированных представлений о политических взглядах Гегеля Берлинского периода.
Самое старое, наиболее общепринятое и самое стойкое — представление о Гегеле — консерваторе или даже реакционере без всяких оговорок.
Некоторые доходят до того, что полагают, будто прусские власти позвали Гегеля в Берлин именно из‑за такой политической ориентации. Ничуть не оригинален, к примеру, присоединившийся к этому тезису Альфред Штерн. Толкуя совершенно произвольно знаменитый гегелевский образ «совы Минервы, вылетающей только в сумерки», он добавлял: «Этими словами ультраконсерватор Гегель хотел обескуражить исполненных юношеского восторга сторонников философских учений, целью которых было реформирование политики прусской монархии. Именно для выполнения этой задачи и позвал Гегеля в Берлинский университет в 1818 г. прусский министр образования фон Альтенштейн»![292]
О «реакционном» характере политики Альтенштейна и его особом положении в прусском кабинете уже говорилось. Это, конечно, был не революционер. Но не революционер — еще не реакционер. «Философские учения, целью которых было реформирование политики прусской монархии…» — это могло быть сказано Штерном только о «философии» Фриза — но насколько они соответствовали этой цели?
Перед нами совершенно поверхностное и ошибочное понимание вещей и событий. Прежде всего, сова Минервы, полет которой символизирует закат общества определенного типа, в то же время необходимо возвещает новую зарю, рождение другого человеческого мира, нового и юного. Далее Гегель ни в опубликованных произведениях, ни, тем более, своим непубличным поведением вовсе не стремился выбивать почву из под ног у тех, кто пытался провести реформы; за некоторые из них он ратовал сам, причем в свойственной ему одному манере, которая стоила многих других способов. И, наконец, только не Альтенштейн, умный, открытый новому, один из тех, кто был больше всех реформатором в правительстве Гарденберга, мог поручить ему такую задачу! Другие философы, не меньше его желавшие попасть в Берлинский университет, гораздо лучше справились бы с ней. Когда Гегель уже упокоился, был завербован некто для исполнения сей идеологической функции, потребовавшей для своего осуществления по возможности полного искоренения остатков гегелевского преподавания.
Тезис Штерна, позаимствованный у многочисленных предшественников, настолько несостоятелен, что сам автор, не смущаясь противоречием, вынужден констатировать, что этот «ультраконсерватор» был «свидетелем Французской революции, восхищавшимся ею как высшей победой разума и идеи права в политике»![293] Но возможно ли выступать на стороне Священного союза и одновременно быть сторонником завоеваний Французской революции, которые этот Союз собирался искоренять? Удивительно, что Гегель восхищался Французской революцией публично, в своих берлинских лекциях компенсируя восторги, это правда, кое — какими замечаниями, долженствующими отвести от него наихудшие санкции.
Историк Флинт — другой пример — утверждает, что Гегель «отличался консерватизмом и конформизмом, изобличал либералов и реформаторов, опирался на реакционное правительство»[294]. Где Флинт отыскал документы, которые могли бы подтвердить подобное утверждение? Не одно прусское правительство было в то время реакционным, а опираться Гегель мог только на реформистскую фракцию этого правительства, при этом ему самому часто попадало за либерализм, еретичество и бунтарство. У Флинта на уме лишь одна фраза из «Предисловия» к «Философии права», на самом деле довольно двусмысленная, которая метит во Фриса, философа, за которым числятся кое — какие политические заслуги относительно либерального характера, не компенсирующие его пещерного антисемитизма и слепой галлофобии.
Другой историк, Ф. Шнабель, выставляет себя в смешном виде, когда решается утверждать, будто «Гегель в течение всей этой кампании (речь идет о правительственных репрессиях против “главарей демагогов” в Пруссии) неколебимо (unentweg) стоит на стороне государственной власти и государственных интересов»[295]. Вот так — неколебимо!
Так вот, не выступая безраздельно на стороне оппозиции, так как самих «демагогов» отличало разнообразие взглядов, и действовали они по — разному, несогласованно, вразнобой, Гегель почти всегда оказывал им поддержку. При этом поддержать всех сразу не представлялось возможным, поскольку они друг с другом спорили, равно невозможно было присоединиться к кому‑то одному из‑за противоречивости убеждений этого последнего.
Хулители Гегеля сами, как правило, парадоксальным образом оказываются консерваторами, находящими удовольствие в том, чтобы изобличать в других наклонности, не замеченные у себя.
Но писатели, слывущие «прогрессивными», удивительным образом тоже позволяют сбить себя с толку. Им не удается распознать в Гегеле одного из своих, каким бы колеблющимся он ни выглядел в сравнении с занимаемой ими, впрочем, в более мягкие времена, твердой позицией. Так, Пауль Рейманн заклеймил в 1956 г. Гегеля за то, что тот сыграл «реакционную роль в политической жизни своего времени…»![296]
Энгельс заслуживает снисхождения: много ранее, не располагая целым рядом документов, он заявляет, правда, от случая к случаю, что учение Гегеля было «некоторым образом утверждено в качестве официальной философии прусского королевства». Но на чем основывается такое мнение? Только одна правительственная фракция, вскоре отодвинутая в тень событиями, одобряла гегелевское учение или терпела его. Эта относительная и частичная благосклонность совсем не была продолжительной. А что касается короля, принца королевской крови, остальных членов правительства, двора…
Король, прочие министры, помимо Альтенштейна, вельможи, разве они высказывались когда‑либо благосклонно о Гегеле? Да, Гегель был награжден орденом Красного орла в 1831 г. Но прилично ли было лишать этой награды столь важное должностное лицо, такого заметного философа?
Гегель так и не был принят в Берлинскую академию и не получил официальной поддержки, о которой он просил для своих «Анналов». Его рукописи подлежали цензуре. Королевское семейство лишь однажды пригласило его на обед, и то, чтобы наговорить гадостей.
Удивляет, что Люсьен Герр в своей известной статье в «Гранд Энсиклопеди», столь счастливо содействовавшей знакомству с гегельянством во Франции, неосмотрительно распространяет клевету: «Нет сомнений, что его учение обязано Пруссии своим быстрым успехом: оно было официальным и обязательным, и сам он без каких‑либо угрызений совести использовал против несогласных расположение к себе властей». Делая вид, что он его защищает, Люсьен Герр выносит еще более суровый приговор философу и его философии: «Но было бы неточным сказать, что он из угодничества и раболепия заставляет свою философию служить прусскому авторитаризму. Авторитарная монархия и бюрократия реставрированной Пруссии представляются ему если не совершенными политически, то, по меньшей мере, режимом, лучше всего отвечающим его политическим взглядам, проистекающим из его системы»[297].
Гегелю не было нужды приспосабливаться к прусской политической реальности: она с самого начала отвечала его душевному настрою!
Нет никакого сомнения в том, что назначение Гегеля в Берлинский университет в большой степени содействовало распространению влияния его учения. Любой другой на его месте получил бы такое же преимущество. Но к этому следует добавить, что и Гегель, в свою очередь, не так уж мало содействовал прославлению Берлинского университета. И наконец, всякое преувеличение подозрительно. Его успех, реальный, не был таким уж громким. Другие достигали большего — по количеству слушателей на лекциях, тиражам опубликованных книг, откликам в прессе, зарплате.
Одним из главных мотивов назначения в Берлин было то, что, по меркам того времени, он был, судя по всему, самой крупной фигурой, которую заметили достаточно поздно. Как бы ни судили сейчас о гегелевском творчестве, в то время никто не превзошел его в области, которая всеми рассматривалась как философия в общепринятом в те времена понимании этого слова. Можно сравнить его с самыми значительными современниками: Краузе, Фрисом, даже Шеллингом! Он много весомее.
Каждому из них чего‑то не хватает в сравнении с ним. Он был уже известен до назначения в Берлин благодаря важным сочинениям, позже ставшим классикой: «Феноменологии духа», «Логике», «Энциклопедии», — трудам, оставившим позади по широте, разнообразию, всесторонности, глубине все написанное соотечественниками. Причем, как в глазах непосвященных — они им внушали уважение независимо от способности понять что‑либо, — так и на взгляд профессионалов, понимавших до определенной степени, но и того, что они понимали, было достаточно.
Для министра образования Альтенштейна это был долг перед нацией, охотно им исполненный, поскольку совпадавший с личным желанием обеспечить Берлинский университет самыми выдающимися и передовыми умами своего времени. Речь шла об интересах учащихся и о престиже Пруссии, не говоря уже об интересах королевской династии.
Реакционное правительство (каковым правительство Гарденберга отчасти и было) склонно было уступать давлению с самых разных сторон. В том, что касается образования, в учителя набирались люди послушные, покорные, способные направить в нужное русло энергию особо чувствительной части населения — студенчества.
Но на него возлагалась одновременно национальная миссия, требованиям которой оно должно было отвечать или делать вид, что отвечает. Правительство хотело, чтобы его страна одерживала победы, и чтобы все выглядело так, словно оно работает «ради общественного блага». И, между прочим, оно лишилось бы уважения и утратило всякое влияние, если бы брало на службу одну лишь посредственность. Студентам желательно, чтобы те, кто их учит, что‑то собой представляли, только весомые личности могут повлиять на них. Гегель оказался лучшим в своей категории и собирался подтвердить свой статус выдающегося философа. Разумеется, прусские чиновники находились в полной зависимости от короля и правительства, но, в рамках неполной диалектической обратимости, также и правители немного зависели от них.
Подполье
Имеется целая область умственной и практической деятельности Гегеля, полностью скрытая от публики. Иначе как подпольной ее назвать нельзя. С этой особенной точки зрения она и заслуживает описания.
Конечно, Гегель, насколько известно, никогда не был конспиратором: приклеенные усы, фальшивые документы, явки… Но, как и многие другие философы до него, он скрывал от властей, которые осудили бы их и стали бороться с ними, кое — какие из своих идей, высказываний, поступков. Некоторые биографы, в свою очередь, постарались скрыть это сокрытие. Они боялись раскрыть правду, потому что полагали, справедливо или нет, что она повредит светлому, умиротворенному, мудрому образу, под который подгонялось его философское учение. И без того терзаясь явной двойственностью этой философии, они не были заинтересованы в том, чтобы, неведомо зачем, добавлять к ней еще и двойную жизнь.
На взгляд некоторых историков, количество открытых в последнее время и выставленных на обозрение богатейших материалов позволяет надеяться на дальнейшие находки. Для других исследователей, напротив, добыча столь велика, что искать больше нечего.
В исследовании такого рода все зависит, конечно, от соразмерного понимания термина «подполье». Если его брать в самом широком и потому приблизительном смысле, подпольными будут считаться всякая рукопись или всякое действие, которые были скрыты от политической власти и судебных властей, и о которых тем не менее хотя бы в минимальной степени был поставлен в известность некий узкий круг посвященных. Их обнаружение властями повлекло бы за собой запрет, конфискацию, репрессии. Необходимо, чтобы сокрытие было неполным, направленным, односторонним, чтобы у рукописи или действия были читатели или свидетели, какие‑то ощутимые последствия, без которых, они, хотя и имевшие место, оставались бы нереальными.
Сообразуясь с этими общими характеристиками, можно сказать, что Гегель последовательно или одновременно использовал все возможные модели подпольной деятельности, за вычетом самых крайних. Он применял эту тактику умело и, надо это отметить, с упорством.
* * *
Он меньше всего был склонен к наивности, ибо очень рано столкнулся с реалиями жестокого мира, и при этом никогда окончательно не утрачивал веры в возможность его спасения. Живя при разных, более или менее жестоких и мрачных, тиранических режимах, сталкиваясь с самыми разнообразными способами запугивания и притеснения, он очень рано осознал настоятельную обязанность скрывать правду от врагов, долг, которому интеллектуалы его времени, как и стольких других времен, должны были подчиняться под страхом лишения благ или гибели. У них не было иного выхода, кроме рабского конформизма, кроме как унизительно покоряться подлой и отвратительной им власти.
Подпольная деятельность, осуществляемая даже в самых робких формах, была небезопасной. Гегель пошел на этот риск, все же, как представляется, с большой осторожностью, перемежая смелые выпады опасливыми отступлениями, не доводя дело до радикального разрыва с социальной средой, в которой ему выпало жить. Невозможно оценить даже приблизительно соотношение его деятельности, потаенной от взоров, с обширной публичной деятельностью, известной, естественно, гораздо лучше. Во всяком случае, когда открылось то, что он в свое время пожелал скрыть, все увидели, на что он был способен.
Гегелевская подпольная деятельность обретает особенное значение в связи с тем, что никто из философов его времени ничем подобным не занимался. Кант позволял себе умолчания вместо хвалы, но не очень часто. Рейнхольда, действительно, окутывала дымка таинственности, свойственной масонам и иллюминатам, но собственно противозаконного в этом ничего не было.
Чтобы оценить исключительный характер поведения Гегеля, стоит сравнить его с поведением нынешних стяжателей славы в той же области из числа наиболее знаменитых. Найдется ли что‑нибудь в бумагах и в жизни Гуссерля, Бергсона, Хайдеггера, что не могло бы стать достоянием гласности или быть опубликовано в их время при полном безразличии политических властей или даже с их согласия, а иногда по инициативе? Кому пришло бы в голову заподозрить их в чем‑то тайном, запрещенном, подрывном?
Но именно Гегеля, следуя в том давней традиции, все хором обвиняют в «конформизме» и даже «раболепии»! При этом сами критики, вообще‑то, были людьми более чем склонными к конформизму и подчинению. Упрекают его или превозносят, Гегель все равно не сравним ни с кем, разве что с французскими философами XVIII в., еще более дерзкими, по каковой причине он, кстати, их и превозносит[298].
Иногда историки оспаривают подлинно революционный характер гегелевского мышления, о каком бы периоде его жизни ни шла речь. Чаще, понуждаемые к тому очевидностью фактов, они допускают мятежную молодость, но полагают, что в последний период своей жизни, в Берлине, Гегель сменил шипучее вино на простую воду, легко и искренне приноровился к господствующим порядкам в политике и религии. Даже Гейне неосторожно намекает на что‑то подобное.
Большинство «младогегельянцев» разделяло это ошибочное мнение. Они считали, что не надо предполагать у Гегеля более дерзновенные мысли или действия, скрытые за текстом более или менее консервативных публикаций. Эти тексты следует понимать буквально, ибо они воспроизводят окончательную мысль философа. Маркс повторяет эту оценку, но в довольно двусмысленных выражениях: «Это не может быть вопросом приспособления (Akkommodation) Гегеля к религии, государству, и т. д., ибо эта неправда есть неправда самого гегелевского принципа»[299]. Если бы Гегель солгал, он бы изменил самому себе! Нам предлагается весьма упрощенное понимание лжи, почти что кантовское. Но ради того, чтобы не изменить самому себе, Гегель принужден был лгать могущественным и бессовестным врагам, как это делали до него Спиноза, Вольтер, Дидро…
На самом деле младогегельянцы не знали почти ничего из того, что мы теперь знаем о юности Гегеля, и даже представить себе не могли того, что он скрывал — в том числе и от них — когда преподавал им в Берлине. Могли ли они вообразить, слушая его лекции, что он собственной рукой когда‑то вывел: «Государство должно исчезнуть»![300]
Эту программу трое юных анархистов из Тюбингена публиковать не стали. И на то были причины. Но, может, они поделились ею еще с кем‑нибудь? Как бы то ни было, они распространяли ее в некоем тайном обществе. Как раз из‑за подобных предложений, расценивавшихся тогдашними властями как «космополитические», в 1784 г. был запрещен и подвергся преследованиям орден Баварских иллюминатов. Нельзя сказать, что Гегель, Гёльдерлин и Шеллинг «воздержались» от того, чтобы предать гласности свое желание исчезновения государства. Не только такое обнародование было практически невозможно, ни о чем подобном они и помышлять не могли.
Тексты, написанные Гегелем в Тюбингене, Берне, Франкфурте были непубликуемыми не из‑за каких‑то небрежностей в оформлении, легко исправимых, но из‑за инакомыслия, политической остроты, философской дерзости. Некоторые из них, как например, «Жизнь Иисуса», были составлены и изложены со тщанием и даже изяществом, но их распространение повлекло бы за собой скандал и суровое осуждение.
Вольфу в Галле грозило повешение за меньший проступок, и заявления Фихте в Иене, из‑за которых разразился знаменитый «спор об атеизме», а философ должен был бежать, никак не могли сравниться по степени радикализма с тем, что писал молодой Гегель. Понятно, что он предпочел оставить их для себя, своих друзей и знакомых. Очень маловероятно, чтобы он не дал их почитать, по крайней мере, Гёльдерлину, Синклеруво Франкфурте), Шеллингу, Нитхаммеру, Фромманну (в Йене), сестре, и даже, возможно, Гогелю, Кройцеру и Гансу… Короче говоря, всякий, кто знаком с интеллектуальной средой и ее властителями, волен составить себе собственное мнение о распространении утаенных трудов Гегеля.
Более явно относится к подпольной литературе комментированный перевод «Писем» Жан — Жака Карта[301]. С ним связан целый ряд нарушений закона. Гегель переводит книгу, строжайше запрещенную «Их превосходительствами» Берна, властями страны, в которой проживает автор. Она была издана во Франции организацией, как нельзя более революционной, глубоко подрывной даже в глазах некоторых якобинцев, уличаемой в систематическом распространении в Европе пресловутой революционной «пропаганды». Гегель отдает свой перевод издателю, некоему Егеру, о котором есть что сказать, персонажу, самому по себе странному, малоизвестному и маргинальному. О существовании этого труда Гегеля публике практически ничего не было известно вплоть до 1834 г. Неизвестными остаются намерения, непосредственные распоряжения, степень распространения, тираж. Сохранилось лишь три экземпляра. Эта затея Гегеля остается, по прошествии двухсот лет, совершенно загадочной.
Труд не был строго теоретическим и «научным», несомненно, был рассчитан на политический эффект. Он грозно предупреждал: Discute justitiam moniti, и адресовался политическим деятелям, руководителям каких‑то стран, каких именно — трудно сказать…
Еще более «подпольной», в узком смысле слова, была «листовка» (Flugblatt), политическая брошюра 1798 г., неизданная, поскольку она не могла быть опубликована, но прочитанная «друзьями», больше напоминавшими сообщников, которые отсоветовали ее публиковать из‑за политической нецелесообразности! Брошюра циркулировала в известных кругах, что подразумевает наличие неофициальных каналов, «политических связей», возможно, какого‑то общества. Гегель решил не публиковать ее, «после того как испросил письменных советов некоторых друзей и получил от них ответ» (nach brieflicher Beratung mit einigen Freunden)[302]. Однако эти письма, понятно, еще более тайные, чем текст, о котором в них шла речь, не были сохранены; скорее всего, их уничтожили по прочтении. Кем были эти необыкновенно влиятельные корреспонденты?
Следует признать очевидное: до 1802 г., и значит, до тридцати двух лет, Гегель писал одни лишь опасные тексты, позволяя себе, однако, знакомить с ними избранных читателей, имен которых мы не знаем.
Но что бы подумали берлинские полицейские и судьи в 1819 или в 1830 г., будь они оповещены из будущего о том, что у двадцати или тридцатилетнего Гегеля и Гегеля пятидесяти или шестидесяти лет взгляды остались неизменными, и это были те самые взгляды, которые стали причиной гонений на его студентов?
Итак, «разумный» вывод напрашивается сам собой: дурные знакомства, злостные выпады, еретические измышления — все это не более чем эксцессы чрезмерно затянувшейся юности. Студенту, даже припозднившемуся в студентах, прощается все. Ведь позже заблуждения отпадают, ошибки исправляются, Гегель в Берлине после покаяния становится философским педантом, предельно корректным политически и религиозно, пользующимся таким расположением власти.
Но вот в чем дело: этот образ берлинского Гегеля лжив. В Берлине в иных условиях, созданных иным временем, Гегель завязывал столь же сомнительные знакомства, предрекал столь же тревожные события, держался столь же неортодоксальных мнений, — и все это делал с опаской и втайне.
В частности, он постоянно вмешивался в дела Burschenschaft, в то время как никто и ничто его к этому не обязывало. Сожаление или возможное раскаяние в том, что было всего лишь юношескими эскападами, не сделало его более осмотрительным и воздержанным. Даже, можно сказать, наоборот. Здесь он дошел до крайности и при этом, наученный долгим опытом, вполне сознавал, что делает.
На воде
Интерес Гегеля к Burschenschaft, его настойчивое вмешательство в процессы над «демагогами», участие в «деле Кузена» подразумевают именно что засекреченные, а не просто укромные, встречи, переговоры, опасные признания, смелые шаги.
Какая из авантюр представляется в этом смысле наиболее образцовой? Снова приходится выбирать.
Одна история, приключившаяся с Гегелем, о которой поведал Розенкранц, свидетельствует о том, что порой в Берлине он вел себя как настоящий подпольщик. Особенно интересна она тем, что представляет читателю возможность сравнить изложение фактов, очевидных и достоверных, с их истолкованием, которое предлагает или старается навязать Розенкранц, истолкованием любопытным, но явно противоречивым и несостоятельным. Все в этой истории кажется странным, уже сам факт, что такое могло приключиться с уважаемым господином профессором.
Розенкранц рассказывает о поступке философа, который по своей дерзости оставляет далеко позади юношеский эпизод с деревом свободы или анонимную публикацию революционного памфлета, свидетельствуя, что в старости Гегель не утратил мужества и энергии.
Начнем с рассказа Розенкранца, отметив в нем некоторую неувязку, возможно, намеренную, и затем попробуем сделать выводы.
Вот текст, опубликованный Розенкранцем в 1844 г., снабженный нашими ремарками: «Доброжелательство (Wohlwollen!) Гегеля здесь превзошло все разумные пределы. Приведем лишь такой незначительный (незначительный!) пример. Из‑за своих политических связей (politische Verbindungen) один из его слушателей находился в следственной тюрьме, задняя стена которой выходит на Шпрее. Друзья арестованного с ним связались [каким образом?], и поскольку они справедливо считали его невиновным, как это, впрочем, потом выяснилось на следствии [в Пруссии арестовывают невиновных?], они нашли способ выразить ему свое расположение, проплыв в полночь в лодке под окном его камеры и попытавшись завязать с ним разговор. Один раз попытка уже удалась (рецидив), и друзья, которые также были слушателями Гегеля, сумели представить ему дело таким образом, что он тоже решил участвовать в экспедиции. Пуля караульного прекрасно могла бы избавить человека, обращающего души демагогов (Demagogenbekehrer), от дальнейших забот. Похоже также, что на воде [только тогда?] Гегеля охватило ощущение странности происходящего. Итак, когда лодка остановилась напротив окна, должен был начаться разговор, и говорить они должны были из предосторожности [кого они опасались?] на латыни. Но Гегель ограничился несколькими невинными общими фразами, например, он спросил у пленника: “Num me vides?”. Поскольку до арестованного можно было дотянутся рукой, вопрос был несколько комичен и не замедлил возбудить всеобщее веселье, к которому на обратном пути присоединился и сам Гегель, вышучивая себя на сократический лад» (R 338).
Предосторожности, предпринятые Гегелем, его испуг достаточно подтверждают противозаконный характер визита. Обращающим души («наседкам» и доносчикам) власти обеспечивали более легкий доступ к заключенным.
Розенкранц морочит нам голову, оправдывая выходку Гегеля его неизбывным «доброжелательством». Он считает, что Гегель «поддался влиянию», как в юности он, должно быть, «поддался влиянию», когда танцевал вокруг дерева свободы…
Он всегда поддавался влиянию!
Не степенный, рассудительный, искушенный профессор, а марионетка, чувствительная ко всяким влияниям, и такая «доброжелательная», что в сравнении с ним всех его коллег, видимо, следует считать «недоброжелательными». Нельзя «быть благожелательным» по отношению к тем, кого считают преступниками, ни выставлять прогулкой ночное тайное посещение арестованного. Гегель очень хорошо знает, что делает, как знает это и Розенкранц, опасавшийся, что любящего приключения философа прихлопнет «пуля караульного». Впрочем, нельзя отделаться от мысли, что заговорщики заручились какой‑то поддержкой внутри тюрьмы.
Такого рода проявления сочувствия к заключенному, ведомые только ему, были характерны для буршей: не приносящие реальной пользы делу, но связанные с риском, несоразмерным практическим выгодам, которых от них можно было ожидать, эти акции говорили об отсутствии политического реализма.
Так или иначе, факты, дойди они до ушей полиции, были бы восприняты вполне однозначно и серьезно: действия Гегеля и студентов со всей очевидностью противоречили законам и уставам и могли быть расценены только как преступные, сопровождающиеся, кроме того, рядом отягчающих обстоятельств, конкретно, исключительным статусом виновного. Профессор Королевского университета в компании злоумышленников!
Гегель хорошо знает, что подозреваемых арестовывают и за много менее серьезные провинности, как, например, был арестован адресат ночного визита. И в самом деле, можно предположить, что речь идет о его репетиторе фон Хеннинге, арестованном в 1819 г. и долго просидевшем в тюрьме, об освобождении которого Гегель упоминает в письме Нитхаммеру (9 июня 1821 г.): «[…] вот уже год как в мое распоряжение предоставлен репетитор для моих лекций; в его обязанности входит посещение моих лекций и проведение по ним занятий 4 часа в неделю при годовом окладе в 400 талеров; 10 недель он просидел в тюрьме по подозрению в демагогических взглядах, денно и нощно при нем в тюрьме был жандарм» (С2 238).
Розенкранц не случайно употребил выражение «политические связи». Оппозиционеры или недовольные никаких подвигов не совершали, они вообще не делали ничего особенного. Но их подозревали в том, что они вынашивали намерение действовать. Вот почему их арестовывали при малейшем намеке на оппозиционность. И главное, полицейские и судьи были одержимы идеей существования заговоров и тайных обществ, которые можно раскрыть и обнаружить, только прослеживая «связи» людей, придерживающихся одних и тех же взглядов.
Если бы ночных визитеров накрыла полиция, дело Хеннинга попало бы в разряд гораздо более серьезных, ибо тогда обвинение в «политических связях», «подозрительных знакомствах» — среди которых на сей раз фигурировал университетский профессор — получило бы полное подтверждение.
Строго говоря, Хеннинг не был «невиновным». Речь идет все о той же ошибке. Розенкранц, вместе со столькими еще, дает понять, что тем, кто, по их мнению и по нормам их времени, являются «невиновными», нечего было бояться полицейских и судей. Тогда как для последних именно эта «невиновность» патриотов, конституционалистов, либералов и составляла их вину. Нет никакого сомнения в том, что Леопольд Хеннинг в период его заключения был откровенным оппозиционером.
Характеризуя Гегеля в столь странных обстоятельствах, Розенкранц употребляет в рассказе выражение «обращающий демагогов», сделавшееся общепринятым. Трудно решить, говорит он это совершенно серьезно, иронически, или имеет в виду какой‑то подтекст. Во всяком случае, впоследствии это выражение стало, к большому сожалению, обозначать вообще позицию Гегеля по отношению к либералам и противникам режима.
Рассказ Розенкранца свидетельствует очевидное: ночные посетители и не думают «обращать» заключенного под стражу друга, переделывать бунтаря в раскаявшегося, напротив, они хотят донести до его ушей и глаз только одно — они согласны с ним, солидарны, если не вообще являются его сообщниками. Зачем им говорить на латыни — помилуйте! — если это слова умиротворения и обращения?
Сам задержанный, во всяком случае, никогда позже не считал Гегеля «обращающим души демагогов».
Помимо своей антиправительственной направленности авантюра характеризует степень близости и доверия, существовавшие в отношениях между Гегелем и его студентами. Его не пригласили бы участвовать в предприятии, если б не знали или не угадывали общее направление взглядов своего профессора.
Розенкранц повествует о недавнем событии. Студенты, с которыми Гегель плавал по Шпрее, причаливая к тюрьме, еще живы. Не исключено, что и сам Розенкранц был среди них, хотя он в этом не признается. Задержанный еще способен подтвердить или опровергнуть рассказ, тем более, если это фон Хеннинг. Но никто так и не выступил с опровержением, — ни участники, ни госпожа Гегель, ни дети Гегеля. Найдется не так много фактов в жизни философа, которые были бы столь твердо установлены.
Остается только поверить замечанию, предваряющему рассказ Розенкранца: «приведем лишь незначительный пример»… «доброжелательства» Гегеля, которое «превзошло все разумные пределы». Хотелось бы, конечно, чтобы Розенкранц поведал и о других, не столь незначительных, примерах перехода границ законности вопреки всякому благоразумию. Не будем, однако, риторичны!
Статуя «государственного философа» начинает осыпаться.
XVI. Двоение языка
Он привык маскировать свои мысли и порой маскировал их так хорошо, что сам не мог узнать.
Шербюлье[303]
Насколько Гегель откровенен в своих речах? Отчего не забыть о всяких подозрениях на этот счет, ограничившись чтением опубликованных произведений, — это уже немалый труд? В них хватает внутренних несообразностей и противоречивых версий, разум и воображение могут утомиться. И уже становится неважным, что в конце концов имел в виду философ, до этого все равно не добраться. Не всякая философия должна отвечать истине, иногда она доставляет возможность приятного чтения, побуждает восхищаться интеллектуальным изяществом авторской мысли, изобилует поводами для погружения в собственные соображения.
Кто мешает избрать по своему усмотрению одно из тех глобальных истолкований, которые были предложены гегельянством, ничего не проверяя и не уточняя, несмотря на свойственную всем этим трактовкам ограниченность? Стоит ли возиться с проверками вещей установившихся, даже если кому‑то этого очень хочется.
Посвященные Гегелю труды столь многочисленны и так пугающе разнообразны, что такого рода позиция не выдерживает критики. Разнообразие объясняется, конечно, особенностями личности каждого комментатора и меняющимися обстоятельствами, в которых происходит само комментирование. Нельзя, однако, не видеть в этом частичной вины самого Гегеля. Все стремятся с разной степенью успеха перетянуть его на свои собственные философские позиции, и все же никто не пытался бы этого делать, если бы на то не было оснований. В итоге складывается впечатление, что у Гегеля можно найти все что угодно, было бы желание искать.
Однако сам автор настаивал на систематическом и целостном характере своего учения. Это учение следует брать «в целом», а не вырывать из него куски. И это касается также самых трудных его аспектов — религиозного и политического.
Фактически Гегель оправдывает различные прочтения, ибо хвалится тем, что практикует некий двойной язык. Разобраться с этой двойственностью — значит подступиться к одному из самых важных и оригинальных аспектов всего гегелевского философского построения. Большинство философов использовали двойственный язык, делая это украдкой. Гегель же заявляет об этом, правда, в исключительно уклончивой манере: «Религия есть форма сознания, в которой истина доступна всем людям, какова бы ни была их образованность; что касается научного познания истины, оно есть особая форма ее осознания, работу над таковым осознанием готовы брать на себя только немногие. Содержание этих двух форм познания — одно и то же, но, подобно тому как некоторые вещи, говорит Гомер, имеют два названия: одно — на языке богов, другое — на языке смертных, — так и это содержание можно выразить на двух языках: на языке чувства, представления и рассудочного, обитающего среди конечных категорий и односторонних абстракций мышления, и на языке конкретного понятия. Нельзя вести философскую речь на языке религии, философии требуется нечто большее, чем навык говорения на языке повседневного преходящего сознания»[304].
Термином «двойственный язык» Гегель определяет отношение, устанавливаемое экзотерически между философией, уподобленной его философии, и религией, отожествленной с лютеровским идеалистически очищенным христианством. В итоге сопоставления философии и религии выясняется, что они высказывают по сути одну и ту же истину, только делают это на двух различных языках, т. е. различие между философией и религией есть не более чем различие языков. И тогда переход от одной к другой будет ни чем иным, как просто переходом на другой язык, переводом с одного языка на другой!
Эта не выдерживающая критики теория должна была казаться вполне разумной и, во всяком случае, очень удобной — Гегель, не смущаясь, развивает ее в текстах, которые ныне повергают нас в растерянность.
При повторном чтении фраз Гегеля, касающихся этой любопытной доктрины, ничего не меняется, они не обретают никакого более или менее внятного смысла. Что за нелепость! Как люди, относящиеся к религиозному типу сознания, — непонятно, впрочем, почему — могли бы вдруг «взять на себя» труд «науки», монополией на который обладает исключительно другой тип сознания? Каждому суждено оставаться пленником определенного типа сознания, того, на который его обрек таинственный удел. Ведь не о трудоспособности, в зависимости от которой верующие могут подразделяться на трудяг и лентяев, идет речь, а о разной природе сознаний.
Однако Гегель ставит в вину «религиозному» сознанию то, что оно не возлагает, точнее, не желает возложить, этот труд на себя (sich unterziehen), хотя таковое сознание уже по определению лишено возможности выбора. Понять что- либо в этом не представляется возможным. Очевидно, Гегелю не хочется выбирать между точкой зрения, согласно которой религия и философия одинаково доступны всем и ведут подспудную борьбу, в которой философия одерживает победу, и точкой зрения, считающей, что религия остается уделом невежественного и покорного народа, в то время как философия оказывается исключительной привилегией своеобразного клира, элиты, и пропасть между ними непреодолима.
Устанавливая сомнительное различие между религиозным «языком» и «языком» философским, Гегель прибегает к языку представлений, причем наихудшему из всех, а не к единственно законному, согласно его собственным установкам, языку понятий. Он отсылает нас, не обращая внимания на неточности, к темным и малоизвестным образным выражениям Гомера! Обычные его резкие выпады против образности здесь настолько приглушены, что почти уже не слышны вовсе.
Благожелательные переводчики вершат чудеса в потугах сделать этот текст внятным по — французски. Каждая немецкая строчка в нем — головоломка. Так, Гегель, пользуясь обиходным выражением, пишет, что религия это die Art und Weise wie, не «каким образом» (la maniere don’t), но что‑то вроде «способа как» (la maniere comment)… Переводя wie из die Art und Weise wie как «способ[305] сознания, в соответствии с которым» (le mode de connaissence suivant lequel) (по — русски: «форма сознания, в которой»), они счастливо соединили «этот способ сознания» с истиной, достигаемой в религии. Немецкий язык не позволял сделать этого.
Полезно и разумно дополнить перевод слова Gehalt (содержание) определением «существенное», которое Гегель посчитал необязательным. Действительно, если речь идет просто об одном и том же содержании, совершенно тождественном себе самому, как получается у Гегеля, то непонятно, зачем ему выражаться двумя разными языками. Напротив, уточняя, что, с одной стороны, есть существенное содержание, подразумевают, что, с другой стороны, есть содержание несколько размытое. Но тогда различие языков передает качественное различие содержаний, которые и были определены как различные. Несмотря на словесную эквилибристику, не слишком ловко исправляющую мысль Гегеля, доктрина не перестает быть подозрительной с религиозной точки зрения: можно ли без тени сомнения взять да и согласиться с тем, что религия являет собой «способ сознания», да к тому же человеческого? Даже не «способ» (mode), но Art und Weise, вид или разновидность сознания, не обретающие статуса «формообразований» (figures), последовательно возникающих одно из другого в «Феноменологии духа»?
Гегель посвятит целый курс, прочитанный им несколько раз и замечательный во многих отношениях, изложению представлений о том, что он называет «религиозным языком». Он делает это так, что, несмотря на очевидные еретические и даже агностические отклонения, ему удается удовлетворить многие требовательные религиозные умы. Гегель умеет с блеском изложить смыслы каждого из двух «содержаний» самих по себе. При том что между собой они плохо согласуются. Горячая защита этого неудавшегося совмещения уже подозрительна, подозрения, впрочем, могли возникать по разным поводам еще при чтении предшествующих текстов.
Гегель стремится не убедить своего читателя, а застать его врасплох. Он поразительно легкомыслен. Единственный аргумент в пользу «двойного языка»… заимствован у Гомера. И к тому же в искаженном виде!
Но что из него можно извлечь для пользы христианской религии? Уже античный язычник, несомненно, колебался, стоит ли всерьез относиться религиозному человеку к тому, что у Гомера откровенно преподнесено как поэтическая выдумка, — к забавной идее несовпадения «языка богов» и «языка людей». Забавной и смущающей: ведь тогда, как могли бы боги и люди понимать друг друга? Вот Гомер и перекладывал бы оба языка на третий, доступный всем поэтический, внимая речам богов, а всем прочим суждена была бы глухота.
В тексте Гегеля при его буквальном прочтении парадоксальным образом именно речь богов оказывается образной, ущербной — человеческой, слишком человеческой! — а речь людей превосходит ее по всем статьям и строгостью понятий, спекулятивностью, философичностью. Гегель, вероятно, не стремится к тому, чтобы его понимали буквально, желая создать образ, пусть расплывчатый и рискованный.
Но он так упорно держится этой идеи «двойного языка» и иллюстрирующего ее гомеровского образа, как если бы у него не было никакого иного выхода. В 1829 г., говоря о способе, с помощью которого один из его учеников, Гешель, описывает соотношение абсолютного знания и христианской религии, переходя от представления к понятию, Гегель напоминает: «Как Гомер указывает относительно некоторых звезд, каковы их имена у бессмертных богов, и как по — другому называют их смертные люди, так и язык представления — не тот, что язык понятия, и человек лишь опознает вещь по имени, которым наделяет ее представление, но на самом деле он есть у себя (bei sich) и живет в своей стихии только благодаря тому имени, которое дает ей оно [понятие]» (В. S. 318–319).
Не так просто перевести! Мысль Гегеля прячется за словами, в то время как читателю пытаются внушить, будто дело совсем не в словах. В отличие — и отличие это важное — от рассмотренного выше отрывка из «Энциклопедии», в данном случае это, очевидно, одно и то же сознание или один и тот же тип сознания, говорящего последовательно или попеременно на двух разных языках.
В противовес изложенному в «Предисловии» к «Энциклопедии», Гегель полагает здесь, что понятие отнюдь не «переводится» в представление: оно побеждает в жестокой схватке (in hartem Kampfe) (В. S. 319) с представлением, противясь исходящему от него «соблазну» (Verfürung), что, соответственно, должно было бы спровоцировать жестокую схватку между понятийной философией и опирающейся на соблазн представления религией. Нет больше согласия (Übereinstimmung), достигаемого посредством перевода, есть разногласие, предвестник битвы.
Переодетый Гомер
В этом контексте обращение к Гомеру, призванное убедить, оказывается на редкость неудачным. Спрашивается, как мог Гегель так легкомысленно возлагать на него надежды. Он часто цитирует по памяти, сказочно обширной и почти всегда надежной, но иногда странным образом ему изменяющей. В иных случаях он не сверяет цитату, хотя это было бы легко сделать.
Ущербная память вовремя приходит на выручку шаткой аргументации.
В отрывках из «Илиады», в которых Гомер говорит о «языке богов», нет ни слова ни о разных названиях светил, о чем пишет Гегель в «Предисловии» к «Энциклопедии»[306], ни о звездах, о которых заходит речь в связи с книгой Гешеля. Гомер в нескольких стихах упоминает достаточно темного персонажа греческой мифологии, — великана, которого боги зовут Бриарей, а люди — Эгеон. С какой стати Гегель в миг, решающий для общего понимания его философии, хочет пояснить и даже обосновать свою мысль с помощью столь маловразумительного примера, к тому же, без сомнения, плохо известного читателям? Что понуждает его выделять этот второстепенный отрывок из Гомера? Почему, уцепившись за него, он доверяется смутному припоминанию?
По размышлении Гегеля посещает сомнение. Но вместо того чтобы свериться с текстом, он исправляет его по памяти, и снова делает ошибку. В издании «Энциклопедии» 1830 г. больше ничего не говорится ни о звездах, ни о светилах, сообщавших его идее нечто космическое, но просто о «вещах»: «Как говорит Гомер о некоторых вещах…» (Wie Homer von einigen Dingen sagt…)[307]. Плохое исправление, потому что гомеровский великан на «вещь» похож не больше, чем на звезду или планету…
В любом случае после Откровения Евангелия, объявляющего Благую весть тем самым божественным языком, на котором Бог говорит со всеми людьми, включая философов, этот сомнительный миф в глазах истинного христианина весомым аргументом быть не может. Спрашивается, чем подобострастное обращение к не самому лучшему из греческих мифов помогает решить общую проблему значимости всякой мифологии?
В некоторых случаях Гегель ограничивается «языком смертных людей», языком христианской религии, так хорошо сообразуясь с нормами этого языка, что компетентные читатели находят его христологию совершенно удовлетворительной. Но к кому он тогда обращается? В других случаях он не приемлет этот религиозный язык, понимание Бога «согласно наивным (счастливым) формам представления: Сын, Рождение и т. д.»[308].
Таковы формы религиозного языка, но Гегель не скрывает того, как к ним следует относиться. Он тем более свободно может говорить то, что думает, что находится в лютеранской стране, а суждение выносит о католической схоластической мысли, вернее, не мысли, поскольку не признает за ней самого качества мышления. Католическая схоластика, на его взгляд, есть лишь «варварская философия рассудка без реальной материи». Не маловато ли этого для «содержания» религии?
По поводу репрезентативного и образного характера религии он продолжает рассуждать в насмешливом тоне: «Тут имеет место одна лишь форма, пустое разумение, двигающееся наугад […]. Царство разума — там наверху […], состоящее из чувственно воспринимаемого разнообразия — (уже Отец и Сын в этом случае), ангелов, святых, мучеников — вместо мыслей […]. Что нам со всем этим делать? Это прошлое, оставшееся позади. Нам с ним делать нечего»[309].
Ему решительно не нравится история с Отцом и Сыном. Он говорит о ней с оттенком иронии, употребляя трудно переводимое слово, звучащее у него с налетом пренебрежительности: Gottessohnschaft, «божественное сыновство», «богосыновство»…
В самом деле, «отношение Отца и Сына позаимствовано из жизни природы, а не духа; это язык, которым говорит представление»[310], а также: «в философии не принято говорить, что Бог родил Сына», хотя — но что бы это значило? — «философия признает что в этом отношении содержится некая мысль, что в нем есть нечто существенное»…
Как это возможно, чтобы Бог стал Отцом? Для этого надо, чтобы он, по меньшей мере, был бы кем‑то, но тогда он приходил бы к сознанию как чему‑то «находящемуся за его собственными пределами»: «Религия, к примеру, представляет Бога личностью; он приходит, таким образом, к сознанию, находящемуся за его собственными пределами»[311].
Итак, «только из запредельности вырастает единство». Бог не личность[312]. Но стоит ли тогда по — прежнему настаивать на двух типах мышления — представлении и понятии? Очень похоже на то, что Гегель зачастую именно это и имеет в виду, опираясь на множество аргументов, сама многочисленность которых сбивает читателя с толку. Притом что ему также случается опрокинуть с помощью пары слов все эти искусственные построения: «Мифология относится к педагогике рода человеческого, возмужавшее понятие не имеет более в ней нужды…»[313].[314]
Нетрудно соотнести данное высказывание со словами Жуфруа, укрепляясь в подозрении, что последний мог кое- что позаимствовать у Гегеля, возможно, через посредство Кузена: «Задача христианства, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы завершить образование человечества и сделать его способным познавать истину без помощи образов, принимая ее без иных оснований, кроме собственной очевидности»[315].
И наконец, т. е. в конце исторического развития: «Когда мысль крепнет достаточно, чтобы существовать в своей собственной стихии, миф становится ненужным украшением, не способствующим продвижению науки… То, что прячется, скрывается за его символами — несущественно… Миф вообще не является адекватным средством выражения мысли»[316].
Но если миф больше ни к чему повзрослевшим душам, почему бы не попытаться освободить от него всех прочих?
Как соотносятся между собой язык веры и язык философии? Они не столько предполагают перевод с одного языка на другой, сколько исключают друг друга. Не попался ли Гегель на удочку собственным хитростям, простодушно уверовав в наличие двух языков?
Да и как иначе, ведь он так часто повторял, что язык истины — это понятийный «язык»? Но очевидно, что речь идет не более чем о языке: если мы принимаем первую гегелевскую оппозицию представления и понятия, то между религией и философией приходится выбирать. Тезис об истинности обоих языков — ловушка, в которую он сам попадает.
Конечно, Гегель неизменно утверждает, что «философия не противостоит религии, она ее включает в себя»[317], но существуют разные способы включения. При переводе на другой язык содержание остается, в сущности, неизменным. Но с переходом от религиозного к спекулятивному дела обстоят иначе[318]. «Переходящий» в этом случае даже не перебежчик, а прямо‑таки диверсант. Приходится признать, что в гегелевской спекулятивной «версии» христианства нет места таинству Боговоплощения, и что философия Гегеля являет собой христианство, по меньшей мере, «секуляризованное».
Что удивительно, так это то, что Гегель, заложивший спекулятивные основания истолкования религии с социологических позиций, параллельно развивает, причем так, словно он полностью с ними солидарен, религиозные воззрения, сходные с христианскими, хотя и несколько еретические.
Эти метаморфозы повергают читателя Гегеля в смущение. Какого верующего не удивит такое утверждение: «Христианин чтит отблеск (Abglanz) истины»?[319] Но где подлинно явлена истина, в Евангелии или в «Энциклопедии философских наук»?
Подобает ли христианскому мыслителю называть «варварством» всякую философию рассудка и представления, и среди прочих именно религиозное представление об отношении между Отцом и Сыном? Гегель клеймит «истину, еще не помысленную и окутанную варварским туманом образов»[320]: так не следует ли всем освободиться от варварства, а не только тем, кто в порядке исключения обладает сознанием, способным ни с того ни с сего взять и возложить на себя труд научного познания?
Очевидно, что Гегелю удобнее обрушиваться на религиозные представления древних — это не так опасно, как нападать на христианскую религиозную образность, проживая под властью Священного союза. Но что делать с читателями, которые могут отнести критику античных верований к миру, в котором они обитают нынче, и уравновесить избыточную цитацию Гомера тем, что он говорит о Гомере в других местах: «Но поэтов, Гомера и Гесиода, он [Платон] изгоняет из своего государства, находя недостойными их представления о Боге. Ибо в те времена начали серьезно подвергать критическому рассмотрению веру в Зевса и гомеровские рассказы […]. На известной ступени культуры детские сказки представляют собой нечто невинное; но требования положить их в основание истинности, сделать нравственными максимами, законом, имеющим силу для настоящего времени (например, истребление народов, представленное как норма народного права в Ветхом Завете; бесчисленные позорные дела, совершенные божьим человеком Давидом; жестокости по отношению к Саулу, совершенные в лице Самуила жречеством) следует отмести, указав, что это нечто отошедшее в прошлое, нечто всего лишь историческое»[321].
Так следует изгонять Моисея и пророков столь же решительно, как Гомера и Гесиода? Упразднять один «язык» в пользу другого, не внимая никому, кроме греческого философа?
По самому Платону он тоже язвительно прошелся: «Так, например, Платон в “Тимее” пользуется следующей формой выражения: бог образовал вселенную, и демоны принимали некоторое участие в этом деле; это всецело образное высказывание. Но хотя мы дословно находим эти выражения в произведениях Платона, а именно утверждения, что бог сотворил вселенную, что существуют высшие существа духовной природы и что они помогали богу при сотворении мира, не будем принимать их за философское учение Платона, за его философию»[322].
Гегель, следовательно, весьма категоричен, предупреждая своих читателей. И они уже понимают, что нужно об этом думать, когда у него заходит речь об одержимых, нуждающихся в экзорцистах, о творении мира неким богом, который одновременно Отец и Сын, иррациональных догматах и т. д. Особенно Гегеля раздражает путанное, по его мнению, и непоследовательное понятие творения. Он выискивает его и гонит отовсюду. Так, обвиняя Декарта с его теорией двух субстанций в дуализме, Гегель считает отягчающим обстоятельством то, что таковая вынуждает прибегнуть к идее творения: «Но не следует забывать, что, согласно Картезию, первые две вещи суть сотворенные субстанции. Однако, так как это выражение “сотворенные” принадлежит лишь области представления и не является определенной мыслью, то лишь Спиноза…»[323].
Здесь одно влечет за собой другое: чем бы был спекулятивный идеализм, если бы представление, тщательно отличенное от понятия и ему противопоставленное, не подверглось осуждению, поруганию и не было отринуто? Но тогда что остается от главных христианских догматов, могут ли они все еще вопреки всему быть «значимыми для всех людей»?
Вправе ли Гегель считаться христианским мыслителем, когда, меняя регистр, он переходит на другой язык, начиная мыслить спекулятивно? Оставим решение этого вопроса христианам. Перемена, однако, оказывается очень существенной: перед ним другой мир, в котором счастливой наивности как не бывало. При всем том, несмотря на все оговорки и возникающие трудности, следует отметить, что для Гегеля характерна некая общая религиозная направленность мышления, которую не так просто уловить и определить.
Даже в той области, которую можно считать подлинно спекулятивной, он говорит о Боге и некоторым образом воссоединяется с религией. С другой стороны, в это слово он вкладывает такое мысленное содержание, которое не может не привести в замешательство обычных верующих. Нет больше потустороннего (transcendance), нет порождения (filiation) (нет, стало быть, Троицы), нет сотворения мира. Богу дается определение на таком «языке», «перевод» с которого на язык веры весьма затруднителен: «Бог в себе, согласно его понятию, есть непосредственное могущество (Macht), разделяющееся и обращающееся на себя, и, стало быть, не что иное, как отрицательность, непосредственно к себе относящаяся, абсолютная рефлексия в себя, что уже есть определение духа»[324].
Молиться такому богу…
Это определение столь же хорошо подошло бы к понятию. Порой оно достигает еще большей концептуализации: «Бог есть вот это: разделение себя в себе самом, бытие предметом для себя самого, но в этом различении бытие совершенно тождественным себе самому — Дух. Тогда овеществляется (on réifie) (realisiert) это понятие»[325].
Но это целостное бытие Гераклита: Единое, разделяющееся в себе самом!
Атеист опознал бы здесь, скорее, диалектическое представление универсума, универсальный закон диалектики… Эгеон удаляется от Бриарея!
Иногда Гегель открыто признает это несходство, религии никак не ужиться с философией: «Примирение (философии с религией) само является лишь частичным, оно лишено внешней всеобщности, в этом отношении философия — обособленное святилище, и ее служители образуют изолированное сословие жрецов, которое не может совладать с миром и должно оберегать владение истиной»[326].
Парадоксальное и даже несколько комичное суждение: философы, удаляясь от мира в святилище, составляют в нем некое сборище лиц священного звания, между тем «мирским» оказывается церковный клир, говорящий на доступном всем языке «призрачных людей», или «непосвященных».
В других местах и довольно часто Гегель утверждает, что протестантизм как религия отличается от католичества как раз тем, что отменяет различия между «клириками» и «непосвященными», или «миром». Иногда к чести философии он приписывает ей заслугу отмены различения: «Философы вышли вперед и противопоставили этому ужасающему беспорядку мысль о том, что люди не должны быть в положении непосвященных (профанов) ни относительно философии, ни относительно религии, ни относительно права; так чтобы не было больше в религиозной иерархии замкнутой касты священнослужителей, ни в юридической — элиты (они больше не желали иметь касту юристов), которой было бы доверено знание того, что вечно, божественно, истинно и справедливо, и которая могла бы приказывать остальным и руководить ими; человеческий разум, по их мнению, вправе одобрять и иметь суждение. Обращаться с варварами как с профанами — это в порядке вещей — варвары по сути и есть непосвященные (профаны) — но обращаться с мыслящими людьми как с варварами — это совсем уж слишком»[327].
Лишая высокой прерогативы церковный клир, Гегель препоручает исполнение задачи «клиру» философскому! Легче задача от этого не становится.
Рассуждая здраво, следовало бы вопрос о «руководстве» вообще упразднить, перестать определять специфический «тип сознания», отличный от сознания остальных людей, и не оставлять за собой право на особую форму «языка», уступая бедному народу истины «по дешевке». Из двух возможных языков следовало бы выбрать лишь один — правдивый.
Но Гегель, напротив, объявляет, с одной стороны, о повиновении религии, чью историю и в известной степени оправдание он разрабатывает, с другой — он возвещает о критическом к ней отношении или, по меньшей мере, умалении ее роли, низводя на более низкий уровень знания, морали и поведения. Может быть, это различение нужно ему для виду, и не прикидывается ли он, перед лицом коварного врага пускаясь на военные хитрости?[328] Или он мыслит его и проживает на самом деле в состоянии некой надуманной шизофрении, смутно ощущая человеческий мир как разделенный, разорванный, двоящийся? В состоянии шизофрении, возведенной в ранг метафизики?
Трудно поверить в данном случае в полную искренность Гегеля. За его внешним учением о двоении языка, которое вызывает вопросы само по себе, угадывается более твердая, более решительная позиция. Между религией и философией, как ее понимает Гегель, приходится выбирать, и Гегель вполне очевидно предпочитает философию. Теория двойного языка — возможно, не более чем досужие рассуждения, призванные отчасти скрыть радикальные расхождения. Если религия — это метафора философии или понятия, то зачем нужно сохранять сбивающую с толку картинку, когда за ней и также благодаря ей обнаружена истина сама по себе, чистое и несокрушимое понятие? Зачем оставлять всех пребывающими в заблуждении, вместо того чтобы попытаться разубедить, довести до уровня понятия, возвысить до подлинного знания?
На самом деле за двумя языками всегда прячется еще один.
Читая произведения Гегеля, быстро замечаешь, что практика «двойного языка» расходится с предложенной им «теорией», и что все еще сложнее, чем казалось.
Свою «теорию» он приоткрывает одним только философам. Разве мог бы он признаться народу, «всем людям», что дарует им язык, не способный адекватно выразить истину? Это означало бы лишить этот язык доверия в глазах людей, люди перестали бы ему внимать.
Сложность конкретной ситуации, в которой оказался такой непростой человек, как Гегель, характеризуют часто испытываемые им затруднения. Мыслитель, решившийся выражать мысль на нескольких языках, уже не вполне отдает себе отчет в том, каким из них он пользуется в данный момент, а его собеседники перестают понимать, что он, собственно, хочет сказать.
Гегель часто прибегает к формулам, выражениям и оборотам, которые, передавая его мысль, одновременно ее утаивают. В каждом отдельном случае очень трудно определить, осознанно ли, намеренно ли он это делает и в какой мере.
Давно замечена его манера стараться притушить во второй части фразы смелую идею, выдвинутую в первой. Такое искусство клаузулы предполагает большую гибкость ума, которая прячется за витиеватым слогом и по этой самой причине парадоксальным образом делает фразу очень громоздкой и неуклюжей. Тем более Гегель, по наитию или обдуманно, часто смешивает языки в пределах одного абзаца, фразы, и даже слова.
Кое‑кто из учеников Гегеля частично унаследовал от него этот склад ума и способ выражения, утрировав их, добавив систематичности, использовав в обстоятельствах, отличающихся от тех, в которых находился Гегель, в итоге делая их нагляднее и тем самым помогая опознать прием у самого Гегеля.
Выдающийся ученик Гегеля Эдуард Ганс по многим вопросам думал то, что и его учитель, хотя мнения его были более категоричными. Возможно, он мог бы изложить их с большей полнотой, но ему пришлось жить и преподавать во времена, когда дышать, очевидно, было еще труднее.
Вот как один из его слушателей описывает «язык», которым в совершенстве владел Ганс: «Он преподавал историю Французской революции очень многочисленной и разношерстной публике с увлеченностью и смелостью, которые казались опасными в те времена, и которые мог позволить себе лишь очень понаторевший в диалектике оратор. Часто, говоря на эту деликатную тему, он начинал фразу в необычайно отважной манере: все слушали в глубокой тишине, — и обеспокоенный друг, и подстерегающий враг, все спрашивали себя, переступит ли он незримую границу. Но когда, как казалось, ничего уже поправить было нельзя, этот исключительный мастер словесных баталий так ловко поворачивал дело, что под конец фразы, оказывался столь же неуязвим, как и до того, как начинал ее говорить» (Генрих Лаубе)[329].
Помимо экзотерического языка (для шпионов) и языка эзотерического (в беседе с глазу на глаз), у него был, так сказать, третий язык, — язык спонтанного сообщничества оратора и его аудитории.
Ученик, пользуясь приемом учителя, его превосходит. Что касается Гегеля, мы затрудняемся в оценках, возможно, он был не столь ловок, да и не позволял себе таких выходок. Однако, когда перечитываешь в опубликованных произведениях то, что он говорит о французских философах XVIII в. и о Французской революции, убеждаешься, что смельчак Ганс ушел от него не очень далеко.
Слова, чтобы сказать это
Всякий раз нужно быть очень внимательным к форме выражения Гегелем своих мыслей. Он сам очень часто говорит о важности и значении «способа выражения». У многих интерпретаторов Гегеля, загодя располагающих запатентованным представлением о личности и мышлении Гегеля, вообще не возникает вопросов по поводу его искренности или правдивости, и они приступают к его текстам без иных опасений, кроме тех, что связаны с чисто лингвистической техникой. И получается так, что без какого‑либо злого умысла они подменяют то, что Гегель в самом деле сказал или написал, тем, что, по их мнению, он не мог не сказать или написать, и нивелируют при этом оттенки.
Например, некоторым нравится повторять формулу, употребленную им в «Предисловии» к «Науке логики»: «Логика — это мысль Бога до творения мира и конечных духов». Философ отказывает выражению «творение мира» в каком‑либо положительном содержании, оно оказывается не более чем несколько рискованным образом, долженствующим помочь неподготовленным умам без лишних мучений и слез подступиться к тому, что есть понятие, неким «педагогическим мифом». И все‑таки отсылка к «творению» все равно выглядит странной.
На самом деле Гегель ничем не рискует. Переводчики, внимательные к самой букве немецкого текста, предлагают другое, более осторожное решение: «Можно сказать (курсив наш — Ж. Д’О.), что логика — это мысль Бога до творения…». «Творение мира» сведено к манере говорения, метафорическому способу выражения. Но фанатики точности отмечают, что Гегель не употребляет немецких слов, которые оправдали бы такой перевод: «Man kann sagen, dass…».
Логик, о котором известно, какое значение он придает, часто не подавая виду, «оборотам», «способам выражения», как раз в этом месте вставляет одну из своих закрученных формул, доступных только ему, почти непереводимых на французский язык: «Man kann sich ausdrücken, dass…»[330]. Что‑то вроде: «Можно выразиться и так, сказав, что логика это мысль Бога…». Никакой двусмысленности по сути, если не по форме: Гегель не хочет допускать даже в виде метафоры реальность творения. Творение — он заявляет об этом в связи с Платоном — есть некий «оборот речи»[331].
* * *
Несовместимость двух языков нигде не будет так заметна — особенно философу, прошедшему выучку у Канта, — как в области морали. Гегель не скрывает, что религиозная мысль и идеализм на этот счет конфликтуют, ведь именно осознание этого конфликта и побудило его к созиданию идеализма.
Гегель вполне отдает себе в этом отчет: «Точка зрения морали, поскольку она субъективна, есть точка зрения свободной воли, и противостоящая ей (gegenüber) точка зрения, даже если ее содержанием также является истина, — ее противоположность (das Gegenteil), и если содержание ее есть также содержание духа, то это может быть представлено (vorgestellt) как божественная благодать, предопределение (и так даже при самой дурной контингентности в кальвинистской концепции), и как действие — чисто внешнее — благодати, так что здесь обнаруживается коллизия (антиномия) свободы человека и отсутствия свободы, отсутствия воли, чистого самоотречения»[332].
Нашим современникам представляется, будто не составляло никакого труда выбрать между этими двумя концепциями, так категорически исключающими одна другую: свободная воля или самоотречение, идеализм или религия. Для Гегеля характерно то, что в одних текстах он решительно выступает за идеализм, тогда как в других — внешне — за религию, а чаще всего незаметно переходит с одного «языка» на другой: идеализм, окрашенный тоской по религии, или отвага, пораженная осмотрительностью.
Если, следуя его собственным многократным настояниям, отдавать предпочтение согласованности системы — поражение в этом споре потерпит религия.
Как он сам уточняет: «различные церковные представления суть лишь различные попытки решения этой антиномии». Но «Лютеровское понимание, несомненно, является самым глубокомысленным, хотя и оно еще не вполне достигло формы идеи»[333].
Даже протестантизм не дотягивает до истинной спекулятивности, он не идеалистичен по — настоящему, не вполне философичен.
Не приди Гегель к такому выводу, ему пришлось бы отрекаться от самих оснований своего идеализма. Самый весомый аргумент в этой связи — ход исторического развития философии. С одной стороны, вполне очевидно, что никак невозможно стать и быть идеалистом, уже не будучи религиозным человеком, не получив религиозного образования, не имея предшественниками верующих. Никакого идеализма без предшествующей ему религии! А с другой стороны, как только этот идеализм является на свет, развивается, интеллектуально организуется, он необходимо входит в конфликт с породившей его религией, соперничает с ней, оттесняет ее. Идеалистическая автономия противоречит религиозной гетерономии, но последняя сопротивляется и не уступает.
Отсюда эта странная контаминация, приводящая нас в замешательство, колебания между догмой и свободной мыслью, иногда их парадоксальное сопряжение, неожиданное прежде всего у Гегеля, с его высокими притязаниями на строгость мысли, простоту, систематичность. Но оно витало в воздухе того времени, характерно для той эпохи и встречается даже у Шатобриана, принесшего богатую дань агностицизму, прежде чем окончательно и бесповоротно преклониться перед религией.
Как здраво заметил эдин, безусловно, компетентный христианский философ, «гегелевская философия часто требует двойного прочтения»[334]. Это как минимум.
* * *
В ряде случаев Гегель отказывает в «двойном прочтении» своим предшественникам в философии. Он их прочитывает только «по — философски», указывая тем самым, как следует поступать с ним самим.
В «Энциклопедии» он объявляет во всеуслышание, что принимает вместе со «всеми людьми» истины веры, прикровенно оставляя только для себя и кое — кого еще истины философии. Но в другом месте он, говоря о философах прошлого, отрицает возможность такого рода сосуществования языков. Вместо соположения или «перевода» — невозможность. Он изобличает у этих философов приемы, которые сам неявно пускает в ход. Тем самым очевидно показывая, как нужно обращаться с его собственными произведениями.
Гегель — любитель замысловатых фраз. Это некий сигнал: ведь когда язык у Гегеля начинает хромать, это верный признак того, что он занимается щекотливым вопросом, или что какие‑то пункты доктрины недостаточно выверены. Часто они выдают замешательство, которое он пытается скрыть. Но иногда это ясная и точная мысль, которую он хотел бы спрятать от одних читателей, не скрыв ее смысла от других.
Каждому гегельянцу надлежит учиться — не торопясь, не жалея труда, медленно продвигаясь вперед по тексту — распознавать то, что Гегель установил твердо и искренне. И не доверяться с ходу тому, что сказано «на публику», для цензуры, полиции, врагов, для дурней, а также, вне сомнения, другим Гегелем, раздвоенным, переменчивым и неуверенным. Этот труд предполагает упорство, проницательность (esprit de finesse)[335], тщательность.
Гегель раскрывает уловки, к которым прибегали украдкой другие авторы, работавшие не в лучшей обстановке. Так обстоят дела с Ванини, к нему он, как и Гёльдерлин, питает особую нежность. В своих «Диалогах» Ванини, замечает Гегель, очень красноречиво излагает аргументы безбожников. Но, — с удовлетворением добавляет он, — «его способ опровержения этих учений неубедителен»…[336]. Диалог позволяет познакомиться со спорными мнениями, открыто к ним не присоединяясь. Пусть решает читатель.
В случае со старыми авторами Гегель показывает, что проницательного читателя провести не удается.
Так, он напоминает, что «Ванини […] и другие противопоставляли разум вере и церковному учению. Однако первые, доказывая посредством разума то или другое учение, прямо противоречащее христианской вере, заявляли при этом (позднее Бейль, принадлежавший реформатской церкви, всегда будет пользоваться этим приемом (Wendung)), что они повинуются церковным догмам…»[337].
Следует ли одобрять такое сваливание в кучу истин, доказанных разумом, и догм, внушенных верой, им противоречащих? Можно ли искренне выражать себя на двух взаимоисключающих языках? Гегель решительно это отрицает применительно к Ванини и Бейлю. У них двойственность выражения не могла быть искренней, и она не была признана таковой церковью, которую они хотели обмануть.
В случае Ванини «…она [церковь] не допускала возможности серьезного отношения к противоречиям веры и разума и сожгла за это Ванини на костре как атеиста…»[338]. Церкви на эту удочку не попадаются. Они не верят в искренность мыслителя, который делает вид, что подчиняется положениям веры, а сам противопоставляет им доводы разума. В превосходстве разума они не сомневаются!
Гегель признавал несовместимость двух языков. Но он бы не сжег Ванини: «если человек усмотрел своим разумом нечто такое, что представляется последнему неопровержимым, он не может быть сторонником других взглядов, кроме этих, не может верить противоположному взгляду»[339].
Уверения в том, что разум или понятие подчиняются вере, — это речевой оборот, то, что Гегель называет Wendung, прием: «Пользуясь таким приемом, приводили всевозможные возражения против церкви»[340].
Что делать писателю — диссиденту, как не изобретать увертки, чтобы без лишнего риска подступиться к жгучим вопросам.
Гегель даже дает на этот счет советы друзьям. Так, в 1821 г. он сообщает Крейцеру о появлении новой опасности: «Доктор Феннер […] хотел читать курс по “Естественной философии” Окена, король его запретил, потому что эта философия якобы ведет к атеизму, и приказал министру следить за тем, чтобы натуральная и другие философии, могущие привести к атеизму, не преподавались бы в университетах (приложение к спекулятивной философии религии)».
В этой ситуации, говоря о предполагавшемся издании книги Хинрича, развивавшей сходную с его собственной концепцию соотношения спекулятивной философии и религии, Гегель предлагает обходной маневр: «Отношения между религией и наукой», — этот заголовок может показаться подозрительным; лучше, к примеру: «Опыт спекулятивного оправдания теологии» (С2 235)!
Если спекулятивный разум оправдывает богословский, кому придет в голову в нем усомниться?
Так волк становится овечкой.
Но иногда заподозрив Гегеля, — а как этого избежать? — в том, что он прячет иные мысли в темных оборотах, двусмысленных фразах, расплывчатых терминах, не рискуешь ли впасть в другую крайность и начать искать двойной смысл там, где его нет? Он напускал туману, потому что ему этого хотелось.
Не так ли и с разгоревшимся вокруг него спором о пантеизме?
В его время пантеистическим охотно называли учение Спинозы, о котором он часто вспоминает: «Без спинозизма нет философии». Кстати, и его собственная философия многим казалась, и, возможно, не без оснований, пантеистической. Такое обвинение, синоним обвинения в святотатстве, лжеучении и даже безбожии, могло оказаться очень опасным. Гегелю стоило большого труда отвести его от себя.
Он начинает кампанию — безнадежную в его время — по убеждению публики в том, что спинозизм — это не пантеизм, хотя ему самому частенько случалось утверждать обратное[341].
Чтобы отмыть Спинозу от всяких подозрений, он доказывает, что спинозизм — это никак не пантеизм, но некий «акосмизм»! Впрочем, остерегаясь указывать на подозрительные истоки этого нового именования. Он рассчитывает на глупость противников. Если не будет произнесено страшное слово «пантеизм», никого не смутит тот факт, что имя — заместитель, «акосмизм», чревато для христианской религии теми же опасными следствиями: у Бога нет больше мира, куда он может послать Сына. Для имени утрата вещи самоубийственна, что же касается вещи — она обойдется и без имени.
Любопытно отметить, что некоторые ученики Гегеля идут дальше, чем он в использовании этой лукавой методы. Будучи в здравом уме и не веря в то, что слово «акосмизм» помирит их с религией, они предпочитают называть доктрину Гегеля «панэнтеизмом»! Они думают, что таким образом им удается подчеркнуть духовный характер гегелевского философского монизма. Но слова «идеализм» достаточно. Как и пантеизм, панэнтеизм и акосмизм, идеализм подразумевает монизм. Это всего лишь попытки облачить призрак в менее страшные одеяния.
Независимо от того, каким был последний выбор Гегеля, и, принимая во внимание его юношескую приверженность пантеизму, нужно сказать, что изобилие иносказаний, эвфемизмов, оправданий в сочинениях позднего Гегеля лишь усугубляет сомнения критически настроенного ума относительно предполагаемой ортодоксальности и конформизма в делах религии. Кажется, что имеешь дело с тактиком, пускающим в ход разнообразные приемы с целью провести цензуру, расстроить замыслы полиции, властей, враждебной ему части публики.
Гегелю было бы совсем нетрудно составить ясную и точную декларацию, эксплицитно и недвусмысленно подтвердив свою веру в личного Бога, в существование и бессмертие индивидуальной души и т. д. Но Гегель ставит свое имя лишь под разными текстами, буквально перечисляющими все «за» и «против».
Своим «акосмизмом» он никого ни до ни после не убедил. Когда один из его «религиозных» учеников, пастор Мархейнеке, в 1843 г. страстно выступит в защиту гегелевского учения от нападок Шеллинга, он не придумает ничего лучшего, чем обвинить последнего в своем неслыханно резком памфлете в «спинозистском пантеизме»! Сам‑то Гегель полагал, что если ему удастся спасти от этого обвинения Спинозу, то и сам он спасется! А ведь издавал эти оправдательные тексты Гегеля именно Мархейнеке.
Другой тактический прием, унаследованный Гегелем от всех его предшественников, сталкивавшихся примерно с теми же трудностями, заключался в том, чтобы по одному и тому же поводу говорить в разных произведениях разные вещи, или же совершенно различно высказываться по одному и тому же поводу на страницах одного произведения. В этом отношении может показаться странным, к примеру, что Маркс упрекает его[342] за теоретическое оправдание майората (разновидности права первородства) в «Философии права».
Во — первых, если бы Гегель не пощадил в этой книге майората, книга не вышла бы в свет.
Далее Маркс должен был помнить, что тот же майорат, терпимый в Пруссии, живо критикуется Гегелем, когда речь идет об Англии, в статье о Reformbill, публикацию третьей части которой запретил король Фридрих Вильгельм.
Вам нравится майорат? Читайте параграф 306 «Философии права». Он вам не нравится? Беритесь за Reformbill. Так поступали все пишущие диссиденты до него, Гегель бранит в другой стране то, что вынужден одобрять в своей. Такой ценой покупается возможность публикации. И разве было бы лучше, не идя на этот компромисс, умолкнуть окончательно и бесповоротно? Там и тогда не было другого выбора.
Из всего этого следует, что Гегель порой умеет выражаться очень резко и дерзновенно. В других обстоятельствах он проявляет поразительное двуличие. Часто ему самому приходится говорить на «языке представления», порицаемому им у других.
Догадка об эзотеризме Гегеля, в какой бы форме он ни проявлялся, делает чтение его произведений много труднее. Его мысль нельзя положить в карман «как стертую монету», согласно формуле Лессинга, которую он любил повторять. Над каждым текстом нужно задумываться, искать, трудиться, размышлять. Господа гегельянцы, придется приналечь!
В том, что писатель, и тем более философ, не обязан прямо выкладывать на публику все, что у него на уме, Гегель был убежден с юности. Он знал, что иные откровенности подвергают опасности имя, карьеру и даже жизнь тех, кто их себе позволил.
Помимо других убедительных примеров, он слишком хорошо был знаком с историей знаменитого спора об атеизме, который так дорого обошелся Фихте. С поздней философией Фихте он в письме к Шеллингу советовал ему быть осторожным: «Идея Бога, рассматриваемого как Абсолютное Я, принадлежит эзотерике» (С1 28). Подобно самому Фихте, он находил элементы эзотеризма даже в опубликованных трудах Канта.
В связи с этим есть смысл различать несколько уровней или инстанций в гегелевском способе выражения.
Прежде всего, имеется доктринальный корпус, хорошо структурированный, время от времени перестраиваемый, публикуемый, публично признаваемый автором и составляющий основу его философской репутации и популярности. Это теоретическое содержание, изложенное им в ответ на какой‑либо прямо сформулированный вопрос. Это тот цоколь, на котором, прежде всего, зиждется гегельянство, его экзотерическая доктрина.
Но уже эти всем доступные тексты содержат очевидные противоречия, поразительные вариации, аллюзии, намеки и умолчания. Самых искусных они явно приглашают читать между строк.
Эти последние, имея доступ к более полной информации, и особенно к сочинениям, опубликованным не самим Гегелем, или к тем, кои он сознательно скрыл, вынуждены при освоении этого дополнительного материала корректировать свои интерпретации. Им нужно уразуметь, что между помпезной доктриной, излагаемой в Берлине, и этими материалами есть капитальные расхождения: «Государство — это божественное на земле», а с другой стороны, неистово мятежная программа юности: «Раз государство это что‑то машинное, не может быть идеи государства… Только то, что является предметом свободы, называется идеей. Следует, стало быть, пойти дальше государства. Ибо всякое государство вынуждено обращаться со свободным человеком как с бездушным механизмом, а так не должно быть. Значит, оно должно исчезнуть!»[343].
Как объяснить эти головокружительные переходы, то ли радикальным и быстрым переворотом в мышлении, желавшем тем не менее видеть себя независимым от случайных внешних обстоятельств, не то потаенным существованием одной позиции в недрах другой. Головоломка в обоих случаях.
Одна из формулировок, которая лучше всего выражает суть гегелевской философии, это знаменитая максима:
«Все разумное действительно и все действительное разумно»[344].
Но продолжающаяся публикация новых версий устных лекций Гегеля говорит о том, что он часто менял эту формулу. К примеру, ему случалось говорить, что «все разумное становится реальным, и все реальное становится разумным»[345].
Если мы выберем последний вариант, поскольку он был предложен год или два спустя после первого, мы окажемся снабжены смехотворным критерием. К гегелевским перебоям и вариациям нужно уметь приспосабливаться. Что же касается объяснения, мы не слишком продвинемся вперед, опираясь только на анализ текстов.
Получив представление о преподавании Гегеля, о существовавших одновременно или сменявших друг друга доктринах, как удержаться от вопроса, что же он сам об этом думал? Этот вопрос открывает поле для размышлений, требующих, скорее, такта и проницательности, чем ума геометрического.
Трудность заключается в том, что у Гегеля нет двух различных философий, одной — для широкой публики, другой для — посвященных, так что легко можно было бы принять одну и отвергнуть другую.
Когда какой‑то отрывок из Гегеля оказывается особенно темным по смыслу или противоречит другим, следует не только стараться понять его смысл, но также попытаться найти причину того, почему автор оставил его темным, не прояснив или почтя за лучшее не разрешать противоречия. Примем в качестве рабочей гипотезы: Гегель никогда не боялся сойти за слишком большого реакционера в политике, выглядеть слишком ортодоксальным в религии, слишком идеалистом в метафизике. Напротив, он очень опасался выставлять себя мятежником, еретиком или неверующим. Всякий раз при толковании его высказываний это нужно учитывать. Один — единственный намек на несогласие, вышедший из‑под его пера, весомее десятки раз повторенного традиционного утверждения.
При таком положении дел становится очевидным, что Мархейнеке, например, предполагал распространять учение Гегеля как решительно христианское, и в то же время протестное в политическом смысле. Достаточно подобрать подходящие тексты. Мы не знаем, в какой мере Гегель делился с ним сокровенными мыслями в частных беседах. Но на Мархейнеке тоже падает тень подозрений: несомненно, будучи лютеранским пастором и свидетелем спора, он вполне способен был сообразить, что учение Гегеля больше играет на руку христианству, чем доктрина старого Шеллинга. Так вот, следует признать, что приоритет гегельянства в этом состязании не очевиден.
Столь же сомнительна и публикация Бауэром сборника «атеистических» и «революционных» мыслей Гегеля в 1841 г. под названием «Трубный глас»[346].
Бауэр пускает в ход почти классическую литературную уловку. Атеист, он лицемерно представляет собрание бунтарских высказываний как намерение изобличить дурные мысли учителя. Он надеется уберечься от преследований, притворно осуждая публикуемый текст. По крайней мере, с ним познакомится публика, и репутация автора при этом в прогрессивных кругах не пострадает…
* * *
Практически использовавшийся Гегелем «двойной язык» — это не тот язык, который он замыслил в теории, последний должен был обеспечить согласие между философией и религией, альянс тирании и свободы. Но Гегель никак не может решиться на такое полное и безоговорочное примирение. Он оставляет место диссонансам и умолчаниям. Подлинная граница у него проходит между экзотерическим и принимающим разные обличья, но поистине эзотерическим языками.
Философия не вещает истину на площадях — у нее не луженая глотка, и к тому же на углу торчит полицейский патруль.
* * *
Уход в себя не затрагивает сущности, твердого ядра, можно сказать, святая святых учения, поскольку сущность укрыта в «святилище».
Парадоксальным образом как раз в то время, когда Гегель объявляет об этом теоретическом отступлении или уходе в себя, и практикует его, он, не скупясь, открыто, подробно описывает и развивает разные аспекты своей философской мысли, обогащая ее дополнениями, выводами, изводами, экспонируя богатство своей глубокой доктрины в публичных лекциях, привлекающих большое количество слушателей… Эти слушатели обеспечат его философии известную популярность, когда лекции после его смерти будут опубликованы.
Политические заботы, религиозные распри, судебные демарши, административные обязанности, семейные неурядицы, а также разнообразные развлечения и участие в разного рода культурных мероприятиях не мешают Гегелю осуществлять неподъемный философский труд, завершать колоссальную работу, делая ее всеобщим достоянием. Восхищает его способность одновременно тщательно и с размахом исследовать столько разнородных областей — это и право, и история религии, политика, эстетика, история философии, этнология, — причем открыто руководясь намерением подчинить все это разнообразное содержание главенствующему единству системы.
Без конца, из года в год он наращивает, расширяет части системы. Отвоевывает для нее все новые территории. Слагает, излагает, объясняет все более внятно, так что в шутку его можно чуть ли не обвинить в создании «популярной философии», откровенно презиравшейся им в былые времена и в иных пространствах. Чего бы он достиг, если бы Бог продлил ему жизнь и дал сил?
Помимо «Философии права и государства», он не опубликовал ничего из этого нескончаемого учения, варьирующегося по порядку исполнения, меняющегося в деталях. К счастью, несколько дружески расположенных к нему слушателей, ставших фанатичными его учениками, записывают все его речи с тщанием, постоянством, ничего не упуская, изо всех сил стараясь быть точными. Благодаря им и благодаря возможности сравнить разные версии записей, текст восстанавливается и внушает очень большое доверие: величественный массив берлинских «Лекций».
В этих лекциях внимательному и настойчивому читателю одновременно открываются и самое легкое — введение в первую философию Гегеля, и много более труднодоступный комментарий к ней.
Возможно также — это нужно признать — лекции более уязвимы для критики, чем запутанные и темные книги. С большим трудом скрывают они — поскольку речь идет о более конкретном содержании — перебои и неувязки гегелевской доктрины. Но какое богатство!
XVII. Гегелевская монархия
Г-н Гегель любил Францию, любил Революцию 1789 года, и, пользуясь выражением императора Наполеона, которое г-н Гегель любил повторять, он тоже был синим.
Виктор Кузен[310]
Гегель в душе — конечно, с тех пор как он сделался взрослым человеком — всегда был либералом. Так аттестует Гегеля Виктор Кузен в обстоятельствах, исключающих сомнение в объективности его суждения. Переменчивые обстоятельства на редкость беспокойного времени навязывали политическим концепциям философа свои коррективы. Такова была участь всех его современников, и особенно всех немцев, сердечно откликнувшихся в юности на призыв Французской революции.
Самые широкие и сочувственные исследования подтверждают неизменную приверженность Гегеля либеральной позиции, занятой им во времена, когда либерализм обретал протестный и даже революционный характер во всех европейских государствах.
Абстрактный центр
В конце жизни Гегель открыто поддерживал в своих «Началах философии права и государства» проект умеренной конституционной монархии, допускавшей известные уступки феодальным пережиткам. Не исключено, уступки были вполне искренними, но в то же время они сделали возможной публикацию книги. Естественно, под контролем полиции и цензуры. В отсутствие конституции, введенной лишь в 1848 г., прусский монарх — лицо не «конституционное». Поэтому роль либерализма в том конкретно и состоит, чтобы требовать провозглашения обещанной и все не вводимой конституции.
Бывают такие исторически сложившиеся политические ситуации, когда либералов устраивает монархия, несмотря на то что капитализму больше соответствует республиканский строй, являющийся его более или менее адекватным выражением. Выступая за либеральную монархию, пусть даже урезанную, Гегель держится в русле идей канцлера Гарденберга и его фракции, какое‑то время обладавшей частью реальной власти. Но либералы наталкиваются на ожесточенное сопротивление феодалов, в этой конфронтации берущих верх над их главной опорой. Планам Гарденберга так и не суждено будет осуществиться, так что Гегелю не удалось послужить никакой власти, даже прогрессивному ее крылу. Еще меньше он поддерживал ретроградные элементы правящего класса Пруссии.
Несмотря на констатацию этого несомненного факта, в умах части публики, плохо информированной пристрастными историками, сохраняется образ Гегеля реакционера или ультраконсерватора. Кое‑кто хотел бы видеть в нем, невзирая на вопиющую нелепость предположения, чуть ли не предтечу Гитлера.
Выводится ли с необходимостью из собственно философской системы Гегеля какая‑либо определенная политическая концепция? Выводить ее — значило бы, подлавливая Гегеля на слове, слепо верить в неукоснительную правдивость всех его заявлений. На самом деле слишком легко поддаться соблазну и начать извлекать из его философских посылок самые разнообразные политические доктрины. Его первые ученики, особенно «младогегельянцы», рьяно взялись за это занятие.
После 1815 г. лучшие умы волей — неволей стали сторонниками конституционной монархии. В Пруссии такой выбор противоречил намерениям короля, двора, и главное, наследного принца, как и их патентованных идеологов.
Гегель никогда не превозносил монархию, абсолютизм и авторитаризм, даже в публичных курсах, хотя к такому лицемерию его могли подтолкнуть соображения практической пользы.
Насколько авторитарен он, этот король, которому Гегель позволяет лишь сказать «да» решениям, которые принимают министры или чиновники, или, как он выражается, «расставить точки над i»? Пусть за ним, за главой государства, останется последнее слово, — в конце концов, это принято во многих республиках. Гегель заключает власть короля в тесные рамки, и удивительно, что его книга смогла увидеть свет, — позже, после смерти Гарденберга, ее бы не потерпели. Впрочем, король, когда ему доложили о дерзком предложении философа, в частной обстановке выказал недовольство, тяжеловесно пошутив: «А что если я ее не поставлю, эту точку над i?». И конечно, как ни в чем ни бывало, продолжал подписывать самоуправные «рескрипты».
Фактически Французская революция нанесла гегелевской монархии порядочный ущерб. Возможно ли — вопреки сопротивлению Фридриха Вильгельма III и его спесивого отпрыска — ослабить власть короля (если вообще оставить его королем) больше, чем это делает Гегель? Вот как он ограничивает королевские права в «Философии истории»: «Государством управляет мир чиновников, и над всем этим стоит личное решение монарха, потому что, как было замечено выше, окончательное решение безусловно необходимо. Однако при незыблемых законах и при определенной организации государства то, что предоставляется единоличному решению монарха, маловажно по отношению к субстанциональному. Конечно, следует считать большим счастьем, если на долю какого‑нибудь народа выпадает жить под властью благородного монарха; но в великом государстве это не очень существенно, потому что сила такого государства в его разуме»[348].
Разум в основе государства — что это, заблуждение или очковтирательство? Но в том, как замыслил и сформулировал этот тезис Гегель, он очень далек от наивных упований на «добрую волю», монаршью справедливость, власть, полученную «милостью Божией».
Можно сказать поэтому, стране, которой достался слабый монарх, не так уж не повезло. Некогда Гегелю довелось читать в «Минерве» у Ельснера, «Парижские письма» которого он так ценил, следующее высказывание: «Сейе роялист постольку, поскольку верит, что нужна “отправная точка, хотя бы это место занимал полный болван”»![349] Бенжамен Констан и мадам де Сталь оставались либералами, решительно выступая за наследственную монархию. Мунье гарантировал монарху лишь возможность «отлагательного вето»…
Никто из либералов так радикально не ограничивал власть короля, как Гегель. Соображения о том, какова ее доля в управлении государством, опасливо проскальзывают… в курсе «Лекций по эстетике»: «Монархи нашего времени больше уже не представляют собою, подобно героям мифической эпохи, некоей конкретной в себе вершины целого, а являются лишь более или менее абстрактным центром внутри уже самостоятельно развитых и установленных законом и конституцией учреждений. Важнейшие дела правителя монархи нашего времени выпустили из своих рук. Они уже самолично не отправляют правосудия; финансы, гражданский порядок и гражданская безопасность больше уже не составляют их собственного специального занятия; война и мир определяются общими условиями внешней политики, которою они не руководят самолично и которая и не подлежит их ведению. А если им принадлежит во всех этих государственных делах последнее, верховное решение, то все же собственное содержание этих решений в целом мало зависит от их индивидуальной воли, и оно уже установлено само по себе до того, как оно восходит на их решение. Таким образом, вершина государства, собственная, субъективная воля монарха, носит по отношению к всеобщему и публичному лишь чисто формальный характер»[350].
Эти спорные права бесконечно уступают по важности тем, которыми располагает президент Пятой республики во Франции. Гегелевский король царствует, но не управляет. Настоящий прусский король посмеется над грезами Гегеля, когда ему о них будут рассказывать. Он докажет философу, что он совсем не такой «абстрактный» и «формальный» правитель, каким его хотели бы видеть: когда Гегель ему надоест, он заткнет ему рот.
* * *
Был ли Гегель искренним монархистом под конец жизни? Не исключено. Любой другой политический выбор в его время был наказуем, и ряд неизменно разочаровывающих событий, последовавших после 1794 г., не оставил республиканцам никакой надежды. И в тогдашней Пруссии нам не найти республиканцев. Разве что Гегеля, его одного. Горячие головы довольствуются требованием конституции, желательно либеральной, и в крайнем случае, даже абсолютистской, если только абсолютизм способен извлечь пользу из конституции. И неважно, какая это конституция, лишь бы, в худшем варианте, каждый, по крайней мере, был заблаговременно осведомлен о том, что ему запрещено говорить и делать! Ибо прусские подданные этого не знают и должны, что бы они ни говорили и ни делали, быть готовыми ко всему.
Гегель, конечно, отдает себе ясный отчет в печальной политической реальности Пруссии, в наследственном произволе. Он даже говорит об этом, идя на риск и подвергая критике в Англии то, чего не имеет права изобличать в Пруссии.
«Хотя бы полный болван», — сказал Сейе. В роде прусских королей нет никого, кому лучше подошла бы такая характеристика, чем тот, от настроений которого полностью зависел Гегель. Энгельс, который умел воздавать по заслугам, не поскупился и на сей раз:
«Прусским королевством […] тогда правил Фридрих Вильгельм III, прозванный “Справедливым”, один из самых больших дураков, когда‑либо бывших украшением трона. На роду ему было написано быть капралом или смотрителем пуговиц на гетрах; он был бесстрастным развратником и проповедовал мораль. Говорил одними инфинитивами, и в правке рескриптов его превзошел только сын; знакомы ему были лишь два чувства: страх и фельдфебельское высокомерие»[351].
Философ лично удостоился королевского внимания.
В 1826 г. друзья Гегеля — профессора, артистическая публика, студенты — решили отпраздновать его юбилей сразу вслед за торжествами в честь Гёте. Банкет, подарок, речи, стихотворения, поздравления, — всего было сполна на этом на редкость сердечном чествовании. Гегель получил от уважаемых им людей всевозможные свидетельства восхищения и любви. Он был очень растроган, как это следует из его письма жене, которая не смогла присутствовать на церемонии. На это празднество часто потом ссылались как на добавочное доказательство престижа, авторитета и влияния философа в Берлине. Это и впрямь был нравственный триумф, но не все так считали.
Гегель хорошо ощущал вызывающий в отношении принятых тогда норм характер празднования и последовавших за ним комментариев в газетах. 29 августа он пишет жене: «Теперь я должен следить за тем, чтобы все оставалось в рамках: если в кругу друзей позволительны преувеличения, то публика смотрит на это иначе. Прилагаю уже появившуюся в связи с этим статью» (С3121).
Не публику задевали размах празднества и его отражение в прессе, очевидно, что Гегель имел в виду власть имущих. Он слишком хорошо их знал. Его опасения подтвердились. Газеты поместили репортажи.
Завистливого короля рассердила такая популярность. Каким бы невероятным это ни показалось сейчас, он издал специальный «рескрипт», Kabinetsordre, запрещающий газетам отводить так много места освещению «частных праздников». Варнхаген фон Энее видит в этом строгое предупреждение Гегелю. Последний на будущий год устроил так, чтобы не быть в Берлине в дни юбилея, но имел неосторожность отправиться в Париж, и его встречи с тамошними вождями либерального движения, статья, которую ему посвятил «Конститюсьонель», добавили злобы и недоверия по отношению к нему.
Первые биографы проходят мимо этих неприятных инцидентов или скрывают их, подчеркивая размах празднества, которое более не возобновлялось с такой широтой.
День рождения Гегеля был отпразднован еще раз с еще большей сердечностью в 1831 г. — в год его смерти — но не в Берлине, из‑за холеры, и вне связи с очередной годовщиной Гёте, в узком, более семейном кругу, где главными гостями были его друзья — евреи: Штиглиц, Мориц, Вейт и др.
* * *
Было бы неверным анализировать политическую мысль Гегеля и оценивать занимаемые философом позиции вне обусловливающего их контекста. Только в контексте они обретают смысл и значимость.
Политическое положение Гегеля в Берлине делается более очевидным, когда мы соотносим его с мыслями и поведением персон в высших государственных сферах, при жизни Гегеля еще как‑то сдерживавших свои чувства и мысли, а потом, после его смерти, переставших их скрывать. В каком‑то смысле эта перемена отчасти объясняет, почему однажды он упомянул о «счастье» жить под властью «этого милостивого государя». В самом деле, если третий Фридрих Вильгельм не радовал, то с четвертым, которому предстояло править после 1840 г., дела обстояли еще хуже. Еще наследником, он уже проявлял враждебность гегельянству.
Его отец был обязан спасением своего терпящего бедствие королевства добросовестным и преданным отечеству советникам, и если он не выполнил щедро розданных тогда обещаний, то, по крайней мере, сохранил остатки благодарности своим спасителям: министрам, генералам, политическим деятелям, высоким чиновникам, ведь иногда ему случалось прислушиваться к их советам.
Напротив, Фридрих Вильгельм IV, придя к власти в 1840 г., был убежден, что у него нет никаких обязательств, не терзался на отцовский лад угрызениями совести и не собирался исполнять данных отцом обещаний.
Его учителем в политике был, вместе с графом Штольбергом, очень консервативный Ансильон, а сам он черпал вдохновение в ретроградной доктрине Людвига фон Галлера.
В итоге все происходило так, что можно было подумать, что у нового короля Пруссии была врожденная неприязнь не только к учению Гегеля, но и к Канту. В 1816 г. Ансильон, открыто возражая известным заповедям Канта, призывал правителей: «народом, как и ребенком, нужно управлять (regieren), ибо оба нуждаются в опеке, развитии и воспитании»[352]. Он подчеркивал состояние «несовершеннолетия» народа и превосходство «наставников».
Фридрих Вильгельм IV явным образом был убежден в абсолютной зависимости подданных. Он повторял старые формулы давнего абсолютизма: «Я знаю, что я король милостью Божией, и останусь им до конца». Двадцатью годами раньше Гегель осуждал такие притязания: «Если хотят постичь Идею монарха, мало сказать, что Бог ставит королей, ибо от Бога все, даже и наихудшее»[353].
Новый король уничтожит скромные надежды прогрессистов, кое‑кто из этих либералов в какой‑то степени базировался на политической доктрине Гегеля, какой бы умеренной она ни была. Но что остается от этой гегелевской доктрины на практике, а главное, от его конкретной политической позиции, если суверен провозглашает в 1842 г.: «Я вам ручаюсь — и вы можете поверить моему королевскому слову — что, пока я король, ни князь, ни слуга, ни собрание представителей, ни клика евреев- интеллектуалов не получат без моего на то согласия ничего из имущества и прав, благоприобретенных короной праведно или неправедно»![354]
Какая откровенность: «праведно или неправедно»!
Страна и ее жители составляют собственность короля, и он с ними делает то, что ему заблагорассудится. В зависимости от настроения он предоставляет какие‑то частицы этого достояния своим фаворитам, из числа наиболее послушных, во временное пользование: «Немецким князьям свойственно править патриархально, относясь к власти как к отеческому достоянию, наследию отцов. Я глубоко привязан к моему народу. Вот почему я хочу править теми моими подданными, которые, как малые дети, нуждаются в управлении, карать тех, кто позволит сбить себя с толку, привлекать, напротив, к управлению моим достоянием тех, кто этого достоин, выделять им личное имущество и защищать их от самонадеянной наглости лакеев»[355].
Наглый и заносчивый лакей, Гегель подверг патриархат резкой критике в 1821 г.: «Государство больше не является княжеской собственностью, нет больше княжеского частного права… родовой юрисдикции» и т. д.[356]
Выступая против безраздельного «опекунства», он утверждал право индивидуумов на свободное самоопределение. Но Фридрих Вильгельм IV разрушил все эти гегелевские ограничения абсолютизма несколькими трескучими фразами. Князь Гарденберг был низведен до ранга лакея — узурпатора. Гегель не избежал упрека в опасных связях с «еврейской кликой»: Раэлем Варнхагеном, Веерами, Мендельсонами, Эдуардом Гансом… На нем лежала ответственность за преступные идеи.
Если кто‑то будет упорно искать в Пруссии начала XIX в. предтеч Гитлера, не составит труда найти куда более подходящие кандидатуры на эту роль, нежели Гегель.
Тираноубийство
Существует еще один аспект отношения Гегеля к монархии, до сих пор неизвестный и заслуживающий внимания: мы имеем в виду неизменную апологию тираноубийства.
Суждения великого мыслителя о его выдающихся современниках — излюбленная тема всякого рода комментариев. Как правило, меньше интересуются отношением к тем, о ком лучше не говорить. Между тем упорное замалчивание тревожной темы порой оказывается красноречивее развернутого высказывания.
Во времена Гегеля судьба Людовика XVI никому не давала покоя. Воспоминания о фигуре короля, его поступках или бездействии, переживаниях, семейных отношениях, трагической смерти — обычный предмет беседы. После 1815 г. в Германии поносить «убийц короля» (Königsmörder) считалось хорошим тоном, посланное им проклятье представляло собой что‑то вроде условия допуска в общество, администрацию, политическую жизнь.
Знаменательно, что проклятье так и не появляется в произведениях Гегеля, как, впрочем, и в сочинениях Гёльдерлина, посвятившего стихи Бонапарту, Руссо, Ванини.
Во всех опубликованных произведениях Гегеля, а также в сохранившихся рукописях, имя Людовика XVI отсутствует. Оно лишь случайно и бегло упоминается в пометках, сделанных при чтении хроник (В. S. 724–726)[357]. При этом никакого негодования по поводу убийства!
В общем, предполагается, что первые немецкие сторонники Французской революции, часто ее энтузиасты, были подавлены казнью Людовика XVI и из‑за этого отвернулись от революционного движения. По ту сторону Рейна раздался вопль возмущения. Вслушиваясь в его далекое эхо, историки не отдавали себе отчета в том, что те, очень немногие, кто были склонны испустить вопль радости, вряд ли могли это себе позволить.
С другой стороны, слишком легко забывается, что конституционные монархисты во Франции поначалу проявили себя как истинные революционеры: разве не они начали расшатывать устои? Обстоятельства быстро опередили их, особенно после провозглашения конституции. Но в Германии, где после долгой череды надежд и разочарований, много позже, все же добились дарования конституции, конституционалисты, даже монархического толка, как, к примеру, Мунье, оставались в глазах всех революционерами.
Они боролись если не с монархией, то, уж это очевидно, с абсолютизмом. На этой борьбе Гегель и остановит, по существу, свой выбор. В конце его дней в Пруссии бросают в тюрьму явных и целеустремленных конституционалистов и даже просто подозреваемых.
Для Гегеля «государство без конституции» (D 283), государство, в котором «суверен непосредственно осуществляет власть, как ему заблагорассудится (nach seiner Willkür)», и есть деспотизм, оно еще более преступно, если к этому добавляется «эта вопиющая несправедливость […] коронации, узаконивающей власть королей»[358].
Кстати, Гегель ищет и находит черты прусского королевского правления, которые выгодно отличали бы его от французских порядков. Нет сомнения, что в его глазах, как и почти для всех немцев, образцовая тирания — это властвование Людовика XIV, продолженное Людовиком XVI, тоже тираном. При этом большинство соотечественников Гегеля не считали, что его нужно убивать.
Некоторые из них, впрочем, неуклонно следовали Революции и сочли исторической необходимостью казнь монархии в лице короля. Похоже на то, что три тюбингенских товарища оставались «революционерами» вплоть до расправы с жирондистами, с которой им было не смириться.
Известно, что при известии об обезглавливании Людовика XVI штифтлеры в Тюбингене обрадовались. Их ликование было слишком открытым. Они его не скрывали и вскоре ощутили последствия такой неосторожности.
Гегель и Гёльдерлин впоследствии были более осторожными на этот счет, но взглядов не переменили. Впредь они изобличали тиранию, предмет их глубокой ненависти, «из‑за ширмы». Пусть читатели гадают, в кого метит автор. Они осуждали ее, называя по имени, только если это относилось к другим странам или к древней истории.
Гармодий и Аристогитон
Они заимствуют показательные примеры главным образом из античности, не смущаясь огромной разницей ролей тирании в греческом полисе и маленьком немецком княжестве XVIII века. Их чувства различаются в каких‑то оттенках, но в главном они единомышленники, особенно в сфере политики, и поскольку ни одному из них полностью не открыть что у него на душе, сказанное одним дополняет то, что говорит другой.
Очень удивляет, — это, впрочем, вполне объяснимо — что никто не обратил внимания на исключительное предпочтение, отдаваемое ими двум античным героям, основательно забытым в наши дни: Гармодию и Аристогитону, тираноубийцам[359].
Конечно, не только они предмет восхищения Гегеля, он почитает многих, более известных античных персонажей. Но отношение к этим бунтарям характеризует его самого. Однажды в Берлине он восклицает, конечно, с улыбкой: «Возможно, я не Гракх, но все же я свободный человек» (С3 15 mod.)[360]. Ни Ансильону, ни Галлеру, ни Савиньи не пришло бы в голову сравнивать себя, как с недосягаемыми образцами, с дурной памяти Гракхами.
Гегель и Гёльдерлин выбирают в качестве героев цареубийц, после казни Людовика XVI самых хулимых, самых скомпрометированных персонажей. Трудно сказать, то ли выбор героев предопределил их повышенное внимание ко второстепенным греческим поэтам, Алкею и Тиртею, то ли, напротив, поэзия пробудила у них интерес к Гармодию и Аристогитону, убивших Гиппарха, афинского тирана, в 514 г. до P. X.
По ошибке Гёльдерлин приписывает Алкею кровожадные песни — схолии[361], которые он перевел в 1793 г., ставшем фатальным для Людовика XVI, под заголовком «Реликвия Алкея» (Reliquie von Alzäus).
В первой строфе решимости не менее, чем в последующих:
«Я хочу украсить меч листьями мирта! Как встарь Гармодий и Аристогитон Когда сразили они тирана (da sie den Tyranen schlugen), Когда афинянин стал гражданином, равным с другим в правах»[362].Можно представить себе, какое удовольствие доставили бы эти стихи, кто бы ни был их автором, герцогу Вюртембергскому и прусскому королю, погруженным в мысли о казни их кузена Людовика XVI. Поэт укрывается в тени прошлого, но его читатель сверяет часы со временем. Гёльдерлин приходит ему на помощь, выражая в связи с Гармодием и Аристогитоном чувства, которые одолевают его ныне: «Выше доблестью, чем эти два друга, нет на земле никого!».
Гегель хорошо знал о том, что Гёльдерлин поклоняется этим античным героям. Последний этого не скрывал: «Но доблестный Гармодий! Я хочу походить на твой мирт, мирт, в котором скрывается меч. Не хочу понапрасну слоняться […] Не мне быть простым соглядатаем»[363]. В «Гиперионе» он, среди прочего, не упускает возможности заявить: «Когда жили Гармодий и Аристогитон, — сказал, наконец, один из нас, — мир еще знал, что такое дружба. Эти слова переполнили меня счастьем, и я не мог долго хранить молчание.
Эти слова делают тебя достойным лавров, — вскричал я. Но можно ли впрямь представить себе такую дружбу? Прости, но надо быть Аристогитоном, чтобы знать, какой была его любовь; и тот, кто хотел быть любимым любовью Гармодия, не должен был бояться молнии. Ибо, если все это не помутило мой разум, необыкновенный юноша должен был проявить в любви непреклонность Миноса. Немногие выдержали такое испытание: больше не осмеливались быть другом полубога и сидеть, наподобие Тантала, за столом бессмертных. Но нет ничего более прекрасного здесь на земле, чем такая привязанность двух столь благородных сердец»[364].
И Гармодий, и Аристогитон были не полубогами, а простыми людьми. Дружба Гегеля и Гёльдерлина, как видно, все же не переросла в общий замысел тираноубийства. Они не свергали тиранов. Но какая тоска по греческой родине!
Здесь невозможно привести все случаи упоминания Гёльдерлином Гармодия и Аристогитона, всегда только положительные, или похвалы их предполагаемым певцам, Алкею и Тиртею. Панегирик обоим составляет один текст, воспроизведенный в общем обзоре Гёльдерлино- гегелевской концепции искусства. Гёльдерлин еще раз возносит хвалу обоим цареубийцам и, кроме того, он радуется тому, что в древности в их честь был воздвигнут памятник: «Агенор изваял статуи Гармодия и Аристогитона, освободителей родины», и напоминает:
«Оба юных героя, Гармодий и Аристогитон, были первыми, кто взялся за великое дело освобождения. Всех воодушевила дерзость их поступка. Тираны были изгнаны или убиты, а свобода восстановлена в своем прежнем достоинстве»[365]. Все это говорит о том, насколько важным был для Гегеля и Гёльдерлина разгоравшийся в то время во Франции и все еще порой возникающий спор о том, был ли Людовик XVI приговорен к смерти «законным» образом.
Эти слова равно характеризуют политическую позицию Гёльдерлина и его эстетическую доктрину.
Концепция «ангажированного» искусства близка Форстеру, произведения которого внимательно читал Гегель: «Восхищение героем овладевало сердцем художника, когда он увековечивал в мраморе доблестную фигуру». Форстер противопоставляет современное искусство имевшему место в свободной античности: «Из единого чувства взросли искусство и добродетель, но холодное дыхание деспотизма засушило побеги: любовь к отечеству уже не могла вдохновлять (begeistern) того, у кого не было родины, но был господин. Не было больше освобожденных Афин, чтобы побудить скульптора изваять статую своего Гармодия в назидание потомкам, амфиктионии не воздавали больше ему почестей от имени великого союза племен»[366].
Гегель, разделяя чувства Гёльдерлина, сожалеет, что у немцев нет национальных народных схолий, которые бы они распевали, как в свое время греки. При этом он почти буквально воспроизводит перевод Гёльдерлина. Христианской молитве, которую читают перед едой, но чаще ею пренебрегают, он противопоставляет схолию, эту застольную песнь, патриотическую и часто воинственную, поочередно исполнявшуюся греками на их пирах: «Наших детей приучают к застольным молитвам (Tischgebet) и утренним и вечерним благословениям. Их учат нашей традиции, нашим народным песням и т. д. Нет Гармодия, нет Аристогитона, над которыми бы сиял ореол вечной славы, ибо они свергли тирана (da sie den Tyranen schlugen!) и дали законы и равные права гражданам, и которые жили бы в голосах нашего народа, в его песнях»[367].
В другом месте он одновременно сожалеет о том, что нет Тезея, и нет «у нас Гармодия и Аристогитона, в честь которых мы могли бы петь схолии, потому что они были освободителями нашей родины»[368].
Следует заметить, эти два героя, «освободители страны», освобождают ее не от внешнего угнетателя, но от внутренней тирании.
Среди малоизвестных авторов Гегеля интересуют только Алкей, а также Тиртей. И это с юности. В шестнадцать лет он выписывает незнакомые ему слова из «Военных песен», приписываемых этому автору (R И). Шла ли речь о греческих словах или о немецких переводных терминах? Примечание в издании «Ранних произведений» признает отсутствие каких‑либо сведений о тексте, которым располагал молодой Гегель[369].
Однако упоминание о Тиртее наводит на некоторые мысли. Незадолго до того, как Гегель заинтересовался предполагаемым автором «Военных песен», они были переведены на немецкий в 1783 г. персонажем если не первого плана, то отнюдь не безызвестным, сыгравшим важную роль в умственном формировании молодого Гегеля. Это Карл Филипп Гонц (1762–1827), учениками и друзьями которого в Тюбингене вскоре сделаются Гегель и Гёльдерлин.
Но, возможно, они познакомились с этим швабом еще раньше.
Гонц опубликовал свой перевод «Военных песен» в 1784 г. в Цюрихе, «за границей», стало быть. Мятежный характер этой выходки усугублялся тем, что Гонц поместил его в одном томе с переводами из Тибулла своего друга Рейнхардта[370].
Оба были друзьями Шиллера, это в известной мере окружало их ореолом популярности, и оба — особенно Рейнхардт — сделались заметными фигурами. Обычно их упоминают вместе.
В 1784 г. схолии Тиртея звучали достаточно революционно и патриотично. Но насколько более сильным было их мобилизующее воздействие, когда их перечитывали в 1789 или в 1793 годах!
Поскольку деспотические порядки не оставляли возможности прямо высказываться о происходящем, Гёльдерлин и Гегель укрылись в далеком и более славном прошлом, жалея о том, что не могут воскресить дух этого прошлого. Но каким бы наивным ни был этот литературный призыв, он тем не менее выражал обоюдную глубокую убежденность: убить тирана — это хорошо.
О каком бы переводе или издании ни шла речь, вопрос в том, благодаря чьему посредничеству могли попасть «Военные песни» в руки подросткам?
Не стоит преуменьшать значения, которое Гегель и Гёльдерлин придавали стихам этих древнегреческих поэтов, Алкея и Тиртея, а также поступку героев — тираноубийц Гармодия и Аристогитона.
Почитая Алкея и Тиртея, Гегель и Гёльдерлин воздавали по заслугам произведениям — кто бы ни был их настоящим автором — со специфическим, обращающим на себя внимание содержанием, произведениям, хотя и не подвергшимся забвению, но не очень популярным как в те, так и в наши времена. Их высокая оценка носит, по существу, политический характер и связана с актуальной политической жизнью. Она говорит о бунтарских наклонностях, опасливо отправленных в прошлое.
Конечно, следует признать, что в публичном выражении своих взглядов Гегель, как правило, не позволяет себе откровенности, возможно, он это делает в общении частном. Но и публичные его высказывания с годами становятся все более сдержанными, как из‑за растущего разочарования, так и благоприобретенной осторожности. В Берлине он предает огласке только «умеренные» суждения, и свидетели могут подумать, что его настроения изменились, что в душе он стал консерватором.
Но даже в публичных выступлениях, когда он растолковывает учение, которое при внимательном рассмотрении не назовешь консервативным, иногда проскальзывают чувства, воодушевлявшие его в юности и, несомненно, продолжающие вдохновлять на тайную деятельность.
Тогда ему приходят на помощь старые греческие герои. В конце жизни, рассказывая о Диогене в «Лекциях по истории философии», он вспоминает анекдот, не столь уж обязательный по ходу изложения: «Тирану, спросившему его, из какой бронзы следует отливать статуи, он дал хороший совет: из той бронзы, из которой отлиты статуи Гармодия и Аристогитона»[371].
Неплохой совет, на взгляд некоторых! И это после казни Людовика XVI и убийства (кинжалом!) Коцебу!
Это последнее упоминание об изваяниях Гармодия и Аристогитона и о тех, кто постановил их воздвигнуть, должно было привести Гегелю на память молодого Гёльдерлина, о котором он словом не обмолвился в своем курсе «Эстетики», но забыть которого не мог.
Так начинаешь понимать, что такое этот столь часто приписываемый Гегелю «цезаризм». Мирты в Швабии не растут. В листьях созданного воображением мирта, в словах, можно спрятать только бутафорский кинжал.
XVIII. Дело кузена
Тот, кто замешан в подобном деле, всегда может сразу сознаться — и притом без какого‑либо давления со стороны, в том, о чем, по всей вероятности, и так узнают в ходе процесса; хотя, разумеется, подобное признание не должно никому повредить.
Witt‑Dоеhгing[372]
Дело Кузена похоже на детективный роман. Там нет убийства, но до него чуть было не доходит: герцог де Монтебелло, сын маршала Ланна, собирается обнажить шпагу, защищая своего наставника от солдат, пришедших его арестовать. Герцог, конечно, не пользовался расположением в Пруссии: этот представитель имперской знати, которого терпела французская Реставрация, вызывал раздражение в Германии, не любившей вспоминать «корсиканское чудовище».
Итак, 15 октября 1824 г. в Дрездене начинается из ряду вон выходящий не придуманный спектакль с Виктором Кузеном в главной роли. Этот профессор философии умудрился восстановить против себя полицию, суды и дипломатию трех государств: Франции, Саксонии, Пруссии. Короли, министры, высокопоставленные чиновники и Меттерних встревожены его существованием, озабочены его взглядами, поступками и, прежде всего, «политическими связями». Прусская полиция одержима манией «наличия политических связей», повсеместно представляющих опасность.
По официальной версии, Виктор Кузен сопровождает в Саксонии молодого герцога де Монтебелло, который должен встретиться там со своей будущей супругой. Но власти подозревают другое: матримониальные и душевные намерения герцога должны послужить прикрытием, составить алиби его наставнику. Задачей последнего, по существу, является установление связей между французскими и немецкими либералами, а точнее, укрепление отношений между французскими карбонариями и тайными немецкими обществами. На процессе, затеянном против Виктора Кузена, это сообщничество отчасти подтвердится; последуют заключение в тюрьму и лишение права выезда, допросы и судебное разбирательство, колебания и нерешительность, международный торг, — спустя несколько месяцев дело окончится ничем. Кузена, в конце концов, отпустят без юридического оправдания.
Высокопоставленным лицам, заинтересовавшимся материалами следствия и получившим к ним доступ, будет все время попадаться имя Гегеля, ибо он был замешан в нем с самого начала: он давно был знаком с Кузеном и поддерживал с ним философские, если не политические, контакты. Гегель поступит ловко и осмотрительно, написав письмо прусскому министру внутренних дел и тем сильно спутав планы полиции в ее войне с Кузеном. Французский философ всегда с признательностью вспоминал об огромной услуге, которую Гегель ему оказал.
Касающиеся этого дела документы составили четыре объемистых тома в Тайных архивах берлинской полиции (С3 353), и не похоже на то, чтобы историки их усиленно штудировали. Мы коротко изложим главное, опуская многие эпизоды, сами по себе интересные, поскольку относятся к жизни Гегеля.
Каждая из сторон старалась, действуя в своих интересах, искусственно раздуть дело и не обнаружить при этом истинных намерений. Невиновных не было! Дело подтверждает заурядность мира, состоявшего из людей посредственных, в котором довелось Гегелю жить, и еще оно подтверждает достоинство поведения самого Гегеля. Естественно, главную роль в деле играет Виктор Кузен. Ему в то время тридцать два года, и он — один из самых видных представителей либеральной оппозиции. Из‑за этого его отстранили от преподавания в Сорбонне, и с 1820 г. он не занимает никаких официальных должностей и вынужден согласиться на место наставника детей маршала Ланна (герцога Монтебелло), умершего в 1809 г.
Он — «угольщик» («карбонарий») или еще совсем недавно был им, член тайного общества, поставившего себе целью свержение монархии, и даже участвует в подготовке нескольких сорвавшихся военных мятежей. В 1822 г. у них появляются свои мученики: Четыре Сержанта в Ля Рошель, генерал Бертон.
Некоторые из них не скрывают своих намерений бороться также и «за свободу других народов»[373] и значит сотрудничать с аналогичными организациями за границей. Общество усиленно подражает итальянскому Обществу карбонариев, некоторые видные члены которого, в частности, знаменитый граф Санта Роза, входят в число самых близких друзей Кузена. Оно существует в виде очень разрозненных групп, «вент», и насчитывает во времена наибольшей популярности около 40 000 членов. При этом сторонники набираются из интеллектуальных, буржуазных и мелкобуржуазных кругов, простолюдины в него не допускаются, и это объясняет общую слабость движения.
Тайный характер общества противоречил его более или менее демократическим планам. Однако консервативным властям оно представлялось опасным, и они активно преследовали его членов, которых обвиняли в большем насилии, чем то, которое они на деле совершали. Шатобриан сгущает краски, когда упоминает об «этих участниках вент, или септембризад, орудовавших кинжалами»[374]…
Некоторые историки допускают, что к 1823 г. «Общество угольщиков» распалось. Это не так. Во всяком случае значительно позже этой даты многочисленные отдельные «венты», или ответвления «Всемирного демократического сообщества карбонариев» еще существовали и действовали: так, в Бельгии они существовали по меньшей мере до 1836 г. Бельгийские «венты» поддерживали тесные связи со своими французскими и немецкими собратьями. Например, в 1829 г. их посетил Иоганн Георг Вессельхёфт, с семьей которого Гегель никогда не прерывал связи, бывший другом «незаконнорожденного»[375].
В том, что Виктор Кузен, либерал, carbonaro в прошлом или в настоящем, был заподозрен прусской полицией в желании установить или укрепить политические связи с немецкими либералами или тайными обществами, и в частности, с Burschenschaft, в этом не было ничего ни абсурдного, ни удивительного, тем более по этой самой причине за ним уже следили Витт и французская полиция. У карбонария всегда рыльце в пушку.
Виктор Кузен уже был в Германии в 1817 г., когда ему было 25 лет. Думал ли он тогда лишь о том, чтобы познакомиться с немецкой философией или у него были особые политические интересы? Теперь это невозможно узнать. Тайная миссия оставляет следы, только если проваливается.
Не отличавшийся скромностью и застенчивостью молодой Кузен завязал знакомство со множеством писателей и философов; ему сразу понравился Гегель, только что получивший должность в Гейдельберге. Какие общие устремления могли сблизить немецкого философа, который начинал приобретать известность, и молодого французского интеллектуала? Да, конечно, общий интерес к философии, но Кузен так толком и не разобрался в философии Гегеля. Много вероятнее, это было совпадение политических взглядов, как позже подтвердил Кузен: оба были прирожденными либералами.
При таких условиях разве не мог французский визитер, столь радушно принятый, намекнуть Гегелю на кое — какие дела, имевшие отношение к их общим пожеланиям? Когда Гегель в 1824 г. приходит на выручку Кузену, соблюдая при этом величайшую осторожность, так ли уж он не ведает, с кем действительно имеет дело?
Самая высокая инстанция французской полиции поставила в известность прусскую полицию относительно поездки Кузена в Германию в 1824 г., сообщив о подозрительном с политической точки зрения характере поездки. Она мечтала отделаться от этой докуки.
Отстраненный от преподавания, Кузен только умножил свою популярность в либеральных кругах, и особенно среди студенчества. Французское правительство терялось в догадках, как с ним быть. Объявление о предстоящем путешествии в Германию дало правительству шанс. Начальник полиции Франше — Деспере, член Конгрегации, счел, что случая упускать нельзя и составил записку для своего прусского коллеги[376]. Маневр открывал неплохие перспективы. С учетом политической конъюнктуры, положения и известности Виктора Кузена во Франции арест и устранение выглядели нереально: французские власти не хотели рисковать и брать на себя ответственность. Но в Германии, вдали от Латинского квартала, разве нельзя было без шума и особенных трудов взять под стражу малознакомого философа?
Франше — Деспере действовал, таким образом, очень профессионально. Замысел не удался исключительно из‑за непредвиденных осложнений, самих по себе незначительных, к числу которых следует отнести письмо, отправленное Гегелем прусскому министру внутренних дел, добавившееся к резкой реакции герцога Монтебелло, нерасторопности французской миссии в Дрездене, извещенной слишком поздно, дурному настроению саксонских властей, раздорам среди сообщников по нехорошему делу, ловкости виновника и его друзей, с которой они окончательно провалили все предприятие.
Каждое слово записки Франше — Деспере дипломатично намекает на субверсивные намерения Кузена, пересекшего Рейн, и ничего не знавшего о шагах, предпринятых французским министерством. Прусские власти извещались о том, что Кузен сопровождает герцога де Монтебелло в Дрезден, «где, по его словам, он должен жениться», такая формулировка должна была посеять сомнения в серьезности его матримониальных планов. Подчеркивалось, что французский профессор, «известный своими крайними взглядами», завязал во время своей предыдущей поездки «близкие отношения с профессорами и учеными разных немецких университетов», и что «все свидетельствует тот факт, что путешествие предпринято не без политических целей».
Гегель был среди тех «немецких ученых и профессоров», с которыми Кузен действительно завязал самые тесные и доверительные отношения. Элементарное дознание могло это подтвердить, если вообще была нужда в дознании.
Оповещенная прусская полиция использовала все средства, предписанные соглашениями, действующими в рамках Священного союза, а также недавними общими распоряжениями (Комиссия Мейанса), принятыми для обуздания в Европе либеральных «идей», чтобы добиться от саксонского правительства ареста и выдачи Кузена.
Саксонские власти действовали, несомненно, против своей воли: сообщникам ведь тоже не нравится, когда им диктуют, как себя вести, или заставляют на себя работать. А, кроме того, они, возможно, опасались утраты международного престижа в случае неудачи с эти делом. В таких случаях хуже нет, как оплошать, и они поспешили передать Кузена Пруссии, хотя бы для того, чтобы поскорее умыть руки. И все же высокопоставленные саксонские чиновники испытали заметное раздражение в отношении прусских коллег, повлекшее за собой утрату доверия.
Прусские полиция и юстиция управились со своей задачей превосходно. Сначала они продержали Кузена три с половиной месяца в заключении, а затем до февраля 1825 г. — под надзором.
Когда Гегель узнал об аресте друга? Точного ответа на это нет. Странным образом переписка не дает сведений на этот счет. Не сохранилось ни одного письма Гегеля, которое бы относилось к этому времени! Ни одного письма с 11 октября 1824 г. по 24 апреля 1825 — исключительный перерыв в своей довольно интенсивной переписке? Нужно отметить, что письма, написанные сразу после ареста Кузена в сентябре 1824 г. — это только письма жене во время путешествий в Прагу и Вену, и в частности, то, в котором он ей советует не писать в письмах, посланных по почте, ничего о политике (отправленное из Дрездена 7 сентября 1824 г., стало быть, за месяц до событий). Взаимное молчание, само по себе значимое.
Он сделал остановку в Дрездене и остановился в той же гостинице, которую выбрал во время предыдущего приезда, когда за ним следила полиция[377]. «Случайно» он встретил проживавшего в ней советника Шульце. Были ли у него, кроме этой, еще встречи?
В октябре 1824 г. Варнхаген, комментируя вмешательство Гегеля, его письмо от 4 ноября 1824 г., уточняет, что тот «уже разговаривал с Кузеном в Дрездене» (В3 376)[378].
И вправду, очень маловероятно, чтобы Кузен задумал и осуществил поездку в Германию, независимо от ее причины, не предупредив своих немецких друзей, и прежде всего, Гегеля, не рассчитывая на встречу с ними.
Арест французского философа не должен был показаться Гегелю таким уж неожиданным, как ему на всякий случай хотелось это изобразить. Ему давно были известны, причем весьма непосредственно, методы прусской полиции и разгильдяйство буршей. Только 4 ноября 1824 г., то есть почти три недели спустя после ареста, он направляет министру внутренних дел знаменитое письмо. У него не только было время подумать, но также, судя по всему, он не забыл посоветоваться с хорошо осведомленными покровителями, наверняка с Шульцем, а также, возможно, с Альтенштейном, перед которым он в конечном счете всегда должен был отчитываться.
Во всяком случае сомнительно, чтобы он мог сразу проникнуть в тайные замыслы, о которых и по сей день известно не все. Письмо Франше — Деспере было опубликовано, насколько мы знаем, Бревилем только в 1910 году[379]. Как далеко зашел Гегель, роясь в этих политико — юридических дебрях, выясняя имена и факты? Он знал, что Витт — Деринг, выдающийся двойной агент, гениальный, в своем роде, авантюрист, присовокупил к обвинениям французской полиции свой донос на Кузена. Он знал также, что последний лично встречался с немецкими либералами и революционерами, которых прусское правосудие хотело привлечь к делу: с Фолленом, Снелем, Вессельхёфтом и их товарищами. Удалось ли ему в этой хитроумной игре взять верх над прусской полицией и юстицией, которые были вынуждены, — что бы они там ни думали — в конце концов, отказаться от выяснения того, чем намеревался Кузен заниматься в Дрездене?
Его письмо в защиту Кузена, направленное министру внутренних дел фон Шуккманну, в сущности, ограничивается засвидетельствованием высоких моральных качеств подзащитного.
Во время ареста Кузена Варнхаген пишет: «Все убеждены в его невиновности. Профессор Гегель, встречавшийся с ним в Дрездене, ручается за него»[380]. Нет. Гегель не выступил поручителем «невиновности» Кузена, во всяком случае, в своем письме. Большинство тех, кто превозносит его смелость, письма не читали. Как мог Гегель засвидетельствовать невиновность Кузена? У него было достаточно причин в ней сомневаться. Должен ли был он компрометировать себя в официальном письме?
Власти и обвиняемые, в разное время узнававшие о существовании письма, вероятно, не сразу оценили его. Из‑за дружбы с Кузеном и с замешанными в деле буршами, а также из‑за некоторых пространственно — временных совпадений, Гегелю было очевидно, что процесс заденет и его. Лучше было предупредить события, изобразив из себя законопослушного подданного, которому нечего скрывать и желающего честно информировать правосудие, вместо того чтобы хранить молчание, провоцируя подозрения в запирательстве и нечистой совести.
Смелости гораздо больше в факте написания, чем в содержании письма. Было очень небезопасно соваться в эти грязные полицейские дела, да еще тревожиться о судьбе обвиняемого, неважно, на каком основании, и в первую очередь, в качестве объявленного друга последнего. Но Гегель не мог от этого уклониться.
Как раз такого рода «связи» (Verbindungen) чаще всего служили причиной для подозрений. Действовать нужно было осмотрительно. Письмо Гегеля оказалось длинным, и как ему было свойственно, довольно вычурным по стилю. Пока дошло дело до окончательной редакции, ему пришлось много раз обмакивать перо в чернильницу. Похоже, осталась незамеченной основная черта послания: Гегель, изображая наивность, взяв на вооружение классическую тактику подозреваемых, говорит только то, что и без того известно о его связях с Кузеном, об ученых занятиях последнего, о том, что это достойный и известный человек, — содержание, само по себе слишком легко просчитываемое, чтобы за что‑то можно было зацепиться (С3 486).
Остановимся лишь на некоторых вещах.
С одной стороны, Гегель действительно приходит на помощь Кузену, потому что указывает на широкую огласку события и отклики на него: с этим задержанным нельзя обращаться как с простым берлинским студентом, до которого никому нет дела, ибо общественное мнение разбужено. С другой стороны, Гегель не забывает о себе. Он знает, что так или иначе окажется замешанным в дело, его имя будет упоминаться в ходе допросов разными свидетелями. Он рискует быть выставленным в качестве «сообщника». Лучше сбить ищеек со следа, изобразить все так, будто ему нечего скрывать от властей, и что единственное его желание — помочь им избежать ложных шагов.
Расписывая научную деятельность и заслуги Кузена как ученого, его исключительно университетское призвание, Гегель подчеркивает значимость своих собственных заслуг и дает понять, что только ими и ограничены его связи с Францией. Тактика! Ибо теперь хорошо известно, благодаря не подлежащим сомнению публичным заявлениям, сделанным много позже Кузеном, что основой их согласия и взаимного доверия была, по существу, общность политических взглядов[381].
Почему прусские власти так преследовали Кузена? Какое им было до него дело? Какой смысл опасаться непредсказуемых политических выходок маленького профессора, к тому же отставного, да еще в Саксонии? А уж после ареста еще менее того. Почему же они так стремились его схватить? Не лучше ли было бы попросту выдворить его? Тайные мотивы этой истории не очень ясны. Можно предположить, что в Кузене надеялись обрести животрепещущее доказательство деятельности немецких революционеров. Возможно, существовали замыслы обнаружения некоего международного заговора и предполагалось публично разоблачить предателей. Но для этого требовалось, чтобы Кузен был неловок и позволил себя обмануть. Письмо Гегеля в любом случае способствовало дискредитации такого рода намерений, но вовсе не успокоению упомянутых немецких демократов и либералов.
Был ли Кузен невиновен?
Очевидно, что, на взгляд прусских властей, нет, ведь он был либералом, карбонарием, о чем было хорошо известно, ибо как раз такой политической ориентации он и был обязан своей популярностью во Франции. Но прусским полиции и юстиции хотелось бы, помимо недопустимых взглядов, отыскать следы деяний, объективных фактов и, прежде всего, доказательства связей с немецкими оппозиционерами.
Напротив, с исторической точки зрения Кузен, мелкий поборник свободы, был более чем невиновен: сажая его в тюрьму, полицейские оказали ему большую честь, нежели он заслуживал. Его удалось запугать и уже несколько «раскаявшийся», когда его задерживают в Берлине, Кузен становится, после своего возвращения во Францию, все умереннее, и вскоре в политическом плане сделается стойким консерватором. За эволюцией политических взглядов последует перемена философской позиции: его приверженность к тому, что он считал гегельянством, уступит место более понятному приобщению к идеям Шеллинга.
В 1824 г. нет полной уверенности в том, что Кузен не виноват в том, в чем его обвиняют. Разнообразные свидетельские показания уличают обвиняемого: записка Франше — Деспере, общественная деятельность во Франции, утверждения Витт — Деринга, участвовавшего лично в собраниях немецких и французских оппозиционеров в 1820 г. в Париже: среди прочих Кузена, Снелля, Лишинга, Фоллена.
Что говорилось на этих сборищах, о чем на них договаривались? Прусская полиция держалась версии, которую старался ей внушить Витт — Деринг, решительно перешедший на другую сторону баррикад, хотя все еще подозреваемый в некоторой симпатии к своим прежним друзьям — либералам. Кузену пришлось сознаться в участии в собраниях. И очевидно, что прусским полицейским было небезынтересно, при чьем содействии, на какие средства созывалось столь удивительное собрание, и какую цель оно перед собой ставило? Вот и нам тоже интересно знать, почему Фоллен и Снелль встречались именно с Виктором Кузеном, когда прибыли в Париж, преследуя достижение своих на редкость неопределенных революционных целей вселенского масштаба? Только потому, что он был университетским преподавателем, как и они? Разве этого достаточно?
Исходя из того, что известно об участниках, можно предположить, что дальше болтовни и донкихотских прожектов дело не шло. Но кто знает? Эти немцы, уж если они брались за политику, то действовали самым решительным образом, без оглядки, отчаянно. Карл Занд, убийца Коцебу, был близким другом Фоллена.
Да и Витт — Деринг, этот авантюрист, каких мало, имевший за спиной долгий опыт участия в радикальной Burschenschaft (в «Воспоминаниях» он утверждает, что признался в авторстве революционных стихов, написанных Фолленом, дабы отвести от него обвинение), историю со вступлением в Итальянское общество карбонариев, которых он предал, некогда он даже вел переговоры с графом Бубна, командовавшим силами в Северной Италии, с целью объединения европейских либералов.
В 1824 г. ему уже никто не доверял, но, даже будучи совершенно дискредитированным, он смог оказать большие услуги органам полиции и юстиции разных стран, благодаря массе сведений, накопленных за годы скитаний.
Поразительная вещь, но ведь Гегель, бывший в курсе истории с Кузеном, неизбежно должен был слышать разговоры, касающиеся этого сомнительного, но по — своему выдающегося персонажа, возможно, он даже с ним встречался в ту пору в ходе следствия и переговоров.
Что касается Фоллена и Снелля, то это были не просто члены Burschenschaft или обычные оппозиционеры. Они руководили организацией, а точнее, ее наиболее радикальным ответвлением.
Внутри Burschenschaft имелось несколько направлений. Самое крайнее, склонявшееся к республиканской идеологии, было представлено Союзом буршей Гиссена, основанным в июне 1815 г. как раз братьями Фоллен, Карлом и Адольфом. Члены союза назывались «Гиссенскими неграми» или «Бескомпромиссными» (die Unbedingten). Они мечтали о великой немецкой республике, в которой все граждане пользовались бы равными правами, а равно считали, что свергнуть тиранию можно только насильственно.
Адольф Фоллен опубликовал в 1819 г. книгу стихов: «Вольные и звонкие голоса юных», в которой среди прочих дерзновенных призывов можно прочитать: «Братья в шелках и золоте, братья в крестьянских рубахах, протяните друг другу руки! Несчастья Германии и Божия воля вас призывают всех. Убейте ваших палачей, спасите страну!»[382]
«Убейте ваших палачей!». Было от чего содрогнуться прусским аристократам. Если у прусской полиции имелось хоть малейшее подозрение в отношении Гегеля, малейшее беспокойство, если она провела самое поверхностное расследование — а как она могла его не провести? — она должна была обнаружить среди прочих не внушающих доверия имен имя Вессельхёфта.
Среди встревоженных арестом Кузена немецких руководителей Burschenschaft, кроме Фоллена и Снелля был еще и Роберт Вессельхёфт.
В самом ли деле, как утверждает Хоффмейстер, сразу после ареста Кузена Фоллен и Вессельхёфт сбежали в Америку, а Снелль в — Швейцарию, разлетевшись как стая воробьев от ружейного выстрела? Может быть, эти выдающиеся Burschenschaftler’bi заранее подыскали для себя укромные норки? Во всяком случае очень похоже на то, что, задерживая Кузена, считавшегося их сообщником, прусские власти прежде всего хотели схватить именно этих людей. И в самом деле Швейцарии предъявили требование экстрадиции Фоллена и Снелля. Но, с одной стороны, швейцарцы отказались удовлетворить требование, с другой — обвиняемые, и в частности Вессельхёфт, решили иначе.
Очевидно, что поведение Burschenschaftler’ы негативно влияло на положение Кузена, свидетельствуя наличие компрометирующих и опасных связей между французами и немцами. Возможно, дело Кузена было не единственной причиной эмиграции Burschenschaftler’ы, но все же оно, если принять во внимание ход событий, сильно подталкивало их к тому, чтобы этот шаг сделать.
* * *
Тесные связи Гегеля с Фромманнами и Вессельхёфтами в Йене сами по себе объясняют почти фатальную неизбежность его вмешательства в дела франкмасонства и Burschenschaft. Но возможно, причина возникновения столь тесных связей — более ранние отношения с франкмасонами.
Фромманны и Вессельхёфты в течение многих лет жизни, практически вплоть до того, как Гегель обзавелся домашним очагом, заменяли ему семью, постоянно его поддерживая и заботясь о его незаконнорожденном сыне.
Между собой Фромманны и Вессельхёфты, известные книготорговцы, были связаны не только дружескими, но и родственными узами. Супруга Фромманна (Йохана, 1765–1830) была урожденная Вессельхёфт. В 1808 г. вдова Фридриха Бона, знаменитого отважного книготорговца из Любека, также в девичестве Вессельхёфт, поселилась в Йене и вместе со своей сестрой Элизабет («Бетти», как звал ее по — домашнему Гегель) основала детское заведение, куда был отдан с разрешения Фромманнов маленький Луи. Философ всегда будет чувствовать по отношению к Фромманнам, а равно к госпоже Бон и Элизабет, «верным покровительницам» Луи, большую признательность и глубокую привязанность.
Фромманны и Вессельхёфты, очень убежденные и деятельные франкмасоны, публиковали, а иногда даже сочиняли масонские книги; именно у них граф Заксен- Веймарский, ученик, позже друг и покровитель Гёте, оборудовал тайную типографию ложи Амалия. Со временем они стали инициаторами создания и горячими сторонниками Burschenschaft.
Гегель упоминает в переписке имя племянника Фромманна, Вильгельма Вессельхёфта (С2 182). Каролина, Вильгельмина, Роберт Вессельхёфт в 1817 г. оставили записи в альбоме Людвига.
Именно Роберт Вессельхёфт примерно в это время разослал циркуляр о проведении празднества в Вартбурге, первой большой манифестации Burschenschaft и либеральнопатриотического движения немцев. Призыв был тайно отпечатан на станках его отца и дяди.
Известно, что во время этого знаменитого сборища был устроен большой фейерверк из книг реакционных теоретиков и франкофилов Ансильона, фон Камптца, фон Галлера, Коцебу, и вместе с ними сожжены символы милитаристского гнета: жезл австрийского капрала и портупея прусского солдата. Многие йенские профессора выступили на церемонии: Луден и Окен, с которым Гегель всегда был в хороших отношениях, Фриз, которого он язвительно критиковал, а также Кизер и Швейтцер и — что примечательно — Карове.
Именно в «прогрессивном» журнале Лудена «Немезида» Фёрстер, который станет близким другом Гегеля, опубликовал в 1817 г. статью, имевшую для автора тяжелые административные и судебные последствия.
Роберт Вессельхёфт связывал большие надежды с движением Burschenschaft. Он прекрасно разбирался в политике, и, к примеру добился того, чтобы на собраниях тайной корпорации в Иене «обсуждались исключительно вопросы, выходящие за рамки студенческой жизни, и принимались решения относительно конституционного устройства и политической жизни народов»[383]. Проекты, вполне в духе тех объединившихся вокруг Виктора Кузена парижских заговорщиков, которых имел в виду Витт — Деринг.
Роберт Вессельхёфт был близок со всеми буршами, к которым проявлял интерес Гегель. Его имя присутствует в протоколах допросов или юридических актах рядом с именами Фоллена, Снелля, Асверуса, Лео, Хеннинга, Занда, Витта, фон Тухера (молодого шурина Гегеля), Нитхаммера (сына друга) и т. д. Именно ему предстоит спорить с Карове, более умеренным и близким позиции Гегеля. Это он опубликует дневник Занда после его казни. Его «Воспоминания» о Burschenschaft станут одним из наиболее ценных источников по истории движения[384].
Позже, после смерти Гегеля, он опубликует под именем Кальдорфа «Письма графа Мольтке о дворянстве», к которым Гейне напишет длинное «Предисловие», ставшее предметом историко — политического спора[385].
Роберт Вессельхёфт был фигурой не менее примечательной, чем Фоллен или Снелль. Обвиненный, преследуемый, разыскиваемый, он бежал, как Фоллен и Снелль, сначала в Швейцарию, но позднее окончательно укрылся в Америке, найдя там достойное применение своей профессии врача. Его сын, Конрад — воинствующий противник рабства, популяризатор гомеопатии в Соединенных Штатах, заслужил отдельную статью в American Biographie, тогда как имя Вессельхёфта даже не упомянуто в Allgemeine Deutsche Biographie (ADB)[386]. Чем только руководствуются составители биографических словарей!
Возможно ли, чтобы Кузен, встречавшийся и совещавшийся с Вессельхёфтом и его сообщниками, не упоминал о нем и его делах в долгих беседах с Гегелем во время своего пребывания под арестом в Берлине?
Читатель, перелистывающий многочисленные тома, посвященные истории Burschenschaft и немецкого масонства, замечает, что зачастую в эти движения вливаются целые семейства. Целые фратрии вливаются в них со своими родственниками и знакомыми: Гогели, Фромманны, Вессельхёфты… Как следствие многие из тех, кто сами по себе, возможно, и не стали бы ими, оказываются членами движения.
Гегель, если вспомнить его юношеские чаяния, несомненно, был предрасположен к деятельности такого рода, хотя колебался и осторожничал. Но даже если это было не так, мог ли он противиться неудержимому потоку, в который его вовлекали личные привязанности?
* * *
Нужно видеть отвагу, с которой действовали эти «революционеры», но одновременно отдавать себе отчет в том, насколько ограниченна была их идеология. Некоторые из них до известного предела относились с уважением к точке зрения властей. Революции как таковые они считали делом «вредным и несправедливым» (К. Т. Велькер). Вильгельм Снелль, один из обвиняемых по делу Кузена, заявлял в письме от 30 июля 1814 г., что следует избегать двух опасностей: «Если бы жирондисты, люди, наиболее достойные, были более сплоченными, более сильными, спокойными и решительными, то бешеным монтаньярам никогда не удалось бы пустить им кровь»[387].
Чего больше следовало бояться: «революции сверху, осуществляемой правителями, или народной революции снизу»?
Тогда кто же будет делать революцию? Ее будут делать студенты, их преподаватели и некоторые банкиры!
И это движение, намеренно лишившее себя всякой политической эффективности, рассматривалось господами из Священного союза как крайне опасное!
«Бескомпромиссные» составляли маленькую изолированную группу людей с непомерными политическими амбициями, которые не могли быть поняты и приняты ни населением Пруссии, ни даже националистически и конституционалистски настроенными студентами. Их деятельность сводилась к индивидуальному террору, и неудивительно, что Карл Занд входил в круг радикалов.
Вот с кем имел дело Кузен!
О его тайной политической деятельности в этот период жизни известно не очень много. Достоверно, что он, по свидетельству Пьера Леру, был участником «вент», и также одним из собеседников на «встрече» с Виттом и Фолленом, что его долгая близость к «Санта Розе» была бы невозможна без каких‑то политических договоренностей. И все же в тогдашней итальянской жизни эта фигура не была второстепенной. Правомерно предположение, что деятельность, развернутая Кузеном в те времена, была не столь безобидной, сколь можно было вообразить, зная, каковы сделались взгляды философа под конец жизни. Так или иначе, истинные или ложные, разоблачения Витт — Деринга были нешуточными.
Барон Экштейн, покровитель и, не исключено, отец Витта, вмешался в дело, чтобы заступиться за последнего и снять часть вины с Кузена. Но по существу он мог помочь первому, лишь переложив вину на второго. Гегель, в ходе процесса или уже после него, должен был слышать, что говорят об Экштейне в связи с этим делом: он знал не только о «неглубоком», по его определению[388], вкладе Экштейна в исследования восточной мысли, которым способствовала его принадлежность «конгрегации», что подтверждают также оба министерских доносчика на Кузена — Франше- Деспере и Делаво.
Занимаясь делом Кузена, Гегель завязывал отношения или поддерживал связь с очень специфической публикой, темной и не вполне порядочной.
Некоторые комментаторы считают, что Кузен ловко защищался на следствии. Вместе с тем они указывают на его «невиновность». Спрашивается, к чему тогда пресловутая ловкость? Между тем другие комментаторы полагают установленным, что по некоторым пунктам «он полностью выдал себя». Большинство комментаторов были не склонны вовсе обелять Кузена: «Вопреки повторным отрицаниям, становилось все более очевидным, что Кузен был прекрасно осведомлен о сговоре между немцами и французами»[389].
Если судьи, в конце концов, отступились, то, скорее всего, из‑за разногласий между обвинителями Кузена, поскольку все они старательно перекладывали друг на друга ответственность за полицейскую операцию, приобретавшую все более широкую огласку и грозившую в Германии очевидным провалом. Поэтому письмо Гегеля сыграло положительную роль.
Как оценить поведение Гегеля в этом деле? Сразу замечаешь, что ограниченное, но несомненно положительное воздействие на ход событий оказал сам факт вмешательства, а не какая‑то особая влиятельность, которую могла усмотреть публика или люди недостаточно осведомленные. Вмешательство, несомненно, потребовало мужества, и позже заслужило благодарность Кузена и восхищение последующих поколений. Но большая часть современников, включая Кузена, возможно, не подозревали, насколько оно было ловким.
Дело Кузена было гораздо опаснее, чем думали, оно грозило последствиями, главным образом дипломатического характера, много более запутанными и темными, чем могли вообразить Гегель и Кузен, оказавшиеся пешками в игре неизмеримо более мощных сил.
Но те, кто дергал за ниточки, сами оказались среди проигравших.
Вмешиваясь в это дело, Гегель очень сильно рисковал. Отдавал ли он полностью в этом себе отчет? Если есть основания сомневаться в «невиновности» Кузена, то как обстояли дела с невиновностью Гегеля? Некоторые историки, к примеру, Бернхард Кноуп, которому не всегда можно доверять, колеблются: «Возникает вопрос, а сам‑то Гегель, не стремился ли, помогая Кузену, выгадать кое в чем, например, снискать себе больший престиж у студенчества»?[390]
Такое впечатление тем более складывается, — правомерность его нам, впрочем, не подтвердить — если рассматривать дело Кузена вкупе с полицейскими и судейскими дрязгами, в которые Гегель вмешался по собственному желанию, и не упускать из виду, с какого рода персонажами из политического окружения Фоллена и Снелля, он поддерживал отношения.
Как бы там ни обстояли дела с его участием, но во время этих событий Гегель еще ближе сошелся с наиболее решительными немецкими революционерами и либералами. Однако их бедственное положение, а равно непоследовательное и рискованное поведение, наконец, повальное бегство, само по себе вполне объяснимое, не могли подтолкнуть философа — возжелай он того вдруг — к более открытому и решительному политическому противостоянию властям. Все затеи у этой партии проваливались, причин для отчаяния хватало.
Одновременно Гегель сумел лучше узнать тех, от кого зависела его жизнь, представить себе реально их могущество, цинизм, ловкость. В те времена он прямо или косвенно сносился с министрами, судьями, полицейскими, агентами — провокаторами высокого класса. Это не могло не сделать его еще более осмотрительным и осторожным и побудить использовать, в меру своих небольших возможностей и во имя благих целей, те же беспринципные — хотя и менее эффективные в данном случае — приемы и средства, которые применялись верхами, ибо полагал, что что бы Кузен ни замышлял, делал или говорил, он ангел в когтях демонов власти.
По поводу письма Гегеля Варнхаген фон Энее 11 ноября 1824 г. оставил пометку, на которую обратили внимание гегельянцы: «У Гегеля должны быть хорошие отношения с правительством, чтобы подобный демарш не вызывал подозрений» (С3 353).
Иными словами, Варнхаген фон Энее дает понять, что на Гегеля благосклонно смотрели в высших сферах — каких? — и что порой он слишком дерзко обходился с властью — но тогда как это было и ради чего он это делал? На самом деле письмо Гегеля не так уж безоговорочно защищало Кузена вопреки тому, что думал Варнхаген; с другой стороны, оно не возымело никакого непосредственного эффекта. Тем не менее Гегель действительно навлек на себя еще больше подозрений.
В какие только осиные гнезда он не совался!
Наивность? Или наоборот, искушенность? Скорее, второе, если учесть, что спустя два года, в 1827 г., будучи в Париже по приглашению Кузена, он будет все время появляться в компании французского философа, служившего ему гидом. Однако теперь он хорошо знает, как смотрят на такие «связи» прусские власти. И, пренебрегая их мнением, осложняет собственное положение тем, что во французской столице встречается едва ли не исключительно с одними либералами. Впрочем, эти безрассудные выходки не замедлят откликнуться для него грозным эхом в Берлине.
Тем более что в «Ле Конститюсьонель» появится очень неуместная статья, превозносящая — не без преувеличения — его отважное вмешательство в дело Кузена. Прусские власти это сильно раздражит. Фон Камптц, начальник полиции, пришел, как рассказывал Варнхаген, в ярость, полагая, что в цели поездки Гегеля в Париж входила подготовка этой публикации (В3 377 и С3 354).
* * *
Кузен, долгое время проведший в Берлине, и в конце пребывания в нем находившийся под надзором полиции, но встречавшийся с друзьями, не мог не поставить Гегеля в известность относительно малейших деталей своего дела, о них же ему рассказывали те бурши, которых оно более или менее близко касалось. Они проводили часы, дни, недели в разговорах; ни Гегель, ни Кузен ничего не сообщают об этих беседах в своих произведениях, хотя беседы должны были укрепить их дружбу и взаимопонимание, согласие относительно мыслей и действий, не слишком афишируемых или скрываемых.
Усматривают некий неопределенный знак в том, что Гегель, когда был в Париже в 1827 г. намеревался, в сопровождении Кузена, нанести визит герцогине Монтебелло, вдове маршала Ланна. Ведь должен же он был представлять, кому он собирается его сделать (С3164).
Правы ли были прусские власти, полагая, что связь «дела Кузена» с Монтебелло теснее, чем это казалось поначалу? Стояло ли за приездом молодого герцога Монтебелло в Дрезден в компании Кузена что‑либо еще, помимо матримониальных планов?
Как бы то ни было, есть в этой истории с Кузеном, как раз в части касающейся Гегеля, что‑то от нас ускользающее. Хорошему детективному роману не обойтись без проницательного сыщика.
XIX. Ultima verba
Среди всех последних публичных манифестаций гегелевской мысли выделяется текст, представляющий собой что‑то вроде невольного политического завещания и содержащий твердое исповедание веры. Последовавшая вскоре смерть Гегеля задним числом придает ему статус итогового.
Имеется в виду юбилейная речь, посвященная годовщине вручения Аугсбургского вероисповедания, в которой Гегель, пользуясь случаем, оценивает современную религиозную ситуацию и рассматривает один вопрос английской внутренней политики, весьма актуальный также и для Пруссии.
Аугсбургское вероисповедание Скорее небо обрушится, чем мы отступимся! Немецкие протестантские дворяне25 июня 1830 г. ректор университета Гегель должен был произнести торжественную речь в честь трехсотой годовщины Вручения Аугсбургского вероисповедания (В. S. 30–55).
Выполнение этой миссии было для него делом, в некоторых аспектах щекотливым, и во время церемонии, как и в ходе ее подготовки, он должен был испытывать противоречивые чувства.
Речь являет собой сочетание мастерства и неловкости. На счет последней следует отнести достойное сожаления признание выступающего в том, что он плохой оратор: «Я хорошо знаю, что должен просить у высокочтимых слушателей прощения за не слишком искусную манеру говорения и рассчитывать на их снисхождение» (В. S. 33). Зачем фиксировать внимание на недостатках речи, о которых заставят забыть ее достоинства? Пусть судят сами. Признания ни к чему.
Эта лютеранская церемония и роль, которая отводилась в ней Гегелю, глубоко его радовали. Всякое решительное, бескомпромиссное и даже насильственное утверждение протестантизма было ему приятно. В этот день он мог льстить себе надеждой, что ведет наступление, действенное и своевременное в контексте дебатов того времени, и к тому же согласованное с властями.
В глухие времена Священного союза мероприятие не было ни нейтральным, ни безобидным. Другие христианские конфессии были настороже. Гегель грубо отстаивал все то, что отличало подлинный протестантизм со свойственным ему боевым духом. Как надменно заявили Карлу Пятому протестантские дворяне: «Скорее небо обрушится, чем мы отступимся!».
Выступление обрело неожиданно рискованный характер. Не только монархисты пытались защищать лютеранство к своей выгоде: либеральное движение, конституционалисты, «демагоги» кичились исключительной религиозностью, манифестация в Вартбурге была приурочена к трехсотой годовщине лютеровского перевода Библии и в ней участвовали только протестантские университеты.
Оратору надо было быть начеку и внимательным в выборе слов.
В то же время он радовался официальному празднованию юбилея. Празднование не само собой разумелось. Могли ли монархии рассчитывать на какую‑то выгоду от него? Не все были в этом убеждены. Если прусский король в почти целиком протестантской стране праздновал годовщину с большой помпой, то его сосед в Саксонии, стране, где католики по — прежнему были силой, старался приглушить память о ней.
В Лейпциге протестантским студентам поначалу запретили любые манифестации и публикации по этому случаю. По их настоянию власти выдали разрешение на проведение небольшого празднества in extremis, но при соблюдении всевозможных мелочных ограничений. Были предприняты чрезвычайные полицейские меры предосторожности. Но студенты ими пренебрегли. Университет принял участие в праздновании во главе с тем самым профессором Кругом, над которым Гегель недавно посмеялся. Протестантская публика примкнула к студентам. Произошли стычки с полицией. Один помощник лавочника был убит, и его похороны превратились в мощную народную манифестацию против властей[391].
Словом, в то время как в Лейпциге дрались на улицах, Гегель мог радоваться тому, что установленные в Берлине порядки были — на его взгляд — лучше в религиозном, патриотическом и политическом отношениях: в этой столице он свободно превозносил освободительный акт, имевший место в Аугсбурге! Он мог, не стыдясь, благодарить прусского короля. Здесь государство и религия в их общем противостоянии тому, что в это время делалось в Саксонии, были союзниками, по крайней мере на публике.
Пользуясь счастливым случаем, Гегель добавил в свою речь немного лести в адрес Фридриха Вильгельма, она была выгодна и не так безобразна, как в иной ситуации.
Но было ли ликование чистым? Все ли устраивало его в этом празднестве?
Ему, наверное, вспоминалось то, что он написал недавно после выступления в защиту свободного убеждения в делах веры: «Похоже, все происходит так, будто власть предержащие в церкви и в государстве предпочитают, чтобы память об ощущении правоты наших предков, тысячами сложивших бы головы за ее осуществление, уснула в нас и никогда не просыпалась»[392].
Он не стал прибегать — в целях воссоздания атмосферы — к традиционному чтению Аугсбургского вероисповедания, которое обычно «навевает скуку на слушателей»[393].
Скуке и холодности он предпочитал жаркие греческие празднества, на которых распевали схолии в честь славных Гармодия и Аристогитона[394].
Как он оценивал берлинскую церемонию?
Несмотря на остроту темы, видит ли он сам в своей речи что‑либо большее, чем нудную проповедь, к тому же произнесенную не слишком гладко и на латыни? Политический контекст добавил его словам боевого духа, даже если он этого не хотел.
В 1830 г. ему, хотел он того или нет, приходилось отмечать годовщину маневра, с помощью которого «облеченные властью» присвоили Вероисповедание. Он даже начинает речь с похвального слова князьям. Это закон войны. Тут он перебирает через край без явной необходимости. Вместе с годовщиной Вероисповедания он празднует… юбилей прусского короля: «Набожность наших государей кладет прочное основание нашему спокойному доверию и связывает нас с ними узами любви» (В. S. 55)!
Тридцатью пятью годами ранее в письме Шеллингу он обличал деспотизм и лицемерие правления, «полагающего критериями оценки заслуг и распределения общественных должностей добродетель и набожность» (С1 35).
В 1830 г. он исправляет: «Каждый год, отмечая юбилей нашего милостивого государя Фридриха Вильгельма, мы обращаем к нему наши взоры и думаем о столь многих благодеяниях, оказанных им нашему университету; и ныне мы хотим воздать должное его великой набожности, источнику всех добродетелей […]. Да сохранит и умножит всемогущий Бог неоценимые блага, коими он одарил нашего дорогого короля и его блестящий дом и которыми он всегда вознаграждает набожность, справедливость и милосердие» (В. S. 55)!
Лицемер! Но по нужде и необходимости…
Гегель очень остерегается напомнить в этих обстоятельствах про королевское обещание конституции. Что касается королевского тезоименитства, конкуренция которого с его собственным не сулила ему ничего хорошего, то он не мог не помнить своей статьи 1817 г. о «Новом положении в Вюртемберге». Тогда он хвалил суверена этой страны, Швабии, намеревавшегося даровать своему народу конституцию, которая также была обещана и другому народу — Пруссии. В то время Гегель не скрывал своего удовлетворения при виде того, как государь появляется на публике, с тем чтобы предложить нечто политически важное и серьезное. И напротив, резко осуждал устаревшую манеру публичного появления князей лишь на юбилейных или свадебных торжествах: «Возможно ли на земле более впечатляющее вселенское зрелище, чем монарх, прибавляющий к могуществу управляемого им государства, которое изначально полностью находится у него в руках, другое могущество, на деле, самое начало власти, включая в управление свой народ как действенный и существенный момент оного? Когда видишь в иных местах, что великое дело учреждения государства и большинство правительственных деяний исполняются лишь как ряд отрывочных мер, вызванных тем или иным стечением обстоятельств, без какого либо общего взгляда и какого‑либо участия общества, а появление на публике княжеских особ и их королевских величеств все более ограничивается юбилеями и свадьбами, то от подобной сцены, когда выход его величества в высшей степени внутренне согласован со смыслом предпринимаемых им действий, не можешь оторвать глаз как от зрелища благотворного, возвышенного и укрепляющего душу»[395].
Какой контраст с поведением Фридриха Вильгельма в 1830 г.! Он отвергает обещанную конституцию, поглощен собственным юбилеем и ревностно печется о своих исключительных правах. Это вам не Тесей, но он набожен.
Reformbill
По крайней мере, он что‑то совершил, а не только дал себе труд родиться.
Фр. Стендаль. Ванина Ванини
Последним словом, которое Гегель предназначал для печати, отчасти случайно оказалось слово «революция».
На последние слова философов любят ссылаться. Иногда им приписывают что‑то возвышенное. Гегель умер молча, но была последняя статья: слова его не лишили, но укоротили перо.
До сих пор власти терпели, не без подозрительности и недовольства, его нарочито двусмысленные публикации, но печатание его последней статьи было прервано особым королевским «рескриптом».
Так Гегель замкнул круг. В начале своей литературной жизни он счел благоразумным подвергать себя радикальной самоцензуре; впоследствии подчинился благожелательной цензуре друзей; позже смирился с недоброжелательной цензурой властей; его последнее послание вынуждено было отступить перед самой суровой из всех цензур, — произволом деспота.
Официальная цензура имеет ряд преимуществ. Она следует жестким указаниям, но общим и ясным; она служит очевидным целям. Тут, по крайней мере, известны границы, которые не надо преступать. Но в 1830 г. статья Гегеля об английском Reformbill пала жертвой монаршего произвола, неисповедимой «доброй воли» короля.
Нет ничего удивительного в том, что к этому времени Гегель заинтересовался английскими делами. Не впервые обращает он испытующий взгляд на эту страну, взгляд «старого политикуса», как прозвали его друзья в последние годы.
Что, напротив, удивляет, так это, прежде всего, резкий и даже свирепый тон его критики Англии, а также тот факт, что, несмотря на это, текст был пропущен с кое — какими изменениями предварительной цензурой; и, наконец, принят, если не затребован, почти официальным изданием: «Королевской газетой Прусского государства» (В. S. 461–506)[396].
В 1831 г. в Англии широко обсуждался вопрос о глубокой политической реформе, сделавшейся необходимой и даже неотложной из‑за катастрофических и постыдных последствий архаичной, противоправной и абсурдной политики. 1 марта 1831 г. правительство представило на рассмотрение парламента долгое время готовившийся проект закона, — Reformbill.
Гегель не был застигнут врасплох. Вопрос ему был знаком. Он быстро написал большой очерк (45 страниц) на эту тему, и его стала печатать «Газета Прусского государства».
Наблюдатель не может не подивиться — в который раз — странному характеру этого вмешательства профессора Берлинского университета, только что сложившему с себя ректорские полномочия, на сей раз во внутренние политические дела иностранного государства.
И это появляется в официальной газете! Трудно поверить, что речь идет об инициативе Гегеля, которому, как говорит Розенкранц, просто захотелось «высказать то, что было на душе» (R 418). Королевские цензоры одобряют содержание откровений, а директор «Газеты» рад их тут же напечатать.
На самом деле достаточно прочитать гегелевский текст, чтобы убедиться в невероятном благоволении цензуры — куда она смотрела? — и в радушии «Государственной газеты» — вероятно, ей было привычно печатать зажигательные памфлеты.
Король (или его советники), несомненно, ознакомился с текстом, прочитав первые публикации в «Газете». Возмущенный, он распорядился предоставить ему рукопись всей статьи и, окончательно утвердившись в отрицательном мнении, запретил ее публикацию.
Розенкранц указывает, что статья Гегеля появилась в номерах «Газеты» со 115 по 118. Он умалчивает о том, что, хотя и объявленное («Продолжение следует»), окончание статьи не появилось в 118 номере. Первое издание Полного собрания сочинений Гегеля воспроизводит полный текст по рукописи Гегеля, не уведомляя об отмене первой публикации[397]. Ни Фишер в 1901 г., ни Рок в 1912 не упоминают о королевском запрете и предварительной цензуре рукописи. В глазах большинства его учеников и первого последовавшего поколения Гегель вполне мог сойти за лояльного и предупредительного сотрудника «Газеты Прусского государства». Должно быть, он и умер в ореоле святости!
Читатели «Государственной газеты» не нашли в 118 номере окончания статьи, объявленного в номере 117. Но оба предшествующих материала выглядели достаточно агрессивными: как всегда мысль Гегеля в этом довольно длинном опусе не блещет ясностью и однозначностью, но все же она здесь гораздо более определенна.
Гегель, обличая английскую — «коррумпированную»! — политику, избегает скорых суждений. Он не хочет предвзятости; желает остаться над схваткой, занять отстраненную позицию, чтобы видеть вещи объективно, описывая с точки зрения незаинтересованного политического мыслителя вещи «как они есть». Он делает вид, что нормативные суждения не по его части. На самом деле эта «научная» оболочка совсем не скрывает очень даже пристрастной позиции.
Статья не только подвергает суровой и строгой критике английскую политическую реальность, но также демонстрирует самый крайний скептицизм относительно реальных целей и шансов на успех Reformbill.
Может быть, Гегель хотел утвердиться в глазах общественности и властей как прозорливый и глубокий политический мыслитель, способный прояснить запутанную и опасную ситуацию с целью помочь заправилам политики найти более эффективные решения, благодаря более ясному и точному осознанию кризисного положения? Но зачем отправляться в английские земли? Мало ли было в Пруссии предметов для изучения столь же сложных и увлекательных? В самом ли деле взялся он учить английских политиков и направлять их действия? Или косвенно метил, рассчитывая на аналогичный эффект, в политику прусскую?[398]
Не исключено, что среди прочих трудно определимых задач Гегель пытался, или делал вид, что пытается, отвратить немецких либералов от слишком радикальных действий: если вам не нравится то, что делается в Пруссии, посмотрите на Англию, там все еще хуже. Повсюду в статье заметны усилия найти и показать какие‑то преимущества прусского правления. Не было ли это обычным приемом компенсации смелых тезисов? Это правда, что какая‑то часть немецких либералов, хотя и меньшая, увлеклась плохо знакомой английской моделью.
Статья Гегеля так смешала с грязью английский режим, что это не могло не задеть рикошетом режим прусский. Но и без этого она должна была повредить английской монархии, разозлить английских правителей, нанести ущерб англо — прусским отношениям, и, в общем, понятно, почему Фридрих Вильгельм III, предупрежденный каким‑нибудь советником, положил конец публикации.
Король не указал каких‑либо определенных мотивов. На просьбу о разъяснении этого шага, последовавшую со стороны Филипсборна, редактора «Государственной газеты», королевский советник Альбрехт ответил: «Его Величество не осудил статью о Reformbill; однако он не полагает целесообразной (geeignet) ее публикацию «Государственной газетой». Я должен (ich muss) просить Вас не публиковать окончание прилагаемой статьи, которую Вы любезно мне предоставили» (Альбрехт, 3 мая 1831 г.) (В. S. 786).
Якоб, французский переводчик, воспроизводя мнение Розенкранца, добавляет, что «это вмешательство было вызвано соображениями иностранной политики, король хотел избежать дипломатических трений, которые могла вызвать статья, очень критическая по отношению к Англии. Окончание было издано частным образом и предназначено для друзей и заинтересованных лиц»[399].
«Дипломатические трения»? На самом деле их могли опасаться меньше всего. К тому же они могли коснуться лишь тори, а не вигов, которые должны были только радоваться написанному в статье. От частного тиража не осталось и следа.
Но вот вещь настолько очевидная, что никак нельзя не спросить: почему прусская цензура, столь репрессивная, дотошная, мелочная, разрешила публикацию? Почему Staatszeitung приняла, если не запросила, статью Гегеля о Reformbill? Любой, самый тупой, — а они были далеко не дураками — цензор должен был заметить, прежде чем давать разрешение на публикацию, что содержание статьи было очень неприятным для английских властей и весьма опасным для прусских.
Ибо если Гегель открыто берется за Англию, то не оставляет в покое и Пруссию. Конечно, он не забывает ловко выделить кое — какие сравнительные преимущества Пруссии. Но делает это очень скромно. Зато информированный и думающий читатель на свой страх и риск может продолжить намеченные сопоставления. Автор проницательно и строго судит изъяны английской электоральной системы и политического состава палат, которые она формирует. Таким образом, читатель ясно осознает эти пороки и возмущается ими. В то же время он замечает, что Пруссия избавлена от этих пороков, поскольку здесь вообще нет ни выборов, ни представительных палат, несмотря на обещания короля.
Гегель перебирает все, с чем в Англии неблагополучно, даже помимо частных недостатков, которые должен исправить Reformbill. Он клеймит абсолютное господство знати и клира, осуществляющееся в самых архаических формах, циничную эксплуатацию бедняков, и, что примечательно со стороны протестанта, столь враждебного католицизму, жестокое обращение англичан с ирландскими католиками. Он ясно показывает — и тут он особенно дерзок и агрессивен — недостаточность или даже полную бесполезность Reformbill в представленном виде, ибо, согласно ему, «английская свобода» — это в конечном счете всего лишь превосходство одного класса земельных собственников и клира (В. S. 782. Ремарка Хофмейстера), — довольно точно замечено. Но это так ужасно напоминает Пруссию!
Цензура почти ничего не поменяла в статье Гегеля. Она заменила пару грубоватых формулировок более умеренными, благодаря чему текст в стилистическом отношении даже выиграл. Странным образом она, стало быть, пропустила в печать самое главное из критического послания Гегеля.
Однако она умышленно убрала то, что, возможно, ей было труднее всего стерпеть. Так, была вымарана примечательная фраза: «Условия, которым в Германии должны отвечать даже люди высокого происхождения, богатые землевладельцы и т. д., при участии в государственных и правительственных делах, а именно, теоретические исследования, научная подготовка, практика и опыт работы, столь же мало отражены в новом проекте, как и в существующем порядке формирования ассамблеи, обладающей, однако, самыми широкими полномочиями в управлении и администрировании» (В. S. 482)[400].
Французский переводчик не указывает, что эта фраза была изъята цензурой, как и ее убийственное продолжение: «Нигде так прочно, как в Англии, не укоренился предрассудок, согласно которому тот, кто получает должность благодаря происхождению или богатству, получает также в придачу ум для надлежащего исправления обязанностей».
Этот намек на происхождение, необязательно дающее напрямую в придачу ум, хотя, возможно невольно, касался прусского короля. И какими «теоретическими исследованиями» осчастливил немцев, какой выдающейся «научной подготовкой» обладал князь Виттгенштейн, министр внутренних дел?
Критика, которую Гегель осмелился адресовать английскому «предрассудку», как нельзя лучше подходила самому влиятельному королевскому советнику, заклятому врагу Гарденберга, другу Меттерниха и Гентца, бывшему «душой всех происков реакции», князю Вильгельму Людвигу Георгу фон Виттгенштейну (1770–1851), министру полиции после 1814 г. Штейн, который был крупным государственным деятелем, так его характеризует: «Князь Виттгенштейн обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы занять выгодное положение в обществе, не обладая хоть каким‑то знанием, хоть какой‑то способностью и не будучи хоть в чем‑то состоятельным; хитрый, холодный, расчетливый, упрямый, изворотливый до низости, поговорка, согласно которой “un vrai courtisan doit être sans honneur et sans humeur”[401], — как раз о нем. Ему хотелось влияния в королевской гардеробной — тайного — и денег»[402].
Злое высказывание Гегеля должно было фигурировать — если бы цензура не вмешалась — на 445 странице Собрания сочинений 1835 г. Цензура его полностью удалила, ясно указывая тем самым на больное место прусской монархии. По всей видимости, цензура прежде всего с подозрением относилась к тому, что в тексте Гегеля могло быть легко отнесено на счет Пруссии.
Обвинения Гегеля и впрямь легко преодолевали границы, особенно Пруссии.
По — видимому, прусскому королю не пришлось прочитать в рукописи вычеркнутое цензурой. Судя по всему, королевский запрет на дальнейшую публикацию был скрытым порицанием цензорам, пропустившим начало. Король убрал точку, которую поставили над i, не сказав ему об этом.
Сомнительно, таким образом, чтобы публикация статьи была прервана из‑за дипломатических тонкостей, и уж точно не цензура в этом виновата.
Именно после прочтения первых частей, уже проверенных цензорами, король или его советники захотели познакомиться с содержанием последней части рукописи. Они, однако, должны были знать или легко могли узнать, по каким соображениям цензоры пропустили в печать первые части, и что повлияло на их решение. Разве все они, цензоры и советники, не заметили, что Гегель подвергает критике те английские порядки, против которых ему было бы рискованно выступить в Пруссии, как, например, майорат, теоретически оправданный в «Философии права»? Так ли уж чрезмерно английское угнетение Ирландии в сравнении с прусским давлением на Польшу?
Своим вмешательством король воздает должное некой традиции, сложившейся в отношениях прусской монархии с ее философами. Фридрих Вильгельм I, после того как Вольф высказал кое — какие идеи, прогнал его за границу «под страхом виселицы»! Фридрих Вильгельм II настрого запретил Канту касаться некоторых вопросов морали и религии. Фридрих Вильгельм III не хочет портить семейный портрет.
Гегель, удивленный принятыми против него мерами, — это наводит на мысль, что он полагал себя полностью защищенным — интересуется в редакции «Государственной газеты» мотивами запрета. Совершенно конфиденциально главный редактор, Филипсборн, знакомит его с письмом Альбрехта: никакого объяснения, вежливый отказ. В ответ на удивление Гегеля он добавляет собственный комментарий: «Если уже не быть таким закоренелым протестантом, то лучше бы им и не становиться» (В. S. 786)[403].
Статья Гегеля не призывала англичан к борьбе с изобличенными злоупотреблениями. Он даже не предлагал им никакой перспективы. Но он действовал одновременно более позитивным и более коварным образом — в свойственной ему манере. Действуя способом, уже много раз опробованным, он позволял себе двусмысленный прогноз.
По сути дела Гегель, как и в конце заметки о «Письмах» Жан — Жака Карта, а также в духе Форстера, который уж тем более не желал революции в Германии, или, во всяком случае, никогда этого желания не выражал, описывал угрожающую альтернативу: если вы не проведете реформы или если ваши реформы будут ненастоящими, если они не будут тем, чем должны быть, вы получите революцию. Но, принимая во внимание катастрофическую ситуацию и состояние духа английских правителей, необходимые реформы будет очень трудно провести. Гегель мог бы повторить предупреждение по — латыни: discite justiciam moniti! как и свое личное добавление: «тех, кто глух к призыву, судьба накажет сурово».
Из‑за существующей системы выборов оппозиция не располагает в парламенте достаточной силой, чтобы действовать эффективно. Она едва ли не обречена на поражение заблаговременно. И тогда Гегель осмеливается напомнить об альтернативе, о которой никто, кроме него, не думает: «Другой силой мог бы быть народ (würde das Volk sein), и оппозиция, учрежденная на основаниях, остающихся чуждыми природе парламента, чувствующая, что она не в состоянии противостоять в парламенте враждебной партии, может попытаться искать поддержки у народа, готовя таким образом вместо реформы революцию»[404].
Нужно как можно скорее соглашаться — успеть согласиться — на необходимые реформы, только они и могут предотвратить революцию.
Вестник, приносящий дурные новости, часто несправедливо платит за причиняемые муки. Как неприятно режет королевский слух в Англии и в Пруссии одно только слово «революция», когда еще слышны отзвуки Славных французских дней 1830 г.! И какие несбыточные надежды могло внушить то же самое слово берлинским «демагогам»!
Двойственные ожидания Гегеля были бы обмануты, проживи он дольше: в Англии не было ни внушающей страх революции, ни робко ожидаемых реформ, только кое — какие мелкие поправки, которыми народ удовлетворится.
В его статье не отразилось, как иногда говорят, главное опасение, страх перед тем, что в Англии повторятся французские события 1789 г.[405] Гегель боится «эксцессов», последовавших, по его мнению, в 1789 и в 1793 гг., но он никогда не отрицал своего восхищения самой Революцией. Так или иначе, он предпочитает реформы «сверху» и возмущается, проявляет нетерпение из‑за того, что они опаздывают. Если английским правителям однажды придется столкнуться с бунтом, разумеется, вещью малоприятной, то разве они этого не заслужили?
Относил ли он эти свои мысли к прусскому руководству? Совершенно немыслимо, чтобы он сказал им прямо: пожалуйте народу обещанную конституцию! Ограничьте непомерную власть юнкеров!
По крайней мере, если угроза революции прошла мимо англичан, то для немцев она в достаточно долгосрочной перспективе оставалась реальной. Реформы проведены не были, и в 1848 г. произошла революция. Правда, она не имела успеха.
XX. Лики мышления
Интерес к биографии <…> прямо противоположен, по — видимому, общей цели, но она сама имеет исторический мир той своей подосновой, с которой тесно связан индивидуум; даже субъективно — оригинальное, юмористическое и т. п. намекает на это содержание и тем повышает к нему интерес…
Гегель[359]
В конце жизни Гегель позирует, не без удовольствия, но без спеси, крупным художникам, Себберсу, Шлезингеру… Так оставляет он потомкам образ, избранный им самим, — печальный и суровый, уже почти столь же скорбный, как его посмертная маска. Он обряжает свою философию в помпезные одежды: докторская мантия, профессорская шапочка, меховая шуба, словно желает с помощью нехитрых уловок укрепить ее авторитет и доказательную силу, рискуя при этом тем, что кому‑то в таком виде она покажется чопорной.
Но к счастью, существует другой его портрет, на упомянутые совсем не похожий: в нем привлекают живость и безыскусность. Хенсель, отличный рисовальщик, делал наброски с натуры карандашом со всех встреченных им знаменитостей. Гегель оказался в коллекции среди сотен других, и он здесь чуть ли не улыбается.
Философ оставил автограф на рисунке, начертав несколько загадочных слов, столь же непредумышленных, как и сам набросок:
За нами признают то, что мы знаем. Тот, кто меня знает, Здесь меня признает[407].Забавна ирония этих строк. Действительно ли портрет похож, и на кого? На человека во плоти или на его умственный облик?
Самого себя плохо знаешь. Но, кажется, Гегель готов побиться об заклад со зрителями: кто из вас может похвастать тем, что проницал меня насквозь? Кто оценит мои заслуги по достоинству? Эти черты индивидуального облика, согласуются ли они со всеобщностью идей, мной возвещаемых?
Гегелю нравится интриговать любопытных.
Для нас он меньшая загадка, нежели для тех, кто был близко с ним знаком? Мы находимся в более выгодном положении. Главное в философе это, конечно, содержание творчества, запечатленное в его книгах: оставленная нам философия, какие бы обстоятельства ни сопровождали наследование. Она доступна нам — как кажется — едва ли не целиком и полностью, и мы не слишком опасаемся обнаружения каких‑то утраченных фрагментов.
Никогда еще не было в нашем распоряжении такого сокровища, восстановленного с таким тщанием, снабженного столь многочисленными добросовестными учеными комментариями.
И мы начинаем разглядывать эту жизнь, стараясь лучше ее себе представить, хотя многие стороны все еще от нас ускользают.
В некоторых отношениях его современникам легче было понять его, чем нам, потому что они жили, перемещались, дышали в одном и том же мире, который больше никогда не вернется.
Но в других отношениях мы постигаем его глубже, поскольку он предстает перед нашим взором во весь рост на фоне своего времени, и мы знаем, чем закончилось то, чему он положил начало.
Жизнь великого философа интересна людям в той мере, в какой им интересна жизнь всякой знаменитости. Но те, кто увлеченно следит за этой жизнью, сопереживая ей и считая, что она решает некую задачу, они уже по иному относятся к самому учению, понимая, насколько любой удар судьбы накладывает на него отпечаток.
Воскрешения Гегеля продолжаются. Не так‑то легко с этим справиться. Человека не запрешь навечно в рисунке, рассказе, могиле. По тому, как он глядит со своих портретов, видно, что он знал это лучше кого‑либо.
От переводчика
«Перед нами новый Гегель», — предупреждает автор ныне выходящей по — русски биографии философа[408] Жак д’Онт (Jacques d’Hondt), обретший широкую известность в конце шестидесятых годов прошлого века как раз в связи с публикацией ряда важных работ о Гегеле («Гегель, философ живой истории». Париж, 1966; «Гегель, его жизнь и философия». Париж, 1967; «Тайный Гегель. Исследования скрытых источников мысли Гегеля». Париж, 1968; «Гегель в его время». Париж, 1968 и др.). Этот «новый» Гегель Д’Онта явился неспроста: в среде французских интеллектуалов родилось непредвиденное поветрие взывать к Гегелю и его наследию в надежде обрести ответы на вопросы, заданные временем. Удаленный во времени и сложный по мысли Гегель оказался неожиданно близким. Лик, однако, этого «нового Гегеля» в новых временных обстоятельствах начал мерцать и двоится. Толчком к переосмыслению сложившегося «классического» образа философа послужила интерпретация гегелевской «Феноменологии духа» Александром Кожевом в лекциях, прочитанных в Париже с января 1933 по май 1939 г. Александр Кожев (А. В. Кожевников, выходец из России) преподнес слушателям, среди которых наличествовали едва ли не все грядущие философские знаменитости, а именно: Ж. Батай, Ж. Лакан, Ж. Ипполит, М. Мерло — Понти, Р. Арон, Р. Кено и др. реанимированного Гегеля, существенно перетолкованного, зато внятного и актуального[409].
А. Кожев без зазрения совести объявил распространение диалектики на природу заблуждением, ограничил область духа историей[410], уточнив, что история развивается диалектически лишь потому, что человек действует посредством отрицаний налично — данного. Но бытие, снимающее себя в качестве бытия и остающееся при этом бытием, это понятие бытия, которое раскрывается в речи[411]. Главная роль в гегелевском наследии — и при таком подходе это естественно — отводилась «Феноменологии духа», истории приведения указанного духа к самосознанию. Повторимся, именно с семинаров Кожева начался во Франции гегелевский ренессанс, одним из центральных движителей которого стал Жан Ипполит, автор французского перевода «Феноменологии» (I — ый том вышел в 1939 г., Il — ой — в 1941), обстоятельного комментария («Генезис и структура феноменологии Гегеля» (1946) и «Логики и существования» (1952). Жана Ипполита называет в числе своих учителей (наряду с Полем Рикером) Жак д’Онт.
Сам Жак д’Онт родился в Туре в 1920 г. Во время войны, пришедшейся на его молодые годы, участвовал в движении Сопротивления, позже посвятил себя изучению философии в университете Пуатье, избрав стезю преподавательской деятельности. Преподавал в колледжах и лицеях, впоследствии возвратившись в университет Пуатье и сделавшись в 1987 г. в нем почетным профессором. Там, в Пуатье, он основал в 1970 г. Центр исследований и документов, посвященных Гегелю и Марксу (Centre de Recherche et de Documentation sur Hegel et Marx), которым руководил до 1975 г. С 1981 по 1991 г. Д’Онт был председателем Французского философского общества и до самого последнего времени членом правления Гегелевского общества (Hegel‑Vereinigung). Умер Жак Д’Ондт 10 февраля 2012 г.
Внезапно пробудившийся интерес к Гегелю во Франции в середине прошлого века был не столько неожиданностью, сколько неизбежностью, своего рода сближением именно из- за удаления во времени и обретения адекватной дистанции для вынесения адекватной же оценки. Нынешний взгляд на Гегеля — это взгляд на мыслителя и его наследие из XX, а теперь уже XXI века[412], взгляд, учитывающий преображение гегелевских идей марксизмом, умудренный многими печальными знаниями вроде идей «смерти» метафизики, субъекта и т. д. Именно расстояние между Гегелем и нами, время, за которое много чего произошло, открывает возможность понимания. Это — с одной стороны. С другой — не празден, однако, вопрос, а в состоянии ли мы вообще отстраниться от Гегеля ради этого самого понимания, способны ли карлики на плечах гиганта охватить взглядом гиганта?
Есть тем не менее вещи очевидные: с Гегелем новоевропейская мысль достигла некой вершины, за которой один только воздух и горние небеса, и подниматься дальше некуда, так что дальнейшее существование собственно мысли связано со способностью начать мыслить иначе (М. Фуко). Мышлению еще надлежит перестать быть собственно новоевропейским, все еще принадлежащим по основным своим параметрам Новому времени. Более того, речь, по мнению многих, идет о завершении не только новоевропейской, но и всей метафизической традиции, — той самой, которую неопределенно именуют классической рациональностью, а более точно, по Хайдеггеру, онто — тео — логией.
Гегель объявляет главной задачей современной ему философии познание истины не только как субстанции, но равным образом как субъекта. Внятно объяснить, что это такое непросто — сам Д’Онт сплошь и рядом ссылается на затруднительность понимания гегелевской манеры изъясняться — дело, однако, в том, что центральным понятием гегелевской онтологии оказывается категория «снятия», иными словами, Гегель считает, что различные «формообразования духа» в ходе исторического развития сами себя упраздняют, или, говоря гегелевскими словами, «снимают». Субстанция остается самой собой, традиционной аристотелевской сущностью, но в то же время теперь Гегель ее интерпретирует на манер картезианского субъекта, на себя оглядывающегося и тем самым запускающего время истории[413], у абсолюта, таким образом, появляется история, история самоосуществления. Припомним, со времен Аристотеля метафизика была узреванием сущностей, философу, стороннему наблюдателю всего, открывалась определенность вещей, благодаря которой вещи были тем, что они есть: стол — столом, корова — коровой и т. д. Между тем эта определенность коренилась в некоем безотносительном начале[414], которое позже было наименовано абсолютом. Когда Гегель придал аристотелевской сущности[415] смысл картезианского субъекта, у него вышло, что история есть осуществление сознающего себя абсолюта, и это ее цель. Так спекулятивное мышление как осознание логики этого движения явило собой истину бытия, а Гегель исчерпал возможности метафизики.
В круг спекулятивного мышления трудно войти, но раз войдя, выбраться из него уже почти невозможно[416]. X. Г. Гадамер выражал сомнения в возможности «преодолеть» философию преодоления. Хайдеггер противопоставил гегелевскому «снятию» свой «шаг назад»[417].
В «Заключении» своего сочинения, которое называется «Логика и существование», Жан Ипполит писал: «Гегелевская вечность — это не вечность до времени, но опосредствующее само себя мышление, которое во времени предполагает само себя как абсолютное. Именно поэтому объективный дух истории становится абсолютным духом, но это становление нам трудно понять как эпоху истории мира <…>. Господствующая трудность гегелевской философии — это взаимоотношения “Феноменологии” и “Логики” или, как мы скажем сегодня, антропологии и онтологии»[418]. Так Жан Ипполит не согласился с «антропологическим» решением Кожева.
Характерно, что загвоздки гегелевской философии были для французского гегельянства насущными вопросами современной мысли и политики. Интерпретация Маркса напрямую зависела от того или иного понимания Гегеля. При этом обращение к Марксу подразумевало расставание с гегелевским идеализмом, распрощаться с которым было очень трудно хотя бы потому, что отношения «Логики» и «Феноменологии» оставались туманными.
Жак д’Онт принял самое деятельное участие в идеологических баталиях того времени. Называя своим учителем многих, идет о завершении не только новоевропейской, но и всей метафизической традиции, — той самой, которую неопределенно именуют классической рациональностью, а более точно, по Хайдеггеру, онто — тео — логией.
Гегель объявляет главной задачей современной ему философии познание истины не только как субстанции, но равным образом как субъекта. Внятно объяснить, что это такое непросто — сам Д’Онт сплошь и рядом ссылается на затруднительность понимания гегелевской манеры изъясняться — дело, однако, в том, что центральным понятием гегелевской онтологии оказывается категория «снятия», иными словами, Гегель считает, что различные «формообразования духа» в ходе исторического развития сами себя упраздняют, или, говоря гегелевскими словами, «снимают». Субстанция остается самой собой, традиционной аристотелевской сущностью, но в то же время теперь Гегель ее интерпретирует на манер картезианского субъекта, на себя оглядывающегося и тем самым запускающего время истории[419], у абсолюта, таким образом, появляется история, история самоосуществления. Припомним, со времен Аристотеля метафизика была узреванием сущностей, философу, стороннему наблюдателю всего, открывалась определенность вещей, благодаря которой вещи были тем, что они есть: стол — столом, корова — коровой и т. д. Между тем эта определенность коренилась в некоем безотносительном начале[420], которое позже было наименовано абсолютом. Когда Гегель придал аристотелевской сущности[421] смысл картезианского субъекта, у него вышло, что история есть осуществление сознающего себя абсолюта, и это ее цель. Так спекулятивное мышление как осознание логики этого движения явило собой истину бытия, а Гегель исчерпал возможности метафизики.
В круг спекулятивного мышления трудно войти, но раз войдя, выбраться из него уже почти невозможно[422]. X. Г. Гадамер выражал сомнения в возможности «преодолеть» философию преодоления. Хайдеггер противопоставил гегелевскому «снятию» свой «шаг назад»[423].
В «Заключении» своего сочинения, которое называется «Логика и существование», Жан Ипполит писал: «Гегелевская вечность — это не вечность до времени, но опосредствующее само себя мышление, которое во времени предполагает само себя как абсолютное. Именно поэтому объективный дух истории становится абсолютным духом, но это становление нам трудно понять как эпоху истории мира <…>. Господствующая трудность гегелевской философии — это взаимоотношения “Феноменологии” и “Логики” или, как мы скажем сегодня, антропологии и онтологии»[424]. Так Жан Ипполит не согласился с «антропологическим» решением Кожева.
Характерно, что загвоздки гегелевской философии были для французского гегельянства насущными вопросами современной мысли и политики. Интерпретация Маркса напрямую зависела от того или иного понимания Гегеля. При этом обращение к Марксу подразумевало расставание с гегелевским идеализмом, распрощаться с которым было очень трудно хотя бы потому, что отношения «Логики» и «Феноменологии» оставались туманными.
Жак д’Онт принял самое деятельное участие в идеологических баталиях того времени. Называя своим учителем Жана Ипполита, он решительно разошелся во взглядах с другим небезызвестным его учеником — Луи Альтюссером. Последний, как известно, предложил «структуралистское» прочтение Маркса, продиктованное убежденностью в том, что между Марксом, автором «Экономическо — философских рукописей 1844 года», в которых главное место отведено идее отчуждения человека от его человечности («антропологический» извод гегелевской философии), и Марксом «Немецкой идеологии» и «Капитала» существует «эпистемологический разрыв», т. е. это разные Марксы. Согласно Альтюссеру, аналитическая работа, проделанная Марксом в «Капитале», предполагает выявление структурных инвариантов, которые определяют характер общественных формаций, и не нуждается в таких идеологически нагруженных понятиях, как «отчуждение» и «субъект» истории.
Жак д’Онт воюет как со «структуралистами», к которым причисляет Мишеля Фуко, так и с представлением о прерывности истории, вытекающим из методологии структурализма.
Статьи и выступления 60–70–х гг., посвященные этой тематике (правда, далеко не все), вошли в два сборника: «От Гегеля к Марксу» и «Идеология разрыва»[425]. Европейская философия существует, — утверждает Д’Онт в одной из статей сборника. — Допустив это, мы должны также признать существование философской традиции и согласиться с тем, что ее продолжение ставит ряд проблем философского характера. Одна из важнейших проблем касается отталкивания и преемственности[426]. Разрывы случаются, но что такое традиция, если не «цепь разрывов».
Возражать тут особенно нечего: конечно, традиция (если следовать Гегелю) учреждается задним числом, при оглядке на пройденное расстояние. Дистанция — непременное условие понимания. Но когда «противная» сторона (М. Фуко, Ж. Делез и др.) ведет речь о прерывности истории, имеется в виду, судя по всему, нечто иное. А именно, то, что современная философская мысль не готова видеть в истории неуклонный прогресс познающего себя духа. И Д’Онт тоже не склонен соглашаться с этим. Но странным образом к главным инициаторам таких разрывов и ниспровержений традиции он относит Декарта и Канта. Будучи материалистом, Д’Онт не может признать автономность мысли, ее самозаконность и независимость от разных «внешних» обстоятельств и причин. Такая позиция отчасти объясняет характер собственной философской работы Жака д’Онта, его увлеченность разнообразными тонкими историческими обстоятельствами складывания философских систем. Конечно, при таком подходе главным философским жанром окажется интеллектуальная биография философа.
Особую защитительную речь произносит Д’Онт в честь концепта отчуждения[427]. Мир отчуждения — это мир, в котором «все на продажу». Отчуждение для Гегеля, и вслед за ним для Д’Онта, персонифицируется в персонаже Дидро — племяннике Рамо, воплощении принципиальной беспринципности. Это его «честным и проницательным» взглядом смотрит Гегель на Французское Просвещение. Д’Онт напоминает об экономическом смысле отчуждения собственности как права ее продажи, права, которое есть у свободного человека и которого лишен раб. Он ставит в заслугу Гегелю тщательную концептуальную разработку понятия «отчуждения», отмечая, что если готовый продукт — само понятие Entfremdung, передаваемое с определенными смысловыми сдвигами французским alienation, — приходит во Францию из Германии, то «сырьем» ее снабдила все‑таки Франция. При этом, говорит Д’Онт, нам следует тщательно различать понятия «отчуждения» (alienation) и «чуждости» (etrangete): совсем не все, что нам странно и чуждо, является результатом отчуждения, как это представлялось, по мнению Д’Онта, идеалисту — Гегелю.
Собственный его способ «возвращения» к Гегелю вызывающе прост и непритязателен, особенно на фоне изощренных и усложненных построений его коллег. Это добротная позитивистская метода собирания документов и тщательного вычитывания текстов. Сам Д’Онт уподобляет такой подход тому, как ведется полицейское расследование. Порой это дознание и впрямь базируется на результатах работы непосредственно с полицейскими архивами. Но это, конечно, не наивное собирание фактов, а тоже вариант своего рода деконструкции, на сей раз направленной на воссоздание аутентичного облика немецкого мыслителя, освобожденного от множества связанных с ним устойчивых клише и предрассудков. Не всегда Д’Онт расставляет все точки над «i»: часто оказывается достаточным посеять сомнение относительно каких‑то представлявшихся несомненными фактов и обстоятельств. Итак, это с самого начала работа в значительной мере биографическая, расширяющая и уточняющая исторический и житейский контекст, в который вписывают обычно философию Гегеля. Естественно, что при этом основное внимание уделяется политическим взглядам и политической деятельности философа.
Так, одно из главных убеждений Д’Онта, которое он старается передать своим читателям, заключается в том, что зрелый Гегель в принципе остался верен идеалам своей юности, что он всю жизнь был мыслителем либерального толка, вынужденным приспосабливаться к условиям политических режимов, под властью которых жил, в частности, непрестанно себя сдерживать, кое о чем молчать на публике (тайная доктрина) и даже заниматься подпольной деятельностью, и, однако, в иных случаях оказывался способен высказываться достаточно откровенно.
Как уже было сказано, предмет особого интереса Жака д’Онта — связи Гегеля с Францией, влияние на него французского Просвещения.
Еще одна тема, методично им разрабатываемая, — роль масонских обществ в распространении просветительской идеологии, в частности, история баварских иллюминатов.
Биография Гегеля 1998 года сводит вместе все эти темы, будучи в этом смысле итоговым произведением. Завершая его, Жак д’Онт пишет о том, что попытки воскрешения Гегеля продолжаются, и не так‑то легко с их потоком справиться. Д’Онт прав: воскрешения воскрешениям рознь, самый дурной путь к современному Гегелю — это его натужное осовременивание.
В свое время Хорхе Луис Борхес задумал некий философско — культурологический шуточный эксперимент[428] на тему современности классики под названием «Пьер Менар — автор „Дон Кихота”». В итоге истинно современной у него оказывается «версия» Пьера Менара, который в XX в. переписал текст Сервантеса, не поменяв в нем ничего. Борхес предлагает вниманию читателей небольшой пассаж об истории, чтобы они сами могли убедиться в том, что при неизменном означающем смыслы у отрывка — разные, коль скоро написаны эти два идентичных текста в разные времена. Люди разных эпох неодинаково понимают тот же самый текст. Это неизбежно.
Какими глазами и на что смотрел Гегель, какие вещи представлялись ему само собой разумеющимися, составляя безусловный скрытый фундамент сказанного им, написанного и сведенного в систему философского знания? Удалось ли автору, и в полной ли мере, учесть эти подспудные верования? Философия опосредования понимает понимание как Aufhebung, снятие/преодоление, выход на некую метапозицию по отношению к прошлому, благодаря которому — выходу — как раз и формируется (всякий раз впервые и задним числом) традиция. Это значит, что самой историей предусмотрена периодическая «оглядка», что история не может не переписываться, ведь она — непременно и само событие, и рассказ о нем.
Конечно, говорит Д’Онт, современники Гегеля знали его лучше, чем мы, они дышали одним воздухом. С другой стороны, как раз то, что мы дышим воздухом иных времен, дает нам преимущество в понимании Гегеля перед его современниками. Кроме того, мы знаем, «что было потом». Однако этим преимуществом не так‑то просто воспользоваться: как писал Хайдеггер, нужно возложить на себя труд, сходный с тем, какой возлагали на себя мыслители прошлого.
А. Г. Погоняйло Жак Д’Онт Гегель
Редактор издательства Р. М. Герасимов Верстка H. Р Зянкиной
Подписано к печати 18.10.2012. Формат 60x84 У Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург». Печать офсетная. Уел. печ. л. 29.8. Уч. — изд. л. 26.0 Тип. зак. № 3310
Издательство «Владимир Даль»
193036, Санкт — Петербург, ул. 7–я Советская, 19
Первая Академическая типография «Наука» 199034, Санкт — Петербург, 9–я линия, 12/28
Примечания
1
Allgemeine Deutsche Biographie. Берлин, 1967. Нов. изд. Т. 1. С. 567. Словарь не уточняет, как это делает г — жа Гегель, что похороны Гегеля были «первым и единственным исключением».
(обратно)2
Ср.: D’Hondt J. Les Voleurs de Marseille // Hegel Secret. Paris: PUF, 1986. 2–e ed. P 185–191. В фильме Жан Поля Раппено «Гусар на крыше» местами показана эпидемия холеры в Европе.
(обратно)3
Публикация Норберта Вацека (Norbert Waszek) Eduard Gans, Hegelianer, Jude, Europäer. Francfort, 1991. P. 102–106 (на нем. яз.).
(обратно)4
Zwei Reden bei der feierlichen Bestattung des Königlichen Professors, Dr. G. W. F. Hegel gesprochen. (Опубл. Мархейнеке и Форстером). Берлин, 1831. Воспроизв. в (R 562–566).
(обратно)5
Marheinecke Р. C. Rede am Grabe des Herrn Professor Dr. Gans. Berlin, 1839.
(обратно)6
Lachmann, цит. из Waszek. Op. Cit. P. 184.
(обратно)7
Marheinecke. Zur Kritik der schellingschen Offenbarungsphilosophie. Berlin: Enslin, 1843. 66 p.
(обратно)8
Мархейнеке отсылает (С. 4, прим.) к работе Энгельса Schelling und die Offenbarung (Leipzig, 1840), но без упоминания имени автора.
(обратно)9
Как отмечает Куно Фишер, «мотивы утешения были самые простые, самые естественные и самые из ряда вон выходящие. Он утешал горюющего отца, говоря не о бессмертной жизни на небесах, но об обветшалости нынешней земной жизни». Fischer К. Hegel’s Leben, Werke und Lehre. 2 vol. Heidelberg: Winter, 1901. I. P. 197. Что касается письма Беера, см. ниже, С. 260–262.
(обратно)10
Marheinecke. Discours aux obsèquies de Hegel (R 563).
(обратно)11
Hegel. Werke. Полное издание, подготовленное друзьями покойного, в 20 томах. (Berlin: Duncker und Humblot, 1832–1887). В этом издании Фёрстер вместе с Буманом отвечал за Vermischte Schriften («Разное»), 2 тома, 1834–1835.
(обратно)12
Так у Куно Фишера. Op. cit. Р. 200.
(обратно)13
Ligou D. Dictionnaire de la franc‑maçonnerie. Paris: PUF, 1991. P. 206, 709,1035–1036.
(обратно)14
Ibid. P 63,442, 693.
(обратно)15
Ibid. Р. 459, 460.
(обратно)16
Ibid. Р 1066.
(обратно)17
Menzel, цит. Давидом Фридрихом Штраусом. Streitschriften zur Verteidigung meiner Schrift über das Leben Jesu. Tübingen: Osiander, 1837. P 213.
(обратно)18
ABD. T. XXI. 1970. Р. 383.
(обратно)19
Strauss D. F. Streitschriften. Op. cit. P. 213.
(обратно)20
Ibid. Р. 203.
(обратно)21
Waszek N. Op.cit. P. 184.
(обратно)22
Prantl. ADB. Op. cit. Art. «Göschei». T. VIII. P. 294.
(обратно)23
Marheinecke. Zur Kritik der schellingschen Offenbarungsphilosophie. Op. cit. P. 60.
(обратно)24
Ibid. Р. 66.
(обратно)25
Hölderlin. Hypérion // Œevres, 1967. P. 256.
(обратно)26
Sujet {фр.) — и «субъект», и «подчиненный», «подданный»; assujettir (фр.) — подчинять, порабощать; assujettissement (фр.) — покорение, зависимость, кабала. — Прим. пер.
(обратно)27
Подданный, зависимый, крепостной. — Прим. пер.
(обратно)28
Kemer J. Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Braunschweig, 1849. P. 280 sq.
(обратно)29
Симптом царившего в стране психоза: все поверили известию о том, что поэта Шубарта похоронили живым, даже Гёльдерлин (Op. cit. Р. 86, 1121).
(обратно)30
«Кристиана, отданная под опеку, была помещена в новый дом умалишенных в Цвифальтене. Там почти постоянно содержались политические преступники, а также все те, кто стал жертвой порядков, сложившихся при авторитарном режиме в пиетистской стране» (HaasisH. G. Gebt der Freiheit Flügel, die Zeit der deutschen Jakobiner. Hamburg: Rowohlt, 1988. P. 829).
(обратно)31
Гегель в Legros R. Le Jeune Hegel et la naissance de la pensée romantique. Bruxelles: Ousia, 1980. P. 280.
(обратно)32
В возможности, в действительности (фр.). — Прим. пер.
(обратно)33
Dilthey W. Die Jugendgeschichte Hegels. Berlin: Reimer, 1905. P. 8.
(обратно)34
Hegel Phénoménologie de l’esprit / Trad. Jean Hyppolite. Paris: AubierMontaigne. T. I. 1939. Ch. I. «La certitude sensible» (См.: Г. В. Ф. Гегель. Феноменология духа. СПб., 1992. C. 51–59).
(обратно)35
DumontJ. — P. Les Présocratiques // Histoire de la Pholosophie. Paris: A. Colin, 1993. T. 1. P. 13.
(обратно)36
Legros R. Le Jeune Hegel et la naissance de la pensée romantique. Op. cit. P. 360.
(обратно)37
Pere Noel — французский Дед Мороз. — Прим. пер.
(обратно)38
Hegel’s Theologische Jugendschriften / Pub. par Herman Nohl. Tübingen: Mohr, 1907. P. 225.
(обратно)39
Premier programme de l’idealisme allemand // Dokumente zu Hegels Entwicklung / Pub. par Johannes Hoffmeister. Stuttgart: Frommann, 1936. P. 210–221. (См.: Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2 тт. Т. 1.М., 1972)
(обратно)40
Мариво: «Я стараюсь обмануть себя, чтобы тем бессовестнее обманывать вас».
Гегель подчеркивает, что романы Мариво интересны с точки зрения философии (Nohl. Р 208 и R 48), и тотчас затем подробно обсуждает проблему Selbstbetrug, самообмана. См.: D’HondtJ. Hegel et Marivaux // De Hegel à Marx. Paris: PUF, 1972. P. 19–35.
(обратно)41
Schelling. Contribution à l’histoire de la philosophie moderne / Trad, par J. F. Marquet. Paris: PUF, 1983. P. 15.
(обратно)42
La Constitution de l’Allemagne // Écrits politiques / Trad, par Marcel Jacob et Pierre Quillet. Paris: Champ libre, 1977. P. 31.
(обратно)43
Biedermann K. Deutschland im 18. Jahrhundert. Leipzig: Weber, 1854. Положение в Вюртемберге описано в I томе. Р. 38–39, 66–67 et passim.
(обратно)44
Nohl Op. cit. P 358.
(обратно)45
Hölderlin. La Tek (Œuvres, Bibi, de la Pléiade. P. 7–9).
(обратно)46
Nietzsche F. Œuvres. Paris: Gallimard, 1974. L’Antéchrist. Parag. 10 (trad, mod.) (Werke. VIII. Leipzig, 1895. Der Antichrist. P. 255.). (См.: Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Т. 2, М., 1990).
(обратно)47
Нем. das Stift. — Прим. пер.
(обратно)48
Карл Фридрих Рейнхард опубликовал свой памфлет в «Швабском музеуме» Армбрустера, как комментарий к также очень резкой статье Векрлина (Wekhrlin). Об этом нерядовом гитифтлере см.: Deliniere J. K. F. Reinhardt. Un Aufklärer allemand au service de la France (en allemand). Stuttgart: Kohlhammer, 1989. 543 p.
(обратно)49
Гегеля больше всего раздражали попытки богословов «оправдать» Канта.
(обратно)50
См. ниже: Гл. XIX, прим. 2.
(обратно)51
Klüpfel K. A. Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen. Tübingen, 1849. P. 266. Такая распущенность была характерна не только для Штифта. Нельзя не удивиться, читая описание атмосферы, сложившейся в «монастыре» Мольбронна, где учился Гёльдерлин (Hölderlin. Werke [W. Beissner]. VII. I [1968]. P. 366–367). К. А Клюпфель (1769–1841), библиотекарь Тюбингенского университета, был сыном одного из однокашников Гегеля.
(обратно)52
Lory R. J.y pasteur. L’Eglise luthérienne du comté de Montbéliard à la veille de la Révolution française. Paris, 1954. По поводу тюбингенского Штифта: «преподаватели, казалось, забыли, что они готовят лютеранских священников» (Р. 20).
(обратно)53
Стихи «Элевсина»: «Frieden mit der Satzung […] nie nie einzugehen» переведены Каррером «ne jamais conclure de paix avec la loi» (CMl) — нов данном контексте Satzung обычно передают как «догма», «учение» (Asveld P. La Pensée religieuse du jeune Hegel. Louvain: Publications universitaires, 1953. P. 114).
(обратно)54
Hölderlin. Hypérion. Op. cit. P. 269.
(обратно)55
Жизнь положить за правду» (Ювенал. Сатиры. VI. 88–92). — Прим. пер
(обратно)56
«Fiat justiciam, pereat mundus» (Fichte. Das System der Sittenlehre, nach den Principien der Wissenschaftslehre (Система учения о нравственности согласно началам наукоучения). Iena: Câbler, 1798. P. 484).
(обратно)57
Hölderlin. Op. cit. P. 150.
(обратно)58
«Обвинительная речь» Гёльдерлина против немцев. Hölderlin. Op. cit. P. 267–270.
(обратно)59
Christian Philipp Leutwein, цитированный Теодором Герингом (Haering) в Hegel, sein Wollen und sein Werk. Leipzig; Berlin, 1929. T. I. P. 52.
(обратно)60
Dilthey W. Die Jugendgeschichten Hegels. Berlin: Reimer, 1905. P. 134.
(обратно)61
См. выше: Гл. I, прим. 10.
(обратно)62
Тома с XI по XVI Собрания сочинений Вольтера, переведенные на немецкий Мюлиусом (Sämmtliche Schriften. Berlin, 1783–1797), имеют подзаголовок Theologische Schriften!
(обратно)63
Гёльдерлин: «Спиноза, великий человек прошлого века, который, хотя и был атеистом в точном смысле слова, не был лишен благородства» (Hölderlin. Op. cit. P. 70).
(обратно)64
Гентц Ф. у фон (до того как он сделался контрреволюционером). Письмо Гарве от 5 декабря 1790 г. (Briefe an Garve. 1857. Р. 59).
(обратно)65
Hegel G. W. F. Leçons sur la philosophie de l’histoire / Trad, par J. Gibelin. Paris: Vrin, 1963. P. 340. (См.: Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб., 1993. С. 447)
(обратно)66
Цитата из «Спора факультетов». До этого места — пер. Гулыга А. В. ЖЗЛ. Кант. М., 1977. С. 244. — Прим. пер.
(обратно)67
Kant Е. Œuvres philosophiques. Bibl. De la Pléiade. III. 1986. P. 895 (trad. mod.). (См.: Кант И. Сочинения. В 8 тт. М., 1994. Т. 7. С. 96–101.)
(обратно)68
Hölderlin. Op. cit. P. 1009.
(обратно)69
Kant Е. Op. cit. III. Р. 451–452.
(обратно)70
Речь 20 января 1793 г., цит. Собулем. La Révolution française. Coll. Tel. Paris: Gallimard, 1981. P. 274.
(обратно)71
Hegel. Leçons sur la philosophie de l’histoire / Trad, par Pierre Garniron. Paris: Vrin, 1991. T. VII. P. 1827.
(обратно)72
Moog W. Hegel und die hegelsche Schule. München, 1930. P. 12.
(обратно)73
Ibid.
(обратно)74
По поводу назревания революционных настроений в Штифте можно свериться с Frank et Kurz. Materialen zu Schellings philosophischen Anfänge. Francfort/Suhrkamp, 1975 (о цареубийстве P. 175). Судя по всему, биографы Гёльдерлина и Шеллинга охотнее, чем биографы Гегеля, пишут о нарастании в то время революционных настроений в Штифте.
(обратно)75
Klüpfel. Op. cit. P. 268.
(обратно)76
Nohl. Р. 221 и Leçons sur l'histoire de la philosophie. Introduction / Trad, par J. Gibelin. Paris: Gallimard, 1954. P. 174. (См.: Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Введение: «Христос осуждает фарисеев за их требование подтвердить свое учение с помощью знамений и чудес» (Ин. IV, 48)).
(обратно)77
Hegel. Leçons sur la philosophie de Phistoire (Gibelin). Op. cit. P. 339. Фридрих II сам подвергал критике обычай помазания на царство французских королей.
(обратно)78
Ibid. Р. 340.
(обратно)79
Moog W. Op. cit. P. 12.
(обратно)80
Roques P. Hegel, sa vie, son œuvre. Paris: Alcan, 1912. P. 25.
(обратно)81
Этот текст (относящийся к 1804 г.) был включен Каррером в «Переписку» Гегеля (С3 344).
(обратно)82
Biedermann K. Deutschland im 18. Jahrhundert. Leipzig: Weber, 1854. T. I. P. 389 («Числится домашней прислугой»).
(обратно)83
См. выше: Гл. II, прим. 12.
(обратно)84
Curriculum vitae 1804 г. (С3 344–345).
(обратно)85
Hölderlin. Op. cit. P. 673.
(обратно)86
Hölderlin F. Correspondance complète / Trad, par Denise Naville. Paris: Gallimard, 1948 (письмо от 7 апреля 1798 г.). P. 197.
(обратно)87
Hegel. Phénoménologie de l’esprit. Op. cit. 1941. Т. П. P. 195. и Philosophie de Phistoire. Op. cit. P. 367. (См.: Гегель Г. В. Ф. Философия истории СПб., 1993. С. 83.)
(обратно)88
Jaurès J. Histoire socialiste de la Révolution française // Éd. revue par Albert Soboul. Paris: Éd. Sociales. T. II (1970). P. 465–471.
(обратно)89
BailletA. La Vie de Monsieur Descartes. Paris: Horthemels, 1691. I. P. 131.
(обратно)90
Цит. no: Cornu A. K. Marx et F. Engels, leur vie et leur oeuvre. Paris: PUF, 1955.T. I. P 168.
(обратно)91
Hegel. Philosophie de l’histoire. Op. cit. P 31. (См.: Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб., 1993. С. 76.)
(обратно)92
Глава исполнительной власти в округе. — Прим. пер.
(обратно)93
Цит по: Lucien Perey et Gaston Maugras. La Vie intime de Voltaire aux Délices et à Ferney. Paris: Calmann‑Levy, 1885. P. 238, note.
(обратно)94
Фихте, цит. по изданию его сына (Иммануила Германа): Fichte I. G. Fichtes Leben und literarischer Briefwechsel. Sulzbach, 1830–1831. II. P. 108.
(обратно)95
Конрад Энгельберт Ольснер (1764–1828). — Прим. пер.
(обратно)96
«Ода к радости» (сочиненная Шиллером для масонских лож) «торжественно (feierlich) исполнялась Гёльдерлином, Магенау, Нойфером и их друзьями», членами «Бунд», учрежденного Гёльдерлином еще до поступления в Штифт (Betzendörfer. Hölderlins Studienjahre in Tübingen Stift. Helbronn, 1922. P. 77–78.
(обратно)97
Hegel. Philosophie de l’histoire. Op. cit. P. 167. (Trad. mod.).
(обратно)98
Hegel. Journal d’un voyage dans les Alpes bernoise // Trad. R. Legros. Paris: Millon, 1988. P. 76–77.
(обратно)99
Fichte. Post‑scriptum à la lettre du 20 juillet 1799 (Correspodance Fichte‑Schelling / Trad, par Miriam Bienenstock. Päris: PUF, 1991. P. 51).
(обратно)100
Kant‑Lexicon (R. Eisler) / Trad, par A. D. Balmès et P Osmo. Paris: Gallimard, 1994. P 314–315.
(обратно)101
Lessing. Ernst et Falk, dialogues maçonniques / Trad, par Pierre Grapin. Paris: Aubier, 1976. P 69 et P 12.
(обратно)102
Hölderlin. Op. cit. P. 367 (письмо от 9 ноября 1795 г. Эбелю, франкмасону и иллюминату).
(обратно)103
Ibid. Р. 366.
(обратно)104
DrozJ. L’Allemagne et la Révolution française. Paris: PUF, 1949. P. 110, et P. 31, n. 1.
(обратно)105
Каррер не переводит уточняющее примечание Хоффмейстера (В2 482), письмо № 389 (С2 342).
(обратно)106
Briefe von und an Hegel / Éd. par Karl Hegel. 1887. 2 vol. (T. I. P. 400).
(обратно)107
Rödel W. Forster und Lichtnberg. Berlin, 1960. P. 124. Et Lichtenberg. Briefe. Leipzig, 1901–1904. III. P. 117.
(обратно)108
Fournier A. Historische Studien und Skizzen. Wien, 1912. P. 17–29.
(обратно)109
Гешель выражается по — разному: «то, что не было записано», «то, что появилось без маски, открыто», «только устное, эзотерическое»!
(обратно)110
Voltaire. Essai sur les mœurs et Pesprit des nations (Éd. René Pomeau. Paris: Gamier, 1963. T. I.). P 135. Похожая оценка Лаланда в Supplément au Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers. III. Paris et Amsterdam, 1777. P 132.
(обратно)111
Roques P. Op. cit. P. 40.
(обратно)112
Hölderlin. Op. cit. P. 838–841. См. также P. 846, 850,853 etc. «Дети земли». Ibid. P. 858, 873 etc. Гегель о Матери — земле: Nah!. Р. 28.
(обратно)113
Roques P. Op. cit. Р. 40–41.
(обратно)114
Ср.: D’HondtJ. Hegel secret. Op. cit. P. 227–281, в частности, P. 276–279.
(обратно)115
Rosenkranz K. Aus Hegels Leben // Prutz. Literar‑historisches Taschenbuch. 1843.1. P. 98.
(обратно)116
Dilthey. Op. cit.
(обратно)117
Haym R. Hegel und seine Zeit. Berlin, 1857. P. 38.
(обратно)118
Bertaux P. Hölderlin. Essai de biographie intérieure. Paris: Hachette, 1936. II. P. 73.
(обратно)119
Die Illuminaten, Quellen und Texte / Publiés par Jan Rachold. Berlin: Akademie‑Verlag, 1984. P. 177.
(обратно)120
Ibid. P. 30.
(обратно)121
В Eleusinien des 19. Jahrhuderts. 1802. P. 1—43, et 1803. P. 1—60. Enregistre par August Wolfstieg. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Hildesheim: Olms, 1964. II. P. 194 (№ 24127).
(обратно)122
В душе (um.). — Прим. пер.
(обратно)123
BarruelA. Mémoire pour servir à l’histoire du jacobinisme (1798–1799). Texte revu en 1818. Réédition de 1973, à Vouillé.
(обратно)124
Barruel A. Spartacus‑Weishaupt, fondateur des Illuminés de Bavière. Réédition moderne. Les Royat: Ventabren, 1979.
(обратно)125
ADB. T. XXIII, 1970. Art. «Niethammer». P. 689–691.
(обратно)126
Le Forestier R. Les Illuminés de Bavière et la franc‑maçonnerie allemande. Dijon, 1914. P. 711–712.
(обратно)127
Lessing. Ernst und Falk, Gespräche für Freymaurer‑Fortsetzung, 1780 // Sämtliche Schriften. T. X. Berlin: Voss, 1839. P. 292–293.
Это Fortsetzung (следовавшее за «Диалогами») не было переведено Пьером Граппеном. Op. cit. (См. выше: Гл. VI, прим. 3).
(обратно)128
Leenhoff et Po? sner. Internationales Freimaurerlexion, Zurich, s. d., colonne 1212.
(обратно)129
«Мунье завязал отношения кое с кем из наиболее активных и известных иллюминатов: Боде, Бёттигер, Котта» (Baldensperger F. Le Mouvement des idées dans Pemigration française (1789–1815). Paris: Plon‑Nourrit, 1925. Tome II. P. 26, note).
(обратно)130
Jean‑Pierre‑Louis de la Roche du Maine, marquis de buchet. Essai sur la secte des Illuminés. Paris, 1789.127 p. Многочисленные переиздания.
(обратно)131
MounierJ. — J. De l’influence attribuée aux Philosophes, aux Francsmaçons et aux Illuminés sur la Revolution française. Tübingen: Cotta, 1801 / Éd. de 1822. Paris: Ponthieu. P 169–170.
(обратно)132
Фридрих Христиан II среди иллюминатов звался Тимолеон, Баггезен — Иммануил. Их поразительная переписка по поводу баварского иллюминизма опубликована: Фридрих Христиан Шлезвиг — Гольштейнский, Тимолеон и Иммануил. Переписка с Йенсом Баггезеном (на нем.). Leipzig, 1910.
Баггезен сделался разносчиком воскресшего иллюминизма, как и поэт Матгассон, который, будучи в тюбингенском Штифте, бросился в объятия Гёльдерлина и оставил запись в альбоме Гегеля (В4 52). Маггиссон был самым молодым из посвященных в немецком франкмасонстве.
Можно справиться в: Schulz H. Friedrich‑Christian, Herzog von Schleswig‑Holstein. Stuttgart, 1910; и Engel L. Geschichte des Illuminaten‑Ordens, ein Beitrag zur Geschichte Bayerns. Berlin, 1906.
(обратно)133
Haasis H. G. Op. cit. P. 197.
(обратно)134
Engel L. Op. cit. P. 459.
(обратно)135
Aus Schellings Leben in Briefen / Pub. par G. L. Plitt, 1869–1870.1. P. 100: lettre de S. à ses parents, mutilée.
(обратно)136
Иоганне Фридрихе Миге (1744–1819) см.: Neue Deutsche Biographie. Berlin: Duncker et Humblot. T. XVII. P. 470.
(обратно)137
Лессинг, письмо от 26 ноября 1778 г. // Sämtliche Schriften. Op. cit. T. X. P. 458–459.
(обратно)138
Ligou. Op. cit. P. 1125.
(обратно)139
Ibid.
(обратно)140
Nohl. Р, 250, п. а,
(обратно)141
Hegel. Phénoménologie. Op. cit. I. P. 90–91; voir même ouvrage / Trad. J. — P Lefebvre. Paris: Aubier, 1991. P. 99. (См.: Гегель Г В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 57—58
(обратно)142
«В высшей степени прозрачные мистерии» (фр.). — Прим. пер.
(обратно)143
«Явленные мистерии». Перевод Г. Шпета: «откровенные мистерии» (фр.). — Прим. пер.
(обратно)144
Hegel. Histoire de la philosophie. Introduction. (Gibelin). Op. cit. P. 186.
(обратно)145
Ligou. Op. cit. P. 398.
(обратно)146
Der Grosse Brockhaus. 16–е ed. Wiesbaden, 1954. T. IV. Art. «Freimaurerei». P. 279. Гегель упоминается здесь вместе с Фихте, Краузе, Гумбольдтом, Гарденбергом, Виландом, Фоссом, Гайдном и др. В других изданиях словаря этого упоминания нет.
(обратно)147
«Масонские церемонии уже в силу своего религиозного характера являли собой кощунственную пародию или же неортодоксальный культ» (Lanzac de Laborie. Jean‑Joseph Mounier. 1887. P. 319).
(обратно)148
Письма Нанетт не опубликованы в первом издании «Переписки» Гегеля, подготовленном его сыном Карлом (Briefe von und an Hegel. 2 vol. Berlin: Dunker et Humblot, 1887).
(обратно)149
О связях с масонами и иллюминатами семейства Гогелей: Le Forestier. Op. cit. P. 230, note 1; Illuminaten, Quellen und Texte. Op. cit. P. 177, 400; Wolstieg. Op. cit. III. №. 3641,15900-1-2-3.
(обратно)150
Annalen der Loge «Zur Einigkeit». Francfort: Horstmann, 1842. 376 p.
(обратно)151
Gedekblätter von Charlotte von Kalb / Pub. par Émile Palleske. Stuttgart, 1879.259 p.
(обратно)152
Ibid. P. 113.
(обратно)153
Hölderlin. Op. cit. P. 673.
(обратно)154
Ibid. P. 408.
(обратно)155
Ср.: Hölderlin. Op. cit. P. 411.
(обратно)156
«Имя Гегеля упоминается в отчетах о допросах, проводившихся в связи якобинским движением в Штутгарте, в то время как сам Гегель был наставником во Франкфурте» (Haasis H. G. Gebt der Freiheit Flügel. Op. cit. T. II. P. 825).
(обратно)157
Marx К. et Engels F. La Sainte Famille / Trad, par Edna Cogniot. Paris: Éd. Sociales, 1969. P. 145.
(обратно)158
Junod L. Mélanges offerts à M. Luis Bosset. Lausanne, 1950. P. 45
(обратно)159
«Вы, ныне предупрежденные, учитесь быть справедливыми!». Этот латинский призыв Вергилия воспроизводится почти всеми отважными реформаторами эпохи (Боннвиль, Фёрстер и др.).
(обратно)160
Так: Principes de la philosophie de droit (Derathé). Op. cit. P 57.
(обратно)161
Йегер издал переводы различных публикаций «Серкль сосьяль», многими из которых воспользовался Гегель. «Серкль сосьяль» был «одной из первых — провалившихся — попыток заставить франкмасонство играть более активную роль в Революции» (Mossdorf. Allgemeines Handbuch der Freimaurerei. 1901. T. I. P. 181).
(обратно)162
Roques P. Op. cit. Р. 57.
(обратно)163
Hegel. Premiers écrits / Trad, par Olivier Depré. Paris: Vrin, 1997. P. 166–167 (trad. mod.).
(обратно)164
Fischer K. Op. cit. P. 55.
(обратно)165
Hegel. L’Esprit du christianisme et son destin / Trad, par Frank Fischbach. Paris: Presse‑pocket, 1992. P. 155.
(обратно)166
Dilthey. Op. cit. P. 3.
(обратно)167
Nohl. Р. 345.
(обратно)168
Греческую формулу находим у Гёльдерлина (Op. cit. Р. 203, 205). Гегель, как кажется, избегает буквального цитирования, но на самом деле без конца ее комментирует.
(обратно)169
Annalen der Loge zur Einigkeit. Op. cit. (note. 3, выше).
(обратно)170
Phénoménologie de l’esprit. Op. cit. I. P. 324.
(обратно)171
SchweighaeuserJ. — J. Sur l’état actuel de la philosophie en Allemagne // Archives littéraires de l’Europe. Paris‑Tübingen, 1804. P. 189–207. Cp.:D’HondtJ. Première vue française sur Hegel et Schelling (Hegel- Studien, Beiheft 20, Bonn, 1980. P Al‑SI.
(обратно)172
Les Orbites des planets / Trad, par François de Gandt. Paris: Vrin, 1979.
(обратно)173
Bondéli M. Hegels philosophische Entwicklung in der Berner Periode // Hegel in der Schweiz. Francfort: Peter Lang, 1997. P 59—109.
(обратно)174
Hegel. La Constitution de l’Allemagne // Écrits politiques / Trad, par Michel Jacob et Pierre Quillet. Päris: Champ libre, 1977. P. 25, note a.
(обратно)175
Ibid. Р 33.
(обратно)176
Ibid. Р 26.
(обратно)177
См.: Гл. XVI, прим. 36.
(обратно)178
«Без такого представительного органа никакая свобода немыслима» (Écrits politiques. Jacob et Quillet. Op. cit. P. 134).
(обратно)179
Hegel Histoire de la philosophie (Gamiron). Op. cit. T. VII. P. 2046.
(обратно)180
Phénoménologie de l’esprit (Hyppolite). Op. cit. T. I. P. 8. (См.: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 3.)
(обратно)181
Hegel. Différence entre les systèmes de Fichte et de Schelling (1801) // Premières publications / Trad, par Marcel Méry. 2–e éd. Gap: Ophrys, 1964. P. 131.
(обратно)182
Moog W. Op. cit. P. 22.
(обратно)183
Beaussire в своем впечатляющем труде Antécédents de Phégélianisme dans la philosophie française, dom Deschamps, son système et son école (Paris, 1865), не проводит этого сближения.
(обратно)184
Hegel. Système de la vie éthique / Trad, par Jacques Taminiaux. Payot, 1978. P. 36.
(обратно)185
Hegel. L’Essence de la critique philosophique / Trad, par Bertrand Fauquet. Paris: Vrin, 1972. P. 98.
(обратно)186
Ibid. Р. 94–95.
(обратно)187
Hegel. La Relation du scepticisme avec la philosophie // Trad, par Bernard Fauquet. Paris: Vrin, 1972. P. 48
(обратно)188
Ibid. P. 62–63.
(обратно)189
Foi et Savoir // Premières publications de Hegel / Trad. M. Méry. Gap: Ophrys, 1964. P. 298.
(обратно)190
Hegel. Des manières de traiter scientifiquement du droit naturel // Trad, par Bernard Bourgeois. Paris: Vrin, 1972. P 78.
(обратно)191
LenzM. Geschichte der Königlichen Friedrich‑Wilhelms‑Universität zu Berlin, 1910–1913. II. 1. P 206.
(обратно)192
Histoire de la philosophie (Gamiron). T. VII. P. 2115.
(обратно)193
Письмо Шиллера Гёте от 9 ноября 1803 г.
(обратно)194
Hegel. Die Vernunft in der Geschichte. Hambourg: Meiner, 1955. P 105.
(обратно)195
О грехе: Leçons sur Г histoire de la philosophie (Garniron). T. III. P. 476–477. («Если y кого есть [такие слабости и недостатки], они ему тотчас отпускаются, коль скоро он не придает им никакого значения…»!)
(обратно)196
Фихте, письмо Рейнхольду от 22 мая 1799 г.
(обратно)197
Roques P. Op. cit. Р. 21.
(обратно)198
Dilthey. Op. cit. P 5.
(обратно)199
Phénoménologie de l’esprit (Hyppolite). Op. cit. II. P. 50.
(обратно)200
Phänomenologie des Geistes. Hamburg: Meiner, 1952. P. XXVII–XXVIII.
(обратно)201
«Цензурная правка задержала на год публикацию его “Начал философии права”», — говорит Хоффмейстер (В2 447). Каррер опускает эти слова (С2 337).
(обратно)202
О деле Галлера см. ниже: С. 344–345.
(обратно)203
Каррер не переводит этого отрывка (С3 337).
(обратно)204
Goethe‑Jahrbuch. T. XV. 1894. Р. 265.
(обратно)205
«Сумеречный день» у Платона. См.: Платон. Государство. 7. 521 с. 7. Сочинения. В 4 тт. Т. 3. М., 1994. С. 303. — Прим. пер.
(обратно)206
Обо всем этом деле см. обширные примечания Хоффмейстера (В1 485, В1 486–488), опущенные Каррером (С1 404).
(обратно)207
Roques P. Op. cit. Р. 114. То же Куно Фишер. Op. cit. Р. 76.
(обратно)208
О роли случая см. выше. С. 113—114.
Согласно Куно Фишеру, встреча с Кузеном в Дрездене также произошла «случайно» (von ungefдhr) (Op. cit. P. 170). Розенкранц употребляет слово zufдllig (неожиданно). В письме Гегеля министру ни одного из этих слов нет. Он выражается более осторожно, говоря, что «наткнулся» на Кузена... Каррер переводит: «несколько недель тому назад я с ним столкнулся (zusammengestossen), когда был проездом в Дрездене» (С3 71)
(обратно)209
Камергер {фр.) — Прим. пер.
(обратно)210
Ibid. Р. 113.
(обратно)211
Ср.: D'Hondt J. Théorie et pratique politique chez Hegel: le problème de la censure // Hegel Philosophie des Rechts (Henrich‑Horstmann). Stuttgart, 1982. P. 151–184.
(обратно)212
Экспозитус, в иерархии протестантской церкви «представитель» общины, но не пастор. Гегель, вероятно, имеет в виду пребывание на виду, невозможность укрыться. — Прим. пер.
(обратно)213
Hegel. Textes pédagogiques / Trad, par Bernard Bourgeois. Paris: Vrin, 1978. P. 82.
(обратно)214
Ibid. P. 81–82.
(обратно)215
Hegel. Propédeutique philosophique / Trad, par M. de Candillac. Paris: Éd. de Minuit, 1963.
(обратно)216
Hegel Esthétique / Trad, par S. Jankélévitch. Paris: Aubier‑Montaigne, 1944. T. II. P. 325 mod.
(обратно)217
Обеспечить ежедневные нужды (лат.). — Прим. пер.
(обратно)218
О Меркеле: Lenning. Allgemeine Handbuch der Freimaurerei. Leipzig, 1901. И. P. 36; и Roth F. (друг Гегеля). Nachricht von dem Leben Paul Wolfgang Merkels. Nuremberg, 1821.
(обратно)219
Die Vernunft in der Geschichte. Op. cit. P. 35–36.
(обратно)220
Hegel. Histoire de la philosophie (Garniron). 1991. T. VII. P. 2112.
(обратно)221
Могущество, сила (фр.). — Прим. пер.
(обратно)222
Schelling. Préface à un écrit de M. Cousin (1834) // Système de l’idéalisme transcendantal / Trad, par P. Grimblot. Paris: Ladrange, 1842. P. 378.
(обратно)223
Икскюль, «всегда носивший с собой томик “Логики” Гегеля», был франкмасоном и сделался «достопочтенным» одной ложи военных (Uxkull В. Amours parisiennes et campagne de Russie. Paris: Fayard, 1968. P. 9. Меггерних подозревал, что он — один из «демагогов» (Р. 246)).
(обратно)224
ADB. T. XXV, rééd. 1970. Art. «Paulus». P. 287. См.: Reichlin‑MeldeggK. L. Paulus und seine Zeit. Stuttgart: Verlags‑Magazin, 1853.2 vol.
(обратно)225
См. выше: Гл. III, прим. 16.
(обратно)226
Об участии Гегеля в подготовке этого издания Спинозы — примечания Гарнирона в Hegel. Leçons sur l’histoire de la philosophie. Op. cit. T. VI. P. 1448.
(обратно)227
Histoire de la philosophie. Introduction / Trad, par J. Gibelin. Paris: Gallimard, 1954. P. 13–14.
(обратно)228
Например, старогегельянец Хайнрих Лео: Die Hegelingen (Halle, 1838).
(обратно)229
La Neue Deutsche Biographie (NDB) посвящает Карове едва ли одну колонку (Т. III. Berlin, 1957. Р. 154).
(обратно)230
Наут R. Hegel und seine Zeit (H. et son temps). 1857. P. 507, n. 13.
(обратно)231
Hotho H. G. Vorstudien für Leben und Kunst. Цит. по: Fischer K. Op. cit. P. 215–216.
(обратно)232
Amadeus Wendt в своем издании Танненманна Grundriss der «Geschichte der Philosophie». З — eéd. Leipzig, 1820. P. 449–450.
(обратно)233
Haering T. Hegel, sein Wollen und sein Werk. Leipzig; Berlin, 1929. T. I. P. VII
(обратно)234
Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte / Éd. par le Dr Édouard Gans. 1833 (T. IX des Hegel’s Werke. 1832–1887). 2–е изд. выпущенно Карлом Гегелем в 1840 г.
Ср.: D’Hondt. Un texte malmené // Archives de philosophie. T. 33, тетрадь 4. Окт. — дек., 1970. P. 855–879.
(обратно)235
Борис фон Икскюль признавал свое непонимание и восторгался темнотой и серьезной невозмутимостью Гегеля. Кузен, «Hegel est letter close» (Roques. Op. cit. P. 170 и 171).
(обратно)236
Фихте И. Г., письмо Рейнхольду от 22 мая 1799 г.
(обратно)237
Fichte‑Schelling. Correspondance / Trad, par Myriam Bienenstock. Paris: PUF, 1991. P. 135.
(обратно)238
Heine. De l’Allemagne / Trad, par Pierre Grappin. Op. cit. P. 125–126.
(обратно)239
Encyclopédie des sciences philosophiques / Trad. Par Bernard Bourgeois. T. I. Paris: Vrin, 1970. P. 463. (См.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. T. I. Наука логики. М., 1974. С. 424.)
(обратно)240
HerrL. «Hegel». Ст. в Grande Encyclopédie. T. XIX. P. 997—1003 (и след.).
(обратно)241
Hegel. Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. VI. P. 1313 (n. 6). P. 1314.
(обратно)242
Shelling. Contribution à l’histoire de la philosophie. Op. cit. P. 89.
(обратно)243
Histoire de la philosophie (Garniron). I. P. 156.
(обратно)244
Heine. De l’Allemagne / Trad, par Pierre Grapin. Op. cit. P. 150.
(обратно)245
Hegel. La Constitution de l’Allemagne // Écrits politiques / Trad, par Michel Jacob et PierreQuillet. Paris, 1977. P. 53.
(обратно)246
Гегель часто клеймил «совместные действия религии и деспотизма» (также Nohl. Р. 357).
(обратно)247
См. выше: С. 255–257 и (С2 231).
(обратно)248
Geiger L. Berlin 1688–1840. Berlin: Pactel, 1895. T. II. P. 588.
(обратно)249
Hegel K. Leben und Errinnerungen. Leipzig, 1900. P. 32. По словам Фридриха Вильгельма IV, Шеллинг был призван в Берлин, чтобы «сразить и извести гадючье семя гегелевского пантеизма» (ADB. Op. cit. Art. «Schelling»),
(обратно)250
Roques P. Op. cit. P. 351.
(обратно)251
Fischer К. Op. cit. Р. 185.
(обратно)252
Ibid. P. 187–188.
(обратно)253
Karl August Philipp Vamhagen von Ense. Denkwürdigkeiten. Leipzig: Brockhaus, 1840. T. V. P. 182
(обратно)254
Fischer K. Op. cit. P. 188.
(обратно)255
Glöckner H. Hegel. Stuttgart: Frommann. 2–е ed. 1929. I. P. 437, см.: ABD.
(обратно)256
Erdmann É. Art. «Hegel». ADB, 1880 (2-e ed., 1969). T. XI. P. 271. (Ср.: В3 472 и С3 396)
(обратно)257
Von Schuckmann, цит. Францем Мерингом в Historische Aufsätze zur preussischdeutschen Geschichte. Berlin: Dietz, 1952. P. 248.
(обратно)258
Письмо Рейнхольду от 22 мая 1799 г.
(обратно)259
Слово exponent восходит к латинскому expositus, о современном смысле которого Гегель напоминает Нитхаммеру: «У вас [в Баварии], если я правильно помню, есть люди и обязанности, о которых говорят expositos; здесь их тоже предостаточно. Вам, впрочем, известно, что преподаватель философии — сам по себе прирожденный expositus» (С3 237). В каком контексте употребляется это слово, в частности, в Баварии? Леннхоф и Познер (Op. cit. col. 730. Art. «Illuminaten») приводят пример такого употребления: «Цвак стал экспонентом ордена [иллюминатов] в баварской столице».
(обратно)260
Hegel. Encyclopédie des sciences philosophiques. Op. cit. P. 396.
(обратно)261
Malet et Isaac. Révolution et Empire. Paris: Hachette, 1929. P. 357.
(обратно)262
Ibid.
(обратно)263
Cavaignac E. La Formation de la Prusse contemporaine. Paris, 1891. T. I. P. 339–340.
(обратно)264
Mehring F. Op. cit. P. 248.
(обратно)265
Weill G. L’Éveil des nationalités. Paris, 1930. P. 212
(обратно)266
Де Ветте, Вильгельм Мартин Леберехт, 1780–1849. Утешительное письмо матери Карла Занда, убийцы Коцебу. — Прим. пер.
(обратно)267
Weill G. Ibid.
(обратно)268
Karl Ludwig von Haller. Restauration der Staatswissenschaften. T. I (1816). T. II (1817). T. III (1818). T. IV (1820).
(обратно)269
Цит. по: Oechsli W. Geschichte der Schweiz. Leipzig, 1903–1913. Т. Н. P.541.
(обратно)270
Charles‑Louis de Haller. Lettre à sa famille. Metz, 1821. P. 7.
(обратно)271
Hegel. Principes de la philosophie du droit (Derathé). Paris: Vrin, 1975. Paragraphe 258 et note 2. P. 260—262
(обратно)272
ADB. T. XXXIII, rééd. 1971. P. 7.
(обратно)273
Sée H. Remarques sur la philosophie de l’histoire de Hegel // Revue d’histoire de la philosophie. Paris, 1927. P. 327, note 3.
(обратно)274
Droz J. L’Allemagne et la Révolution française. Paris: PUF, 1949. P. 103 и 109.
(обратно)275
Цит. по: Hegel. Aphorisme de la periode d’Iena. См. также: (R 544).
(обратно)276
Bekehrer (нем.). — миссионер. Bekehren (нем.). — обращать в истинную веру, наставлять на путь истины. — Прим. пер.
(обратно)277
Hegel. Écrits politiques (Jacob et Quillet). Op. cit. P. 105.
(обратно)278
Friedich von Gagern, цит. по: Jürgen Kuczynski. Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland. Berlin, 1954. P. 18.
(обратно)279
Weill G. Op. cit. P. 47.
(обратно)280
В своем переводе примечания Хоффмейстера по поводу дела Ветте (В2 447), Каррер не упоминает о пожертвованиях и об участии Гегеля (С2 337) (В2, прим. 9 к письму 359).
(обратно)281
Lenz. Op. cit. P. 54.
(обратно)282
Об истории с Давидом Ульрихом: Oechsli W. Geschieht der Schweiz, 1903–1913. T. II. P. 628. Об Ульрихе: Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. Neuschâtel, 1932. T. VI. P. 730. № 54.
(обратно)283
Art. «Förster (Friedrich)». ADB. T. VII. P. 185–189.
(обратно)284
Эта полицейская справка, приводимая Хоффмейстером, не воспроизведена Каррером (С2 342).
(обратно)285
Art. «Carove» в NDB. Berlin, 1957. Т. III. P. 154.
(обратно)286
Приведено Хоффмейстером (В2 482), опущено Каррером (С2 342), который, впрочем, отсылает к (В. S. 663–641).
(обратно)287
Приведено Хоффмейстером (В2 437), опущено Каррером (С2 337).
(обратно)288
Art. «Henle» в NDB. 1969. T. VIII. Р. 531. См.: Hegel К. Op. cit. Р. 33 и Lenz. Op. cit. P. 455.
(обратно)289
Gasparin V., de. L’Hegelien // Les Horizons prochains. Paris, 1858. P. 113–136.
(обратно)290
См.: Гл. XVII, прим. 1.
(обратно)291
Hegel Phénoménologie de l’esprit. Op. cit. (Hyppolite). II. P. 50 sq
(обратно)292
Stem A. L’Irréversibilité de l’Histoire // Diogène. Paris. № 29. P. 4.
(обратно)293
Ibid. (Stern).
(обратно)294
Flint R. La Philosophie de l’Histoire en Allemagne / Trad, par Carrau. Paris, 1878. P. 136.
(обратно)295
Schnabel F. Histoire de l’Allemagne au XIX — е siècle. Fribourg, 1949. II. P. 261.
(обратно)296
ReimannP. Hauptsrömungen der deutschen Literatur, 1750–1848. Berlin, 1956. P. 533.
(обратно)297
Herr L. Grande Encyclopédie. T. XIX. P. 998.
(обратно)298
Hegel. Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. VI. P. 1714–1748.
(обратно)299
Marx. Manuscrits de 1844 / Trad. Par Emile Bottigelli. Paris: Éd. Socials, 1962. P. 141 (mod.).
(обратно)300
См. ниже: прим. 36 ко Гл. XVI.
(обратно)301
См. выше: С. 171–176.
(обратно)302
Fischer К. Op. cit. Р. 55.
(обратно)303
Victor С. Cherbuliez. Profils étrangers (3–е éd.) Paris: Perrin, 1905. P. 3.
(обратно)304
Hegel. Encyclopédie des sciences philosophiques (Bourgeous). Op. cit. I. P. 130. (См.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1975. С. 65.)
(обратно)305
Le mode (фр.). — образ, форма, вид; способ, прием, метод. — Прим. пер.
(обратно)306
В русском переводе «светил» нет, как их нет в немецком издании «Энциклопедии» 1830 г., — см. чуть ниже. — Прим. пер
(обратно)307
Hegel. Encyclopédie. Édition de 1830: Гегель счел целесообразным переписать текст, посвященный этому важному пункту.
(обратно)308
Hegel. Religionsphilosophie / Éd. K. H. Ilting. Naples: Bibliopolis, 1978. P. 529.
(обратно)309
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. V. P. 1122.
(обратно)310
Histoire de la philosophie. Introduction (Gibelin). Op. cit. P. 166.
(обратно)311
Ibid. P. 167
(обратно)312
«Иисус решительно высказывается против личности, против индивидуальности (против представления о личном Боге)…». Дух христианства и его судьба. Op. cit. Р. 129. Гегель отсылает к Мф. (10:41).
(обратно)313
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. III. P. 406.
(обратно)314
«Когда понятие достигает зрелости, оно больше не нуждается в мифе». См.: Лекции по истории философии. Т. 2. СПб., 1994. С. 131. — Прим. пер.
(обратно)315
Jouffroy Th. Mélanges philosophiques / Éd. par Patrice Vermeeren. Paris: Corpus, Fayard, 1997. P. 369–361. Cm.: D’Hondt. Hegel et Jouffroy // Corpus (Paris X‑Nanterre), 1997. № 33 (special Jouffroy). P. 81–98.
(обратно)316
Histoire de la philosophie. Introduction (Gibelin). Op. cit. P. 189.
(обратно)317
Ibid. P. 172.
(обратно)318
«На самом деле религия должна найти убежище в философии […]. С мирской точки зрения в ней есть некая устарелость» (Philosophie de la religion / Éd. Lasson. Meiner, Leipzig, 1929. P. 231; Éd. Ilting. Op. cit. P. 709). Вейсхаупт заявил: «При том, как я объясняю христианство, никто не может смущаться того, что он христианин. Ибо я сохраняю имя и понимаю под ним разум». (Цит. по: Agethen М. Geheimbund und Utopie: Illuminaten, Freimaurer und deutsche Spätaufklärung. München, 1984. P. 122).
(обратно)319
Hegel. Die Vernunft in der Geschichte. Op, cit. P. 51. Удобный способ сделать из Гегеля ортодокса, это перевести слова «Der Christ […] der den Abglanz der Wahrheit anbetet» как «христианин […], который молится истинному Богу»! (Т. е. «Христианин […], который молится отражению истины».) (Hegel. La Raison dans l’histoire / Trad, par Kostas Papaionnou, coll. 10/18. Paris: UGE, 1965. P. 72.)
(обратно)320
Principes de la philosophie du droit. Op. cit. P. 340 (paragraphe 359).
(обратно)321
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. III. P. 488–489. (См.: Лекции по истории философии T. 2. С. 201–202.)
(обратно)322
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. III. P. 406–407. (См.: Лекции по истории философии T. 2. С. 131.)
(обратно)323
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. VI. P. 1441. (См.: Лекции no истории философии T. 3. С. 343.). По — французски цитата сокращена и изменена. — Прим. пер.
(обратно)324
Religionsphilosophie / Pub. par Karl Heinz Ilting. Op. cit. P. 538.
(обратно)325
Werke (Glöckner). T. XVI. P. 191, ou Religionsphilosophie (Ilting). Op. cit. P. 492.
(обратно)326
Religionsphilosophie (Ilting). Op. cit. P. 708. (См.: Философия религии. М., 1977. Т. 2. С. 333.)
(обратно)327
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. VI. P. 1725.
(обратно)328
Тезис, поддерживаемый, например, Breysig K. Vom geschichtlichen Werden. Stuttgart: Cotta, 1926. T. II. P. 173 et passim.
(обратно)329
Цит. по: Waszek N. Op. cit. P. 26.
(обратно)330
Wissenschaft der Logik. Hamburg: Meiner, 1963.1. P. 31.
(обратно)331
Та же обеспокоенность в Philosophie de la religion, издания 1832 г. T. II. Р. 181: «Рассмотренный таким образом в стихии мышления, Бог есть, так сказать (so zu sagen), до сотворения мира и вне его».
То же самое в Die Vernunft in der Geschichte. Op. cit. P. 134: «Im Christentum drückt sich das so aus, dass man sagt: Gott hat seinen Sohn erzeugt». Слово в слово: «В христианстве это обнаруживается, когда говорят: Бог родил Сына…». Папаиоанну переводит проще: «Христианство выражает себя в словах: Бог родил Сына» (La Raison dans l’histoire. Op. cit. P. 161)!.
(обратно)332
Religionsphilosophie (Ilting). Op. cit. P. 703
(обратно)333
Ibid. P. 702. (См.: Философия религии. М., 1977. Т. 2. С. 319.)
(обратно)334
Claude Bruaire в Encyclopaedia Universalis. T. XI. Paris, 1989. P. 258.
(обратно)335
Паскаль — Прим. пер.
(обратно)336
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. V. P. 1177. (См.: Лекции по истории философии. T. 3. С. 256.)
(обратно)337
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. V. P. 1178–1179. (См.: Лекции по истории философии. T. 3. С. 257.)
(обратно)338
Ibid. C. 258. — Прим. пер.
(обратно)339
Ibid. — Прим. ne
(обратно)340
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. V. P. 1179–1180. (См.: Лекции по истории философии. C. 257.)
(обратно)341
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. V. P. 1154: философия Джордано Бруно «это также в общем смысле спинозизм, пантеизм».
(обратно)342
Marx. Contribution à la critique du droit hégélien // Marx‑Engels‑Werke. T. I. Berlin: Dietz, 1969. P. 301–309.
(обратно)343
Этот текст Первой программы немецкого идеализма, задуманной, несомненно, Гёльдерлином вместе с Гегелем, дошел до нас в рукописной копии Гегеля (Legros R. Le Jeune Hegel et la naissance de la pensée romantique. Bruxelles: Ousia, 1950. P. 244). Для Вейсхаупта: «свобода идет рука об руку с исчезновением государства» (Ibid. Р. 175, note 8).
(обратно)344
Hegel. Principes de la philosophie de droit (Derathé). Op. cit. P. 55.
(обратно)345
Leçons de 1819–1820: Philosophie des Rechts, die Vorlesung von 1819–1820, publiées par Dieter Heinrich. Francfort: Suhrkamp, 1983. P. 51.
(обратно)346
Die Posaune des jüngsten Gerichts, 1841 (без указания автора).
(обратно)347
Cousin V. Promenade philosophique en Allemagne // Revue des Deux Mondes. 1857. T. V. P. 546.
Синий во время войны в Ванде — цвет республиканских солдат, в отличие от белых роялистов.
(обратно)348
Hegel. Philosophie de l’histoire (Gibelin). Op. cit. P. 346. (См.: Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 454–455.)
(обратно)349
OelsnerK. Е. (1764–1828). Minerva. Mars, 1793. P. 281.
(обратно)350
Hegel. Cours d’esthétique / Trad, par J. — P. Lefebre et V. von Schenk. Paris: Aubier, 1995. P. 259 mod. (См.: Гегель Г. В. Ф. Сочинения. T. XII. М., 1938. Лекции по эстетике. Кн. I. С. 197–198.)
(обратно)351
Engels F. Deutsche Zustände // Marx‑Engels‑Werke. T. 2. Berlin: Dietz, 1969. P. 572–573.
(обратно)352
Ancillon F. Ueber Souveränität und Staatsverfassungen. Berlin, 1816. P. 3.
(обратно)353
Principes de la philosophie du droit (Derathé). Op. cit., добавления к параграфу 281, прим. 45. P. 296.
(обратно)354
Frédéric‑Guillaume IV, цит. noÆ Cornu. Op. cit. P. 168. См. выше: С. 100–101.
(обратно)355
Ibid. Р. 168. См. выше: С. 102, прим. 9
(обратно)356
Hegel. Principes de la philosophie du droit / Éd. Lasson. 4–e éd. Hambourg: Meiner, 1955, добавление к параграфу 75. P. 354.
(обратно)357
Из Парижа Гегель пишет: «Я посетил здесь много мест по причине их исторической значимости: площадь Бастилии, Гревскую площадь, площадь, где был обезглавлен Людовик XVI. Передо мной проходит история Французской революции (в настоящее время лучшая), и все воспринимаешь гораздо живее, когда видишь площади, улицы, дома…» (С3 166). Речь идет о произведении Mignet, с которым он встретился лично.
(обратно)358
См. выше, С. 89. прим. 13.
(обратно)359
Им не посчастливилось попасть ни в Petit Larousse 1993, ни в Nouveau Larousse enciclopédique 1994, тогда как для стольких иных малозначащих персонажей там нашлось место.
(обратно)360
Гегель похвально отзывается о Гракхах, «этих доблестных римлянах» (Философия истории). В сущности он одобряет «аграрные законы» в их историческом контексте.
(обратно)361
Схолия, CTKOAiov — небольшое лирическое стихотворение, распеваемое во время симпозия. — Прим. пер.
(обратно)362
Hölderlin. Œuvres (Bibl. de la Pléiade). Op. cit. P. 1153.
(обратно)363
Ibid. P. 214.
(обратно)364
Ibid. Р. 186–187.
(обратно)365
Ibid. Р. 1139.
(обратно)366
Forster G. Die Kunst und das Zeitalter // Thalia. 1789. № 11. P. 83–94.
(обратно)367
Nohl. P. 359. Frühschriften. Op. cit. P. 80.
(обратно)368
Nohl. P. 215. Frühschriften. Op. cit. P. 360.
(обратно)369
Frühschriften. Op. cit. P. 415 et (R 11).
(обратно)370
Тексты Псевдо — Тиртея и Тибулла в переводе на немецкий были опубликованы в 1783 г. у Фюссли в Цюрихе.
(обратно)371
Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. II. P. 377. (См.: Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Т. 2. СПб., 1994. С. 115.)
(обратно)372
Jean Wit [sic]. Les Sociétés secrètes de France et d’Italie. Paris: Le-vasseur, 1830.1. P. 47. Этот персонаж называл себя по-разному: Wit, Witt, Witt-Doehring и т. д
(обратно)373
Malet et Isaac. Révolution et Empire. Paris: Hachette, 1929. P. 467–468.
(обратно)374
Chateaubriand. Mémoires d’outre‑tombe. Bibi, de la Pléiade, 1951. P. 845.
(обратно)375
KuypersJ. Buonarotti et ses sociétés secretes. Bruxelles, 1960. P. 5, note. Йохан Георг Вессельхёфт, брат Роберта, племянник Фромманна, подписался в альбоме Людвига Гегеля как «верный друг». Гегель упоминает Вильгельма Вессельхёфта в письме от 7 октября 1818 (С2182) и (В4125).
(обратно)376
Записка французской полиции: D’HondtJ. Hegel en son temps. Op. cit. P. 194.
(обратно)377
См. выше: С. 372–373. и Гл. XV, прим. 9.
(обратно)378
Vamhagen von Ense. Blätter aus der preussischen Geschicte. Цит. по (В3 376).
(обратно)379
Charles Bréville. L’Arrestation de Victor Cousin en Allemagne (1824–1825) // La Nouvelle Revue de Paris, 1910.
(обратно)380
Varnhagen von Ense, цит. по прим. (С3 353). зо Д’Опт 465
(обратно)381
«Этот союз сердца и ума одновременно был нерушимым, даже когда единственным связующим звеном между нами оставалась политика» (Виктор Кузен, цит. Бернхардом Кноупом: Кпоор В. V. Cousin, Hegel et romantisme français [en allemand]. Berlin, 1932. P. 22.
(обратно)382
Obermann K. Deutschland, 1815–1849. Berlin, 1961. P. 33.
(обратно)383
Ibid. Р. 44
(обратно)384
Haupt H. Karl Folien und die Giessener Schwarzen. Giessen, 1907. P. 77, note. Это произведение содержит много сведений о разных значимых в этом контексте лицах.
(обратно)385
Ср.: Höhn G. Heine. Stuttgart: Metzler, 1987. P. 218–221.
(обратно)386
Всеобщая немецкая биография. — Прим. пер.
(обратно)387
Obermann K. Op. cit. P. 16.
(обратно)388
Die Vernunft in der Geschichte. Op. cit. P. 160.
(обратно)389
Breville. Op. cit. P 42.
(обратно)390
Knoop В. Op. cit. P. 43, note 12.
(обратно)391
Reinhardt P. Les Troubles de Saxe, 1830–1831 // Historische Studien. № 8. Halle, 1916. P. 115.
(обратно)392
Nohl. Р. 215.
(обратно)393
Ibid. См. выше: С. 57. и прим. 4.
(обратно)394
Ibid. и Früschriften. Op. cit. P. 310.
(обратно)395
Hegel. Écrits politiques (Jacob et Quillet). Op. cit. 1977. P. 214–215.
(обратно)396
Розенкранц объясняет резко критический тон этой статьи дурным настроением Гегеля вследствие болезни (R. 419)!
Перевод статьи: Hegel. Écrits politiques (Jacob et Quillet). Op. cit. P. 355–395.
(обратно)397
Vermischte Schriften // Sämtliche Werke. T. XVII. 1835. P. 425–426.
(обратно)398
«Пороки английской системы не могли не напомнить ему о пороках его собственной страны» (Jacob М. Écrits politiques. Op. cit. P. 352).
(обратно)399
Ibid. P. 347.
(обратно)400
Ibid. Р. 373.
(обратно)401
У настоящего придворного не должно быть ни чести, ни настроения (фр.). — Прим. пер
(обратно)402
Цит. в Art. «Wittgenstein». ADB. Op. cit. T. 43. P. 629.
(обратно)403
Филипсборн (Philipsborn), гегельянец, был одним из первых подписчиков на Собрание сочинений Гегеля (T. 1.1832. P. XIII).
(обратно)404
Écrits politiques. Op. cit. P. 395. Trad. mod
(обратно)405
Ibid. P. 352.
(обратно)406
Encyclopédie des sciences philosophiques (Bernard Bourgeois). T. III. Paris: Vrin, 1988. P. 330. (См.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1956. Т. 3. С. 332)
(обратно)407
Или, опираясь на другие тексты, например, «Феноменологию» (Phénoménologie / Trad. J. — P. Lefebvre. Op. cit. P. 47): «Убежденный в том, что знает меня, поистине здесь меня узнает».
(обратно)408
D’Hondt J. Hegel. Biographie. Paris: Galmann Levy. Coll. «La vie des philosophes», 1998.424 p.
(обратно)409
Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. Об А. Кожеве см. юбилейную статью А. М. Руткевича «Рах Europeana». . ru/staii/2008/rutkeich koiev.html
(обратно)410
Кожев А. С. 586. прим. 1.
(обратно)411
«Отождествиться с деревом и не одеревенеть это значит сформировать и иметь понятие (адекватное) о дереве. Стать другим и остаться собой значит иметь и хранить (внутри и посредством памяти) понятие своего Я». Там же. С. 587, прим. 1.
(обратно)412
О «„ретроспективном взгляде” на Гегеля в современном французском гегельянстве см.: Быстров В. Ю. Послесловие переводчика // Ипполит Ж. Логика и существование. СПб., 2006. С. 309–319.
(обратно)413
Увидев себя со стороны (трансцендентального субъекта или, иными словами, никакого Я), я не могу вернуться в себя прежнего. Именно здесь — на путях трансцендирования Я эмпирического — разум становится историческим.
(обратно)414
Начале самой определенности, каковым у Аристотеля выступает принцип тождества — одновременно логическое и оптическое начало — ум — перводвижитель.
(обратно)415
Эволюционировавшей к тому времени в субстанцию Спинозы.
(обратно)416
Об этом: Перов Ю. В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб., 2010. С. 446–447.
(обратно)417
Шаг «из метафизики», позволяющий уяснить себе ее онто- тео — логическую сущность. Хайдеггер М. Тождество и различие. М., 1997. С. 33–38.
(обратно)418
Ипполит Ж. Логика и существование. Очерк логики Гегеля. СПб., 2006. С. 307–308.
(обратно)419
Увидев себя со стороны (трансцендентального субъекта или, иными словами, никакого Я), я не могу вернуться в себя прежнего. Именно здесь — на путях трансцендирования Я эмпирического — разум становится историческим.
(обратно)420
Начале самой определенности, каковым у Аристотеля выступает принцип тождества — одновременно логическое и оптическое начало — ум — перводвижитель.
(обратно)421
Эволюционировавшей к тому времени в субстанцию Спинозы.
(обратно)422
Об этом: Перов Ю. В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб., 2010. С. 446–447.
(обратно)423
Шаг «из метафизики», позволяющий уяснить себе ее онто- тео — логическую сущность. Хайдеггер М. Тождество и различие. М., 1997. С. 33–38.
(обратно)424
Ипполит Ж. Логика и существование. Очерк логики Гегеля. СПб., 2006. С. 307–308.
(обратно)425
De Hegel a Marx. Paris: PUF, 1972; L’ideologie de la rupture. Paris: PUF, 1978.
(обратно)426
D’HondtJ. Les ruptures dans la tradition philosophique européenne. Эта и другие работы Жака Д’Онта доступны на сайте Journal of French Philosophy. Bulletin de la Société Americaine de Philosophie de Langue Française. Сведения об авторе и список трудов: ‑chaovignv.org/spiD. DhD
(обратно)427
Plaidoyer pour l’aliénation // Cahiers philosophiques, 29, décembre 1986. PP. 25–44. Текст лекции, прочитанной в колледже Генриха IV в январе 1986 г.
(обратно)428
Степанов Г. В. Поучительный эксперимент Хорхе Луиса Борхеса // Степанов Г. В. Язык. Литература. Поэтика. М., 1988. С. 210–213.
(обратно)
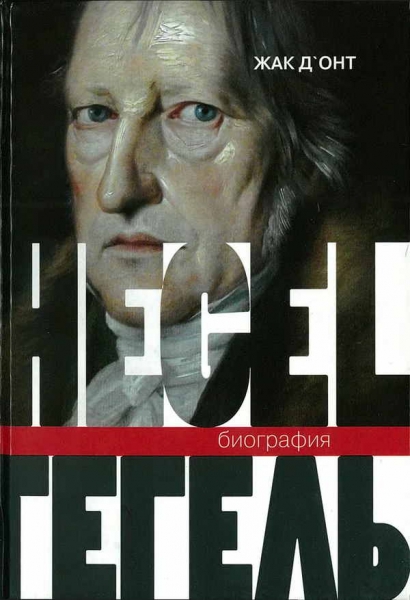


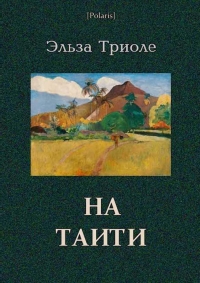
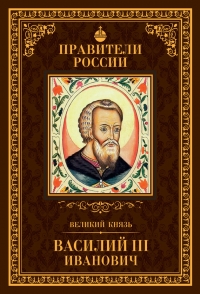
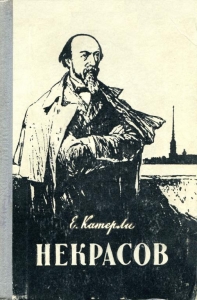
Комментарии к книге «Гегель. Биография», Жак Д'Онт
Всего 0 комментариев