Юрий Маркович Нагибин Летающие тарелочки
Из путевого дневника
1
Мне хочется написать этот очерк так же непринужденно, как я гулял по Америке. Стоп! Непринужденность эта была весьма иллюзорна. Конечно, не потому, что я чувствовал за собой некий присматривающий глаз, не потому, что, дыша мне в затылок кукурузным виски, хватал меня за рукав полицейский… Ан раз и случилось такое. Летел я из Роли — столицы штата Северная Каролина в Остин (штат Техас) с пересадкой в Далласе, где совершилось убийство века, и заблудился в громадном Далласском аэропорту. Мне надо было перейти с линии ТВА на линию «Юнайтед», тогда еще не бастовавшую. Увидел я человека в форме, показавшегося мне аэродромным служащим: синие брюки, серая рубашка, фуражка, в руках радиопередатчик. Морщась красным загорелым лицом, вслушался он в мой невразумительный лепет (произношение у меня хуже нету — английское), глянул в билет, молча и цепко схватил за рукав и куда-то поволок. Мы промчались длиннющим коридором мимо ресторанов, кафе, баров, закусочных с гамбургерами и «горячими собаками», мимо туалетов, именуемых «комнатами отдыха», потом через зал ожидания с магазинами сувениров и газетно-журнальными киосками, спустились по эскалатору, пробежали тоннелем и очутились на улице, где стояла полицейская машина с мигалкой на крыше, сейчас, разумеется, выключенной. Полицейский — наконец-то я разглядел его форму — втолкнул меня в машину, захлопнул дверь, издавшую какой-то убедительно-безнадежный звук, и сел за руль. Машина тронулась, сразу отвернув от аэровокзала. Я крепко приуныл. У меня было не все в порядке с американской визой, что выяснилось по прибытии в США в аэропорту Кеннеди, где я проходил паспортный контроль, перед тем как лететь дальше, в Детройт.
В этом центре автомобильной империи Форда меня ждали профессора Мичиганского штатского университета, чтобы отвезти на машине в свою епархию Ист-Лансинг. Затеяв мою грандиозную двухмесячную поездку в обход госдепартамента, они по неведению пренебрегли какими-то формальностями, отчего выданная посольством США виза оказалась действительной лишь на месяц. Гостеприимные хозяева заверили меня, что визу без труда продлят и нечего беспокоиться. Я и не беспокоился вплоть до сегодняшнего дня, когда полицейский втолкнул меня в машину и повез, по всей видимости, в участок. Как раз сегодня, на половине путешествия, отмеченной тем, что я расстался с автобусами и пересел на самолет, истек срок посольской визы.
Скрылось вдали темное, мрачно-красивое здание аэровокзала, я подумал, что Далласу к лицу траурный цвет — в память о запятнавшем его преступлении. Мелькнули зеленые квадраты газонов меж взлетными и посадочными полосами, багажные помещения и ангары крупнейших компаний — ТВА, «Юнайтед», «Америкен», «Вестерн», и выплыло из утреннего туманца другое здание аэровокзала, тоже траурного цвета. Машина на крутом, резко-ловком повороте, как в детективных фильмах, подрулила к входу. Полицейский выскочил и распахнул дверцу.
Оказалось, что громадный аэропорт Далласа, уступающий разве лишь Чикаго, состоит из нескольких отдельных аэровокзалов, находящихся друг от друга на солидном расстоянии и связанных местным аэродромным метро. Из любезности к чужеземцу полицейский не стал мучить меня сложностью подземных переездов и доставил к аэровокзалу на своей машине.
Вернусь к тому, с чего начал: к иллюзорности моей непринужденности. Программа была жесткая, нарушь ее хоть в одном звене, и рвется вся цепь из двадцати четырех университетов. Все было рассчитано по дням, по часам: когда прибываю, когда читаю лекции, провожу семинары, встречаюсь с профессорами и студентами в неофициальной обстановке, как уезжаю. Билеты и на автобусы и на самолеты были взяты заранее. Мои мичиганские хозяева вели меня по сложнейшему, запутаннейшему маршруту, как космический корабль, — в бесконечном отдалении чувствовал я их надежную руку. На конечных остановках автобусов, а потом в аэропортах меня встречал с машиной представитель очередного университета, чаще всего профессор русской литературы, иногда чейрмен отделения, вроде бы профессор-распорядитель. При отлете провожающие сдавали меня аэродромному служащему, а тот отводил сперва в регистратуру, затем к положенным «воротам», как называют в Америке выход на посадку.
Меня усаживали в самолет раньше остальной массы пассажиров, в небольшой группе инвалидов, эпилептиков, слепцов, дряхлых, обезножевших стариков в кресле на колесах, а также «немцов» — не владеющих английским языком. Я владею английским, вернее, мне так казалось, до этой поездки. А тут обнаружилось, что я знаю какой-то другой язык, по-своему красивый и звучный, но малопонятный туземцам, особенно простым людям (и самым нужным): кассирам, стюардессам, шоферам такси и автобуса, продавцам, официантам, коридорным. Куда лучше понимали меня гостиничные администраторы, привыкшие к тому, что иностранные туристы, каждый на свой лад, ломают язык, и сметливые интеллигенты с богатым ассоциативным миром. Надо сказать, что и я, в свою очередь, понимал их неплохо. Вообще же в живой речи аборигенов было слишком много произношения, слова тонули в каком-то волнующе-горловом клёкоте. Здешний английский был непонятен, как голубиное воркование, и, спрятав самолюбие в карман, я охотно вступил в братство неполноценных. Правда, под конец поездки мне это надоело: я по-прежнему не различал отдельных слов, но то ли научился по артикуляции понимать их смысл, то ли изучил все не слишком многообразные варианты аэродромных разговоров и безошибочно догадывался о сути — и потому смог покинуть инвалидную команду, смешаться с нормальными пассажирами.
Четкое перемещение в огромном американском пространстве подверглось серьезной угрозе, когда забастовали служащие крупнейшей в стране компании «Юнайтед». На других авиалиниях воцарился хаос. Не хватало мест, пассажиры застревали на пересадках без всякой гарантии вылететь не только в ближайшие часы, но и в ближайшие дни. Те, кому было не слишком далеко, кидались на автобусы, но «Грейхаунд» и «Трайлэйс» тоже вскоре затрещали под этим напором, и в аэропортах начались тяжелые сцены с рыданиями, криками, истерическими припадками. Оказалось, что образцовый американский порядок крайне хрупок. Правда, через неделю-другую все относительно наладилось — компании организовали дополнительные рейсы, но все же напряжение не было снято, и я всякий раз сомневался, удастся ли мне попасть на самолет.
Маршрут у меня был дьявольски сложный: из Лансинга я отправился в небольшой университетский городок Оберлин (штат Огайо), откуда вернулся в Лансинг; самолетом с двумя пересадками добрался до Итаки (штат, Нью-Йорк) в знаменитый Корнельский университет; из Итаки автобусом через Нью-Йорк в Вашингтон, оттуда назад в Нью-Йорк, в Колумбийский университет — один из Большой четверки, оттуда… Но стоп! Не буду утомлять читателя перечислением всех мест, где я был. Мне проще сказать, где я не был: в Бостоне, Филадельфии, Нью-Орлеане, Сан-Франциско. Первые два — это культурные центры; Нью-Орлеан, где зародился американский джаз, обладает, по общему мнению, особым южным очарованием, а Сан-Франциско — красивейший из американских городов. Во всех остальных стоящих городах, хоть проездом, хоть пролетом, я побывал. Страна показалась мне широко: заводами, рудниками, нефтяными вышками, фермами, полями, прериями, где пасутся стада, красной пустыней и Большим каньоном, великими озерами и великими реками, горами и лесами, я был там, где строят «Боинги», где играют в рулетку и где убивают президентов.
Если вычертить мой маршрут по карте, получится нечто весьма причудливое, наводящее на мысль о паранойе. От Тусона (штат Аризона) рукой подать до Калифорнии, я же отправился на берег Соленого озера, к мормонам, а в Лос-Анджелес летел потом через всю страну; возле города Колумбуса (штат Огайо) я оказался в самом начале путешествия, а попал туда под конец: в южный Нашвилл (штат Теннесси) я катил из Вильямспорта (Пенсильвания) через северный Кливленд и т. д.
На то были свои причины: Калифорния и Сиэтл возникли по ходу путешествия, в других случаях вмешивался текучий график студенческих каникул. Как ни скрупулезно был составлен маршрут, одна осечка все же произошла. В Вашингтоне меня принимали профессора университета имени Джорджа Вашингтона, но они оказались генералами без армии, и единственное занятие я провел со студентами Джорджтаунского университета, не успевшими, себе на горе, разъехаться на каникулы.
Но следует объяснить, как я вообще очутился в США. Ежегодно в Московский университет из США приезжает большая группа профессоров-русистов для повышения квалификации. В прошлом году с такой вот группой приехала Эллен Кохрам, профессор Мичиганского государственного университета, совсем молодой: доктор философии. В США все доктора гуманитарных наук имеют звание «д. ф.» — доктора философии. В Европе, кажется, то же самое. Диссертацию Э. Кохрам защитила по моим рассказам. В связи с изданием части работы, включающей обширную библиографию, ей понадобился целый ряд справок и уточнений. Мы встретились, и между нами возникло то, чего так часто не хватает людям, — доверие. По возвращении в Ист-Лансинг Э. Кохрам подала своему научному шефу, профессору и главному редактору журнала «Русский язык» д-ру Муниру Сендичу идею пригласить меня с лекциями. Идея привлекла Сендича, человека горячего, заинтересованного, влюбленного в русский язык и литературу и не боящегося жизненных сложностей. А сложностей было немало, и первая — отсутствие денег. Да, американские университеты материально стеснены. Это объясняется в основном системой распределения средств. Деньги распределяют загодя, и когда возникает даже малая непредвиденная трата, она сплошь да рядом оказывается университету не по плечу. К тому же распоряжаются деньгами попечители, имеющие весьма отдаленное представление о науке и образовании, они просто несведущи в тех вопросах, которые призваны решать. И случается, что у одних отделений нет средств пригласить… Эйнштейна, а у других деньги пропадают, и они мучительно придумывают, на что бы их потратить, чтобы сохранить в смете на будущий год.
Громадный Мичиганский университет не мог в одиночку поднять моей поездки. Нельзя же звать человека из Москвы на берег Мичигана ради одной-двух лекций, а на курс не было средств. И Мунир Сендич придумал такой ход: пригласить меня как бы в складчину. Он связался с коллегами. Двадцать университетов откликнулись на его предложение. Когда я приехал, их число увеличилось до двадцати четырех. Темы лекций: советский рассказ, экранизация литературных произведении. Последнее связано с фильмом «Дерсу Узала», который минувшей весной совершил третий круг по американскому экрану. Тематика семинарских занятий оказалась куда шире: связь советского рассказа с русской классической традицией, взаимовлияние русской и западной новеллистики, Иван Бунин, Андрей Платонов, сибирская тема в современной литературе, стиль и ритм в прозе, язык Тургенева, русские символисты, инсценировки и экранизации Достоевского, новые силы советской литературы, работа с Куросавой над фильмом «Дерсу Узала», собственное рассказовое творчество. Вот так я очутился в Америке.
Прежде чем продолжить свой рассказ, должен сделать одну существенную оговорку. Я пишу лишь о том, что сам видел, с чем соприкасался. Я не имел дела ни с американским правительством, ни с политиками, ни с заправилами монополий, и тут мне нечего добавить к тому, что со знанием дела пишут наши американисты на страницах газет и журналов. Но полагаю, что этого от меня никто и не ждет. Мои возможности и цели в другом. Поделиться впечатлениями о повседневной жизни страны, о ее простых, нечиновных, невлиятельных людях. Как бы ни складывались отношения между нашими странами, мы всегда делаем различие между великим американским народом и его отнюдь не великими правителями. Народу этому приходится сейчас решать нелегкие задачи, но он не дает заморочить себя идеологам господствующих классов, в чьих руках все средства массового оглупления. По роду своей поездки я лучше всего узнал университетскую публику: студентов, аспирантов, профессоров, но приходилось мне общаться и с людьми, непричастными к высшему образованию, о них тоже пойдет речь в этих записках.
2
Студенты в США делятся на две основные группы: на тех, кто бегает, и на тех, кто кидает. Кидают разные предметы, по большей части — тарелочки. Это не игра, счета тут не ведется. Наипопулярнейшая забава американских студентов возникла из ажиотажа вокруг таинственных «летающих тарелочек». Как известно, их «видели» чаще всего в Америке. Некий смекалистый делец ловко сыграл на пристрастии своих соотечественников к посланцам иных миров. Он изготовил пластмассовую тарелочку, которая, пущенная определенным способом, может пролететь значительное расстояние, издавая легкое шуршание и красиво посверкивая гладкими плоскостями. Вы кинули, партнер поймал и отправил назад. Начинающие любители стоят довольно близко один к другому, затем расстояние все увеличивается, броски становятся все смелее и точнее, траектория полета все изящнее. В погожий день воздух над кампусами, студенческими городками полон трепещущих, светлых, отражающих солнце, поющих дисков. Изобретатель тарелочек заработал не меньше, чем создатель гамбургеров, впрочем, не убежден, что Макдональд, покрывший всю страну своими закусочными, действительно придумал мини-обед в продольно разрезанном круглом хлебце.
Американцы крайне впечатлительны и отзывчивы на все новое, будь это летающие тарелочки или… русский язык. И в том и в другом случае сработал жадный интерес к космическому пространству. Когда-то русские отделения можно было по пальцам пересчитать, теперь трудно найти уважающий себя университет, где бы не изучали русский язык. И пришло повальное увлечение русским после запуска первого спутника. Полет Гагарина довел это увлечение до высшей точки. Молодежи захотелось знать язык нации, настолько обогнавшей Америку в самой современной области знания. На поспешно создаваемые русские отделения студенты повалили валом. Потом число «русистов» несколько сократилось. И все-таки русский язык и русскую литературу не только изучают, но нередко выбирают как специальность, прекрасно отдавая себе отчет в малой перспективности подобного выбора: поскольку в США почти нет школ, где бы русский входил в программу, учителя русского языка не очень нужны. В университетах, посольстве, консульствах, торговом представительстве, фирмах, связанных с Советским Союзом, все места прочно заняты, переводческой работы ничтожно мало. И диву даешься, что при таких неблагоприятных обстоятельствах столько народу занимается по аспирантской программе, то есть связывает с русским языком свое будущее. Молодежь верит, что диалог между великими странами необходим, что он не может прекратиться, а будет расти и расти. И огромен соблазн русской литературы, в первую голову Достоевского и Толстого, хочется читать их в подлиннике. С популярностью Достоевского в США не сравнится ни один американский классик.
Впрочем, попасть в классики у молодых американских читателей — незавидное дело. Я не раз слышал не только о Фениморе Купере, Марке Твене, Брет Гарте или О'Генри, но и о недавно ушедших — Хемингуэе, Фолкнере, Дос Пассосе, Стейнбеке: «Ну, это же классика!» — с весьма кислой интонацией, означающей, что этих литераторов можно изучать, но не читать по доброй воле. А читать надо Томаса Пинчона, автора романа об охотниках на крокодилов в канализационной системе Нью-Йорка, Джона Барта, Бартелма и некоторых других авангардистов, мастера черного юмора Курта Воннегута, а еще — Апдайка, документалистов «новой журналистики»: Трумэна Капоте, Нормана Майлера, Тома Вульфа, некоторые бестселлеры, не стараясь запомнить имя однодневки-автора; Джозеф Хеллер после блистательной «Уловки 22» испортил себе репутацию романом «Что-то случилось», Стайроп и Чивер остаются писателями для избранных, Гор Видал никак не составит себе прочной репутации.
Достоевского читают страстно, он участвует в жизни духа сегодняшней Америки. То же относится и к Льву Толстому, в меньшей степени — к Чехову. Остальные русские писатели — для специалистов.
И тут дело дошло до изощренности. Докторские диссертации посвящают порой писателям даже не второго, а третьего эшелона: я знаю две работы о Вельтмане, по одной о Каролине Павловой, графе Сологубе, велеречивом митрополите Данииле, предшественнике протопопа Аввакума. Это объясняется тем, что от Державина и Фонвизина до Бунина и символистов все давно расхватано. Конечно, о наших классиках выходят и будут выходить все новые труды, но иные соискатели степени «доктора философии», боясь повторений, углубляются в дебри русской словесности.
В последнее время все чаще стали обращаться не только к советским писателям двадцатых-тридцатых годов, но и к литературе военной поры и нынешних дней.
Все же было бы крайним преувеличением сказать, что нашу литературу хорошо знают. В широкой читательской массе царит полное неведение, иное дело — русисты. Трудно, ох трудно оторваться им от Тынянова, Пильняка, Зощенко, Булгакова, Бабеля, но жизнь берет свое, и появляются первые серьезные работы, посвященные ныне здравствующим писателям и недавно ушедшим. Приметно растет популярность Андрея Платонова. И хотя «открыт» для Америки он был еще Хемингуэем, пишут о нем с удивленным восторгом, будто впервые услышали. И все же… Систематических исследований советской литературы почти нет. А те, что есть, оставляют грустное впечатление. Если Эдвард Браун не ставил себе целью дать сколько-нибудь целостное представление о путях развития нашей литературы и свершающихся в ней процессах, просто собрал под одну обложку написанное и разное время о привлекших его внимание авторах, то его однофамилец, известный профессор Демминг Браун, выпустил и минувшем году толстый том, несомненно претендующий на чин курса советской литературы. Я просмотрел этот «курс», а большой раздел, посвященный рассказу, прочел целиком. Впечатление такое, что Д. Браун перестал следить за советской литературой где-то в начале шестидесятых годов. Выдающейся рассказчицей он считает писательницу, лишь прикоснувшуюся — очень талантливо — к этому жанру и перешедшую в тяжелый вес романа. А Виктора Астафьева и Георгия Семенова, без которых невозможно представить себе советскую новеллистику, он даже не упоминает. Студенты, изучающие русский язык, знакомятся с нашей литературой только по рассказам; повести и романы им не по силам. В качестве пособий они пользуются сборниками, выходившими в милые Д. Брауну годы: конец пятидесятых — начало шестидесятых, с тех пор подобные сборники почти не появлялись. Представление студентов о нашей рассказовой литературе вполне адекватно брауновскому. И если они заглянут в толстый труд ученого, то сочтут, что знают советскую малую прозу в лучших образцах.
Браун не наталкивает студентов на новое, более современное и зачастую более талантливое. А ведь книги наших писателей поступают и в студенческие библиотеки, и в студенческие книжные магазины, но американца нужно ткнуть носом, чтобы он чем-то заинтересовался.
То, что мне показывали на кафедрах под видом «курса советской литературы», вызывало порой глубокое недоумение. Однажды, не выдержав, я прямо сказал: «По-моему, это курс не советской, а антисоветской литературы». Старый профессор-славист посмотрел на меня с видом крайнего изумления, огорчения и растерянности: «А что бы вы посоветовали?» Я стал называть авторов, он старательно записывал, но свет узнавания не вспыхивал в его темных опечаленных глазах. Он не был злоумышленником, лишь жертвой крайней и труднообъяснимой неосведомленности.
Я не хочу упрекать всех американских славистов в пренебрежении советским периодом русской литературы. Я познакомился со многими учеными, хорошо знающими и тонко чувствующими нашу литературу, но иные профессора живут на редкость устарелыми представлениями, они заснули где-то посреди тридцатых годов, а ныне, очнувшись, оказались неспособными наверстать потерянное. Громкие имена Распутина, Шукшина, Трифонова стучат им в барабанную перепонку, втесняются в память, но целые десятилетия канули в черном провале. Многие профессора читают нашу литературу лишь в переводе, а переводят нас в США удручающе мало, неизмеримо меньше, нежели американских писателей в Советском Союзе. На это обстоятельство ссылаются с грустным вздохом неповоротливые любители российской словесности, а ведь к услугам тех, кто хочет знать нашу литературу, есть отличный журнал «Sovjet literature», который получают университетские библиотеки. Но нет этого журнала на руках ни у профессоров, ни у студентов. Поистине удивительно в американцах противоречивое сочетание живого любопытства с отсутствием истинной заинтересованности, требующей для своего утоления некоторых душевных затрат, тем паче легкого насилия над собой. Что там ни говори, а назойливая, не знающая ни сна, ни устали реклама развращает. Люди привыкли, чтобы им все навязывали: вещи, еду, развлечения, книги, идеи, зачем искать самим, когда все должно быть подано на блюде.
Узнать что-либо сразу, даже вовсе ненужное, американец всегда готов, он любопытен, как ребенок. Мало обремененный бытовыми тяготами, он открыт всем впечатлениям мира. Нельзя заговорить в общественном месте по-русски, чтобы тут же не последовало взволнованное: это вы по-каковски? В аудиториях студенты засыпали меня вопросами, по два с лишним часа не отпускали с кафедры, но то была любознательность без продолжения. Я уверен, что в лучшем случае лишь единицы воспользовались моими советами достать тот или иной журнал, прочесть ту или иную книгу. На это нужно время, а интерес пригасал, едва мы выходили из аудитории. Ну что ж, господь даже ради одного праведника готов был пощадить вертеп. Прямо диву даешься, как легко повышенная реактивность уживается с душевной и умственной ленью. Но главное — это нежелание хоть чуть-чуть принудить себя: к усилию, терпению, той скуке, что нередко предшествует открытию новых миров.
Столь раздражающая нас американская реклама исходит из ясного представления о толстой шкуре потребителей жизненных благ, включая массовую культуру. Надо очень долго, настойчиво и бесцеремонно лезть в глаза, уши, мозг американцев, чтобы пробудить в них действенный интерес, желание взять. Они спокойно идут на поводу собственных легкоутолимых и необременительных желаний, преимущественно физиологического свойства. Маловато духовности. Куда больше спорта, некрепкого пива «Мюллер», сигарет с дурманцем, зрелищных фильмов, легкого чтива, быстрых, неволнующих, но приятных отношений. Нужна была очень серьезная встряска — вьетнамская война, — чтобы общество и самая отзывчивая его часть — молодежь — обрели способность громкого, сильного слова и активного действия.
Но есть и еще одно, что, на мой взгляд, мешает американскому студенту проявлять любознательность, стараться расширить и углубить свое знание изучаемого предмета, — сама система образования. Американцы шутят: у нас есть высшее образование, но нет системы. Остроумно, но едва ли верно. Отсутствие системы — это тоже своего рода система, здесь же система положительно есть. Прямо противоположная нашей, стремящейся дать студенту общее и по мере сил полное представление о предмете. Американский студент сам выбирает, чем ему заниматься. Я говорю не об аспирантских программах, дающих специальность, а лишь о четырехгодичной студенческой программе. Он может взять на первом году обучения такие курсы: начертательная геометрия, утопические взгляды Фомы Кампанеллы, творчество Ле-Корбюзье и сербохорватский язык; а следующий год — хромосомную теорию, житие другого Фомы — Аквинского, женские образы в русской литературе, лишь иностранный язык останется тем же. Я не шучу и не утрирую, а называю реальные курсы. Бывает и похлестче. В Ирвайне (филиал Калифорнийского университета) читается курс о Гурджиеве, сомнительном и справедливо забытом философе двадцатых-тридцатых годов. Студент не будет иметь представления о движении русской философской мысли, ему неведомы останутся имена Чаадаева, Чернышевского, Соловьева, но зато в отношении Гурджиева для него не окажется никаких тайн. Когда я выражал привычное американцам удивление этой все-таки системой образования, то слышал в ответ от ироничного — с намеком на дороговизну университетского обучения: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку», — до серьезного, убежденного: «Это развивает способность к самостоятельному мышлению». Но почему более полное, охватное, фундаментальное представление о научной дисциплине препятствует живости мысли? Если студент слушает курс по русской философии, он может заинтересоваться тем или иным течением философской мысли, той или иной фигурой мыслителя, начать искать соответствующую литературу, но, «загнанный» в Гурджиева, он просто не знает иных течений, иных имен.
Известный профессор русской литературы, председатель общества Достоевского в США Роберт Белнап говорил мне, что в серьезных университетах, в частности Колумбийском, где он сам преподает, начинают отказываться от системы бессистемности в пользу общих курсов. Это не так просто. В Америке не только профессора ставят отметки студентам, но и студенты профессорам: за знания, за живость изложения, за поведение на лекциях и т. д. И провалиться профессору куда страшнее, чем его ученику…
Я вовсе не склонен преувеличивать бездуховность американской молодежи. Люди всегда разные, и среди молодых американцев немало интеллектуалов, приверженцев идеи и веры, служителей духа.
Конечно, все сказанное касается молодежи из обеспеченных слоев населения и не имеет никакого отношения, скажем, к молодым безработным неграм или пуэрториканцам, которым не до жиру, быть бы живу. Я уже говорил, что по роду своей поездки имел дело преимущественно с университетской публикой, и естественно, что мои наблюдения и соображения носят односторонний характер. Впрочем, не претендуя даже на поверхностное знание, я хотел бы немного поговорить о том населении страны, с каким встречался не в кампусах, а в рейсовых автобусах и на автобусных станциях.
3
У меня создалось четкое представление, что в американских междугородных автобусах ездят лишь негры и я. Это самый дешевый вид транспорта, дешевле даже железных дорог, служащих сейчас главным образом для перевозки грузов. Кроме того, железнодорожная сеть не так густа, многие линии перестали обслуживать пассажиров, поезда вечно опаздывают, в них небезопасно. Говорят, что и автобусы, особенно ночные, тоже небезопасны, и уж подавно небезопасны ночные улицы больших городов, когда переходишь со станции на станцию.
Меня предупреждали насчет Кливленда (промышленные города очаги злостного хулиганства) и как в воду глядели. Я прикатил сюда из Вильямспорта в четверть второго ночи на автобусе «Грейхаунд» и должен был пересесть на «Трайлэйс», чтобы ехать в Нашвилл. Для этого надо было всего лишь перейти наискось улицу, отнюдь не окраинную, такие станции находятся всегда в самом центре города. Я вышел со своей наплечной сумкой и тяжеленьким полиэтиленовым мешком, нажитым в дороге, — книги, журналы, бутылочки с виски, сувениры — отказов не принимают, — когда на меня надвинулся огромный молодой парень с желтыми взболтанными белками неподвижно-вытаращенных, немигающих глаз. Он был явно не в себе, но дыхание, вырывавшееся из спекшихся сизых губ, не смердило сивухой — наркоман. Вначале я в него не поверил, именно потому, что он был предсказан женой профессора из Пенстейта, отвозившей меня на машине в Вильямспорт. Но жизнь — я убеждался в этом неоднократно — очень грубый драматург, чрезвычайно приверженный к приему совпадений и всем тем натяжкам, нарочитостям, которые, по мнению театральных критиков, «не бывают в жизни». Милая женщина напророчила мне нападение именно в Кливленде, не в Цинциннати, не в Луисвилле, тоже лежавших на моем пути, а в городе, которому я верил, уж побывав там дважды (правда, в дневное время), да и как было не поверить чудесным паркам, свежему ветру с озера Эри, бронзовым Гёте и Шиллеру — копии веймарского памятника, музею Сальвадора Дали и картинной галерее с дивными Эль Греко, Веласкесами, Гойями, Гальсами и предтечами высокого итальянского Возрождения. И вот сейчас Кливленд наслал на меня своего одурманенного желтоглазого агрессивного гражданина. Я пытался его обойти. Тщетно. Он упорно заступал мне дорогу, что-то бормоча сквозь запекшиеся губы и выделывая пассы вокруг моей головы, почти задевая лицо, а я этого терпеть не могу. Но что делать, я был беспомощен перед ним, руки заняты, да и будь они свободны, разве мне справиться с этим здоровяком, к тому же распаленным наркотиком? Впереди, чуть слева, светились желанные буквы «Трайлэйс». Но между ними и мною все время вырастал этот несчастный и страшный человек. Доведенный до отчаяния, я вспомнил «большой одесский заход», за которым во время съемок фильма «Председатель» специально посылали для Михаила Ульянова в наш славный южный порт, славящийся перлами русского красноречия. Помните, когда Егор Трубников обкладывает на деревенской сходке хулиганов, испохабивших матерной бранью изображение светлого будущего колхоза? Тогда еще снялась с деревьев и с паническими ржавыми криками унеслась прочь галочья стая? Так вот, напрягая связки, я выдал в ночную тишину Кливленда тяжело-звонкую, как скаканье бронзового коня, портовую россыпь. И ей-богу же, с не меньшей убедительностью, чем это сделал Ульянов — Трубников, — защитный инстинкт может заменить талант. Конечно, я не испугал его, но он призадумался. Незнакомая, странная и прекрасная речь затронула глубокие пласты в его затуманенном сознании. Кто знает, быть может, это праязык человечества, потому и не в силах устоять люди перед соблазном древнего татаро-славянского велеречия? Душа моего преследователя словно вспоминала самое себя в ночных безднах предбытия, и передышки хватило на то, чтобы достичь дверей станции.
Было и другое — на станции в Ноксвилле, где я пересаживался с автобуса на автобус по пути из Нашвилла в Чапел-Хилл. Я оформил билет и сел на лавку — сумка под ноги, мешок под бок — и задремал. Было около десяти вечера, а мне предстояло всю ночь трястись в автобусе. Очнулся я от толчков в плечо. Медленно разлепил склеенные сном веки, увидел серую неопрятную юбку, обтягивающую массивные бедра и большой слабый живот, потом кофточку, где без лифчика тяжело провисали груди, шею эбенового цвета, все лицо молодой негритянки и лишь через какие-то мгновения допустил в сознание черную жесткую, затупленным клинышком бороду. Женщина толкала меня в плечо, улыбаясь доброй, застенчиво-бессмысленной улыбкой, что-то бормотала, я ее не понимал, завороженный жуткой, ухоженной — не в пример всему остальному на этой женщине — бородой.
Я так и не узнал, него она хочет и что вообще означает странное ее явление, меня окликнули, назвав по имени. И это было почти столь же ошеломляюще, как женщина с бородой, — кто мог узнать меня на автобусной станции в Ноксвилле? Оказывается, профессор Вандербилтского университета Ричард Портер позвонил своему другу профессору Финни, чтобы тот нашел меня, помог с билетом, коль понадобится, и увеселял до отхода автобуса. «Мы заняли столик в ресторане, тут неподалеку, — сказал Финни. — Как вы относитесь к виски-сауэр?»
С благодарностью подумал я о Ричарде Портере, Дике, как он просил себя называть: красивом, элегантном, по-южному чуть церемонном и трогательно заботливом под маской прохладноватой сдержанности. Нигде я не чувствовал себя так надежно и защищенно, как в Нашвилле, под крылом Дика. И вот его покровительство продолжает осенять меня в пути. Сейчас будет ресторан, музыка, холодное виски-сауэр с тепловатой пеной, долькой апельсина и черешней, нанизанными на пластмассовую булавку, вкусная еда, любезные люди. А затем я ощутил какой-то странный укол — не то сожаления, не то вины. Мне показалось, будто я ухожу от соучастия в чем-то, что мне должно быть ближе нарядного ресторана, будто я ловко и неправедно скинул положенную мне ношу. Бородатая женщина, все так же робко-бессмысленно улыбаясь, расталкивала дремлющего на скамейке пожилого мексиканца в пончо и черной широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Через зал медленно ковылял, опираясь на четырехногую подставку, парализованный на левую сторону дряхлый негр в халате поверх расстегнутой до пупа ковбойки и драных джинсов; обнаженная грудь заросла седой шерстью. Юноша-негр сидел над раскрытым футляром от виолончели, служившим ему чемоданом, и перебирал какие-то бедные вещи: майки, носки. На скамейках дремали, покачиваясь и что-то бормоча, смертельно усталые люди, другие томились в бессонном ожидании, вяло переговаривались, тянули сладкую воду из бутылочек, женщины играли с детьми, и среди всех этих ночных пассажиров не было ни одного с белой кожей. Иные из них станут моими попутчиками, иные сядут в другие автобусы во все четыре стороны света, иные, как женщина с бородой или парализованный старик, останутся тут безнадежно обшаркивать заплеванный пол, мыкая свое горе. И все это такие же законные граждане страны, как и те, что кидают тарелочки, отдуваясь, лупят битой по тугому мячу, купаются в бассейнах и пахнут всевозможными одораторами. Некое теневое население…
В Нашвилле меня водили в начальную школу — в приготовительный и четвертый классы. Как теперь и повсюду в Америке, белые и черные дети учатся вместе в этом южном штате. Зрелище было идиллическое: малыши дружно готовили пиццу — такой у них сегодня урок, — старшие напрягались над тайнами родного языка. Приготовительные классы вроде нашего детского сада, тут играют, а не учатся. С малышами мои отношения остались в рамках строго гастрономических — я должен был попробовать изделие каждого, а вот в старшем классе завязался живой, интересный разговор, позволивший мне расчленить аморфную массу детских лиц. И постепенно вниманием моим завладел черный мальчик, самоустранившийся из беседы. Этой своей исключительностью из общего веселого возбуждения он мне и приметился. Угрюмо и сосредоточенно созерцал он лишь ему видимое нечто, до глубины души презирая зримую очевидность всех окружающих: соучеников, учительницы и меня, захожего чужака. В зоне его внимания пребывал лишь сосед по парте, толстый добродушный парнишка с такой же черной, как у него, матовой кожей, с пышной мелкокудрявой шевелюрой. Бесхарактерный толстяк был в кабале у своего волевого приятеля, но по живости и любознательности то и дело нарушал запреты. Он долго крепился, игнорируя меня, едва успевавшего отвечать на вопросы, и вдруг заорал, раздираемый любопытством: «А китайский вы знаете?» Дети рассмеялись, а суровый друг посмотрел на него с такой злобой, что толстяк сжался и даже зажмурил глаза. Но через короткое время его снова прорвало: «А в космос вы летали?» — и прикрыл голову руками. Под конец учительница предложила ребятам спеть в мою честь песенку о Гавайских островах из пьесы, которую они ставят на школьной сцене. Все запели с огромным воодушевлением и очень мелодично, кроме маленького мстителя, как я окрестил про себя черный комок ненависти. Он с такой силой сжал зубы, что на челюстях вздулись желваки. Толстый мальчик, не в силах одолеть соблазн песни, вплел в хор свой сильный фальцет. Бешеный, слепящий взгляд сковал судорогой голосовые связки певца, в горле как будто виноград прыгал, но звук умер. Он жалко, умоляюще поглядел на своего вождя и покорился.
Тяжело и больно было видеть в ребенке такую ненависть. Он был побегом того же дерева, что и парализованный нищий старик, полубезумная женщина с бородой, что все убитые, повешенные, сожженные по суду линча, затравленные собаками, застреленные куклуксклановцами, замордованные в полицейских участках, брошенные за решетку по заведомо ложным обвинениям, а также и преступившие закон из мести, все обреченные на безработицу и прозябание. У него не было оснований доверять миру белых людей, тем паче любить этот мир. Его душа, отягощенная родовой памятью, не хотела прощать.
Директриса этой школы, типичнейшая — до подозрения в подделке — южная леди, пожилая, но стройная, как девушка, с искусно, уложенной седой головой, красивая какой-то фарфоровой красотой, сказала мне тоном горестного изумления: «Поверите ли, порой мне кажется, что есть негры, которые ненавидят белых!» Я спросил, неужели это ее так удивляет. «Да..! Я полагала, что это привилегия белых». До чего же это было по-южному! На миг мне показалось, что я провалился в пряный мир Маргарет Митчелл, в мир «гонимых ветром». Как сильны и устойчивы предрассудки среды, как велика власть прошлого. Красивая, симпатичная, образованная и, наверное, в глазах окружающих передовая женщина решительно отказывала неграм в праве на равные с белыми чувства. Негры должны млеть и задыхаться от благодарности, что в исходе двадцатого века их согласились числить, во всяком случае формально, за людей. Но жизнь мало считается с представлениями красивых южных леди, и чернокожие граждане Соединенных Штатов вовсе не считают себя осчастливленными.
Они получили равные с белыми права, оплатив их кровью лучших своих сыновей. Да, теперь, если негритянских детей не пускают в белую школу, за них вступаются войска. Все гостиницы, рестораны, стадионы открыты для черных. Но из этого вовсе не следует, что расизм умер. Есть и другое, что куда хуже частного негрофобства. Права даны, а ими трудно, порой невозможно воспользоваться. Негритянские дети идут в школу и садятся рядом с белыми, учителя не делают между ними различия, но черный ребенок скоро начинает отставать. Не всегда, но часто. И не потому, что он глупее, а потому, что его дедушка ковыляет в распахнутом халате по автобусной станции, потому, что дома вокруг него неграмотные или полуграмотные люди, потому, что в семье не читают, не смотрят телевизора — его просто нет, потому, что он растет на улице, не имеет своего угла, книжек с картинками, игрушек, никакой помощи от взрослых. Сказанное не относится к тем неграм, которые пробились к достатку, но ведь подавляющее большинство негритянского населения принадлежит к бедноте. У отстающего подростка развивается комплекс неполноценности, ожесточенно против общества, которое обмануло его мнимым равенством возможностей; недостаточная подготовленность мешает найти работу, на которую он вправе рассчитывать как окончивший школу. А уж если он получает такую работу, то редко удерживается на ней и пополняет собой армию безработных. Подлецы видят в этом подтверждение умственной отсталости негров, честные люди — а их подавляющее большинство — новую вину белых. Мало было допустить негров в белые школы, следовало обеспечить им соответствующую подготовку. Сейчас об этом много говорят, но никак не перейдут от слов к делу.
Молодые безработные негры, которым не пошло впрок школьное образование, делают столь тревожной ночную жизнь нью-йоркских улиц, что из-за них одинокая женщина даже днем не рискнет пойти в Центральный парк, это они главные герои уголовной хроники больших городов. Ничего удивительного тут нет — что посеешь, то и пожнешь. Белые не препятствуют неграм появляться где угодно, но попробуй белый даже днем ступить в нью-йоркский Гарлем: хорошо, если просто изобьют, а могут и нож всадить. Я жил возле Колумбийского университета и ездил на такси через Гарлем — ни разу не видел я на улицах белого пешехода. Так отыгрываются не только былые преступления, но и нынешнее преступное недомыслие. Права имеют смысл, если они обеспечиваются, если люди могут ими воспользоваться. В противном случае они оборачиваются издевательством. Покамест совместное обучение белых и черных детей принесло лишь снижение общего уровня школьной подготовки и глухую обиду черной молодежи. Пока не будут созданы истинно равные шансы, толка нечего ждать. И черный мальчик с лицом, как сжатый кулак, не хочет размыкать губ в классе, а в глазах его отчуждение и ненависть. «Сейчас еще ничего, — говорила директриса. — А раньше чуть что — хватался за нож». Боюсь, что он еще схватится за нож. Среди молодых негров едва ли обнаружишь характер дяди Тома. Да и с какой стати им натягивать на себя личину смирения, самоуничижаться? Черные не раз доказывали, что нет такой области человеческой деятельности, где бы они не могли успешно соперничать с белыми. Оставим в покое спорт, где их преимущество бесспорно, равно как и джазовую музыку, эстрадные песни и танцы, но сколько блестящих театральных актерок-негров («Черный Орфей» в Гарлеме — самый талантливый театр в США), сколько превосходных писателей, поэтов, художников; в последние десятилетия негры заняли видное место в науке, юриспруденции, бизнесе, государственном аппарате. Негры — несравненные проповедники, энергичные общественные деятели, умелые администраторы. В столице США — Вашингтоне — черный мэр. И хочется верить, что в ближайшем будущем негры добьются не формального, а истинного равенства с белыми. Иначе Америке несдобровать.
Я говорил об одной из самых больных проблем сегодняшней Америки, привлекая нужные мне примеры из лично наблюденного. Только не надо рисовать себе всех американских негров с костылем, или с ножом в кармане, или с волчьим блеском ненавидящих глаз. Да нет же, в большинстве своем это здоровые, крепкие, изящные люди с гибкими телами, воспитанными спортом и музыкой, общительные, улыбчивые и удивительно приятные в обхождении. В этом умении сохранить любовь к жизни и вкус к радости мне видится великая сила расы.
Вернусь к своему ночному рейсу из Нашвилла, вернее, уже из Ноксвилла в Чапел-Хилл, штат Северная Каролина. Название штата дает полный простор для американского произношения. У меня всякий раз сбивалось с ритма сердце, когда звучало горловое, клекочущее, раскатистое, как эхо далеких выстрелов войны Севера и Юга: Н-о-о-р-с К-э-р-р-о-л-я-й-н-е. Перед отправкой из Ноксвилла случилось маленькое недоразумение: водитель автобуса, называемый почему-то не «драйвер», а «оперейтор», отказался везти молодого пуэрториканца с початой бутылкой вина под мышкой. Парень, подбадриваемый товарищами, негрубо, но настойчиво пытался осуществить свое право на передвижение. Пожилой рослый оперейтор, напоминающий мощной статью героя вестернов Джона Уэйна, загораживал вход и знай бубнил: «Не хочу из-за тебя терять работу». Тут не было каприза: над водительским местом висит объявление: «Проезд в нетрезвом виде запрещен». Но парень не был пьян, и профессор Финни почувствовал себя задетым в своих демократических идеалах. «Пропустите юношу! — потребовал он у водителя. — Ему необходимо в Шарлотт». — «Проспится, тогда поедет», — отозвался водитель, заслоняя вход. Почувствовав поддержку, юноша, торопившийся в Шарлотт, стал активнее, и водитель позвал полицейского. Тот был столь же выразителен и фотогеничен, как оперейтор: двухметрового роста, с телосложением нынешнего Мохамеда Али; тяжелые кулаки уперты в бока, картинный пистолет на одном боку, резиновая палка в черном футляре — на другом, фуражка надвинута на нос, челюсти разминают жвачку. У меня было впечатление, что сейчас помощник режиссера объявит помер дубля и качнется съемка.
— Где мы живом — в Америке или в Никарагуа? — спрашивал Фиппи. — Картер у нас или Сомоса?
Оперейтор закурил, полицейский ловко выдул меж губ пузырь из жвачки, затем снова занялся челюстной работой. Юноша с бутылкой попытался протиснуться в автобус, полицейский взял его за худое плечо и отстранил: «Полегче, паренек!» — сказал с отеческим видом.
— Здесь гость из Советского Союза! — возмутился Финни. — Хорошего же мнения он будет об Америке! Как коммунист в душе, я буду до последнего бороться за права этого юноши.
— Угомонитесь, — сказал полицейский. — А ты, парень, проваливай, если не хочешь огорчений. Продрыхнешься — поедешь!
Финни продолжал спорить, а парень, в жалком самоутверждении хлебнув из бутылки, поплелся восвояси. Мы уже тронулись, когда Финни вскочил в автобус и попросил у меня прощения за попранную американскую демократию. Я боялся, что его заберут, но все обошлось. Финни соскочил на землю и еще долго бежал следом за автобусом с поднятым кверху кулаком — жест борьбы и единства.
История эта имела продолжение. Сидевший позади меня молодой негр в рубашке-хаки — эти рубашки американской пехоты, прочные, удобные и ладно сидящие, популярны среди штатской молодежи — понял, что я иностранец и не слишком боек в английском языке. Он взял меня под свое покровительство, что оказалось весьма уместным. Подробный маршрут, составленный еще в Лансинге, был неточен как раз на этом перегоне. Указаны лишь две пересадки: в Ноксвилле, уже миновавшем, и в Шарлотте, их же оказалось пять. И первая в месте историческом — Ашвилле, ставшем бессмертным благодаря его уроженцу Томасу Вульфу. Два великих честолюбца американской литературы, вечно считавшиеся славой друг с другом. Хемингуэй и Фолкнер в своих списках пяти лучших писателей США дружно поставили на первое место Томаса Вульфа; но было у них разногласия и с последним местом, отданным Стейнбеку, а в остальном они разошлись: Фолкнер почел себя вторым, Хемингуэй же отдал это место Дос Пассосу, скромно посчитав себя третьим. Но это к слову. Городок Ашвилл я, не ведая о том, что мы по нему едем, проспал. Очнулся же, когда автобус уже въезжал на стоянку маленькой станции, — меня кто-то нежно раскачивал за плечо.
— Простите, я слышал, вам в Чапел-Хилл? Здесь пересадка.
Я поблагодарил юношу в хаки и вышел из автобуса. Процедура с билетами не заняла много времени. Устроившись на лавке, я продолжил свой сон с того места, на котором его прервали. Такое нечасто случается. Мне снилось что-то странное, намешанное из впечатлений разных жизненных периодов, во сне участвовали: мой мещерский друг, одноногий егерь Макаров, грациозный южный джентльмен с тихим, мелодичным голосом Ричард Портер, бородатая женщина, музей космонавтики в Вашингтоне и ракета, летавшая на Луну. Мы всей компанией собирались на Юпитер (я только что посмотрел «Космическую одиссею» Стенли Кубрика), что несказанно меня радовало, но совсем хорошо стало, когда борода сплыла с лица женщины, вмиг ставшего миловидным, и прилепилась к веснушчатому подбородку егеря Макарова, сообщив мужественность. Тут я опять почувствовал легкий толчок в плечо, и вежливый голос произнес сожалеюще:
— Простите, что опять нарушаю ваш сон. Посадка.
Что-то ткнулось мне в руку — банка «севен-ап», прекрасного освежающего питья.
Мы вышли из станционного помещения. К ночи похолодало, гудели под ветром провода.
— Это город Томаса Вульфа, — с застенчивой улыбкой сказал молодой человек, словно желая подбодрить меня. — Жаль, что темно и ничего не видно.
Вот когда я узнал, где мы находимся.
Уже в автобусе он подсел ко мне и показал книжку карманного формата. «Том Вульф», — прочел я на обложке и не сразу сообразил, что это тезка и однофамилец классика, вошедший в славу за последние годы.
— «Новая журналистика»? — вспомнил я.
Молодой человек довольно закивал курчавой головой. Наверное, его обрадовало, что я знаю этого писателя, и не получилось неловкости.
— Я не читал. У нас его, по-моему, не переводили. Это хорошо?
— Мне очень нравится. Интересно читать. Не то что Барта или Кувера. — Он вдруг смутился: — Простите, может быть, вы любите этих писателей?
— Может, и любил бы, если б знал. Это авангардисты?
— Да, да!.. Наверное, замечательные писатели, но не для меня. Я хочу знать о мире, какой он есть на самом деле, а не о том, каким они его видят.
Я сперва удивился, что так хорошо его понимаю, а уж потом самой мысли, достаточно сложной для паренька в хаки. Он произносил слона четко, ясно, медленно, исключив начисто «прононсейшп». Эх, если бы всегда так!..
— Но ведь каждый писатель изображает мир, каким его видит.
— Это другое дело. Есть же общее для всех. Я не знаю, как выразиться… Люди о многом договорились. Это вот автобус, а не птичья клетка, и мы едем, а не штопаем носки. Авангардисту же автобус свободно может представиться птичьей клеткой, и птицей, и его покойной бабушкой. Меня интересует мир, о котором договорились, который назван. Он меняется, усложняется, куда-то движется. Мне в этом мире жить. И я хочу, чтобы литература помогла мне. Наверное, для того она и существует.
— А вы сами случайно не писатель?
Он рассмеялся и смеялся так долго, что я заподозрил его в неискренности.
— Куда мне! Я автомобильный механик. Просто люблю читать. А вы профессор литературы, как доктор Финни?
— Вы знакомы с доктором Финни?
— Нет. Просто знаю его в лицо.
Водитель выключил свет в автобусе, оставив лишь контрольную лампочку.
— Отдыхайте. Я разбужу вас.
Он действительно в нужную минуту разбудил меня и весь последующий путь неотступно следил за мной, потому что с удивительной точностью я засыпал как раз перед тем, как сходить, или перед тем, как ехать дальше. В городе Шарлотт он покинул автобус, поручив меня на последнем этапе юноше с футляром для виолончели, заменявшим чемодан. Прощаясь, он доверчиво сказал, что приехал сюда для свидания с невестой.
— Вы замечательный спутник, — сказал я. — Вашей невесте можно позавидовать.
Он засмеялся, пожал мне руку своей узкой аристократической рукой с шафрановой ладонью и такими же ногтями и скрылся.
А таинственный футляр обманул мои ожидания, за ним не оказалось никакой истории. Старший брат-джазист выкинул старую рухлядь, купив новый футляр, а младший подобрал. С ним хорошо путешествовать, девушки принимают за музыканта, начинают расспрашивать о знаменитых певцах, завязываются знакомства. А он сам чертежник, получил работу в Роли и едет туда. Хочется скопить достаточно денег и поступить в университет, чтобы обучиться на строителя.
Будущий строитель оказался так же точен, как и его предшественник, и не дал мне проспать очаровательное местечко Чапел-Хилл, где вовсю цвели магнолии, айва, японские вишни, сливы и удивительное «собачье дерево»…
А разговор, начавшийся в автобусе с негритянским юношей, я продолжил через некоторое время с профессором Белнапом, рассеянным, как Паганель, набитым знаниями, как оба Гумбольдта, эксцентричным, как Рассел.
— Так кто же сейчас лучший писатель США?
— Это трудно сказать. Официально Сол Беллоу, он единственный живой лауреат Нобелевской премии, но последние его романы читаются далеко не так, как прежние. По элитарному вкусу — Томас Пинчон.
— Он действительно хорош?
— Вы читали, наверное, Курта Воннегута? Пинчон — это Воннегут на высшем уровне; та же бесконечная возня со смертью, но неизмеримо изысканнее литературная ткань.
— Он идет от Джойса?
— Все идут от Джойса. — Он вдруг засмеялся. — Томас Пинчон — от Рабле. Такое же пристрастие к перечням. У нас шутят: одного Хемингуэя, который был молодцом и в творчестве и в жизни, разменяли на Пинчона и Трумэна Капоте. Первый превосходно пишет, по совершенно неведом широкой публике, второй пишет хуже, но каждый шаг его известен всей Америке…
4
Наездившись в автобусах до одури, я вынес твердое убеждение: насколько разнообразна американская природа, настолько же однообразны ее города. От холодных, замерзших Великих озер штата Мичиган я переносился к лесам и лесным круглым озерцам Огайо, темневшим утиными и гусиными стаями; от живых водопадов в окрестностях Итаки, низвергавшихся с обледенелых скалистых круч, — к цветущим лиственным рощам Мериленда; переваливал через Аппалачи — меж темных ребер искрился снег, а зеленые поляны в распадках желтели первоцветом. С гор в долины, с полей в леса, через полноводные реки и вдоль озер, снегопады сменялись весенним буйством солнца, грибной дождь пронизывал его лучи, и голубым прозрачным маревом занималось пространство, и вдруг — гром, первый гром, что ни час, все менялось в природе. А города?.. Я проснулся на стоянке в Цинциннати и пошел побродить по городу, по его обставленному небоскребами центру, пустынному, как и во всех больших городах. Эта странная лунная пустынность взрывается дважды в день — перед началом и после окончания работы. Центры городов ныне безраздельно отданы учреждениям, здесь не торгуют, не отдыхают, не веселятся, потому и нет прохожих на широких тротуарах. Вернувшись в автобус, я вскоре задремал, а когда проснулся после долгой тряски, увидел все тот же Цинциннати, только теперь он назывался Луисвиллом. А мог бы называться Кливлендом, Нашвиллом, Балтимором… За редким исключением, все большие города США на одно лицо: высотный центр, или «даунтаун» — деловая часть, вокруг все та же «одноэтажная Америка». Собственный домик — по-прежнему голубая мечта каждого американца. Многоэтажные дома презирают и селятся в них лишь в силу необходимости. Однообразное оживление в городской пейзаж вносят бензозаправочные станции, закусочные «Макдональдс» с рекламой в виде гигантского М, закусочные с «Кентаки-фричикен», кафе-мороженое с тридцатью двумя сортами пломбиров и шербетов — ровно столько, ни больше ни меньше, ибо сладкая жизнь страны монополизирована одной компанией, барами, ресторанами, кинотеатрами. Но зрелищных предприятий в подавляющем большинстве городов совсем немного. Некий атавистический душок пуританства подмешивается к бензиновой вони, отравляющей воздух улиц. Не случайно Лас-Вегас с его игорными домами и прочими греховными заведениями лежит на пустынной окраине штата Невада. Ханжеские души тешатся иллюзией, что порок изгнан со стогн градов в пустыню.
Торговая жизнь вынесена на окраину, она сосредоточена в гигантских торговых центрах. Лишь завершивших земном путь обслуживают особые магазины.
Я уже говорил, что из заслуживающих внимания городов не видел лишь Сан-Франциско, Ньо-Орлеан и Бостон. Из всего же виденного лица необщим выраженьем наделены Нью-Йорк и Чикаго, прежде всего в силу своей ошеломляющей громадности, очень хорош и нетипичен для страны Вашингтон с его портиками и фронтонами, куполами и памятниками, Миннеаполис с аллеями старых гибнущих, увы, вязов, с Миссисипи в обрывистых берегах и дремлющими прудами. Сиэтл на семи холмах с врезами воды в его зеленую густотищу, объявшую серый камень зданий, небольшой Белфорд, весь в восемнадцатом веке, и не любимый американцами Лос-Анджелес, он ужасно расползся, но в этом есть некое отрицательное величие, и потом он такой разный: кручи и виллы Беверли-Хилс, вечерний шумный грех Голливуда, океанские волны с заплеском через весь золотой пляж, впечатляющая гроздь небоскребов из темного стекла в одном из многочисленных центров, а единого центра нет в помине. Я оставляю в стороне маленькие университетские городки с их неповторимой прелестью, такие, как Оберлин, Итака, Чапел-Хилл, Боулдер…
5
В рейсовом автобусе, когда не спишь, хорошо и просторно думается о разных разностях. В самолете тоже неплохо думается, хотя и хуже, чем в автобусе, — то и дело подходят стюардессы с журналами, прохладительными напитками, джином, виски, пивом, ленчем или обедом, кофе и чаем, с вопросами о самочувствии и откуда вы такой взялись. В своих мыслях я часто обращался к американской литературе. Мне хотелось понять на основе своего нового опыта, как соотносится она с жизнью.
Вспоминалась знаменитая пьеса Олби «Кто боится Вирджинии Вульф», легшая в основу одноименного фильма, где голливудская кукла Элизабет Тейлор вдруг поднялась до настоящей трагедии. Пусть жалкой, низкопробной — иной и не может быть в современном буржуазном обществе трагедия леди Макбет — женщины, обреченной на бесплодие. В средневековье обманутое материнское чувство обернулось кровавым властолюбием, в профессорской среде сегодняшней Америки — бескровным, но жестоким издевательством над собственным мужем, развратом, истерией. При том, что и пьеса и фильм мне всегда нравились, некоторое сомнение в жизненной и художественной правде все-таки точило душу. Сейчас появилась возможность проверки, ведь я довольно хорошо узнал среду, изображенную Олби.
Мне бы хотелось рассказать об одной истории, свидетелем которой — и отчасти участником — я оказался. Началось с прилета в очередной университетский город. Пройдя в зал ожиданий, я, как и обычно, сразу узнал в толпе встречающего меня. Правда, на этот раз толпа была негуста, но и встречавший профессор резко отличался от всех знакомых мне славистов. Их было несколько типов: рассеянный, нелепый, плохо умещающийся в земных координатах, почти театральной недостоверности муж науки; подтянутый, очень современный американский джентльмен — белейшая рубашка, тщательно повязанный галстук, синий блейзер; небрежный, заросший волосами человек, не помнящий, во что одет, скорее вечный студент, нежели наставник юношества, и, наконец, энергичный мужчина с крепким рукопожатием, твердым и веселым взглядом и с такой уверенно-свободной и добродушной повадкой, словно вы знакомы с ним с детства, — как правило, администратор от науки. Этот же человек, с обвислыми моржовыми усами, усталым, бледным сквозь природную смуглость, изношенным лицом и коричневыми печальными глазами, тихим голосом и слабой, беззащитной улыбкой, не походил ни на одну категорию.
— Только что потерял двадцать пять центов, — сообщил он вместо приветствия, угадав меня среди прибывших на мгновение раньше, чем я его.
— Давайте поищем, — предложил я.
— Нет, их сожрало вот это чудовище, — слабым движением руки он показал на один из бесчисленных аэропортовских автоматов. — Я хотел проверить кровяное давление, и вот… — улыбка бесконечного, но покорного, и тем словно бы просветленного отчаяния сползла из-под усов, сморщив вялый подбородок.
Я удивительно хорошо и уютно почувствовал себя в его печали. Признаться, я несколько устал от напора беспокойной жизни последних недель: с перелетами, новыми знакомствами, остротой отношений, спорами, впечатлениями почти ранящей яркости, хотелось тишины и спокойной грусти, похоже, я это здесь получу.
Мы подошли к маленькому «фольксвагену» с изуродованным крылом и почти уничтоженным передом; ни облицовки, ни фар, ни бампера, капот не закрывается, просто лежит поверх мотора, держась на одной петле.
Машина не заводилась, только противно зуммерила.
— Ах, вы не пристегнулись, — сообразил мой новый знакомый — назову его Джонс.
Я ненавижу пристегиваться, у меня тут же начинается клаустрофобия, но делать нечего. Я выхватил ремень из гнезда и, растянув, с усилием всадил металлический конец в паз сиденья, приковав себя к спинке кресла. Машина продолжала зуммерить. Джонс открыл дверцу и с силой захлопнул — не помогло. Он повторил опыт — тот же результат.
— Выйдите, Юрий Маркович, я сразу заведусь. Я отстегнулся, вышел, но машина не завелась.
— Садитесь, Юрий Маркович, это не помогает.
— Кто же вас так стукнул? — спросил я, чтобы переключить раздражение.
— Девочка, студентка. Зимой. Женщины вообще плохо ездят, а тут еще гололедица. Ее потащило, она — на тормоза. Ну, конечно, занесло, и задом мне по передку… Попробуйте приподняться, Юрий Маркович. Только не отстегивайтесь.
— Как приподняться?
— Упритесь ногами в пол, а туловище подвесьте — так можно сказать по-русски?
— Сказать можно, сделать трудно. — Но я все же попытался выполнить его просьбу. Нелегко было держать на весу в малом пространстве машины восемьдесят шесть килограммов.
Зуммер не прекратился. Тогда и Джонс вывесился над своим сиденьем, и, о радость, машина завелась. Мы тронулись в подвешенном состоянии.
— Зачем я польстился на это проклятое устройство! — смеялся и плакал Джонс. — Дьявольски неудобно править, ничего не видно.
— Надо было сделать ремонт, — полузадушенным голосом укорил я.
— Я надеялся, что ее добьют, тогда бы я просто поменял машину.
И тут это едва не случилось. Джонс с такой силой затормозил, что меня вознесло к потолку, затем швырнуло вниз на сиденье — в вертикальном направлении ремень растягивался легко, как резинка от трусов. Перед нами высился зад громадного рефрижератора.
— Можно сидеть нормально, — решил Джонс, поскольку машина не заглохла. — До чего же выносливая машина «фольксваген», наши такой живучестью не обладают.
— Нам далеко ехать? — спросил я, но столь уверенный в выносливости «фольксвагена» и еще менее — в собственной выносливости.
— Нет. Считайте, что мы уже приехали. Я помещу вас в студенческое общежитие, но сперва мы заедем ко мне, буквально на минутку.
Он круто свернул и остановил машину под старым развесистым деревом. Выбравшись наружу, я обнаружил, что у «фольксвагена» изуродована вся задняя часть.
— Как можно было разбить сразу зад и перед?
— А-о! — Джойс с тихой улыбкой покачал головой. — Это не тогда. Тоже в гололедицу, и за рулем тоже была женщина. Преподавательница.
— А страховка?
— Пошла на другое, — меланхолически произнес Джонс. — Вы, наверное, никогда не ездили на такой машине?
— Признаться, нет. У нас это запрещено. Первый же милиционер остановит.
— А у нас смотрят сквозь пальцы. В конце концов, это дело каждого — ездить на чем он хочет.
И чего я привязался к его машине? Я уже шагнул к дому, но Джонс остановил меня.
— Вам нравится дом?
— Нравится.
— Продаю! — объявил Джонс с обреченной улыбкой.
— Вы думаете, я могу купить дом на гонорары за лекции?
— Я вам не предлагаю. Продаю вообще. Моя старшая дочь кончила школу и пошла работать стюардессой на ТВА. В общем, семья уменьшилась, зачем нам такой большой дом?
— А у вас нет других детей?
— Есть. Две девочки: четырнадцать и одиннадцать. Я уже подыскал другой дом. Меньше. Тысяч за шестьдесят, а мой стоит все сто.
— Значит, вы в стадии переезда?
— Да, но еще неизвестно, переедем ли.
— У вас нет покупателя?
— Есть. Но я не могу дать шестьдесят тысяч за тот маленький дом, а хозяйка уперлась.
— Сколько же вы даете?
— Пятьдесят восемь.
— Ну, где пятьдесят восемь, там и…
— Пятьдесят девять, — опередил он меня. — Больше ни цента.
— Наверное, она согласится, — выразил я надежду.
— Хочется думать. Глупо, если все развалится из-за одной тысячи.
Чего-то я не понимал в этом грустном, но твердом человеке и счел за лучшее прекратить разговор о доме.
Внутри дом не показался мне таким уж большим, особенно для семьи из четырех человек, тем более что девочки едва ли остановились в росте и в неудержимом движении быстротекущего станут взрослыми девушками, а для молодой сильной жизни необходимо пространство. Полутемный холл — окна были почему-то пришторены — носил следы сборов. Стены оголены, не было и тех малостей, безделушек, что придают обжитость человечьему жилью; ни фотографии, ни вазочки, ни цветка, ни картинки, никакого украшения. Когда глаз привык, я обнаружил сваленные в углу картины в рамах.
Оказалось, жена Джонса — художница. Работает она в стиле, который называется фигуративный символизм, очень мастеровито, хотя и чуть суховато. Но колористка она замечательная, от картин было трудно отвести взгляд.
Я впервые почувствовал, что бывает цветовая жажда, так же нуждающаяся в утолении, как и та, что саднит пересохшую глотку.
Тут появилась и сама художница — стройная, худощавая, гладко причесанная. Казалось, она так сильно стянула черные сухие волосы к маленькому пучку на затылке, что это причиняло ей боль. Страдание слезило ей громадные темные глаза, морщило бессильный улыбнуться рот.
И тот во мне, о ком я часто забываю, но кто не забывает меня, заставляя вопреки всем изменам собственной сути быть писателем, произнес уверенно и сожалеючи: ну готовься, брат, к откровениям.
Они не заставили себя долго ждать.
— Вы посмотрели мои картины? — спросила женщина. — Меня зовут Катарина.
— Мне понравилось. У вас сильная и мрачная фантазия.
— Это мои сны.
— Вы выставлялись? — спросил я, пытаясь увести разговор от признаний, буквально рвущихся из нее.
— Да. Мои выставки были в Нью-Йорке и Вашингтоне. Американцам не нравятся мои картины, они их пугают.
— А вы не американка?
— Я родилась в Европе. Мой родной язык фламандский.
— Ваша живопись чужда плоти и чувственности фламандцев, — пошутил я.
— Я не могу выразить себя целиком в моих картинах. Что-то остается недосказанным. Я пишу стихи. К каждой картине у меня есть стихотворение. Оно как будто бы вовсе не о том, но оно о том же самом, только по-другому и чуточку больше. Я плохо говорю. Ваш Скрябин придумал звуко-цвет, а я верю в слово-цвет или цвето-слово, — мучительная улыбка дернула ее губы. — Это шутка, хотя и не совсем шутка. Американцам не нравятся мои стихи, они кажутся им сентиментальными.
— На них не угодишь, — сказал я, плоско обманывая себя, что столкнулся с банальной темой непризнанности, и твердо зная в глубине, что это не так.
— Угодить можно, но какой в этом смысл?.. Хотите чаю? — словно вспомнила Катарина о своих обязанностях хозяйки.
Я отказался, и Джонс в одиночестве выпил чашку чая с молоком.
— Вы обедаете у нас? — Глаза женщины набухали слезами, казалось, от моего ответа зависит все будущее семьи.
— С удовольствием.
— Я хорошая кулинарка, — проговорила она с той же трагической интонацией. — У нас будет мексиканский обед. Вы не боитесь острого?
— Напротив, очень люблю.
Сухие, горячие руки коснулись моей руки и благодарно-доверчиво сжали.
— Я жду вас к обеду.
— Спасибо.
Джонс доел сахар из чашки и вытер усы.
— Поедем в гостиницу?
— Мы не прощаемся…
— О, нет. Мы не прощаемся! — вскричала женщина, хрустально сверкая налитыми влагой глазами. — Конечно, мы не прощаемся! Нет, нет!..
Мне очень хотелось настроить себя на юмористический лад, но ничего не получалось. Смертельно жаль было ее узких горячих рук, налитых слезами глаз, искусанных губ, всей странно напрягающейся, беззащитной фигуры, и я не понимал, откуда борется эта жалость. Неприкаянная она какая-то… Да ведь у нее муж, семья, она может заниматься своим искусством, не думая о хлебе насущном. Вон и выставки были…
— Картины продаются плохо, — говорил Джонс, борясь с зажиганием. — В лучшем случае ее живопись самоокупается. Да, — произнес он после некоторого раздумья, видимо, подсчитав, — на краски, холсты и рамы как раз хватает. Я ничего не добавляю… Можно вас снова попросить вывеситься?
Я «вывесился», и мотор заработал.
— Кажется, я должен буду поехать в Канаду, — грустно сказал Джонс. — У меня там дом. Достался но наследству. Надо скорее продать, пока родственники не ограбили.
Прежде чем ехать в гостиницу, мы заглянули в студенческий центр, где Джонс измерил-таки кровяное давление. Этот центр был смесью супермаркета с почтой, банком, клубом и клиникой. У Джонса оказалось 160/90 — вполне терпимо для человека за пятьдесят. Но Джонс притуманился: он принимает сильнейшие лекарства, а давление на пределе допустимого. И ведь еще недавно у него было давление юноши-бейсболиста.
— У нас плохо в семье, — сказал он со своей меланхолической улыбкой. — Мы едва не разошлись перед вашим приездом. Отсюда давление.
— Но сейчас все наладилось?
— Не знаю. Маловероятно. Скорей всего затишье перед бурей. Сосуды не разжимаются, не берут приманку мнимого примирения.
— Сколько вы прожили вместе?
— Старшей дочери девятнадцать, значит, более двадцати.
— Поздновато для развода.
— Почему? Жене нет и сорока. Даже я еще не совсем сдался. Но я для нее не муж. Она видит во мне отца.
— Разве у вас такая разница в возрасте?
— Пятнадцать лет. Но дело не в этом. У нее комплекс отца. Он никогда не ласкал ее, не брал на руки, даже улыбки его она не видела. Боялся, что еще заподозрят в инцесте. Нет дыма без огня. Ей всегда хотелось иметь отца, доброго, ласкового, все понимающего, как у подруг. Вдруг она открыла отца во мне. Но я никакой не отец, я люблю ее совсем по-другому. Она этого не хочет, все время плачет и настаивает на разводе.
Я читал о чем-то подобном, и не раз, но не верил, что такое на самом деле бывает. Мне всегда казалось, что Фрейд на виток перекрутил гайку. Сексуальное начало играет громадную роль в жизни человека, но не решающее, и в споре с судьбой почти всегда отступает перед велениями насущных обстоятельств. Кроме, конечно, клинических случаев. Что ж, я снимаю шляпу перед бесстрашием старого австрийского профессора, не боявшегося крайних выводов.
— Развод не даст ей отца.
Он как-то странно посмотрел на меня.
— Развод даст ей другого мужа или близкого человека, и она сможет опять обходиться без отца, как было столько лет у нас.
— А если без развода?..
— Я это ей и предлагаю. Заведи себе друга дома, у меня будет женщина на стороне. Но мы останемся вместе, сохраним семью. Это нужно для наших девочек. И мне это нужно, — добавил он, чуть помедлив. — Мне надо, чтоб она была рядом. Просто рядом.
— А что жена?
— Говорит, что не может. Не может мне изменить, пока мы вместе, пока мы муж и жена, хотя бы формально. Она очень чистый человек… и очень несчастный. Я люблю ее, смертельно жалею и не знаю, что делать.
— Не отпускать ее. Она же погибнет одна. Я ее почти не знаю, но, по-моему, она человек, мало приспособленный для самостоятельной жизни.
— Беспомощна, как малый ребенок.
Когда пишешь об этом, все вроде бы выглядит естественно: мужская откровенность, мгновенное доверие к чужому, случайному человеку. Но тогда мне было очень не по себе. Меня словно на медленном огне поджаривали. Советовать что-либо — безответственно, молчать — бездушно. Я спросил:
— А если она уйдет, девочки будут с ней?
— Нет. Девочки все знают, они сказали, что останутся со мной.
— Неужели и это не остановит вашу жену?
— Боюсь, что нет. Конечно, ей мучительно и страшно, но то, что она испытывает сейчас, еще мучительней, еще страшнее. — Он вскинул на меня коричневые истомленные глаза. — Может, вы поговорите с ней?
Поистине утопающий хватается за соломинку!
— Господь с нами! Разве можно постороннему человеку?..
— Наверное, нельзя, — улыбнулся он, и я понял, что он находится на пределе отчаяния.
Он держался, держался из последних сил, и его бедная выдержка отыгрывалась высоким давлением. Все было сжато, стиснуто невыносимой болью, кровь с трудом пробивалась сквозь сузившиеся сосуды. И ничего нельзя было сделать. Умная, талантливая, честная, добрая женщина губила его и себя, не властная над темными велениями, завладевшими ее существом. Если б она была влюблена, если б муж ей изменил, если б ей открылось, что она прожила жизнь с недостойным человеком, еще можно было бы что-то понять и даже исправить. Но никаких разумных объяснений случившемуся нет. Она охладела к мужу, но ведь это почти неизбежно в долгих браках и никогда не ведет к разрыву, если не вмешиваются посторонние силы. Люди приспосабливаются жить без счастья или находят на стороне суррогат счастья и терпят свою долю, или как-то сублимируют тяжкую неутоленность, уходят в детей, в работу, в книги, мечтания. А у нее есть творчество, она талантливая художница и поэт с божьей искрой, у нее славные девочки, есть дочь-барышня, а ведь матери умеют разделять волнения взрослых дочерей, есть возможность ждать, искать, надеяться, а ей нужно все немедленно разрушить. Почему мы убеждаем себя, что в жизни нет безвыходных положений? Можно и отмахнуться: бабья дурь, пройдет, возрастное, лечиться надо, но ведь это от бессилия. Что мы знаем о человеке? Несколько беллетристических угадок. Науки о человеке до сих пор не создано, главные умственные силы планеты направлены не на познание, а на уничтожение человека, в чем немало преуспели…
А потом был домашний обед, и оказалось, что Катарина действительно превосходно готовит: острый холодный суп «чили», сложное мексиканское блюдо из мяса, сои, тертого гороха, теста, овощей с обжигающим пряным соусом, чудесная мельба и настоящий турецкий кофе, какого я еще не пил в США. Эта женщина вносила артистизм во все, что делала. За обедом, на котором присутствовал еще один молчаливый и крайне сосредоточенный на еде гость — профессор истории, я познакомился с прелестными дочерьми Джонсов: старшая уже вступила в подростковый возраст, не оплатив этот шаг к созреванию ни косолапостью, ни неуклюжестью, ни угрями, ни угрюмостью, — чистая, свежая, стройная, нежно и таинственно улыбающаяся, она почти обрела будущую форму взрослой девушки; сестра была проще — небольшая, прочно сбитая, с крепкими ножками футболистки. Она играла в европейский футбол за школу, а тренировал команду ее отец. Девочки были тихи, как мышки, но когда они изредка оживлялись, становилось ясно, что тихость эта не от строгого воспитания, а от грусти. Они все время помнили о семейном разладе, и страх перед будущим сжимал их маленькие души.
После кофе Джонс пошел немного проводить приятеля, а девочки как-то незаметно скрылись, будто истаяли. Я сказал хозяйке, что восхищен многообразием ее талантов: художница, поэт, кулинарка.
— Почему он не хочет отпустить меня? — произнесла она с такой интонацией, словно это было прямым отзывом на мой нехитрый комплимент. — Почему он не хочет быть мне просто отцом?
Что было сказать? Я стоял перед ней, презирая себя за бедность, сухость, за полное неумение помочь чужому горю. Странная доверительность этих людей открылась мне с неожиданной стороны; я был для них старший. Искусственно взращенный в себе инфантилизм из-за вечной возни с собственным детством, ностальгический бред о прошлом, которому я отдал столько времени и душевных сил, подчиненность матери до последних дней ее жизни, отсутствие своих детей — все это позволило мне до сих пор не сознавать свой истинный возраст, возраст старика, деда. Эти люди ждали, что я подскажу им что-то из глубины дряхлого опыта, а этого опыта не было. Да я и вообще не верю, будто можно помочь чужому душевному горю, другое дело, что есть шарлатанские приемы утешения, известные настоящим старикам, привыкшим отвечать не только за себя, но и за меньших: детей, внуков. Я этих приемов не знал. Не знал, чем можно обмануть страдающего человека, чтобы он хотя бы плакать перестал. А она плакала — глазами, ртом, грудью, плечами, но беззвучно, чтобы не услышали дочери. И вдруг я разозлился, сам не знаю с чего.
— Ну, хватит! Куда вы пойдете и на что будете жить? На картины, на стихи, которые никому не нужны? Джонс любит вас, он дает вам делать что вы хотите, даже терпит этот разнузданный фрейдизм. Подумайте о дочерях. Им-то каково?
Она перестала плакать и вытерла глаза платочком. Потом высморкала нос — очень по-детски.
— Я знаю, что потеряю их. Но чем я виновата?..
А что, если ей просто необходимо остаться одной? Я где-то читал, что бывает такое состояние, когда все окружающие тебя, еще недавно родные, бесконечно близкие, становятся непереносимы. Человеку надо оборвать все связи, быть одному. Тогда бессмысленно ее уговаривать, бесцельны и попытки Джонса решить проблемы внутри существующей формы. Он правильно понял, что ей опостылело окружающее, и хочет сменить дом. Но это ничего не даст, в новом доме все пойдет по-старому. Ее бунт — против кого? Против мужа? И да и нет. Ведь она и его готова сохранить в качестве… отца. Против семьи в целом? И да и нет. Ей смертельно жаль девочек. Против себя самой?.. Против своей непризнанности, неудачливости, ненужности людям? Ей нужна всеобщая любовь, она же творец, а ей дана лишь маленькая любовь семьи. Ей неприятна, оскорбительна навязчивая любовь одного Джойса, когда ей нужна любовь всех Джонсов. Она хочет принадлежать им всем, конечно, не физически, но как бы и физически, а он, муж, мешает. И может быть, фигуративному символизму невыносимы вечные поиски малых выгод? И это верный инстинкт в ней — уйти, скрыться. Но лишь признание спасло бы ее. Это не тщеславие, не честолюбие, не жажда успеха. Это сознание своего права выйти на суд людской. Надо что-то сломать, разорвать, сокрушить, чем-то пожертвовать, может быть, тогда явятся какие-то новые, неизвестные силы, чтобы одолеть слепоту и глухоту окружающих? Америка, откликнись искусству Катарины Джонс, ты сохранишь ее душу; спаси мать для дочерей, жену для мужа. Америка не откликнется. Каждый умирает в одиночку. Каждый страдает в одиночку. Каждый сходит с ума в одиночку. И самоубийством кончает каждый в одиночку.
Катарина хочет одиночества, чтоб перестать быть одинокой. Теплая, плотная, липкая родная плоть обволакивает ее, но по только не скрадывает одиночества, а делает его душащим, безвыходным, непереносимым.
— Попробуйте уйти не уходя, — сказал я, сам не понимая, что это значит.
…Как и всегда после бури — затихло. Каждый занимался своими делами. Джонс записывал на магнитофон интервью со мной — для газеты, сказал неопределенно; о Катарине напоминал легкий шум из кухни; девочки гладили на террасе футбольную форму младшей — завтра матч. Потом мы с Джонсом отправились в университет.
Вместо лекции Джонс неожиданно устроил вечер вопросов и ответов. Так еще никто не делал. К моему удивлению, опыт удался: вопросов оказалось предостаточно, и если б не сам Джонс, выступавший в качестве переводчика и ограничивший встречу полутора часами, конца бы не было завязавшемуся разговору. Выступать, конечно, лучше без переводчика, во многих университетах так и делали, рассчитывая на достаточную языковую подготовку большей части присутствующих. Меньшинство приносилось в жертву — пусть вслушиваются в звучание русской речи, это тоже полезно. Раза три-четыре я работал с замечательными переводчиками из профессоров-русистов, один из них даже опережал меня, и казалось, я ему вообще не нужен. Джонс применял иной метод: он спокойно, не перебивая, выслушивал какой угодно длинный период, затем давал отжимку. Так было на концертах знаменитой в свое время исполнительницы песен народов нашей Родины Ирмы Яунзем. Певица переводила длиннющую песню: «Девушка идет к ручью. О, как светла вода!» Боль Джонса была так велика, что ему все было немило, он старался предельно упростить не отставшие от него обязанности профессии и быта. Ему хотелось сжаться, умалиться, самоограничиться лишь самым необходимым, все стало ненужным и докучным в объявшей его беде. В несчастье, как правило, недостатки человека усугубляются, а достоинства тускнеют. Джонс явно не был транжирой: ни в материальном, ни в душевном плане. Сейчас он доводил свою осмотрительность до аскезы. Он экономил деньги, эмоции, слова. Нет смысла ни на что тратиться, ибо ничто ничего не стоит. Правда, оставались девочки, Джонс должен был ради них жить и работать, но с минимальной затратой себя. Вот и получалось: я разливался Ирмой Яузем, а студенты слышали: «Девушка идет к ручью. О, как светла вода!»
Телеграфная краткость перевода огорчала — уж больно живой заладился разговор. Студентов интересовало, как у нас становятся писателями. Расспрашивали с такой горячностью и дотошностью, словно хотели незамедлительно воспользоваться нашим опытом. И, махнув рукой на своего скупого толмача, я заговорил на языке, который некогда в самообольщении считал английским. Рассказал про Литературный институт имени Горького, про творческие кружки на заводах, фабриках, при клубах и учреждениях, про московские и всесоюзные семинары молодых авторов. Последнее особенно заинтересовало студентов.
Я едва успевал отвечать. Сохраняется ли зарплата участнику семинара, кто оплачивает проезд, проживание, питание, привлекают ли к этому делу издателей. Все такие практические вопросы в истинно американском духе. Примолкший, тоскливо понурившийся Джонс вдруг поднял голову:
— Я правильно понял, что этим ребятам сохраняют жалованье?
— Разумеется.
— И оплачивают проезд?
— Да.
— И проживание?
— Конечно.
— И питание? — Джонс почему-то понизил голос.
— Ну да. Все бесплатно.
— Живут же люди!.. — со вздохом сказал Джонс… Джонс, в чем я вскоре убедился, потерял доверие к окружающим. Если уж самый близкий и родной человек может быть так беспощаден, то чего ждать от других. Он подозревал своих коллег в интригах, желании его выжить. Даже второму тренеру команды, где играла его дочка, он не доверял, полагая, что нет такого второго, который не желал бы стать первым. У всякого иного подобная подозрительность была бы отвратительной, но Джонса выручало странное обаяние. Темные глаза сужены в монгольские щелки, слабая, удивленная, жалобная улыбка заблудилась в излучинах морщин, голова чуть покачивается. «Хочет на мое место» — это о коллеге-профессоре; «Не подает руки, считает меня виновным в поражении» — это о тренере. И не скажешь, что эти открытия огорчают его, они вносят какую-то ироническую ноту в его страдания…
Студенты и аспиранты пригласили меня на вечер. Видимо, так было решено заранее, обычно прием устраивал главный профессор. Джонс сказал с мягкой, загадочной улыбкой: «Вас ждет сюрприз». Но главный сюрприз ждал его.
Он пришел вместе с Катариной, необыкновенно элегантной: в белом комбинезоне из какой-то упругой плотной ткани, красиво подчеркивавшей крепкую худобу ее молодой фигуры и цветом — бронзовый загар четкого лица. Но что-то в ее темных, с расширенными зрачками глазах настораживало. И улыбалась она слишком часто, преувеличенно любезно, явно не видя, кому она улыбается. С ней что-то случилось, едва она перешагнула порог этого милого и непритязательного дома. Я так и не знаю, отчего произошел взрыв. Возможно, она ощутила свою изолированность: возле нее был человек, притворявшийся ее мужем, хотя он — отец, а кругом двадцати- и тридцатилетние, чей возраст она прозевала. К тому же хозяйка дома, аспирантка Джонса, пела песни Булата Окуджавы — это и был обещанный сюрприз, усиливая заложенную в них печаль. Я слушал песни и не видел, что произошло в соседней комнате, где стоил стол с бутылками и закусками. Была какая-то малая суматоха, всплеск голосов, затем донеслось: «Джонсы уходят!» Я нагнал Катарину в дверях: «Куда же вы?» Она не ответила, только покачала головой в тугом обжиме волос. Ее щеки из-под смуглоты палило, и шея, и обнаженные руки горели. Казалось, притронься — вскочит волдырь. Я от души пожалел Джонса. Скрытое стало явным, она вынесла на люди семейную беду. Ей уже было все равно, что подумают, а это непросто для такого человека, как она. Тайна обнажилась, как у Олби. Джонс был похож на свой «фольксваген»: перебиты крылья, передок снесен…
Но следующий день, как и обычно после бури, выдался спокойным. Мы с Джонсом ездили на футбол, где команда, в которой играет его младшая дочь, потерпела поражение с сухим счетом, а веснушчатое существо среднего пола — второй тренер — отказало Джонсу в прощальном рукопожатии, натолкнув его на мысль о готовящихся кознях.
Усталая, опустошенная, притихшая Катарина выразила желание проводить меня в аэропорт. По пути Джонс стал настаивать на ленче, и все мои отказы и уверения, что я поем в самолете, во внимание не принимались. Ему, видимо, требовалась искупительная жертва за малую передышку, ниспосланную судьбой.
Мимо нас, как и всегда на выезде из города, мелькали бесчисленные «Макдональды», кафетерии, закусочные, но Джонс ими пренебрегал. Он искал что-то особенное, и меня это начало тревожить — времени в обрез, а изысканный стол, как и «служение муз», не терпит суеты.
С трудом отыскали мы какое-то невзрачное кафе в одной из боковых улиц. «Я нарочно привез вас сюда, — сказал Джонс. — Это необычное кафе, в таком вы больше не будете. Оно принадлежит индийцу, последователю и чуть ли не основателю какой-то религиозной секты. Здесь вы получите пищу, максимально приближенную к земному образу. Никаких подделок, никакой химии, никакого обмана. Так питались наша праматерь Ева и праотец Адам до грехопадения. Одним словом, пища чистая и естественная, как в раю». Его витийство показалось мне подозрительным.
Внутри кафе украшено огромным портретом толстого индийца и бумажными полосами с его изречениями. А смысл «райской пищи» открыло тощее меню. Это было вегетарианское заведение, где выбор ограничивается разного рода салатами. Пища действительно была максимально приближена к райским пастбищам и возможностям наших безденежных прародителей. Джонс хотел и на судьбе выгадать. Какой все же цельный характер, не дающий размякнуть твердому ядрышку ни при каких невзгодах…
Для чего уделил я столько внимания Джонсам? Люди и вообще заслуживают внимания, особенно те, кому плохо. Но дело не в этом. Как читатель, несомненно, понял: ситуация Джонсов напоминает происходящее в пьесе «Кто боится Вирджинии Вульф». Конечно, драматург предельно обострил и довел до трагического гротеска житейскую скорбную историю, разыгравшуюся в профессорском доме, но в этом есть художественная правда. Пусть в жизни все выглядит куда опрятнее, тише, «нормальнее». Олби как художник прав. Его пьеса — концентрат тех малых и не очень малых житейских драм, что разыгрываются на всех ступенях американского общества.
Иное чувство вызывает роман Джозефа Хеллера «Что-то случилось». Герой романа, служащий неназванной фирмы, с кокетливым упорством на протяжении многих страниц предается душевному стриптизу самого вульгарного свойства. Это противно, но совсем не ново. С великой откровенностью и серьезностью Жан-Жак Руссо в своей «Исповеди» открыл двери в неопрятный мир детской и юношеской сексуальности. Но Руссо не эпатировал читателя, с предельной искренностью пытался разобраться, из чего строилась его, Жан-Жака, личность. У Хеллера нет такой пакости, которой не наделил бы он своего жалкого и противного героя и его близких: жену, дочь, сына. Чтоб было еще страшнее, второго сына он делает идиотом. Вот, мол, рядовая семья среднего американца: сексуальный маньяк и мелкий честолюбец папа, алкоголичка жена, изломанная наркоманка дочь, старший сын с признаками истерии, младший — полуживотное. Ко всему еще с самого начала объявлено, что герой находится в состоянии непрекращающегося трясучего страха. В ходе повествования эта декларация ничем не подтверждается, но правила хорошего тона соблюдены — какой же современный роман без фобий! В конце романа, где вкус окончательно изменяет автору, написавшему некогда великолепную антивоенную сатиру «Уловка 22», герой душит в объятиях — и приканчивает — старшего сына, единственное существо, которое он любил. Символика неестественного поступка — он задушил в себе остатки человечности и стал готов к преуспеванию в том обществе, которому принадлежит.
Жизнь современного американца при всей бытовой облегченности достаточно сложна. И нет ничего удивительного, что американские писатели берут ситуации конфликтные, драматические, острые, болезненные, ими движет стремление не только сделать свое произведение увлекательным и уцелеть в жесткой конкуренции, но и помочь обществу искоренить свои недостатки, пороки, заблуждения, помочь человеку выйти из душевного и социального тупика, равно и защитить его от гнета, внешних и внутренних разрушительных сил. Я говорю о писателях серьезных, ставящих себе серьезные цели, а не о производителях развлекательного чтива. Конечно, и серьезный писатель может оступиться. У Хеллера, несомненно, были серьезные намерения, когда он садился за свой «семейный роман», но желание ошеломить, повторить успех «Уловки 22», дурное литературное кокетство привели к провалу — американские читатели дружно не приняли роман.
Я склонен думать, что разоблачительная литература в какой-то мере льстит американцам, они выглядят в ней сложнее, загадочнее, значительней, демоничнее, чем на самом деле. В действительности Сноупс вовсе лишен того помоечного величия, каким наградил его Фолкнер, он вполне бытовой человек с заурядной и даже уютной душонкой, а не мистический накопитель. Живые американцы не разыгрывают бессалий Апдайка, Трумэна Капоте, Пинчона, не охотятся на крокодилов в нью-йоркской канализации, не живут в ветвях деревьев, не скачут и не кровоточат раненым кентавром. Все куда проще и плоше…
Вообще же литература — дитя неустройства. Вот почему в раю, во всяком случае, до грехопадения, не могло быть литературы. После грехопадения стало о чем писать, появилась первая проблема. Живописать же самих себя, свои совершенства, в поучение самим себе — занятие пустое, это понимали небожители и не брались за перо. И хотя Библия утверждает, что в начале было слово, потом был бог, я в это не верю. Предбытие не нуждалось в словах, ибо нечего было называть. И в эдеме царила немота, поскольку безошибочны были все движения населяющей его жизни. Слово возникло с первым конфликтом — появилась тема.
Пусть бегло, поверхностно — нельзя за несколько дней проникнуть глубоко в тонкую и сложную драму незнакомых людей, но все же я смог что-то рассказать о Джонсах. А мог бы я рассказать о мире и ладе, который наблюдал в десятках профессорских семей? Кого интересует тихая, спокойная, дружная жизнь, порой с налетом старомодной сентиментальности? У профессора К. с женой — преподавательницей русского языка — общий письменный стол, разделенный пополам, хотя в своем просторном доме, без детей, они свободно могли бы иметь каждый по кабинету. Но им радостно и нежно работать бок о бок, у них тогда лучше получается. Когда К. за рулем, он поминутно теребит жену: «Моллинька, куда поворачивать? Ох, Моллинька, кажется, я проехал. Юрий Маркович опоздает на лекцию, все пропало. Зачем только он приехал сюда, я его погубил. Вся надежда была на тебя, Моллинька, а ты мной не руководишь». Конечно, он вовсе не испытывал такого отчаяния, да и ехал правильно, но так любил жену, что хотел все время чувствовать на себе ее внимание, чтоб она направляла его, поругивала, одергивала. Это вызывает улыбку, но не раздражает, поскольку за всеми воплями К. чувствуется хорошая и любящая душа. «Моллинька, видишь, мы приехали не к тому подъезду. О горе! Люди собрались, а лектора нет. Моллинька, зачем ты пустила меня за руль, такого нелепого человека, ты разделяешь мою вину. Бедный, бедный Юрий Маркович!..»
Я ничего не могу рассказать о красивой семье Ричарда П., состоящей из него самого, белокурой жены, чьи предки, видимо, обитали на берегах Рейна или Эльбы, рослого сына-баскетболиста, который, вскакивает, когда взрослые входят в комнату; покидая дом даже ненадолго, высокий и мощный, нежно целует родителей — деликатность и взаимное уважение доведены в этой семье до утонченности. А что можно рассказать о прекрасной семье профессора Б., с двумя золотоволосыми сыновьями-погодками, схожими, как близнецы, и столь привязанными друг к другу, о светлой, радостной семье, где понимание — с полуслова, с полувзгляда, где отец все время в трудах и размышлениях, а мать хозяйничает, кухарит, изобретая все новые блюда, а для души занимается гончарным делом. Ребята упоенно читают, гоняют на роликах и велосипедах, смотрят телевизор, что-то мастерят и настолько тратят себя в этом, что у них не остается ни сил, ни времени для хулиганства. Очень это увлекательно? Вот так же и во многих других знакомых мне семьях — нет материала для литературы. Место писателя там, где нарушились привычные связи…
6
Я вдруг задумался над законностью слова «американец», которым так щедро пользуюсь. Рокфеллер — американец, нью-йоркский безработный тоже американец, а что между ними общего? Жаклин Кеннеди-Онассис — американка, и черная женщина с бородой — американка. Стоп! Тут положено сказать «американская негритянка». Да, «американский негр» — распространенное выражение, реже употребляются: «американский еврей», «американский итальянец», но никогда не говорят «американский француз», а тем паче «американский англичанин», видимо, из-за давности их пребывания на этой земле. Мой знакомый профессор Дин, чьи предки прибыли на легендарном корабле «Майфлауэрс», никогда не признает настоящим американцем уроженца США профессора Сиднея Монаса, чей папа — выходец из Одессы. Но и Дин, хоть он считается аристократом в стране, не имеющей аристократии, зря задается: когда его предки прибыли в Америку, тут уже обитали голландцы. А до них были испанцы. Строго говоря, вся Америка состоит из эмигрантов, кроме забитых и почти истребленных первожителей страны — индейцев, но как раз их «американцами» не числят. Выходит, американцев как нации не существует? И вместе с тем весь мир, произнося слово «американец», имеет в виду нечто такое же определенное, во всяком случае, поддающееся характеристике, как англичанин, француз, немец, итальянец.
Вообще в этой области все зыбко и условно. Разве похож д'Артаньян на Шарля Бовари, Кола Брюньон на адвоката Ребандара, гасконец на нормандца, пикардиец на уроженца Турени? И все-таки можно говорить о типе француза. Есть что-то общее, характерное, что сохраняется при всех различиях — социальных, имущественных и тех, что связаны с местом рождения, воспитанием и религией. В отношении Америки дело обстоит сложнее, слишком много тут намешано рас, слишком велико имущественное неравенство и неравенство людей перед законом, слишком пестро во всех смыслах население страны. Американец — это некий национальный полуфабрикат, который со временем доформируется в нацию. Я же, произнося слово «американец», подразумеваю жителя Америки среднего достатка, имеющего работу, жилье, счет в банке, дающего детям образование, любителя телевизора и газет с воскресным приложением, пива, бейсбола и футбола. Когда-то его все узнавали по цилиндру величиной с паровозную трубу, потом — по котелку и канотье, потом — по мягкой фетровой шляпе с широкими полями, а ныне — по готовности обходиться без головного убора в любую погоду. Вовсе не желая скаламбурить, скажу, что для меня, как и для всех, американец — это средний американец. Ну, вот о нем и поговорим.
Прежде всего американец необыкновенно опрятен. Несмотря на внешнюю дремучесть иных молодых людей: патлы, бороды, усы (сейчас всего этого стало куда меньше), рваные, выгоревшие джинсы, стоптанную нечищеную обувь, телесно они всегда чистые. Душ — первая необходимость — утром, днем, вечером. От американца не может скверно пахнуть, он стерилен, к его услугам десятки одораторов — для рта, для подмышек, для ног, вокруг американца реет ароматное облачко. Американцы не пижоны. Босяцкий вид молодежи — в какой-то мере франтовство наизнанку, но взрослый американец одет просто. Если же на американце красные или клечтатые штаны, то это не из щегольства, а от безразличия и безвкусицы — бросилось в глаза яркое, купил и напялил. Француз, англичанин, итальянец сроду себе такого не позволят, потому что думают, как одеться, а американец — нет. Некоторое, весьма скромное внимание к одежде можно обнаружить на юге, где люди и вообще подтянутее, северяне начисто равнодушны к своему внешнему виду.
Американцы очень любопытны, о чем я уже говорил, но едва ли любознательны, последнее для своего удовлетворения требует усилий, а к этому не больно приучены. Они мало интересуются шумом постороннего мира, но политики и государственные деятели то и дело напоминают им о существовании этого мира, всегда тревожного, неспокойного, грозящего неприятностями разного масштаба: нехваткой бензина, притоком эмигрантов, какой-нибудь ненужной войной, в которую почему-то надо влезть, и никогда ничего не дающего Америке, кроме того, что она получает за доллары. При отсутствии настоящего интереса к мировым заботам, к чужой истории и культуре, в стремлении изолироваться, отгородиться американцы, особенно пожилые, любят туристские поездки в Европу, меньше в другие части света, и волнуются, слыша чужую речь. В Европе американцы скидывают сдержанность, становятся шумны, развязны, эксцентричны, в этом проявляется своеобразная любезность к Старому Свету: не нарушать традиционного образа.
Изоляционизм американцев не государственная, а народная идея, в резком противоречии с которой находится активная и агрессивная политика правящих верхов. Достаточно сказать, что они вернулись к такому анахронизму, как «политика канонерок», безнадежно скомпрометированная историей и похороненная еще в прошлом веке. Ныне труп эксгумирован…
Американцы очень приметливы к предметам материального мира. Удивить их нелегко при том переизбытке вещей, какой их окружает, но легко озадачить стариной: шкатулкой или табакеркой с музыкой, поющей заводной птичкой, часами с репетиром или современной чепухой с глупыми розыгрышами. В американцах много детского, недаром Хемингуэй считал, что американские мужчины никогда не становятся взрослыми. Более состоятельные американцы помешаны на старинной мебели и антиквариате. Это понять легко: США — страна без истории. Нельзя же считать за историю двести незаметно промелькнувших лет. Американцы очнулись где-то в середине прошлого века, когда кончился золотой век тонкого вкуса, изысканной мебели и воцарилась эклектика. Какой-нибудь завалящий «чеппендейл» или «жакоб» даже в богатом доме служит предметом культа.
В американцах много привлекательного. Они гостеприимны и широки, хотя, разумеется, в семье не без урода: я видел профессора, который приходил в гости с бутылкой водки, настоянном на стручках красного перца, щедро всех потчевал, а остаток уносил домой; они откровенны, искренни, отзывчивы, очень обязательны и точны. Иметь дело с американцами приятно: они не заставят ждать, любое обещание выполнят, но требуют такой же четкости от партнеров. При всем том американцы эгоцентричны и неприметливы к окружающим. Чужая душевная жизнь их мало интересует. И потому не стоит переоценивать сердечность американцев при знакомстве и случайных встречах: восторженные крики, улыбки от уха до уха, похлопывание по плечу, можно подумать, что человек жить без тебя не может, а весь этот внешний энтузиазм сиюминутен, он не имеет ни корней, ни будущего. Впрочем, когда ты это знаешь и соответственно относишься, американская повадка кажется довольно милой. Разве лучше холод, сухость, равнодушие? Что ни говори, а при поверхностном общении форма много значит.
Я не раз слышал, что, мол, американцы чем-то похожи на русских. А чем-то на англичан. И чем-то на скандинавов. Думаю, что они немножко похожи на всех людей в мире и далее на самих себя, таких, какими их хочет видеть мир.
Подвижность американской психики, а стало быть, и вкуса, особенно приметна в отношении к искусству. Я уже говорил о той легкости, с какой тут зачисляют в классики — в литературные мертвяки. Страшно быть американским писателем: оглянуться не успеешь, как ты уже в пантеоне, иначе говоря, на почетной свалке. Но особенно быстро «снашиваются» новые течения в изобразительном искусстве.
Мы еще ратоборствуем с абстракционизмом, а американцы, взяв все возможное удовольствие от чистой игры красок этой декоративной живописи, не отягощенной содержанием, но дарующей физиологическую радость глазу, спокойно перенесли свое внимание на прямо противоположное: предельную, почти фотографическую конкретность и точность изображения вещного мира.
Я попал на выставку одного из таких художников в Нью-Йорке, в «Метрополитен-музее», забрел случайно из залов, набитых самыми отчаянными абстракциями. Признаться, я несколько пресытился их кричащей немотой, хотелось чего-то конкретного: красноватого бюргерского лица над кружевным жабо, терборховского атласа или дымчатой виноградной кисти возле хрустального кубка Хедды с недопитым рубиновым вином. Но крутился я среди отвлеченностей, как жертва Миноса в Лабиринте, безнадежно выходя на свой собственный след, и вдруг увидел телефонные будки — четыре в ряд. Они сулили избавление, и я кинулся к ним со всех ног. К великому моему изумлению, будки были изображены на большом холсте в натуральную величину. Я пригляделся к ним, и мне расхотелось терборховского атласа и печального хрусталя Хедды. Я попал в окружение ошеломляюще реальных кусков действительности — большие, предельно четкого письма полотна предлагали мне то прилавок овощника с помидорами, зеленым луком, морковкой, петрушкой, спаржей, укропом, сельдереем, артишоками — словом, всем, что растет на грядках (овощи тщательно вымыты, капли воды блестят на клубнях и ярко-зеленой ботве), то маленькую, еще запертую на замок часовую мастерскую, то лавку древностей, где каждый выставленный на витрине предмет хочется взять в руки и рассмотреть, то аптеку со всем, что полагается этому заведению, то автобусную остановку с расписанием маршрутов и старой облупившейся скамейкой, изрезанной перочинными ножиками, то вход в киношку с рекламным стендом, выгоревшими афишами, замусоренным тротуаром — окурки, горелые спички, обертки от мороженого и конфет. А вот помойное ведро у двери какой-то хибарки, старое, мятое, полное через край мусором, овощными очистками, всякой ослизлой дрянью, и притягательное не менее, чем подносы Хедды с серебром и хрусталем; хочется рассматривать его, не обходя вниманием ни одной подробности. Человеку интересно все, что наполняет его жизнь, — и высокое и низкое. В этом смысле телефонная будка, прилавок овощника, витрина и даже помойное ведро наделены в искусстве ничуть не меньшим чином, чем изыски старых мастеров. К тому же долгое засилье абстракций придало вещному миру новую значительность, поэтичность и странную глубину. Ни на одном полотне нет «оживляющей» изображение человеческой фигуры, от чего частенько не удерживался даже Слайдерс. Видать, и ему казалось, что без человека пустынно и скучно. Нет, не скучно. Ненаселенный, но целиком созданный человеком и принадлежащий человеку мир этих картин обладает необъяснимой одухотворенностью. Доведенная до предела иллюзорности натуралистичность как бы взрывает свою узость и растворяется в мироздании. Эти телефонные будки, прилавки, витрины, поганые ведра, скамейки, асфальт, штукатурка принадлежат не улицам каких-то скучных городов, а вселенной.
И все-таки я не могу передать, чем так прекрасен и волнующ этот пустой оцепенелый мир обыденных вещей. Быть может, все дело в том, что именно привычное, каждодневное мы видим хуже всего, ибо никогда на нем не задерживаемся. Мы так суетливы, торопливы, беспокойны, вечно куда-то опаздываем, где уж тут вглядеться в окружающее нас изо дня в день. Но, крутясь в своем привычье, мы непроизвольно населяем его поэзией наших тревог, надежд, разочарований, ожиданий, трепета и, вдруг увидев возле глаз в музейном покое, тишине и нетревожимой сосредоточенности, получаем назад все, что туда вложили. Боже мой, каким зарядом поэзии обладает одна только телефонная будка! А трамвайная или автобусная остановка! А угол улицы, за которым только что скрылась незнакомка!.. Я чувствую, что приближаюсь к сути дела, и будь у меня в запасе вторая жизнь, непременно додумался бы до последних, окончательно точных слов. Но мне не светит вторая жизнь…
Этот род живописи был нов только для меня, американцы уже успели привыкнуть к нему. Хотя абстракционизм на Западе подчинил себе на какое-то время вкус большинства, на него не переставали яростно кидаться многочисленные противники. Но ничего не могли поделать с ним, как никогда не могли ничего поделать с естественно возникающими новыми формами искусства приверженцы старых. Восприимчивость людей к тем или иным формам искусства с годами притупляется, и тогда искусству, чтобы выжить, надо дать что-то новое, иную точку зрения на окружающее. На этом в свое время взошел абстракционизм. Но как бы сейчас ни изощрялись сторонники беспредметного искусства, им не одолеть всевозрастающего равнодушия публики. Оказывается, пришла пора — по закону контраста — максимально сблизиться с предметным миром. Презренная «фотография» (говорю условно, ибо в живописи, о которой идет речь, есть отношение к изображаемому, она не бесстрастна, как объектив) победила игру чистой живописности. Нельзя уговорить человека покончить самоубийством: либо этого хочется, либо нет. Так же нельзя заставить человека отвергнуть полюбившееся ему искусство и принять чуждое. Человек может сделать вид, будто подчинился, в душе же останется при своем мнении. Почему-то мне кажется, что интерес к живописи, заимствующей основной прием у фотографии, не будет продолжительным. Тут нарушается закон о переходе количества в качество: чем ее меньше, тем лучше, свежее впечатление, в переизбытке же возникает странное и тягостное ощущение духоты. У этой живописи есть что-то общее с «новой журналистикой», берущей в основу художественного повествования документ, хронику подлинных событий. Интересно, порой захватывающе («Холодная кровь» Трумэна Капоте), но и вроде бы тесновато. Не дает полного утоления жажды такая литература, и вновь тянет читателя в «даль свободного романа», ныне почти разрушенного в США дружными усилиями авангардистов….
7
Любопытен процесс, наметившийся и американском театре. С одном стороны, продолжаются поиски в области абсурдного, в чем — пользуясь панурговым способом острословить — дошли до полного абсурда, с другой — в оформлении спектакля, в сценическом поведении пришли к некоему подобию фотоживописи.
В свое время Мейерхольд, Вахтангов, Таиров, Каверин, на Западе — Крэгг, Пискатор в своих сценических поисках полностью разгрузили сцену от бытовой захламленности, что так сближала подмостки с жизнью в поэтике реалистического театра. И все же эти новаторы не отважились на совершенную условность театра дней Шекспировых, где написанное на дощечке слово «лес» давало обстановку гибели Ричарда III. Малый театр, да и МХАТ, уплативший дань символической отвлеченности, создавали на сцене не подобие — дубликат жизни. Я хорошо помню, как в прекрасном спектакле «Хозяйка гостиницы» кавалер Риппафрато съедал на сцене целый обед, приготовленный и поданный соблазнительницей Мирандолиной. Мой старый друг, артист Малого театра П. И. Старковский, игравший генерала Крутицкого в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты», отказывался дома от чая, до которого был большой охотник, перед спектаклем. «Попью на сцене», — говорил он и действительно с аппетитом чаевничал в третьем действии, уминая коржики, пастилу, печенье и райские яблочки в меду. Высмеивая бытовую загруженность актеров на сцене, Вахтангов заставлял их подниматься по лестнице, приставленной к пустой стене, или совершать другие, столь же бесполезные действия. Оказалось, что зрителю совсем не нужно, чтобы актеры ели и пили на сцене, он хочет от театра не бытового правдоподобия, не рабского копирования каждодневной жизни, а чего-то совсем другого. И до чего же удивительным показался мне на редкость натуралистический обстав сцены в одном из самых своеобразных и загадочных спектаклей из всех идущих в нью-йоркских забродвейских театрах «Последняя любовь Вархолла».
Энди Вархолл — современный художник поп-арта, известный и своим оригинальным искусством, и еще более экстравагантным поведением. То он разъезжает по стране с выставкой картин, а потом выясняется, что это вовсе не он, а загримированный под него актер. То оказывается героем скандальной любовной истории, озвученной пистолетными выстрелами. То его видят верхом на рассветных улицах Нью-Йорка в костюме прустовского светского льва, горячащего скакуна в аллее Булонского леса.
В спектакле, кроме самого Вархолла, действует призрак знаменитой террористки из ФРГ Майнгоф-Баадер, которую нашли повесившейся в тюремной камере. По мнению автора пьесы, дух террористки нашел приют в одной из галактик, откуда и нисходит на землю. Впрочем, некоторые зрители отказывались признать в таинственной женщине с золотым рогом на лбу, без всякой причины убивающей героев пьесы из пистолета, призрак Майнгоф-Баадер. Но поскольку суть зрелища непознаваема, это не так уж важно.
Первое действие, которое называется «Эмигранты», происходит на втором этаже небольшого театрика. Сидят зрители в верхнем зале, довольно просторном, на ступеньках четырехрядного амфитеатра. Сцены нет. За сценическим пространством находятся огромные, во всю стену окна, глядящие на крыши, чердаки и пожарные лестницы соседних домов. Вдоль окон снаружи проходит довольно широкий карниз, по которому некоторые персонажи пьесы, сделав, что им положено, проходят к пожарной лестнице и спускаются во двор. Другим персонажам разрешено удалиться через двери, которые служат и зрителям. Третьи никуда не уходят, остаются на грязном полу после выстрелов золоторогой незнакомки.
Когда мы заняли места, сценическая площадка уже была населена: на узкой койке спал одетым молодой парень, а его подруга в легком халатике ловила какие-то сообщения по радио. И поймала — насчет духа Майнгоф-Баадер. Но я хотел о другом. Условное, даже бредовое зрелище — лишь отдельные частности поддаются приблизительной расшифровке — обставлено с реализмом, которому позавидовали бы МХАТ эпохи сытных обедов кавалера Риппафрато и Малый театр с долгим чаевничанием генерала Крутицкого. Там было все, что только может быть в жилище бедных эмигрантов, и создающих свой быт с помощью добрых людей, блошиных рынков и мусорных свалок. Старый приемник без ящика на колченогом, заваленном газетами столе, там же пишущая машинка в помятом футляре; несколько убогих стульев, кухонный столик, на нем закопченный металлический кофейник, электроплитка, разнокалиберная посуда, почерневший серебряный молочник, фарфоровая сахарница с отбитыми ручками, пол застелен драными, захоженными половиками, у рукомойника — грязные полотенца, вороха неопрятной одежды, какие-то ржавые инструменты, под столом старомодный патефон с набором пластинок, битком набитая корзина для мусора, а вокруг пачки из-под сигарет, обертки жевательной резинки, бутылки из-под кока-колы и еще не счесть сколько всякой дряни, обременяющей существование современного городского человека, даже самого неимущего. Из всей этой несмети для сценического действия необходим едва ли десяток предметов.
Столь же подробным и вполне жизненным — в элементах поведения действующих лиц — было и все происходящее на сцене. Женщина бесконечно долго настраивала барахлящий приемник, пока не поймала интересующее ее сообщение, потом занялась кофе. Плеснула воды в кофейник, заварила, поставила на плитку, вымыла и вытерла насухо две чашки, положила туда сахару. Закурила, промучившись довольно долго с отсыревшими спичками. Мужчина все это время крепко спал. Попив кофе с молоком, женщина долила в кофейник воды и снова поставила та плитку. Видимо, почувствовав запах кофе, проснулся мужчина и, нащупав под койкой сигареты, закурил. Женщина подошла, откинула одеяло, засучила на нем брюки и очень профессионально сделала ему массаж ног. И тут я поймал себя на том, что слежу за происходящим затаив дыхание. Ты словно подглядываешь в щелку за чужой жизнью. Искусство тут ни при чем, возбуждено чисто житейское любопытство. Но есть и другое, пожалуй, более важное. Это как в поп-арте. Самые обычные предметы: банки из-под крупы, жестянки из-под сардин, канистры, будучи изъяты из привычья и помещены на стенде музея, вдруг обретают значительность символа. И смотришь на них не отрываясь, будто сроду не видел. Так исполнились высшего значения все бытовые мелочи дома эмигрантов. А как интересны и содержательны простейшие движения человека, когда он курит, пьет кофе, вертит ручку приемника! Сколько изящества в человеческом теле, воспитанном не природой, а цивилизацией. Это не надоедает. Приходили новые люди, что-то приносили, складывали в угол комнаты, пили кофе, курили и удалялись через окно. Можно было придумать, что они приносят контрабанду, наркотики, оружие, но мне лично ничего придумывать не хотелось. Неизвестные были привлекательны своим бытовым поведением: каждый по-своему зажигает спичку, по-своему затягивается и выпускает дым, по-своему держит чашку, глотает кофе… Потом хозяин вытащил из-под койки патефон, завел ручкой и поставил заигранную, хрипатую пластинку. Музыка, как всегда, встревожила, стало казаться: что-то произойдет. Но пластинка знай себе играла забытое танго тридцатых годов, персонажи продолжали свою простую безмолвную жизнь, в которой самым важным были сигареты и кофе, из их смиренной вялости ничего возникнуть не могло. Как вдруг появилась золоторогая женщина и перестреляла из пистолета всех, кто оказался под рукой. Первое действие кончилось, и зрители перешли в нижний зал.
Хочется разобраться в увиденном, но и не хочется одновременно. При чем тут Энди Вархолл? Ну это понятно, недаром же мне вспомнился поп-арт. А его последняя любовь? Но ведь пьеса продолжается. Не будем слишком требовательны. В конце концов, нам и так показали немало: скудость, тщету, случайность жизни и случайность — предопределенную — гибели обобранных до нитки — душевно и физически — людей, которые называются «эмигрантами».
Одна из стен нижнего зала была сплошь стеклянной и глядела на скучную пасмурную вечереющую улицу. У обочины стоял старый «бьюик», изредка мелькали фигуры прохожих, большей частью негров; паренек с бородой, которого мы видели в первом действии, без устали отбивал чечетку на тротуаре. Сценическое пространство предельно разгружено: стол, два кресла, небольшое настенное зеркало, телевизор и белая простынка киноэкрана. Да, еще на полу стояла шкатулка неизвестного назначения. Вот и все.
Действие началось как-то незаметно. Появился уже знакомый нам актер, игравший одного из посетителей эмигрантского дома, он пил «из горла» пузатой бутылочки светлое пиво. Подойдя к стеклянной стене, осведомился жестом у чечеточника, не хочет ли тот пивка. Чечеточник хотел — зазвенело выбитое бутылкой стекло, и освежающий напиток оказался у него в руках. Я не заметил, кто зажег старую автомобильную покрышку, валявшуюся на мостовой возле «бьюика», огромное пламя озарило улицу, к вящому восторгу набежавших откуда-то зевак. И тут оказалось, что за всем происходящим на улице можно следить по телевизору.
Оживился и киноэкран. Вархолл в бриджах, верховых сапогах и низком цилиндре скакал по еще не пробудившимся улицам Нью-Йорка на вороном коне. Мимо запертых магазинов, спящих автомобилей, в безлюдности, какой не знает бессонный Нью-Йорк. И раз он спешился, и к нему выбежала девочка, набоковская нимфетка, и напряглась страсть, но ничего не случилось — девочку властно позвал бородатый молодой человек, тот самый, что отбивал за окнами чечетку. Похоже, он был ее отцом, и девочка покорилась. Вархолл снова скакал, но теперь за ним гнались на автомобиле. И будь город все так же пустынен, настигли бы в два счета, но Нью-Йорк уже очнулся и закрутил свою сумасшедшую карусель, и здесь гибкий конь обладал преимуществом перед автомобилем. Преследователям все же удалось спешить Вархолла, коня угнали, а художник, странно беспечный к своей судьбе, ничего не замечал, разговорившись с какой-то полной, средних лет женщиной. И вдруг оба сошли с экрана и во плоти предстали перед нами.
Вархолл стал интервьюировать женщину. Она оказалась профессиональной ведьмой. Художник попросил продемонстрировать свое искусство. Женщина деловито сняла халат и, совершенно голая, принялась справлять колдовской обряд: кадить, чадить, произносить заклинания то лицом к зрительному залу, то к окнам, за которыми собралась немалая толпа (молодые негры пустились от восторга в пляс), то перед зеркалом. Весь необходимый для обряда реквизит ведьма доставала из шкатулки: чаши, кости, бусы, стеклянные шарики, каменные фигурки. Работала она сперва при полном электрическом свете, потом при свечах, и длилось это не менее академического часа. Когда же залилось электричество, ведьма накинула халат, закурила и, присев к столу, объяснила Вархоллу, что театр — случайный эпизод в ее жизни, она женщина скромная до застенчивости, но, взявшись за гуж, не говори, что не дюж? — уважая свою профессию, она вынуждена править обряд в голом виде на глазах толпы, ибо так требуется по ритуалу. Томительную ситуацию, в которой ничего не происходило, да и не могло произойти, разрядила золоторогая пришелица. Метким выстрелом она прикончила Вархолла, ко всеобщему облегчению. Свет погас, а когда вновь зажегся, ведьма старательно прибирала за собой, целуя каждый культовый предмет, прежде чем уложить его в шкатулку. От нее мы узнали, что театр давал сегодня последнее представление — уезжает в Гамбург на гастроли. «А вы не едете?» — «С какой стати, у меня тут клиентура. Что, в Гамбурге своих ведьм нету?» Я недавно был в Гамбурге и авторитетно могу сказать — хоть завались…
Я рассказал об этом странном, как полотно Сальвадора Дали, спектакле не ради него самого, ибо не знаю, в чем его конечный смысл. Наверное, в том, что конечного смысла нет, но много промежуточных. А когда у тебя отнимают любимую и отнимают коня, а к этой любви ты мог явиться только на коне, то не помогут тебе и ведьминские чары, ничто не поможет, и пуля из галактики самый лучший выход. Но нельзя же принимать эту метафору за конечный вывод…
Меня заинтересовало, что в оформлении сюрреалистического спектакля использованы приемы сценического натурализма, родственные той «вещной», фотографически точной живописи, о которой говорилось выше. И это любопытный поворот в американском искусстве, объевшемся абстракциями.
Все же условное искусство продолжает существовать и порой одерживает новые победы. Пример тому — громадный и неубывающий успех своеобразнейшего спектакля «Мумменшанц». Это немой спектакль. У нас в Москве есть театр мимики и жеста. Тут только жест, и то лишь во втором отделении, где тела актеров затянуты в черное трико, а лица скрыты различными масками. В первом отделении нет и жеста, есть лишь движение упрятанных в меняющуюся оболочку актеров. Первая миниатюра буквально потрясает. На сцене возвышается помост, похожий на каменный брус. И некая аморфная материя, праматерия, которой еще предстоит формообразоваться, пронизанная первым волевым импульсом, пытается взобраться на этот помост. Бесформенная груда, мучась отсутствием упора внутри себя самой, выпускает беспомощные отростки, неспособные заменить конечности, чтобы уцепиться ими за помост, но жалко, неуклюже срывается, некоторое время лежит в изнеможении и вновь карабкается наверх. И кажется, что эта работа рождает в груде нечто вроде мышления: она делает выводы из своих неудач, пытается переместить в себе центр тяжести, чтобы уже не уцепиться за помост, а рухнуть на него, но снова терпит неудачу и вновь идет на штурм. И в какой-то момент ей удается отделиться от земли и повиснуть на краю помоста, это много, но до победы еще далеко — мучительное балансирование завершается сырым ударом об пол. И ты ловишь себя на том, что изо всех сил сочувствуешь этому прообразу тебя самого; ты уже понял: у вас одна суть, и это только кажется, будто ты решаешь более сложные задачи, так же нелепо, упорно, бессильно, жалко и величественно пытаешься ты оседлать судьбу, срываешься, падаешь, расшибаешься и снова упрямо лезешь наверх. Весь зал восторженно рукоплещет, когда чудовищная медуза, желе, студень, как еще сказать, оказывается-таки на помосте. Удивительное и глубокое зрелище!..
Прообраз некоего кольчатого осваивает в следующей миниатюре возможности дарованной ему формы, как бы развивая тему становления жизни. Но во втором отделении спектакль, сохраняя изящество и тонкость, мельчает, превращается в чистое развлечение.
Сейчас в американском театре, как и в искусстве вообще, междуцарствие: натурализм вклинивается в условность, которая вовсе не думает сдаваться. Приметно возрос интерес к высокому реализму Шекспира, Ибсена, Чехова, Лилиан Хеллман. Их пьесы ставятся и имеют успех. Быть может, после всех малопитательных изысков захотелось честного хлеба?..
8
У меня создалось впечатление, что американская публика вообще очень терпима в вопросах искусства, видимо, от некоторого равнодушия. Нашего горячего, «печеночного» — выражение Лескова — отношения нет и в помине. Горячатся критики, знатоки, профессионалы, а читатели и зрители сохраняют вид рассеянной снисходительности. Так ли уж все это важно? — просвечивает в усмешке легкого превосходства. Повышенный энтузиазм вызывают лишь некоторые эстрадные певцы и джазы, но в природе этого чувства в пору разбираться психоаналитику фрейдовской школы. Вообще же американцы не склонны преувеличивать значение искусства, его влияние на действительность. Они не считают, что решение проблемы на страницах книги равнозначно решению той же проблемы в жизни.
Говоря проще, к искусству и литературе рядовые американцы относятся не очень серьезно. А есть ли что-то такое, к чему бы они относились по-настоящему серьезно, кроме своего прямого занятия и налогов? Да, есть. Защита природы. Недопущение войны. Простая регистрация лиц призывного возраста вызвала решительный протест, многотысячные молодежные демонстрации напомнили Вашингтону о грозных событиях 1968–1969 годов. И когда произведения искусства говорят о предмете главной заинтересованности и делают это «понятным сердцу языком», американцы не остаются равнодушными. Отсюда бешеный успех антивоенного романа «Уловка 22».
Несколько чрезмерный, на мой взгляд, успех фильма «Дерсу Узала» объясняется глубокой озабоченностью американцев проблемой сохранения окружающей среды, естественного мира, дарящего дыхание всему живому. Фильм привлек их и обилием превосходно снятой природы — лунными пейзажами, морем тайги и характером гольда-проводника, все знающего про зеленый мир и его обитателей, дружащего с животными и птицами и верящего, что все на земле наделено тонкой человеческой душой и потому заслуживает безмерного уважения и бережи. Американцы пресытились погонями, стрельбой, мордобоем, кровью, сексом, полонившими экран, им хочется тишины и простых человеческих добродетелей: дружбы, верности, сострадания, понимания чужой боли, готовности помочь, им хочется леса, неба и воздуха — все это они получили в «Дерсу Узала» и отблагодарили фильм премией Оскара. Что лишний раз доказывает, насколько хорошо знает требования сегодняшней публики режиссер Акира Куросава, говоривший мне, сценаристу: «Зачем нам «восточный» вестерн, зачем приключения и фабула? Пусть будут тишина и скука. И пусть зритель вспомнит о кислороде — ничего другого но надо».
Отношение американцев к природе не эстетическое, хотя и это не исключается, прежде всего оно деловое и действенное: природу надо спасать, иначе кончится жизнь на земле. Ни о чем не говорили молодые американцы так охотно и горячо, как о сохранении природы. Что надо делать, чтобы не исчезали леса, не выветривалась родящая почва, не распространялись пустыни, не гибли звери, не замолкали голоса птиц, не пустели моря и океаны? Понять такое отношение к природе нетрудно. Мало найдется на земле мест, где бы человек так наразбойничал, как на огромном пространстве между Атлантическим и Тихим океанами. История Америки неотделима от чудовищного браконьерства. Оно началось с той поры, когда меткие, но примитивные лук и стрелы хозяев страны — индейцев, чтивших охотничьи законы, сменились огнестрельным оружием безудержных в своих аппетитах белых пришельцев, с поразительной быстротой истребивших громадные стада бизонов — гордость американских равнин. А покончив с бизонами, перенесли огонь на других животных. Такого беспощадного и бездумного уничтожения жизни не знал мир. Когда же спохватились и подсчитали потери, то оказалось, что изведены под корень многие ценнейшие виды четвероногих и пернатых и убыль эту не возместить. К тому времени промышленность переняла эстафету у зверобоев в деле тотального уничтожения природы. К чести человека, он не щадил и самого себя, энергично отравляя воздух своих становищ. По зараженности атмосферы лишь Токио может потягаться с промышленными центрами США. Я где-то читал, что, если бы Нью-Йорк не продувало с океана, он вымер бы за несколько дней. А устрашающая эрозия почвы, отравление водоемов отходами производств, чудовищная автомобильная вакханалия, пронизавшая бензиновой гарью все поры страны… — отступать, как говорится, некуда.
И граждане США, в частности студенческая молодежь, не сидят сложа руки. Многочисленные общества по охране природы приметно набирают силу и заставляют считаться с собой не только безответственных стрелков, но и куда более страшных браконьеров — промышленные компании. Как ни богаты, ни могучи компании, им все чаще приходится уступать защитникам природы, за которыми общественное мнение страны. Поджали хвост любители бесконтрольной охоты. И оживают водоемы, леса, слышнее голоса птиц и кое-где зверье вновь обретает, казалось, навсегда утерянное доверие к своим ужасным старшим братьям. И я рад, что видел это собственными глазами.
Сиэтл расположен на семи холмах. Мне никак не удавалось насчитать столько, но местные жители твердо знают, что столица окраинного штата Вашингтон оседлала именно семь холмов, как Вечный город Рим, и гордятся этим. Улицы Сиэтла не уступят по крутизне лыжным трамплинам; машины спускаются по ним, с террасы на террасу, скрежеща тормозами, а вверх ползут, рыча на первой скорости. Часть старого города находится под землей, напоминая о себе застекленными окошечками в тротуарах. Окошечки, смотрящие в небо, сделаны из толстого небьющегося стекла, которому не страшны каблуки прохожих, но солнце сквозь них проникает в подземелье, где находятся магазины, кафе, бары. Сиэтл лежит на берегу залива, самолюбиво именуемого морем: залив глубок, сюда приходят океанские пароходы, в том числе из Советского Союза. Холмистый Сиэтл окружен горами, защищающими его от ветров и стужи, склоны покрыты густыми лесами, понизу — лиственными, выше — хвойными, у подножия гор — широкие чистые озера, на которых полно водоплавающей дикой птицы.
Я долго бродил по берегу одного из озер в виду университетского кампуса и многоэтажных корпусов клиники медицинского отделения. Город под боком, наверное, озеро лежит в городской черте, а на меня доверчиво наплывали большие и торжественные, как лебеди, только не белые, а буро-коричневые канадские гуси. Они ждали корма и, похоже, ласки, так грациозно и мило тянулись ко мне длинными, гибкими шеями. Заветнейшая дичь, мечта каждого охотника, они ничуть не боялись, зная, что на водоемах Сиэтла им ничего не грозит. По старой, забытой дрожи, охватившей меня, давно уже зачехлившего ружье и предавшего охоту анафеме, я понял, чего стоило местным природолюбам погасить ту же дрожь в сиэтлских стрелках. Это своего рода подвиг. Потом, когда я шел сквозь высокие камыши, на болотистую, влажно проминающуюся под ногой тропинку выскочила кряква с целым выводком желтеньких пушистых утят. Она взволнованно закрякала, но без паники, в голосе лишь естественная материнская озабоченность, все-таки она совершила оплошность по их утиным правилам. Но утка-мать не стала исправлять своей ошибки, не юркнула назад в камыши, что было бы лицемерием, поскольку ни ее детям, ни ей самой ничего не грозило. Без излишней спешки она стала уводить семейство по тропинке, приметно оступаясь на правую лапку. Она была калечкой, хромоножкой, но в этом надежном, охраняемом месте жила полноценной утиной жизнью.
Не надо все же рисовать себе слишком идиллической картины этого уголка земли. Сиэтл вовсе не эдем, где люди и животные, насытившись щедрыми дарами природы, трогательно ластятся друг к другу. Грустное впечатление оставила семья негров-рыболовов: нездорово-тучный глава семьи в белом грязном плаще и фетровой шляпе, рыхлая женщина с курчавой головой Анджелы Дэвис и длинноногий, шарнирный сын-подросток в заношенном джинсовом костюме. Все трое с удочками, не со спиннингами, а с дешевыми пластмассовыми удилищами. Бестолково, не умея определить глубины, отчего поплавки то ложились на воду, то тонули, увлекаемые на дно тяжелым грузилом, забрасывали они удочки, но поклевок не было, и, уныло переглянувшись, рыболовы тащились дальше. Это не было ни спортом, ни развлечением. Так и оказалось, когда, столкнувшись раз-другой в камышах, мы познакомились и разговорились. Семья без работы. Хочется чего-нибудь вкусного, а денег нет. Вот и рыбалят. Иногда удается поймать несколько карасиков или карпа. «Это не запрещено!» — испуганно воскликнул глава семьи….
В самом центре города, возле бронзового бюста индейского вождя Сиэтла, без сопротивления пустившего белых людей на землю родного племени и потому удостоившегося памятника, сидят на скамейках, а больше валяются на асфальте или на зеленом газоне сквера бронзоволицые, черно- и прямоволосые, вдрызг пьяные соплеменники мудрого вождя.
В многочисленных голливудских вестернах белые смельчаки, пробивающие себе путь на запад, одолевают индейцев в смертельных схватках, иногда даже теряя двух-трех второстепенных персонажей и немало безымянных смельчаков из «массовки». Схватки, конечно, были: ружья против луков, потом пулеметы против ружей — индейцы, гордый и смелый народ, не хотели без боя отдавать чужеземцам землю отцов. Но покорены были индейские племена, романтические друзья всемирного детства: снуксы, каманчи, могикане, делавэры, навахи, кроу не силой оружия, а водкой и болезнями. Слишком здоровый, не привычный ни к каким отравам и потому лишенный защитной сопротивляемости организм краснокожих сломался под воздействием завезенного гнилыми, но выносливыми белыми людьми яда алкоголя и гнусных болезней. Повальное пьянство уложило на лопатки первожителей Американского континента. У них отобрали все: землю, оружие, лошадей, честь и гордость. Согнанные в резервации, лишенные цели и смысла жизни, племена могли ответить своим развратителям и угнетателям лишь одним: стали стремительно вымирать. Отдал бы или не отдал вождь Сиэтл, с его широким, умным и добрым лицом, землю белым — значения не имело. И все же, поди, ему мучительно видеть соплеменников распростертыми возле его памятника.
Конечно, ныне отменены резервации, индейцы формально уравнены в правах с белыми, индейских юношей можно встретить даже в университетах, хотя и редко.
Хороши величавые канадские гуси, непуганые кряквы, чирки и крохали на сиэтлских водоемах, но спасать надо в первую очередь людей. Это куда труднее, мучительнее и не так эффектно, но неизмеримо важнее. Один студент уверял меня, что у хорошей американской молодежи изоляционистский комплекс, присущий всей нации, зиждется не на отсутствии интереса к остальному миру, не на чудовищном эгоцентризме, не на мещанском «нас не троньте, мы не тронем», а на сознании вины — перед индейцами (ошибке Колумба обязаны люди с красной кожей своим всемирным названием) и перед неграми (которые, кстати, так себя не называют). Нечего вмешиваться в чужие дела, навязывать другим свою волю, свои жизненные правила и свой уклад, когда столько тягостного, преступного беспорядка в собственном доме.
Не берусь судить, насколько истинна эта мысль, хотя не подвергаю ни малейшему сомнению искренность своего собеседника, но отрадно уже то, что такая мысль существует и даже обрела формулировку. Дело не в искуплении вины дедов и отцов — нельзя отвечать за чужие грехи, лучше не совершать собственных, — а в очнувшемся чувстве справедливости, ответственности, в желании сдвинуть с места глыбу.
Когда все это уже было написано, произошло знаменательнейшее событие в жизни США: индейцы доказали, что есть еще порох в старых пороховницах — сухой, горячий порох гнева, несмирения и решимости. Вызрел протест в неубитой вопреки всему народной душе, и вашингтонский акрополь услышал грозный боевой клич истинных хозяев земли, по которой течет Потомак. Явив редкую расовую жизнестойкость, индейцы скинули оцепенение и поднялись на борьбу за свои права. Не за права на бумаге — они есть, а за права на деле. И мой бледнолицый знакомый, и его друзья-единомышленники имеют возможность доказать силу своих верований и в том обрести гражданскую зрелость.
9
Мой рассказ идет к концу, и я предвижу упрек читателей: старый кинематографист, а с Голливудом разделался одной фразой. Упрек естественный и справедливый. Когда я рвался в Калифорнию, которая отсутствовала в моей изначальной программе, то едва ли не главным магнитом был Голливуд. Мы с детства наслышаны о «фабрике снов», нам туманили голову имена знаменитых актеров — Дуглас Фербенкс был для меня, мальчишки, земным воплощением божественного д'Артаньяна; к тому же до войны я учился в киноинституте, а для всех киношников, особенно для начинающих, Голливуд как Мекка для мусульманина. Мысленно я уже тогда отправился к святым киноместам, но лишь на пороге старости достиг цели своего паломничества и увидел храм разрушенным.
Разочарование горчайшее: Голливуда не оказалось. Есть город с таким названием, соединившийся с Лос-Анджелесом и ставший его частью. Есть с тем же названием бульвар, есть другой знаменитый бульвар Сан-сет, упирающийся в закат, очень длинный и прямой, воспетый во многих американских романах. Но Голливуда — кинематографического центра страны и мира — уже нет. Почти все студии покинули его и возвели свои павильоны в других местах. Интеллигентная университетская публика настолько презирает киномирок, что я не мог толком установить, какие студии остались на пепелище. Кажется, «Парамоунт» — частично и студия телефильмов. Что же касается старой легендарной студии Чарли Чаплина, то она находится в самом Лос-Анджелесе, я видел ее темные печальные останки, и что-то сжалось в душе — все-таки это целая эпоха не только в художественном, но и в этическом бытии нашего мира, ныне безнадежно канувшая.
Так что же такое нынешний Голливуд? Это — киношка, стриптизные заведения, бары, несколько дурного пошиба ресторанов, магазины, чаще лавчонки, много уличных проституток в стиле «ретро»: пост — на углу, сумочка крутится вокруг пальца, шляпа ниже бровей. По понедельникам город словно вымирает, его пустынный пейзаж чуть оживлен потерянными фигурками жриц любви. Во вторник к вечеру он пробуждается, наполняясь всякой швалью: мошенниками, наркоманами, алкоголиками, педерастами, профессионалами любви обоих полов. Становится очень людно, пестро, беспокойно, даже опасно, но нет в этом зловещей живописности порока, а что-то провинциальное, захудалое. Чувствуется, что Большой Порок реализуется где-то в другом месте.
От старого Голливуда сохранился знаменитый китайский театр и асфальтовая площадка перед ним, испещренная автографами живых и угасших кинозвезд. Кто оставил потомству несколько строк, кто — отпечаток ладоней или ступней и подпись: Алиса Фей, Кэтрин Хепберн, Бинг Кросби, Фред Астор, Синатра, Куросава… Сюда приезжают туристы, читают наасфальтные письмена, вздыхают и уезжают с ощущением, что еще что-то кончилось.
Есть еще изысканный Беверли-Хилс, прежде нерасторжимо связанный с Голливудом. Там находятся виллы звезд первой величины. Но и об этом месте ничего интересного не скажешь — виллы спрятаны в глубине садов за густейшей растительностью. Лишь иногда распахнутся ворота, открыв на миг в глубине аллеи портик или фронтон — у разбогатевших актеров эллинские пристрастия, — и выедет бесшумный «роллс-ройс» с очаровательной блондинкой за рулем, и ты начинаешь лихорадочно соображать, кто это: Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Джоан Крауфорд, Мерилин Монро, и вдруг вспоминаешь, что тем из них, кто еще попирает землю подагрической ногой, по сто лет, а эта красотка тебе неведома, так же как и твоим спутникам.
Конечно, есть и сейчас любимые публикой актеры и актрисы, первых, как ни странно, больше, но таких кумиров, как были в пору расцвета Голливуда, уже нет. Даже Марлон Брандо, Дестин Гофман и Джейн Фонда не тянут. Спектр преклонения и обожания резко сместился в сторону эстрадной музыки. Герои молодежи там. Иные телевизионные ведущие, украшенные лишь развязностью и белоснежной, в тридцать два зуба улыбкой, могут поспорить в популярности с Сэзерлендом или Войхтом — самыми даровитыми из молодого голливудского поколения.
Мне было в Беверли-Хилс напряженно и неуютно. Потом я вспомнил: на одной из таких вилл, прячущихся в густой заросли, была зверски умерщвлена золотоволосая, безвинная перед богом и людьми Шарон Тейт вместе со своими гостями.
И все же к ветеранам экрана интерес не угас. Все газеты на первой полосе давали сообщение о повторной операции рака у Джона Уэйна, героя вестернов, где он иногда был шерифом, но чаще человеком, не умещающимся в рамках закона. И очнувшийся от наркоза Уэйн мог узнать много противоречивых соображений о своей смертельной болезни. А ведь при тех лекарствах, что не только успокаивают боль, но и создают больному эйфорию, ему необязательно было знать, что он умирает. Но он бы все равно узнал. И США больному непременно сообщают, что он обречен. Скрыть могут свинку или воспаление среднего уха, но не рак и не саркому. Человек должен знать, что умирает, дабы распорядиться имуществом и провести оставшиеся дни как ему хочется. Сделать то, что он бесконечно откладывал, слишком надеясь на свое здоровье: мол, успеется, например, убить кого-нибудь.
Куда большее впечатление, нежели агонизирующий Голливуд, произвел на меня его «филиал» Старый Тусон, Это городок, построенный в наше время в двадцати милях от университетского Тусона, на красной земле таинственного штата Аризона, где гигантские кактусы, багровые горы, отбрасывающие фиолетовые тени, Гранд-каньон, пустыни, золото Маккенны и свирепые дикие кошки, заходящие в селения.
Большинство вестернов последних лет поставлено в Старом Тусоне, в том числе лучший из всех — «Эльдорадо» с Уэйном и Митчумом, длинная серия о Циско Киде, многие фильмы с Джоном Фордом-старшим, Стюартом, Мак-Куином.
В городе — церковь, гостиница, салуны, магазины, парикмахерская, зубоврачебный кабинет, «веселое» заведение, коновязь, железнодорожная станция с медным колоколом. Салунами и магазинами можно пользоваться, тут все настоящее: продукты, напитки, сувениры, музыка, продавцы и официанты; коновязью тоже можно пользоваться, если прискачешь на коне. А вот тюрьмой, зубным и просто врачебными кабинетами, равно и «веселым» заведением, пользоваться нельзя. Там обитают муляжи. В одной из тюремных камер арестанты играют в покер, в другой повесился какой-то бедолага; врач с перерезанным горлом валяется на полу своего кабинета, выронив из руки не помогший ему кольт, а в парикмахерской испустил дух клиент под белой простыней в кровавых пятнах.
Что поделаешь, такова была жизнь на Диком Западе, где людям со слабыми нервами не место. В Старом Тусоне ты чувствуешь себя как дома: тебе знаком и этот салун с оцинкованной стойкой и маленькой эстрадой, и этот белый храм, служивший убежищем для подвергшихся нападению жителей, и эта зубчатая гора, в которую упирается главная улица, — сколько раз уносился к ней на тонконогом коне Джон Уэйн, снова создавший чужое счастье, но не выгадавший удачи себе. Конечно, и церковь, и салун, и цирюльню, и тюрьму, и все остальные уголки Старого Тусона ты без числа видел на экране. Когда приходит время съемок, посетителей удаляют, муляжи выносят, и город заселяет киногруппа. Появляется Джон Форд или Митчум с оловянной звездой шерифа на груди, и огромный, но легкий Уэйн спешивается у коновязи.
Я попал в Старый Тусон в субботу, когда на улице дают короткое представление — квинтэссенцию вестернов. Из салуна выходит человек в широкополой черной шляпе, у бедра болтается кольт в кобуре, и со скучающим видом начинает прохаживаться по галерее. Сразу ясно, что это плохой человек. Разве хороший наденет черную шляпу? Свою дурную суть человек в черной шляпе подтверждает жестоким обращением с добродушным старым бродягой. Этот обрюзгший, небритый человек, несомненно, знал лучшие дни, в нем порой вспыхивает утраченное достоинство, но сразу гаснет — алкоголь разрушил его личность, и за рюмку водки он готов терпеть любые унижения. Плохой человек в черной шляпе сбивает его с ног, вываливает в пыли и, что самое страшное, не дает на водку. Плача и бессильно потрясая кулаком, бродяга ковыляет по улице. Его замечает молодой официант, а может, парикмахер, не помню, это не играет роли, он выходит к старику и пытается его утешить. Сочувствие юноши пробуждает в размокшей душе забытую гордость, старик кидается к своему обидчику и падает, сраженный пулей. Официант (или парикмахер) выхватывает револьвер, но и его находит меткая нудя. Кончается все ожесточенной перестрелкой между убийцей и шерифом в белой шляпе. Изрешеченный пулями, но, как полагается, живой и невредимый, блюститель закона приканчивает негодяя, который умирает в долгих и ужасных корчах. По чести, это довольно злая пародия на фильмы, которые изготовляются в Старом Тусоне.
А затем через город проходят «горные люди» в меховых шапках, с женами и детьми, с лошадьми, впряженными в волокуши, на которых продукты и скарб. Это, надо полагать, белые первопоселенцы в Аризоне. Все очень достоверно: одежда, снаряжение, длинные ружья, даже то, что у многих жены — индианки, несколько портят впечатление круглые очки на слабых глазах современных американских детей…
10
Я до сих пор ничего не сказал о Нью-Йорке, который принято считать символом Америки. Многие писавшие о США отождествляли этот город со всей страной, они говорили «Нью-Йорк», а подразумевали «Америка». Нью-Йорк — квинтэссенция Америки, ее экстракт, здесь сконцентрировалось до чудовищной плотности все самое дурное в американской жизни и кое-что лучшее. Но именно поэтому нельзя ставить знак равенства между Нью-Йорком и Америкой. В Нью-Йорке велика преступность. Здесь больше, чем где бы то ни было, краж, взломов, угонов машин, нападений на банки, резче всего контрасты, разительней нищета, тут грабят и насилуют в Центральном парке, а в метро небезопасно ездить, тут особый темп и особый ритм, но тот, чей пульс выдерживает, не променяет Нью-Йорк ни на какой другой город в мире, ибо здесь каждый найдет свое: художник, поэт, мечтатель, гангстер, наркоман, борец за справедливость, изобретатель, певец, аферист, вор, артист, музыкант, ведьма и хулиган. И все-таки Нью-Йорк — это не Америка, а скорее жестокий шарж на нее. Таких улиц-ущелий нет нигде, даже в Чикаго высотная часть далеко не так обширна, а в остальных городах пучок небоскребов — в центре, а вокруг — россыпь одноэтажных домиков. В Нью-Йорке нет площадей, одни перекрестки, он гол, если исключить Центральный парк, куда боязно ступить. Остальные города очень зелены, их разбросанность дает простор не то что площадям, но даже пустырям, где дуются в футбол, бейсбол и кидают тарелочки. Нью-Йорк несравнимо грязней всех американских городов, среди которых немало весьма опрятных, он целиком зависит от своего ужасного, хотя и насыщенного общественного транспорта; в других городах — опять же кроме Чикаго, где и метро, и автобусы, и такси, — все обходятся собственными машинами, автобусов мало, в основном для школьников и студентов — бесплатные. В Нью-Йорке есть негритянское гетто — Гарлем, есть неопрятный богемный Гринич-вилледж, китайские и пуэрто-риканские трущобы, нищенские обиталища итальянцев; в других городах негритянская часть никак не выделена, а художественные кварталы не сплетены с грехом и наркотинам.
Но лишь в Нью-Йорке могут одновременно гастролировать балет Бежара, театр Кобуки, Краснознаменный ансамбль, бразильский цирк, мадридский ансамбль «Фламенго», дирижер Кароян, тенора Паворотти и Гедда, пианист Горовиц, а блестящая дягилевская экспозиция в музее «Метрополитен» — отбивать посетителей у огромной выставки Казимира Малевича, занимающей весь «Гугенхейм», и сто бродвейских и забродвейских театров — потрафлять любому вкусу — от самого традиционного до авангардистского.
Городу «желтого дьявола» резким контрастом является «одноэтажная Америка», спокойная, тихая, даже скучноватая под розовым жирком изобилия. Провинциальная Америка (говорю условно, здесь отсутствует понятие провинции, никто себя провинциалом не чувствует) очень ценит каждое происшествие, потому что они редки, снисходительна к гангстерам, о которых знает по газетам и телевидению, а Нью-Йорка побаивается и не стремится туда «пожуировать жизнью»…
11
И вот еще о чем следует рассказать: я был в стране мормонов. Гористый штат Юта, который они населяют, — это государство в государстве, здесь все наособицу, не так, как в остальной Америке. Мормоны есть и в Огайо, где зародилась их вера, и в Иллинойсе, Миссури, в Канаде и Мексике и даже на других континентах. Их эклектическая религия вобрала в себя понемногу из самых разных верований: от мусульман — многоженство (официально отмененное в конце XIX века) и запрет на горячительные напитки (мормоны пошли дальше приверженцев ислама — изгнан не только алкоголь, но и все возбуждающее: чай, кофе, даже табак), от протестантизма — отсутствие церковной пышности и обрядности (богослужение сведено к проповеди), от язычества — признание, кроме христианской троицы, других богов, от католицизма — теократическое построение (глава церкви — пророк, провидец обладает не только церковной, но и светской властью), что-то взято от иудаизма и от других вер.
Название религии идет от пророка Мормона, чью мистическую книгу нашел в лесу в 1830 году Дж. Смит, томимый несовершенством и злонравием всех существовавших тогда в Америке церквей. Пророк Мормон получил учение прямо из рук Христа, посетившего Америку за шестьсот лет до возникновения христианства. Естественно, что принадлежность к столь древнему и первозданно чистому учению наделяет мормонов чувством превосходства над теми, кто не сподобился света истины. Вот что раздражало меня в этом горном царстве, раскинувшемся вокруг усыхающего Соленого озера.
Когда в ресторане мне отказали в бутылке пива, я увидел на лице встречавшего меня профессора Р. (милого, с творческой жилкой человека) выражение чуть пренебрежительного сочувствии, которое в расплывшихся чертах его истомленной бесчисленными родами жены (мормоны не знают ни абортов, ни предупреждающих беременность средств — надо множить последователей правой веры) сместилось в сторону пренебрежения, а на одинаковых лицах пятилетних близнецов явило всю беспощадность детского презрения к порочной слабости чужеземца. Другой профессор, у которого я поселился в Прово, где находится мормонский университет Янга, не без высокомерия подвигал мне за завтраком — после утренней молитвы — стакан воды из-под крана. Молока, основного напитка мормонов, мой желудок не принимает, особенно по утрам. Кстати, отсюда название русской разновидности мормонов — молокане, они не пьют ни зелена вина, ни пива, ни чая, ни кофе, а заливают жажду коровьим или козьим молоком.
В день моего приезда, когда профессор Р. показывал мне Солт-Лайк-Сити, столицу штата, я увидел разные мормонские чудеса. Редкое архитектурное диво — молельня с феноменальной акустикой: звук разрываемой газеты или уроненной на пол иголки разносится по всему громадному, на тридцать тысяч мест, залу. В свободное от религиозных собраний время зал служит для концертов.
В главную церковь, расположенную напротив и имеющую вид обычного христианского храма, доступ рядовым мормонам закрыт, туда вхожи лишь пророк и двенадцать апостолов — церковная и гражданская верхушка. Жизнь любит посмеяться над человеческими установлениями. Мы почтительно разглядывали наглухо запертую боковую дверь церкви, откуда, по словам Р., в день второго и окончательного пришествия выйдет Иисус Христос, как вдруг дверь отворилась, оледенив нам души, из глубокого сумрака храма показалась мешковатая фигура в комбинезоне не то монтера, не то водопроводчика, и, клянусь, в это светлое утро он пил не только молоко и воду. Немного смущенный всеобщим вниманием, простой и великий человек, сумевший раздобыть выпивку в сухом царстве мормонов, хмыкнул и, ссутулившись, заковылял по своему делу. Но и это не поколебало превосходства профессора Р.
Он дрогнул, когда мы вернулись на главную площадь, где стоит памятник пророку Янгу. Дж. Смит основал религию, за что поплатился жизнью, а Янг вывел мормонов из «тьмы египетские» в образе жестоких штатов: Огайо, Иллинойс, Миссури, и привел на берег тогда еще полноводного, хотя такого же мертвого Соленого озера, под защиту высоких заснеженных Скалистых гор, за это он удостоился памятника. Янг стоит на высоком постамента задом к храму, лицом к деловой части города и левой рукой патетически указывает на огромное здание банка.
— Позу надо понимать символически? — спросил я профессора.
— Вы сами заметили или вам подсказали? — произнес он недовольно.
— Сам. Для этого не требуется особой наблюдательности.
— Да… оплошность, — пробормотал он. — Нас всех это коробит.
— А нельзя его переставить? Чтобы храму — приветствие, а золоту — презрение.
Р. как-то странно посмотрел на меня и промолчал. Мне подумалось, что пренебрежение к золоту не входит в число признанных здесь добродетелей. Как я вскоре убедился, в организации мормонов гармонично уживаются бескорыстие, даже самоотверженность, с ясным сознанием важности материальной основы бытия. Профессора университета Янга отдают каждую субботу безвозмездно на богоугодные дела: занятия с молодежью, служение в церкви (здесь нет института священников), но оклады их куда выше, чем у коллег из других штатов. Впрочем, это справедливо, учитывая многодетность мормонов.
Чтобы сгладить неблагоприятное впечатление от позы Янга, Р. повез меня к красивому, сверхсовременному зданию с притемненными окнами и предложил осмотреть гинекологическую библиотеку, единственную в мире, Я вежливо отказался. Полгода, проведенные в медицинском институте на заре туманной юности, отнюдь не пристрастили меня к медицине. О чем я и сказал профессору. «При чем тут медицина?» — не понял он. «По-моему, гинекология — раздел медицины», — немного свысока бросил я. «Кто говорит о гинекологии? Ге-не-а-ло-ги-чес-ка-я библиотека! Здесь мы отыскиваем своих предков, чтобы, отслужив по ним молитвы, обратить их души в истинную веру». Мне было совестно, что я так обмишулился, и голос мой прозвучал запальчиво: «А если они не хотят?» — «Кто?» — опешил Р. «Души! Может, им там хорошо?» — «Нет, — в спокойствии Р. снова проглянуло высокомерие, смягченное жалостью к дураку. — Душам тяжко их вольное или невольное заблуждение. Они ждут, чтобы живые отмолили их у тьмы для света истины и вечного блаженства».
И мы пошли в эту действительно уникальную библиотеку, оснащенную компьютерами и скоростными лифтами. Старинные фолианты в кожаных полуистлевших переплетах хранят на своих пожелтевших сухих листах списки жителей средневековых европейских городов, метрические записи, новорожденных. Есть тут книги с родословными дворянских и бюргерских семейств, с записями состояний, равно и всякая документальная литература, которая может помочь найти своего далекого или близкого предка…
Надо не только спасать души усопших, но и обращать живых в свою веру. Мормоны при кажущейся замкнутости, отдельности своего бытия, окольцованного Скалистыми горами, обладают повышенной активностью в отношении внешнего мира. В Прово, центре мормонского религиозного образования, находится семинария, готовящая проповедников «на вынос» и для этого обучающая их разным иностранным языкам.
Это, так сказать, профессиональные проповедники. Но каждый молодой мормон, окончивший «хайскул», должен отслужить два года проповедником, лишь после этого он может поступить в университет, а по окончании жениться — раз и навсегда. Университет является для юных мормонов не только храмом науки, но и ярмаркой невест. Жениховство долгое — на весь университетский курс, к невесте не прикоснись, зато потом — нерасторжимый, плодоносный брак. Так в идеале, которому стараются следовать. Но сейчас слишком подвижное и нервное время, слишком обильная информация и неуправляемый людской коловорот, и, как ни защищают молодежь от дурных влияний, порнографической литературы, сексуальных фильмов и пьес, какие ни накладывают запреты на юную плоть и дух, прочные формы трескаются под напором беспокойной нечистой жизни. В бытие мормонов, хоть это старательно замалчивается, вошли добрачные интимные отношения и довременные браки, чтобы прикрыть грех, измены и разводы. И гомосексуализм проник в молодежную среду, и преступления на сексуальной почве. И тщетно напрягают высокие лбы пророк и двенадцать апостолов, пытаясь охранить свой храм от разлагающего влияния современности.
— Почему они ходят парами? — спросил я о воспитанниках семинарии профессора Р., вдосталь наглядевшись на молодых людей в строгих темных костюмах.
Его правдивое чело чуть притуманилось:
— Для присмотра друг за другом. Если один нарушит, другой сообщит.
Услышав русскую речь, возле нас остановились двое юношей. Один был мал и невзрачен, другой ростом и статью напоминал знаменитого югославского баскетболиста Чосича. «Откуда вы?» — спросил Чосич. «Из Москвы». Он присвистнул: «Дайте мне адрес, я заеду к вам». — «Охотно. Вы собираетесь в Советский Союз?» — «Нет, но я буду в ваших краях». — «Где именно?» — «В Новой Гвинее». — «Вы считаете, что это так близко?» — «А разве далеко? Тут Китай, а тут вы!» Что ж, у каждого свои представления о расстояниях. «А зачем вы туда едете?» — «Да проповедовать!» — беспечно отозвался баскетболист. «Ладно, заезжайте», — и я дал ему адрес.
Географическим кретинизмом страдает большинство человечества. Куда сильнее поразила меня неосведомленность студентов университета Янга о том, чем живет их собственная страна. Рассказывая о дискуссии советских и американских писателей, я назвал имена Олби, Стайрона и недавно ушедшего лучшего поэта Америки Роберта Лоуэлла. Ни в одних глазах не вспыхнуло ответного огонька. «Вы что же, не знаете их? — опешил я. — Не знаете своих знаменитых писателей?» — «Они знамениты только у вас!» — с высокомерием невежества произнес какой-то юноша, и все рассмеялись. Может, это сознательная неосведомленность, нежелание знать ничего, что происходит за кольцом Скалистых гор? Подобный сверхизоляционизм крайне странен для энергичных экспортеров религиозных идей.
Конечно, каждый спасается как может. Но я никогда не понимал и не принимал стремления нести помощь туда, где в ней не нуждаются. Особенно когда в собственном доме столько дел, требующих сильных добрых рук и внимательного сердца. Полезно вызволять из тьмы души дальних предков: голландского суконщика XVI века, девонширского сквайра, рыцаря-храмовника, еще упоительней нести спасение всем заблудшим в этом огромном и тесном мире, где Новая Гвинея притулилась к Советскому. Союзу, но куда лучше трудиться в собственном вертограде, там столько больных деревьев, усыхающих кустов, истлевающих цветов и трав. Нет в миссионерской деятельности мормонов истинной любви к ближнему и участия к окружающему. Умозрительная любовь — не любовь.
Пушкин и Дельвиг часто говорили: «Чем ближе к небу, тем холоднее». Воистину так…



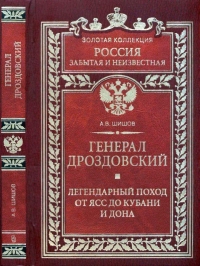

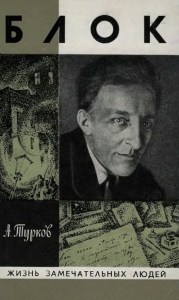
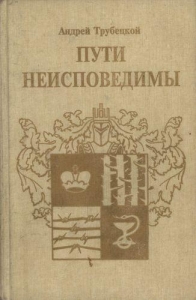


Комментарии к книге «Летающие тарелочки», Юрий Маркович Нагибин
Всего 0 комментариев