Феликс Медведев О Сталине без истерик
© Медведев Ф. Н., 2013
© Оформление, издательство «БХВ-Петербург», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Имя Феликса Медведева, российского журналиста, легендарного «огоньковца», внука репрессированного при Сталине венгерского революционера, поэта, врача Золтана Партоша, известно у нас в стране и за рубежом. Начал печататься в СМИ в 1954 году. Лауреат премий Союза журналистов СССР, журналов «Огонек», «Москва», «Родина», газет «Литературная Россия», «Вечерний клуб» и др., «живой классик жанра», «мастер “непричесанных” интервью», он более чем за полвека работы в прессе опубликовал неисчислимое количество материалов. Его интервью с Г. Г. Маркесом, Ф. Саган, А. Миллером, И. Бродским, Н. Берберовой, Великим князем В. К. Романовым, К. Воннегутом, М. Горбачевым, Г. Вишневской, Б. Березовским и другими деятелями мировой культуры и политики становились сенсациями. Две публикации Ф. Медведева вошли в «Хрестоматию отечественной журналистики второй половины ХХ века» (изд-во МГУ, 2009).
В 1987–1990-х годах вел телепередачи «Зеленая лампа» и «Парижские диалоги». Автор книг «Трава после нас», «Цена прозрения», детектива о гибели принцессы Дианы «Смерть под вспышкой», «Я устал от ХХ века», «Я тебя никогда не забуду» (об А. Вознесенском), «Мои великие старухи», «Мои великие старики» и др.
Предисловие
Ну что, генералиссимус прекрасный, потомки, говоришь, к тебе пристрастны? Их не угомонить, не упросить… Одни тебя мордуют и поносят, другие все малюют, и возносят, и молятся, и жаждут воскресить. Булат ОкуджаваТема Сталина сегодня в моде. Прилавки книжных магазинов заполняют все новые и новые штудии о жизни и деятельности «вождя народов». Авторы самого разного профиля – историки, романисты, банальные графоманы… Оскорбительным для многих верующих людей стало название одного «шедевра» – «Христос и Сталин».
Я не имею никакого отношения к «самому-самому» из «самых-самых». Кроме, пожалуй, двух-трех пересечений чудовищных событий под названием «сталинщина» с моей обыкновенной биографией.
Во-первых, родился я 22 июня 1941 года ранним утром, часа в четыре… Как поведал мне наш старейший актер Владимир Этуш, он именно в это время, после выпускного бала шел по улице Горького домой и вдруг увидел, что по направлению к Кремлю несутся два черных лимузина. «Ночью в Кремль… неужели война?» – подумал он.
И точно. Это ехал к министру иностранных дел СССР Молотову посол Германии Шуленберг, чтобы объявить Кремлю о начале военных действий Гитлера против Советского Союза. Можно предположить, что ранним утром 22 июня товарища Сталина неожиданно разбудили. И вслед за этим он исчез из поля зрения своего народа до… 3 июля, когда, наконец, выступил перед страной по радио.
Вторая «привязка» к теме «Сталин» трагична. Это три ареста сталинско-нквдэшной конторой моего деда – венгерского эмигранта, врача по профессии, революционера по призванию, поэта.
И еще один момент. Я живу в той части Трубной площади, которая примыкает к стене древнего Рождественского монастыря. Именно эти 100–200 метров земли 6 марта 1953 года были залиты кровью тысяч москвичей, стоявших в гибельной многокилометровой очереди в Колонный зал Дома союзов, где лежало тело вождя народов, и попавших в смертельную давку. Всякий раз, когда я спускаюсь по Рождественскому бульвару к Трубной площади, мне мерещится на асфальте кровь тех, кто шел проститься с «генералиссимусом прекрасным»…
Как журналист я общался со многими своими коллегами, а также с государственными деятелями, учеными, писателями, военными, родившимися в начале века и лично встречавшимися со Сталиным, и с теми, кто в свое время слушал рассказы других о встречах с ним. Кроме этого, во многих интервью мы с моими собеседниками, рассуждая об истории страны, в том или ином контексте касались фигуры «вождя народов», говорили о трагических судьбах современников в годы репрессий. Все эти свидетельства различны, противоречивы, в чем-то субъективны, но этим и интересны. Думаю, они имеют право быть обнародованными и сведенными под одной обложкой. Без каких-либо комментариев.
Мне кажется, эта неожиданная и необычная «сталиниада» может еще раз напомнить нам об опасности для страны культа «вождизма».
Часть I. Каким запомнили его они
Глава 1. Приемный сын Сталина генерал Артем Сергеев: «Я выжил потому, что молчал»
Оприемном сыне Сталина я узнал лет сорок тому назад из знаменитой когда-то книги французского писателя Анри Барбюса «Сталин». Больше об Артеме Сергееве я нигде не читал и ни от кого не слышал этого имени. И только в перестроечные времена Анна Михайловна Бухарина-Ларина рассказала мне о человеке, который попал в семью «вождя народов» в раннем детстве как ребенок-сирота. Отцом же его был прославленный революционер «товарищ Артем», погибший в 1921 году. Но в 1980-е годы найти Артема Сергеева мне не удалось, в горбачевское правление он жил отчужденно, не показываясь на людях. Журналисты, похоже, не искали его, то ли забыв о существовании приемного сына вождя, то ли не решаясь в те годы на интервью с сыном распинаемого тирана.
Мне помог случай – когда я брал интервью для одной из газет у вдовы сына Анастаса Микояна, мамы знаменитого музыканта Стаса Намина Нами Артемьевны Микоян, она вдруг неожиданно произнесла имя Сергеева. Оказалось, что они давние-давние друзья. По моей просьбе Нами Артемьевна тут же позвонила Артему Федоровичу, который дал согласие на встречу:
– Ко мне ехать так: на машине или на автолайне по Рублевскому шоссе до ресторана «Царская охота», по приезде наберите мой номер, я объясню, как меня найти, пешком десять минут. Вас встретят…
Ухоженный участок земли, сад, вокруг приметы золотой осени. Вроде бы с виду неказистый дом, но войдешь внутрь – просторно, много помещений, старая мебель. На встречу с хозяином меня ведет молодой человек кавказской внешности – то ли помощник-ординарец, то ли охранник кавалера ордена маршала Жукова генерала Сергеева.
А вот и он – Артем Федорович Сергеев.
Навстречу поднимается из кресла подвижный, энергичный, с открытым лицом и уверенным взглядом человек, которому ни за что не дашь 85 лет, хотя именно к этой знаменательной дате он приближается.
Как только заговорили, я понял, что Артем Федорович и душой молод, и памятью остер. Речь его живая, откровенная.
– …Это место, которое когда-то было скотопрогоном, мама купила за пять тысяч рублей много лет назад. Усадьба была большая, но хрущевские урезания колхозных усадеб нас не коснулись, мать-то не была колхозницей. Хозяином этих мест был некий Клюквин, работал на железной дороге. А нынче в моих соседях уж лет десять пребывает один известный олигарх…
– Артем Федорович, почему так вышло, что о вас почти ничего не известно? Не шутка все-таки – приемный сын самого Сталина, доживший до нынешних времен.
– А все просто – о своей близости к Сталину и его семье я нигде никогда ни с кем не говорил. И мать моя об этом молчала.
– Вы хотите сказать, что ваша мама у властей ничего не просила? Иначе бы ваше инкогнито раскрылось.
– Никогда ничего не просила. Поэтому Власик, возглавлявший многие годы охрану Сталина, думал, что ее давно уже нет в живых.
– А вы можете хотя бы сейчас представиться: «Я приемный сын Иосифа Виссарионовича Сталина?»
– Нет, в таком плане я не представляюсь. Другое дело, что когда-то в тридцатые годы о моем существовании написал в своей книге французский писатель Анри Барбюс. Книга так и называлась «Сталин». А в ней такие слова: «Сталин усыновил Артема Сергеева, отец которого погиб в автомобильной катастрофе». Книга вышла небольшим тиражом, ее мало кто читал. Пожалуй, только те, из верхов, из членов Политбюро. Ну что ж, читали и читали. Жизнь шла своим чередом, и я уже давно понял, что в моем молчании – мое счастье. Я никуда не лез со своей биографией, хотя вокруг было много людей, которые пытались себя показать. Для многих это кончилось плохо.
– Получается, возле Сталина, возле его сына Василия, членов его семьи крутился, простите, какой-то мальчик, и никто им не интересовался?
– Да, примерно так: Сергеев и Сергеев, сын революционера Артема Сергеева, известного как «товарищ Артем».
– А позже, после смерти вождя и его сына Василия? Скажем, Хрущев о вас знал? Он-то, громя сталинское наследство, должен был знать, что у Сталина был приемный сын, друг Василия Иосифовича, которого сам Никита Сергеевич отправил в тюрьму?
– Да, именно так, не знал меня Хрущев, совершенно не знал. И Брежнев меня не знал.
– Ничего не понимаю, ведь вы не просто член семьи главы государства, вы стали генералом Советской армии. Генерал – это не иголка в стоге сена!
– А я и в армии никуда особо не лез. И служил не в так называемом Арбатском округе, а в армии, в войсках, далеко от Москвы. И на западе, и на востоке, и за краем света. В 1937–1938 годах учился в военной школе, стал солдатом, потом курсантом 2-го Ленинградского артиллерийского училища. Окончив его в 1940-м, командовал взводом 13-го артиллерийского полка 1-й мотострелковой дивизии. Был командиром батареи и участвовал в боях с фашистами. Мы дрались с вражескими танками, которыми командовали Гудериан и Гот. Имена немецких командиров узнали от пленных.
После того как наши орудия были разбиты, меня назначили командиром стрелковой роты. Мы оказались в немецком тылу, в окружении. Собрали небольшой офицерский партизанский отряд. Попал в плен, оказался в концлагере, потом в тюрьме в Орше. Сумел сбежать.
Конечно, если бы кто-то знал мою подлинную биографию, мою фамилию, мне конец. А так я был просто Сергей Сарычев. И только один человек знал, кто я такой, – знаменитый командир партизанского соединения Флегонтов, он погиб в 1943 году. Ему-то я поведал всю свою подноготную.
– Поскольку вы много лет были со Сталиным рядом, скажите, каким было его лицо? Считается, что оно на фотографиях приукрашено, на самом деле оно было рябым, в оспинах, что очень бросалось в глаза.
– Каким было его лицо? Оно было красивым, не расписным, но красивым, хорошим. Это было красивое лицо, безо всяких изъянов. Говорят – конопатый… Минуточку, но кто это видел? Да, оспинки присутствовали, но они были почти незаметны. Это было лицо умного, простого человека. Мне с раннего детства запомнилось, с каким уважением относились к Иосифу Виссарионовичу все, кто были рядом с ним, общались по работе, по службе.
Как-то у племянницы Надежды Аллилуевой Киры Павловны, которая сама пострадала в годы репрессий, спросили, каким был Сталин, и она ответила: «Если правду сказать – обаятельным он был человеком».
– Ну, хорошо, коль Сталин был вашим названым отцом, как он общался с вами – ласкал, целовал, преподносил подарки? Воспитывал, наконец?
– Да, он был ласковым отцом. По натуре взрывной, импульсивный, но чрезвычайно педагогичный. Он не давал ребенку считать себя несмышленышем и со мной, с Василием и Светланой на очень серьезные темы разговаривал доходчиво, понятно. Как бы на нашем, еще детском, уровне.
Иногда Иосиф Виссарионович ставил нас друг другу в пример. Когда видел, что у Василия плохие отметки, он его пробирал и ставил в пример меня. Отец знал, что Василию это очень неприятно. Василий был добрым, он мог все отдать, все подарить, но по натуре он был честолюбив и даже властолюбив.
Помимо разных сувениров, я получил от Сталина в подарок две книжки: одну в 1928 году, другую – 1929-м. К сожалению, они у меня пропали. На книге Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» он написал: «Дружку моему Томику, с пожеланием ему вырасти сознательным, стойким и бесстрашным большевиком». Томиком Сталин называл меня в память о моем отце, которого когда-то в эмиграции называли на тамошний манер Томом.
Конечно, он был очень занятым человеком и с детьми занимался нечасто – только когда выпадала свободная минута. Из своего рабочего кабинета он возвращался поздно, но если дети не спали, подходил и разговаривал.
– Вы бывали в его рабочем кабинете?
– Вы сейчас удивитесь, но в те годы, которые я хорошо помню, рабочим кабинетом Сталина была как бы вся квартира. После смерти жены у него не было своего семейного дома. Была комната Светланы, комната Васи, кухня, а дальше – дверь и его комната. Здесь же – небольшое помещение-столовая, может быть, чуть больше этого, в котором мы с вами разговариваем. Налево – его спальня. Направо – большая комната – зал заседаний для узкого круга, а дальше – большой зал заседаний Совета министров. То есть Сталин как бы всегда находился на рабочем месте.
Помню такой эпизод в 1938 году. Сталин посылал в Белоруссию для ликвидации репрессий молодого партийца Пантелеймона Пономаренко. Задание давал ему так: «Вот стоит телефон, – указывал он на свой аппарат, – у тебя будет такой же, а рядом будут лежать книжечки с номерами аппаратуры ВЧ, внутренней кремлевской связи… На всякий случай можешь запомнить и мой телефон. Если что не так, звони, я всегда на месте».
Вот и выходит, что рабочим днем Сталина был и день, и ночь.
– Любопытно, а где приводил себя в порядок глава страны, скажем, стригся, брился? В особой парикмахерской?
– Не совсем в особой, в Кремле была одна парикмахерская на всех. Мне казалось, что брился он сам, потому что никто, на моей памяти, брить его не приходил. А стригся он, видимо, в той же общей парикмахерской. Она находилась в Кавалерском корпусе. Однажды я, мальчишка, ждал в ней своей очереди подстричься. Приходит Михаил Иванович Калинин, я, конечно же, сразу уступил ему свою очередь. А он в ответ вдруг говорит: «Нет, нельзя… Сейчас твоя очередь, вот и пользуйся ею. Разве есть у нас такие законы, по которым Михаил Иванович Калинин мог бы без очереди в парикмахерской обслуживаться? Нет таких законов. А законы пишу я, и прежде всего я должен их выполнять. А такого закона я никогда не писал и никогда не подпишу его. Так что смело занимай свое место».
– Да, как говорится, «были люди в наше время»…
– Конечно были, вы зря иронизируете. Вспоминаются такие эпизоды, о которых мне подробно рассказывал Иван Александрович Серов, тогдашний министр госбезопасности. Вы наверняка слышали сплетню о том, что Сталин не ездил на фронт, что он всего боялся. Так вот однажды Сталин приказывает: готовьтесь к поездке на Западный фронт! Иван Александрович готовит машины, людей – минимальное количество. Приезжают в штаб Западного фронта. Сталин интересуется, как идет работа, как наша авиация, по ходу хвалит дальнюю авиацию Голованова за то, что она выполняет любые задачи.
Переехали на Калининский фронт. Из штаба он звонит в Москву Маленкову. Маленков спрашивает: «Откуда вы звоните, товарищ Сталин?» Ответ: «Это неважно…» Идет опять длинный разговор, и снова имя Голованова произносится в превосходной степени. Тогда Сталин говорит Маленкову: «Завтра в газетах напечатать приказ о присвоении Голованову звания маршала авиации». Сразу же по телефону вызывают Голованова, Сталин поздравляет командующего с присвоением звания маршала. Тот говорит, что ничего об этом не знает. Сталин парирует: «Газеты надо читать!»
Второй эпизод: как мы с Василием узнали от Серова о денежной реформе в 1947 году. В присутствии его жены и жены Василия Сталина Кати Тимошенко Иван Александрович вдруг пару раз взглянул на часы и произнес: «Все, ваши денежки плакали… Они больше не действуют». Все замерли. Жена Серова как закричит на мужа: «Ах ты, сволочь, почему мне не сказал?» А он отвечает: «Потому и не сказал, что это дело мне поручили, там наверху знают, что я никому, даже тебе, не расскажу…»
Катя же Тимошенко хладнокровно произнесла: «А мне все равно, у нас кроме долгов ничего нет».
Новые ассигнации 1947 года развозили на боевых кораблях, и Серов сказал, что любому, кто разгласил бы тайну этой операции, грозил неминуемый расстрел.
– Как вы, Артем Федорович, стали приемным сыном Сталина? Я слышал, что вы попали в семью вождя потому, что Сталин хотел, чтобы его сын рос вместе с каким-нибудь пацаном, что называется, легче воспитывать.
– История такая. Мой отец был известным революционером. Со Сталиным они крепко дружили с 1906 года. Оба были делегатами разных еще дореволюционных партийных съездов. Оба побывали в тюрьмах, ссылках. Встретившись в семнадцатом году, уже не расставались до самой смерти отца. А умер отец случайно, в результате автомобильной аварии на 104 километре дороги Москва – Тула. Но, отправляясь как делегат X съезда партии на подавление Кронштадтского мятежа, отец попросил Иосифа Виссарионовича, если что-нибудь с ним случится, присмотреть за моей мамой, которая в то время была беременна мной. А примерно в это же время в семье Сталина рождается сын Василий. Вот и вышло, что с 5 месяцев я фактически жил у Сталиных, в одной комнате с Василием. Потом до 16 лет регулярно у них бывал. И отдыхали на юге мы вместе.
Свою беседу с А. Сергеевым я начал со странного, вроде бы, вопроса – может ли сам Артем Федорович представиться как приемный сын Сталина. Он ответил, что нет, он так не представляется. На этот счет юридического документа не существует, но сохранилось постановление Политбюро, вышедшее сразу после смерти Федора Сергеева в августе 1921 года. В нем 18-м пунктом значится: «Об обеспечении семьи товарища Артема». На заседании ЦИК присутствовали Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Дзержинский. Ответственным за выполнение постановления был назначен Сталин, который и впрямь буквально в течение многих лет выполнял решение ЦИКа, став приемным отцом сыну своего друга…
Василий (сын Сталина и Надежды Аллилуевой) и Артем Сергеев какое-то время жили в одной семье. Правда, вскользь Артем Федорович поведал мне, что несколько лет, а именно с 1923 по 1927 годы, сыновья Сталина (родной Василий и приемный Артем) жили и воспитывались в… детском доме на пятьдесят человек, который располагался в прекрасном особняке на Малой Никитской, построенном в начале ХХ века архитектором Ф. Шехтелем для предпринимателя, банкира и коллекционера Степана Рябушинского. Позже этот дом правительство подарило Максиму Горькому, лишь бы он вернулся с Капри в СССР. Горький вернулся и, прожив несколько лет, по довольно убедительным предположениям, в этом последнем своем пристанище и был умерщвлен.
Соучредителями и содиректорами дома были Надежда Сергеевна Аллилуева и мама Артема Федоровича Елизавета Львовна. Кстати, определение отпрысков в детский дом А. Ф. Сергеев оправдывает вечной занятостью родителей. При этом детей первого человека в стране отправили не в какой-нибудь элитный храм воспитания, рядом с ними жили полсотни беспризорников. «Вот нас обоих в эту самую компанию», – воскликнул Артем Федорович.
* * *
В подаренной мне женой Василия Сталина Капитолиной Васильевой книге «Хроника времен Василия Сталина» есть такие фрагменты воспоминания моего собеседника на тему «Сталин и дети»:
«Когда нам исполнилось по 13 лет, мы с Василием нашли бутылку шампанского. Выпили. Домашние пожаловались Сталину. Он вызвал нас и спросил: “Голова не кружилась? О, значит ваша голова не голова. Еще рано, надо немного подождать”. Наверное, если бы он на нас накричал, мол, такие-сякие, не смейте, мы бы на следующий день еще попробовали…».
«Из современной литературы Сталин любил Зощенко. Иногда нам с Василием читал вслух. Однажды смеялся чуть не до слез, а потом сказал: “А здесь товарищ Зощенко вспомнил про ГЕПЕУ и изменил концовку!”»
«За войну Василий Сталин получил четыре ордена – его товарищи, участвовавшие в подобных операциях, награждались щедрее. А орден Красного Знамени ему дали за то, что он разогнал немецкие бомбардировщики, летевшие бомбить наш тыл. Поднялся в небо на незаряженном истребителе наперерез строю… Командующий, с земли наблюдавший эту картину, не зная, что там сын Сталина, велел наградить летчика…»
* * *
– Артем Федорович, судьба тесно соединила вас с сыном Сталина Василием, о котором вы, наверное, знаете все. О Василии Иосифовиче до сих пор гуляет много легенд, это человек и впрямь трагической, во многом неудачной судьбы. Чего стоят, например, его браки, которые, как считают, не принесли ему счастья…
– Последняя жена Василия – известная спортсменка-пловчиха Капитолина Васильева умерла в мае этого года [интервью взято в 2006 году. – Ф. М.] С этой женщиной Василию повезло, порядочная и верная, она была ему настоящей женой. Вот рассказываю вам и прокручиваю свою жизнь, как в киноаппарате. В 1940 году, числа 10 или 12 декабря, точно не помню, звонит мне Василий и говорит: «Приходи ко мне 15-го на смотрины, я женюсь. Посидим, выпьем, как следует. Познакомишься с моей невестой». Говорю Василию, что не могу, потому что 15-го уезжаю в командировку. Вернулся я в Москву 29 декабря, на какое-то время мы с Василием разминулись, я вернулся в свой полк, Василий – в свой, стоявший в Люберцах, поэтому Капитолину я увидел несколько позже.
– И каково же было ваше впечатление?
– Про Капитолину я вам скажу чуть позже, а вот про первых жен хочу сказать немедленно. Первая жена Василия Галя Бурдонская – простушка, веселенькая, легкая девочка, без всяких претензий. Можно сказать, что она была без изюминки, и Василию с ней было неинтересно.
Потом он встретился и сблизился с Катей Тимошенко, дочерью знаменитого маршала. Эта особа была царственной красоты и вместе с тем холодная, как лед. Я чувствовал, что в их доме неуютно, холодно, неприветливо. Дети неухоженные, полузаброшенные, и Василий забрал их.
А теперь дорасскажу о Капитолине Георгиевне. Это была серьезная, деловая, русская женщина. Спокойная, духовно и физически сильная, она была человеком, знающим цену труду. Недаром Капитолина стала чемпионкой Советского Союза по плаванию, причем на большие дистанции. Отпущенную ей Богом жизнь она прожила в вечной заботе, постоянном труде. Василий-то был очень импульсивным человеком, и жить с ним было нелегко. Каким же терпением и нравственной силой надо было обладать Капитолине, чтобы держать Василия в порядке. Василий чувствовал силу ее влияния и за это бесконечно жену уважал.
– Вы с ней общались в последнее время?
– Общался. К сожалению, она ослепла, дела ее были плохи. Капитолина хорошо относилась к детям Василия, а он – хорошо к ее дочери. Хочу добавить в память и о Василии, и о Капитолине, что она пыталась создать ему теплый, семейный, уютный дом.
– А как вождь относился к женам сына: к первой, второй, третьей?
– Всего не знаю. Но, насколько мне известно, к Капитолине Георгиевне он относился с большим уважением и, хотя видел ее нечасто, понимал, что всего в жизни она достигла своим трудом и упорством.
– Простите, Артем Федорович, разъясните мне, пожалуйста, кое-что… Летом 2002 года я летал в Лондон, чтобы взять интервью у Бориса Березовского. Спросил Бориса Абрамовича о роли случайности в нашей жизни. Его ответ меня поразил. Размышляя на эту тему, он вдруг заявил, что он, Березовский, родственник Сталина! Ошеломленный, я спросил: как это может быть? Он рассказал, что в детстве много времени провел на даче у бабушки в Подрезкове. По соседству жил человек по фамилии Мороз, который одно время был мужем Светланы Аллилуевой, дочери Сталина. Семьи общались, и через много лет внук Светланы и Мороза Илья и дочь Березовского Лиза поженились. Лиза родила сына, который по прямой родословной стал одновременно правнуком Сталина и внуком Березовского. Как вы это прокомментируете?
– Что тут сказать. На самом деле первым мужем Светланы был Григорий Мороз. Я слышал, что у этого Мороза были весьма неблагозвучные дела: странная демобилизация из армии, непонятный род занятий, богемный образ жизни. Но сын от этого брака Иосиф стал доктором, профессором. Я его знаю как скромного и порядочного человека. Он крупный российский кардиолог, доктор медицинских наук, работает в Медицинской академии имени Сеченова [И. Г. Аллилуев умер в Москве 2 ноября 2008 года. – Ф. М.]. Так что выходит, Березовский вас не обманул, всякое в жизни бывает. Получается, что сын Иосифа Аллилуева был женат на дочери олигарха.
– Артем Федорович, несерьезный, быть может, вопрос. Вашим ближайшим другом был человек, который любил крепко выпить. Поддавались ли вы влиянию Василия Сталина на этом фронте?
– Не буду скромничать и юлить. Как человек, прошедший войну, побывавший во всяких передрягах, я, конечно же, при случае, а случаи бывали нередко, пропускал рюмку-другую. Что сказать, нашу жизнь, к сожалению, без этого не представить. Праздники, трагедии, свадьбы, поминки… Как тут не выпить? Конечно, Василий в смысле алкоголя давил на всех своих друзей. Он был компанейским, веселым, и отказать ему в компании было трудно. Так что всякое бывало, но при любой возможности я держался, как мог.
– Когда вы последний раз виделись с Василием Сталиным?
– В конце 1953 года. Он уже был арестован и находился в военном госпитале, но пройти к нему еще разрешали. К нему приходили его товарищи, спортсмены, футболисты. Он продолжал жить своей работой, хлопотал о спорте.
А потом Владимирский централ, ссылка. Я же служил не в Москве. Видеться мы уже не могли. Один раз Светлана, его сестра, навещала брата в тюрьме. Катя Тимошенко несколько раз туда тоже приезжала.
О его смерти в 1961 году в Казани я узнал не сразу, уже позже эту страшную новость мне сообщила по телефону моя мама. Все последние годы он жил словно в клетке: восемь лет тюрьмы, потом ссылка, полное одиночество.
О Василии, моем друге и брате, написано много неправды. И сегодня его облик продолжают искажать. Пишут о его хулиганских поступках, о пьянстве… Если что-то и было из-за его импульсивного, порой несдержанного характера, то что тут поделать, он был отпрыском великого, сложного человека, которому далеко не всегда удавалось общаться с сыном, направлять его по правильному пути. Это трудно понять, но образ жизни Василия был таким, что часто в доме было нечего есть. Только несколько дней после получки: выпивка и закуска, полно друзей, а потом – шаром покати, надо было приходить со своей буханкой хлеба…
– Вам приходилось много общаться и со Светланой Аллилуевой. Вы, наверное, согласитесь, что у нее тоже трагическая судьба?
– Конечно, гибель матери, отношения с отцом, замужество и другие обстоятельства делают драматическими ее жизнь и судьбу. Об этом можно много говорить, но я хочу отослать вас к последнему письму Василия Сталина Молотову. Написано оно из тюремной камеры. Василий просит Вячеслава Михайловича задать арестованному Берии несколько вопросов, на которые он непременно должен ответить. Эти вопросы должны касаться судьбы Сталина и всей его семьи, без ответов на них многое останется неясным, непонятным. Василий пишет, что отцу многое было неясно, что, быть может, лучше всех отца знал только Киров, что трагедия семьи начинается с 1930 года. О каких событиях Молотов должен был узнать у Берии, неизвестно, но мне кажется, что многое давно уже кануло в вечность.
Да, сталинская семья, судьбы тех, кто был в родстве со Сталиным, оставили много загадок.
– В том числе и судьба вашего отца, Федора Сергеева, погибшего в самом расцвете сил. Но вот удивительно, его партийное имя – Артем многим и сегодня известно. А ведь после его гибели прошло 85 лет. Почему же он так популярен, как вы считаете?
– Мне приятно отметить, что вы правы: для Донбасса это имя культовое и сегодня. Знаменитый город Артемовск назван в его честь, и никакие попытки переименовать его обратно в Бахму не дали результата. На Дальнем Востоке есть тоже городок Артем. Именем отца названы улицы, монумент Сергееву возвышается даже над Святогорской лаврой. Товарищ Артем был любимым в народе большевиком, которому рабочие безоговорочно верили. Ленин прочил его в председатели Совнаркома.
В целом биография отца насыщена удивительными, прямо-таки фантастическими событиями: тюрьмы, эмиграция во Францию, знакомство с Лениным, жизнь в Австралии…
Будучи студентом МВТУ в Харькове, он знакомится с лидером партии кадетов Милюковым, великим нашим ученым Мечниковым, которые были восхищены взглядами, позицией Сергеева на самые важные проблемы тогдашнего бытия. Мечников прямо ему сказал: «Я живу и работаю в Париже, в институте Пастера, знайте, что двери моего дома всегда открыты для вас».
Неожиданный эпизод произошел исторически недавно, на XXIII съезде КПСС. На трибуне выступал Генеральный секретарь австралийской компартии, который заявил, что марксизм в Австралию привез русский, и у вас его звали Артем, а у нас Биг Том.
Отец был очень образованным человеком, знал несколько языков. Его смерть для матери стала непоправимым ударом, ей было только 25 лет, но замуж она больше не выходила.
– Я читал, что ваш отец знал чуть ли не всю партийно-культурно-военную элиту послеоктябрьской России. Его все уважали, с его мнением считались.
– Отец был секретарем Московского комитета партии и, конечно же, общался с сотнями людей. Он хорошо знал Василия Ивановича Чапаева, Котовского. Кстати, Котовский пришел к отцу с жалобой: «Почему “они” меня ненавидят и называют “бандитом?”» «Они» – это Михаил Тухачевский, Владимир Антонов-Овсеенко и Юрий Коцюбинский.
Общался с отцом и певец Вертинский. Но тут разговор особый. Вертинский, как я понял, чуть повзрослев, был не совсем тем, которого мы знаем. У него было два лица, одно для того, с кем он говорил, а другое – для всех остальных. Так считал сам отец. Эстет Вертинский интересовался… рабочим движением, полицейским сыском… Расспрашивал отца о том, о сем: где он бывал, с кем общался, проникался партийными делами…
Отец оставил о Вертинском интересные воспоминания. Но куда они запропастились, неизвестно. В доме было столько переворотов, катавасий, что не дай Бог. Записки же написаны рукой отца. Одна такая: «Артист Вертинский не нашего толка, но наш. Кормить». Эту записку я подарил жене Александра Николаевича. Отец говорил матери, что Вертинский только снаружи аристократ, а внутри он наш – демократ.
Сохранилась и вторая записка: «Артист Вертинский. Руководитель рабочей самодеятельности. Голоден и бос». Каменеву, председателю Моссовета (указан телефон), Реввоенсовету (указан телефон) были даны указания помочь артисту.
Сталин также был высокого мнения о Вертинском. Я сам слышал у Сталина дома разговоры об артисте. Нам всем: Василию, Светлане, он, конечно, нравился. Это было еще задолго до войны. Когда все слушали пластинки Лещенко, ходили на его концерты. А Сталин сказал, что такие, как Лещенко, есть, то есть их немало, но Вертинский один. Когда Сталину говорили, что он поет для буржуев, и это, дескать, нам не нужно, Сталин парировал, что кроме пролетариев и буржуазии есть и другие слои, другие слушатели, ценители искусства.
– А Троцкого помните?
– Конечно. Точно помню, мне было шесть лет, когда обратил на него внимание. И сразу же отрицательное впечатление – всегда злой, глаза пронзающие, холодные. Первое впечатление от встречи с ним – что это недобрый человек. Моя мать работала одно время директором туберкулезного санатория в Нальчике. Когда Троцкого и его последышей выметали, они приехали туда отдыхать. Целым эшелоном приехали, на автомобилях. Каждый день на охоту ездили. Люди говорили: «Троцкисты понаехали, пусть едут дальше…»
Отец и Троцкий были врагами. Окружение отца всегда остерегалось, чтобы они не подрались при встрече, потому что отец владел приемами борьбы, и он бы этого Иудушку уложил. Ведь отец выступал даже в японском цирке. Друзья его вспоминали, что он никогда просто так не махал руками, но делал точный удар, тычок в соответствующее место и разил противника. Так вот все вокруг и боялись, что товарищ Артем уложит Троцкого насмерть.
– Берия остался в памяти?
– Еще бы! Впечатление темное. Когда в дом к Сталину приходил большевик Лакоба, в доме становилось теплее и светлее. Когда же приходил Берия, он давил собой.
Но Берия – это колоссальная фигура, ничего не скажешь. Вся атомная энергия была на нем. Не зря Курчатов советовал, даже настаивал, чтобы вместо Молотова во главе атомного проекта поставили Берию. Кстати, вы, возможно, не знаете, что его сын Серго Лаврентьевич был очень талантливым конструктором. Он работал в Москве и Киеве, а когда ушел из проектов, это стало большой потерей для науки. Умер Серго недавно, ему было чуть за семьдесят.
– Артем Федорович, вопрос в лоб: как вы относитесь к репрессиям в стране, к страшному 1937 году? По-вашему, это правда или, может быть, преувеличение? Например, мой дед, врач по профессии и интернационалист по взглядам, член Коминтерна, сидел в Бутырке. Но, слава Богу, выжил.
– Репрессии я не отрицаю. Они были. Другое дело – почему они происходили, откуда возникло это явление. Я считаю, что они явились результатом колоссальной классовой борьбы, с одной стороны, и ошибочных воззрений на так называемую мировую революцию старых большевиков, марксистов и коминтерновцев, к которым, видимо, ваш дед и принадлежал – с другой стороны. Они считали, что главное – начать, а там, дескать, нас поддержит мировой пролетариат. Старая гвардия проповедовала уничтожение всего старого мира. А строить новый мир – помните, «мы наш, мы новый мир построим» – она не была идеологически подготовлена. Она уповала на Запад, на то, что вот-вот советскую власть поддержит весь мир.
Но Сталин быстро понял, что мировая революция нас не поддержит. Революционные движения в Венгрии, Германии и других странах были подавлены. Сталин понимал, что Европа еще не готова к каким-либо изменениям, она еще не созрела для них.
Я помню разговор между Василием Сталиным и отцом на эту тему. Василий был за то, чтобы начать обновление мира в других странах нашими руками, нашими лозунгами, нашим оружием. «Мы пойдем туда, для нас не будет границ», – пафосно провозглашал он. А Сталин ему отвечал: «А тебя туда зовут? Сначала надо сделать так, чтобы у нас в Советском Союзе все было хорошо, чтобы народу нравилась жизнь при новом строе. И когда наша жизнь, наши достижения, наша мораль будут приняты другими, понравятся им, тогда они, возможно, попросят нас изменить и их жизнь».
– Вы, конечно, член КПСС?
– Да, я вступил в партию безо всяких колебаний в 1940 году.
– Как вы относитесь к нынешнему руководителю КПРФ Зюганову?
– У меня о нем самое высокое мнение. Зюганов – фигура. Ведь у него тяжелейшие условия для работы, все против него и его действий. Но он и его партия держат удар, они в рейтинге партий – вторые. Зато самая отвратная, но и самая серьезная, умная, хотя и зловещая фигура – это Жириновский. Он и дальше будет отнимать голоса у коммунистов.
– Как вы стали генералом Советской армии?
– До того, как стать генералом, я семь лет занимал должность со штатной категорией генерал. То есть командир бригады. Была война, и я должен вам прямо сказать, что да, я рос на крови, на костях кого-то убитого, пропавшего без вести, взятого в плен. Гибнет командир дивизиона, и я, командир батареи, оказываюсь самым опытным из живых артиллеристов и наиболее подходящим комдивом. Я получил несколько ранений. Когда человек приходит из госпиталя в часть, к нему совсем другое отношение. Ведь он многое повидал, многое испытал. Так вот после очередного ранения и возвращения в строй меня назначают начальником штаба полка. Погибает заместитель командира полка, и я становлюсь на его место. Увозят в госпиталь едва живого командира полка, и я – командир полка.
Я рассказываю вам только то, что было со мной. Командиром полка я стал в 1943 году, 20 мая. Хотя в звании я был майором при полковничьей должности. Комдивом я стал в звании лейтенанта. Почему? Не осталось стреляющих офицеров. В артиллерии, как и в авиации, можно носить любые погоны, но либо ты пилот, либо не пилот.
Все время моего общения с приемным сыном Сталина Артемом Федоровичем Сергеевым, а говорили мы, наверное, полдня, я косился на стопку каких-то истертых блокнотов, лежавших на краю стола. Не выдержал, спросил: «Что это за тетради, уж не мемуары ли?» Сергеев ответил, что много лет записывал по памяти о событиях, какие случались с ним, о людях, с которыми пришлось встречаться, и, конечно же, об Иосифе Виссарионовиче Сталине – таком, каким его видел, знал и помнит сегодня. Я попросил привести какой-нибудь фрагмент из этих воспоминаний. Он согласился, и я подумал, что это будет вновь рассказ о Сталине, но Артем Федорович вспомнил войну…
– Мы ведем бой с немецким танком. Зажгли его. Как комбат, я полез посмотреть в кабину, что там и как. В эту минуту меня настигает пуля… Подстрелили. Вылезаю – и ползком по снегу с солдатом-радистом к нашему блиндажу. Знаете, что представлял собой этот блиндаж? Он был собран из… трупов наших и немецких солдат… Для тепла, для сохранности жизни. Замерзший труп пуля не пробивает. Этот ужас застыл во мне на всю жизнь. Такой была первая военная зима.
– А лучшее время жизни?
– Оно тоже связано с армией, с… войной – когда я был командиром полка, когда я чувствовал, что честно выполняю свой долг, как говорится, действую до отказа. Ведь сколько бы медальных дырок мне ни насверлили за войну, в мои ноги только в одном бою семь пуль загнали. А руку мне Бакулев оживил, в нее попала разрывная пуля.
Вроде бы странно – лучшее время жизни связано с адом? Но ведь я был тогда молодым и верил, что со Сталиным мы одолеем любого врага.
– Ваша жизнь сегодня – это, наверное, и посещение могил близких людей, тех, с кем вы оказывались в тяжелейших обстоятельствах?
– В день рождения отца и в день его смерти прихожу на могилу возле Кремлевской стены. И, конечно же, к захоронению Сталина приношу цветы. Недавно посетил могилу Надежды Сергеевны Аллилуевой на Новодевичьем кладбище.
2006Глава 2. Последний кремлевский нарком Николай Байбаков: «Я кашлянул, и Сталин обернулся»
Знаменитый «брежневский» дом на улице Щусева (ныне – Гранатный переулок). Хозяином квартиры на шестом этаже, в которой когда-то обитала дочь генсека Леонида Ильича, стал последний Председатель Верховного Совета Российской Федерации и активный участник противостояния властей в октябре 1993 года Руслан Хасбулатов, а двумя этажами выше проживал до своей смерти 31 августа 2008 года Николай Константинович Байбаков, последний сталинский нарком. Целых 22 года он возглавлял экономический штаб Советского Союза – Госплан. Оформив заслуженную пенсию в 1985 году, в течение долгих лет он продолжал приходить на работу в свой кабинет, расположенный в Институте проблем нефти и газа на улице Губкина. Байбаков консультировал Горбачева и Ельцина, встречался с Путиным. Его познания в области экономики, и особенно проблем нефти и газа, были колоссальны. Он – свидетель многих событий, происходивших в годы существования СССР. При этом человеке страна зарождалась, он пережил и ее конец.
В дом к Байбакову я попал по рекомендации знаменитой целительницы Джуны. По легенде, Николай Константинович рекомендовал ее Брежневу, и, говорят, она помогала Леониду Ильичу в конце жизни, что называется, держаться на ногах.
Когда в 2005 году я шел на улицу Щусева, думал, что нелегко будет общаться с человеком столь преклонного возраста (в то время ему было 94 года, скончался он три года спустя). Но я ошибался. Николай Константинович прекрасно мыслил, все помнил, охотно говорил о прошлом. Ему нисколько не помешала пара рюмок водки во время рассказов о великих личностях, с которыми его сводила судьба.
Благодарю внучку Николая Константиновича Машу и ее мужа Геннадия Филипповича, которые также участвовали в беседе и без помощи которых мое журналистское любопытство не было бы удовлетворено полностью.
Байбаков с легкостью вспоминает все в деталях. Иногда кажется, что описываемые Николаем Константиновичем события были не так давно. А ведь со времен правления Сталина прошло более полувека.
– В подробностях помню все свои встречи со Сталиным, – рассказывает мой собеседник. – Вот одна из них. Меня вызвали в Кремль. Поскребышев, помощник генералиссимуса, в приемной дал совет: «Немного подождите, Иосиф Виссарионович сейчас ищет на полках нужную ему книгу. Когда я скажу, войдете в кабинет и, если он не оглянется, тихонько кашляньте». Так я и сделал. Тихо прошагал в кабинет, уставленный книжными полками. Остановился, смотрю – стоит Сталин, спиной ко мне. Ну, думаю, подожду, кашлянуть всегда успею. Посмотрел, как он выглядит: одет в серый френч и мягкие сапожки. «Очень скромно для первого человека в государстве», – подумал я.
Представьте себе, я рассматриваю его, а он стоит на стремянке, что-то читает. Я кашлянул в кулак. Сталин неторопливо оглянулся и поставил книгу на место.
– А-а, Байбаков, молодой человек! – дружески протянул Сталин. И уже официальнее:
– Садитесь, товарищ Байбаков, пожалуйста.
Спустился со стремянки, пожал мне руку и, раскуривая трубку, начал ходить по кабинету.
– Товарищ Байбаков, мы назначили вас наркомом нефтяной промышленности. Вы знаете, что нефть – это душа военной техники?
– Товарищ Сталин, – ответил я, – это душа не только военной техники, но и всей экономики.
– Тем более, скажите, что нужно, – доверительным тоном, как бы подбадривая меня, продолжал Сталин, – для развития отрасли?
– Надо «второе Баку» осваивать, там мы открыли два крупнейших месторождения – ударили фонтаны. Это очень перспективные месторождения.
Сталин внимательно меня выслушал, прошел раз-другой вдоль стола и настойчиво повторил:
– А что нужно?
– Капиталовложения, товарищ Сталин, оборудование. А еще – знающие строители.
И я решился изложить все свои наиболее принципиальные соображения о путях развития нефтяной промышленности. Сталин слушал сосредоточенно.
– Хорошо, – наконец сказал он, – изложите все эти конкретные требования в письменной форме, я скажу Берии.
Он тут же поднял трубку телефона и позвонил Берии, который как первый заместитель Председателя Совнаркома курировал топливные отрасли.
– Лаврентий, вот здесь товарищ Байбаков, все, что он просит, ты дай ему.
Мои встречи со Сталиным были регулярными. Я даже побывал на очередном дне рождения Верховного на его даче. Там были все члены Политбюро, некоторые наркомы. Все проходило дружески, просто. Сталин особенно себя как виновника торжества не выпячивал. Говорили больше другие. Не помню, чтобы он на кого-то кричал, повышал голос. Ни в Кремле, ни на его даче я не видел пьяных людей. Пили, когда был хороший повод. Но гулянок, простите, бардака не было.
И вот под неусыпным оком Лаврентия Берии мне пришлось работать долгие годы. Он часто вызывал меня в Кремль или на Лубянку. Звонил всегда внезапно, редко здоровался и начинал разговор по обыкновению отрывистым вопросом: «Как дела, Байбаков?» Слово «товарищ» не употреблял. Произнося мою фамилию, ставил по-грузински, как и Сталин, ударение на втором слоге. Слушал внимательно, не перебивая, хотя потом вопросы задавал резко, порой крикливо и даже грубо, прибегая и к крепким выражениям, – это было в его стиле общения с подчиненными.
Характерен случай, памятный мне еще с довоенных лет. Заболев ангиной, с температурой под сорок я лежал дома. Вдруг звонок по «вертушке». Трубку взяла жена Клавдия Андреевна. Там кто-то отрывисто сквозь зубы назвался, но супруга не расслышала и сказала: «Кто это? Повторите». – «Дура, Берия говорит! – раздался в трубке разъяренный голос. – Мне нужен Байбаков. Пусть подойдет». – «Он болен, простудился, лежит с высокой температурой», – замялась Клавдия Андреевна. Берия в том же резком, раздраженном тоне прорычал: «Каждый дурак может простудиться, нужно галоши носить» (из всех членов Политбюро в то время, насколько помню, в галошах ходили Берия и Суслов). Когда я с трудом поднялся и взял трубку, Лаврентий Павлович, не справляясь о моем здоровье, категорично приказал вылететь вместе с наркомом внутренних дел Кругловым в Уфу, где на нефтеперерабатывающем заводе произошла серьезная авария. И уже через несколько часов, так и не сбив высокую температуру, я очутился в Уфе.
Конечно же, было до слез обидно за жену. Ну ладно, со мной можно так поступать, я – мужчина. Но зачем оскорблять женщину, ее-то в чем вина? «Вот знал бы об этом товарищ Сталин», – думал я.
Поскольку я занимался нефтью, мне пришлось всю войну думать о том, чтобы ее запасы для армии были всегда наготове. Наше командование знало, что за несколько дней до начала войны Геринг утвердил документ с кодовым названием «Зеленая папка» – директиву принятия всех мер к немедленному использованию природных богатств оккупированных областей, и в первую очередь нефти, в интересах Германии.
В один из жарких июльских дней меня вызвал в Кремль Сталин. Пожал руку, спокойно взглянул мне в глаза и негромко заговорил: «Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ. Он объявил, что если захватит нефть Кавказа, то выиграет войну. Нужно сделать все, чтобы ни одна капля нефти не досталась врагу».
И жестко добавил:
– Имейте в виду, если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем…
До сих пор помню его голос, глуховатый тембр, твердый кавказский акцент.
Снова прошелся вдоль стола и добавил:
– Но если вы уничтожите промыслы преждевременно, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем.
Я молчал, потом, набравшись духу, сказал:
– Но вы мне не оставляете выбора, товарищ Сталин.
Он остановился возле меня, медленно поднял руку и слегка постучал по виску:
– Здесь выбор, товарищ Байбаков. Летите. И с Буденным думайте, решайте на месте.
Я понимал, что речь шла о слишком высокой цене возможной ошибки. Военное время сурово, решалась судьба страны, народа. И нефть должна была работать на нашу победу. Так я рассуждал, выйдя из кабинета человека в сапогах, с то и дело гаснущей трубкой в руке…
2005Глава 3. Жена Н. И. Бухарина Анна Бухарина-Ларина: «В шапке Сталина меня вели на расстрел…»
Осенью 1987 года Евгений Евтушенко рассказал мне о нелегкой судьбе художника Юрия Ларина.
– Между прочим, сын Бухарина, – добавил он многозначительно. – Его мать, Анна Михайловна, – вдова Николая Ивановича Бухарина.
– Разве она жива?
– Жива…
* * *
…Летом восемнадцатого года Н. И. Бухарин находился в Берлине. Его командировали для подготовки документов, связанных с мирным Брестским договором. Однажды он услышал об удивительной гадалке, предсказывающей судьбу, и любопытства ради решил посетить обитавшую на окраине города предсказательницу. То, что наворожила ему хиромантка, было поразительно:
– Вы будете казнены в своей стране.
Бухарин оторопел, ему показалось, что он ослышался, переспросил:
– Вы считаете, что Советская власть погибнет?
– При какой власти погибнете – сказать не могу, но обязательно в России…
* * *
А. М. Ларина росла в семье профессиональных революционеров, после Октября ставших «у руля» государства. Поэтому вся ее жизнь проходила в сложной общественной атмосфере той поры: политические дискуссии, споры, распри и, наконец, террор. Имя отца Анны Михайловны сегодня забыто, хотя похоронен он у Кремлевской стены.
Анна Михайловна помнит себя очень рано. На четвертом году жизни она стала настойчиво интересоваться, где ее родители, – она видела их крайне редко. Ей запомнился ворчливый ответ деда: «Твои родители – социал-демократы, они предпочитают сидеть по тюрьмам, бегать от ареста за границу, а не находиться возле тебя и варить тебе кашу». Девочка не поняла, что такое социал-демократы, но тюрьма была недалеко от дома, и дед говорил ей, что там сидят воры и бандиты. Подавленная, Аня больше не решалась спрашивать о родителях, которых увидела после Февральской революции, когда они вернулись из эмиграции.
* * *
Из воспоминаний Анны Михайловны о Бухарине.
«…Момент знакомства с Бухариным мне хорошо запомнился. В тот день мать повела меня в Художественный театр смотреть “Синюю птицу” Метерлинка. Весь день я находилась под впечатлением от увиденного, а когда легла спать, сновидение повторяло спектакль. И вдруг кто-то дернул меня за нос. Я испугалась, ведь Кот на сцене был большой, в человеческий рост, и крикнула: “Уходи, Кот!” Сквозь сон услышала слова матери: “Николай Иванович, что вы делаете, зачем вы будите ребенка!” Но я уже проснулась, и передо мной все отчетливее стало вырисовываться лицо Николая Ивановича. В тот момент я и поймала свою “синюю птицу”, символизирующую стремление к счастью и радости, не сказочно-фантастическую, а земную, за которую заплатила высокую цену».
«…Из всех многочисленных друзей отца моим любимцем был Бухарин. В детстве меня привлекали в нем неуемная жизнерадостность, озорство, страстная любовь к природе и знание ее (он был неплохим ботаником, великолепным орнитологом), а также его увлечение живописью».
«…Я не воспринимала его в то время взрослым человеком. Это может показаться смешным и нелепым, тем не менее, это так… Если всех близких товарищей отца я называла по имени и отчеству и обращалась к ним на “вы”, то Николай Иванович такой чести удостоен не был. Я называла его Николаша и обращалась только на “ты”, чем смешила и его самого, и своих родителей, тщетно пытавшихся исправить мое фамильярное отношение к Бухарину, пока они к этому ни привыкли».
«…Одна из первых встреч с Николаем Ивановичем связана с воспоминанием о Ленине. Однажды в кабинет отца, где, как обычно, было полно народу, пришел Ленин. Для меня в ту пору он был равным среди равных. Помню его смутно. Но один забавный эпизод запал в память на всю жизнь. Когда я вошла в кабинет отца, только-только ушел Бухарин. Речь, по-видимому, шла о нем, я не могла понять всего, что говорилось Лениным, но запомнила одну фразу: “Бухарин – золотое дитя революции”. Это высказывание Ленина о Бухарине стало потом хорошо известно в партийных кругах и воспринималось как образное выражение. Я же пришла от сказанного в полное замешательство, так как все поняла буквально и заявила Ленину протест. “Неправда, – сказала я, – Бухарин не из золота сделан, он же живой!” – “Конечно, живой, – ответил Ленин, – я так выразился потому, что он рыжий”».
«…21 января 1924 года поздним вечером из Горок позвонил Николай Иванович и сообщил, что жизнь Ленина оборвалась. Я еще не спала и видела, как две слезы, только две, катились из скорбных глаз отца по его мертвенно-бледным щекам. День похорон – 27 января – совпал с моим днем рождения. Отец сказал: теперь твой день рождения 27 января отменяется, этот день – день траура навечно. Твой день рождения мы будем отмечать 27 мая, когда пробуждается природа и все цветет.
Самое примечательное заключается в том, что отец поехал со мной в загс на Петровку, чтобы заменить метрическое свидетельство. Изумленный его просьбой сотрудник загса долго упирался, советуя день рождения отмечать 27 мая, но документы не менять. Наконец сдался. И я была зарегистрирована вторично спустя десять лет после моего рождения. По этому метрическому свидетельству мне выдали паспорт, в котором и по сей день 27 мая значится датой моего рождения».
«…Когда Николай Иванович уходил от нас, я очень огорчалась и все чаще сама забегала к нему. Много раз я заставала Сталина у Николая Ивановича. Однажды, это было году в двадцать пятом, я написала стихотворное послание, которое заканчивалось словами: “Видеть я тебя хочу. Без тебя всегда грущу”. Показала стихи отцу, он сказал: “Прекрасно! Раз написала, пойди и отнеси их своему Николаше”. Но пойти к нему с такими стихами я постеснялась. Отец предложил отнести стихи в конверте, на котором написал “От Ларина”. Я приняла решение: пойти, позвонить в дверь, отдать конверт и тотчас же убежать. Но получилось не так. Только я спустилась по лестнице с третьего этажа на второй, как неожиданно встретила Сталина. Для меня было ясно, что он идет к Бухарину. Недолго думая, я попросила его передать письмо, и Сталин согласился. Так, через Сталина (какая же зловещая ирония судьбы), я передала Бухарину свое первое детское объяснение в любви».
«…1927 год был для меня очень печальным. По настоянию Сталина Бухарин переехал в Кремль. Пройти туда без пропуска было нельзя. Хотя впоследствии Николай Иванович оформил для меня постоянный пропуск, застать его в ту пору дома было почти невозможно. Я специально изменила свой маршрут в школу, шла более длинным путем, лишь бы пройти мимо здания Коминтерна – оно находилось против Манежа, возле Троицких ворот, – в надежде встретить Николая Ивановича. Не раз мне везло, и я, радостная, устремлялась к нему».
«…Случалось так, что Николай Иванович приезжал к нам на дачу в Серебряный Бор. Мать немного посмеивалась над нашим увлечением, не принимая его всерьез: отец молчал и в наши отношения не вмешивался.
Осенью и зимой 1930-го и в начале 1931 года свободное время мы старались проводить вместе. Бывали в театрах, на художественных выставках. Я любила часы общения с ним в его кремлевском кабинете. Николай Иванович любил читать вслух…»
На мои расспросы о том, каким Бухарин был в быту, в домашней обстановке, Анна Михайловна рассказала такой случай.
– Однажды Сталин, обсуждая поездку в Париж, заметил Николаю Ивановичу: «Костюм у тебя, Николай, поношенный, так ехать неудобно, надо быть одетым…»
В тот же день раздался телефонный звонок портного из Наркоминдела, который просил как можно скорее снять с клиента мерку для пошива. Николай Иванович попросил сшить костюм без мерки и пытался объяснить портному, как сильно занят. «Как это – без мерки, – удивился портной, – поверьте моему опыту, товарищ Бухарин, еще ни один портной без мерки костюм не шил». – «Сшейте по старому костюму», – предложил Николай Иванович. Но он забыл, что такой выход из положения был невозможен, прежде всего, потому, что единственный старый костюм был на нем. Отдав костюм портному, главный редактор газеты мог явиться на работу только в нижнем белье. Минуту для посещения портняжной Бухарин нашел. Новый костюм ему сшили, он съездил в нем в Париж, в нем же впоследствии был арестован.
Через два месяца после ареста мужа Анна Михайловна с сыном, отцом Николая Ивановича, его первой прикованной к постели женой Надеждой Михайловной (его настоящей подругой, также позднее репрессированной за то, что она написала письмо Сталину о нежелании быть членом партии в то время, когда Бухарину предъявляют чудовищные необоснованные обвинения, и отослала ему лично свой партийный билет) были переселены из Кремля в Дом правительства у Каменного моста (Дом на набережной), к тому времени уже наполовину опустошенный. Прислали счет за квартиру. Платить было нечем, и, поскольку дом находился в ведении ЦИКа, Анна Михайловна написала М. И. Калинину маленькую записочку: «Михаил Иванович! Фашистская разведка не обеспечила материально своего наймита Николая Ивановича Бухарина – платить за квартиру не имею возможности, посылаю Вам неоплаченный счет».
…По моей просьбе Анна Михайловна рассказала о последних месяцах и днях ее жизни с Н. И. Бухариным, когда Сталин во всей полноте показал деспотическую сущность своего характера. События развивались следующим образом.
Со слов Анны Михайловны, последние месяцы жизни Бухарина до ареста – это время, когда подготовка его физического уничтожения стала явной, и отсчет тем дням начался с процесса Зиновьева и Каменева, то есть с августа 1936 года. Но Николай Иванович жил обычной для него жизнью: работал в редакции «Известий», в Академии наук СССР, над новой, так называемой Сталинской, Конституцией.
Родился сын, и сорокасемилетний отец пребывал в радостном возбуждении – он был счастлив. Через месяц после рождения семья уехала на Сходню, где находились дачи «Известий». В начале августа Николай Иванович получил отпуск и отправился на Памир осуществить свою давнюю мечту – поохотиться в горах. Сопровождал его в поездке секретарь Семен Ляндрес (кстати, отец писателя Юлиана Семенова).
На Памире Бухарин забрался в такие дебри, где не было ни почтовой, ни телеграфной связи. 19 августа в газетах появились сообщения о начале процесса так называемого троцкистского объединенного центра, о том, что многие его участники дали показания против Бухарина. Вскоре появилось заявление Прокуратуры о начале следствия по делу упомянутых на процессе лиц, в том числе и Николая Ивановича. На собраниях выносились гневные резолюции: «Посадить на скамью подсудимых…» Опубликовали извещение о самоубийстве Томского.
От Бухарина вестей не было, но вот, наконец, он прилетает самолетом из Ташкента, случайно узнав о нависшей над ним смертельной опасности. Волновался, что арест произойдет прямо в аэропорту. Увидев жену, воскликнул: «Если бы я мог предвидеть подобное, убежал бы от тебя на пушечный выстрел». – «Куда поедем?» – спросил подавленный шофер. Бухарин лихорадочно соображал, откуда ему позвонить Сталину. «Будь что будет!» – решил он и поехал на квартиру в Кремль. Дежурный охраны, как ни в чем не бывало, отдал честь члену ЦИКа.
Лихорадочный звонок, уже из своего кабинета, Сталину. Незнакомый голос ответил: «Иосиф Виссарионович в Сочи». «В такое время в Сочи?» – удивился Бухарин.
Сидел целыми днями в своем рабочем кабинете, ожидая звонка.
В начале сентября пригласили в ЦК для разговора с Кагановичем. «Почему с Кагановичем?» – недоумевал Бухарин. Вновь решил позвонить Сталину, последовал тот же ответ: «Иосиф Виссарионович в Сочи». Вернувшись из ЦК, рассказал невообразимое: ему устроили очную ставку с Сокольниковым, другом его юности, и тот показывал против него. 10 сентября 1936 года в газетах появилось сообщение Прокуратуры СССР, в котором говорилось о прекращении следствия по делу Бухарина и Рыкова, – тактический шаг Сталина, дабы показать «объективность» следствия.
Николай Иванович пытался не бездействовать: читал, делал выписки из немецких книг, работал над большой статьей об идеологии фашизма. К концу ноября нервное напряжение стало столь велико, что работать больше он не мог. Метался по квартире, как загнанный зверь. Заглядывал в «Известия» – не подписывают ли газету фамилией другого редактора. Но подпись была та же: «Ответственный редактор Н. Бухарин». Он недоуменно пожимал плечами. В первых числах декабря по телефону оповестили о созыве Пленума ЦК. О повестке дня сказано ничего не было. Придя с Пленума домой, Бухарин закричал: «Познакомься! Твой покорный слуга – предатель, террорист-заговорщик!»
Новый нарком НКВД Ежов со страшной силой обрушился на Бухарина, обвиняя его в организации заговора и в причастности к убийству Кирова. «Молчать! – закричал Бухарин прямо в зале, когда услышал столь чудовищное и абсурдное обвинение: нервы его не выдержали. – Молчать!» Все обернулись, но никто не произнес ни слова. Сталин сказал, что не надо, дескать, торопиться с решением, а следствие – продолжить. Бухарин подошел к Сталину и сказал, что надо бы проверить работу НКВД, разве можно верить клеветническим показаниям. Сталин ответил, что прошлые заслуги Бухарина никто не отнимает, затем отошел в сторону, не желая продолжать разговор…
Три последующих мучительных месяца Николай Иванович провел главным образом в небольшой комнатке своей квартиры, в бывшей спальне Сталина (по его просьбе, Бухарин поменялся квартирой со Сталиным после того, как трагически погибла Надежда Аллилуева). Анна Михайловна почти постоянно находилась возле мужа, за исключением тех минут, когда выходила к ребенку. Однажды она увидела пистолет в руке Николая Ивановича, закричала. «Не волнуйся, я не смог, – сказал Николай Иванович. – Как подумал, что ты увидишь меня бездыханного…» Он встал, снял с полки том Верхарна, прочел: «То кровь от смертных мук распятых вечеров пурпурностью зари с небес сочится дальних… Сочится в топь болот кровь вечеров печальных, кровь тихих вечеров, и в глади вод зеркальных везде алеет кровь распятых вечеров…»
Заточенный в квартире, Бухарин похудел, постарел, рыжая борода поседела. Снова бесполезное объяснение со Сталиным. Все шло к развязке давно уже продуманного приговора, хотя в мгновения относительного просветления Николай Иванович надеялся на жизнь. «А что, если вышлют к чертям на рога, – поедешь со мной, Анюта?»
Снова звонок в дверь: извещение о созыве Пленума ЦК ВКП(б). Это уже «февральско-мартовского». Повестка дня: вопрос о Бухарине и Рыкове. Бухарин решает не идти на Пленум и объявляет голодовку. Письмо в Политбюро: «В протест против неслыханных обвинений объявляю смертельную голодовку…» Звонок в дверь, трое мужчин, приказ о выселении из Кремля. Звонок от Сталина. «Что у тебя, Николай?» – «Вот пришли из Кремля выселять…» – «А ты пошли их к чертовой матери». Пришедшие слышат разговор и разбегаются к «чертовой матери».
16 февраля Бухарин простился с отцом, первой своей женой Надеждой Михайловной, ребенком и начал голодовку. Побледнел, осунулся, синяки под глазами. Попросил глоток воды. Анна Михайловна выжимает апельсин, всего каплю. Стакан летит в угол: «Ты вынуждаешь меня обманывать Пленум, я партию обманывать не стану».
Из-за похорон Орджоникидзе Пленум откладывается. Потом новая повестка дня с вопросом об антипартийном поведении Н. Бухарина в связи с объявленной голодовкой. Бухарин принимает решение: на Пленум идти, голодовку не прекращать. Лишь двое решаются пожать ему руку – Уборевич и Акулов, секретарь ЦИКа.
Сталин: «Кому ты голодовку объявил, Николай, ЦК партии? Проси прощения у Пленума…» – «Зачем это надо, если вы собираетесь меня исключить из партии?» – «Никто тебя из партии исключать не будет». Бухарин в очередной раз поверил Кобе и попросил прощения у Пленума ЦК.
– Наступил роковой день 27 февраля 1937 года, – вспоминает Анна Михайловна. – Вечером позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сообщил, что Бухарину надо явиться на Пленум.
Непередаваем трагический момент страшного расставания, не описать душевную боль, что и по сей день живет в душе. Николай Иванович упал передо мной на колени и со слезами на глазах просил прощения за мою загубленную жизнь. Просил воспитать сына большевиком. «Обязательно большевиком», – повторил он. Просил бороться за его оправдание и не забыть ни единой строки письма-завещания.
– Ситуация изменится, обязательно изменится, – твердил он, – ты молода, ты доживешь. Клянись, что ты сумеешь сохранить в памяти мое письмо!
Я поклялась. Он поднялся с пола, обнял, поцеловал меня и произнес дрожащим голосом:
– Смотри, не обозлись, Анютка, в истории бывают досадные опечатки, но правда восторжествует!
От волнения меня охватил внутренний озноб, и я почувствовала, что губы мои дрожат. Мы понимали, что расстаемся навсегда. Николай Иванович надел кожаную куртку, шапку-ушанку и направился к двери.
– Смотри не налги на себя, Николай! – только это смогла я сказать ему на прощание.
Письмо «Будущему поколению руководителей партии» было написано Бухариным за несколько дней до ареста. Надежду на оправдание он окончательно потерял и принял решение заявить будущим потомкам о своей непричастности к преступлениям и просить о посмертном восстановлении в партии. В то время мне было 23 года, и Николай Иванович был убежден, что я доживу до такого времени, когда смогу передать письмо в ЦК. Будучи уверен, что письмо его будет отобрано при обыске, и опасаясь, что в случае его обнаружения я буду подвергнута репрессиям, Николай Иванович просил выучить письмо наизусть. Много раз он читал мне свое письмо, много раз вслед за ним я повторяла написанные им строки. Наконец, убедившись, что содержание письма я запомнила твердо и окончательно, он уничтожил рукописный текст.
После ареста Николая Ивановича я сделала фотографию сына в надежде передать ее в тюрьму. «Мой ребенок», – чуя недоброе, ответила я на вопрос надзирателя. «Ах ты, сука, – заорал он, – щенка бухаринского с собой таскаешь». На моих глазах он разорвал фотографию, плюнул на нее и затоптал грязными сапогами.
– Вы заговорили о сыне… Расскажите о Юрии Николаевиче.
– Расставшись с сыном, когда ему был год, я увидела его через много лет – двадцатилетним юношей, летом 1956 года, когда он приехал ко мне в Сибирь, в поселок Тисуль Кемеровской области – последнее место моей ссылки. Поселок Тисуль отстоял от ближайшей железнодорожной станции Тяжин километров на 40–45. Регулярный транспорт в Тисуль не ходил. Добиралась на мотоцикле.
Как трудно мне сейчас передать свое душевное состояние! Я ехала к сыну и в то же время к незнакомому юноше. Что он представляет собой, воспитанник детского дома? Найдем ли мы общий язык? Сможет ли он понять меня? Наконец, он спросит меня, кто его отец. Я металась в сомнениях – надо ли раскрывать тайну страшной трагедии, не будет ли это слишком обременительно для юной души? Конечно, мы встретились после XX съезда партии, и я запаслась вырезками из газет на актуальную тему «культа личности Сталина». В газетном ларьке купила «Письмо к съезду», завещание Ленина, изданное брошюрой.
Увидев издали приближающийся поезд, я, завернув в привокзальный палисадник, свалилась в обморок. Поезд оказался не тот, а к следующему, на котором приехал Юра, я уже отошла. Взглядом я старалась охватить весь состав одновременно, боясь, что пропущу Юру. Ведь я видела только его детские фотографии. И вдруг неожиданно я почувствовала объятия и поцелуи. Сын подбежал ко мне сбоку, я не заметила этого. Узнать его можно было только по глазам – такие же лучистые, как в младенчестве. Каким худющим он был, трудно рассказать, брюки еле держались на костлявых бедрах, каждое ребрышко можно было пересчитать. Я вглядывалась в его лицо, искала знакомые до боли родные черты. Как только он заговорил, у меня защемило сердце: тембр голоса, жестикуляция, выражение глаз – точно отцовские…
– Вот как бывает, Юрочка!.. Вот как бывает!.. – иных слов в первое мгновение я найти не могла.
– Теперь я понимаю, в кого я такой худой, – сказал он.
К вечеру мы добрались до Тисуля. Следующий день прошел спокойно. Юра был веселым, пел песенки, бегал в огород за гороховыми стручками. То был счастливый, удивительно легкий, светлый день. Будто камень с души свалился. Я познавала сына, расспрашивала его обо всем на свете. Юра был студентом Новочеркасского гидромелиоративного института, но мне хотелось знать, не интересуется ли он естественными науками или математикой. Рассказала, что дед его, Иван Гаврилович, был математиком и когда-то преподавал в женской гимназии. Об увлечении отца естественными науками умолчала, не хотела напоминать о нем. В конце концов, сын стал художником, и я думаю, что это увлечение перешло к нему от отца. Гены есть гены.
На следующий день Юра все же спросил:
– Мама, скажи, кто мой отец?
– Ну, как ты думаешь, Юрочка, кто твой отец?
– Должно быть, профессор какой-нибудь. – Его ответ меня рассмешил.
– Не профессор, а академик. Но главное, – продолжала я, – не то, что он академик, а то, что он известный политический деятель.
– Назови его фамилию.
– Фамилию я назову тебе завтра. – Я все оттягивала момент признания, все думала, назову фамилию, а он мне в ответ: «Так это тот самый – враг народа Бухарин»… Как страшно мне было в те минуты.
– Если ты не хочешь сейчас назвать фамилию отца, то я попробую сам, а ты, если я назову правильно, подтвердишь. Хорошо? – Я согласилась.
– Предполагаю, что мой отец Бухарин.
Я с изумлением посмотрела на сына:
– Как же ты догадался?
– Я действовал методом исключения. Ты сказала, что мой дед Иван Гаврилович, что мой отец был видным политическим деятелем. И я стал думать, кто из видных политических деятелей был «Ивановичем», и пришел к выводу, что это Бухарин, Николай Иванович.
Меня поразило, что Юра знал имена и отчества всех видных политических деятелей, соратников Ленина… Но я и по сей день не исключаю того, что, быть может, детская память ребенка запечатлела фамилию отца.
Прощаясь с сыном, я просила его не разглашать своей действительной фамилии, опасаясь тех или иных трудностей в его дальнейшей жизни. В детском доме сыну выдали паспорт, в котором указали фамилию моих родственников, от которых он был взят в детдом. Так он стал Гусманом Юрием Борисовичем, хотя формального усыновления не было. Однако тайну своего происхождения хранить ему было трудно. Незадолго до окончания института, перед присвоением офицерского звания, Юре предстояло заполнить подробнейшую анкету. Умолчание об отце он рассматривал как умышленное укрывательство, и это его угнетало. В письме ко мне он просил разрешения на разглашение, и я отправила телеграмму, назвав фамилию, имя и отчество его отца.
– С кем свела вас судьба за долгие годы пребывания в лагерях и тюрьмах? Что больше всего поразило?
– Судьба свела меня с матерью, сыном которой гордилась вся страна, а уж мать и подавно, может, неосознанной внутренней гордостью, но не могла не гордиться. Зато и проклинала страна его дружно. Я не была матерью такого сына, я была женой такого всенародно проклятого мужа.
Я встретилась с семьей Тухачевского в самые трагические для нее дни, в поезде Москва – Астрахань 11 июня 1937 года по пути в ссылку. Меня довез на машине до вокзала и посадил в вагон, плацкартный, зато бесплатный, сотрудник НКВД, нарочито вежливо распрощавшись со мной и будто в насмешку пожелав всего хорошего. По дороге на станциях выходили из вагонов пассажиры и хватали газеты с сенсационными известиями. В них сообщалось, что «Военная коллегия Верховного Суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрела… что все обвиняемые признали себя виновными…». В тот день погибли крупнейшие военачальники. В их числе и маршал Тухачевский.
Я заглянула в газету через плечо соседа, чтобы своими глазами прочесть сообщение, но буквы запрыгали, как только я прочитала: приговор приведен в исполнение.
Был теплый день, я смотрела в окно и незаметно утирала слезы. Через окно виднелись обширные степи, зеленые перелески и ясное небо – чистое-чистое. Поезд мчал меня в незнакомую Астрахань, с каждой минутой отдаляя от родной Москвы, от годовалого сына, которого мне пришлось увидеть через 19 лет. Я чувствовала себя одинокой среди посторонних людей, не понимавших моей трагедии, в свои 23 года заброшенная в чужие края, как занесенная ветром песчинка.
И вдруг у противоположного окна я заметила двух женщин – старуху и женщину лет 35, а с ними девочку-подростка. Они также внимательно прислушивались к читавшим газету, к тому, как реагируют на это окружающие. Черты лица старухи мне кого-то напоминали. Меня словно магнитом потянуло к ним. Я сорвалась с места и попросила пассажира, сидящего против них, поменяться со мной местом. Я понимала, что в такой обстановке они не назовут себя, прежде чем я не объясню им, кто я. Но как сказать? Я же могла ошибиться в своих предположениях, что они свои – теперь уже больше, чем родные.
Я подошла вплотную к молодой женщине и очень тихо сказала: «Я жена Николая Ивановича». Сначала я решила не называть фамилии; имя и отчество Бухарина были так же популярны, как и фамилия. Ну а уж если не поймет, решила назвать и фамилию. Но ответ последовал мгновенно: «А я – Михаила Николаевича».
Так я познакомилась с семьей Тухачевского: его матерью Маврой Петровной, женой Ниной Евгеньевной, дочерью Светланой.
Тогда мать маршала еще не знала, даже, может, никогда и не узнала, что еще два ее сына – Александр и Николай – тоже расстреляны. Не знала она и того, что дочери ее тоже арестованы и осуждены на 8 лет лагерей.
Умерла Мавра Петровна в ссылке.
Эта встреча – одна из многих, оставивших память во мне на всю жизнь. А что поразило? Поражало все…
…Двое с револьверами в кобуре вывели меня из помещения на дорогу, ведущую к оврагу. Это было под вечер, солнце на три четверти упало за горизонт. В мглистой дали предвечерних сумерек виднелся тот зловещий овраг, о котором я уже знала, с редкими березками, забрызганными человеческой кровью. Я сделала несколько шагов, и вдруг во мне наступило ощущение того, что я полностью отрешена от жизни. То был конец – конец восприятия реальности. Охватившее меня оцепенение парализовало мышление. Будто я катилась вниз, в пропасть, как бессмысленная каменная глыба после горного обвала. Неожиданно до меня донесся шум, нарушивший гробовую тишину нашего шествия, поначалу воспринятый мной как раздражающее гудение сирены. Потом я различила человеческий голос, а затем стала понимать доносимые до меня слова. Мы остановились у самого края оврага. Я обернулась, вдали бежал человек в светлом полушубке. «Назад! Назад!» – кричал он…
Стоял лютый декабрьский мороз. Я продрогла. На мне была старая, уже изношенная шубка, высокие фетровые валенки Николая Ивановича, с загнутыми голенищами, старые, прохудившиеся, в ноги проникал снег. На голове теплая пыжиковая шапка-ушанка, принадлежавшая когда-то Сталину, – мое случайное «наследство». В конце 1929 года, после окончания конференции аграрников-марксистов мой отец (а возможно, и Сталин) из двух пыжиковых шапок, висящих на вешалке рядом, по ошибке надел не свою. Шапки отличались друг от друга лишь цветом подкладки. По обоюдному согласию шапки вновь не были обменены. В единственной посылке, которую до своего ареста успела прислать мне мать, оказалась и эта шапка. Так, по иронии судьбы, шапка Сталина оказалась на мне, когда меня вели на расстрел. В шапке Сталина я провела весь срок заключения…
Из интервью с А. М. Бухариной-Лариной, 1987* * *
После моей публикации, посвященной трагической судьбе Николая Ивановича Бухарина и его жены Анны Михайловны Лариной, «Он хотел переделать жизнь, потому что ее любил» («Огонек», ноябрь 1987) я получил огромное количество писем со всего света. В основном писали те, кто так же, как Анна Михайловна, побывали в аду сталинских лагерей, кому хотелось поделиться пережитым. Многие письма нельзя было читать без содрогания. К сожалению, из-за большой занятости я не успевал разбирать почту и прочитывать все-все-все письма (за что сегодня, спустя много лет, приношу свои искренние извинения авторам, кого-то из них, возможно, уже нет на свете).
Часть писем, адресованных Анне Михайловне, я ей передал, некоторые мы опубликовали на страницах «Огонька». Но какие-то пролежали в моем архиве непрочитанными четверть века.
Привожу два письма из «огоньковской» почты той давней поры.
Моя дорогая Анна Михайловна!
Несколько раз видела Вас по телевидению. Безгранично рада, что наступил тот день, когда правда восторжествовала. Но кто может вернуть жизнь наших мужей?
Вам пишет жена бывшего Постоянного представителя болгарского комсомола в КИМе Киранова Ивана – Валкана (Весса) Тошева. Мы были вместе в 72-й камере на Лубянке. Нас было 10 человек: Вы, Галина Михайловна Юренева (жена посла), Ольга Михайлова-Буденная, Дорочка – домработница Орджоникидзе и др.
О Вас знаю все, все. Помню Вас красивую, с длинными, черными волосами, стройную. Помню рассказы о Ваших допросах и слезы о маленьком сыне Юре и пр. Я встретила Вашу мать в Карлаге и рассказала ей все, что знала. Имя не помню, отчество – Григорьевна.
Меня на Лубянке держали на конвейере 6 суток, ОСО приговорило в 8 годам. В лагере судили 2 раза по 58-10-II к высшей мере. В тюремном изоляторе в Карлаге – с. Долинка я просидела с 19.12.1939-го по 24.4.1944 г. в одиночной камере по доносу моей бригадирши за то, что говорила, что невиновна. «Советская власть невиновных не судит». Заменили 10 годами лагерей, не засчитав мне просиженные под следствием 4 года.
После окончания срока ОСО добавило еще 5 лет и еще ссылку бессрочную в Красноярский край, итого 18 лет. Вернулась 5.10.1955 г. Уехала в Болгарию. Вот вся моя жизнь. Сейчас мне 74 года, больная, но морально воскресшая. Читала и вырезала «Правду» от 20.10. с. г.
С глубоким уважением и поцелуем, Весса Тодоровна Тошева 25.11.1988Для справки:
Коммунистический Интернационал молодежи (КИМ) – международная молодежная организация (1919–1943), секция Коминтерна.
Киранов Иван Кирович (1915, Болгария – 1934, Москва) – болгарин, член Болгарской рабочей партии. Арестован и расстрелян в 1934 году в Москве. Реабилитирован.
К. К. Юренев – советский дипломат, перед арестом (1937) посол СССР в Германии. Расстрелян в 1938 году. Реабилитирован.
Ольга Михайлова-Буденная – жена С. М. Буденного, певица, артистка Большого театра. Арестована в 1937 году. Освобождена в 1955-м. Реабилитирована.
Особое совещание (ОСО) – внесудебный орган, имевший полномочия рассматривать уголовные дела по обвинениям в общественно опасных преступлениях и выносить приговоры.
Глубокоуважаемая Анна Михайловна!
С глубоким волнением я прочитал в журнале «Огонек» № 48 о Вашем супруге и друге Бухарине Николае Ивановиче, который был незаконно репрессирован Сталиным (чтобы земля ему стала адом) и его тенями.
…По национальности я ингуш. Наш народ тоже пострадал от кровавой руки Сталина. В 1944 г. весь чечено-ингушский народ был репрессирован и сослан в Казахстан. Мне, когда меня сослали как «врага народа», было три года. Таких малолеток было очень много: калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкары. Удивляюсь, какую опасность могли составить дети и женщины?
До сих пор не могу забыть то, что я увидел в детстве в г. Акмолинске, Каз. ССР. Там вплоть до 1953 года был страшный АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины). За колючую проволоку Сталиным и его кликой были брошены безвинные жены военачальников и партработников из когорты В. И. Ленина.
…Я верю, что после реабилитации невинно казненных и живых состоится суд народа над Сталиным и его кликой, и он воздаст им за все.
С глубоким уважением, Зелимхан Ахметович Дотмурзиев ЧИ АССР, г. Маллгобек 26.02.88Еще одно письмо в журнал «Огонек»:
Огромное чувство волнения, горечи, боли непреходящей заставило меня написать вам, чтобы найти ответ на мучающий меня вопрос.
Мой муж В. А. Левин, член партии с 1915 года. Не буду перечислять его заслуг и занимаемых им постов. Это не важно. Важно то, что он был уничтожен вместе со всеми, кто являлся гордостью нашей партии.
Как член семьи изменника родины была репрессирована и я. Решение ХХ съезда партии о необходимости памятника всем погибшим в те страшные годы я встретила тогда с чувством большого удовлетворения и ждала его, боясь, что не доживу.
Но вот начались сомнения: а нужно ли это?
Попытаюсь объяснить, почему возникли эти сомнения. В «Огоньке» появилась публикация И. Жукова «Смерть героя», в которой было приведено сообщение Главной военной прокуратуры о составе суда над Тухачевским и др. Среди прочих членов суда названы имена Блюхера и Дыбенко, которые позже были уничтожены, как и многие другие.
Но, знаете, как часто бывает, вдруг какая-то мелочь высвечивает события совершенно по-особому. Мне вдруг стало страшно, ведь работала огромная, прекрасно отлаженная машина по уничтожению людей. Уничтожали их с 1934-го по 1953 год. Можете себе представить, сколько раз за эти годы менялся состав исполнителей этой воли «сверхчеловеков»? Меня еще не успели отправить в лагерь, а в моей камере появилась жена моего следователя. Таким образом, мой следователь превратился из карателя в жертву.
Меня не били, но я видела избитых, я слышала крики истязаемых. Вот и Блюхер оказался в одном ряду с карателями (если это правда?). А ведь за время суда он мог сто раз покончить с собой, как это сделал Гамарник.
Какое страшное кровосмешение – жертва и убийца в одной могиле, в одной «Красной книге», под одним памятником!
Как это пережить и можно ли положить цветы к такому памятнику? Вы не задумывались об этом?
Когда я прочитала статью «Смерть героя», первым моим побуждением было написать письмо М. Горбачеву, но я остановила себя. Но вот в последнем номере «Огонька» прочитала стихотворение Евтушенко о «еще не поставленных памятниках». Читаю и перечитываю. Вникаю в каждое слово, но душевное смятение не проходит.
15.08.87. Москва, проспект Мира, 99, квартира 232Глава 4. Сын А. И. Микояна Серго Микоян: «Сталин ждал, когда мой отец покончит с собой…»
Впервые это имя я запомнил с нашумевшей книги Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», вышедшей у нас в 1962 году. В послесловии к этой пронзительной повести, подписанном Серго Микояном, подробно рассказывалось о том, как он вместе с отцом Анастасом Ивановичем Микояном побывал на Кубе в гостях у великого американского писателя. Как завидовал я тогда неуемной завистью начинающего журналиста своему коллеге, побывавшему у кумира моего поколения! Каким далеким и фантастическим казалось тогда все это: молодая Куба, Фидель, легендарный Хемингуэй, Серго Микоян, сын самого Микояна.
Мы познакомились и подружились в самый разгар перестройки, оказавшись вместе в США в группе деятелей культуры, политиков, журналистов. Потом я не раз бывал у него дома на Спиридоновке, в цековской квартире, которая казалась мне музеем: личные вещи Анастаса Микояна, сувениры со всего света, редкие книги, архив…
Серго Микоян – публицист, историк, много лет возглавлял журнал «Латинская Америка». Первым в нашей печати он написал о кровавом Берии, а его статья «Покаяние и искупление» о том, что нельзя чохом перечеркивать нашу историю, потому что история за это отомстит, вызвала острую дискуссию в обществе. Как мы теперь видим, Серго оказался прав.
После перестройки Серго Анастасович пропал, вроде бы уехал в Америку по какому-то гранту вместе с семьей и жил в Вашингтоне, иногда наведываясь в Москву…
Когда в августе 1991 года я спросил Серго: «А мог бы твой отец, будь он жив, прийти к Белому дому защищать демократию? Ведь ты же пришел…», он ответил: «Заходи ко мне домой с диктофоном, вот мы и порассуждаем».
Предмет наших тогдашних рассуждений я обнаружил недавно в своем архиве. Прочитал интервью и приятно удивился. Мне показался весьма интересным и во многом злободневным тот давнишний разговор об Анастасе Ивановиче Микояне, по легенде, якобы двадцать седьмом бакинском комиссаре, сумевшим спастись и пережить много и многих, в том числе и самого Сталина.
Помните злорадного свойства анекдотец? – Хрущев подковыривает своего друга Анастаса: «А почему же ты без зонта, ведь идет дождь?» – «А я между струйками».
При встрече я спросил Серго, знал ли отец этот анекдот, а еще хлесткую поговорку о нем же: «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича».
– Отец услышал однажды эти слова, посмеялся. Что же, он приспособился к ситуации, не противостоял ей, а как на его посту можно было противостоять? Немедленно бы уничтожили. И не одного его. Ведь Сталин, если расправлялся с наркомом, арестовывал, обвиняя в мифическом заговоре, сотни людей с женами и детьми. Отец был наркомом пищевой промышленности, значит, все директора мясокомбинатов, молочных заводов, кондитерских фабрик, «холодильников», витаминных заводов немедленно были бы арестованы как вредители, завербованные Микояном. Все же при назначении наркомом внешней торговли он добился от Сталина, чтобы НКВД не вмешивалось в работу его ведомства. Это означало, что не будут арестовывать его сотрудников. Наркомат стал островком безопасности в стихии репрессий.
В 20-е годы отец искренне считал, что Сталин – продолжатель дела Ленина. В 30-е годы, особенно после убийства Кирова, он стал понимать, что с вождем происходит метаморфоза. Потом началась война, отец отвечал за снабжение и тыла, и фронта: на нем было обмундирование, питание, горючее, обувь, табак, лыжи, транспортные средства и даже артиллерийские снаряды. Он с головой окунулся в эту важнейшую и труднейшую работу, и Сталин ему почти не мешал, только изредка вмешивался, чаще всего неудачно.
После войны отец надеялся, что Сталин пойдет на «демократизацию» – это собственные слова отца, цитируемые мною из надиктованных им воспоминаний. Он имел в виду, конечно, не нынешнюю демократизацию России, а демократизацию партии и прекращение завинчивания гаек в обществе. Но оказалось, что Сталин решил заново закручивать гайки. Тут Микоян и стал психологически отходить от Сталина, который своим звериным нюхом не мог не учуять этого…
Был ли отец для меня кумиром? Кумиром не был, но героем, наверное, был. Не в том смысле, что я хотел быть похожим на него. Конечно, семья и школа воспитывали нас, детей Микояна – Степу, Володю, Алешу, Ваню, меня, – в духе безграничной и безоглядной, фактически фанатичной веры во все, что преподносилось советской пропагандой (признаться, я был самым наивным, доверчивым, то есть глупым). А, следовательно, поскольку отец был где-то в самой верхней части пирамиды власти, под этим углом зрения он был для меня героем.
Когда отец умер, мне было 49 лет. Я способен был быть объективным и понимать, что отец – слишком солдат партии. Стал им, когда партия в основном состояла из романтиков и идеалистов при всем их фанатизме и неоправданном мещанстве. Но потом он как бы не заметил или не решился осознать происходившую с партией трансформацию. Или не дал ей должной оценки. Не хватило духу. Даже после смерти Сталина.
Сталин и Микоян – это особая тема, которая достойна более полного изложения. Но кое о чем я тебе расскажу. Как я воспринимал Сталина при жизни отца? Конечно, официально, как и большинство советских людей. Дело не только в том, что все тотально прослушивалось. Мы же были детьми, и нас нельзя было ни во что посвящать. То немногое, что отец говорил о Сталине, было только информацией. Позже я понял, что в ней иногда содержался подтекст. Отец говорит: «Товарищ Сталин считает, что это неправильно. Он говорит, что это эсеровский подход. Зачем же нам вести себя по-эсеровски?»
Отец знал, что в доме есть подслушивающее устройство, но один раз, во время «дела врачей», когда арестовали Виноградова, который лечил Сталина, при мне он сказал маме: «Товарищ Сталин приказал, чтобы врачей в тюрьме били, тогда они напишут инструкцию, как нам жить, чтобы жить дольше». «Неужели для этого надо бить людей?» – печально спросила мама, которую тоже лечил профессор Виноградов. «Товарищ Сталин считает, что да», – ответил отец. Я услышал этот разговор и понял, что отец специально сказал об этом, но так, чтобы те, кто подслушивали, не могли использовать сказанное против него. Мама еще в большем недоумении: «Так ведь они работали в Кремлевке. И только этим и занимались. А теперь – враги». Разговор происходит в общей комнате – в гостиной – на даче в Зубалове, на столе в углу пять телефонных аппаратов, а в стенах бог знает что. «Он говорит, что теперь-то они скажут правду». Театр абсурда! Мне 23 года, и я, естественно, в силах улавливать оттенки речи, нюансы интонации, выражения лица.
Но виновником всех жестокостей для меня являлся Берия. Об этом дома не говорят, но это как бы подразумевается. Одна только мама осмеливается вслух выражать отсутствие симпатии к Берии. Мой брат Алеша просвещал меня на открытом воздухе. А на семидесятилетии Сталина, сидя в партере Большого театра и слыша выкрики с мест во славу вождя, Алексей говорит: «Видишь, как слаженно работает бериевская команда. Горла не жалеет». Я в недоумении: «Ты думаешь, это подстроено?» – «Еще как! У каждого бумажка, и каждый знает свое время».
5 марта 1953 года. Вселенская трагедия. Вот только я не вижу у отца трагического выражения на лице. Наоборот, он энергичен, бодр, деловит. Контраст с последними двумя-тремя месяцами, когда он был строг, сосредоточен, хмур. Только чуть позже я узнал, что это были месяцы, когда вождь ждал, что отец покончит с собой. Что еще может сделать тот, кого на Пленуме ЦК сам Сталин публично обвинил в пособничестве империализму, кого не приглашают на совещание, кому не присылают информацию, положенную члену Политбюро? Это вам не лай своры Зайкова на Пленуме МГК против Ельцина. Там была ставкой жизнь. А вернее – смерть. Мучительные пытки, позорная смерть. Лагерная пыль для всей семьи и десятков, если не сотен, «микояновских» командных кадров пищевой промышленности, торговли, а также для сотни членов их семей и сотен их кадров и членов их семей. Если щупальца Лубянки получают добро на свою кровавую охоту, когда замкнется цепочка, не знает никто.
Но приходит конец тирану. Для меня это – трагедия. Я спрашиваю отца: «Что же теперь будет?» – «А что, собственно, должно или может быть?» – «Война?» – изрекаю я глупость, которая тогда была у многих на устах. И слышу ответ, в котором критика Сталина уже выражена в словах, а не только в интонации: «Если уж при нем не случилось войны, то тем более не будет без него». Я почти оскорблен за Сталина (а ведь по его личному указанию я просидел шесть месяцев на Лубянке, когда мне исполнилось 14 лет).
Да что я! Смерть Сталина – трагедия и для моей жены, Аллы, отец которой, Алексей Кузнецов, мужественный лидер 900-дневной обороны блокированного Ленинграда, расстрелян три года назад по «ленинградскому делу», а мать находится в тюрьме. Ведь Алла уверена, что ее отца, которого она обожает и втайне, конечно же, ждет, и ее мать погубили Берия и Маленков, а Сталина всегда кто-то вводит в заблуждение… Кстати, на Алле я женился в тот самый день, когда ее отца сняли со всех постов «за антипартийное поведение». Конечно, об этом было известно заранее. Но мой отец вовсе не предостерег меня: подожди, будь осторожен. Наоборот, когда я сказал, что все равно намерен жениться на ней, он сказал: «Правильно. Она тебя любит, и ты ее любишь. Она и нам нравится. Женись». Это было явное неподчинение вождю, явный вызов, протест.
Очень важным моментом для меня стало разоблачение культа Сталина. Мои дяди Гай Туманян и Артем Микоян начинают исподволь меня просвещать. И нужно несколько месяцев, чтобы глаза мои открылись. Теперь я внимательно слушаю рассказы отца о Сталине. Возникает образ злого гения – умного, незаурядного человека, коварного диктатора, руки которого, как выразился Уинстон Черчилль, по локоть в крови.
Один эпизод в моей личной судьбе, связанный со Сталиным. Отец никогда не помогал нам продвигаться по жизни, хотел, чтобы мы сами всего добивались. И все же фамилия работала сама по себе. Однако с разными знаками. Фамилия давала свои возможности в быту, в разных жизненных ситуациях. И, как это ни парадоксально звучит, именно она привела меня на Лубянку, как только я окончил 6-й класс школы. Это была уже привилегия – так рано оказаться там, где было столько достойных людей.
В 1947 году меня приняли в Институт международных отношений. С другой фамилией бы не приняли. И вот однажды Сталин спросил отца: «А где те два твоих сына, которые были арестованы?» Он ответил, что один – слушатель Академии имени Жуковского (это был Ваня), а другой – студент МГИМО. Последовал грозный, но абсолютно риторический вопрос: «А разве они заслужили право учиться в советских вузах?» Сталин умел одной фразой очень многое сказать. Микоян промолчал. (Большинство его коллег ответили бы: «Не заслужили, товарищ Сталин» в тайной надежде ограничить дело исключением из института.) Микоян несколько дней, потом недель, потом месяцев ждал повторного нашего ареста. Но, видно, великий вождь за множеством дел подобного рода забыл о двух юных врагах народа, пробравшихся в советские вузы.
…Я бы сказал, что характер у отца был не сахар. Вот еще один эпизод, связанный с вождем народов. В конце 1940-х годов Берия доложил Сталину, что жены членов Политбюро бесплатно пользуются швейным ателье в Управлении охраны МГБ. Отец пришел домой возмущенный. Мама говорит: «Я знаю, что другие не платят. Но я всегда платила. Ни одной вещи ни на тебе, ни на сыновьях не сшила бесплатно». – «Врешь! Берия сказал, что ему доложили, все вы не платили. Они не могут не знать». Трудно описать, как обиделась мама. Она была чрезвычайно аккуратным человеком, хранила всякого рода квитанции и документы десятилетиями. Вот она и принесла ему, молча, картонную коробку с квитанциями. После этого недели две она говорила с ним односложными ответами: «Да, нет». Отец понял свою вину. А потом рассказывал, как торжественно выставил коробку с квитанциями на стол Сталину, сказав: «Не знаю насчет других жен, но моя жена за все платила. Не понимаю, почему Берия не знал об этих документах. Что за служба у него такая, если не могли обнаружить копии этих квитанций».
1991…Жизнь развела меня с Серго Анастасовичем во времени и в пространстве. Последняя встреча произошла в Волынской больнице Управления делами Президента. Гуляя по территории огромного парка неподалеку от знаменитой «ближней» дачи Сталина, я вспоминал о том, что именно здесь летом 1952 года случилось ЧП – бдительная охрана вождя обнаружила пулю, которая воткнулась в асфальт дорожки примерно на полсантиметра. Что это? Покушение на товарища Сталина? Переполох! Немедленно провели баллистическую экспертизу и выяснили, что выстрел из винтовки был произведен со стороны Воробьевых гор, а точнее – с высоты строящегося здания МГУ. Направленные туда оперативные работники без особого труда нашли солдата-конвойного, охранявшего заключенных, которые использовались на строительстве университета. Его-то ружье, выстрелившее случайно, по закону подлости оказалось направлено в сторону находящегося вдалеке правительственного объекта, и пуля «дотянула» до сталинской дачи… По крайней мере такая версия долгие годы оставалась единственной, другой я не слышал.
Так вот в коридорах больницы я столкнулся с седым, еле бредущим пожилым мужчиной. Пригляделся и понял – передо мной Серго Анастасович. Но больница не лучшее место для бесед и воспоминаний, да и его состояние не позволило мне напроситься на разговор с диктофоном. А жаль. Насколько я знаю, мемуаров Серго не написал.
Скончался Серго Анастасович Микоян в марте 2010 года на 81-м году.
Глава 5. Главный конструктор ОКБ им. А. И. Микояна корпорации «МиГ» Николай Матюк: «Я ничего не просил у вождей для себя»
Когда в 1999 году в Кремле Владимир Путин награждал главного конструктора ОКБ имени А. И. Микояна Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Николая Матюка орденом «За заслуги перед Отечеством», 90-летний ученый подошел к президенту уверенной, твердой походкой. Поверить в то, что он прожил почти век, было абсолютно невозможно.
Николай Захарович Матюк (1909–2007) – выдающийся авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных премий, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники, конструктор многих самолетов, в том числе МиГ-25, транспортного самолета МиГ-110.
Во время беседы этот человек поразил меня феноменальной памятью о прошлом и абсолютно адекватным восприятием современной жизни.
Я горжусь тем, что великий Николай Матюк дал мне подробное и очень интересное интервью. Привожу здесь некоторые фрагменты из него.
– Когда вас принимал президент, у вас не было возможности о чем-то его попросить?
– Я встречался с Владимиром Владимировичем и раньше. Ну, о чем можно его просить? О личном – бестактно. О государственном деле, о чем-то очень важном, что поможет в нашей работе, – вполне возможно. Хочу сказать, что на подобных рандеву, то есть на «встречах с вождями», я бывал. Встречался, в том числе, и со Сталиным в Кремле, на даче под Москвой или в Крыму. Но никогда ничего не просил лично для себя – ни квартиры, ни повышения зарплаты, ни каких-то иных благ. Были просьбы только о том, скажем, чтобы включить в госплан практическую идею, связанную с разработкой нового самолета.
– Мне кажется, вы знаете все о советском авиастроении. Скажите, каково было его состояние перед войной?
– В 1939 году по приказу Сталина было создано наше ОКБ. Сталин внимательно следил за его работой, регулярно интересовался, как идут дела. Шла война в Испании. На земле и в небе дрались идеологические противники – испанские и немецкие фашисты противостояли испанским и советским коммунистам. Советские летчики в боях разносили врага в щепки. Наши командармы приобретали при этом необходимый опыт. Они приходили в бюро и просили создать для армии такой истребитель, который дрался бы, как ставший тогда знаменитым немецкий «мессершмитт». И такой самолет мы сделали. Возглавлял работу первоклассный конструктор Николай Поликарпов.
Сначала мы разработали МиГ-1, а в начале войны начали выпускать МиГ-3. Эта машина достигала скорости в 640 километров в час и была способна обгонять в небе «мессершмитты». В обороне Москвы участвовало уже тысяча двести наших МиГов.
– Николай Захарович, когда я был мальчишкой, любил посещать Новодевичье кладбище, где захоронено много выдающихся личностей. И я подолгу стоял у мемориальной стены летчиков и пассажиров, погибших на самом большом самолете 1930-х годов «Максим Горький». Что же все-таки тогда случилось?
– В те годы страна, не без энтузиазма Сталина, болела гигантоманией. Вот в угоду ему и был сотворен самый большой в мире гражданский самолет. Следует сказать, что сам-то проект был удачным, авария произошла по человеческой глупости. На парад по случаю создания гигантской машины созвали всех участников проекта с семьями, детьми. На трибуне были и самые высокие кремлевские гости. Создатели машины, чтобы показать, как велик самолет, запланировали трюк: другой самолет обычных размеров должен был совершить «мертвую петлю» вокруг одного из крыльев. «Петлю» летчик сделал, но сбил крыло. И машина рухнула.
– Как вы расцениваете полет Путина на боевом самолете?
– Если честно, я не знаю, зачем это нужно. Ну, приятно, что Путин так боеспособен, не каждый из всех прошлых руководителей страны мог решиться на такое. Думаю, что и Сталин бы не решился. Да, наверное, и его окружение отсоветовало бы ему это делать.
2005Глава 6. Жена кубинского шахматиста мирового масштаба Хосе Рауля Капабланки Ольга Капабланка-Кларк: «Сталина боялись все, а Капе – хоть бы хны»
Познакомил меня с Ольгой Евгеньевной Эдуард Штейн – литературовед, автор знаменитой книги «Поэзия русского рассеяния».
Из России она уехала в 1920 году, на американском миноносце. Уехала одна. Отца – он был в Белой армии – убили. В дни революционных боев погибли почти все ее родственники: честные, благородные люди.
– Если бы моему отцу, моему деду, моему дяде предложили миллион долларов, они даже не посмотрели бы на эти деньги, не позарились бы на них. Они честно служили царю и Отечеству. Таких людей сейчас нет.
Ее прадедушка – знаменитый граф Евдокимов, завоеватель Кавказа. Есть легенда, что царь подписал указ о присвоении ему звания генералиссимуса. Ее первый муж был прямым потомком Чингисхана. В нем текла древняя монгольская кровь; она – княгиня Чегодаева.
Последняя моя встреча с Ольгой Кларк была особенно долгой. Ольга Евгеньевна все вспоминала и вспоминала… Мне показалось, что ее жизнь – это сладковатые «брызги шампанского», которое, кстати, подносилось и подносилось к столу. Но мне это только казалось. Ее жизнь была не такой уж сладкой.
Уезжая из России, она забыла свои бриллианты в конфетной коробке. Когда она прибыла в Америку, в ее кармане было сорок центов. Девушка оказалась в чужой стране без средств. Но не погибла. Красивая, восхитительная, первые свои деньги она заработала в качестве модели. Снималась в кино. На одном из приемов в Кубинском посольстве в Вашингтоне ее увидел Капабланка. Он был сражен ослепительной красотой русской княгини. Позже, во время торжественного ужина в узком кругу после церемонии бракосочетания, великий шахматист, поднимая бокал за свою суженую, под аплодисменты гостей сказал, что это самая блестящая партия в его карьере. После смерти любимого Капы, Хосе Рауля Капабланки, Ольга вышла замуж за адмирала Ж. Кларка, национального героя Америки.
В конце жизни Ольга Евгеньевна села за мемуары. Они о судьбах русской диаспоры в Америке, о шахматном гении Бобби Фишере, о голливудских звездах, в том числе и о Грете Гарбо, с которой она дружила.
– Перебирая наброски к книге, которую я пишу о моем Капе, я наткнулась на записи о встрече Капы со Сталиным. На международном шахматном турнире в 1936 году в Москве Капа уверенно шел к победе и добился своего. Он стал самым настоящим героем не только среди шахматистов. Его партиям рукоплескал зал.
Как оказалось, за последней партией Капабланка – Ботвинник из-за портьеры внимательно следил Сталин. Как только объявили, что победил кубинский шахматист, Сталин сделал несколько шагов по сцене. Капабланка, увидев советского вождя, подошел к нему, и между ними состоялся короткий разговор. Здесь хочу заметить, что мой Капа всегда был сам себе голова, он никого не боялся. Общался с королями, президентами, многими великими людьми. И здесь, в Москве, он вдруг говорит человеку, которого все боялись, все до единого, что «советские игроки трусят». После этой фразы Сталин вздрогнул, а Капа добавил, что они сдаются тогда, когда не следует сдаваться, а надо сражаться до конца. Сталин улыбнулся и хитро сказал: «Я этим займусь…» – и пригласил Капабланку к себе в Кремль.
Капа, между прочим, не придал большого значения тому, что его позвал к себе вождь могучей державы. Сталина боялись все, а Капе – хоть бы хны.
Из интервью со вдовой великого кубинского шахматиста Ольгой Капабланкой-Кларк, Нью-Йорк, 1988Михаил Ботвинник, который на турнире в Москве в 1936 году играл с Капабланкой за одной доской и уступил ему пальму первенства, тоже вспоминал о том событии. Его воспоминания подтвердили рассказ Ольги. По словам Михаила Моисеевича, опирающегося, очевидно, на рассказ самого Капабланки, Сталин принял гостя в Кремле очень тепло (он умел очаровать собеседника, особенно иностранца, произвести на него самое лучшее впечатление – об этом свидетельствует пример Лиона Фейхтвангера, Анри Барбюса и даже Франклина Рузвельта).
Прежде всего, вождь поздравил кубинца с блестящей победой в турнире, потом поинтересовался мнением эксчемпиона мира об игре советских шахматистов, в первую очередь Ботвинника. Капабланка хорошо отозвался об игре советских мастеров, а Ботвинника назвал одним из сильнейших шахматистов мира.
На вопрос Сталина, может ли Ботвинник стать чемпионом мира, кубинец ответил утвердительно, подчеркнув, что для этого у советского шахматиста есть все необходимые данные – молодость, большой талант, умение готовиться к ответственным соревнованиям, целеустремленность. Капабланка восторженно отозвался о том небывалом интересе, который советские люди проявляют к шахматам, о внимании советского руководства к развитию шахмат в стране. Сталин, судя по выражению его лица, был доволен такой оценкой.
Будучи профессиональным дипломатом, Капабланка не мог не коснуться темы советско-кубинских отношений, горячим сторонником развития и улучшения которых он был. Экс-чемпион мира пытался даже обсудить вопрос поставок на Кубу советской нефти и другого сырья в обмен на кубинский сахар, но Сталин уклонился от конкретного обсуждения, поддержав лишь мысль о необходимости улучшения отношений между СССР и Кубой.
Кстати, в свое время я попросил гроссмейстера Анатолия Карпова прокомментировать воспоминания Ольги Капабланки-Кларк, и, касаясь темы Сталина и шахмат, он сказал: «Я, к сожалению, не знал, что Сталин интересовался шахматами. Вообще почти ничего не известно об отношении вождя к этой игре. Есть какая-то партия, которую якобы провели между собой Сталин и Ежов. Не помню уже, каким цветом играл Сталин, каким Ежов, но, конечно, победа досталась «вождю народов». То, что шахматами увлекались Ленин, Горький, Богданов – это известно. Поэтому рассказанный Ольгой Капабланкой эпизод о том, что Сталин наблюдал за шахматной игрой из-за ширмы, почти сенсационен».
Глава 7. Писатель и поэт Сергей Михалков: «Я в него верил, он мне доверял»
Сергей Владимирович Михалков – человек-эпоха. Его биография невероятна. Я не знаю никого другого, чья жизнь была бы так объемна и многообразна…
Как распутать перипетии человеческой судьбы?! Тронул тонюсенькую ниточку, и потянулось: великое, смешное, трагическое… Сиротство, страсть к литературе, безответные чувства к русоволосой и голубоглазой, звонок из ЦК ВКП(б), Сталин, трагедии, знаменитые шальные друзья…
Невозможно представить наше время, да что там наше – последние полвека, без двухметровой, гвардейской фигуры дяди Степы – Михалкова. И знать стихи Михалкова, и не знать их – давно уже стало моветоном. Их читали наши бабушки и дедушки, их будут заучивать наши правнучки и правнуки. «Дядя Степа», «Дело было вечером, делать было нечего», «Упрямый Фома» – произведения, навечно прописанные в детской литературе.
– Однажды на пресс-конференции в Италии меня спросили: «Почему вы, известный при Сталине человек, уцелели? Давид Кугультинов был репрессирован, а вы – нет?» Я ответил: «Даже самые злостные браконьеры не могут отстрелять всех птиц».
В отличие от судеб других литераторов, моя жизнь, действительно, складывалась благополучно, хотя каждый из нас ходил по острию ножа. А теперь мы знаем, что неприкасаемых во времена культа личности не могло быть. Многие выдающиеся полководцы, государственные и партийные деятели, крупнейшие хозяйственники, видные деятели культуры безвинно пострадали в тюрьмах и лагерях.
Мне кажется, что жизнь человека состоит из цепи случайностей. Оглядываясь с высоты 75 лет на прошлое, перебирая в памяти события своей жизни на глазах у людей, жизни, вобравшей все перипетии нашей эпохи, я всерьез думаю о банальной вещи – о его величестве случае.
Мой отец, выходец из русской дворянской семьи, один из основоположников советского промышленного птицеводства, автор многих работ по этой отрасли, умер в 1932 году, не успев принять кафедру профессора в Воронежском сельскохозяйственном институте. Умер он в городе Георгиевске от воспаления легких, ему было 46 лет. Я к тому времени уже два года жил в Москве, работал на Москворецкой ткацко-отделочной фабрике разнорабочим. Потом уехал в геологоразведочную экспедицию в Восточный Казахстан. Писал стихи. Семья наша пока продолжала жить в Георгиевске, жила чрезвычайно скромно. На меня легла забота о матери и двух младших братьях. Они перебрались в Москву и устроились «на птичьих правах»: все мы разбрелись по родственникам и знакомым.
Но кто знает, как повернулась бы моя судьба, если бы отец был жив? Смог бы он с его происхождением, знанием иностранных языков, с его научным трудом под названием «Почему в Америке куры хорошо несутся», с его дружескими связями не стать «врагом народа»? Маловероятно. А значит, и я не стал бы писателем и вряд ли давал бы сегодня это интервью. Более того, уже начинающим писателем я дружил с Михаилом Герасимовым, Борисом Корниловым, Павлом Васильевым, Ярославом Смеляковым, которых постигла тяжелая участь. Мне, видимо, везло.
– Что значит «везло»? Спасал случай?
– Во многом. Ну, вот хотя бы такой пример. Мне безответно нравилась одна девушка. Она училась со мной в Литературном институте имени Горького, который я, к сожалению, не окончил по семейным обстоятельствам – нужно было содержать семью. Работал я тогда в отделе писем газеты «Известия» и уже начал печататься. Так вот, в «Известиях» у меня шло стихотворение «Колыбельная», которое я до сих пор публикую. В клубе писателей я встречаю свою девушку и в шутку говорю: «Хочешь, я напишу сегодня стихотворение и посвящу его тебе, а завтра ты прочитаешь его в «Известиях»? Светлана, так звали мою знакомую, только усмехнулась в ответ. Я же поспешил в редакцию и назвал стихотворение «Светлана». Ну, думал, теперь уж наверняка сердце Светланы будет завоевано.
Но так вышло, что я «завоевал» сердце совсем другого человека. Я был назавтра вызван в ЦК ВКП(б), и ответственный работник Динамов мне сказал: «Ваши стихи, молодой человек, понравились товарищу Сталину. Он поинтересовался, как вы живете, не нуждаетесь ли в чем?»
Я поведал о своем неустроенном житье-бытье.
Так, благодаря случайным стечениям обстоятельств, в том числе и тому, что дочь Сталина звали Светланой, моя жизнь изменилась. А русоволосая девушка, ради которой «Колыбельная» превратилась в «Светлану», продолжала меня игнорировать…
На меня обратили внимание, мои стихи, опубликованные в журнале «Огонек», перепечатала «Правда».
…Сталин был для нас человеком с большой буквы. Конечно, нас тревожило, что исчезают люди, что кого-то исключают из партии, арестовывают, ссылают, но мы думали, что это наверняка за дело. Разве могли мы не доверять официальной информации? И в то же время каждый из нас после очередного тревожного сообщения, безусловно, чувствовал себя тоже незащищенным.
В 1938 году Александр Фадеев пишет обо мне статью в «Правде». Я тогда был уже автором «Дяди Степы».
В 1939 году вместе с Маршаком, Шолоховым и Катаевым меня наградили орденом Ленина. Мне было тогда 26 лет. Как мне казалось, я крепко встал на ноги, а присуждение в 1940 году Сталинской премии за книги для детей, может быть, стало для меня своеобразной «охранной грамотой».
– А как вам «повезло» стать автором Государственного гимна Советского Союза?
– Да, повезло, но не автором, а соавтором. В 1943 году я со своим другом Габриэлем Эль-Регистаном работал в центральной газете ВВС «Сталинский сокол», куда меня направили после контузии в Одессе. Летом приезжаем в Москву с фронта. Совершенно случайно узнаю, что правительство приняло решение создать новый Гимн СССР. Для работы над текстом пригласили большую группу поэтов. На следующее утро ко мне явился мой друг Эль-Регистан и говорит: «Я видел сон о том, что мы с тобой авторы текста Гимна, я даже записал какие-то слова». И показывает гостиничный счет, на котором что-то записано. Так началось и мое участие в создании Государственного гимна СССР.
Комиссия во главе с Ворошиловым и Щербаковым прочла и прослушала десятки текстов и вариантов музыки. Однажды Ворошилов приглашает нас с Регистаном в Кремль и сообщает: «Товарищ Сталин обратил внимание на ваш текст, будем работать с вами…» Как-то Сталин позвонил мне домой в час ночи, извинился за поздний звонок и сказал, что они слушали Гимн, что впечатление куцее – мало текста, нужен еще куплет. Я спросил: «О чем?» – «О нашей армии». – «Мы армию нашу растили в сраженьях», – так родился этот третий куплет. За время работы мы неоднократно встречались со Сталиным. Вносили поправки по его замечаниям, пока, наконец, текст и музыка не были окончательно утверждены. В ночь на 1 января 1944 года новый Гимн Советского Союза впервые прозвучал по Всесоюзному радио.
После прослушивания Гимна в Большом театре мы были приглашены в ложу правительства – к накрытому столу. Сталин сказал, что по русскому обычаю надо «обмыть» Гимн. Посадил рядом. Здесь же были члены Политбюро: Калинин, Молотов, Ворошилов, Берия, Микоян, Хрущев… Мы находились в ложе до пяти часов утра. Говорили в основном Эль-Регистан, я и Сталин. Остальные молчали. Когда было смешно, все смеялись. Сталин попросил меня почитать стихи. Я прочитал «Дядю Степу», другие веселые детские стихи. Сталин смеялся до слез. Слезы капали по усам. Во время разговора Сталин цитировал Чехова, он сказал такую фразу, я ее запомнил, что «мы робких не любим, но и нахалов не любим». Тосты поднимали мы и Щербаков. Сталин сделал нам замечание: «Вы зачем осушаете бокал до дна? С вами будет неинтересно разговаривать». Он спросил меня, партийный ли я. Я сказал, что беспартийный. Он ответил: «Ну ничего, я тоже был беспартийным». Нашими биографиями Сталин, видимо, не интересовался. Регистана он иронически спросил: «Почему вы Эль-Регистан? Вы кому подчиняетесь: католикосу или муфтию?»
Такова вкратце история с созданием Гимна.
Что мы могли сказать о Сталине тогда, в то время? Сталин был для нас – Сталиным… А мы – русский и армянин, Михалков и Эль-Регистан, два беспартийных офицера Красной Армии, – авторами текста Государственного гимна СССР. И только впоследствии мы узнали, что в то же самое время нашего друга, сотрудника газеты «Красная звезда» полковника Николая Николаевича Кружкова допрашивал в КГБ генерал Абакумов: «Твои дружки Михалков и Регистан давно у нас и во всем признались».
Об этом позже рассказывал нам сам Кружков, к тому времени полностью реабилитированный и работавший, как и вы, в «Огоньке». Но нас никто не трогал. Очевидно, не очень просто было скомпрометировать в глазах Сталина тех, кому суждено было стать авторами слов только что утвержденного Государственного гимна СССР. Вот так и эта работа оказалась для меня снова как бы «охранной грамотой».
Еще одна «небольшая» деталь: однажды, когда мы с Регистаном вышли из кабинета Сталина, за нами вышел Берия. «А если мы вас отсюда не выпустим?» – мрачно «пошутил» он.
В иных обстоятельствах эта «шутка» стоила бы нам дорого…
– Вы просто фаталист, Сергей Владимирович, и, мне кажется, вы во всем доверились судьбе?
– Нет, я не фаталист, но моя жизнь – это, действительно, цепь случайностей, игра судьбы. Вообще мне кажется, что, кроме фашистского плена, я ничего не боялся.
– Даже Сталина? Вообще, расскажите об этом человеке, вы же его лично знали. Что вы думали о нем тогда и что думаете о «великом из великих» сейчас, в наши дни?
– Однажды в музее Сталина в Гори меня попросили оставить запись в книге посетителей. Я написал: «Я в него верил, он мне доверял». Наивно? Может быть. Ну что я мог еще написать?! Так ведь оно и было! Это только сейчас история открывает нам глаза, и мы видим, что Сталин был непосредственно повинен в тех жертвах, которые понес советский народ.
Фигура Сталина – очень противоречивая: тиран, палач… Но трудно понять, почему он поддерживал хороших писателей, режиссеров, актеров? И в то же время не менее талантливые люди сидели в тюрьмах, уничтожались.
Я согласен с формулировкой Дмитрия Волкогонова: жизнь Сталина – триумф и трагедия. Как осмыслить, например, такой эпизод? Однажды меня с огромным трудом разыскали на фронте и привезли к командующему Курочкину. Тот говорит: «Срочно звоните товарищу Ворошилову, он интересовался, где вы пропадаете?» Дозваниваюсь до Ворошилова. Слышу в трубке: «Товарищ Сталин просит у вас узнать, можно ли изменить знак препинания в такой-то строке?» Что это?! Тысячи замученных людей, а тут – знаки препинания.
1988Глава 8. О легендарном армянском атлете Серго Амбарцумяне, ставшем символом победы над фашистской Германией до начала Великой Отечественной войны
Механизм величайшей демагогии и лжи, запущенный при Сталине, безотказно действовал и после его смерти. И Серго Амбарцумян был одним из первых среди нескольких поколений спортсменов, загубленных системой, приняв и бремя триумфа, и внезапный, коварный удар полнейшего равнодушия государства, которое воспользовалось им, а потом выбросило за борт, когда он стал не нужен.
Эта необычная история о «самом сильном человеке Земли» связана для меня с героем одной моей несостоявшейся книги. На протяжении нескольких лет я общался с Самвелом Гаспаряном, талантливым человеком, едва ли не лучшим фермером Подмосковья, как называли его в прессе. Немало аудиокассет было наговорено Самвелом, армянином, приехавшим в Москву много лет назад и занявшимся в окрестностях столицы сельским хозяйством. Я расспрашивал Самвела о его работе и, главным образом, о том, как ему, одному из немногих, удается делать честный бизнес в России. И вот однажды он бросил по телефону: «Хватит о свиньях и помидорах, приезжай сегодня на ферму, и мы с другом расскажем тебе потрясающую историю».
Встретились. Друг Самвела, спортсмен в прошлом (его имя, к сожалению, запамятовал), и я выпили по стопочке армянского коньяка, и заинтригованный, я весь превратился в слух.
– Знаешь ли ты о самом сильном человеке на земле в советские времена? Если назовешь имя Юрия Власова, то ошибешься. Наш земляк из Армении Саркис Амбарцумян намного круче. Эта история, словно затонувший корабль «Титаник», который и сегодня покоится под толщей океанских вод. Известно, что «Титаник» был объявлен самым непотопляемым кораблем в мире. Так вот, наш Саркис был когда-то символом могущества человека и породившей его страны под названием Советский Союз.
Любители спорта наверняка знают, что в 1930-х годах Гитлер объявил своего любимца – штангиста Иозефа Мангера самым сильным человеком на планете. Миллионы немцев взирали на него, как на Геракла. Он побеждал всех соперников на Олимпиадах и чемпионатах мира по тяжелой атлетике.
Когда Сталину доложили о рекордах немецкого тяжеловеса, он командно произнес: «Фашист не может быть самым сильным. Его надо побить. И побить его должен Амбарцумян».
…При первой же встрече Сталин, будто невзначай, назовет Саркиса грузинским именем Серго, и в историю спортсмен уже войдет как Серго Амбарцумян и подобно Иозефу Мангеру станет любимцем своего вождя.
Родился Саркис 22 февраля 1910 года. При рождении весил 7 килограммов 200 граммов! Его мать, которую звали Большая Софья, была женщиной необычайной физической силы и неукротимого нрава. Не женщина – зверь! Как-то чужая корова вытоптала ее огород, так Софья, не рассчитав, стукнула ее кулаком, и корова тут же испустила дух. Чтобы помочь семье, Саркис работал сапожником, каменщиком, автослесарем, ремонтником на железной дороге, ездил на заработки на рудники Донбасса.
Однажды, это было уже в 1930 году, Саркис поднял на руках грузовик, вытащив его из глубокой канавы. Рядом случайно оказался сотрудник НКВД, который поинтересовался: «Кто же этот богатырь?» Ему ответили: «Наш автомонтер». Неожиданный эпизод изменил судьбу Амбарцумяна. Ему дали работу в спортивном обществе «Динамо» в Ереване, прописали бесплатную еду, причем без ограничений. Так начался его стремительный путь наверх. Уже в 1930 году – чемпион Армении, в 32-м – чемпион Закавказья, затем три года подряд – абсолютный чемпион и рекордсмен СССР в тяжелом весе и пятиборье.
Однажды в Москве, в Театре эстрады, где проходили очередные соревнования, он легко установил мировой рекорд, хотя сам не осознал своего подвига. А тренер по каким-то стратегическим соображениям ничего ему не сказал (рекорд не мог быть засчитан официально, так как наша страна не входила во Всемирную федерацию тяжелой атлетики).
Зато вскоре после этого спортсмену объявили, что его вызывают в Кремль. Что делать? По воспоминаниям близких, у Саркиса не было приличной одежды, о чем он и объявил людям, приехавшим за ним на черной машине. Срочно повезли его в ателье, заказали костюм, несколько рубашек, ботинки.
Оказывается, Первый секретарь компартии Армении Арутюнов был принят Сталиным, который, достав из кармана маленький, в сафьяновом переплете блокнот, мельком туда заглянул и спросил: «А где это там у вас Амбарцумян? Чтобы в двадцать четыре часа был здесь».
Когда привезли великана к Сталину, тот, выйдя к нему навстречу, улыбаясь, сказал: «Тише, кацо, пол провалишь… Как жизнь?» Саркис пожаловался вождю, что у него нет условий для подготовки к чемпионату мира. Тогда-то «вождь народов» и взял со спортсмена слово, что тот победит фашиста.
Вернувшемуся на родину спортсмену назначили немалую по тем временам стипендию, предоставили тренера, повара, массажиста и множество других привилегий. По легенде, у него в Ереване был «открытый счет», он мог прийти в любую столовую или ресторан, пить, есть сколько угодно, вместо оплаты расписаться в нужном месте и уйти. Причем этот «открытый счет» касался не только еды. В кино и театрах для него были забронированы два места, он мог проголосовать в любом месте и остановить автобус или трамвай. Словом, власть бросила все силы на посрамление Мангера и торжество Амбарцумяна, который непременно должен был оправдать надежды верящего в него товарища Сталина!
Таким образом, вызов Амбарцумяна, простого человека, на самый верх, круто изменил его жизнь.
Ереванские газеты оповестили о том, что, по приказу Сталина, армянскому атлету «созданы все условия для побития фашистского рекорда», и Амбарцумян должен выжать штангу весом более чем 410 килограммов.
И – о чудо! Вскоре те же газеты оповестили: «В малом зале Армфилармонии Серго Амбарцумян установил мировой рекорд, показав в классическом троеборье 433,5 килограмма, и стал официально самым сильным человеком планеты».
Так руками Серго Сталин победил в своей «тяжеловесной» дуэли с Гитлером.
В Кремле по поводу этого события был устроен огромный банкет, который, по свидетельству друзей Амбарцумяна, стал главной темой его воспоминаний до конца жизни. Кстати, вспомнить и впрямь было что: ведь на приеме присутствовало 900 знатных людей страны, и вождь провозгласил Серго тамадой на этом пиру. «Ты посмотри, – сказал Сталин Ворошилову, – я думал, Амбарцумян – отличный спортсмен, а он, оказывается, еще и отличный тамада». Гулянье с песнями, танцами продолжалось всю ночь. Утром счастливый виновник торжества явился в гостиницу и выложил на стол бесчисленное количество бонбоньерок со всевозможными шоколадными конфетами, начиненными вишней, ликером, изюмом, орехами, а также подаренный Молотовым патефон. Затем выдохнул жене: «Все, Тома, можно умирать, я был у Сталина тамадой…» В его квартире долго висела фотография, на которой Серго стоит рядом со Сталиным и другими членами Политбюро у вождя в кабинете. Вся Армения знала об этом снимке, и люди специально ходили к Серго поглядеть, как он там стоит рядом с самим Иосифом Виссарионовичем…
Выполнив свое обещание товарищу Сталину, он решил пойти учиться, овладеть какой-нибудь специальностью, но ему не дали, сказав: «Твое дело – рекорды бить, славу страны приумножать, а наше – думать о твоем будущем».
Он приехал в Ереван победителем, выполнившим обещание, данное товарищу Сталину, он должен был продолжать побеждать…
В 1946 году Амбарцумян завоевал второе место на чемпионате Европы и пятое – на чемпионате мира в Париже. Затем еще один мировой рекорд – в рывке левой рукой – 95 кг.
Вскоре после этого прямо во время соревнований Серго почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи диагностировали микроинфаркт и запретили большие физические нагрузки.
Вершина была достигнута, Серго первым из советских спортсменов был награжден орденом «Знак Почета». Но начался спуск. После триумфа последовало бесконечное, унизительное и горькое сползание вниз…
Серго Амбарцумян преданно потрудился во славу родины, достиг именно того, чего она от него ждала и именно в тот исторический момент, когда это требовалось. Теперь, когда он не мог работать на эту славу, спортсмен оказался не нужен. В больничной палате узнал о приказе из Москвы: снять со спортивной стипендии. Пришлось продавать домашние вещи, дабы прокормить семью, где было четверо детей. За бесценок продали «Опель», подаренный после знаменитой победы самим Сталиным. Он готов был заняться любым тяжелым трудом, но сердце не позволяло.
Не имея специальности, великий спортсмен сел за руль такси, в последние годы заведовал шашлычной. Для него, вспоминает его внучка, «своя» шашлычная служила некой отдушиной. «Он любил потчевать там друзей. Вкус подаваемого там кебаба люди помнят до сих пор. Но разве к этому он стремился, разве ради шашлычной была прожита жизнь и поднято столько килограммов “железа”?..»
Между тем, со Сталиным у Серго (Саркиса) Амбарцумяна были связаны самые счастливые времена. Триумфальный период его жизни пал на конец 1930-х годов, которые позже стали называть «годы репрессий». Такова была его судьба – жить именно в эти «роковые минуты».
По рассказам его жены, Серго не подозревал о злодеяниях, творившихся при Сталине, он очень его любил и гордился доверием вождя. Но будто бы однажды после парада физкультурников, где Сталин лично аплодировал Серго, тот вдруг произнес: «Я чувствую, что он очень жестокий человек… Он ни перед чем не остановится…»
В последние дни, лежа в больнице, вспоминая уходящую жизнь и свои обиды, он говорил жене: «Конечно, Сталин мог ничего об этом не знать, но я не уверен в том, что он был не в курсе. Наоборот, у меня ощущение, что он все и обо всех знал. Ведь он любил повторять: “Я все помню, все знаю”…»
Скончался Серго Амбарцумян в Москве 13 апреля 1983 года от сердечной недостаточности. Похоронен в Ереване.
После беседы, прощаясь, Самвел Гаспарян и его друг подарили мне книгу спортивной журналистки Татьяны Любецкой «Триумфатор», которая послужила мне дополнительным материалом для написания этой главы.
2007Глава 9. Беседа с ярым сталинистом Роже Гароди
Я вспомнил о нем совершенно случайно. Однажды, запустив руку во второй ряд книжного стеллажа, по ошибке вытащил не то, что было нужно, а книгу Роже Гароди «О реализме без берегов». Будто током ударило: я держал в руках один из бестселлеров нашей эпохи, после издания которого в 1966 году в Москве на ее автора из Кремля спустили свору собак: «Гароди – ренегат и отступник! Ату его!»
Он то воспевал Сталина, восхищался им, то думал о сталинском режиме сверхкритично.
Биография Гароди поражает: окунувшись в сумасшедшую историю его жизни, можно отпрянуть в изумлении.
Родился он в Марселе, в июле 1913 года. В 23 года стал профессором философии. Примерно тогда же определил свое мировоззрение как коммунистическое. Думал, что навечно. Участвовал в движении Сопротивления. В 1945 году – депутат Учредительного, чуть позже Национального собрания Франции. Приняв ислам, изменив веру, начал вести борьбу за диалог и сближение всех мировых религий, за что приобрел славу «мусульманского» Лютера. В 1953 году в Сорбонне защитил докторскую диссертацию по теме «Материалистическая теория познания». Корреспондент «Юманите», руководитель коллектива по выпуску трудов Ленина на французском языке.
Поездки в Москву, знакомство со Сталиным. Изучал сталинское наследие. В 1956–1970 годах – член политбюро, главный идеолог Французской компартии…
За резкие выступления – демарши за десталинизацию, демократический коммунизм чешского типа его вывели из политбюро, исключили из партии.
Знакомство, дружба, идейная близость с Хрущевым, Кастро, Каддафи, Сартром, Эренбургом, Пикассо, Насером, теологом отцом Шеню…
…Он как будто бы канул в Лету, его забыли в России, а во Франции мне задавали один и тот же вопрос: «Разве он жив?»
– Я нашла его, прилетай, – позвонила мне из Парижа моя приятельница – переводчица Надин Фавр. – Он живет за городом, в местечке Шенвир на Марне. Он ждет нас…
…Мы сидим в рабочем кабинете писателя и философа, отдавшего работе и размышлениям о нашем веке долгую жизнь. Его ум ясен и трезв. Он гордится историей своей жизни. Все в ней ему дорого. Все незабвенно. Я не мог принять те или иные пассажи Роже Гароди, касающиеся Сталина, но слушал его с вниманием и нескрываемым любопытством. Так же, как, впрочем, и мой пятнадцатилетний сын Кирилл, сидевший рядом. Нам, отцу и сыну, представителям двух поколений, было одинаково интересно – такое бывает нечасто.
– Октябрьская революция и Сталин в течение многих лет олицетворяли наши надежды. Когда западный мир корчился в конвульсиях великого кризиса, набирали силу пятилетние планы, превращая промышленно отсталую Россию во вторую великую экономическую державу мира, способную выдержать двадцать лет спустя главный удар гитлеровского нашествия.
Однажды в нашем концлагере мы узнали, что самая мощная немецкая армия взята в плен под Сталинградом, и никто не сомневался, что, когда армия Сталина наступает, свобода продвигается вместе с ней, и звонит первый колокол Победы.
Какой ценой в дни мира и в дни войны советский народ оплатил свои индустриальные и военные подвиги? Никто тогда не знал этого.
Я говорю об этом с полной ответственностью…
Когда я говорю о Сталине, хочу разграничить то, что я видел, то, что прочитал, и то, что мне сказали.
Сначала то, что я видел.
Как член французской делегации на XIX съезде КПСС, я мог наблюдать в этом собрании поведение Сталина на публике. Эпизоды кинохроники – с Гитлером на парадах в Нюрнберге или с Муссолини на балконе Венецианского дворца в Риме – показывают одного и другого полностью оторванными от остальных бонз режимов, которые образуют простую декорацию из униформ. Сталин входит в президиум съезда среди других членов Политбюро. Они шутят и обмениваются дружескими тумаками. В этой группе Сталин в своем френче военного образца ничем не выделяется. Звезды и медали нужны лишь для официальных портретов. В его речах нет ни лая Гитлера, ни челюсти дуче, только монотонная речь. На грани бормотания.
Во время обедов, собиравших все зарубежные делегации, он переходил от столика к столику со своей бутылкой грузинского вина («Мукузани»). На таких банкетах я видел, как маршал Ворошилов, будучи тамадой, выпивал до дна 74 стопки перцовки – ровно столько, сколько было делегаций на приеме.
Когда Сталин хотел особо почтить гостя, он наливал ему немного вина из своей бутылки. Как-то подошел к нашему, французскому, столику. Наружность и поведение – совсем не диктаторские.
Когда я вернулся в Москву несколькими месяцами позже, как корреспондент «Юманите», Сталин уже умер.
…С женой и тремя детьми я жил в крошечной квартирке на Садовом кольце. Русская женщина Шура, приехавшая из деревни, занималась нашим хозяйством и детьми. Она быстро вошла в нашу семью и мечтала увезти маленькую трехлетнюю Франсуазу навестить свой колхоз и свою семью. Она отказывалась от отпусков, кроме воскресений, когда шла к православной службе, которая длилась целое утро.
Вскоре после нашего прибытия в Москву «Правда» объявила о казни Берии. Неграмотная Шура заставила меня трижды прочитать ей статью, рассказывающую о расстреле этого предателя. При этом она ликовала и говорила мне о Берии, как об оборотне. Зато не жалела похвал в адрес Сталина, ведь он якобы принес счастье в жизнь ее деревни и ее лично. Она непрестанно молилась за него: когда он был жив – за все эти благодеяния, а после его смерти – за упокой его души.
На улице, в поездках, в контактах с людьми я мог видеть последствия сталинского режима со всеми их противоречиями: самое прискорбное соседствовало с самым великим.
Беспрестанным и угодливым было повторение восхваляющих лозунгов (столь же монотонных и лживых, как лозунги антикоммунизма). Причем на всех уровнях: от центрального комитета до самого мелкого председателя колхоза.
И потом гонорар за это приспособленчество: доступ в ту особую секцию ГУМа, в которой люди с положением и пользующиеся распоряжением иностранцы могут приобрести по льготным ценам все, что невозможно найти в обычных магазинах. Я вспоминаю, как делал там покупки в компании космонавта Гагарина, который покорил моих детей, показывая фигуры высшего пилотажа на маленьких моделях самолетов.
…Страх смерти для души – это страх потерять смысл своей и жизни, и деятельности. Почему не признаться, что в какой-то момент после XX съезда мы испытали это инстинктивное оцепенение нашего сознания. Мы его никогда не знали прежде – ни в тюрьмах, ни в концлагерях.
Полный текст доклада Хрущева, который был широко опубликован в прессе нашего идейного противника и в подлинности которого нельзя было усомниться, в течение долгого времени лишь укреплял мои подозрения в «термидорианской контрреволюции».
Даже если факты, приведенные в докладе, точны, это выставленное на публику беспорядочное нагромождение могильно известных анекдотов имело вид простого сведения счетов. И заклинание, которое освобождает от всякого анализа: «культ личности».
Позже я часто встречал Хрущева: он приглашал меня на свою дачу в Крыму, но я никогда его не любил…
Но какими бы ни были личность Хрущева и его политика, его доклад начал болезненную, но необходимую ломку образа Сталина.
Мой опыт в этом отношении – опыт бесчисленного множества людей, и не только коммунистов.
…Мой последний бой сталинизму до моего исключения из партии я дал в Югославии.
Я был приглашен прочитать серию лекций для движения коммунистической молодежи по теме: «Социализм авторитарный и социализм самоуправляемый». Мое турне заканчивалось пресс-конференцией в Белграде. Охапка микрофонов и куча журналистов: очень западно-европеизированных, то есть очень возбужденных перспективой дать сказать несколько чудовищных вещей другому – этакой «достопримечательности», как я (выпадающей из всяких систем).
Представляющий меня, напротив, очень «ортодоксален»: сплошные тирады в мой адрес и идиллические тирады о режиме самоуправления. Это напоминает мне СССР: любой официальный доклад – «Алиса в Стране чудес».
Мое вводное сообщение ограничивается планом принципов. Для Маркса Парижская коммуна – это «наконец найденная форма» социалистического общества: поскольку речь там идет о революции без единственной партии (в Коммуне доминировали прудонисты и бланкисты при единственном марксисте), без государства (прямая демократия) и самоуправляемой (начало захвата предприятий рабочими советами). Полная противоположность советскому государству.
Не свойственно ли самой природе социализма быть единственной революцией, которая не может делаться «сверху»?
Социализм – это не только политическая революция (смена команды у власти и даже социального класса). Это не только экономическая революция (переход собственности). Он затрагивает фундамент общества: форму культуры и социальных отношений, покоящихся на привилегиях, господстве, дуализме, отчуждениях. Следовательно, он предполагает радикальное изменение не только институтов, но и людей, которые его делают: слишком много революционеров хотят изменить все, кроме самих себя.
И хотя я не сказал этого, все поняли: есть ли уверенность, что даже в самоуправляющемся югославском социализме все идет от основания, снизу? А люди, особенно руководители, изменились ли они в глубине себя?
Я заключаю: «Социализм – это утопия в прямом и хорошем смысле этого слова: идея – регулятор для ориентации революционного движения нового типа, нацеленная на внешность и внутреннее содержание человека, социальные структуры и духовный мир каждого».
Этот подход – я вынашивал его всю мою жизнь – не нравится никакому политическому или религиозному руководителю: все они хотят заставить нас верить, что Царство Небесное уже здесь, во плоти, в какой-то церкви или партии…
За этим моим заключением последовало долгое молчание.
Атака началась в соответствии с гнусным правилом игры всех политиков: мы и другие. «Другие» – это здесь.
Один краснолицый журналист объясняет мне: «Сталин сделал социализм “сверху” в половине Европы. Он навязал там режим, похожий на советский, благодаря победе своих армий в 1945 году. Я говорю вам как бывший партизан [он потрясает культей над своей головой], мы, сербы, мы – единственные, кто сами себя освободили».
Я пытаюсь сделать дебаты менее страстными: «Это правда, дорогой товарищ, что социалистический режим в этих странах родился не “снизу”, не из стихийной народной революции, чего ожидали Ленин и Троцкий в Германии и Франции. Но можно ли говорить, что речь идет здесь об оккупации, подобной, например, гитлеровской?»
Мой краснолицый ворчит: «Я не сказал этого…»
– Хорошо!.. Тогда сделаем небольшой экскурс в историю: попробуем судить в том же свете экспорт французской революции во всю Европу. Военные победы Наполеона смели феодальные структуры, архаичные и угнетающие. Народы, которые жили под их гнетом, не имели сил разбить их своими руками, «снизу». А Наполеон за пределами Франции явился, по крайней мере вначале, как Робеспьер на коне. Его принимали как освободителя от рабства и хаоса прошлого. Гегель, видевший въезд Наполеона в Иену, писал: «Я видел разум на коне!»
– Значит, Сталин – Наполеон?
– Нет, я просто говорю, что, если судить в масштабе веков, ни советский социализм, ни Сталин, олицетворявший его в течение трети века, не являются уникальными уродствами истории. Исторические параллели всегда лживы. По определению. Поскольку та же схема не может применяться в различных исторических условиях. Но аналогии являются иногда рабочими гипотезами, и, в частности, они помогают нам соотносить объективные мерки с окрашенной нашими чувствами действительностью.
У меня не было впечатления, что я убедил всех журналистов, но среди них было явное замешательство, а значит – размышление. Следующий вопрос – более технический:
– Не является ли принудительная сталинская индустриализация примером преступлений «социализма сверху»?
– Я не знаю индустриализации, которая не была бы принудительной, пришедшей «сверху». Но в странах Запада в XIX веке «верхом» были патронатобъединения предпринимателей и государства. А на Востоке в XX веке – это партия и государство. Подлинная проблема состоит в том, может быть, чтобы исследовать саму по себе индустриализацию: является ли она единственным возможным путем развития человечества?
Никто не желает сражаться на этой территории: запретная тема западной модели роста выходит за границы Востока и Запада.
Пресс-конференция заканчивается в атмосфере всеобщего ликования: пожимаются руки, взаимные пожелания, полный ритуал «братских партий».
…Роже Гароди передохнул, задумался, переспросил, работает ли мой диктофон, и снова вернулся к воспоминаниям о Москве. Заговорил о своем собственном опыте знакомства со всеобщей подозрительностью, нетерпимостью.
– Я был связан в Академии наук с одним из ее членов – Окуловым. Ежедневно работали вместе. Мы испытывали друг к другу братские чувства. Однако он ни разу не принял меня у себя дома. Чтобы отметить 20 лет своего супружества, он и его жена пригласили нашу семью в ресторан.
За год моего пребывания в Москве, при всем том, что я был гарантированно «безопасным» (как член ЦК ФКП), я смог проникнуть только к трем домашним очагам: писателя Ильи Эренбурга, балерины Виолетты Бофт и генерала Игнатьева. Никто из троих не был членом партии. Больше того, в силу разных причин все трое, несмотря на их известность, находились в «маргинальной» зоне советского общества.
Эренбург удивил меня терпимостью суждений о процессах и репрессиях. Каков был масштаб этих чисток на самом деле? – Никто не может этого сказать. В ту пору я прочитал книгу одного из самых принципиальных и светлых критиков – Исаака Дейчера. В его книге о жизни Сталина, написанной за год до смерти последнего, он оценил число жертв в несколько десятков тысяч. Это уже ужасная цифра! [По другим, более поздним, данным, к этой приблизительной цифре следует прибавить, по крайней мере, еще два ноля! – Ф. М.]
На Арбате, у моего друга Жана Катала я иногда встречал французского политического обозревателя Жоржа Бортоли. Оба они были крайне критичны по отношению к режиму Сталина и очень хорошо информированы. Они часто говорили о репрессиях, но никогда не называли таких безумных цифр, которые впоследствии сделает официальными антикоммунистическая пропаганда: 10 миллионов. Неужели для того, чтобы оправдать лозунг: «Хуже Гитлера», понадобилось к истинным цифрам добавить ноль?
Я не хочу, чтобы, прочитав это, кто-то сказал: «Гароди – сталинист, он пытается оправдать Сталина». Говоря о Сталине, я просто пытаюсь не быть ни глухим, ни снисходительным.
Когда я побывал однажды на Новодевичьем кладбище в Москве, меня подвели к могиле жены Сталина Аллилуевой. Ничего детального об их отношениях гид мне не рассказал, зато почти со слезами на глазах поведал, что Сталин до самой смерти регулярно приходил сюда собраться с мыслями.
В один из моих приездов в Москву меня разместили в поместье, где Сталин жил незадолго до смерти. Лицо, которому было поручено мое устройство, позволило мне посетить здание.
Расположенная посреди леса дача вождя напоминала крепость, камни которой выражают недоверчивость Сталина и его маниакальную боязнь заговора. Молодая женщина, сопровождавшая меня, была ассистентом кафедры новейшей истории университета. Она объяснила мне, что Сталин предавался здесь пьянству и дебошам, что сюда ему привозили маленьких девочек…
Я сказал ей: «Вы – историк, и вы хотели бы заставить меня думать, что все зло идет от личных пороков Сталина. Достаточно, следовательно, заменить плохого человека хорошим – и все пойдет прекрасно. Я удивляюсь тому, что вы не задаете себе вопрос: был Сталин причиной или следствием? Может быть, он был продуктом определенной структуры власти? Следовательно, нет ли чего в логике этой системы, что могло бы рождать такого рода политические отклонения от нормы?»
* * *
– Вы переживали, когда вас исключили из партии? Это было для вас неожиданностью?
– Для меня это был опаснейший, кризисный момент. Я даже хотел покончить с собой. Ведь к тому времени я состоял в партии 37 лет, и вдруг моя жизнь лишилась всякого смысла.
– А потом?
– А потом я втянулся в научную работу. Стал думать над проектами будущего. «Альтернатива» – десять лет я обмозговывал это понятие, ставшее названием новой книги. Книги о том, как нам снова завоевать надежду. Это был призыв к живым людям. Книга имела огромный успех. Она разошлась тиражом в 190 тысяч экземпляров – для нас это огромный тираж, небывалый. Мне даже как-то неловко сравнивать, но она имела куда больше успеха, чем книги Сартра.
Роже Гароди интереснейший собеседник. Временами кажется, что он играет, эпатирует, при этом может казаться архаичным, замшелым в своих убеждениях о прошлом.
Часть его бурной жизни прошла в Москве, он встречался со Сталиным, он гордится своим прошлым. И вообще многим гордится: портфелем из крокодиловой кожи, подаренным ему Фиделем Кастро, учеными степенями и званиями, разного рода наградами, знакомствами с удивительными людьми, такими разными, как Жан-Поль Сартр и Каддафи, представителями Ватикана и Эренбургом. Своими книгами – они занимают целый стеллаж снизу доверху. Думаю, ему было приятно, что о нем помнят в Москве, что русский журналист приехал к нему в дом, где он живет уже много лет.
Он торопится, спешит завершить задуманное. С удовольствием дарит последние свои книги. Название одной из них – «Моя гонка по веку в одиночку». Но мне кажется, что Гароди никогда не был одинок. Вся его жизнь была борьбой, а борьба предполагает соперника. Он не одинок даже сегодня, на закате жизни. Он ведет диалог. Диалог с белым чистым листом бумаги.
Шенвир на Марне, Франция, май, 1990Часть II. Размышления о сталинщине
Идол лежит лицом вверх
В самый застойно-брежневский период по командировке «Огонька» я попал на самый север Сибири – в бывший Туруханский край. Добирался долго и трудно: самолетами, вертолетами, оленями. Цель командировки – описать ссыльные места Чернышевского.
И вот как-то вертолетчик предложил мне отклониться от обычного маршрута: «Не пожалеешь, – пообещал он, – такое покажу. Ведь наверняка в эти края больше не попадешь».
Уже на подлете к селу Курейка я увидел на берегу Енисея посреди тайги остатки странного помпезного сооружения.
– Это пантеон Сталина. Когда-то здесь стояла статуя – огромная, устрашающая, вроде бы, считалась одним из самых больших памятников «вождю народов», – рассказывал мой «экскурсовод». – Но ее снесли. Однажды ночью к идолу, как здесь величали этот памятник, подъехал трактор. Обвязав бетонную фигуру тросами и веревками, люди с помощью мощной машины попытались свалить истукана. Но не получалось. Только с помощью взрыва удалось его низвергнуть и оттащить в Енисей. Теперь он лежит на дне. Капитаны не любят проходить над этим местом, даже местные на лодках обходят его стороной. Примета, видно, плохая. Лежит-то идол лицом вверх…
Мне привиделось: лежит и все видит… «Ужо вам!»
Я вспомнил строчки Евтушенко из стихотворения «Наследники Сталина», которое было написано поэтом сразу после выноса тела Сталина из Мавзолея в 1961 году:
…Хотел он запомнить всех тех, кто его выносил, — рязанских и курских молоденьких новобранцев, чтоб как-нибудь после набраться для вылазки сил, и встать из земли, и до них, неразумных, добраться…Пантеон Сталину в Курейке сооружали строители-заключенные, которых пригнали сюда из Норильска в конце сороковых годов. В проекте архитектора Сергея Хорунжего оговаривалось, что «конструкции здания должны выдержать эксплуатацию в течение двухсот лет». Специально для пантеона заготовили двести свай из лиственницы, считающейся единственным в мире деревом, не поддающимся гниению. Особые трехслойные окна завезли из Китая. Расчет был таким, чтобы даже при пятидесятиградусном морозе зверский холод внутри не ощущался. Решено было село Курейку с прилегающей территорией благоустроить, чтобы создать соответствующий фон величественному музейному павильону вождя.
Стройка шла быстро, людям давали зачеты рабочих дней – один за три.
Пантеон воздвигался в память о пребывании в этих краях ссыльного Иосифа Джугашвили, который несколько лет прожил в просторной рубленой избе Анфисы Тарасеевой. Вокруг этой-то избы и воздвигли мраморно-гранитный колпак, а позже, когда строители сдали сооружение, интерьер «украсили» обстановкой 1913 года – гнутыми венскими стульями, большим столом с семилинейной керосиновой лампой, топчаном, а также «Капиталом» Маркса издания почему-то 1933 года.
К лету 1952 года строительство закончили. Под 12-метровыми сводами павильона яркое освещение имитировало северное сияние, озаряя художественно расписанный купол, обитые красным бархатом стены и стенды с картинами героической биографии великого вождя. По периметру внутреннего помещения была сделана паркетная дорожка. Перед зданием разбили сквер, цветники, клумбы. Каждый проходящий пароход должен был в обязательном порядке причаливать на два часа к берегу, пассажирам рассказывали, как тут, в глухой «царской ссылке», «гениальный вождь» готовил пролетарскую революцию в России.
К тому времени, когда я оказался в Курейке, от пантеона остались лишь «рожки да ножки». Избу растащили на дрова, красный гранит – в хозяйское подспорье, китайские окна хорошо вписались в коровники и свинарники, а из кафельного пола какой-то местный чудак смастерил у себя в избе камин.
Конечно, все материальное, даже гранит, не вечно, зато легенда, фольклор – на века. И рассказов о пребывании здесь будущего «великого из великих» – предостаточно: о несносном характере Джугашвили, о его лености (страшно не любил мыть тарелки и чистить картошку), о жадности. Сам Сталин, говорят, спустя три десятилетия после туруханской ссылки, приняв на грудь стаканчик «Хванчкары», посмеиваясь в усы, веселил членов Политбюро байками о том, как они одно время вместе со Свердловым вели незамысловатое свое хозяйство. Коба не любил дежурить на кухне и всякий раз придумывал разные причины, чтобы отлынить от этой повинности. А когда хотел съесть двойную порцию супа, отведав из своей тарелки, плевал в тарелку Якова Михайловича. Тот, естественно, отодвигал ее, и довольный сосед съедал двойную порцию.
Говорят, когда на возведение важного объекта в Курейку привезли заключенных, всех представительниц женского пола переправили на другой берег Енисея – от греха подальше. А вот в годы, когда молодой революционер Коба сиживал в здешней ссылке, царские «палачи» не боялись за местных курейкских дам. Иначе как бы Иосиф Виссарионович коротал здесь время без женских ласк. По слухам, в семидесятых годах здесь доживал свой век мужичок, как две капли воды, похожий на Сталина. Работал он на небольшом буксире старпомом.
Глава 1. Беседа с инкогнито в венском кафе: «Сначала нас насильно угоняли немцы, а потом свои…»
Эта женщина, с которой меня познакомили в Вене, не решилась назвать себя. Мы сидели в маленьком кафе в центре столицы Австрии, я записывал на диктофон простые, искренние ответы на вопросы. Заметил, что время от времени она боязливо, как бы подсознательно, оглядывалась по сторонам. Но говорила и говорила, будто старалась избыть из себя страх, который носила в себе долгие годы. А боялась она любой встречи с советскими людьми, ей казалось, что все они из НКВД, что могут узнать, арестовать, нарушить ее мирную жизнь в чужой стране, ставшей ей родной.
Имя Сталина она произносила почти шепотом, но все, о чем она говорила (голод, репрессии на Украине, война, гибель близких), связано с именем «вождя народов».
– Как вы оказались в Австрии?
– Началась война, и немцы неожиданно быстро заняли Украину. Мы хотели эвакуироваться, но опоздали. Сама я жила в Днепропетровске, а мама – в деревне. Я приехала к ней и узнала, что все коммунисты уехали, забрали лошадей, машины.
Остались только старухи и дети, мы не знали, что делать, куда уезжать, лесов нет, не спрячешься, кругом равнина. И мы прятались в подвале дома. Пришли немцы. Остановились, устроились, воду брали, еду какую-то.
– Вы помните эту деревню, как она называется?
– Николаевская. Через некоторое время стали забирать молодежь в Германию. Назначили день, когда мы должны явиться. Нам не хотелось уезжать, многие делали попытки остаться, пили крепкий чай, после этого очень сердце билось, комиссия отстраняла таких. Я тоже это делала, и пару раз меня не трогали. Некоторые женщины детей прятали, чтобы их не забрали в Германию. Моя мама так не делала. И ничего не оставалось мне, когда принесли повестку, как ехать в Германию. Война еще была далеко, туда к Москве, у нас тишина была, каждый надеялся, что она закончится, и мы приедем домой, а оказалось по-другому…
Приехали в Германию, контактов с родителями никаких. Меня определили на швейную фабрику, шила подушки, наволочки, простыни для госпиталей. Закончилась война, и я решила поехать домой. В дороге встречаю одну женщину, русскую, она говорит, что у нее есть сын, она от него не имела вестей, только получила открытку, что он жив. Оказывается, он был в плену у англичан. Потом говорит: я бы очень хотела русскую невесту для сына. Ведь она раньше жила в Сибири. Ее муж приехал туда из Австрии, вычитал в газете, что в России идет набор специалистов по колбасному делу. Он и завербовался. Уехал в Сибирь, устроился на работу, получил квартиру.
– В каком же это было году?
– В 1937-м. Скоро стал начальником цеха, и ему предложили остаться в Советском Союзе и подданство принять. Но он не захотел: видел много несправедливостей в России. Он получал продукты и одежду из закрытого распределителя, а остальные люди голодали. Он говорил, что так не должно быть. И он вернулся в Австрию. Моему мужу теперешнему (его сыну) было тогда 13 лет, и он, значит, приехал с родителями сюда. Мать – русская, отец – чешско-австрийского происхождения. Ну и так как эта женщина, которую я встретила, хотела русскую жену для своего сына, она уговорила меня остаться здесь. Познакомила с сыном, славный такой парень. И мы поженились. Вот так…
– Как зовут вашего мужа?
– Петр Антонович. Но я вам хочу сказать, когда здесь были русские, нам надо было прятаться, потому что нас ловили на улице, как только увидят, хватают и сажают в машину.
– Это все в войну?
– Нет, уже когда война закончилась. Многие не хотели возвращаться – боялись, а у кого-то, как у меня, уже была здесь семья. Меняли русские фамилии на иностранные.
– А как вы научились говорить по-немецки?
– Мало-помалу… Ну мы же так давно живем здесь.
– Вначале трудно было?
– Нет, нисколько не трудно. Ведь когда в России жила, немецкий язык изучала в школе. Ну конечно, этого было недостаточно. Но мой муж говорит и по-русски. Что еще вас интересует?
– Судьба ваших родителей…
– Ну, судьба очень тяжелая. Очень тяжелая. Я была в России…
– Когда?
– Была в прошлом году.
– Первый раз?
– Нет, это было не первый раз.
– А в первый раз когда вы поехали? Расскажите о той поездке.
– В первый раз поехала в 1961 году. Тому, что я увидела, ужаснулась.
– Чему ужаснулись?
– Я видела на вокзале военных людей с медалями, играют на гармошке и просят подаяние.
– Вас это удивило?
– Это меня очень удивило – страна-победительница, а на вокзалах нищие военные сидят.
– Что еще вас тогда поразило?
– Поразили почти пустые базары, плохо одетые люди. С продовольствием было неважно. Бедная Россия…
Я слышала, как мужчина в очереди за картофелем сказал: «Я живу в первом поясе, в Вологде, у нас ни картошки, ни лука». Что это за пояса такие? Выходит, страна одна, а снабжается по-разному.
– С семьей вы поддерживали связь?
– Семнадцать лет не было связи.
– То есть вы не знали, живы родители или нет?
– Не знала.
– Вы говорите, что тяжелая судьба была у ваших родственников…
– Мужа моей сестры посадили, отправили в Сибирь. И у другой сестры муж за то, что он что-то там сказал про колхозы плохое, получил 25 лет.
– Почему же вы семнадцать лет не искали связи с родителями?
– Боялась. Боялась, потому что в Австрии жила в русской зоне. А в русской зоне могли в любое время забрать и отправить в Россию. Еду как-то в трамвае, рядом стоит полковник, спрашивает по-русски, его не понимают, я помогла перевести его вопрос, и он на меня напал: а вы как здесь, а вы почему здесь? А где вы живете, а мы вас заберем…
– В каком году это было?
– Это было… у меня уже сын был, году в 1949-м. Я говорю, простите, у меня здесь муж, ребенок. Он говорит: «Мы вас и спрашивать не будем. Муж и ребенок пусть остаются здесь, а нам надо родину отстраивать». Ох как мы боялись! Мой муж запирал меня в квартире на ключ.
– Сначала вас насильно угоняли немцы, а потом насильно свои?
– Да, насильно. Но я хотела на родину, я только не знала, куда. Живы ли мои родители или нет? Там эта местность, где мы жили, пять или шесть раз переходила туда-сюда, туда-сюда, фронт переходил, так что, я думала, возможно, они погибли: ну куда мне ехать? Вот такая моя судьба. После смерти Сталина, при Хрущеве, уже можно было на родину ездить.
– Как вы прожили эти долгие годы?
– Ну знаете, после войны и здесь никто не жил уж очень хорошо, но и никто не страдал, как в России. Никто. Мы имели карточки, и по карточкам каждый получал все, никто не голодал.
– Вас интересовали события, происходившие в России?
– Мы обрадовались, что Сталина нет. И обрадовались, что Хрущев поначалу повел себя вполне демократично. А потом, когда увидели его выкрутасы, что он землю стал у крестьян отбирать, люди стали опять недовольны, и мы здесь уже хорошего от России не ожидали.
– Трудно было вам, простому русскому человеку, врастать в эту местную жизнь, совсем другой мир?
– А что я с детства видела на родине? Голод и холод. Сталин людям хорошего ничего не желал. Вы знаете о голоде в 1933 году? Тухла Украина, люди умирали. Иду в школу, там лежит мертвый, там лежит мертвый, там лежит мертвый… Мне было тогда лет двенадцать. И я это видела и запомнила.
Мама говорит: иди на поле, собери колосьев. Была осень, шли дожди, колосья уже проросли, а она говорит: ничего, надо собирать и такие. И я пошла в поле с маленьким ведерочком, смотрю: человек на лошади – прямо на меня… Что такое? Председатель колхоза стал гонять меня по степи с кнутом, бил, пока я не бросила все и не побежала в деревню.
– А как тогда объясняли, почему возник этот голод?
– На Украине такой разговор шел: Сталин сказал, пусть умирает народ, который нам не нужен. Дескать, умирает чуждоклассовый элемент.
– Так говорили?
– Так говорили. Что еще помню? Самое страшное, вы даже не поверите: люди ели людей. Каннибализм. Моя сестра работала на фабрике-кухне. У ее подруги в деревне жили мать и двое маленьких братиков. Приезжает, идет через деревню, вся деревня пустая, окна забиты. Входит в избу и видит: один брат лежит мертвый, а второй сидит на окошке, худой весь, аж зеленый уж. Спрашивает: «А где мама?» – «Мамы нет. Мама умерла. В комнате лежит».
Зашла она в комнату и застыла, как вкопанная: у матери вырезаны некоторые места… Она так испугалась, что тут же сбежала, боялась, что ее тоже могут убить и съесть. Вот так было.
– Какие воспоминания остались у вас о коллективизации?
– Я была маленькая и многого не помню. Мой папа умер, когда мне было шесть лет. Но помню только, у всех наших родственников все забрали. Они остались ни с чем. И еще помню пожары каждую ночь: где-то что-то горит. Поджигали зажиточные дома, чтобы в колхоз шли.
– Скажите, а у вас было такое ощущение в те годы, что вы с родиной порвали навсегда?
– Да, было такое ощущение, и я страдала. Очень страдала. Я никому ничего плохого не сделала; только потому, что мне понравился парень и я вышла замуж, могла потерять родителей и свою родину навсегда.
– Ваше счастье, что здесь остались. Если бы вернулись, то скорее всего не к родителям, а прямо в лагерь.
– Да, наверняка, наверняка. Это так, конечно. Помню, мне в руки попала листовка, на ней изображен советский танк, и танкисты встречают девушку, угнанную в Германию. Она разрывает цепи, и все это с улыбкой, с радостью. Ну а когда потом русские стали нас ловить, я все вспоминала эту листовку.
– Когда вы приезжаете на родину, вы не замечаете слежку за вами? Повышенный к вам интерес?
– Один раз было. В поезде я ехала, и в вагоне сидел мужчина, который меня все расспрашивал. Я ничего особенного не подумала. А потом, когда он встал и ушел, пришел другой и опять почти о том же самом стал расспрашивать. Я и засомневалась.
Но я ничего не боялась. Ведь я никакого преступления не сделала ни здесь, ни в России, мне нечего бояться. Пусть следят, сколько хотят.
– Вы встречаетесь здесь с русскими людьми?
– Когда я наблюдала жизнь эмигрантов из других стран, я видела, как они между собой были дружны. Помогали друг другу, и, если кто-нибудь заболевал, совершенно чужая женщина или мужчина приходили с гостинцами в госпиталь. Это меня очень удивляло. А мы, наша советская генерация, этого не знаем. Мы боимся друг друга.
– И сейчас?
– И сейчас. Мы сходимся, поздороваемся, и больше между нами контакта нет. Какие-то странные люди. Все друг на друга искоса смотрят. Контакта между нами почти нет.
– А с чем это связано?
– С чем связано? Друг друга подозревают в шпионаже. Этот шпион, этот шпион, этот шпион… Сейчас я мало где бываю. А раньше было так.
– Бывали ли в других странах?
– Была в Испании туристкой. И что меня удивило. Когда я еду в Россию, такие тщательные проверки, такие тщательные – то на паспорт смотрят, то на фотографию, то на тебя. Прямо страшно. А в Испании – будочка, где сидит тот, который паспорта проверяет, возле него мальчик, и он ему показывает книгу, видно, мальчик ходит в первый класс: А, В, С… А мы идем мимо, раскрыли паспорт, и он нам показывает – проходите, мол, проходите, проходите. И не смотрит даже на паспорт. А я вспомнила, что в России все не так.
– Когда вы идете по улице и слышите русскую речь, вы подходите к этому человеку, или, наоборот, вы с кем-то по-русски говорили, кто-то подходил к вам, останавливался?
– Я это делала один раз. Во времена Хрущева это было. Тогда сюда автобусами приезжали из России туристы. И вот идет один раз группа туристов, я подошла, слышу русскую речь. Меня очень заинтересовало, и я заговорила с ними. А они мне и говорят: «Что ж это у вас в магазинах, вроде бы, все есть, но покупательская способность очень маленькая?» – «Почему, – спрашиваю, – маленькая?» – «Да потому, – отвечают, – что приходит женщина и просит сто граммов колбасы, а у нас килограммами покупают». Они даже не могли понять, как это – купить на ужин сто граммов свежей колбасы.
И еще случай, когда я стала переводчицей у артистов Большого театра. У нас была соседка – прима-балерина Венской оперы, она меня и рекомендовала. Было удивительно: эти балерины так мало получали денег, что они себе (их определили в очень хороший отель) варили манную кашу, и эта каша сбегала на ковры, и все это было очень неприлично.
– Значит, вы, русские, по-прежнему боитесь друг друга?
– Я не в России уже почти полвека, а когда слышу о КГБ, мурашки по телу бегут. Страх этот остался. А вот сейчас есть КГБ или нет? Много ли их у вас?..
Вам интересно было бы поехать в Зальцбург, там были лагеря, и там я слышала о трагедии казаков, которых англичане передали русским. Все они, конечно, погибли. Многие, чтобы не возвращаться в Россию, руки на себя накладывали.
– Скажите, пожалуйста, как можно суммировать ваши чувства по отношению к родине? Чего в вас больше – страха, восхищения, ненависти, любви, трепета?
– Знаете, обида, большая обида. Приезжаю к себе на родину и вижу: старушка в грязной фланелевой фуфайке на горбу несет мешок. Точно так, как при Сталине. Какая бедность на такой земле, где бросишь зернышко, и оно вырастет. И бедность страшная. А этого не должно быть. Ведь вы – страна-победительница…
– Некоторые считают, что в характере, в натуре русского человека заложена леность, нежелание работать. А как вы считаете?
– Знаете, когда на Украину пришли немцы, они вначале вели фальшивую политику: обещали землю, оставили колхозы, не знаю, почему так сделали. Может быть, увидели, что это доходное дело. Но люди, получившие землю, работали даже ночью, при луне. Работали на себя. Вот я и думала, что, если частная собственность будет у вас, значит, и Украина будет хорошо жить.
– А как вы относитесь к тому, что в России сейчас не только коммунистическая партия, но и другие партии появились?
– Многопартийность – это хорошо. В Австрии, например, если только одна партия плохо что делает, сразу включается другая и контролирует ее, критикует. А в России была одна партия, и некому ее критиковать, что хотели, то и делали. Никто не может защитить в России человека.
– А как вы относитесь к коммунистам? У вас в семье не было большевиков?
– Нет, не было. Слава Богу, что не было. А то была бы уже, наверное, в лагере.
– Скажите, хотя мой вопрос, конечно же, странный, то, что вы попали сюда, – это несчастье или везение, удача?
– Русские мне говорят: «Вы счастливый человек, что оказались здесь».
Март, 1991Глава 2. Художник Олег Целков: «Сталин умер, но сталинщина продолжалась»
Иосиф Бродский назвал Олега Целкова «самым выдающимся русским художником всего послевоенного периода».
С 1977 года художник живет во Франции. Я встречался с Олегом Николаевичем в его парижской квартире на улице Святого Мавра и в Москве, когда он приезжал на родину в дни открытия своей выставки в Третьяковке. Интервью с художником, выдержки из которого приведены далее, вошло в мою книгу «После России», вышедшую в 1992 году и посвященную судьбам русской эмиграции. Горжусь тем, что в оформлении этой книги использованы фрагменты его знаменитых масок, ставших лицом неофициальной русской живописи.
– Первые годы моей учебы в Московской средней художественной школе при Академии художеств СССР совпали с последними годами жизни Сталина. Этот изверг окончательно завершил еще начатое до войны уничтожение всего живого, превращая советских людей в послушные «винтики». Зощенко и Ахматова, Прокофьев и Шостакович, актер Михоэлс и врачи – «убийцы в белых халатах» были верхушкой огромного смертного айсберга.
Меня – наивного самоучку, не понимавшего, что происходит вокруг, сразу же начали «исправлять» и «образовывать». Удивленный, я стал анализировать происходящее. Глаза стали открываться, тем более что я познакомился с картинами русских художников 1910–1930-х годов – русским авангардом, не принимавшимся официозным государственным искусством. Я начал неумело и робко подражать увиденному, за что осенью 1953 года, после окончания художественной школы, меня не приняли в институт имени Сурикова. Пришлось немедленно ехать в Минск, чтобы сдать экзамены там. Сдал. По окончании учебного года студенческие работы посмотрел какой-то местный партийный «ревизор», и они вызвали у него недоумение. Меня погнали вон.
Еду в Ленинград, сдаю экзамены в Академию художеств имени Репина. Год учусь, и снова меня выгоняют. По требованию студентов-китайцев, которые обратились к ректору с протестом: дескать, работы Целкова оказывают на них вредное буржуазное влияние.
После смерти Сталина идеологическая атмосфера чуть-чуть стала меняться, началась «оттепель». Меня принял в Ленинградский институт театра и кино на свой курс режиссер и художник Николай Акимов, чем спас от унижения службы в советской армии.
1956 год. Два моих маленьких натюрморта попадают в Москве на выставку молодых художников. Многие газеты их выругали в своих рецензиях. И снова меня спасает неожиданное – известный поэт Пабло Неруда прислал из Чили ободряющее письмо. Чтобы выжить, я стал продавать кое-какие картины своим друзьям, но милиция и КГБ постоянно напоминали, что в любой момент без труда смогут начать преследование меня как «ведущего паразитический образ жизни». Сталин умер, но сталинщина продолжалась.
– А что же такое для вас сталинщина?
– Это то, что для меня было неотделимо от коммунизма как такового: Сталин и сталинщина, Ленин и ленинщина, Мао Дзэдун и маодзэдуновщина, Пол Пот и полпотовщина, Ким Ир Сен и кимирсеновщина, Чаушеску и чаушесковщина… Хотите, можете продолжить. У этой болезни неизбежные симптомы: на третий день появляется сыпь, на четвертый – болит в горле, на пятый – глаза выходят из орбит. Маленькую разницу можно не принимать всерьез: к примеру, разве Тито насаждал другой коммунизм? Ничего подобного, абсолютно такой же, как у Сталина. А Энвер Ходжа? А Фидель Кастро, которому аплодировал весь Запад. Когда я приехал в Париж, на каждом шагу висели его портреты. Так что не обессудьте, коммунизм по мне – это кошмарная болезнь, наподобие средневековой чумы. Это – язва человеческой психики.
…Я оглянулся на прожитую жизнь. В конце концов я доказал себе и другим, что и в условиях тотального коммунистического гнета можно не терять мужества, оставаться личностью, делать дело по собственному выбору и вкусу. И хотя была создана такая система, в которой подобные мне могли бы и не появиться, я не только появился, но и выстоял. И я был не один!
– А если бы вы все-таки не уехали 4 октября 1977 года из России, что бы с вами стало?
– Сейчас я отчетливо понимаю: останься я там – погиб бы. Да, да, скорее всего, так… Говорят, однажды Луи Арагон, посмотрев мои картины, бросил: «Скажите этому парню: ему надо ехать в Париж» (это было, когда я еще жил в СССР). В то время эта фраза означала примерно такое: человеку-дистрофику в Бухенвальде говорят: «Знаете, вам необходимо побольше кушать, напрасно вы, батенька, пренебрегаете сливочным маслом». Арагон сказал это без иронии, но для меня его совет звучал как чудовищная издевка.
– О чем или против чего ваши картины?
– Против диктатуры. Против всего, что унижает человека. Я понимал, что живу в очень страшной системе. Мне знаком из истории такой факт. Во времена Гитлера фашистские врачи пытались найти способ стерилизовать женщин, они понимали, что, захватив чужие территории, должны будут еще и контролировать рождаемость. Для этого так называемые «врачи» в концлагерях отбирали энное количество молодых здоровых женщин, в половые органы которых вводили что-нибудь типа негашеной извести. При этом не применялись никакие обезболивающие средства. Испытуемые в муках умирали, но не все. Выжившие, конечно же, изуродованные, становились материалом для научных диссертаций. Вот эта картинка, этот пример может служить иллюстрацией моего понимания коммунизма. Все действия, которые совершал коммунизм в мире, происходили по такому сценарию. Этот страшный образчик коммунистической идеологии здесь, вне России, я понимаю особенно ярко.
Кстати, я никогда не был борцом, демонстрантом, подписантом. Быть борцом значит бороться. А борьба предполагает диалог. Как в тюрьме, где есть заключенный и надзиратель, и между ними существует диалог. Я не мог представить свой диалог с властью. Мне с коммунистами говорить было не о чем. Поэтому я старался по возможности жить тихо.
– А ситуация казалась вам безвыходной?
– Да. Та ситуация была совершенно и абсолютно безвыходной. Казалось, что она будет такой всегда, вечно. И то, что я здесь, для меня спасение.
Когда к нам домой приходил милиционер и спрашивал моего отца-коммуниста, который за свой партбилет отдал бы жизнь, обо мне, я понимал эту «игру», этот абсурд. «Ваш сын где-нибудь работает?» – спрашивал он отца. Отец наивно задавал ему свой вопрос: «А что, мой сын обокрал ларек?» Милиционер в ответ: «Нет, не обокрал, но у нас ведь все должны работать!» Отец: «Мой сын работает с утра до вечера». Представитель власти: «Но ведь он должен на что-то есть». Отец: «Я его кормлю, он мой сын».
Я чувствовал себя абсолютно чужим в той системе античеловеческих координат, зародившихся при Сталине, для которого все люди были «винтиками» в государственной системе. Их можно было или выстроить в шеренгу, или в случае малейшего неповиновения просто закопать…
Париж, 1989Глава 3. Главный редактор радио «Свобода» Владимир Матусевич; «Из командировки в Данию я вернулся другим человеком…»
– По профессии я был киноведом, работал в институте истории культуры, специализировался на скандинавском кино. Писал диссертацию о норвежском писателе Нурдале Григе. На борту канадского бомбардировщика он погиб под Берлином, хотя летчиком не был. Изучая творчество Грига, его жизнь, я испытал глубочайший шок, после которого не мог продолжать работу. Дело в том, что в конце 30-х годов, после испанской гражданской войны, в самое страшное время сталинских «чисток» он жил в Советском Союзе. Членом партии не был, но считал себя ярым коммунистом. Мне удалось найти людей, которые его знали в Москве, и они поведали следующее: у Грига была любимая женщина, латышка по национальности, советская гражданка. Он описывает ее в своем романе «Мир еще может стать молодым», в котором практически оправдывает ужас террора, сталинские процессы. На русский язык роман не переводился. И вот после того как я узнал с абсолютной степенью достоверности, что он выдал НКВД эту женщину, выдал совершенно спокойно, уверовав в то, что это предательство по отношению к ней необходимо для дела коммунизма, и она исчезла на Лубянке, я уже не мог заниматься творчеством этого негодяя. Диссертацию свою я не дописал.
Так вот, мне дико повезло, когда осенью 1967 года министерство культуры Дании пригласило меня на месяц на работу в Копенгаген. Как ни странно, выпустили. Пробыв за границей недолго, я вернулся домой. Но вернулся уже другим человеком. Все было невмоготу. Когда меня потом расспрашивали, почему я решил покинуть родину, я, не кривя душой, объяснял: не приемлю систему. Но если быть абсолютно честным, то толчком для отъезда за границу стал в сущности незначительный, но сильный эпизод. В Дании я случайно на улице познакомился с девушкой. Между нами начался легкий, ни к чему не обязывающий роман. И вот однажды она повезла меня на машине в излюбленное место прогулок любовных парочек в центре Копенгагена, где сидит знаменитая русалка. Мы сидели в машине, целовались, и вдруг я с ужасом увидел, что рядом с нами остановился «Москвич», а в нем двое молодых людей, наружностью и одеждой вроде бы советские. Моя подруга заметила, что я изменился в лице, побледнел, обмер. «В чем дело, что случилось?» – недоуменно спросила она. – «Ты знаешь, мне кажется, что эти двое из советского посольства». Она спокойно посмотрела на меня и сказала: «Ну и что?» И вдруг стала тихо плакать и промолвила: «Владимир, я не могла помыслить, что встречу такого несчастного человека». Я сначала не понял. Это я-то несчастный! На дворе 1967 год, я нахожусь в Дании, в Европе, в кармане есть какие-то деньги, и впереди у меня еще целый месяц пребывания в капстране. Да кто может быть счастливее меня! И тут я посмотрел на себя ее глазами и увидел крепостного, холуя. Холуя, которому нежданно-негаданно кинули с барского стола блин с паюсной икрой. Именно в те минуты я стал другим человеком. Я понял, как страшна жизнь в «концлагере». Хотя после смерти Сталина прошло пятнадцать лет, и «железный занавес», вроде бы, рухнул, сталинщина нас не отпускает, ужас вцепился в нас мертвой хваткой.
На родину я вернулся. Чтобы завершить сложные отношения с женой. Разведясь с ней, я стал сводным. Свободным, готовым к отъезду. Спустя семь месяцев, когда выпал случай снова поехать в Норвегию, я уже не колебался.
– А что дальше? Какова была дорога к «Свободе»?
– Когда после основательной проверки мне дали политическое убежище в Дании, зашумели газеты, на меня посыпались предложения из разных учреждений и ведомств. В то время каждый человек из Советского Союза был на вес золота. Не то что потом, когда валом пошла эмиграция. Я любил Данию, знал ее, и поэтому меня взяли на «Свободу» скандинавским корреспондентом. В Копенгагене я проработал шесть лет, пока меня не уговорили приехать сюда, в Мюнхен, на должность главного редактора радио «Свобода». В то время мало кто решался из советских людей выступать на нашей станции. Но мы выдали в эфир главы из романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»…
– Владимир Борисович, что вас больше всего потрясло из происходившего в России за последние десятилетия?
– Самое недавнее потрясение, конечно же, публикация «Архипелага ГУЛАГа», но я был шокирован, когда узнал, что «Новый мир» опубликует роман Оруэлла «1984».
– Почему?
– Теоретически можно представить социализм и без ГУЛАГа, но Оруэлл дает убийственный анализ самой социалистической идеи, ее воплощения сверху до низу, горизонтально, вертикально, как угодно…
– Вы долгие годы вращались среди русской эмиграции, застали тех, кто приехал на Запад после революции и в годы войны, убегая от ленинско-сталинского террора. Что осталось в памяти от их наверняка шокирующих признаний?
– Да, здесь на «Свободе» еще работали люди, которые покинули родину детьми, подростками. Прежде всего, они меня поражали удивительно чистым, богатым, свободным от советизмов русским языком. Поражали подлинной интеллигентностью и, я бы сказал, европейской образованностью. Могу назвать имена: Виктор Франк, Александр Бахрах, Гейко Газданов, Владимир Варшавский, Никита Струве… Честно говоря, я не подозревал о существовании таких людей – представителей целого пласта русской культуры, которая позже была изувечена советской идеологией, сталинщиной.
Фрагменты интервью с Владимиром Матусевичем, Мюнхен, 1988Глава 4. Югославский диссидент русского происхождения, писатель Михайло Михайлов: «Сталинизм был лишь материализацией психических потребностей миллионов зрителей…»
С Михайло Михайловым я познакомился много лет назад в Вашингтоне. Он интервьюировал меня на радио «Голос Америки», а я «алаверды» сделал с ним обширное интервью для перестроечной российской прессы. То были переломные времена, когда советские журналисты, выезжая за границу, уже не боялись контактов со своими западными коллегами, а наиболее «напроломные» шли прямо в «логово» западных радиостанций.
Югославский американец русского происхождения, человек-легенда Михайло Михайлов оказался интеллигентным, приветливым, ярко и парадоксально мыслящим человеком. Он одарил меня кучей журналов, книг, газетных вырезок о своем диссидентском и творческом пути. К сожалению, мне ни разу не привелось использовать эти материалы. Тито, диссидентское движение в Европе, югославские события – эти темы были для меня несколько специфичны. В 90-е годы открывалось так много «белых пятен» отечественной истории…
Среди материалов, которые Михайлов подарил мне при расставании, была копия его знаменитой книги «Московское лето, 1964». Перелистав ее, я понял, что многое из написанного им более пятидесяти лет назад, интересно и поучительно сегодня. Ее фрагменты представляю читателю.
ХХ съезд разрушил многолетний миф, «обезглавил» многих людей, выбил у них из-под ног психологическую основу и во всяком случае создал немалое количество потерявших себя людей, похожих по своему внутреннему состоянию на героев «Преступления и наказания».
Конечно, XX съезд внес много положительного как раз тем, что он порвал нить, на которой в течение трех десятилетий психически держалась определенная система. Но так же, как Сталин не один виноват в сталинизме, так и XX съезд не в силах был уничтожить всех тех многочисленных зрителей, которые только и ждут, чтобы поклониться какому-нибудь божеству. Не подлежит сомнению, что сталинизм был лишь материализацией психических потребностей миллионов зрителей, для которых свобода личного решения в каждую минуту жизни в полном смысле слова ужасна, тяжела, невозможна и которые из-за плебейства своего духа не могут существовать без «хозяина».
Быть субъектом слишком тяжело. Легче – объектом. Слишком тяжело – личностью, легче – коллективом! Слишком тяжело нести за все ответственность – легче объявить, что человек подчинен естественным «законам» развития общества.
Первой характерной чертой «гомо советикуса» является одобрение и принятие любого одобрения руководства. Причем – искреннее одобрение. Второй – наивное и неосознанное иезуитство того типа, как его изобразил Достоевский в облике Эркеля – одной из эпизодических личностей «Бесов» – честного, чувствительного и приятного в личной жизни человека, но способного на самые большие подлости во имя «высшей идеи»:
«Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры – о, конечно, не иначе, как ради “общего” и “великого дела”. Но и это было все равно. Ибо маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служения идее иначе, как слив ее с самим лицом, по их понятию выражающему эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый Эркель быть может, был самым бесчеловечным из убийц…» (Достоевский «Бесы», часть 3, глава 5).
Первое впечатление, которое оставляет «гомо советикус», – незрелость. Именно наивная способность верить даже в собственную ложь, сознательное отбрасывание всего того, что обличает эту ложь, психическое и теоретическое оправдание самой дикой подлости во имя «высших целей» – все это составляет психологию среднего «гомо советикуса». Наивно полагать, что какая бы то ни было тирания держалась на подлецах. Носитель любой, даже самой страшной диктатуры, это честные фанатики. Сознательных подлецов всегда мало, и они не приносят столько зла, как честные фанатики.
Общественная система в Советском Союзе способствует развитию именно Эркелей, начиная с песенок, со школьной системы с насильственным воспитанием так называемого духа коллективизма, то есть с уничтожением всякой индивидуальной сущности человека.
Что касается положения в Советском Союзе, писатель Леонов считает, что главной и единственной важной проблемой является нахождение и устранение причин, сделавших возможной сталинщину. К сожалению, власть еще до сих пор всеми возможными средствами замедляет либерализацию.
– О советских лагерях, – говорит Леонов, – будут писать еще восемьдесят лет.
Леонов прав. Тема концлагеря в русской литературе находится только в зачатке. Год тому назад Хрущев заявил, что редакции литературных журналов получили около десяти тысяч романов, рассказов и воспоминаний на концлагерные темы, что, впрочем, и не так уж много, потому что считается, что в течение трех десятков лет в лагерях постоянно находилось от 8 до 12 миллионов человек.
Несмотря на то, что из огромного количества этих произведений опубликована совсем незначительная часть («Это очень опасная тема и трудный материал», – сказал Хрущев), советские журналы все больше и больше становятся похожими на анналы о злодеяниях инквизиции Филиппа II. Большинство реабилитированных, которые имели счастье дожить до середины 1950-х годов и выйти из лагеря, не желают молчать. Так что у советской власти сегодня имеются только две возможности: снова загнать в лагеря всех реабилитированных (чего Хрущев не хочет и уже не может сделать) или дать им свободно высказываться. Это последнее сейчас как раз и происходит, и тормоза действуют все слабее. После повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» наибольший интерес в этом году вызвали воспоминания генерала армии А. В. Горбатова, напечатанные в 3, 4 и 5-м номерах «Нового мира» за 1964 год.
Самые потрясающие места в его воспоминаниях, где Горбатов описывает советские тюрьмы и лагеря, в которые он попал перед Второй мировой войной по ложному доносу. Писатель называет и настоящие имена своих мучителей, которые до сегодняшнего дня продолжают существовать безнаказанно:
«Но вскоре меня стали опять вызывать на допросы, и их было тоже пять. Во время одного из них я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя Столбунский. Не знаю, где он сейчас. Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое презрение к нему не только теперь, но и тогда, когда я был в его руках. Думаю, впрочем, что он это хорошо знал. Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача. И сейчас в моих ушах, когда меня, обессиленного и окровавленного, уносили, звучит зловеще шипящий голос Столбунского: “Подпишешь, подпишешь”. Выдержал я эту муку и во время второго круга допросов. Но когда началась третья серия допросов, как захотелось мне скорее умереть!»
Горбатов дает картины лагерного режима и показывает отношение власти к уголовникам и к «врагам народа»:
«Охрана во главе с начальником ладила с уркаганами, поощряла их склонность к насилию и пользовалась ими для издевательства над ”врагами народа”».
«На более тяжелую работу посылали, как правило, ”врагов народа“, на более легкую – ”друзей“, то есть уркаганов».
По поводу женских лагерей Горбатов пишет: «…Ведь это были наши матери, жены, сестры, дочери, чаще всего осужденные как члены семьи ”врагов народа“. Если мы не знали за собой никакой вины, то нас хоть в чем-то обвиняли, а эти несчастные были просто жертвами жестокого и открытого произвола».
Эти слова правды о действиях господства преступной сталинщины и трагедии русского и других советских народов ставят проблему, которую до сего времени обходили молчанием. Это вопрос людей, которые активно боролись против сталинщины еще задолго до 1956 года и говорили правду о положении в Советском Союзе… Так, например, известен случай Ивана Солоневича, которому удалось в 1934 году бежать на Запад из одного северного концлагеря. Он затем написал очень популярную книгу «Россия в концлагере». Между тем Иван Солоневич все еще считается «предателем трудового народа, наймитом капитализма» и т. д.
Таким образом, сегодня в СССР официально существует двойственное отношение и к сталинщине, и к борцам против нее. С одной стороны, сталинщина осуждается и объясняется антинародным преступным явлением, с другой – осуждаются антисталинцы. Рано или поздно это ненормальное положение должно быть устранено, а поскольку антисталинские силы находятся сегодня в сильном наступлении, то, судя по всему, этот вопрос вскоре будет внесен в повестку дня…
Все глубоко уверены, что борьба со сталинщиной только началась и настроены в отношении исхода этой борьбы оптимистически.
В Москве я слышал, что среди колхозников популярна пословица: «Ленин дал нам землю, а Сталин отобрал».
На известной встрече «руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции» 8 марта 1963 года Хрущев прочел письмо Михаила Шолохова, направленное Сталину (16 апреля 1933 г.), в котором великий писатель становился на защиту земледельцев своей области:
«Если все, описанное мною, заслуживает внимание ЦК, – писал Шолохов Сталину, – пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачать всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные ”методы“ пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это» («Правда» от 10 марта 1963 года, а также книга Н. С. Хрущева «Высокое призвание литературы и искусства», Москва, 1963, стр. 191).
Сталин, конечно, не реагировал, потому что он сам был главным вдохновителем «методов», хотя и лицемерно взял под защиту крестьян в своей известной статье «Головокружение от успехов».
Для справки:
Михайло Михайлов (1934–2010) – известный югославский диссидент русского происхождения, автор переведенных на десятки языков мира книг «Лето московское», «Русские темы», «“Мертвый дом” Достоевского и Солженицына», «Планетарное сознание», «Ненаучные мысли» и других, родился в Югославии в семье русских эмигрантов. В 1964 году стажировался на филологическом факультете МГУ, активно общался на московских кухнях с литераторами, художниками, учеными. Познакомился с Леонидом Леоновым, Ильей Эренбургом, Анной Ахматовой, подружился с Булатом Окуджавой, чье творчество активно пропагандировал на Западе. По возвращении написал книгу «Лето московское», в которой подверг критике советский коммунистический режим. В 1965 году после опубликования двух первых глав в югославском журнале Михайлова арестовали – прямо в стенах университета. Сам Тито требовал расправы над Михайловым.
Семь лет писатель провел в югославских тюрьмах; лишь в 1978 году, в результате правозащитной кампании, организованной президентом США Джимми Картером, он был освобожден и выслан из Югославии.
Полностью книга «Лето московское» вышла только на Западе.
В 1985 году Михайло Михайлов стал гражданином США. Он преподавал русскую литературу в нескольких американских университетах, а также в Великобритании и Западной Германии.
С 1985 по 1994 год Михайлов работал комментатором на радиостанции «Свободная Европа», неоднократно участвовал в радиопередачах «Голоса Америки» и был одним из ведущих активистов международного движения демократической оппозиции.
В 2001 году Михайло Михайлов вернулся в Сербию – уже после падения коммунизма и фактического распада прежней Югославии. Поселившись в Белграде, продолжал писать, активно участвуя в общественной жизни страны, выступая за глубокие демократические преобразования в сербском обществе.
Глава 5. Русско-канадский радиожурналист и писатель Мстислав Могилянский: «Пусть будут прокляты те, кто погубил моего отца…»
Слава очень любил чтение и был талантливым писателем, но что, может быть, важнее – он любил людей.
Ольга Михайловна МогилянскаяС Мстиславом Игоревичем и его женой Ольгой Михайловной Могилянскими я познакомился в Торонто в 1990 году. Запомнились их радушие, гостеприимство, а главное – искренний интерес к тому, что происходит на родине, и надежда, что русские люди в Советском Союзе, наконец, заживут достойно. В августе 1991 года Могилянские приехали в Москву на Первый конгресс соотечественников, их визит совпал с трагическими событиями так называемого августовского путча, в результате которого участники исторической встречи, приехавшие на родину после долгих лет эмиграции, оказались блокированы в гостинице «Россия» танками и БТРами. Помню, как взволнованы были Могилянские, как переживали за судьбу страны, с которой только-только, после прихода к власти Горбачева, начали налаживаться цивилизованные отношения.
Мы встречались, обсуждали творческие планы, беседовали, в том числе и о прошлом, воспоминания о котором у Мстислава Игоревича неразрывно связаны с его отцом.
– …Мой отец был выдающимся ученым в области авиации, аэродромостроения. У нас в доме часто бывали очень известные люди, например, авиаконструктор Туполев и «ракетчик» Королев, ядерный физик Капица, знаменитые летчики-испытатели.
Еще с середины 1920-х годов отец говорил о необходимости создания института, который бы готовил специалистов по строительству «воздушных портов». Однако советское руководство состояло тогда из полуграмотных партийных ставленников, которые к тому же с недоверием относились к людям с таким «социальным происхождением», как у отца. Но все-таки в 1930 году отцу поручили создать первый в стране Институт Гражданского Воздушного Флота, где главное внимание уделялось подготовке аэродромостроителей, в которых столь нуждалась страна. Трудов на эту тему ни у нас, ни за границей не было, и отцу пришлось сесть за написание научной книги, которая вышла в 1933 году под названием «Воздушные порты». Он находил время и для наблюдения за строительством по его проекту Ленинградского аэропорта. После выхода книги на отца обратило внимание командование ВВС, и его стали приглашать в качестве консультанта в разные города, где решено было построить аэродром, аэропорт или военную авиабазу.
Увлеченный своим делом, отец был далек от политики. Но как умный, любящий родину человек он не мог не возмущаться тем, что творилось после 1917 года, особенно в страшные годы начала НЭПа, когда Сталин захватил всю власть и приступил к массовому уничтожению не только интеллигенции, лучшей части крестьянства, но и своих недавних соратников, без которых это чудовище так и осталось бы мелким разбойником с большой дороги.
Когда в конце 1934 года у нас в городе был убит член Политбюро Киров (о том, что он был застрелен по приказу Сталина, мы узнали только в 1956 году от Хрущева), из Питера было выслано в Сибирь около ста тысяч человек из интеллигенции и «нэпманов», то есть людей, поставивших страну на ноги. Моему отцу было «предложено» бросить его детище – институт и отправляться строить канал Москва – Волга. Меня же отчислили из института как человека, недостойного звания советского студента ввиду моего социального происхождения.
Так мой отец оказался в городе Дмитрове (45 км от Москвы) – центре строительства канала, на котором работало примерно 150 тысяч заключенных. В этом городке жили как «вольнонаемные», так и инженеры-зэки.
Мы же с моим братом Юрием, как самые старшие, остались в Питере, (брат еще ходил в школу, а я сидел дома с «волчьим билетом»), чтобы сторожить нашу большую квартиру на Введенской улице, дом 7.
После того как Сталин в 1935 году провозгласил, что «сын за отца не отвечает», я смог поступить в мореходное училище.
Всю навигацию 1940 года я, будучи на предпоследнем курсе училища, ходил штурманом на турбоэлектроходе «Сталин» в прибалтийские страны, Германию (это было время сталинско-гитлеровской дружбы) и Швецию.
Но дьявольские силы, захватившие нашу страну, никого не оставляли в покое. И вот однажды, вернувшись из очередного рейса, я получил от мамы открытку, содержание которой останется в памяти до самой смерти: «Вчера ночью арестовали папу и увезли в Бутырку, захватив с собой все его бумаги… Надеюсь, арест папы не отразится на твоей судьбе».
Сообщив капитану о случившемся, я, по его совету, отправился в Ленпароходство и попросил снять меня со «Сталина», так как он ходит за границу.
Несколько раз меня вызывали в «Большой дом» на допросы. НКВД хотело знать, что отец говорил дома о советской власти, какие люди бывали у нас в гостях и т. п. Я отвечал, что он никогда не говорил о политике, и мы, дети, почти не видели отца из-за его занятости на работе.
После того как 22 июня 1941 года берлинский приятель Сталина (по мнению Солженицына, Гитлер был единственным человеком, которому это чудовище доверяло) двинул войска на Советский Союз, меня назначили помощником капитана старого эстонского судна «Захур», а брата Юру отправили на фронт военным кинокорреспондентом.
Сообщения об отступлении Красной Армии, о подходе немцев к Москве, с одной стороны, рождали тревогу, а с другой – вселяли твердую уверенность в том, что отец будет освобожден, так как в таких выдающихся специалистах наверняка появилась нужда. Ведь в первые же месяцы войны в западных областях немцы захватили все авиационные военные базы, все гражданские аэродромы и аэропорты, часть которых была спроектирована и построена под руководством отца. Значит, надо было строить новые на востоке страны…
В том, что Сталин не просто страшное, дьявольски хитрое, но и безумное чудовище, я окончательно убедился в ноябре 1942 года, когда меня вызвали в НКВД и сообщили, что мой отец (48-летний человек в расцвете сил, один из пионеров русской авиации) был расстрелян (статья 58).
После расстрела отца меня тут же разжаловали в солдаты и послали в окопы под Колпино. Матери я не стал сообщать о его гибели: боялся, что она, страшно ослабевшая от голода и уже потерявшая в апреле сына и дочь, не выдержит еще одного удара. Я обманул ее, сказав, что отец осужден на десять лет без права переписки, и выразил уверенность, что такого специалиста не заставят работать на лесоповале.
…В 1989 году я смог наконец (спасибо Горбачеву) пригласить в гости в Канаду мою младшую сестру Галину. Она рассказала, что за год до приезда ко мне прочитала в КГБ дело нашего бедного отца. Оказывается, его обвинили в измене Родине, шпионаже и других невероятных вещах. Все эти обвинения были основаны на показаниях, выбитых у ранее арестованных его сослуживцев.
Просматривая материалы, она нашла показания арестованных (некоторые фамилии мне были знакомы), а также добытые путем пыток показания самого отца «о его шпионской деятельности за границей». Оказывается, в 1930-е годы в Берлин под большим секретом была отправлена группа виднейших деятелей советской авиации. Помимо нашего отца в той группе были Туполев и Королев. Все они позже были арестованы. Отца обвинили в том, что во время этой секретной командировки он якобы установил связь с немецкой разведкой, а затем с той же целью ухитрился побывать в Париже! Во всю эту чушь, я убежден, не верили сами следователи. Правда, всякий, кто хоть немного знаком с тем, что творилось в СССР в сталинские времена, не будет удивлен, что по приказу свыше отцу и его сослуживцам «сшили дело», и все они были ликвидированы.
Особенно поразил сестру один документ из дела отца, странно, что он не был уничтожен после «суда» над отцом. Это «последнее слово», сказанное отцом, в котором он полностью отрицал все предъявленные ему лживые обвинения. Отца довели до такого состояния, что он уже не понимал, что творится кругом, что творится с ним, и подписал какие-то «показания».
Я очень-очень любил своего отца. Гордился его успехами в области авиастроения. Узнав от сестры о том, как отец ушел из жизни, и особенно его «последнее слово», я, спустя полвека, еще раз убедился, что отец был удивительно мужественным человеком.
Да будут навсегда прокляты те, кто его погубил…
* * *
…Я проработал тридцать лет в русском отделе «Радио Канада» и познакомился со многими выдающимися людьми, которых сам интервьюировал. В памяти остались весьма любопытные штрихи. По долгу службы мне пришлось иметь дело с Председателем Совета Министров СССР Косыгиным, а также с двумя членами Политбюро – Пельше и Полянским. Приезжали они к нам уже спустя много лет после смерти Сталина, однако тот страх, которым столько лет была объята Россия при жизни этого чудовища, все еще давал о себе знать во время их пребывания в Канаде. К примеру, когда наше радио предложило Полянскому выступить с трехминутным заявлением для передачи его в Союзе, то этот министр сельского хозяйства СССР вместе со своими советниками затратил несколько часов на составление трехминутного резюме о его канадских впечатлениях. Я был шокирован.
Во времена Хрущева в Канаду приехал Председатель Госстроя Новиков. Его и прибывших с ним видных инженеров интересовали канадские методы строительства на вечной мерзлоте, которая в Союзе охватывает около 40 процентов территории. С их делегацией я облетел всю канадскую Арктику с востока на запад на их комфортабельном правительственном самолете.
Во время остановки в Ванкувере министр обещал дать мне интервью в отеле, где мы остановились. Я, захватив магнитофон, явился к Новикову в номер и, к своему удивлению, увидел, что рядом с ним, человеком с полувековым опытом работы на ответственных постах, заместителем Косыгина, сидит самый молодой, лет тридцати, член делегации. Когда я закончил интервью с министром, а оно длилось более получаса, то этот типчик вдруг нагло заявил, что мы в начале беседы допустили пару ошибок. Я был уверен, что министр просто-напросто выгонит этого наглеца вон. Однако тот отреагировал иначе: побледнел и стал робко оправдываться. Видя, как старик оробел перед лицом юнца из КГБ, я сказал: «Давайте я перекручу ленту, и мы прослушаем начало беседы». Что я и сделал, после чего тот «специалист» с важным лицом заявил: «Нет, кажется, все в порядке».
Еще один небольшой, но очень забавный инцидент с делегацией Госстроя произошел перед посадкой в самолет в Оттаве. Я купил солидный журнал с большой фотографией Светланы Аллилуевой, которая буквально перед этим бежала на Запад. Увидев у меня в руках журнал, кто-то из советских гостей спросил, что за кинозвезда изображена на обложке. Я отвечаю: «Вам, господа, лучше знать, ведь это же дочь Сталина!» – и протянул ему журнал. Ответственный работник, поняв, какую оплошность он допустил, словно обжегшись, чуть не бросил журнал на землю, но, взяв себя в руки, наигранно-напряженно принялся рассматривать в нем другие фотографии. По поводу Аллилуевой я не услышал ни одного комментария.
Эти примеры мне лишний раз показали, что психология советских людей любого уровня осталась той же, какой она была при Сталине.
* * *
…В одну из встреч Мстислав Игоревич спросил, слышал ли я об Иване Солоневиче, очень популярной фигуре русского зарубежья. Конечно же, я слышал его имя, но знал о Солоневиче очень мало, поэтому попросил Могилянского рассказать более подробно об авторе запрещенной в советские времена знаменитой книги «Россия в концлагере».
– После войны я два года, до моего отъезда в Канаду, работал в администрации русского лагеря беженцев Фишбек под Гамбургом. В нем было лишь 10–15 процентов старых эмигрантов, то есть людей, которые никогда не были советскими подданными и поэтому не подлежали принудительной репатриации в Советский Союз согласно Ялтинскому соглашению, грубо нарушившему одно из основных прав человека. Все же остальные в нашем лагере были советскими людьми, вывезенными немцами во время войны в Германию на работу в промышленности или сельском хозяйстве. К счастью, военное командование английской зоны оккупации Германии, в которую входил и Гамбург, отнеслось с большой симпатией к русским беженцам и нашло способ оградить их от рыскавших по всей западной Германии советских репатриационных комиссий.
Работы в лагере было очень много, так как в него ежедневно прибывали все новые и новые беженцы, для которых нужно было оформлять документы, добывать дополнительное продовольствие, находить место для жилья.
Вот почему я часто засиживался в конторе лагеря до позднего вечера. И вот однажды в один из таких вечеров кто-то постучался в дверь и на мое «Войдите!» в комнату вошел очень смуглый мужчина, напоминавший большого медведя, стоящего на задних лапах. Узнав, что я работаю в администрации лагеря, он представился: «Иван Солоневич» и скромно добавил: «Возможно, вы слышали обо мне?» Надо сказать, что перед войной, в течение ряда лет, Солоневич был самым известным русским человеком, жившим за пределами своей родины. Сообщения о нем проникали даже в Союз, несмотря на «железный занавес» и сталинский режим террора.
Чем же объяснить такую известность? Солоневич работал журналистом и к началу 1930-х годов приобрел известность, главным образом, в спортивных кругах, так как активно занимался борьбой и тяжелой атлетикой и даже занял второе место на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике. В 1932 году его, сына Юрия и брата Бориса арестовали и отправили в ГУЛАГ, на строительство Беломорско-Балтийского канала. И вот из этого огромного лагеря Солоневичам удалось бежать в Финляндию и начать бурную антисоветскую деятельность.
Позже Иван Солоневич написал книгу «Россия в концлагере» – первую правдивую книгу о сталинском режиме. Она стала бестселлером, ее издавали в разных странах. Подобные правдивые вещи писались и раньше, но не имели успеха на Западе, где многие продолжали верить в то, что коммунисты строят в России рай на земле. Для тех же, кто приезжал в Союз, чтобы посмотреть, как этот рай создается, власти устраивали такую показуху, что на нее клевали даже самые известные западные политические деятели и писатели. Приведу только один пример: в начале 1930-х годов, когда Сталин начал проводить принудительную коллективизацию, вызвавшую ужасный голод, стоивший жизни многим миллионам людей, в Союз приехал известный английский писатель Бернард Шоу, человек весьма левых взглядов. По возвращении Шоу в Лондон его стали спрашивать, наблюдал ли он в Союзе какой-либо голод, о котором ходят слухи? Шоу ответил: «Я еще нигде так вкусно и сытно не ел, как в Советском Союзе».
Так вот, в 1946 году мне было суждено познакомиться с первым, до Солженицына, писателем из Союза, на книги которого обратил внимание весь мир.
После того, как я вызвал в контору заведующего нашим лагерем Бориса Житкова, Солоневич рассказал, что привело его к нам. Дело в том, что в 1943 году, когда положение немцев на восточном фронте стало ухудшаться с каждым днем, министр пропаганды Геббельс вызвал в Берлин Солоневича из Софии, где он обосновался после побега и организовал издательство (там была попытка НКВД его убить, но от присланной по почте бомбы погиб не он, а его жена и секретарь). Зная, видимо, о его взглядах и способностях, Геббельс предложил Солоневичу возглавить в министерстве отдел антисоветской пропаганды. Писатель, однако, со свойственной ему прямотой и мужеством заявил на это, что он категорически отказывается от какого-либо сотрудничества с гитлеровской Германией, которая ведет себя с русским народом не лучше, чем большевики. В результате Солоневич со своим сыном Юрием, его женой и маленьким ребенком были сосланы в маленький город в Померании, где жили под домашним арестом до весны 1945 года.
Когда фронт стал приближаться к этому городку, и в нем начала слышаться канонада советской артиллерии, Солоневичи решили, что им пора уходить на запад. Собрав самое необходимое в рюкзаки (включая ту портативную машинку, на которой писалась книга «Россия в концлагере»), они дождались ночи и, оглушив тяжелым предметом немца, стоявшего на страже у их дверей, влились в тот поток военных и штатских людей, в том числе и крестьян из Союза, которые не хотели попадаться в руки советской армии.
В конце концов Солоневичи добрались до Гамбурга. Этот город сразу после окончания войны стал центром английской оккупационной зоны. Там, захватив с собой проспекты о выходе его книг в Англии и критические статьи о них в английской печати, Солоневич отправился к главному командованию оккупационных войск с просьбой принять его с семьей под защиту.
К счастью, командование отнеслось к известному писателю с большим вниманием и, сознавая, что ему грозит опасность с советской стороны, предоставило ему небольшой дом за городом и даже мотоцикл для связи с Гамбургом. Однако на продовольственные карточки, которые ему выдали, было трудно прожить. «Вот почему, – сказал нам писатель, – я решил приехать к вам, как только узнал, что был создан лагерь для русских «перемещенных лиц». Дело в том, что, покидая Померанию, я смог захватить с собой мою русскую пишущую машинку. Решив, что такая машинка вам может пригодиться, я привез ее с тем, чтобы обменять на что-нибудь съестное».
На это мы с Житковым в один голос ответили, что нам до зарезу нужна такая машинка, ведь в те послевоенные времена в Германии вообще невозможно было достать какую-либо машинку.
Заплатили мы ему за машинку очень неплохо по тем временам: мешок риса, мясные консервы, масло и тому подобное. Пока Житков ходил на склад и доставал все это продовольствие, я пригласил Солоневича к себе, угостил его чаем с печеньем, и он рассказал мне о своей удивительно сложившейся жизни, о том, как они с братом подготавливали побег из лагеря в Финляндию – эти подробности он не включил в книгу «Россия в концлагере», принесшую ему большую известность.
Солоневичи опасались выходить из дома в дневное время, поэтому, как только мы помогли ему погрузить на мотоцикл продовольствие, наш гость еще до рассвета отправился в обратный путь.
С того дня и до самого моего отъезда в Канаду, осенью 1947 года, в конторе я ежедневно пользовался той самой машинкой, на которой была написана первая книга, обратившая внимание всего мира на подлинное положение в Советском Союзе.
Вскоре после моего отъезда в Канаду Солоневичам удалось уехать в Южную Америку, где писатель продолжал писать и стал издавать газету «Наша страна», которая выходит до сих пор.
Иван Солоневич скончался в середине 50-х годов, забытый многими, даже русскими эмигрантами. Мне пришлось написать в редакцию парижского «Вестника» и напомнить, что не «Архипелаг ГУЛАГ», а «Россия в концлагере» – первая книга о сталинских лагерях в Советском Союзе.
1990–1991, Торонто, МоскваДля справки:
Мстислав Игоревич Могилянский родился в апреле 1917 года в Петрограде в семье одного из пионеров русской авиации Игоря Могилянского.
Вначале учился в основанном его отцом первом в России Гражданском Институте Воздушного Флота, затем – в морском училище, где получил образование капитана дальнего плавания. Во время Великой Отечественной войны ходил офицером на военных судах. После ареста и расстрела отца в 1941 году снят с судна и отправлен рядовым на ленинградский фронт, где попал в плен к испанским добровольцам-франкистам, воевавшим на стороне немцев.
В Ленинградскую блокаду умерли его младшие брат и сестра.
После 1945 года оказался в английской оккупационной зоне в Германии, работал переводчиком в лагере Фишбек.
В 1947 году приехал в Канаду. Поступив в русский отдел «Радио Канада», готовил передачи для слушателей в СССР.
В 1995 году в Москве вышли воспоминания М. Могилянского «Жизнь прожить».
Скончался в 2007 году.
* * *
Иван Лукьянович Солоневич родился 1 ноября 1891 года в Гродно, сын публициста, внук священника. До революции работал журналистом, сотрудничал в «Новом времени», учился на юридическом факультете Петербургского университета, был одним из организаторов спортивного движения.
Во время Гражданской войны помогал белым, его брат погиб, сражаясь в рядах армии Врангеля. Сам Солоневич заболел тифом и остался в Советской России, жил в Одессе, затем в Москве, был спортивным инструктором.
В 1932 году с братом и сыном попал в ГУЛАГ, в 1934-м они вместе бежали в Финляндию, жена выехала по фиктивным документам в 1932 году. За границей Солоневич опубликовал книгу «Россия в концлагере», сделавшую его знаменитым. С 1936 года в Болгарии он издавал газету «Голос России», вокруг которой начал создавать организацию народно-монархического направления. В 1938-м Солоневич перебрался в Германию.
Главным трудом Солоневича стала книга «Народная монархия», которую он опубликовал во время Второй мировой войны и где изложил свое учение о монархии.
После войны Солоневич оказался в английской зоне оккупации, в 1948 году перебрался в Аргентину, где организовал выпуск новой газеты «Наша страна», ставшей заметным явлением в русской эмиграции. В 1950 году правительство Аргентины выслало Солоневича в Уругвай, где он скончался 24 апреля 1953 года.
Глава 6. Французская писательница русского происхождения Натали Саррот; «Я ненавидела это чудовище…»
– Как вы восприняли Октябрьскую революцию?
– Я тогда много спорила с отцом, который говорил, что все это в России кончится ужасной диктатурой. Он лично знал Троцкого, считал его сектантом и не верил ему. А я в те годы была за эмансипацию женщин, за их раскрепощение.
– Значит, вы всерьез были за революцию?
– Да, всерьез, и очень сильно. А мачеха моя была против революции, она чуяла и в Ленине, и в Сталине антигероев. Только спустя много лет, в 1937 году, когда мы с ней поехали интуристами на десять дней в СССР, я поняла, что она была права. Ведь мы попали в самое ужасное время. Убили Кирова, пошли всякие процессы.
– Ваш отец был знаком с Лениным? Что-то запомнилось из его рассказов о нем?
– Нет, пожалуй, все стерлось. Но вот о Сталине мы много разговаривали. Особенно после того, как я побывала в Москве. Мне было так страшно, я боялась, что меня арестуют. В нашей семье были разные мнения о нем.
– А как вы воспринимали войну Гитлера со Сталиным?
– Мы были в ужасе от того, что творилось на фронтах, от того, что гибли тысячи и тысячи людей. Страшно было подумать, что немцы захватят Россию, что Сталин проиграет войну. Я дрожала до Сталинграда, думала, что, если возьмут Сталинград, Россия погибнет. И немножко отошла, только когда объявили, что в Сталинграде захватили в плен Паулюса.
– Как вы отнеслись к смерти Сталина?
– Ликовала, ведь я думала, что он никогда не умрет. Я ненавидела это чудовище. Особенно после моей поездки в Москву. Эти лагеря смертников, эти ужасные процессы 1937 года… Я прекрасно обо всем знала.
– Во Франции об этом писали в газетах?
– Газет я мало читала, просто узнавала от людей, которые сумели выехать из России. То, что они говорили о моей родине, было ужасно. Не забывайте, родилась-то я в Иванове.
– Вы читали книгу Фейхтвангера «Москва 1937»?
– Что тут говорить? Фейхтвангер приехал к Сталину, написал о нем хвалебную книгу, она мне была противна.
– А как же вы все-таки не испугались поехать в 1937 году в СССР?
– До приезда в Москву мы мало слышали о процессах… В общем, разговор на эту тему мне неприятен.
Из интервью с Натали Саррот, Париж, 1989Глава 7. Софья Радек, дочь журналиста, партийного и государственного деятеля Карла Радека; «Эту бешеную собаку, тирана усатого, нужно было кому-то пристрелить…»
– Однажды начальник спецчасти лагеря «Минлаг» в городе Инта мне сказал: «Я читал ваше дело – там ничего нет, кроме того, что вы дочь своих родителей. Пишите!» Будучи человеком здравомыслящим, я твердо знала, что никакие мои писания не помогут. Но раз просят – напишу. И я написала так: «Я, конечно, очень виновата, что выбрала так неудачно себе родителей, в следующий раз я отнесусь к этому вопросу более ответственно».
И сейчас, чтобы получить полагающиеся мне деньги в размере двухмесячного оклада отца, я почему-то должна доказывать, что я дочь своих родителей. А поскольку не сохранилась ни у меня, ни в архивах загса моя метрика, я должна привести в суд двух свидетелей, которые сказали бы, что я это я, а не Иисус Христос. С меня требуют метрику, которую я уже сто лет в глаза не видела, ибо долгие годы была на «гособеспечении» в местах не столь отдаленных. До бумаг ли мне было там? За меня знали не только, кто я, когда родилась, но и в каких «заговорах» против Советской власти и лично товарища Сталина участвовала. Поэтому мне остается признаться, что я самозванка, из чисто познавательных побуждений отправилась в восемнадцатилетнем возрасте в ссылку, где и пробыла 13 лет, а в промежутке между ссылками отхватила еще десять лет лагерей.
…Характер у Софьи Карловны Радек нелегкий. Завязан круто, жестко, своенравно. Такого в жизни навидалась, вытерпела, что на мякине ее не проведешь. В первый наш разговор весной 1988 года она и по перестройке «пальнула». Правда, к тому времени еще не был реабилитирован ее отец Карл Радек, и она имела к перестройке личные претензии. А после сообщения в этом же году о его реабилитации сказала: «Да, конечно, это радостное событие, но ведь это надо было сделать тридцать лет назад».
От политических речей ей скучно. «Хватит, – говорит, – отец с матерью предостаточно политикой назанимались». Предпочитает лирику. Много стихов знает наизусть. Запомнила еще с лагеря. Переписанная ее рукой книжечка стихов Агнивцева навечно пригвоздила эпоху к позорному столбу штампом: «Проверено цензурой». А иначе отобрали бы при освобождении. Показывает сочинения отца, его фотографии, газетные вырезки, еще не так давно этого ничего не было. Ведь все, что связано с именем Карла Радека, «заговорщика, шпиона всех разведок, наймита всех империалистов» и прочая, и прочая, и прочая, уничтожалось, преследовалось. Добрые и, надо сказать, смелые люди что-то сумели уберечь. Два тома сочинений Карла Радека «Портреты и памфлеты» подарила ей жена Горького Екатерина Пешкова, замечательный портрет отца работы Юрия Анненкова преподнесла Ирина Анатольевна Луначарская. «Низко кланяюсь ей, что сохранила такую “крамолу”», – говорит моя собеседница.
А вот книги о Радеке и издания его трудов в разных странах, вышедшие в последние годы. Да, было так: у нас полный мрак и запрет, в других странах – человек-легенда. В книге, изданной в ФРГ, говорится, что за голову Радека в свое время в Германии обещали огромную сумму. Значит, стоил того, просто так вознаграждения не выплачивают. В Англии вышла книга под названием «Последний интернационалист».
– В Доме на набережной больше не бываете?
– Нет, а что я там потеряла? Впрочем, потеряла много. Но имущество наше мне ведь не вернут. Все развеяно по свету. Управляющий домом оказался мародером, конфискованное он присваивал себе. Приговорили его к высшей мере за это, но началась война, и он попал в штрафбат. Может, и сейчас жив. А обеспеченность, богатство меня не волнуют. Я привыкла к нищете и прекрасно с ней обхожусь. К роскоши не приучили. Единственное огорчение – не хватает денег на книги, люблю читать.
– Сталина вы видели, общались с ним?
– Нет, не приходилось, хотя жили мы какое-то время в Кремле, по соседству. С сыном его Васькой училась в школе. Однажды даже тумаков ему надавала, девчонка я была драчливая. Отец мне говорил: «Сонька, не давай спуску никому, бей первая. Не жди, когда тебя ударят». Как-то позже Василий напомнил мне об этом, смеясь. Но ничего, обошлось.
– При вас арестовывали отца?
– Я была в Сочи, когда отец вызвал меня телеграммой, чувствуя, что его вот-вот возьмут. Звоню ему: «Что случилось, что-то с мамой?» – «Нет, ничего не случилось. Но срочно приезжай».
В момент ареста отца меня не было дома. И он заявил, что не уйдет из квартиры, пока не простится с дочерью. Хоть стреляйте. И они ждали моего возвращения. Вернулась я поздно ночью, терпение непрошеных гостей уже, по-видимому, иссякало, и отца выводили. На прощание он успел мне сказать: «Что бы ты ни узнала, что бы ты ни услышала обо мне, знай, я ни в чем не виноват». Перед своим арестом отец собрал для меня деньги, пять тысяч, старыми, естественно, отдал моей тетке по матери, а она тут же отдала НКВД. Отца арестовали, жить не на что. Я говорю матери: «Давай продадим часть книг отца». А мать в ответ: «Ни в коем случае. Я не позволю, ведь библиотека уже конфискована, нельзя нарушать законы». И ничего не продала. А сейчас хоть одну бы книжечку с экслибрисом, с пометой отца. Где они все? Вот в какие игры играли с товарищем Сталиным.
– Вы, конечно, верили в невиновность отца?
– Когда я прочла в газетах всю белиберду об отце, поняла, что если даже в мелочах допущена ложь, то все остальное – чушь несусветная. Господи, как много было тогда наивных людей! И как удалось этому тирану надуть миллионы и миллионы, не могу понять?!
– И отец ваш был наивным?
– Конечно! И товарищи его. Ведь они считали, что если при Ленине можно было открыто дискутировать, убеждать друг друга в чем-то, то так будет всегда. А так потом никогда уже не было. Конечно, отец был наивным человеком. И он наивно надеялся, оговаривая себя, что спасает меня и маму.
– В чем обвинили отца?
– Мне дали прочесть стенограмму того процесса. Отца обвиняли чуть ли не в попытке реставрации капитализма. Отцу моему была нужна реставрация капитализма, члену партии с 1903 года, выходцу из нищей семьи?! Мать была народной учительницей, но все равно беднота. Такой бред собачий я прочитала в этой стенограмме, такие неслыханные обвинения, в которых отец признал себя виновным, что, если думать об этом, кажется, можно сойти с ума. Кроме физических воздействий, на осужденных действовали методом запугивания. Мы, члены семей, были как бы заложниками у палачей.
Вспоминаю такой эпизод. Отец совершенно не пил. Один-единственный раз в жизни видела я его нетрезвым. Он пытался открыть свою комнату и никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Возился и приговаривал: «Хозяину никого не жаль, а вот мне дочку жаль». Сами понимаете, что «хозяин» – это Сталин. Тот эпизод я запомнила на всю жизнь. Да, все мы, члены семей, были заложниками, ибо то, что арестованные наговаривали на себя или на кого-то, было результатом угроз расправиться с близкими.
– Вам известны какие-либо подробности об отце после его ареста?
– После процесса матери дали свидание. Мать была человеком замкнутым и, придя с Лубянки, только сообщила: «Я ему сказала: “Как ты мог наговорить о себе такой ужас?” А он ответил: “Так было нужно”». Вот и все. Еще он спросил: «А Сонька не хотела прийти?» Мать ответила: «Нет, не хотела».
– Почему же вы не пошли на свидание с отцом?
– Было обидно, что близкий мне человек мог так чудовищно оговорить себя. Тогда я не могла ему этого простить. Только став взрослым человеком, сама пройдя все круги ада, могу понять, что можно сделать с человеком в заключении.
…Сейчас я думаю, что эту бешеную собаку, тирана усатого, нужно было кому-то пристрелить. Ведь все равно каждому, кто был с ним близок, грозила смерть. Какие мужественные люди были, решительные. Ходили с оружием. Хотя бы Тухачевский. И никто не решился порешить эту гадину. Даже Орджоникидзе, с его горячей кровью. Вот как Сталин сумел всех околдовать. А вообще, я считаю, что умными и решительными были только Томский и Гамарник. Они покончили с собой, потому что их тоже заставляли обливать себя и других помоями. Многие из окружения Сталина понимали, что их ждет. Помню, когда в газетах сообщили об убийстве Кирова, отец был невменяем, я его в таком состоянии никогда не видела, а мать произнесла вещие слова: «А вот теперь они расправятся со всеми, кто им не угоден». Так и случилось. Говорят иные: не Сталин виноват, а Берия, Ежов… Так не бывает, чтобы царь-батюшка был хорошим, а министры плохие.
Из интервью с Софьей Радек, 1988Глава 8. Писатель Чингиз Айтматов; «Только сегодня мы начали преодолевать груз той мрачной эпохи…»
– Это правда, что ваш отец Торекул Айтматов и его братья, сельские активисты, были репрессированы в 1937 году?
– Да, правда. Прошло уже полвека, но об этом тяжко вспоминать. Публично я об этом никогда не упоминаю и рассказываю сейчас впервые. Я не хочу, чтобы этот факт превратно истолковывался иными людьми. Но если бы такого дела и не было, я все равно всеми силами противостоял бы «жезлу» культа личности. До сих пор многие не понимают, какой огромный вред причинил он советскому обществу. Культ личности Сталина нанес невосполнимый ущерб облику социализма. Слишком надолго мы оказались в капкане авторитарного режима, созданного Сталиным, и только теперь, почти через тридцать пять лет после того, как его не стало, начали освобождаться и выдавливать из себя рабов. Только сегодня общество по-настоящему начало преодолевать тяжкий груз той мрачной эпохи. И это дается нам непростой ценой. Ведь и сегодня еще много приверженцев прошлого. Они ничего не хотят видеть, не желают никаких изменений. Если мы сумеем раз и навсегда освободиться от комплексов прошлого, это будет великим достижением перестройки, политическим и духовным.
– Вы можете представить себе, что процесс демократизации остановится, и все пойдет вспять?
– Что, снова к культу личности? К затаенным внутри общества болезням? К нарушениям элементарных человеческих прав? К застою? Никогда! Этого не должно произойти! Логика жизни такова, что гарантии ее развития – это движение вперед. Если мы остановимся, значит, снова будем двигаться в обратном направлении. И это будет катастрофой для всех. Думаю, что нет в нашем обществе таких сил, которые были бы уж очень сильно заинтересованы в остановке, в возврате к прошлому. Даже та самая бюрократия, которую мы сегодня склоняем, как говорится, и в хвост и в гриву, и видим в ней корень зла, не заинтересована в этом. Думаю, что она не враг сама себе.
Фрагмент интервью с писателем Чингизом Айтматовым, Москва, Чолпон-Ата, 1987Глава 9. Писатель Варлен Стронгин об отце актера Савелия Крамарова
С писателем Варленом Стронгиным я знаком с 1970-х годов: вместе выступали в подмосковных городах, встречались в Центральном доме литераторов. Свою творческую деятельность Стронгин начинал как автор юмористических рассказов, которые печатались в Клубе 12 стульев «Литературной газеты», а позже увлекся написанием биографий знаменитых людей. Его книги о Вольфе Мессинге, Лидии Руслановой, Александре Керенском и других выдающихся личностях ХХ века, написанные живо, увлекательно, почти детективно, есть в моей библиотеке.
Несколько лет назад вышла книга В. Стронгина «Савелий Крамаров: сын врага народа». Автор написал о своем друге, известнейшем киноактере. Отец Крамарова – известный московский адвокат – был арестован якобы за принадлежность к «эсеро-меньшевистской организации», когда мальчику было четыре года. Ребенку сказали, что отец на фронте, и после войны он часто бегал на Белорусский вокзал, надеясь встретить его среди возвращающихся с войны солдат. Мать умерла, и Савелий проявил недюжинную силу воли, чтобы выжить и стать артистом. Крамарова легко утверждали на роли, пока он не стал всенародным любимцем. Тогда завистники, порывшись в его личном деле, обнаружили, кем был его отец, и началась травля. Крамаров был вынужден покинуть родину и уехать в Америку, после чего указ о присвоении ему звания народного артиста РСФСР аннулировали, а фильмы с его участием запретили к показу.
Работая над этой книгой, я попросил своего давнего приятеля Варлена Львовича поведать мне сюжет, связанный с судьбой отца известного актера.
– В 1944 году, во время последнего приезда Савелия в Москву, я рассказал ему о том, что в приемной КГБ на Кузнецком мосту он может ознакомиться с делом своего отца. У Савелия холодным блеском загорелись глаза, и он сказал, что обязательно сделает это. Я посоветовал ему за месяц до приезда написать заявление, потому что розыск документов – дело не быстрое.
Савелий поблагодарил меня за хлопоты, и мне показалось, что он готов был заплакать.
Но исполнить свою мечту, то есть прочитать тягостные документы об аресте отца, мой друг не смог. Жизнь Савелия оборвалась.
Через некоторое время его вдова Наталья Крамарова-Сирадзе прислала мне из Сан-Франциско нотариально заверенную доверенность на ознакомление с делом отца мужа.
…Я пришел в уже знакомую мне небольшую комнату приемной КГБ. Здесь в 1956 году я читал дело своего отца, Стронгина Льва Израилевича, директора Государственного издательства еврейской литературы, осужденного по 58-й статье якобы за издание националистической литературы. Тогда, в 1956-м, когда начался процесс реабилитации, в этом помещении не было свободных мест. Сидели родные невинно осужденных, знакомились с их делами, многим становилось плохо, кому-то даже вызывали «скорую». Читать дикие признания родных, выбитые зверскими пытками, не у всех хватало сил. В помещении пахло валерьянкой…
Читая дело Виктора Крамарова, я подумал, что, может быть, даже хорошо, что Савелий не увидел эти документы, на его долю и без того выпало немало переживаний.
Основное обвинение, предъявленное отцу Крамарова: «Использовал трибуну советского суда для антисоветской агитации, вызывал недовольство существующим строем у окружающих».
С отличием окончивший юридический факультет Киевского университета, Виктор Крамаров был известным столичным адвокатом. Работая в Московской коллегии адвокатов, в 1937 году он защищал «врагов народа» в инсценированных НКВД процессах. Как грамотный юрист он пытался найти смягчающие обстоятельства в действиях своих подзащитных: подвиги в Гражданской войне, ударный и оцененный правительственными наградами труд в послевоенном строительстве. Это и послужило поводом для обвинений против него самого. Приговор гласил: «За контрреволюционную деятельность заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет, считая с 14 марта 1938 года».
…После многочисленных звонков и запросов мне удалось получить две фотокарточки отца Крамарова. На первой, сделанной сразу после ареста, он выглядит сравнительно спокойным, крепким, моложавым. Наверное, наивно предполагал, что, поскольку никаким вредительством не занимался, ему ничего не грозит, и его отпустят, как только следователь разберется и поймет, что произошла ошибка. Увы, надеждам на то, что дело признают ошибочным, не суждено было сбыться…
На второй фотографии предстает совсем другой человек, осунувшийся, поблекший…
Полностью отбыв срок заключения в УСВИТЛАГе, В. Крамаров был освобожден 13 марта 1946 года, поселился в Бийске.
Но пребывал на свободе он немногим более трех лет. 1 марта 1950 года его повторно арестовали. За что? За те же «грехи», за которые он уже отбыл срок заключения. В июне 1950 года вынесли приговор – за участие в меньшевистской эсеровской организации сослать на поселение в Красноярский край.
Поражает вопиющая политическая безграмотность членов особого совещания, не знающих, что эсеровская организация меньшевистской быть не могла. Это две различные партии. Для них юридическая правильность осуждения – мелочь. Они делали главное: поставляли властям рабсилу.
15 августа 1950 года Виктор Савельевич Крамаров этапируется в Туруханский район Красноярского края. Отец больше никогда не увидит сына и не узнает о его судьбе – судьбе сына «врага народа». Дважды осужденный по одному и тому же делу Виктор Крамаров не вышел на свободу, не вернулся из Туруханска. Он погиб в ссылке.
2012Глава 10. Народный артист России Леонид Филатов: «Отцу пришла странная бумага о том, что он может считать себя несудимым…»
…Меня устойчиво интересовал механизм тирании. Родом я из провинции, и даже там, почти в глуши, при Сталине пострадала почти вся моя семья, включая отца. Его арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Началась война, отца выпустили, он воевал на фронте. Прошел всю войну, вернулся в орденах. И тут снова сел, уже в Казахстане. Позже с трудом, под нажимом близких добился полной реабилитации. Ему домой пришла какая-то странная, абсурдная бумага: «Такая-то инстанция постановила, что вы можете считать себя несудимым». От этой формулировочки можно обалдеть и сегодня. Бедный папа…
Из беседы с народным артистом России Леонидом Филатовым, 1990Глава 11. Актриса театра и кино, дочь шансонье Александра Вертинского – Анастасия Вертинская: «Сталин слушал песни отца по ночам»
– Если почитать письма отца, можно проследить, как менялось его восприятие жизни в СССР – от восторженного человека, которого замечательно встретили на родине, до осознания того, кем был Сталин. В СССР многие любили Вертинского, его песни не забыли. Пластинки «на ребрах» кочевали из рук в руки даже в тот период, когда он был в эмиграции и считался нелегальным, запрещенным певцом. Хотя по советскому радио передавали бравурные песни о социализме, о Сталине, в домах слушали Вертинского. Пластинки с песнями отца считались большой ценностью и редкостью, за одну такую пластинку можно было купить много чего на рынке в голодные времена. В отношении любви и народного признания его жизнь в России была счастливой. Но главное, что его согревало, – это семья, которую он приобрел за долгие годы скитаний: жена, дети – мы с сестрой. Но его, конечно, травмировала страшная послевоенная разруха в стране, тяжелая жизнь, горе людей.
Кроме того, он прозревал по отношению к Сталину.
Вообще, то, что Сталин не убил отца, – парадоксально. Да, не убили, не посадили, но и жить ему не давали. Официально не признанный, отец ужасно страдал. К примеру, его гастрольные афиши вывешивали только на том здании, в котором должен был состояться концерт. Но все равно залы были всегда полны, билеты расхватывали моментально. Ни в газетах, ни по радио, ни на появившемся тогда телевидении об отце не писали и не говорили. А если что-то и появлялось, то только ругательные статьи о «буржуазно-упадническом искусстве» бывшего эмигранта, дескать, зачем он вернулся и так далее. Но все же отца не посадили, не расстреляли и семью в лагеря не сослали. Почему же? Это вопрос исторический. Ответить на него мне, человеку, не анализирующему историю во всем ее объеме, невозможно. У Сталина были свои прихоти. Ведь он слушал Вертинского по ночам, собрал все его пластинки.
Отец написал письмо министру культуры, но оно осталось без ответа. Правда, после того как он сыграл роль кардинала в фильме «Заговор обреченных», нападок в прессе стало меньше. За эту роль в 1951 году он даже получил Сталинскую премию, которая и стала чем-то вроде охранной грамоты.
Сталин не давал премий за отрицательные роли, но, видимо, к Вертинскому у него было какое-то особое отношение. Рассказывают, что, когда фамилию Вертинского внесли в расстрельные списки, Сталин собственноручно вычеркнул ее красным карандашом и дал указание Берии «не трогать артиста Вертинского».
В том, что отца хотели убрать, не было никаких сомнений. На него шли доносы. Достаточно было ему приехать, скажем, в Хабаровск и зайти в гости к какому-нибудь другу молодости, его тут же обвиняли в связи с сионистскими кружками, в масонстве, в антисоветском заговоре. В общем, если бы хотели, наверное, дали бы ход такого рода доносам. Но, как видно, судьба к отцу была милостива.
Из интервью с Анастасией Вертинской, 1984Это интервью состоялось на сцене Киржачского дворца культуры Владимирской области, где я в 1980-е годы регулярно организовывал встречи с известными актерами, писателями, политиками. У меня сохранилась одна из записок, поступивших на сцену в тот вечер.
«Интересно, был ли Вертинский искренен, когда писал эти строчки:
Чуть седой, как серебряный тополь, Он стоит, принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь? Сколько стоил ему Сталинград? И в седые, холодные ночи, Когда фронт заметала пурга, Его ясные, яркие очи, До конца разглядели врага. В эти черные тяжкие годы Вся надежда была на него. Из какой сверхмогучей породы Создавала природа его? Побеждая в военной науке, Вражьей кровью окрасив снега, Он в народа могучие руки Обнаглевшего принял врага. И когда подходили вандалы К нашей древней столице отцов, Где нашел он таких генералов И таких легендарных бойцов? Он взрастил их. Над их воспитаньем Долго думал он ночи и дни. О, к каким роковым испытаньям Подготовлены были они! И в боях за Отчизну суровых Шли бесстрашно на смерть за него, За его справедливое слово, За великую правду его. Как высоко вознес он Державу, Мощь советских народов-друзей. И какую великую славу Создал он для Отчизны своей. Тот же взгляд, те же речи простые, Так же мудры и просты слова. Над разорванной картой России Поседела его голова».Помню, эту записку я не стал тогда передавать Анастасии Александровне. С высоты сегодняшнего дня думаю, что комментировать ее излишне.
Глава 12. Творческая командировка в преисподнюю писателя Бориса Четверикова
Из Владимирской глубинки, где я жил с мамой и отчимом, Николаем Александровичем Медведевым, я регулярно приезжал в столицу. Навещал венгерского деда Золтана Партоша и с особой радостью приходил в гости в квартиру на Большой Ордынке к Наталии Александровне Махаевой, которая приходилась мне тетей по маминой линии.
Тетя Наташа – педагог, заслуженный учитель России. С ее дочерью Люсей, моей двоюродной сестрой, мы дружили. Она работала в Московском доме книги на Новом Арбате с самого начала его существования в должности заведующей отделом подписных изданий. Когда я забегал к ней в магазин, то получал «по блату» очередное «дефицитное» собрание сочинений. Семья Махаевых, конечно же, всегда предоставляла мне ночлег в Москве, поскольку возвращаться к маме в город Покров мне всякий раз было поздновато. Москва не отпускала.
С той поры прошли десятилетия. Сестра и сегодня, будучи уже на пенсии, трудится в этом книжном оазисе.
Так вот, пять лет тому назад Наталия Александровна, мама Люси, скончалась. На поминки собралась вся оставшаяся в живых родня. Конечно же, проводить тетю Наташу приехал и я. И вот в часы скорбной поминальной церемонии сестра подарила мне на память о маме книжку ленинградского писателя Бориса Четверикова под названием «Всего бывало на веку». «Это муж ближайшей маминой подруги. Он пострадал от сталинских репрессий. Почитай, вдруг пригодится в твоей журналистской работе», – сказала мне Люся.
Имя писателя Бориса Четверикова я слышал, но с ним лично и с его творчеством знаком не был. Поэтому, взяв книжку, не придал ей особого значения и, придя домой, отложил на верхнюю полку.
Работая над рукописью о Сталине, я вспомнил о Борисе Четверикове и его книге, подаренной Люсей. Стал перелистывать, и меня сразу же, с первых страниц, пронзила трагическая судьба писателя, проведшего в лагерях 11 лет. Я буквально «проглотил» 150 страниц воспоминаний Четверикова, содержательных, конкретных, личностно и исторически выверенных. Книга вместила страшное время 1930–1950-х годов.
Кстати, Людмила поведала мне, что в роду Махаевых-Воздвиженских было пять священников, все они пострадали в 1930-х годах, двое из них нашли свою судьбу в Бутовском расстрельном рву.
Несколько отрывков из книги Бориса Четверикова, рисующих страницы «страшных лет России», представляю читателю.
* * *
…Почему-то в массах утвердилось мнение, что сажали и расстреливали только в 1937-м. Это неверно. Сажать начали сразу после смерти Ленина. Первыми поехали в лагеря старые большевики-ленинцы. Затем сажали, так сказать, кампаниями. Была польская операция, была церковная. Особенно свирепо расправлялись с лицами дворянского происхождения.
Жуткое зрелище. На перроне Московского вокзала толпы растерянных людей, пианино, диваны, шкафы… Было объявлено, что выселяемые дворянские семьи могут брать с собой любые вещи. А на вокзале выяснилось, что людей-то еле-еле впихнуть в теплушки, какие там диваны. Вопли, плач, истерики… Пронырливые деляги скупали все за бесценок. Цена была – сколько дадут. Дети почти не плакали, а только смотрели изумленными глазами на эту свалку.
Это самые ранние мои питерские впечатления. А в 1930-е годы я видел и пострашнее картины, когда ездил на Север, в Архангельск и Вологду, в зимнюю пору. На всем пути от Котласа до Архангельска прямо на снегу виднелись кучки людей, высаженных из эшелонов «раскулаченных». Трудно было поверить, что грудных детей и чуть постарше раскулачивали: ведь у детей не было ни своих коров, ни своих изб. И вряд ли грудные дети угрожали свергнуть советскую власть. Раскулачивали тех, у кого не одна, а две коровы. Словом, надо было быть совсем идиотом, чтобы не понять, что это зверское истребление народа, а не классовая борьба.
Сажали и в 1940-е годы – я тому пример. Сажали и позже. Ужас, навеянный неслыханными репрессиями, не рассеялся до сих пор. Люди потрясены самой возможностью таких расправ и издевательств. Ведь счет все время шел на миллионы. Ничего подобного не испытывало Российское государство за все время своего существования с Х-го по ХХ-й век.
В ночь на 12 апреля 1945 года я был арестован по клеветническому доносу одного субъекта, которого уже нет в живых и которого я не называю только потому, что не имею на руках соответствующего документа. Но документ такой есть, существует, его зачитывали мне в апреле 1956 года в Ревтрибунале на Дворцовой площади. Выдать отказались: только по запросу какой-либо организации или учреждения…
…И начались мои скитания по этапам и лагерям, началось познавание на каждом шагу нового, неведомого мне океана горя и унижений, бед и страданий. Как я понял позднее, то, что я пережил в тюрьмах, были еще цветочки. Ягодки были впереди.
Но и от «цветочков» можно было свихнуться. Хотя, перелистав написанное, я понял, что при моем прирожденном неунывающем характере я неверно изобразил нечеловеческие мучения, испытанные мною и в карцере, и в долгие часы на допросах, и вообще во всем тюремном существовании, оставляющем отпечаток на всю жизнь. Да, я стирал салфетки и носовые платки, мыл стены камеры, да, я изучал малярное дело и создал в застенках жутких Крестов недурной хор, голоса которого проникли даже сквозь шкуру тюремных надзирателей и разбудили в них то, что составляет суть человека: душу. Но это были мои способы выжить, мое преодоление неизбывной тюремной тоски, совсем особенной, сосущей, смертной. То, что я видел своими глазами в Крестах и на Шпалерке, сейчас мне представляется приснившимся кошмаром. И я сам себя обманываю, рассказывая о тюрьме только необычное и сравнительно веселое, потому что не хочу изображать страсти и муки, нагнетать ужасы. Не хочу, например, но надо рассказать о том, как мне во время допросов ломали пальцы на ногах. (Я и посейчас ношу обувь на три-четыре размера больше – так изуродованы мои ноги.) Я вообще не люблю рассказывать о страданиях. Да, всякого повидал. Но не погиб! Выжил, хотя и вернулся через одиннадцать лет с цингой. Вот и все. Когда меня донимают расспросами, я большею частью отшучиваюсь: считаю, говорю, свое пребывание в тюрьмах и лагерях творческой командировкой в преисподнюю. И рассказываю своего года «лагерный Декамерон» и всякие лагерные хохмы. Вроде того, как прибывшего этапом новичка окружают любопытные: «Сколько тебе дали?» – «Пятнадцать лет». – «За что?» – «Да ни за что!» – «Врешь, ни за что десять дают!»
В Екклезиасте говорится, что живому псу лучше, чем мертвому льву. Не знаю, как псу, а человек – если жив – должен жить, и жить ему помогают чувство юмора, запасные профессии и вот такая, как у меня, неунываемость, а также девиз того же Екклезиаста: «Суета сует и все суета и томленье духа!»
Описать же пережитое все-таки необходимо. Чтобы наглядно показать: человек прочных убеждений ни при каких обстоятельствах не согнется и не переметнется. У меня достаточное зрение, чтобы разглядеть, из какой трубы дым идет. Понимаю, что были среди арестованных и в самом деле преступники – диверсанты, шпионы, растратчики, которых и следовало сажать. Но в отношении основной массы репрессивная акция была предпринята сознательно. Меня реабилитировали, я вышел из всех испытаний советским человеком, каким и был. А в чем-то, как это ни парадоксально звучит, эти годы обогатили меня: я стал умудреннее, глубже познал жизнь. До дна.
Уж там-то, в тюрьмах и лагерях, я соприкоснулся с невероятными, самыми невиданными людьми, каких нигде и не встретишь, особенно в такой концентрации противоположных полюсов: с революционером-ленинцем Гуральским и прожженным негодяем Берманом-Гульмано (выйдя из лагеря по окончании срока, он женился и взял фамилию жены – стал Федоровым); с доброжелательным «опером» Гайнановым (о нем речь еще впереди) и совсем девчонками, дочерьми атамана Семенова; с профессиональным музыкантом Яковом Яковлевичем Черниковым, приехавшим из Пекина и тотчас арестованным, и баптистом, колдуном Кузьмой Ивановичем; с доктором Манвеллом Хачатуровичем Мартиросяном и вором-асом Володей Солнышко или уголовницей Лидой по прозвищу Конь-Голова… Уж там-то я наслушался самых необыкновенных рассказов от самых обыкновенных людей: солдат, арестантов, ночных сторожей, а также от невидимок блатного мира – жуликов и бандитов, работающих на фуфло и побегушников…
Не всякому случалось, например, пить чифирь в обществе «блатной аристократии», то есть наиболее крупных, с солидной практикой грабителей и убийц. Вы спросите: за что же такой почет мне – самому, что называется, непроходимому «фраеру», то есть человеку честному, добропорядочному, ни с какой стороны не причастному ни к воровству, ни к картежной игре, ни к наркомании? Ведь в этом своего рода обряде – распитии крепкого чая (чифиря) из общей чаши, передаваемой по кругу, – участвовали не все представители даже их воровского мира: мелким воришкам-щипачам, которые носят меткое название «шестерок», и женщинам-воровкам не разрешалось занять место в кругу, они были только на роли прислуживающих во время этого священнодействия. Так за что, вы спросите, мне оказывался такой почет, что я был приглашен в эту компанию? Представьте, за мои поэмы! Да, да, за мои поэмы, которые я читал на мною же организованных концертах самодеятельности и которые эти мазурики переписывали и передавали друг другу в замусоленных тетрадках!
…Мне всегда хотелось знать, зачем понадобилось Сталину терроризировать население, сажать без разбору правого и виноватого. Ну, Сталин, как говорят, был болен психически и всех подозревал, всех боялся. Понятна и вторая причина террора: борьба за власть, из-за которой полетели головы многих и многих, начиная со «старых большевиков», с Фрунзе и Котовского, Кирова и Крупской… Вплоть до Тухачевского, Блюхера, Егорова… Но был в этом злодейском замысле один парадоксальный нюанс. Да, истребила сталинско-бериевская мясорубка миллионы русских людей и немало советских людей других национальностей. Если говорить об основной массе, попавшей в лагеря, то гибла там в первую очередь интеллигенция. Профессора, ученые мерли там тысячами. А вот, например, на шоферов, медицинских работников, строителей, инженеров там был спрос, им создавали более сносные условия. Что касается мастеровых-простолюдинов – им не привыкать голодать. В лагере положено было расходовать на каждого заключенного (на питание, одежду, жилище и все остальное вплоть до «деревянного бушлата», т. е. гроба) то ли по 13, то ли по 17 копеек. А молодых да здоровых ставили на прокладку железных дорог, лесоповал, добычу угля – там еды давали больше. Образовалось огромное количество дешевой рабочей силы: 13–17 копеек в сутки, ну и добавки, чтобы рабочие сохранили мускулы. Прикинул я все это – и вдруг мне стала ясна вся суть сталинского адского плана: построить социализм руками арестантов. Так что решающим моментом тут все-таки является экономическая первооснова, хотя и политическая важна, и множество других.
Вспомнился мне Френкель, который предложил правительству, если его выпустят, наладить на Соловецких островах, в лагере для политических заключенных, рентабельные мастерские с использованием дешевого подневольного труда [Нафталий Френкель – заключенный Соловецкого лагеря, в 1927 году был досрочно освобожден и стал работать в органах ГПУ. Именно он придумал, как сделать труд заключенных максимально производительным и минимально затратным. Дослужился до звания генерал-лейтенанта и ушел на пенсию с должности заместителя начальника ГУЛАГа. – Ф. М.] А кроме Соловков? Второй путь Сибирской магистрали, железная дорога до мыса Находка, Печорская железная дорога, новые города, лесозаготовки на Печоре, уголь Воркуты, золото на Колыме, Беломорский канал, слюда под Тайшетом, Апатиты… Все это строилось, осваивалось, добывалось горбом и на костях нашего брата, политзаключенных. Работать мы шли охотно: работа избавляла от лагерной тоски и давала достаточное для неприхотливого человека довольствие.
Одновременно с использованием труда рабов в лагерях Сталин добился покорной напряженной работы всех при малых издержках на содержание тружеников: до 1934 года страна жила по продовольственным карточкам, хотя прошло 17 лет со времени Октябрьского переворота и 13 лет со времени окончания Гражданской войны. Чем больше строили, тем тяжелее жилось человеку, тем больше его обделяли и обездоливали, давая нищенскую зарплату. Это давало государству огромные средства. Вот в чем корень всего. А пока я не разобрался, не понял это, мне казался бессмысленным этот террор.
Когда Гитлер сумел одурачить немецкий народ и при попустительстве, если не поддержке, многих стран обрушил 50 отборных дивизий на нашу страну, вначале мобилизация не коснулась многомиллионного лагерного населения. Образовался как бы резерв, откуда и поступало в дальнейшем свежее пополнение в армию. Миллионы псевдопреступников, оказавшихся за колючей проволокой, – все просились на фронт. И их стали брать. Например, шоферов. Частично и военных, уцелевших от разгрома, от фальсифицированных судебных процессов. Армия плюс беззаветное служение родине наших женщин (тыл голодал, но трудился сверх человеческих сил, женщины были вовлечены во все работы – от пахоты взамен коня на себе до изготовления снарядов, они становились санитарками, снайперами и разведчицами) – вот что стало на пути фашистского похода 1941–1945 годов. Гитлер удивлялся: появляются русские танки нового типа, заработали русские «Катюши»… В глубине Уральского края, в необъятной Сибири, как по чудесному мановению, возникло огромное государство в государстве – со своей нефтью, даже со своими кадрами… Это чрезвычайно любопытное явление в ходе Отечественной войны. Но при этом сколько страданий, смертей в царстве лагерей, какая безумная растрата человеческих ресурсов за 30 лет сталинщины!
* * *
…Николай II не пользовался любовью подданных. А царицу-немку ненавидели всей душой. И все-таки расправа с ними под руководством Голощекина и Юровского – фактически без суда, по-разбойничьи – была безобразна и произвела на народ неприятное впечатление. Я слышал такие рассуждения: «Законность совсем значит побоку?», «Да пусть и царя, и царицу, хотя бы только их. А девочек зачем? И даже посторонних, некоронованных, просто слуг, даже доктора?» И чей-то жесткий голос: «Если бы только этих! Косят, как траву…» И чей-то вздох: «Запятнали мы себя. Забрызгали кровью победное знамя…» Это я слышал не то в трамвае, не то в магазине. То есть я хочу сказать – такие разговоры незнакомых меж собой лиц, как говорится, народное мнение.
Ну а после… Голод в Поволжье… Раскулачивание и коллективизация… Бесчисленные процессы над «врагами народа»… Кровавое «Ленинградское дело»… Под предлогом борьбы за истинно советский строй, за истинно советскую культуру уничтожили сливки общества, цвет науки, искусства, лучших людей всех слоев, всех кругов населения. Истреблены учителя, врачи, студенты, библиотекари – словом, образованные люди, как раз те, кто несли культуру в народные массы. Сталиным истреблены лучшие крестьяне, земле-любы, хозяева. Истреблены военные кадры. В стране процветало насилие. Культивировалась жестокость. Прогрессировало оскудение – на людей, на товары, на духовные и материальные ценности.
Когда вглядываешься, изучаешь, призадумываешься, обязательно проясняется взор, начинаешь видеть многое, чего раньше не замечал. Но вот в одном явлении еще не разобрались, кажется. Любой солдат и офицер в гитлеровской армии обязательно получал отпуск на побывку домой. Он снова ехал потом на фронт, может быть, его убивали, но его жена уже была беременна. Государство сумело возместить урон. У нас же после войны никто не пришел и не сел за парты в первый класс, дети не народились своевременно: одни миллионы мужчин были в армии, другие миллионы мужчин были в лагере. Кто по недосмотру властей устроил такое злодеяние? И по недосмотру ли? Наша страна от одной этой преступной акции понесла многомиллионный ущерб. Кому, как не женщине спасать народ от вырождения, пережитков страшной опустошительной войны, от пережитков жестоких лет сталинского произвола?.. Находились отчаянные женщины, ехавшие в войну на фронт в поисках мужчин. В Ленинграде, на Бородинской улице, был огромный детоприемник – для детей, родившихся от неизвестных отцов. Врачи рассказывали мне, что эти фронтовые младенцы были как на подбор здоровяки. Но такой способ возмещения смены поколений был, конечно же, недостаточен. К 1970-м годам, по прогнозам Менделеева, в России должно было быть 400 миллионов человек, а оказалось 100 миллионов.
Последствия войны 1941–1945 годов, последствия сталинщины сказываются до сих пор. Послевоенные поколения жидковаты, вялы, ненадежны. И будут ненадежными впредь – до полного изменения цен и народного питания, до повышения материального обеспечения населения в 10 раз. Да, я считал бы не меньше, чем в 10 раз, то есть до дореволюционного развития. Я высчитал – мой отец, учитель городских училищ, получал 60 рублей в месяц и два раза в год (на Пасху и на Рождество) по месячному окладу, дополнительно еще 60–80 рублей, подрабатывая частными уроками. Итого 120–150 рублей. Переводя на наши сегодняшние цены – это 1000–1500 рублей в месяц [книга написана в 1980 году. – Ф. М.]. Вот почему мог он прокормить жену, брата Владимира и пятерых детей…
Я заметил, как быстро оскотинились рядовые немцы под «мудрым» руководством Гитлера и как быстро оболванил народ Сталин. Но культ его у нас, пожалуй, пострашнее любого другого. Одним словом, Мамай пришел, Мамай здесь. Пора начинать Куликовскую битву. Нам предстоит спасать страну, как она была спасена когда-то Дмитрием Донским, слишком длительно было пагубное воздействие культа Сталина, слишком велик ущерб от мамаев нового образца, захвативших руководящие посты и доведших страну до полного развала.
Глава 13. Письмо моего деда Золтана Партоша Иосифу Сталину: «О, вождь мой, возьми в руки будущее моего народа!»
О своем деде – венгерском революционере, детском враче, поэте Золтане Партоше и его судьбе после приезда в 1922 году из Венгрии в Советскую Россию я написал в книге «Мои великие старики».
Трижды бдительная служба Ежова, заподозрив в шпионаже глухого лекаря, пользовавшего детишек советских политических деятелей, а также венгерских эмигрантов, арестовывала его и, не «сшив» компромата, отпускала.
Дед умер в 1959 году. К сожалению, я мало расспрашивал его о жизни на родине, а потом в Москве. Из-за его глухоты беседовать с ним было непросто, ну и еще виной тому моя нелюбознательность в молодые годы. Чаще он интересовался моей учебой в школе, потом писанием статей в газеты.
Письмо Сталину, которое привожу ниже, я нашел в папке документов, которые еще в начале 1970-х годов незадолго до своей смерти отдал мне дядя, родной брат моего отца, один из трех сыновей Золтана Партоша. Не помню, прокомментировал он тогда это послание или нет, не знаю даже, было ли оно отправлено адресату.
Что двигало дедом, когда писал он «вождю народов» следующие строки, я уже не узнаю. Могу только предположить, что у венгра Партоша болело сердце за судьбу своего народа. В 1943 году наступил перелом в войне с Гитлером. Стало ясно, что Красная Армия погонит фашистов далеко от своих границ. Но… Родная-то страна деда, в которой правит реакционный режим Хорти, воюет на стороне Германии. Что будет с Венгрией, с ее народом, что будет с венгерскими эмигрантами, по которым уже и так прошел каток репрессий?
И Золтан Партош, за плечами которого три ареста, член только что распущенного (май 1943 года) и «опущенного» Сталиным Коминтерна пишет:
Товарищу Сталину,
генеральному секретарю ЦК ВКП(б),
Председателю Совнаркома и Комиссии обороны СССР,
народному комиссару обороны,
Верховному главнокомандующему Красной Армии,
маршалу Советского Союза,
Герою Социалистического Труда
От Золтана Партоша,
члена ВКП(б) с 1924 г.,
члена КП Венгрии с 1918 г.,
партбилет № 0046898,
гражданина Советского Союза
Заявление
Товарищ Сталин, обращаюсь к тебе от имени своего народа, от имени народа, который уже столько раз защищал интересы мерзких захватчиков и тем навлекал гибель на самого себя. Нет столько пыли на полях всего мира, сколько крови он пролил на далеких полях битв. Но напрасны все его прошлые жертвы: до сих пор он остался нищим и угнетенным.
Обращаться к тебе от имени моего народа меня уполномочило только то, что я коммунист: мандатом мне служит лишь мой двадцатилетний партийный билет. Я знаю, что тебе этого достаточно, ведь любить свой народ и страдать за него я учился у Ленина и у тебя.
Зачти, мой вождь, в пользу народа моего мое тридцатишестилетнее революционное прошлое, мою верность партии и те раны, которые я получил в борьбе за нее. Потому что теперь, когда по приказу своих преступных господ мой народ ринулся, чтобы погубить нашу цветущую великую родину, я тревожусь его гибели, которой он заплатит за свою немудрость, за то, что он без вождя. Потому что те, кто теперь выдают себя за его вождей, – фашистские наймиты, ведущие этот замученный народ к его окончательной гибели. Я вижу уже громадную могилу, которую он вырыл, безумный, для самого себя.
В прошлом он был древним народом свободы, героическим народом Ракоци и Дожа. Народ мой – народ Петефи и Кошута, и Маркс о нем сказал: «Народ революционный». И если он имел много гадких вождей, то никогда еще, как теперь, он не покушался вероломно на жизнь других свободных народов. И не отнимал грабительски хлеба у другого народа…
Но пустоголовые, мерзкие короли и лакейская орава живших вокруг них господ измучили вконец этот народ. И мерзким расчетом в течение веков воспитали из него кровожадного зверя. И когда они уже боялись, что страдание народа приведет к мятежу, сметающему их власть, тогда они направили его злость на другие народы… И теперь еще гной фашизма заразил его… Тысячи лет уже его историческому проклятию, со времени его первого короля лежит это над этим несчастным народом…
О, вождь мой, возьми в руки будущее этого народа! Избавь его от исторического проклятия, ведь ты – начало новых конечных вещей. Ты, кто имеет такую великую родину, знай, что мадьяры – малый, одинокий народ, без родственников, печальный, но гордый: никогда он не искал милости других народов.
Будь ты ему отцом, ведь ты добр, ты ведь велик, ты ведь заботливый отец столь многих народов. Будь ты его вождем, возьми его за руку и веди, веди его в счастливое будущее. И ты увидишь, как смело и с какой благодарностью пройдет он сквозь огонь и борьбу за тобой, не боясь ни опасности, ни борьбы, ни бед, ни печали. Кто добр к нему, того народ этот не покинет. И теперь не корыстные интересы руководили этим народом. Он тверд и упрям, но великодушен и смел. Я знаю: грехов у него многое множество, и только рука из стали может его вести… Колен он не сгибает ни перед кем, но всегда готов к благородным делам.
Товарищ Сталин, веди же ты его дальше. Твоя стальная рука – вот в чем он нуждается: пусть он почувствует ее отеческую строгость… И если он погрешил, а ведь он погрешил – против нас и против самого себя, то ты не отвернись от него угрюмо и без любви и не накажи его слишком строго… Несчастный ведь народ… И все же мой народ… А так как ненавидеть мы умеем горячо, то и любить только мы умеем по-настоящему…
Товарищ Сталин, Красная Армия приближается к границам нашей страны и мчится навстречу окончательной победе. Она гордость нашей советской родины. Она победит во всех грядущих битвах, также как она победила под Москвой, Сталинградом, Орлом, Курском и Белгородом… Грохочущими шагами приближается день, когда над Харьковом, Минском, Киевом, Одессой и Тернополем вновь будет реять наше Красное знамя, потому что нет остановки, пока хоть один из бандитов находится на земле нашей родины.
С Красным знаменем взойдет солнце. Оковы народов падут. Свободу несет оружие нашего народа. Вот причина, почему так поспешил я, скромный член нашей мощной партии, со своей скромной просьбой, вождь мой, к тебе. Поверни доброе лицо к моему народу, не допусти, чтобы мадьяр опять попал под проклятье. Не допусти, чтобы его опять ударило прошлое… Что будет, если он останется рабом? Защити его родину от захватчиков, пусть преступники расплатятся.
Народ же, угнетаемый в течение тысячи лет, но до сих пор продолжающий бороться, пусть овладеет своим наследством в углу долины за Карпатами, которую пересекают Дунай, Тиссо и другие реки.
Пусть построит он на свободе новое, мирное государство трудящихся!
Золтан Партош, Москва, сентябрь, 1943Глава 14. Он бросил тирану открытый вызов – письмо военного и государственного деятеля, дипломата, писателя и журналиста Федора Раскольникова
Во времена хрущевской «оттепели» в Москве стали распространяться «самиздатовские» апокрифы: документы, свидетельства, письма. На свет божий, то есть на суд людской, их выпускали мужественные люди, ведь при случае обнаружения источника размножения «антисоветских материалов» смельчаки могли пострадать. Несмотря на то, что доклад Хрущева уже прозвучал на ХХ съезде партии, люди боялись держать у себя дома «крамольные» материалы, касающиеся культа личности и его последствий. Одной из таких «крамол» было распространяемое в интеллигентских, научных кругах знаменитое письмо Сталину легендарного командира Балтийского флота (1920), посла РСФСР в Афганистане (1921–1923), в Болгарии (1934–1938) Федора Раскольникова, мужественного человека, яркой личности. До того как он стал дипломатом, Раскольников работал главным редактором журналов «Молодая гвардия», «Красная новь», издательства «Московский рабочий». Его женой была легендарная Лариса Рейснер.
В 1937 году, находясь в Болгарии, он обнаружил, что его книга «Кронштадт и Питер в 1917 году» включена в СССР в список для обязательного изъятия из библиотек и уничтожения. Раскольникова вызывают в Москву, и он понимает, что вслед за книгой будет уничтожен и сам автор. Он решает остаться за границей и, вступая в борьбу со Сталиным, публикует два знаменитых документа: «Как меня сделали врагом народа» и «Открытое письмо Сталину». В том противостоянии победил Сталин: в 1939 году Федор Раскольников скончался то ли от пневмонии, то ли от сердечной недостаточности. Еще по одной версии – выпал из окна. По самой распространенной – был убит агентами НКВД.
О письме Раскольникова Сталину мало кто знал до начала 1960-х годов.
Мною, молодым человеком, интересовавшимся политикой и работавшим в районной газете, это письмо было получено от приятеля, который учился на философском факультете МГУ. Прочитав этот текст, отпечатанный на пишущей машинке, я не спал всю ночь. Оно произвело на меня убийственное впечатление. Я не находил себе места, мне хотелось с кем-то поделиться прочитанным. Но это было рискованно: текст был слишком яростно антисталинским. Я перечитывал это «послание» снова и снова. И каждый раз ощущал, как мурашки бегали по коже. Многие абзацы ставшего трагически знаменитым письма я помню до сих пор наизусть.
…В 1987 году к нам в журнал «Огонек» обратился доктор исторических наук В. Поликарпов с предложением опубликовать историю противоборства Раскольникова со Сталиным и Сталина с Раскольниковым. Его статья даже в то время стала громом среди ясного неба. Редакция получила на нее много откликов.
В отечественной истории Федор Раскольников останется одним из немногих представителей сталинской когорты, кто бросил в лицо тирану слова обвинения и разоблачения.
Привожу наиболее острые фрагменты из письма, попавшего мне в руки в 1965 году. Приобретая сегодня особую актуальность и остроту, оно, без сомнения, останется одним из важнейших документов нашей истории.
Открытое письмо Сталину
Сталин, вы объявили меня «вне закона». Этим актом вы уравняли меня в правах – точнее, в бесправии – со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона.
Со своей стороны отвечаю полной взаимностью: возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с вашим режимом.
Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата.
…Честное проведение в жизнь демократических принципов демократической конституции 1936 года, воплотившей надежды и чаяния всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии.
Но в вашем понимании всякий политический маневр – синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку.
Что сделали вы с конституцией, Сталин? Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожали «зафинтивших» депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что хозяином земли советской является не Верховный Совет, а вы. Вы сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры, вы открыли новый этап, который в истории нашей революции войдет под именем «эпохи террора».
Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста, никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза – все в равной мере подвержены ударам вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели.
Как во время извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые пласты советского общества срываются и падают в пропасть.
…Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты государства, партии, армии, дипломатии? – Иосиф Сталин.
Прочитайте старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями только одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов». И под ними красуется надпись – И. Сталин.
Вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках.
– Ищите и обрящете козлов отпущения, – шепчете вы своим приближенным и нагружаете пойманные, обреченные на заклание жертвы своими собственными грехами.
Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить вам в лицо правду.
Волны самокритики, «невзирая на лица», почтительно замирают у подножия вашего пьедестала.
Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!
Но советский народ отлично знает, что за все отвечаете вы, «кузнец всеобщего счастья».
С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинений знакомые вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.
Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, М. Горький умер естественной смертью и Троцкий не сбрасывал поезда под откос.
Как вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. Я и сейчас не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. Я не верю и никогда не поверю в его сговор с Гитлером и Гессом.
Вы – повар, готовящий острые блюда, для нормального человеческого желудка они не съедобны.
Над гробом Ленина вы принесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить как зеницу ока единство партии. Клятвопреступник, вы нарушили и это завещание Ленина.
Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др., невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы.
А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко? Вы арестовали их, Сталин.
Где старая гвардия? Ее нет в живых. Вы расстреляли ее, Сталин.
Вы растлили, загадили души ваших соратников. Вы заставили идущих за вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.
В лживой истории партии, написанной под вашим руководством, вы обокрали мертвых, убитых, опозоренных вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.
Вы уничтожили партию Ленина, а на ее костях построили новую партию «Ленина-Сталина», которая служит удачным прикрытием вашего единовластия.
…Вы – ренегат, порвавший со вчерашним днем, предавший дело Ленина. Вы торжественно провозгласили лозунг выдвижения новых кадров. Но сколько этих молодых выдвиженцев уже гниет в ваших казематах? Сколько из них вы расстреляли, Сталин?
С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные, нужные стране. Они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры.
Накануне войны вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским.
Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой.
В момент величайшей военной опасности вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров.
Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин.
…Под нажимом советского народа вы лицемерно вскрываете культ исторических русских героев: Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут вам больше, чем казненные маршалы и генералы.
…Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и выгоняют из квартиры.
Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тягость напряженного труда и недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров. Он верил, что вы ведете к социализму, но вы обманули его доверие. Он надеялся, что с победой социализма в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом братстве людей, всем будет житься радостно и легко.
Вы отняли даже эту надежду: вы объявили – социализм построен до конца. И рабочие с недоумением, шепотом спрашивали друг друга: «Если это социализм, то за что боролись, товарищи?»
Извращая теорию Ленина об отмирании государства, как извратили всю теорию марксизма-ленинизма, вы устами ваших безграмотных доморощенных «теоретиков», занявших вакантные места Бухарина, Каменева и Луначарского, обещаете даже при коммунизме сохранить власть ГПУ.
…Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом.
Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность».
Бездарные графоманы славословят вас, как полубога, «рожденного от Луны и Солнца», а вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести.
Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неугодных русских писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольникова? Вы арестовали их, Сталин.
Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг. Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии, то в 1937 г. в полученном мною списке обреченной огню литературе я нашел мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году». Против фамилий многих авторов значилось: «Уничтожать все книги, брошюры, портреты».
Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа ученого становится невозможной.
Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать в лабораториях, университетах и институтах.
Выдающихся русских ученых с мировым именем – академиков Ипатьева и Чичибабина вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из вашего «рая», оставляя вам ваши благодеяния: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в совнаркомовской столовой.
Вы истребляете талантливых русских ученых. Где лучший конструктор советских аэропланов, Туполев? Вы не пощадили даже его.
Нет области, нет уголка, где можно было бы спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссер, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но вы арестовали и Мейерхольда, Сталин.
Зная, что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел.
Уничтожая везде и всюду золотой фонд нашей страны, ее молодые кадры, вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих дипломатов.
…Во всех расчетах вашей внешней и внутренней политики вы исходите не из любви к Родине, которая вам чужда, а из животного страха потерять личную власть. Ваша беспринципная диктатура, как гнилая колода, лежит поперек дороги нашей страны. «Отец народов», вы предали побежденных испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о них другим государствам. Великодушное спасение жизни не в ваших принципах. Горе побежденным! Они вам больше не нужны.
…Как все советские патриоты, я работал, на многое закрывая глаза. Я слишком долго молчал. Мне было трудно рвать последние связи не с вашим обреченным режимом, а с остатками старой ленинской партии, в которой я пробыл без малого 30 лет, а вы разгромили ее в три года. Мне было мучительно больно лишаться моей Родины.
Чем дальше, тем больше интересы вашей личной диктатуры вступают в непрерывный конфликт и с интересами рабочих, крестьян, интеллигенции, с интересами всей страны, над которой вы измываетесь как тиран, дорвавшийся до единоличной власти.
…Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго. Бесконечен список ваших преступлений. Бесконечен список ваших жертв, нет возможности их перечислить.
Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов.
17 августа 1939 г.Глава 15. Татьяна Соболева, вдова поэта Александра Соболева, автора «Бухенвальдского набата»: «Последние годы жизни мужа были отравлены тяжелейшим недугом и незаслуженным забвением»
Когда я, работая в журнале «Огонек», помогал поэту Евгению Евтушенко готовить материалы для поэтической антологии «Русская муза ХХ века», к нам в редакцию приходило множество писем с откликами на публикации. И, конечно же, в письмах были стихи, которые присылали нам вдовы, дети, друзья ушедших в небытие поэтов и горькие истории об их судьбах. Многое из присланного было включено в антологию, что-то, к сожалению, осталось ненапечатанным на страницах журнала. Ведь в те годы, когда перестройка только набирала обороты, почти каждая публикация давалась «с боем», по поводу многих стихов Евгению Александровичу приходилось самому связываться с секретарем ЦК КПСС по идеологии А. Н. Яковлевым, спорить, доказывать, отстаивать.
Письмо и стихи «о долгом сталинском кошмаре», которые я хочу привести в этой книге, прислала в «Огонек» в октябре 1988 года вдова поэта Александра Соболева.
Татьяна Михайловна Соболева пишет:
Александр Соболев родился в 1915 году в небольшом городке Волынской губернии Полонное. Окончил там семилетку. Подростком уехал в Москву. Окончил ФЗУ, работал слесарем, контролером ОТК. Активно сотрудничал с заводской и городскими газетами. К тому времени относятся первые публикации его стихов. В годы войны был в рядах действующей армии, стрелком, пулеметчиком. Ранен, дважды контужен. Пожизненный инвалид войны II группы. Три года провел в госпиталях и больницах. Врачи вынесли приговор – запрет на любой вид работы. Но чтобы хоть как-то выжить, оставаться в строю, стал внештатным корреспондентом газеты «Труд», где печатал стихи, фельетоны, во многом актуальные и по сегодняшний день.
В 1958 году «Труд» напечатал стихотворение Соболева «Бухенвальдский набат», которое после того, как композитор Вано Мурадели написал к нему музыку, стало известнейшей антивоенной, антифашистской песней. «Бухенвальдский набат» облетел весь земной шар, находя отклик в душах миллионов людей планеты. Советский комитет защиты мира наградил поэта медалью «Боец за мир» и Почетной грамотой. Но вот удивительно, Соболева ни разу не пригласили принять участие в каком-либо антивоенном мероприятии у нас или за рубежом. Целыми днями он, сидя у телевизора, слушал свои песни.
Когда сегодня воздают должное незаслуженно забытым литераторам, то становятся известными факты необоснованных репрессий, гонений и запретов. У Соболева иная судьба. Он был репрессированным «в законе». Его словно не замечали. При мировой популярности «Бухенвальдского набата» поэт был персоной нон грата в своей стране. И только к 40-летию Победы и своему 70-летию он получил «подарочек» – издательство «Современник» выпустило убогую книжонку его стихов, в которой большинство строф и строчек было изуродовано редактором-цензором. Последние годы жизни Соболева были отравлены тяжелейшим недугом и незаслуженным забвением.
Его не стало в сентябре 1986 года.
* * *
Я знаю, я знаю, я знаю: жесток человеческий род. Не раз журавлиную стаю, не раз лебединую стаю таранил двуногий урод. Но это лишь мелочь – сравненье… обличьем на волка похож, втыкает в живот с упоеньем двуногий двуногому нож. Вы скажете: «Да, это люто». А я возражу вам: «Пустяк! Ведь есть палачи, что Малюта пред ними ягненок как будто, милейший мучитель – добряк…» Не вытерпит даже бумага, и та захлебнется в крови, коль ей палачи из ГУЛАГа поведают прямо и нагло бессчетные зверства свои… Я знаю, я знаю, я знаю: жесток человеческий род. Летит лебединая стая, летит журавлиная стая… Опомнись, двуногий урод! Увы! Я напрасно взываю: таков человеческий род! 1980* * *
Страх в крови
Мой друг, душою не криви, ты знаешь правду, без сомненья: у наших граждан страх в крови от самого их дня рожденья. Насилиями ГПУ и долгим сталинским кошмаром был загнан, как овец отара, народ на узкую тропу. Направо – круча, слева – круча, ступай вперед, за шагом шаг, иначе пуля неминуча, в счастливом случае — ГУЛАГ. Страх нас заставил позабыть, что мы не тли, а человеки, он – повелитель, суть и нить, пока навек закроем веки, пока не превратимся в прах… Но ведь бывает чудо тоже: а вдруг мы одолеем страх в своей крови? О правый Боже! О вечный Разум, освети путь ослепленному народу, а трусость раскрепости, достоинство дай обрести и пожелать как свет Свободу! 1981Обнаружив в своем архиве письмо вдовы А. Соболева и его стихи, я полистал изданную толстым томом антологию Е. Евтушенко «Строфы века», в основу которой легли публикации «Русской музы ХХ века», печатавшиеся в конце 1980-х годов в «Огоньке». Стихов А. Соболева я не обнаружил. Это значит, что, скорее всего, их не было и на страницах журнала. По каким причинам они не попали в антологию, сейчас сказать трудно.
Спустя много лет, считаю своим долгом рассказать о незаслуженно забытом талантливом поэте, чью судьбу сломал советский режим.
«Бухенвальдский набат» Соболева
Эта песня облетела планету. Ее перевели на многие языки. И везде она звучала, как произведение композитора Вано Мурадели. Но автора стихотворного текста в советские времена нигде никогда не упоминали. Хотя автор, разумеется, был – поэт Александр Соболев.
«Я не знаю этого поэта, не знаю других его произведений, – сказал о песне известный советский писатель Константин Федин, – но за один “Бухенвальдский набат” я поставил бы ему памятник при жизни».
Никакого «памятника» ни при жизни, ни после смерти советская власть, конечно же, поэту не поставила. Ему еще повезло, что он избежал участи многих советских деятелей культуры сталинской эпохи – не угодил в лагеря. Его уничтожали медленно – делая вид, что такого поэта не существует. Нигде не печатали, нигде в официальных кругах не произносили его имени.
Александр (Исаак) Соболев попал под запущенный Сталиным в нашей стране каток антисемитизма.
«В те годы преимущественно пользовалась спросом литературная продукция определенного толка, а у него сердце не лежало славить партию большевиков и лучшего друга всех народов после коллективизации на Украине… В отличие от многих литераторов… он за полвека поэтического творчества не посвятил Сталину ни одной строки», – написала в книге воспоминаний о муже Татьяна Михайловна Соболева.
Власти не нравилось не только его еврейское имя, но и то, что Соболев вообще жил вне рамок партийных установок. Наивная мечта молодости о справедливости и свободе не могла ужиться в его сознании с реалиями беспощадного коммунистического террора…
В войну Александр был на передовой – пулеметчиком стрелковой роты. Вернулся в 1944-м инвалидом второй группы. С трудом устроился слесарем на военный завод. Публикуя в заводской многотиражке фельетоны, разоблачал злоупотребления местной власти, критиковал бюрократов, начальников, использовавших в корыстных целях свое служебное положение. Финал такой деятельности в те времена был вполне предсказуем. Соболева предупредили, чтобы «не лез не в свое дело». А в результате уволили и отправили «на лечение» в психиатрическую клинику.
В больницах и госпиталях он провел четыре года. Возвращение домой после изнурительного «лечения» не сулило радужных перспектив. На работу Александра никуда не брали. А в печатных изданиях, отказывая ему, намекали, что «еврею в журналистике делать нечего».
К тому же он никак не поддавался попыткам власти приручить его. Когда «Правда» предложила ему заменить ушедшего из жизни Маршака и обеспечивать поэтическое сопровождение политических карикатур Бориса Ефимова (что могло быть престижнее этого предложения?), Александр Владимирович, понимая, чем этот отказ грозит ему в дальнейшем, все же не клюнул на эту наживку. Его представления о свободе и справедливости не уживались с реалиями коммунистического режима. Присущие ему честность и прямота не допускали приспособленчества. Такое полное «отсутствие патриотизма» заведомо помещало его в ряды «отщепенцев».
Жена Соболева вспоминала, как ее, русскую, в начале 1953 года цинично «вычистили» из Московского радиокомитета только за то, что ее муж был еврей. Правда, перед этим одно близкое к официальным кругам лицо конфиденциально порекомендовало срочно развестись с мужем: «Он еврей, а в верхах созрел план выселения евреев из Москвы».
Но вскоре Сталин умер, и партия признала антисемитское «дело врачей» клеветническим, что, впрочем, не означало борьбу с антисемитизмом на государственном уровне. Насаждаемая Сталиным в начале 1950-х годов зараза ушла вглубь, превратившись в хроническую болезнь.
«…Я поняла, что быть женой еврея в стране победившего социализма наказуемо», – пишет Татьяна Михайловна Соболева в книге воспоминаний.
В сентябре 1958 года газета «Труд» опубликовала стихи А. Соболева «Бухенвальдский набат», отвергнутые до этого в «Правде». Автор отослал их композитору Вано Мурадели. Вскоре Мурадели позвонил поэту: «Пишу музыку и плачу… Какие стихи! Да таким словам и музыка не нужна. Постараюсь, чтобы было слышно каждое слово…».
Впервые песня прозвучала в 1958 году в Вене на Всемирном фестивале молодежи и студентов в исполнении хора Уральского университета. Это был настоящий триумф. Песню мгновенно перевели на многие языки, и она разнеслась по свету.
Хорошо помню, как в 1963 году на «Голубом огоньке» ее спел впервые появившийся на телевидении юный Муслим Магомаев, который незадолго до этого стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки, исполнив там «Бухенвальдский набат». Можно сказать, эта песня сделала его знаменитым, ее он долгие годы включал потом в свой репертуар.
Триумфальное шествие «Бухенвальдского набата» по российским просторам было уже не остановить.
Как вспоминает жена Соболева, после взрыва популярности «Бухенвальдского набата» «доброжелатели» звонили мужу по телефону: «Мы тебя прозевали, но голову поднять не дадим».
Да и как могли коллеги по литературному цеху отнестись к таким строчкам?
…Я не мечтаю о награде Мне то превыше всех наград, Что я овцой в бараньем стаде Не брел на мясокомбинат…В 1962 году «Бухенвальдский набат» выдвинули на Ленинскую премию.
Далее развернулся жестокий спектакль, подтверждающий антисемитский настрой и в партийных кругах.
…Вопрос о присуждении премий всегда рассматривался на Старой площади. Там же сочиняли сценарий, который потом спускали для воплощения.
Газеты опубликовали список соискателей премии, в котором стояли имена Вано Мурадели и Александра Соболева. Вскоре из числа соискателей автор стихов знаменитой песни был исключен (!), остался один Вано Мурадели. Но, поняв абсурдность ситуации, члены комитета по Ленинским премиям убрали из списков и саму песню. И не стало предмета для предоставления упомянутой премии! Этим все и закончилось.
Честность, порядочность, помноженные на принципиальность и нежелание идти ни на какие компромиссы с властью, явились причинами того, что из Соболева сделали «мертвого поэта»: стихов его не публиковали, в Союз писателей не принимали (да он и не стремился быть с некоторыми из его членов в одной «стае»). Работал только «в стол».
«Я – сын твой, а не пасынок, о Русь, хотя рожден был матерью еврейской», – написал автор всемирно известного «Бухенвальдского набата».
В то время как со сцены Кремлевского и других государственных залов звучали трагические антифашистские строчки:
Сотни тысяч заживо сожженных Строятся, Строятся В шеренгу к ряду ряд…Их автор, приговоренный к забвению, умирал в «Бухенвальде», выстроенном в стране «развитого социализма» для таких, как он, неподкупных и коленонепреклоненных.
Глава 16. Поэт Константин Симонов: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?..»
В моей поэтической библиотеке сохранился сборник Константина Симонова «Стихотворения. 1936–1942», вышедший в 1942 году в ОГИЗе.
В этой книжечке есть стихи, которые, по понятным причинам, не включались им в другие, более поздние издания.
Мне кажется, что это стихотворение поэта-фронтовика, как и комментарий к нему, написанный Симоновым спустя годы, уместны в данной книге.
Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? Ты должен слышать нас, мы это знаем: Не мать, не сына – в этот грозный час Тебя мы самым первым вспоминаем. Еще такой суровой годовщины Никто из нас не знал за жизнь свою, Но сердце настоящего мужчины Лишь крепче закаляется в бою. В дни празднеств, проходя перед тобою, Не думая о горестях войны, Кто знал из нас, что будем мы судьбою, С тобою в этот день разлучены?.. Так знай же, что в жестокий час разлуки Лишь тверже настоящие сердца, Лишь крепче в клятве могут сжаться руки, Лишь лучше помнят сыновья отца. Все те, кто праздник наш привык с тобою В былые дни встречать у стен Кремля, Встречают этот день на поле боя, И кровью их обогрена земля. Они везде: от пламенного юга, От укреплений под родной Москвой До наших мест, где северная вьюга В окопе заметает с головой. И если в этот день мы не рядами По праздничным шагаем площадям, А, пробивая пусть себе штыками, Ползем вперед по снегу и камням, Пускай Информбюро включает в сводку, Что нынче, лишних слов не говоря, Свой штык врагу, втыкая молча в глотку, Мы отмечаем праздник Октября. А те из нас, кто в этот день в сраженье Во славу милой родины падет, — В их взоре, как последнее виденье, Сегодня площадь Красная пойдет. Товарищ Сталин! Сердцем и душою С тобою до конца твои сыны, Мы твердо верим, что придем с тобою К победному решению войны. Ни жертвы, ни потери, ни страданья Народную любовь не охладят, — Лишь укрепляют дружбу испытанья, И битвы верность русскую крепят. Мы знаем, что еще на площадь выйдем, Добыв победу собственной рукой, Мы знаем, что тебя еще увидим Над праздничной народною рекой. Как наше счастье, мы увидим снова Твою шинель солдатской простоты, Твои родные, после битв суровых Немного постаревшие черты. Москва, 1942* * *
«Я считаю, что наше отношение к Сталину в прошлые годы, в том числе в годы войны, наше преклонение перед ним в годы войны, – это преклонение в прошлом не дает нам права не считаться с тем, что мы знаем теперь, не считаться с фактами. Да, мне сейчас приятнее было бы думать, что у меня нет таких, например, стихов, которые начинались словами “Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?” Но эти стихи были написаны в сорок первом году, и я не стыжусь того, что они были тогда написаны, потому что в них выражено то, что я чувствовал и думал тогда, в них выражена надежда и вера в Сталина. Я их чувствовал тогда, поэтому и писал.
Но, с другой стороны, тот факт, что я писал тогда такие стихи, не зная того, что я знаю сейчас, не представляя себе в самой малой степени и всего объема злодеяний Сталина по отношению к партии и к армии, и всего объема преступлений, совершенных им в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах, и всего объема его ответственности за начало войны, которое могло быть не столь неожиданным, если бы он не был столь убежден в своей непогрешимости, – все это, что мы теперь знаем, обязывает нас переоценить свои прежние взгляды на Сталина, пересмотреть их. Этого требует жизнь, этого требует правда истории».
Из книги К. Симонова «Глазами человека моего поколения», М., 1990Что ж, не у каждого «мастера художественного слова» хватило мужества написать такие слова, многие делали вид, что не говорили, не писали, не подписывали…
Константин Симонов же останется в нашей памяти не этими громоподобными строчками, а вечными «Жди меня…» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
Глава 17. Евгений Евтушенко: «Я страшно завидовал тем моим ровесникам, которым выпадала честь подносить букеты цветов Сталину…»
Как попала ко мне перепечатка опубликованного в 1962 году журналом «Штерн» публицистического произведения Евгения Евтушенко «Автобиография рано созревшего человека», сейчас я точно не помню. По одной отложившейся в памяти версии штудию всемирно известного уже тогда поэта перевел для меня году в 64-м, может быть, в 65-м мой дядя Ласло Партош, знавший несколько языков, в том числе и немецкий. Но возможен и другой вариант. Кто-то из знакомых «одарил» меня уже готовой стостраничной распечаткой, гулявшей в «самиздате».
В ту уже сходящую на нет «оттепельную» пору бесцензурная и не санкционированная властями публикация в буржуазных изданиях была крамолой.
Поведение поэта и его произведение клеймили позором, определяя и то, и другое как политически вредное и даже антисоветское. Хранить у себя дома этот образец «антипартийной» литературы было достаточно рискованно. Я же, «подтравленный» спущенной «сверху» определенной свободой, возможностью говорить, обсуждать, читать, однажды (это было уже году в 1967-м) легкомысленно принес «Автобиографию» на работу во владимирскую газету «Призыв» и положил в свой рабочий стол вместе с имевшимся у меня письмом Александра Солженицына к IV Съезду Союза писателей, в котором писатель выступал за упразднение всякой цензуры над художественными произведениями. Письмо это вызвало бурю возмущения в официальных кругах и распространялось также в «самиздате».
Конечно, я поступил крайне опрометчиво. Как и следовало ожидать, кто-то из коллег сунул «стукаческий» нос в мой письменный стол и, выудив тексты, доложил куда следует. Судьба моя мгновенно изменилась. После бесед с представителем органов мне предложили уволиться и по-хорошему намекнули, чтобы я исчез с «глаз долой». Прекрасно понимая, что совет этот не очень «дружеский», я покинул территорию Владимирщины и Москвы и уехал в далекий Курган.
Сейчас, по прошествии почти полувека, ясно, что скандал, связанный с публикацией на Западе «Автобиографии…», и реакция на изложенное поэтом были явно намеренно инспирированы идеологами из ЦК КПСС. Началась очередная проработочная кампания по завинчиванию гаек и выкручиванию рук – для острастки и самого Евтушенко, и тех «инакомыслящих», кто оппозиционно воспринял погромные встречи Хрущева с творческой интеллигенцией.
Привожу фрагменты из сохранившегося в моем архиве «самиздата» – «крамольной» исповеди поэта, поразившей меня своей открытостью, свежестью и напором.
…Я хотел увидеть Сталина. Я ходил вместе с мамой и отцом на демонстрации и просил отца приподнять меня выше. И когда вознесенный в отцовских руках над толпой я махал красным флажком, то мне казалось, что Сталин тоже видит меня. И я страшно завидовал тем моим ровесникам, которым выпадала честь подносить букеты цветов Сталину и которых он ласково гладил по головам, улыбаясь в свои знаменитые усы своей знаменитой улыбкой.
Объяснять культ личности Сталина лишь насильственным навязыванием по меньшей мере примитивно. Без сомнения, Сталин обладал гипнотическим обаянием. Многие настоящие большевики, арестованные в то время, отказывались верить, что это произошло с его ведома, а иногда даже по его личному указанию. Они писали ему письма. Некоторые из них после пыток выводили своей кровью на стенах тюремных камер «Да здравствует Сталин!»
Понимал ли русский народ то, что на самом деле происходило? Я думаю, что в широких массах – нет. Он кое-что инстинктивно чувствовал, но не хотел верить тому, что подсказывало сердце.
Это было бы слишком страшно. Русский народ предпочитал не анализировать, а работать. С невиданным в истории героическим упорством он воздвигал электростанцию за электростанцией, фабрику за фабрикой, заглушая грохотом тракторов и бульдозеров стоны, доносившиеся из-за колючей проволоки сибирских концлагерей.
Но все-таки совсем не думать в те трудные годы было невозможно…
…Мне стыдно за Сталина, хотя и не только за него. Как можно было не доверять народу, безгранично верящему в коммунизм и распространявшему эту веру на Сталина.
…Писал я лихо, с задором. Мышление мое еще созревало, и я просто наращивал поэтические мускулы. Как гантелями играл я и аллитерациями, рифмами, метафорами. Тарасов, заведующий поэтическим отделом газеты «Советский спорт», где я печатался, был прекрасным тренером в этом смысле. А то, о чем я писал, мне было неважно. Но невинная ребяческая забава грозила незаметно превратиться в саморастление.
Я помню, как однажды Тарасов вызвал меня по телефону в редакцию. В номере шли мои очередные первомайские стихи.
– Женя, главный редактор в панике, – неловко улыбаясь, сказал Тарасов. – Обнаружилось, что в ваших стихах нет ни слова о Сталине. А снимать стихи уже поздно.
– Что же делать? – сказал я.
– Знаете, Женя, чтобы вас не мучить, я сам написал за вас четыре строчки.
– Ладно, валяйте, – весело сказал я.
Мне все было тогда едино – со Сталиным или без Сталина. Я был самым настоящим мальчишкой.
Однажды в газете «Труд» появилось одно мое стихотворение. Я увидел в нем не принадлежащие мне строчки о Сталине. Я пошел в редакцию скандалить.
– Это мы сделали, чтобы стихи прошли, – примирительно сказали мне в редакции. – Что тут страшного?
Мне показалось, что, может быть, действительно ничего страшного нет – ведь Сталина я как-никак боготворил с самого раннего детства. Вскоре я очень хорошо усвоил: чтобы стихи прошли, в них должны быть строчки о Сталине. Это мне казалось даже естественным.
…Тиражи поэтических книг тогда зависели не от спроса покупателей, а от официального положения поэтов.
…Крупнейшие русские поэты – Заболоцкий и Смеляков – были в лагерях. Выслан был и молодой поэт Мандель (Коржавин). Не знаю, останется ли его имя в русской поэзии, но останется безусловно в истории русской общественной жизни. Это был единственный поэт, который при жизни Сталина написал и открыто читал стихи против Сталина. То, что Мандель читал их, – его, видимо, и спасло, ибо поэта, по всей вероятности, сочли ненормальным и всего-навсего выслали.
…Когда мы говорим о культе личности, не надо слишком поспешно обвинять всех людей, так или иначе причастных к этому культу, в подхалимаже. Разумеется, были и откровенные подхалимы, спекулировавшие на конъюнктуре. Но то, что, например, многие люди искусства воспевали Сталина, было не их подлостью, а трагедией.
Почему же обманывались даже умные, талантливые люди? Во-первых, Сталин сам по себе был фигурой сильной и выразительной. Сталин умел очаровывать людей. Он очаровал и Горького, и Барбюса. В 1937-м – году самых страшных репрессий – он сумел очаровать даже такого видавшего виды и не склонного к романтизации человека, как Лион Фейхтвангер. Во-вторых, имя Сталина в сознании советского народа было неразрывно связано с именем Ленина. Сталин знал любовь народа к Ленину и всячески содействовал фальсификации истории, где его отношения с Лениным выглядели более дружески, чем были на самом деле….
…Я понимаю, что главное преступление Сталина вовсе не в том, что он арестовывал и расстреливал. Главное преступление Сталина – моральное растление душ человеческих…
5 марта 1953 года произошло событие, которое потрясло Россию, – умер Сталин. Представить его мертвым было для меня почти невозможным – настолько он мне казался неотъемлемой частью жизни.
Было какое-то всеобщее оцепенение. Люди были приучены к тому, что Сталин думает о них о всех, и растерялись, оставшись без него. Вся Россия плакала, и я тоже. Это были искренние слезы горя и, может быть, слезы страха за будущее.
На писательском митинге поэты прерывающимися от рыданий голосами читали стихи о Сталине. Голос Твардовского – большого и сильного человека – дрожал.
Никогда не забуду, как люди шли к гробу Сталина.
Я был тогда в толпе на Трубной площади. Дыхание десятков тысяч прижатых друг к другу людей, поднимавшееся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нем отражались и покачивались тени мартовских деревьев. Это было жуткое фантастическое зрелище. Люди, влившиеся сзади в этот поток, напирали и напирали. Толпа превратилась в страшный водоворот. Я увидел, что меня несет на столб светофора. Столб светофора неумолимо двигался на меня. Вдруг я увидел, как толпа прижала к столбу маленькую девушку. Ее лицо исказилось отчаянным криком, которого не было слышно в общих криках и стонах. Меня притиснуло движением к этой девушке, и вдруг я не услышал, а телом почувствовал, как хрустят ее хрупкие кости, разламываемые о светофор. Я закрыл глаза от ужаса, не в состоянии видеть ее безумно выкаченные глаза, детские, голубые. И меня пронесло мимо… Вдруг я почувствовал, что иду по мягкому. Это было человеческое тело. Я поджал ноги, и так меня понесла толпа. Толпа все сжималась и сжималась. Меня спас лишь мой рост. Люди маленького роста задыхались и погибали. Мы были сдавлены с одной стороны стенами зданий, с другой стороны поставленными в ряд военными грузовиками.
– Уберите грузовики! Уберите! – истошно вопили в толпе.
– Не могу, указания нет! – растерянно кричал молоденький белобрысый офицер милиции с грузовика, чуть не плача от отчаяния… Борта грузовиков были в крови…
И в этот момент я подумал о человеке, которого мы хоронили, впервые с ненавистью. Он не мог быть не виноват в этом…
Мне уже не хотелось идти к гробу Сталина…
Этот день был переломный в моей жизни, а значит, и в моей поэзии.
Глава 18. Поэт Наум Коржавин: «Если бы я не был сталинистом, меня бы не посадили»
Мои первые годы совпали с началом сталинской эпохи. На моих глазах Сталин, если судить по смене газетных титулов, превратился из верного ученика Ленина в отца народов, гения всех времен, корифея всех наук и вождя всего прогрессивного человечества… Впрочем, когда я переступил порог школы, Сталин рекомендовался еще только первым среди равных, а это еще не требовало от нормальных людей большого насилия над здравым смыслом.
Н. Коржавин «В соблазнах кровавой эпохи»Наум Коржавин (Мандель) родился в Киеве в 1925 году. Стихи начал писать рано, их заметил Николай Асеев и рассказал о молодом поэте в Москве. В 1945 году Наум поступил в Литинститут имени Горького. В 1947-м был арестован и после нескольких месяцев на Лубянке сослан в Сибирь.
После смерти Сталина вернулся в Москву, в 1959 году окончил Литинститут. Во время хрущевской «оттепели» вышла его единственная книга, напечатанная в Советском Союзе до эмиграции, – «Годы». Его строки: «…но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят», «Какая сука разбудила Ленина?! Кому мешало, что ребенок спит?!», «…но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь», и многие другие цитируются на интеллигентских кухнях и создают Коржавину славу «подпольного», «самиздатовского» поэта.
Во второй половине 1960-х годов Коржавин выступил в защиту «узников совести» Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, вслед за чем последовал запрет на публикацию его стихов.
В 1973 году Наум Коржавин был вынужден уехать из Советского Союза, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни».
В годы перестройки у Коржавина появилась возможность приезжать в Россию. Проходили его поэтические вечера. Первый был в Доме кино. Желающим послушать опального поэта не хватало мест. Когда Окуджава вывел на сцену Коржавина, весь зал, не сговариваясь, поднялся и зааплодировал. Читал стихи по памяти, по книге не мог из-за очень плохого зрения. Потом на сцену выходили известные актеры, пришедшие на встречу в качестве зрителей, и читали по его книге без подготовки, сразу, первое попавшееся стихотворение, на котором раскрывался сборник.
Помню, что в тот первый приезд поэта в Москву я провожал его в аэропорт. Мы ехали в такси, и я записывал на диктофон наш разговор обо всем. Запомнилось, что, в отличие от многих, безоглядно оптимистично принявших перестройку, Коржавин настороженно воспринимал перемены, происходящие на родине. Позже я прочитал, что в беседе с опальным спортивным журналистом Аркадием Галинским поэт якобы сказал: «Я им не верю».
Привожу фрагмент той давней беседы.
– Ваше отношение к сталинизму не было однозначным. В разные периоды жизни вы по-разному относились к вождю, с чем это связано?
– Сначала я был антисталинистом, потому что Сталин оскорблял революционную романтику, которой я был пронизан, он ее фальсифицировал. Мне не нравился Сталин, потому что я ощущал ложь – говорили о равенстве, а сами в правительственных ложах сидели. Какие могут быть правительственные ложи, если равенство? Я помню голодомор на Украине. Повсюду валялись трупы, в том числе детские. Это было страшно. Истощенные люди просили «Хлiба, хлiба», но ни у кого не было лишнего куска.
Получалось, что есть люди, которых не жалко, о них страна и Сталин не думают.
После войны я ненадолго стал сталинистом. Во время войны не был, но после – стал. Дело в том, что меня по состоянию здоровья не призвали на фронт, а тут стал встречаться с фронтовиками. Такие хорошие, умные, интеллигентные ребята, победили в великой войне, Сталин же был их главнокомандующим. Победили, правда, не благодаря Сталину, скорее, несмотря на него, но это я понял позже. А тогда… Мы победили, а я против выступаю? Вроде как, нехорошо.
В общем, стал я сталинистом. Но это меня не спасло от ареста. Наоборот, если бы я не был сталинистом, меня бы, скорее всего, не посадили. Потому что тогда я бы знал, что можно говорить, что нельзя. А так я, можно сказать, свой в доску, говорил, что думаю. Ничего антисоветского, но где-то, видимо, «засветился» как неблагонадежный – этого тогда достаточно было. И в 1948 году меня арестовали, 10 месяцев просидел под следствием, а потом 3 года провел в ссылке в Новосибирской области. Сталинист оказался в сталинской тюрьме.
Отказался я от сталинизма во время кампании по борьбе с космополитизмом, я тогда еще был в ссылке. Я хорошо знал людей, которых она перемолола, работал со многими из них в одном цехе, и я не верил в их вину. Позже таким же жутким, абсолютно клеветническим было антисемитское «дело врачей».
На мой взгляд, эпоха тоталитарного режима смогла так долго выстоять, потому что слишком много людей безоглядно верили в революцию, в партию, в ее политику.
Потом я сам попал в такую категорию, когда меня арестовали.
– По самой распространенной в те годы статье – по 58-й?
– Нет, по 7-35. По статье 7 могли посадить лиц, не совершивших преступления, но могущих их совершить и представляющих опасность для социалистического государства. К таким лицам могли быть применены санкции по статье 35, которая содержала список всех санкций – от расстрела до ссылки. Не абсурд ли это?
– А, как вы думаете, за что арестовали вас?
– Я тогда учился в Литературном институте. Что было причиной, и была ли она вообще – я до сих пор не знаю. Могу предположить, что соответствующему подразделению МГБ для отчета нужна была соответствующая деятельность. Поводом же для ареста могло послужить искаженное четверостишие моего стихотворения «16 октября», написанное в 1945 году и гулявшее по Москве.
Мой текст такой:
…И заграница, замирая, Молилась на Московский Кремль. Там, но открытый всем, однако, Встал воплотивший трезвый век Суровый жесткий человек, Не понимавший Пастернака.Гуляло же:
А там, в Кремле, в пучине мрака, хотел понять двадцатый век сухой и жесткий человек, не понимавший Пастернака.– Мне кажется, вас могли «взять» за любую из двух редакций… А XX съезд КПСС как-то повлиял на ваше отношение к Сталину?
– Скорее не повлиял, а обрадовал. Мой сталинизм закончился еще в ссылке, и после XX съезда я обрадовался, что мои мысли перестают быть запрещенными. А вот в коммунизм продолжал верить. Только «Один день Ивана Денисовича», опубликованный в 1962 году в «Новом мире», подтолкнул меня к пониманию коллективизации. А от коммунизма я отказался в 1958 году после того, как прочитал в «Правде» статью трех венгерских коммунистов, поддержавших подавление будапештского восстания.
1989Глава 19. Василий Франк об отношении к Сталину своего отца – русского философа, религиозного мыслителя, психолога Семена Людвиговича Франка
– Вы спрашиваете, как отец относился к Сталину, и были ли у нас в семье вообще какие-то разговоры на эту тему? Да, разговоры были, и многое осталось в памяти. Хотя особо «специфических» размышлений о Сталине я не помню. Конечно, отец считал большим несчастьем для России, что ею руководили Сталин и его когорта. После столыпинских реформ Россия начала экономически подниматься и, я бы сказал, морально воскресать. И если бы не было войны или война была бы не в 1914 году, а, скажем, через 10 лет после этого, в России ничего страшного бы не произошло, и многие русские люди не оказались бы в эмиграции.
Я помню дискуссии отца с Бердяевым, который в 1945 году выражал мысли о том, что пора возвращаться на Родину. Выходило, что не в Россию, а в Советский Союз. Папа, конечно, возражал. Возражал убедительно, называя при этом тогдашнюю страну «сталинской вотчиной». К сожалению, я не записал этого важного разговора, из которого выходило, что Бердяев показывал себя советским патриотом. Кстати, некоторые потом считали его виновным в том, что многие из русской эмиграции, особенно из ее парижской части, возвратилась тогда в Москву с очень печальными для них последствиями.
К Ленину как инициатору и одному из исполнителей революции отец относился резко отрицательно. Он говорил, что этот тандем – Ленин и Сталин – явились для России трагедией, настоящей катастрофой. Отец считал, что в сталинскую Россию возвращаться нельзя, старая Россия закрыта, а нынешняя – это другой мир, другая планета.
Были разговоры о Максиме Горьком, из которых я запомнил только то, что Горького отец считал проходимцем, карьеристом. Правда, я считаю, это не совсем верно. Горький – довольно противоречивая личность – и со знаком «плюс», и со знаком «минус». О том, что Горького убили в Москве, здесь, во Франции, ходили упорные слухи. Но я помню слова отца, что в Советском Союзе даже в условиях режима Сталина люди «умирают нормально». Так говорил мой папа, прав он или нет, ни вы, ни я не знаем.
А то, что Сталин посещал Горького незадолго до его кончины, весьма подозрительно.
В отношении Сталина и Гитлера я запомнил знаменитую фразу отца: «В один мешок». Это значило, что между ними он не видел никакой разницы, и говорил, что, если бы у Сталина была возможность, он развернул бы ту же самую войну, что и Гитлер.
Из беседы с Василием Франком, Москва, 1988Глава 20. Писатель-фронтовик Михаил Алексеев: «Не будь он Главнокомандующим, мы бы проиграли войну…»
– Ты просишь меня порассуждать на тему «Сталин и война»… Тема эта, сразу скажу, трагическая. На эту тему столько понаписано книг, что, кажется, сказано все. Но это не так. Далеко не так. Хотя бы потому, что без моей личной писательской правды о войне этот разговор будет неполным.
Ты удивишься, в моем романе «Мой Сталинград» нет ни одного вымышленного героя. Все имена реальные. Когда я рассказал Юрию Бондареву, который тоже, как и я, был участником Сталинградской битвы, о том, что не хочу придумывать героев, он отрезал: «Ну, смотри, хлебнешь ты горя. Сразу найдутся свидетели, которые были там-то и там-то и которые будут опровергать описанное тобой». Мы заспорили. Но я все-таки сделал свою книгу такой, какой хотел.
Под Сталинградом я командовал ротой, под моим началом было 110 человек. Большинство из них там погибли. И я знаю, где и как погиб каждый, и до сегодняшнего дня помню, где всех похоронили. Вот что для меня такое память о войне, о страшной Сталинградской битве. И еще скажу, я остался жив, потому что они погибли.
Так вот, пока я устраивался в своих творческих мыслях, оказалось, что Сталинграда, как такового, уже нет. Появился, видите ли, Волгоград, и некоторые ничтоже сумняшеся стали писать о… «Волгоградской битве». А ведь не было такой. Битва была Сталинградская, и в ней я имел горькое счастье участвовать.
А потом стали утверждать, что главная битва была не под Сталинградом, а на Малой земле. Все перевернули-перемешали. А я говорю в своей книге о той битве, Сталинградской, которую помню, как будто это было вчера. Вот положишь на секунду очки, и тут же забыл, где они лежат. А то, что было шестьдесят лет назад, помню.
Когда был напечатан мой роман, я получил неожиданное приглашение посетить Францию, пять ее городов. Событие приурочили к 50-летию разгрома немцев под Сталинградом. Так вот, эту дату во Франции отмечали более торжественно, чем у нас. Меня водили по площадям и улицам, названным в честь Сталинграда. А в нашей стране нет теперь Сталинграда.
Не в Сталине дело, а в Сталинграде. В один голос за границей мне говорили: «Вы спасли не только себя, вы спасли и Европу».
…А теперь о самом Сталине… В своем романе «Драчуны» я описал все ужасы коллективизации, которые творились в стране. Мне было тогда 14 лет, и я все видел. Я не знал тогда слова «геноцид», но именно он погубил миллионы людей. В моем селе было 660 дворов, а после 1933 года осталось 150. Когда Сталин понял, что назревает народное возмущение, народ не будет терпеть такое, он написал статью «Головокружение от успехов», в которой говорилось о варварских методах коллективизации.
Как я могу относиться к Сталину? Тот голод, гибель миллионов я не могу ему простить. И в то же время я считаю, что, не будь он Главнокомандующим, мы бы проиграли войну. Однажды, когда я работал редактором журнала «Москва», к нам из Би-би-си приехала делегация. Спрашивают, правда ли, что Сталин был недоучкой, что он по глобусу руководил военными действиями, что он неврастеник и так далее… Я говорю им: «А ваш Черчилль был умным человеком?» Они: «О, да!» Я: «А Рузвельт?» – «О, да!» Тогда я говорю: «А как же этот “недоучка” умудрился посадить за один стол с собой двух великих деятелей, которые в разное время мечтали разгромить Россию? Как он умудрился объединить вокруг себя этих людей?» Они замолчали…
Когда немцы были уже у порога Москвы, казалось, Сталин должен был на коленях стоять, унижаться, молить о помощи. Он, конечно, просил помочь, но не унижался. Надо было, видимо, обладать чем-то таким, чего не хватало всем последующим нашим правителям, – державности. Конечно, он тиран и диктатор, каких не было. Разве что Иван Грозный. Недаром Сталин любил фильм о нем. И тот, и другой смогли удержать страну, которая была окружена враждебным миром. Так что у меня противоречивые чувства к нему…
2000Для справки:
Михаил Алексеев (1918–2007) – русский писатель-фронтовик. Воевал на Юго-Западном и Сталинградском фронтах, на Курской дуге. Главный редактор журнала «Москва» (1968–1989). Автор книг о Великой Отечественной войне, о прошлом российского села. По его роману «Вишневый омут» был создан одноименный кинофильм, по роману «Хлеб – имя существительное» – фильм «Журавушка».
Глава 21. Писатель, философ Александр Зиновьев: «В сороковом году я пустил шутку: Гитлер – это такой бандит сталинской эпохи…»
Представляю фрагменты из интервью с писателем, философом Александром Зиновьевым, одним из самых ярких мыслителей ХХ века, которое проходило в Мюнхене в конце 1980-х годов. В беседе принимали участие супруга мюнхенского «сидельца» Ольга Зиновьева и писатель Эдуард Кузнецов, организовавший мне встречу с Александром Александровичем.
– Я слышал, в войну вы были летчиком?
– Начал войну танкистом, но в танке воевать не пришлось. Хотя мы знали, что войны не миновать, однако по чьему-то приказу законсервировали танки, в результате чего наш полк бежал пешим порядком. Нелепость! Потом я попал в авиационное училище, некоторое время участвовал в наземных войсках неопределенного рода – сброд из разных воинских частей. Потом попал уже в другое авиационное училище, служил в авиационных частях.
– Как вы тогда воспринимали Сталина?
– Антисталинистом я стал уже в 1938 году, а через год – членом небольшой антисталинистской группки, собиравшейся убить «вождя народов». И в том же году меня арестовали. За что? За выступления против культа Сталина. Однажды с Лубянки меня перевозили на квартиру КГБ, чтобы там я раскрыл своих сообщников. По дороге произошло замешательство, и я сбежал. Год странствовал по стране без документов, был в Сибири, на Севере. В сороковом попал в армию. Но антисталинистской пропагандой занимался вплоть до смерти Сталина, до хрущевского доклада. Причем занимался почти открыто. Удивительно? Вроде бы, да. Любопытный пример. О том, что я арестовывался, о том, что скрывался, в 1939-м знали многие. Однако я поступил в университет, и на меня никто не донес.
– Случайность…
– Почему случайность? Мой близкий друг в то время был парторгом факультета, а я беспартийным. Он знал все мои «грехи». И вместе с тем благодаря ему я остался в аспирантуре. На третьем курсе меня собирались исключить за нехорошие разговорчики. Спас секретарь парткома университета, который также многое обо мне знал.
Дело в том, что уже во время войны сформировались сильные антисталинистские настроения в стране, среди бывших фронтовиков на этот счет появилась какая-то солидарность. Но после смерти великого вождя мой антисталинизм утратил смысл. Сталина уже многие клеймили открыто. И я стал относиться к нему как к явлению истории, отстраненно и взвешенно. Я вообще не против ни Сталина, ни Ленина, ни коммунизма… Не против и не за. Я принимаю все это как реальность и вижу свою задачу в одном: изучить эту реальность как можно лучше и построить теорию, которая даст возможность делать прогнозы. Я никогда не ставил перед собой задачу свержения коммунизма. Если бы я сейчас был в Советском Союзе, я не принимал бы участия ни в каких оппозициях, ни в каких движениях, это не мое дело.
…Я русский человек, я не хочу отрекаться от русской истории. Даже когда меня выгнали из Союза, и я приехал на Запад, тут решили, что я сразу начну играть роль антисоветчика. А я был единственный из приехавших, кто сказал: «Я советский человек». И я все время подчеркивал это. Я не собираюсь свергать режим, это не моя задача. А то, что я пострадал от этого режима, я считаю реальностью, которую надо проанализировать и которой надо дать оценку, не более того…
Кандидатскую диссертацию я писал о «Капитале» Маркса в 1954 году. Эта диссертация была запрещена тогда, находилась в секретном фонде, циркулировала в машинописных копиях, это был предшественник самиздата 1960-х, 70-х годов. С ней у меня случилась забавная ситуация. Ее не выпустили на защиту, потому что я отказался ссылаться на Сталина. И вы знаете, кто мне помог вытащить диссертацию на защиту? Был такой Александров, заведующий отделом ЦК. Он дружил с Марком Донским. А я знал Марка Донского через своих друзей Григория Чухрая и Карла Кантора. Так моя история дошла до Александрова, и он, не читая, приказал выпустить работу. Так что в моей судьбе случались странные переплетения.
…В Германии у меня вышла книга «Нашей юности полет», в которой я подхожу к Сталину с объективно-социологической точки зрения. Сталин совершил огромные злодеяния. Но вместе с тем, на мой взгляд, он является величайшим политическим деятелем XX века. Великий не значит хороший. Наполеон – мерзавец, но XIX век – это век Наполеона. XX век я считаю веком Ленина и Сталина, самых крупных политических фигур. Когда у нас говорят «великий», подразумевают «добрый», «хороший»… Чепуха. Чингисхан – великий исторический деятель, но о нем не скажешь, что он добрый, хороший. А сколько было добрых и хороших, но ничтожеств!
В книге я даю свое понимание сталинской эпохи и мое отношение к ней.
– И себя вы тоже считаете ее продуктом?
– Несомненно… Я считаю себя продуктом, прежде всего, той эпохи. Но это не значит, что я сталинист. Ничего подобного. Сталинская эпоха породила много людей, к которым я отношусь с величайшим уважением. Собственно, мое поколение спасло страну от гитлеризма, я имею в виду людей, родившихся в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом, двадцать втором годах, то есть в сталинские годы достигших зрелости. И моему поколению не повезло больше всех, это оно вынесло самые большие тяготы советской истории. К моему поколению принадлежат такие люди, как Солженицын, Окуджава, Галич, Сахаров.
– Скажите, вам приходила мысль сравнить Сталина с Гитлером?
– Я всегда протестовал против такого сравнения. В свое время была в ходу такая шутка: «Кто такой Гитлер? Это мелкий бандит сталинской эпохи». Эту шутку я пустил в оборот еще в сороковом, когда появились тенденции такого сравнения. Сталин и Гитлер – это качественно различные явления. Другое дело, они уподоблялись друг другу. Но это же естественно, в истории так бывает, когда соприкасаются враги, они уподобляются друг другу во многом. Но эти двое – принципиально различны. Гитлер – явление западной демократии. Сталин – явление коммунистической системы. Гитлера надо было судить как преступника. Сталин не был преступником. При нем совершалось много злодейств, но Сталин – явление нового качества, Сталин – явление коммунистической революции.
– Но как же миллионы уничтоженных им людей? Десятки миллионов! Разве вы отрицаете это?
– Чингисхан тоже уничтожал людей. Он занимал какой-то район и десятки или сотни тысяч людей вырезал. Вы будете сравнивать Чингисхана с Гитлером? Мало ли кто кого вырезал! По приказу президента США на японцев сбросили две атомные бомбы. Будем сравнивать? А что тогда выбирать в качестве критерия? Если коварство, уничтожение людей без суда и следствия, то пропадут все основания для серьезного отношения к истории. Сравнивать вы можете кого угодно с кем угодно. Черчилль был подлец, да и еще какой, а его считают на Западе великим политическим деятелем, хотя в сравнении с Гитлером и Сталиным он – червяк. Все зависит от того, с какой стороны подойти: с моральной, юридической, социологической или исторической.
– А не говорит ли в вас сейчас холодный логик?
– В данном случае я подхожу к проблеме как социолог. Я не политик, никогда им не был. На короткий промежуток времени я попал в группку, которая хотела убить Сталина, но мы не имели политических целей, у нас не было задачи преобразования мира. Лично мной двигал протест: тяжелое положение, разорение деревни, голод и так далее. Кроме того, меня раздражал сам путь Сталина и то, как его возвеличивают. Я сейчас написал много критических статей о Горбачеве не потому, что я питаю к нему какие-то положительные или отрицательные эмоции, а потому, что здесь, на Западе, его стали раздувать до размеров величайшего политического деятеля XX века. Чепуха это! Такие вещи у меня всегда вызывали протест. У меня к Сталину было особое отношение, он символизировал для меня мир зла. И, хотя я знал, что мы погибнем и ничего из нашей затеи не выйдет, моими настроениями владели демонические начала, был враг – огромный, масштабный, и борьба с этим врагом для меня была адекватной ему…
– Вы были членом партии?
– Я вступил в партию после смерти Сталина как антисталинист и меня принимали как антисталиниста. Здесь, на Западе, не знают, что антисталинское движение началось еще при жизни Сталина. После его смерти борьба против сталинизма шла прежде всего в партийных организациях. И я вступил в партию с намерением бороться против сталинизма уже на открытом профессиональном уровне. Вскоре выяснилось, что все это чепуха, все стали антисталинистами, и мое пребывание в партии – чистая формальность… А потом, это было еще до публикации «Зияющих высот», я пришел в партбюро и сказал: «Исключайте». Не потому, что я считал партию плохой, а потому, что я стал совершать поступки, несовместимые по тем временам с пребыванием в партии.
– Но при этом вы говорите, что остаетесь коммунистом?
– Я был воспитан как идеальный коммунист. В моем окружении были такие «настоящие коммунисты». Это мой дядя, брат. Таких верных идее людей было много, и я считаю, что наша страна победила Гитлера потому, что были такие люди, которые бросались на амбразуры, под танки. Сейчас из Александра Матросова сделали анекдотическую фигуру, а на фронте видел таких людей, которые, услышав: «Коммунисты, вперед!», шли в бой первыми и погибали. Я не хочу все это вычеркивать из нашей истории. Я согласен с тем, что на Западе меня считают острым критиком коммунизма, но я не антикоммунист. И я считаю, что хоронить коммунистическое общество не стоит.
Для справки:
Сын рабочего и крестьянки, А. Зиновьев в 1939 году поступил на философский факультет МИФЛИ. За выступления против культа личности Сталина исключен из комсомола и института. В годы Великой Отечественной войны был танкистом, летчиком, награжден орденом Красной Звезды, медалями. Окончил философский факультет МГУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
За опубликование на Западе романа «Зияющие высоты» (1976) был уволен с работы, лишен степеней, званий и наград. После того как в 1978 году на Западе вышел его сатирический роман «Светлое будущее», в котором подвергся критике Л. И. Брежнев, Зиновьева вынудили покинуть СССР, иначе ему грозила тюрьма, а семье – высылка в Сибирь. Лишен гражданства.
Опубликовал на Западе более 20 книг. В 1988 году в Мюнхене вышла его сатирическая повесть «Катастройка», в которой даны анализ и резкая критика горбачевской перестройки.
В 1990-х годах Зиновьева стали активно приглашать в Москву читать лекции, в которых он с той же страстью, с какой бичевал советских вождей, бичевал новую номенклатуру. В 1999 году вернулся на родину.
Скончался в 2006 году в Москве.
Глава 22. «После войны театр отстроим заново…» – из воспоминаний народного артиста РСФСР Вячеслава Шалевича
– Я знаю, что всю жизнь вы прожили на Арбате, на пятачке рядом с Театром имени Вахтангова. С одной стороны, наверное, это интересно, а с другой – не скучно ли? Ведь Москва огромна.
– Да, я живу здесь с самого рождения. Родился я рядом, в знаменитом роддоме Грауэрмана. Мы с мамой жили во дворе вахтанговского театра. 22 июля 1941 года в театр попала фашистская бомба, я в это время был в бомбоубежище под театром. Выйдя из подземелья, мы обнаружили, что все стекла кругом выбиты, а сторона театра, выходившая на Арбат, рухнула. С мальчишками-сверстниками я стал собирать осколки, кто больше соберет. Про бомбы еще мало что понимал.
Но хорошо помню один эпизод тех дней. Арбат тогда был правительственной трассой, и по ней на дачу ездил Сталин. Так вот, в тот или на другой день после взрыва у театра остановилась машина, из которой вышел Сталин. Вышел, показал на здание рукой и что-то проговорил своему окружению. Много лет спустя, когда я уже работал в Вахтанговском театре, я спросил у Рубена Николаевича Симонова, явь это или сон, что я видел Сталина возле театра. И он ответил, что все так и было, и Сталин сказал: «После войны театр построим заново». И действительно, в 1951 году здание отстроили полностью и целиком, архитектором был сам Вахтангов.
Из интервью с Вячеславом Шалевичем, 1999Глава 23. Из «сталиниады» писателя Виктора Горохова
В 2004 году журналистская стезя свела меня с удивительным человеком Виктором Соломоновичем Гороховым, литератором, сценаристом, мемуаристом… Я и раньше слышал о нем, о его увлекательных устных рассказах. К тому же в моей библиотеке хранилась книга Горохова об американском певце Поле Робсоне, изданная еще в 1950-х годах. И вот как-то ко мне обратились друзья с просьбой помочь «одному интересному человеку» в написании небольшой книжечки. Этим «интересным человеком» и оказался Виктор Горохов, яркий персонаж столичной богемы 1950–1970-х годов, а «небольшая книжечка» – собранные Гороховым рассказы, анекдоты, воспоминания о генералиссимусе, записанные Виктором Соломоновичем, а также хранившиеся у него в памяти. Мы познакомились, и я стал записывать на диктофон то, что было в голове у «сталиноведа». Я помогал автору – собирателю историй о вожде народов не потому, что меня волновала эта тема, мне было интересно беседовать с Виктором Соломоновичем и на другие, не касающиеся Сталина, темы и слушать полускандальные новеллы об известных актерах, писателях, спортсменах, музыкантах.
Для публикации в газете «Версия», где я тогда работал, мы готовили отрывки из будущей книги В. Горохова «Тот самый Сталин… Портрет без ретуши». Книжка с моим предисловием вышла в 2005 году мизерным тиражом – 100 экземпляров. Я получил экземпляр в 104 страницы, напечатанный и сброшюрованный в ближайшей к дому автора типографии. На титульном листе надпись: «С благодарностью за поддержку. Автор. 12 июля 2005 года». А через год В. С. Горохов ушел из жизни.
Сохранившиеся в моем архиве получерновые зарисовки писателя и магнитофонные записи его «устных рассказов» я включаю в эту книгу.
Дачка для маршала Жукова
В свое время Виктор Горохов дружил с писателем, публицистом Юрием Тарским. Однажды тот рассказал ему, как, по заданию газеты «Комсомольская правда», накануне годовщины разгрома немцев под Москвой отправился на дачу к маршалу Жукову.
– Договоренность далась с трудом, Георгий Константинович пребывал тогда в опале. На троне сидел Хрущев.
…Наступил завершающий общение с маршалом вечер. Жуков должен был вручить мне просмотренный им последний фрагмент статьи, которая шла прямо в номер. Мне надобно было как можно скорее привезти ее в редакцию и сдать в набор. Свою работу мой собеседник сделал прекрасно, я пробежал глазами несколько листков, не нашел никаких поводов для замечаний, попросил где-то что-то заменить, убавить некоторые специфические военные штучки, и на этом деловой разговор под чай в кабинете Георгия Константиновича заканчивался.
Его кабинет не был большим, он называл его почему-то будуаром. В кабинете – письменный стол, два или три мягких кожаных кресла, до потолка застекленные шкафы с книгами.
Я обратил внимание на то, что очень много книг по истории, военные энциклопедии. Художественная литература отсутствовала. Все книги только на русском языке. Сидим, пьем чай, который подала красивая, моложавая женщина, звали ее, кажется, Дарья Петровна. Вдруг Жуков, пребывавший, я это видел явно, в благодушном настроении, спрашивает у меня: «Хотите я расскажу вам, Юрий Семенович, как я получил эту дачку?» Причем слово «дачка» он произнес с эдаким нажимом. «Бог мой, Георгий Константинович, какая дачка, это настоящее палаццо», – ответил я. Он засмеялся и говорит: «Нет, дачка».
Конечно же, мне хотелось осмотреть этот огромный дом, потому что дальше коридора, кабинета и туалета я ничего не видел. Встали из-за стола, направились на второй этаж. Хозяин ведет меня по комнатам, открывает их, показывает. Спустились вниз, в столовую. Она тоже была огромной. Посредине стоял длиннющий стол без скатерти. На стене – картины. В основном пейзажи. Ни портретов, ни фотографий. Хотя одна небольшая фотокарточка висела в кабинете маршала. Он был снят в кожаном пальто, в фуражке. Очевидно, на передовой. Между книжными полками под стеклом фотографии жены и дочки.
Много раз бывал я у Жукова и всегда поражался порядку в кабинете. Бювар, письменный прибор, литая, каслинской работы недешевая скульптурная группа с лошадьми. Писал он вечным пером. При мне, во всяком случае. Чернильный прибор, видимо, был для украшения.
Осмотрев дом, вернулись в кабинет. Я насчитал, примерно, комнат 18–20. Десять наверху и девять внизу. Фронтон дачи сотворен в классическом стиле с колоннами и балконом. Размер территории вокруг дома производил впечатление. Дом был окружен деревянным, непроницаемым для глаза забором. У ворот небольшое каменное строение, в котором находился караульный, то офицер, то прапорщик. Своего адъютанта Жуков называл по-старинному порученцем. Адъютант обращался к нему «товарищ маршал», а маршал к нему – по имени-отчеству.
Возвратились в кабинет. Георгий Константинович попросил принести еще чаю. На столе появилось печенье нескольких сортов, в том числе мое любимое – подсоленное. Стали опять чаевничать, и Жуков поведал мне интересную, прямо-таки детективную историю о том, как он получил эту дачу.
В феврале 1942 года Георгий Константинович находился на фронте, на передовой. Вдруг приходит телефонограмма – вызов в Москву, к Сталину. Прибыл в столицу, заехал в штаб, взял оперативные документы – те, что могли понадобиться при докладе Главнокомандующему о положении на фронте.
В приемной Сталина Поскребышев, как-то хитровато и таинственно улыбаясь, проговорил: «Ждет вас уже давно». Маршал уж было подался вперед, к двери, но Поскребышев, опередив, попросил минутку подождать. Сам же вошел в кабинет, затворил за собой дверь, а через две-три минуты вышел, очень предупредительно распахнул перед Жуковым дверь и сказал: «Пожалуйте…»
Сталин стоял в отдалении. Справа, в простенке между окон висели портреты Суворова и Кутузова. Над столом – портрет Ленина. В правом углу комнаты стол большого размера. Левее – длинный стол для заседаний. У письменного стола небольшой приставной столик. У длинного, за которым обычно совещались, – полумягкие стулья хорошей работы, без чехлов. Стол застлан зеленой шерстяной скатертью.
Вождь что-то читал. На носу поблескивали очки – Жуков впервые видел его в очках и страшно этому удивился. Сталин сделал знак подождать, закончил читать какие-то бумаги, положил их на стол, снял очки и уже без очков что-то записал на перекидном календаре. Затем с широкой приветливой улыбкой подошел к Георгию Константиновичу и расставил руки так, как, если бы хотел его обнять. Жуков неожиданно для себя растерялся, он не знал, как себя вести. Сталин, не дойдя до маршала двух шагов, остановился, протянул ему руку и жестом показал: «Садитесь». Жуков опустился на один из стульев длинного стола. Сталин обошел его вокруг, хотя для этого нужно было сделать довольно большой путь. Сделав круг, сел напротив Георгия Константиновича.
Маршал раскрыл молнию на папке, вынул оперативную карту, маленькую папочку с документами, но Сталин замахал руками: «Нет, нет, ничего этого сегодня не потребуется. Я вас пригласил по другому вопросу». И с характерным для него акцентом спросил: «Товарищ Жуков, а где вы отдыхаете, когда приезжаете с фронта в Москву?» – «Товарищ Сталин, у меня в Москве есть квартира, на даче я не бываю, хотя дача у меня есть». – «А какая дача?» – спросил Сталин. «Бывшая дача маршала Шапошникова, товарищ Сталин», – ответил Жуков. Сталин пренебрежительно махнул рукой и, улыбнувшись одним уголком рта, иронически бросил: «А, эта покойницкая…» Покойницкая, потому что, когда-то на месте дачи Шапошникова был не то санаторий, не то дом отдыха для туберкулезников. В свое время дом сгорел, потом его перестроили и сделали дачу. И эта дача была отдана Жукову как только он сменил Шапошникова на посту начальника Генерального штаба, а Шапошников перебрался на другую дачу. Но Сталин слышал, как ее называют между собой маршалы и генералы – покойницкая…
– Нет, товарищ Жуков, такая дачка вам не подойдет. Вы много работаете, у вас бессонные ночи, у вас трудные дни, вам нужно хорошо отдыхать. Мы тут подумали, посовещались и нашли для вас дачку.
Жуков говорит: «Помилуй Бог, товарищ Сталин, зачем мне дачка, я почти не бываю в Москве, я все время на фронтах, мне некогда бывать на ней». – «Товарищ Жуков, мы знаем, что вам надо, и мы знаем, какая вам необходима дачка. Сейчас поезжайте с товарищем Поскребышевым на эту дачу, осмотрите ее и скажите мне, какое у вас останется впечатление».
Сталин пригласил Георгия Константиновича в прихожую, открыл дверь и сказал Поскребышеву: «Отвези товарища Жукова на дачу, покажи ему». Жуков взглянул на часы – было одиннадцать вечера.
Поскребышев, Жуков и генерал из охраны Сталина сели в просторный «зим», и машина покатила. На улице жуткий мороз, много снега. Машина буксовала.
Приехали. Узнав Поскребышева, охрана машину пропустила. Комендант дачи, офицер без знаков различия повел Жукова по даче, объясняя, где и что. Рядом шла женщина, видимо, кастелянша или экономка. Дача была готова к заселению, висели шторы. Прошли в буфетную – в шкафах посуда, столовые серебряные приборы. Дошли до кабинета. Почему-то его называли будуаром – видимо, когда-то кабинет был дамской комнатой: стояли какие-то столики на гнутых ножках, козетка. Показали все, и поехали обратно, в Москву, в Кремль.
Настроение у маршала совсем испортилось. «Зачем мне эта дача», – думал он всю дорогу и решил от нее отказаться. Поскребышев очевидно понял его настрой и говорит: «Георгий Константинович, я вижу, что вы склонны отказаться от подарка товарища Сталина, но я вам настоятельно не рекомендую этого делать. Ведь вы же знаете, что, если он решил сделать вам подарок, – он это сделает. Отказываться нельзя. Вы можете испортить отношения с Иосифом Виссарионовичем».
Вернулись в Москву, в Кремль. Разделись, поднялись наверх. Поскребышев зашел к Сталину и тут же вышел оттуда, дав Жукову знак войти. Шел второй час ночи. Сталин не спал, сидел за столом и читал. Поднялся, опять пошел навстречу, широко улыбаясь: «Ну как вам дачка, товарищ Жуков?» Тут опять характер поперечный Жукова сработал, он возьми и скажи: «Дачка-то хорошая, большая, но нужна ли она мне, товарищ Сталин, уж больно она велика для меня и шикарна». Сталин нахмурился, свел брови к переносице и говорит сердито: «Я догадываюсь, в чем ваши сомнения, товарищ Жуков, и чего вы опасаетесь. Но я уже подумал об этом». После этого он подошел к двери кабинета, приоткрыл дверь и сказал в полуоткрытую дверь Поскребышеву: «Дайте, пожалуйста, тот документ, который вы по моей просьбе составили по этой дачке». Поскребышев достал документ, передал его Сталину, тот снова вернулся в кабинет и сел за стол, только теперь не напротив Жукова, а рядом и передал ему бумагу…
На этом моменте Георгий Константинович прервал свой рассказ, развернулся на стуле к секретерчику со множеством замков и достал какие-то бумаги. Снова повернулся и дал мне в руки документ, напечатанный типографским шрифтом, красивым курсивом, на прекрасной мелованной бумаге. Жуков, видно, не раз его показывал кому-то: бумага была уже довольно потерта. «Дарственная», – читаю я, и далее: «В ознаменование заслуг генерала армии Жукова Георгия Константиновича в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами и их разгрома под столицей нашей Родины Москвой Политическое бюро Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Президиум Верховного Совета и советское Правительство передает в дар с правом передачи по наследству строение № 17. Схемы, описание и план прилагаются». А ниже фамилии всех до единого членов Политбюро.
– Вот, – сказал Жуков, – Сталин знал, что ни у кого из членов Политбюро такой шикарной дачи нет. И он решил, что они заревнуют. Вот почему стоят эти подписи. Я принял эту бумагу, поблагодарил Сталина и вышел из кабинета.
Зорге и Сталин взаимно не доверяли друг другу
Довольно большая загадка, почему Сталин не слушал самых опытных разведчиков. Мне показывал полковник разведки в отставке Лев Василевский архивный документ о том, что Зорге, приехав из Китая (это еще до его работы в Японии), выступал на Хамовническом партактиве и выступал довольно критически в отношении того, что еще тогда не называлось «культом личности». Сталин, конечно, об этом знал, помнил и потому и не думал спасать потом Зорге. У диктатора были достаточные основания, чтобы бояться Зорге, если он вернется.
В свое время член компартии Германии Тельман попросил забрать Зорге в Москву, потому что тот выступал против культа личности Тельмана.
Так что Зорге не верил до конца Сталину, Сталин не верил до конца Зорге. И такому серьезному предостережению Зорге о начале войны он не поверил….
Отец все же переживал за сына
В Грузии жил замечательный ученый, специалист по грузинскому ренессансу профессор Шалва Мицубидзе. Его арестовали, еще когда Берия работал в Грузии. Допросили, записали показания. Берия говорит: «Подпишись…» Шалва подписывает. «А почему ты здесь подписываешься, на таком расстоянии от текста?» – удивился Берия. «А, может быть, вы еще захотите что-нибудь прибавить», – то ли серьезно, то ли шутя ответил веселый человек Шалва Мицубидзе.
Его привезли в Москву и сказали уже в тюрьме: «Тебя просил, сам знаешь кто, чтобы ты занялся переводом на русский язык “Витязя в тигровой шкуре”». Известно, что Сталин сам занимался переводом «Витязя», и вообще у «культа» был личный культ Руставели. Шалва отвечает: «Скажите тем, кто поручил вам это, что певчая птица в застенке не поет».
Его выпустили и дали возможность работать над переводом. Когда он закончил работу, Сталин с ним встретился, у них состоялся очень-очень интересный разговор… А на прощание вождь его даже поцеловал…
Мицубидзе вернулся в Грузию. И когда ему кто-нибудь делал какое-нибудь замечание, например, что он опоздал на лекцию, Шалва показывал то место, которое поцеловал Сталин.
Когда Мицубидзе собирался после войны по работе в Германию, Сталин встретился с ним и попросил: «У меня к тебе личная просьба. Что можешь, разузнай там про моего сына Якова и расскажи мне потом».
Мицубидзе вернулся из Германии, что-то доложил Сталину, но что – никому, даже своей жене, не рассказал.
Когда вождь не хотел говорить
– Говорит Москва… Говорит Москва… Работают все радиостанции Советского Союза… Передаем последние известия…
Сталин любил первого диктора Радиокомитета Юрия Борисовича Левитана и считал, что только его басом можно сообщать народу то, что вождь считал истиной в первой и последней инстанции. Именно его голос был для Сталина государственным голосом Советского Союза и ему он доверял радостные и тревожные вести. Своим тонким политическим чутьем Сталин угадал, что мощный голос диктора способен сделать радость безмерной, а горе преходящим.
Голос Левитана был долгие годы его инструментом. Когда вождь не хотел о чем-либо говорить, он из раза в раз повторял: «Левитан скажет…»
«У товарища Сталина всегда идет пар изо рта…»
Об этом в общем-то страшноватом курьезе рассказал мне мой сосед по дому, ныне покойный, детский писатель Александр Воинов.
Будучи проездом в Москве с фронта в первый год войны он вместе со школьным другом смотрел в кинотеатре хронику парада 7 ноября 1941 года. Речь Сталина его немало удивила:
– Что-то здесь не так… На улице мороз, а у товарища Сталина не идет пар изо рта. Ты заметил? – обратился он к другу.
Друг не заметил, зато заметили и услышали другие. Когда зажегся свет, к ним подошел некто в штатском и довольно жестко предложил следовать за ним.
Друзей доставили в ближайшее отделение милиции. Продержав часа два в специальном помещении (то, что теперь называют «обезьянником»), отвели к начальству.
– Так что вы там между собой говорили о товарище Сталине? – резким, обвинительным тоном поинтересовался человек в штатском.
– Я сказал всего-навсего, что во время речи на морозе у товарища Сталина не идет пар изо рта, – испуганно пробормотал слишком внимательный зритель.
– Нам известно, что не только это. Ты еще сказал: «Тут что-то не так». Что ты, молодой фронтовик, имел в виду? – не снижая резкого тона, продолжал свой вопрос чекист.
– Ничего, кроме того, что я уже сказал: на дворе мороз, а у товарища Сталина не идет пар изо рта.
Наступила долгая, затянувшаяся пауза. И вдруг чекист срывающимся на крик голосом отчеканил:
– Заруби себе на носу, Воинов, у товарища Сталина всегда идет пар изо рта!
Ни Воинов, ни чекист, ни многие другие тогда не знали, что речь Сталина на параде 7 ноября 1941 года из-за технических накладок переписывалась в кремлевских помещениях на фоне мавзолейных декораций. А на дворе был мороз…
СМЕРШ – чтобы было страшно
В начале войны, когда учреждалась военная контрразведка, Сталин обсуждал с предполагаемым ее начальником Егором Абакумовым проблемы организации новой службы. Зашла речь о названии.
– И как мы будем называть твою будущую контору? – спросил Сталин.
Абакумов предложил несколько названий.
– Что ты все предлагаешь малоинтересные варианты? Слушай, Абакумов, хоть ты и иноверец, но живешь в России, надо бы русский язык получше знать. Твои названия все какие-то не русские… Надо так назвать, чтобы было страшно, чтобы тебя боялись. Предлагаю «СМЕРШ» – смерть шпионам.
Так с «легкой руки» Сталина называлась всю войну новая служба Абакумова, которую боялись и на фронте, и в тылу.
Серебряная музыка полонеза Огинского
Узнав, что на Потсдамскую конференцию в июле 1945 года американский президент Гарри Трумэн привез культурную программу, Сталин дал указание срочно отправить в Берлин известных советских артистов. Среди приглашенных были пианист Эмиль Гилельс и скрипачка Галина Баринова. С первым вождю еще предстояло познакомиться, вторую он знал довольно хорошо.
Сталин любил музыку, особенно фортепьянную. Как только у него выдался свободный вечер, он пригласил к себе Гилельса. Позже Эмиль Григорьевич вспоминал:
– Это было в Потсдаме. Ранним вечером Сталин обратился ко мне с просьбой: «Старею, никак не могу вспомнить одно фортепьянное сочинение, оно по вашей части, это, знаете, такая серебряная музыка…» Над загадкой «серебряной музыки» мы бились весь вечер и всю ночь. Кого я только ни играл – Шопена, Рахманинова, Грига, Листа. Я переиграл ему почти весь свой репертуар. Сталин внимательно слушал, но «серебряная музыка» так и не прозвучала. И только под утро, когда у меня уже сводило пальцы и клонило ко сну, я взял первые аккорды «Полонеза» Огинского. Сталин заметно оживился, обрадовался: «Ну, разве это не серебряная музыка? Это настоящая серебряная музыка!»
Скрипачке Галине Бариновой, надо сказать, повезло меньше. Улучив момент, когда Сталин был без свиты, она обратилась к нему со словами:
– Иосиф Виссарионович, я приготовила вам сюрприз.
– Какой?
– Разучила переложение для скрипки двух грузинских народных песен.
– Я – русский, – резко оборвал скрипачку Сталин и с необычной для него стремительностью отошел.
Мундиры для генералиссимуса
Сразу после Парада Победы в Кремль были приглашены все маршалы Советского Союза. Ждали Верховного Главнокомандующего. О повестке дня не знали, но, возможно, догадывались. К приходу маршала Сталина всех попросили выстроиться в шеренгу. Вошел Сталин, медленно прошел вдоль застывших по стойке «смирно» маршалов и, обратившись к Жукову, на которого равнялась шеренга, сказал:
– Есть такое мнение, товарищ Жуков, что мне надо присвоить очередное звание.
– Правильное мнение, товарищ Сталин. Нам, маршалам, неудобно быть с вами в одном звании. В русской военной истории было звание генералиссимуса. Считаю необходимым вам его присвоить.
– А вы, товарищ Еременко, как считаете? – обратился Сталин к своему любимцу.
– Товарищ Сталин, вы должны стать генералиссимусом, – бойко отрапортовал тот, – потому что вас будут больше бояться.
– Да ты и так меня боишься, Еременко, – ответил Сталин.
И пока маршалы «решали», в зал внесли два уже пошитых мундира генералиссимуса. Выяснилось, что решать-то ничего не надо – без них все уже решено.
26 июня 1945 года был издан Указ о введении звания генералиссимуса Советского Союза и его присвоении маршалу И. В. Сталину.
Глава 24. Заведующий особым сектором ЦК Александр Поскребышев – «тень Сталина»
Потрясающе, необъяснимо – но этот человек не оставил после себя никаких мемуаров! Во всяком случае, до нынешнего дня они не обнаружены. Однажды на вопрос своего помощника генсек Черненко ответил, что твердо убежден, мемуары Поскребышева – миф: «Он не мог их вести в силу специфики работы у Самого и из-за особенностей своего скрытного характера. После его смерти мы ничего не обнаружили. А мне ли не знать – изъятием архивов в то время занимался наш отдел».
Речь идет об Александре Поскребышеве, проработавшем заведующим особым сектором ЦК (секретариатом Сталина) почти тридцать лет.
Вот уж кто был бы кладезем интригующей информации и компромата. Но, увы… (Хотя один из помощников вождя народов – Борис Баженов, бежавший на Запад в 1929 году, написал книгу о Сталине, которую я читал еще в западном издании, то есть до перестройки. Удивительно, но Баженов жил долго, и длинные руки НКВД-КГБ его почему-то не достали.)
Один только телефонный звонок «тени Сталина», как называли Поскребышева, приводил в трепет любого: и государственного чиновника, и маршала, и министра. Ведь особый отдел и канцелярия, подотчетные секретарю Сталина, были выше органов госбезопасности.
Посетители кабинета Сталина неизменно проходили через холуев его помощника, и все до единого, включая военачальников и близких родственников Кобы, нещадно ими обыскивались. Только один раз и только один человек, как утверждают, прошел к «бессмертному» без процедуры осмотра. Догадаетесь, о ком идет речь? О жене? О дочери Светлане? Нет и нет. Через все кордоны якобы прошел в Кремль прямо к Сталину легендарный Вольф Мессинг. Тут уж и Поскребышев был бессилен, будто бы все в приемной попали в сети мага.
Все, кто знали Поскребышева, вспоминают о нем, как о человеке-роботе. Еще задолго до изобретения компьютерной памяти, он держал в голове полный банк необходимой Хозяину информации по самым разным проблемам. И никогда не ошибался. На доклад он ходил с тоненькой канцелярской папочкой, а не с пудовым гроссбухом, но всегда попадал в точку – в папке лежали именно те документы, которые в эти минуты были нужны Сталину. Тиран и его раб так притерлись друг к другу, что казались как бы единым целым. Чудовищная деталь: Сталин взял себе под бок вчерашнего фельдшера-ветеринара по одному из мотивов, который перевесил все остальное.
– Поскребышев, у тебя очень страшный вид, тебя будут бояться, иди ко мне, – сказал он при первом «собеседовании».
И впрямь его боялись: защитный френч, лысый череп, приплюснутый широкий нос, большие уши, тяжелый взгляд. Находясь денно и нощно рядом с вождем, он уже не принадлежал самому себе. Не смог спасти любимую жену: ее как пособницу троцкистов (она была родной сестрой жены Льва Седова – сына Троцкого – арестовали в 1938 году и расстреляли в 1941-м). Поскребышев будто бы попытался встать на ее защиту, но Сталин отрезал: «Органы НКВД считают необходимым арест твоей жены». На руках у Поскребышева остались две маленькие дочки – 5-летняя Галя и годовалая Наташа.
Незадолго до смерти Сталина Поскребышев оказался в опале. Ему инкриминировали потерю важных государственных документов и связь с международным сионизмом и отстранили от работы. Впоследствии выяснилось, что документы нашлись, а инцидент инспирировал и сфабриковал Лаврентий Берия, который пытался устранить всех, кто был долгое время близок к Сталину, и на их место поставить своих людей.
В 1953 году Поскребышев был отстранен от активной политической жизни и уволен.
В своей речи на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев назвал Поскребышева «верным оруженосцем Сталина».
Всесильный человек-компьютер с фантомасовским черепом ушел в небытие в 1965 году, унеся с собой немало тайн.
Погребен на Новодевичьем кладбище.
P.S. Александр Твардовский рассказывал Юрию Трифонову, что как-то лежал вместе с Поскребышевым в кремлевской больнице. Однажды тот заплакал и проговорил: «Ведь он меня бил! Схватит вот так за волосы и бьет головой об стол…»
1997Глава 25. Свидетельство о смерти Якова Джугашвили подписал Гиммлер
В конце 1988 года в Америке я познакомился с тремя братьями Хлебниковыми – Михаилом, Петром и Павлом, представителями древнего русского рода Небольсиных-Пущиных. Особенно подружился с Павлом, который регулярно приезжал в Москву, а в начале 2004 года стал главным редактором журнала русской версии «Форбса» (к великому сожалению, в июле 2004 года он был убит, убийца так и не найден). Павел обладал широкой информацией, а некоторыми фактами из нашей истории, которые становились ему известны, охотно делился.
Однажды, это было в сентябре 2003 года, он сообщил мне интересную новость, связанную с именем Сталина. Речь шла о том, что Джерри Дженнингс, помощник министра обороны США по делам военнопленных и пропавших без вести, вручил Галине Джугашвили документы, проливающие свет на обстоятельства смерти ее отца, старшего сына Иосифа Сталина – Якова Джугашвили. Наследник вождя, старший лейтенант Красной Армии попал в плен в начале войны и погиб в немецком концентрационном лагере Заксенхаузен в 1943 году после того, как Сталин отказался обменять сына на захваченного в плен гитлеровского генерала. Из документов следует, что Яков был застрелен при попытке к бегству. Отношение Иосифа Сталина к военнопленным всегда было крайне отрицательным. Он считал их предателями, которые предпочли почетной смерти на поле боя позорный плен. После войны многие бывшие пленные вновь очутились в лагерях, только на этот раз в советском ГУЛАГе. Документы – телеграмма Государственного департамента США, переписка с Лондоном, протоколы допросов Якова Джугашвили немцами, рапорты охранников концлагеря и врача, а также свидетельство о смерти, подписанное самим Генрихом Гиммлером, – находятся в Германии. Галине Джугашвили передали копии из Национального архива в Вашингтоне.
В приписке, сделанной на полях одного документа, предлагается утаить от Сталина смерть старшего сына, чтобы его не расстраивать.
Галина Джугашвили видела отца в последний раз незадолго до войны, ей было тогда три года. О деде у нее остались очень смутные, но хорошие воспоминания. Иосиф Сталин, по ее словам, был с ней очень мягок, возможно, потому, что она была девочкой.
Глава 26. Писатель Вениамин Додин о встрече со свидетелем рандеву Сталина с Гитлером
После ухода из «Огонька» в 1988 году я работал заведующим отделом русского зарубежья в только что тогда образованном журнале «Родина», органе Верховного Совета Российской Федерации.
Однажды к нам в редакцию пришел бывший узник сталинских лагерей, писатель Вениамин Додин. То, что он поведал, потрясало. Но можно ли было верить его рассказу? Слишком уж фантастичен этот эпизод мировой истории. Свидетельств того, что он был на самом деле, не сохранилось. Привожу рассказ в том виде, как я записал его тогда со слов гостя.
Произошло это в 1951 году в одном из бараков Озерлага. Майской ночью Додина разбудил санитар со словами: «Хороший человек помирает, Копыльников Валентин Михайлович. Рак у него. Просит, чтобы вы немедленно пришли к нему. Хочет что-то именно вам рассказать, ведь вы знакомы». Додин, нехотя, побрел за санитаром. Спустились во вросший в землю барак больницы.
– Спасибо, что пришли, – начал длинный худой человек, лежащий под серым выцветшим одеялом. – Перед смертью мне надо успеть вам кое о чем рассказать. Очень важный случай был у меня в жизни, и поломал он ее без всякой жалости. Танком прокатил. Мог давно в могилу уйти, но не ушел…
Родился я на Кавказе. Вырос в немецкой колонии. На службу ушел в Черноморский флот. Дизелистом. Служил на сторожевиках.
История случилась в городе Поти осенью 1931 года. Однажды капитан сообщил нам, что ждет на судно большое начальство. Прибыл один важный человек, известный тогда в Грузии, – Капитон. Осмотрел посудину, переговорил с капитаном. Когда он сошел с судна, мы якорь бросили. Часов в 10 вечера, темно было, морозно, подошел к нам катер. Взяли с него на борт четверых: Сталина, переводчика, двух охранников. Один из них влез ко мне в рулевую и не отходил до самого конца. Капитан стоит у дизеля, я за штурвалом. Вышли в море. Четыре часа ходу, по курсу заметили яхту без огней. Застопорили. С яхты подошла посудина с гребцами и тремя пассажирами. Когда они поднялись к нам, я узнал среди них Гитлера! Портрет его раньше видел. «Мать честная, – подумал я. – А он-то что тут делает? Зачем пожаловал?»
Сталин с переводчиком встретили «гостей», и все спустились в кубрик. Разговаривали они часа четыре. Попрощались на баке, прямо передо мной. Капитан подал команду: «На полную, огней не зажигать». Спустя какое-то время я услышал два глухих выстрела. Потом еще и еще. Спросил того, кто торчал возле: «Стреляет кто-то или померещилось?» «Померещилось», – ответил тот. «Ни хрена, – говорю, – из маузера стреляли…» Тот отмахнулся. Дальше идем, засветлело. Видно стало, что матросов на баке и по бортам нет. И того, кто к баку приставлен, тоже нет. Беспокойство у меня поднялось, тревожно стало. Не дурак же, понимаю, что рейс наш «темнее» некуда. А выстрелы? Получается, рейс секретный, а стреляют. Тот же, кто возле меня, будто кот настороженный: чует, что я задумался, глаз с меня не сводит. Плохо мое дело, думаю. До берега же еще часа два. Молчу. Тут навстречу из мороси, прямо по курсу прет танкер. Когда прошел он мимо, я того, что со мной, «на калган» взял. Жестко так, от души. Грех на мне: добавил ему штангой пару раз… И пластуном к фальшборту, взялся за концы и нырнул. А самому страшно: человека порешил… Отошел малость в воде. Подчалился к иллюминаторам в машинное… Нет никого! Один только охранник мельтешит у дизеля. Меня как резануло по мозгам! Ну, сказал себе, прощайте, мои товарищи-братцы! А я еще рассопливился, гада пожалел. Оттолкнулся от буксира своего родненького и поплыл на север, по течению, куда вынесет. Как до берега добрался, сейчас не помню. Все думал, ищут. Деваться мне некуда. Одно только утешало – родителей уже давно на свете нет. И детей у меня нет, слава Богу. И жены нет. Значит, мучить некого за меня. Некого казнить. Вот какая радость-то, что один ты на свете…
Мотало меня море, может двое или трое суток. Пока от Поти уходил и до берега добирался, чуть жив остался… Болотами шел суток пять или шесть. И недельки через две дотопал до Гудауты. А там кунак отцов жил – Нестор. Только я ночью в дом вполз, Нестор за Капитоном послал, тот, как потом, через несколько лет, дочка Нестора мне рассказала, уже все знал, его обо мне пограничник осведомил. Капитон понял, что деваться мне больше некуда, кроме дома Нестора. Капитон-то тоже отца моего хорошо знал… Пришел он и приказал меня не будить, чтобы я выспался. Понимал, сколько я без сна.
Подняли меня к полудню. С Капитоном у нас был долгий разговор. Потом уложил он меня в бричку, соломой накрыл, отвез до озера Рица. Дал удостоверение на чужую фамилию. Паспортов тогда еще не было. Попрощался я и пошел в горы через лес. Добрался перевалом до Красной Поляны, а там Северный Кавказ – Россия.
…Как я выжил, долго рассказывать. Скажу только, что в конце 1937 года, когда увидел, что берут людей бессчетно и дают вышака, придумал себе спасение – продал мужикам пару казенных хомутов, подставился значит. Меня и загребли по 162-й часть 1. И дали всего три годочка… На фронт не попал. А за кого воевать-то надо было? «За Родину», «За Сталина», «За Гитлера»? Я ведь не мог забыть, как они встретились тогда, будто вчера расстались, друзья закадычные… О чем они договаривались? Как мир поделить? Как лишних людей убрать? Но я знал – разбойники никогда ни о чем до конца не сговорятся.
Недаром один немец из пленных спросил меня как-то, знаю ли я, отчего Гитлер Рема убрал? [Эрнст Рем – один из лидеров национал-социалистов, готовил заговор против Гитлера и был уничтожен им в 1934 году. – Ф. М.] Нет, не оттого что Рем был его главным конкурентом. Потому убрал, что Рем выговор сделал фюреру за самоуправство, за то, что посмел без согласия партии сговариваться за спиной германского народа со Сталиным-уголовником… И еще я узнал кое-что: буксир-то мой к месту приписки не вернулся. Утонул в ту самую ночь. И все концы вроде бы с собой унес. Ан нет… Я-то живой пока. А теперь вот за тобой очередь – тайну эту носить…
Не знаю, было ли на самом деле то, о чем поведал давний посетитель, или это его фантазия. Но, как считают исторические романисты, если какое-либо событие не имело место быть на самом деле, но по исторической логике вполне могло произойти, значит, можно на его основе строить повествование. Так и в нашем случае. Могли ли встретиться два тирана, так похожие в своих устремлениях покорения мира? Теоретически да. Поэтому считаю, что рассказ Вениамина Додина заслуживает сегодня нашего внимания. А правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем.
Глава 27. Директор санатория «Марьино» Борис Ворович: «Художнику Яр-Кравченко Сталин позировал целый месяц»
Время летних отпусков – пора отдохновения. Вся страна на колесах, в самолетах, в авто. Идет великая миграция – уставшие за рабочий год наши трудящиеся спешат отдаться, как поется в знаменитом шлягере 1930-х годов, солнцу, воздуху и воде.
А по мне летний месячный отгул от работы – та же самая работа. Диктофон крутится на полную катушку. Так, отдыхая несколько лет назад в санатории «Марьино», что в Курской области, я атаковал своими расспросами директора санатория Бориса Ильича Воровича.
Напомню, Марьино – уникальный дворцово-парковый ансамбль, построенный князьями Барятинскими в начале XIX века. Кто только не живал – не бывал в Марьино! От великих князей до Брежнева и Горбачева. Особый случай – месячное гостевание в усадьбе легендарного чеченского имама Шамиля, которого царский генералитет не мог одолеть в течение четверти века. Плененный генералом Барятинским, хозяином Марьино, он стал почти что его другом и по пути в вечное калужское изгнание навестил князя, о чем свидетельствует памятная доска внутри санатория.
Бориса Ильича можно слушать бесконечно. В его памяти хранится множество любопытных историй.
– Люкс, в котором мы сейчас находимся, имеет свою историю. Это часть покоев строителя – владельца дворца князя Александра Ивановича Барятинского. Здесь многое осталось так, как было двести лет назад: интерьер, убранство, мебель. Мы, правда, добавили несколько пикантных вещиц. Стол, на котором стоит телефон и за которым мы с тобой расположились, а также тумбочка рядом – из кабинета Юрия Андропова. Когда он умер, мне позвонили и предложили воспользоваться мебелью из кабинета генсека. А два огромных зеркала, что стоят в больших проемах при входе сюда, привезены с дачи Сталина в Волынском.
Было это лет двадцать назад. Я лежал в больнице как раз рядом с тем местом, когда мне позвонил тогдашний директор бывшего сталинского имущества и сказал, что ему приказано списать старинную и как бы уже никчемную мебель и зеркала из помещений Сталина. И предложил, если я захочу, забрать «рухлядь» в Марьино. Вот так в больничных стенах я и оформил нужные бумаги.
А вообще Волынское я знаю давно. Я застал еще ту самую женщину, которая была при вожде сестрой-хозяйкой. Она многое рассказала. Я спросил ее о назначении дырок в стенах комнат, где работал Сталин, и вот, что она поведала. Почту, которую приносили Сталину, он читал выборочно. Скажем, всегда просматривал журнал «Огонек», вглядывался в иллюстрации: приглянувшиеся картинки вырезал большими ножницами, потом молотком стомиллиметровыми гвоздями прибивал к стене. Вот почему простенки у окна избиты дырками. А между тем дочь Сталина Светлана жаловалась, что в доме, где жил отец, не было ни одного портрета ни ее, ни брата Василия. На самом видном месте висела репродукция из «Огонька» «Девочки с персиками» Серова.
Я был в Волынском много раз, дружил с управляющими этого мемориального места. Видел ванную вождя, огромную, просторную. В биллиардной сыграл партию с коллегой. За речкой в большом здании жил батальон охраны. Позже на въезде перед речкой Горбачев построил дом приемов. Был я и на даче маршала Рокоссовского, которую ему подарил Сталин после войны. Сталинская дача в те времена – это окраина Москвы. В 1930-х годах построили маленький домик, а позже, когда он стал Верховному маловат, возвели более просторный. Новая дача, тоже скромная, была отделана деревом, в центральном вестибюле стояла вешалка, в просторном холле маленький лифтик, который поднимал вождя на второй этаж, в его рабочие апартаменты. С левой стороны комнатка с кроватью. Здесь Сталин отдыхал. С правой стороны от входа в большой комнате, где в военное время заседало Политбюро, стол зеленого сукна. Над столом – большой абажур, тоже зеленый. В любое время года Сталин любил работать на веранде. Под вешалкой наготове стояли валенки, висел тулуп, армейская шапка, лежали рукавицы. Хозяин брал почту и даже зимой, хотя веранда не отапливалась, любил здесь работать.
В комнате, где Сталин принимал свой ареопаг, в начале марта 1953 года ему и стало плохо. Как рассказали мне служащие этого дома, он, по-видимому, упал со стула на пол, и так вышло, что несколько часов к нему никто не подходил. Врачи пытались оживить Иосифа Виссарионовича, но процессы в организме уже были необратимы.
О Сталине в Волынском мне много рассказывал и народный художник СССР Анатолий Никифорович Яр-Кравченко, удивительный человек с удивительной судьбой. Ему позировали почти все сильные мира XX века. Только вот Ленина он чуточку не застал. Спрашиваю его, в каких странах побывал, отвечает: «Спросите, в каких не был. Только в четырех». По командировкам Кремля он писал портреты вождей и президентов. А в мастерскую на Маяковке кто только из знаменитостей к нему не приходил! Писатели, народные артисты, режиссеры, ученые… Однажды к нему приехал тогдашний министр Щелоков, но портрет остался незаконченным, министра сняли, вскоре он застрелился.
Так вот о Сталине. Однажды художнику позвонили из Кремля и заказали портрет вождя. Прислали машину, отвезли в Волынское. Яр-Кравченко предложил использовать уже готовый портрет Сталина, но ему вежливо намекнули: «Сталин хочет позировать». Анатолий Никифорович говорит: «Знаешь, я писал сотни людей, но пока не узнаю душу человека, пока многое о нем не узнаю, его характер, привычки, не могу написать хорошо!» Поэтому визит к Сталину оказался ему весьма кстати.
Хотя однажды, по его воспоминаниям, с ним произошел страшный казус. Приходят из ЦК люди и просят написать портрет Сталина. Художник берет фотографию Иосифа Виссарионовича, кладет ее перед собой и быстро рисует портрет. Его публикуют в партийной газете на первой полосе. В тот же день автора портрета, срисованного с фотографии, навещают люди из НКВД: «Поехали с нами». Привозят в Комитет безопасности к начальнику. В комнате полумрак, на столе лампа, направленная на Кравченко, газета. «Это ваша работа?» – спрашивают. – «Моя». – «А вы ничего предосудительного не находите в вашей работе?» – «Да вроде нет, все нормально». А у самого по спине потекли холодные струйки пота. Вгляделся и видит: Сталин сидит, руки у него сложены, но один палец будто бы кривой какой-то. «Вы издеваетесь над вождем», – повысил голос энкавэдэшник. А ведь не секрет, что у Сталина и впрямь был дефект руки.
Кравченко стал оправдываться, что портрет писал с официальной фотографии. «Где фотография?» Поехали к художнику домой. Битый час Кравченко перерывал свой архив. С трудом нашли, жена положила снимок на верхнюю полку. Вернулись обратно, рассмотрели, и беда пронеслась мимо.
Когда Яр-Кравченко привезли в Волынское, чтобы писать портрет с натуры, Сталин сидел за столом. Поднялся, поздоровался за руку, заговорили. Сталин расспрашивал его, где он родился, в какой семье, у кого учился, кого рисовал. Потом пригласил пообедать. После обеда хозяин предложил гостю прогуляться по даче, потом предложил заночевать.
Вначале художник очень нервничал, чувствовал себя неуверенно. Но в результате прожил у вождя… целый месяц. Вспоминал, что Сталин любил собирать грибы и рассказал об этом смешную историю.
Ночью, пока Сталин заседал с членами Политбюро, особый грибник рассаживал вдоль дороги, по которой любил гулять вождь, добротные белые и подберезовики.
Сталин прогуливается, вдруг восклицает: «О, грибочек вырос за ночь!» Наклоняется, достает ножичек, срезает гриб. И так продолжалось весь грибной сезон.
Мы с рассказчиком посмеялись над наивностью великого вождя всех народов, но Борис Ильич тут же осекся и серьезно поставил жирную точку под своим повествованием: «Ты знаешь, я считаю, что мне повезло в жизни: ведь не всякому смертному еще недавно дано было побывать в Волынском, где жил и умер Сталин».
Марьино, Курская область, 2004Глава 28. Диссидент, историк, публицист Абдурахман Авторханов: «Единственная идея, во имя которой смерть красна, – это идея борьбы с деспотизмом»
В 1989 году я обратился с письменными вопросами к Абдурахману Авторханову – известному диссиденту, историку, публицисту, с 1943 года проживавшему в Германии. Он автор трудов о тоталитарной системе в СССР «Технология власти» (1959), «Загадка смерти Сталина (Заговор Берии)» (1976), «Империя Кремля. Советский тип колониализма» (1988) и многих других. Через некоторое время я получил письменные ответы ученого на мои вопросы. Материал напечатал журнал «Столица». А вскоре я оказался в Мюнхене, некоторое время работал там на радио «Свобода». Позвонил Абдурахману Геназовичу, хотел встретиться, но он был болен. Увидеться не пришлось, но из редакции «Свободы» удалось побеседовать с ним по телефону, это было телефонное интервью в дополнение к тому, письменному. Через некоторое время мне передали от Авторханова книги, написанные им в разные годы и изданные на Западе. В Советском Союзе произведения Авторханова были под запретом, до середины 1980-х годов за их чтение можно было получить тюремный срок.
Конечно, я привез книги в Москву, мне повезло: на границе не отобрали вышедшие в «антисоветском» издательстве «антисоветские» материалы. Шла перестройка, и то, что было запрещено, стало разрешено.
– Я принадлежал к идейным фанатикам ленинизма. После первого московского процесса против старых большевиков в августе 1936 года знал, что меня тоже арестуют, потому что Сталин и его уголовная клика решили не только политически, но и физически уничтожить всю идейную часть партии независимо от того, были ли данные члены партии когда-нибудь в какой-либо оппозиции. В связи с этим свой арест встретил с полным пониманием, а в подвалах НКВД лишился остатков иллюзий.
…КГБ обвиняло меня в том, что я дезертировал из Советской Армии и перешел на сторону врага (это ложь, ибо я никогда в армии не служил), в том, что я служил в гестапо и карательных частях СС и убивал советских людей (это тоже ложь), в том, что я веду на Западе антисоветскую пропаганду и пишу антисоветские книги… Это правда, если КГБ считает сталинскую власть советской властью…
А с тех пор, как я нахожусь в Берлине, я занимаюсь одним – анализом преступлений сталинской политической системы. Главные результаты этих исследований легли в основу моей первой книги на Западе «Сталин у власти», вышедшей еще при жизни Сталина – в 1951 году. Эта работа послужила мне основой для всех моих следующих исследований сталинщины…
Мюнхен, 1990* * *
«Наивно думать, что политическое развитие в руководстве партии и государства определялось лишь взаимными интригами сталинцев, или объявлять кажущийся бессмысленным жестокий террор Сталина результатами паранойи. И интриганы, и Сталин боролись не только за власть, но и за определенный курс внутренней и внешней политики Кремля. Сталин никого не убивал из любви к убийству. Не был он и садистом и еще меньше – параноиком. Такие оценки его действий вытекают из неправильной антропологической предпосылки: Сталина рассматривают как Человека со всеми человеческими атрибутами, а потому все его нечеловеческие поступки сводят к душевной болезни. Между тем, все поступки, действия, преступления Сталина целеустремленны и строго принципиальны. У него нет зигзагов душевнобольного человека: помрачение ума, а потом просветление, восторг сейчас, меланхолия через час, злодеяние сегодня и раскаяние завтра, как бывало с действительно больным Иваном Грозным.
Сталин был политик, действующий уголовными методами для достижения своих целей.
Более того, он представлял собой уникальный гибрид политической науки и уголовного искусства, превосходя этим всех других политиков. Сталин был принципиально постоянным в своих злодеяниях – в восемнадцать лет он выдал свой марксистский кружок в Тифлисской духовной семинарии жандармам, оправдывая себя тем, что так он сделал кружковцев революционерами; в двадцать восемь лет он руководил убийством людей на Эриванской площади в Тифлисе во время вооруженного ограбления казначейства; в тридцать восемь лет он лично командовал в Царицыне массовыми расстрелами пленных “белогвардейцев”; в сорок восемь лет начал подготовку к истреблению крестьянства; ему было пятьдесят восемь лет, когда по его приказу в 1937–1938 годах чекисты умертвили миллионы невинных людей; ему было уже семьдесят лет, когда он без суда расстрелял дюжину членов ЦК, своих ближайших помощников…
…Понять Сталина можно, только постаравшись проникнуть в его политико-психологический мир и его глазами глядя на положение и перспективы развития СССР. Тогда мы увидим в действиях советского диктатора не манию преследования, не причуды и капризы старика, а железную логику основателя данной системы, его обоснованный страх за ее интегральность, его глубочайшую озабоченность беспечностью его учеников и соратников, его мрачные думы о завтрашнем дне. На XX съезде цитировались слова Сталина, обращенные к его ученикам и полные тревоги за будущее СССР: “Вы слепы, как новорожденные котята; что будет без меня?”
…Сталин был идеален для господства над закрытым обществом – закрытым внутри, закрытым вовне. Жизнеспособность и долголетие такого общества зависели от систематической регенерации ячеек власти сверху донизу – от постоянного вычищения отработанных кадров, от постоянного возобновления армии бюрократов. Порядок Сталина не допускал ни свободной игры сил на верхах, ни гражданской инициативы в обществе, даже самой верноподданнической.
“Генеральная линия партии” была сильна своей ясностью, неуязвимостью, повелительностью. В ее лексиконе не было слова “думать”, а было всем понятное и принятое слово “действовать”! “Думать” – это прерогатива одного Сталина, “действовать” – это задача всей партии. Поэтому и “порядок” был идеальным, и управлять было легко. Война внесла в “генеральную линию” дисгармонию. Люди, прошедшие через войну, от Волги к Эльбе, стали другими.
В глубине души Сталин был согласен с западными остряками: “Сталин в войну сделал только две ошибки: показал Ивану Европу и Европе Ивана”. Советские люди притащили домой бациллы свободы и социальной справедливости: “в Германии скот живет лучше, чем у нас люди”, “у американского солдата шоколада больше, чем у нашего картошки”, “на Западе президенты и министры – обыкновенные грешники, а у нас боги-недотроги”. Надо вернуть этот расфилософствовавшийся, “больной народ” в первобытное довоенное состояние: нужен антибиотик, нужно и новое, полезное кровопускание. Чем раньше это сделать, тем быстрее он выздоровеет».
Из книги А. Авторханова «Загадка смерти Сталина (Заговор Берии)», издательство «Посев», Мюнхен, 1986Для справки:
А. Авторханов родился в 1908 году в чеченском селе ЛахаНевре (Надтеречное). До революции учился в мусульманской школе. В начале 1930-х годов после окончания рабфака в Грозном его назначили директором педагогического техникума, затем заведующим отделом народного образования Чечено-Ингушской автономной области. Работал в обкоме партии.
В 1937 году А. Авторханов окончил московский институт красной профессуры по специальности «русская история», стал преподавателем в Московском государственном институте имени А. Бубнова. За статьи, осуждающие культ личности Сталина, дважды арестовывался как «враг народа», подвергался пыткам и имитации расстрела. В 1942 году освобожден решением Верховного Суда РСФСР.
Пять лет пыток в тюрьмах превратили Авторханова в убежденного антисталиниста и борца с тоталитарным режимом.
В 1943 году перешел линию фронта. Началась пожизненная эмиграция. Труды А. Авторханова по истории СССР приобрели широкую известность. За работу «Сталин у власти» (1951), в которой он, критикуя сталинизм, называл советский строй «политизированной уголовщиной», на родине был заочно приговорен к смертной казни.
Абдурахман Авторханов ушел из жизни в 1997 году в чужой стране, не дождавшись своей реабилитации, похоронен в Мюнхене на мусульманском кладбище. Ему было 89 лет. До последних дней он проявлял интерес и беспокойство ко всему, что происходит на родной земле, в Чечне.
Глава 29. Скульптор Эрнст Неизвестный: «Личный терроризм Сталина сегодня заменен терроризмом машины, создателем которой он является»
Одно из моих опубликованных интервью со скульптором Эрнстом Неизвестным я назвал строкой Андрея Вознесенского «Я чувствую, как памятник ворочается в тебе…». И впрямь, когда я общался с ним в Москве, Нью-Йорке, разговаривал подолгу по телефону, я ощущал его мощную ауру, а слушая глубокие философские рассуждения Неизвестного, чувствовал себя ребенком, внимающим мудрецу. В яблочко попал Вознесенский, когда написал такие строки о своем друге:
Лейтенант Неизвестный Эрнст Идет Наступать Один!Скульптор Эрнст Неизвестный – гигантская фигура ХХ века, сравнимая с творцами эпохи Возрождения. И по сей день великий мастер не изменил себе, своим намертво устоявшимся представлениям об искусстве, о человеческой и творческой свободе, о диктаторских режимах, о свободе и несвободе человека.
…В 1942 году в 16 лет он ушел добровольцем на фронт, служил в воздушно-десантных войсках 2-го Украинского фронта. В апреле 1945 года при освобождении Вены был тяжело ранен, признан погибшим и за проявленный героизм «посмертно» награжден орденом Красной Звезды.
Говорит, что, если бы не прошел войну, не состоялся бы как личность, как художник.
Первая же демонстрация работ Эрнста Неизвестного на молодежной выставке сопровождалась скандалом. Экспрессивные скульптуры «Война это» и «Концлагерь» вызвали чудовищный гнев идеологических и художественных властей, ведь он воспринимал войну не как парад победы, а как трагическое, противоестественное человеку явление. А его «Концлагерь» явился образом не только фашистских лагерей. Этой работой скульптор открыл одну из главных тем своего творчества – тему жертв сталинских репрессий.
Неизвестному запретили выставляться. Так и протекала его жизнь в советские времена – в конфликте между внутренними художественными убеждениями и внешними ограничениями. Кризис был неизбежен.
В 1976 году Эрнст Неизвестный уезжает из СССР из-за «эстетических разногласий с режимом». Сначала он поселился в Цюрихе, а с 1977 года живет в Нью-Йорке. За границей скульптор продолжает работать над своими замыслами, участвовать в художественных выставках, преподает.
Сегодня скульптуры Эрнста Неизвестного потрясают посетителей музеев разных стран. Его работы можно найти во многих частных коллекциях. Несколько скульптурных изображений распятия, созданных мастером, приобрел папа римский Иоанн Павел II для музея Ватикана. В швейцарском городе Уттерсберг устроен музей «Древо жизни», посвященный творчеству Неизвестного. Он – профессор философии Колумбийского университета, действительный член Шведской королевской академии наук, Нью-Йоркской академии искусств и наук, Европейской академии искусств, естественных и гуманитарных наук.
С 1989 года Эрнст Неизвестный регулярно приезжает в Россию. Здесь по его проектам сооружены мемориал «Маска скорби» жертвам ГУЛАГа в Магадане, композиция «Возрождение» в Москве.
* * *
– При Сталине в стране функции управления были таковы, что кардинальные изменения внутри аппарата становились невозможны. Конечно, сейчас функционер не может схватить и бросить в застенок другого, но все вместе они могут это сделать с кем угодно; и если не всегда посадить, то затравить, заплевать, заставить эмигрировать или умереть. Терроризм продолжается, просто личный терроризм Сталина заменен терроризмом машины, создателем которой он считается.
Конечно, работа советологов, пытающихся угадать развитие событий, исходя из оценок личных качеств руководителей, интересна, но вряд ли существенна без понимания того, что не это главное. Главная же загадка лежит в принципах этой небывалой машины, где, по существу, нет личностей и даже нет мозгового центра в том смысле, как принято об этом думать. Таким способом согласуются единство и безопасность, мечта современного аппарата власти. Поэтому так стабильна, так неизменяема эта система. Амеба, у которой жизненные центры – везде и нигде…
…Незадолго до смерти Сталина, я получил временно в московском Донском монастыре мастерскую, чтобы заниматься восстановлением рельефов взорванного храма Христа Спасителя. И из остатков материалов начал делать «Концлагерь». Первой была маска молчания. И уже постепенно все превращалось в сталинский ГУЛАГ. Это были 1951–1953 годы.
…Когда я был на грани самоубийства от безысходности, я работал как зверь – день и ночь, рисовал, тайно отливал фигуры на заводе, где был учеником литейщика. Я извел себя. Меня преследовали утопические идеи, например, создать «Снаряд времени», куда поместить все страдания, все лагеря, всех растерзанных войной людей, закопать это в тайге, а потом взять и застрелиться. И ночью мне приснилось «Древо жизни», а утром я его зарисовал. И это меня спасло. Форма «Древа», как и сама жизнь, может вместить все: и танцующего, и плачущего, и страдающего, и летающего, и падающего…
Нью-Йорк, 1989; Москва, 2009Глава 30. Писатель Эдуард Кузнецов: «Если страна хочет выздороветь, она должна за это заплатить…»
Решительный антисоветчик, антисталинист Эдуард Кузнецов ныне – редактор, публицист и писатель. Я встречался с ним в Мюнхене, в Иерусалиме, в Риме.
– Вы хотели убить Хрущева, а что вы думали о Сталине?
– В то время о Сталине я уже все знал. А окончательно все понял после XX съезда. Воспринимая его резко отрицательно, я пытался осмыслить Сталина как элемент советской системы, а не как случайное явление. С Лениным я разобрался чуть позже. Тоже за счет чтения. Я читал еще не отредактированного Ленина. И еще: я достаточно адекватно представлял Запад. Поэтому меня ничто тут не разочаровало. И ничто особенно не удивило, за исключением, правда, одного существенного момента: я все-таки не предполагал, в какой степени левые здесь сильны.
…Если страна хочет выздороветь, она должна за это заплатить. И я очень сильно подозреваю, с большой горечью, что Россия зальет себя кровью. Что же вы хотите? Чтобы убить такое количество людей, десятки миллионов, сколько же надо было иметь палачей?! Это даром не дается. Германия за это расплатилась, Япония. До сих пор здесь сажают нацистских преступников. Страна продолжает платить. А у вас? Только-только начали раскапывать могилы. Да еще и ахают – надо ли? А чтобы наказать тех, кто убивал, – этот вопрос даже не поставлен.
Из интервью с Э. Кузнецовым. Иерусалим, 1998* * *
«Было мне тогда лет десять или около того. Я уже и раньше не раз слышал и на улице, и в школе, что Сталин застрелил свою жену Аллилуеву и что она похоронена на Новодевичьем кладбище. Рассказывалось об этом без тени недоумения, без какого-либо намека на вопрос: за что? – просто доверительным шепотком доводился до сведения факт: Сталин застрелил свою жену. И точка. Ни удивления, ни возмущения. Мысль о следствии и уж тем паче о суде, я уверен, никому и в голову не приходила. Сталин убил – значит, так и надо. Не могу припомнить, с чего это я вдруг вроде как бы споткнулся об эту тревожную мысль… ”А почему вот, – спросил я матушку, – товарищ Сталин застрелил свою жену, а его не судили?”
Помню испуг в ее глазах… Она пребольно треснула меня по затылку, от неожиданности я заревел, а она, тряся меня за плечо, все допытывалась, как это я додумался до такой глупости, не говорил ли об этом еще кому-нибудь, а потом сама заплакала и упрашивала меня никогда не задавать такие вопросы. Я побоялся спросить, какие “такие”, но что-то смутно уже забрезжило в моей головенке…
Как учительский шлепок когда-то выявил и закрепил у Руссо мазохистские наклонности, так, возможно, и эта затрещина вместо того, чтобы выбить из меня опасный интерес к запретным темам, напротив, стимулировала его.
Так я пострадал от культа личности Сталина».
Из книги Э. Кузнецова «Мордовский марафон», тайно написанной в лагереПри встрече Э. Кузнецов показал мне листочки папиросной бумаги, испещренные синими бисеринками микроскопических букв. Без увеличительного стекла прочитать текст было невозможно. Эти листочки тайно вывезли из Советского Союза друзья Э. Кузнецова. Книгу, изданную в 1979 году за границей, я получил в подарок от автора.
Для справки:
Эдуард Кузнецов родился в 1939 году в Москве. Учился на философском факультете Московского университета.
В 1961 и 1970 годах осужден за антисоветскую деятельность и «измену социалистической родине». Провел в лагерях и тюрьмах 16 лет. Приговаривался к смертной казни по «ленинградскому самолетному делу». В результате давления академика Сахарова и президента США Никсона «высшая мера» была заменена на 15 лет лагерей строгого режима.
В заключении тайком написал две книги: «Дневники» и «Мордовский марафон».
В 1979 году досрочно освобожден в рамках обмена на двух советских шпионов, арестованных в Америке.
Глава 31. Писатель Саша Соколов; «Творческому порыву не может помешать никакая диктатура»
– …В конце 1960-х годов я работал в газете «Литературная Россия», в отделе национальных литератур. Переписывал материалы за писателей. Два лета ездил по Таймыру, по всему Красноярскому краю. Выпустили мой сборник. А потом я подумал: что же, буду писать о писателях все время? Должен и сам что-нибудь написать стоящее.
…Я помню детство свое – сталинское время, помню атмосферу, помню давящее небо… Это было тяжелое, отвратительное время… Но даже тогда, даже при диктатуре Сталина, в конце концов, продолжались искусство и литература – пусть и не официальные, где-то в глубине шло творение, шла работа духа. Значит, искусству, творческому порыву не может помешать никакая диктатура.
Из беседы с писателем Сашей Соколовым, 1989Глава 32. Писатель, поэт, публицист, политический деятель Эдуард Лимонов: «Иногда тиран бывает и полезен…»
– Всегда очень гордился, что я русский. Но никогда у меня, в отличие от других советских писателей, оказавшихся на Западе, не было комплекса неполноценности. У них по отношению к Западу комплекс неполноценности, а у меня, наоборот, комплекс превосходства. Конечно, много говорят о Сталине. Помню, участвовал в телепередаче «Право на ответ», которую вел Мишель Поляк. И я сказал: оставьте в покое нашего Сталина, у вас был кровавый деспот Наполеон, он угробил миллионы людей во всей Европе. Вы позволяете себе иметь в своей истории такого деспота. А нам вы не позволяете, вам можно все, а нам ничего нельзя.
– Полагаю, вы не сталинист?
– Нет, конечно. Сталин – тиран, но я считаю, что иногда тиран бывает и полезен, потому что помимо своей воли он сплачивает людей в переломные моменты истории.
– Но человеческие жертвы? Разве их можно оправдать?
– Неизвестно еще, что лучше. Вот Франция с ее Петеном – страна, которая четыре года была союзницей Гитлера, и об этом, я вас уверяю, французам забыть нелегко. В подсознании у них сидит определенный комплекс неполноценности. Да, Россия потеряла миллионы людей, но у нее хотя бы совесть чиста. Да, русские – варвары, а «цивилизованный» человек не хочет воевать с агрессором. И вот он сдается на милость агрессора. И я при выборе между маршалом и генералиссимусом все-таки предпочитаю генералиссимуса Сталина против маршала Петена.
…Я считаю, что моральное осуждение истории, прошлого, в известном смысле, бесполезно. Противником Сталина надо было выступить в 1950-м, а сейчас, когда от мертвого деспота ничего не осталось, критика Сталина есть трусость. К истории неприложима моральная точка зрения. Сталин жил в свое время, и оно было тяжелое, другие руководители в то время были не лучше его. Трумэн взял на себя ответственность за две атомные бомбы и за бомбардировки Германии, Дрездена. Мирный договор с немцами можно было заключить в 1944 году, но именно американская сторона настаивала на безоговорочной капитуляции, что добавило миллионы новых жертв. И если разбираться в этом вопросе, то и сегодня можно обнаружить немало «забытых» военных преступников. Черчилль тоже был жестоким человеком. Так что не надо…
Из интервью с Эдуардом Лимоновым, Париж, август, 1989Глава 33. Художник Михаил Шемякин; «Меня беспокоят разговоры о сильной руке…»
– Как вы считаете, сегодня России нужна крепкая, твердая рука?
– Мне кажется, этого надо бояться больше всего. И еще все эти идеи насчет того, не пора ли пересмотреть, кем же на самом деле был Сталин. Это беспокоит меня очень и очень сильно, как и разговоры о сильной руке, – у нас уже несколько их было. И сами знаете, чем все кончилось.
…В России я лежал в самых страшных сумасшедших домах на принудительном лечении, но я еще не окончательно сошел с ума, чтобы вновь брать российское гражданство, которое мне не раз предлагали.
Мне кажется, сейчас вытравлены с корнем ростки демократии, которые были при Ельцине, поэтому говорить сегодня о том, что у вас есть демократия, просто смешно. Зато есть тенденции возврата к сталинизму. По крайней мере, Сталин становится своеобразным символом могущества России, а люди очень быстро все забывают, у людей очень короткая память, это относится не только к русским. Я же этим пока, слава Богу, не страдаю.
Из интервью с М. Шемякиным, Москва, 2005Глава 34. Бизнесмен Феликс Комаров: «Сталин – столп, на котором в свое время держался мир»
Поразмышлять на тему «Сталин вчера и сегодня» я попросил известного бизнесмена, члена Рокфеллеровского клуба, мецената и коллекционера, героя одной из моих книг Феликса Комарова. Он дружил и дружит со многими деятелями российской и мировой политики и культуры. Среди них и люди, которые знали Сталина или его ближайшее окружение.
– В одной из песен поется – «Я из СССР». Я действительно из СССР, но только вырос не со Сталиным. Поскольку я представитель следующего поколения, то многое, что с ним связано, прошло мимо меня, вернее, до меня. Тем не менее, считаю, что я плотно в материале на эту тему, потому что соприкоснулся в жизни с людьми, через судьбу которых прошел Сталин.
Естественно, Сталин – тиран. И в этом качестве он очень сильно повлиял на судьбы миллионов людей, на судьбу огромной страны. Он плющил, деформировал судьбы целых поколений. Он нанес ощутимый, а, может быть, и непоправимый ущерб нашему народу, обществу. Ведь его влияние на людей было жестким, жестоким. Оно меняло, ломало характеры, судьбы. Под каток сталинизма попадали простые люди и интеллигенция, ученые, крупные военачальники, писатели. Ни за что человека могли расстрелять, уничтожить его семью. Одним словом, над огромной державой долгие годы висел дамоклов меч. Бессчетные «заговоры», все эти «дела врачей», интеллигентов, военных… Планомерно осуществляемые чистки… Как все это назвать, объять разумом? Сталин проводил страшные акции, которые уничтожали не только человеческие жизни, но и все, как говорится, «разумное, доброе, вечное». Пропалывались же не сорняки, бесправие творилось на кровавом человеческом материале, по-живому. И при этом звучали победные марши, был показной оптимизм. Как говорится, урка, человек в законе, Сталин организовал целый свод определенных правил жизни, выстроил железную конструкцию отношений власти и миллионов людей. И эта конструкция казалась вечной, непоколебимой.
Но, с другой стороны, о сильных личных качествах этого человека тоже надо говорить. Это был человек необыкновенной воли, характера. Да, Сталин – деятель ХХ века, индивидуум с мощным характером, концентрацией великой воли, магнетизма… Сталин – это злой гений, но в то же время личность поразительного масштаба. Даже сегодня, спустя почти 60 лет после его кончины, вглядываясь в любой его художественный портрет или бюст, ты ощущаешь некую магию воздействия. Магию Сталина-вождя.
Я думаю, что Сталин в той или иной мере повлиял на каждого из нас. И то, что пришло после Сталина (ну, скажем, так называемая «хрущевская оттепель»), коснулось нас вплотную. Грянула «оттепель». «Оттепель»? Но по отношению к чему? Я, например, не считаю, что при Хрущеве было «тепло». Какая же «теплота» могла быть при этом малокультурном, необразованном человеке, который своим башмаком стучал по международной трибуне?! А миллионы советских людей это хулиганство воспринимали с гордостью за нашу страну. Полагаю, грохот от удара хрущевского башмака не поднял авторитет нашей страны, а опустил его. Да, «потеплело», но «потеплело» относительно Сталина. Не было бы Сталина, не было бы Хрущева. То есть, по моему разумению, мостики, которые перекидывает история из эпохи в эпоху – они для того, чтобы сразу не ввергнуть нас в совсем уж простую «амебную» демократию.
В горбачевское время все так радовались, так упивались этой демократией, которая вдруг разлилась по всей нашей необозримой, в тот момент совсем еще огромной стране, и многие говорили: «Вот какая демократия в России!» Маргарет Тэтчер высказала тогда весьма неожиданную мысль о том, что у советской демократии могут быть большие проблемы в недалеком будущем. «К демократии надо быть готовым, – сказала она, – ведь Англия шла навстречу демократии более 200 лет».
Поэтому я считаю, не удивляйтесь, что иногда, наверное, Сталин нужен. Знаете, как после холодной воды совершенно с новым вкусовым ощущением пьешь горячий кофе. Короче, нужен контраст.
Сталин определил не только нашу судьбу, но и повлиял на судьбы людей почти третьей части земного шара. А, может быть, и больше.
Так вышло, что восемь лет я прожил в Нью-Йорке и могу подтвердить, что мало кого из крупных деятелей мировой политики или культуры знают в Штатах. А Сталина знают все. Конечно, можно считать, что он, выражаясь современным языком, сверхраскрученная пиар-фигура, но на самом деле Сталин – реальный мощнейший столп (возможно, даже один из немногих столпов в мировой истории), на котором в свое время держался мир.
2012Часть III. Зарубежная пресса о Сталине
Всю свою сознательную жизнь, начиная примерно с 12–13 лет (когда начал писать заметки в районную газету), помимо книг я собирал личный архив. Из прочитанной периодики вырезал казавшиеся интересными статьи, фотографии, сохранял переписку с сотрудниками газет и журналов, письма друзей, телеграммы, расшифровки магнитофонных записей интервью, записные и телефонные книжки. И, конечно же, свои публикации. Переезжая по жизненным обстоятельствам из квартиры в квартиру, из города в город, я возил за собой множество коробок с ценным для меня «хламом».
Время от времени разбирая их, я нахожу уникальные для сегодняшнего времени материалы.
Так, недавно в одной коробке я обнаружил документы, которые мне передал когда-то, зная мою любовь ко всяким «бумажкам», мой дядя Ласло Партош, работавший в АПН. Это переводы статей, публиковавшихся в разные годы в иностранной прессе.
Фрагменты некоторых из них я привожу здесь, поскольку они имеют непосредственное отношение к теме этой книги.
Глава 1. Великий английский драматург Бернард Шоу о Сталине
Поздравление товарищу Сталину от Бернарда Шоу
«…С радостью присоединяемся к поздравлениям по случаю Вашего 70-летия. Желаем Вам долгих лет жизни на благо прогрессивного человечества».
Из газеты «Дейли уокер», Лондон, 20 декабря 1949
Высказывания Бернарда Шоу о Сталине
«…Когда Бевин [Эрнст Бевин – министр иностранных дел Великобритании (1945–1951) – Ф. М.] заявляет, что коммунизм – это враг, он объявляет войну России… Когда он говорит, что Сталин – это Наполеон, стремящийся завоевать весь мир, когда он празднует англо-американскую победу, не упомянув о том, какую роль сыграла в ней Россия, когда он держит нас в условиях подготовки к войне… то задаешься вопросом, что мог бы добавить еще к этому лорд Пальмерстон лет сто тому назад в стиле Джона Булля….
Партийная система обязывает весь кабинет вторить премьер-министру и министру иностранных дел. Как известно, он поддерживал глупые слова о том, что все коммунисты – марионетки Сталина. Я бы от души желал, чтобы это было так. Внешняя политика, продиктованная Сталиным, была бы несравненно лучше той, которую провозгласили в своих последних речах Этли [Клемент Ричард Этли – премьер-министр Великобритании (1945–1951) – Ф. М.] и Бевин.
Среди государственных деятелей Европы Сталин, бесспорно, является самым разумным и практичным представителем социализма в одной стране (в том числе английского фабианского социализма) в противоположность троцкистам с их катастрофической мировой революцией. Он разрешил сельскохозяйственную проблему, сочетав коллективное хозяйство с нашим старым идеалом, – надел в три акра и корова. Он с самого начала был прям и откровенен в вопросе о балтийских провинциях.
Как коммунист он, конечно, считает (да и я тоже), что коммунизм распространится во всем мире и преобразует его. Но он знает, что попытка навязать его силой означала бы гибель России и его собственную гибель».
Из газеты «Дейли геральд», Лондон, 13 мая 1948 г.Из интервью с Бернардом Шоу
– Кого вы считаете величайшим в мире государственным деятелем в настоящее время?
– В мире сейчас живут три великих человека: один из них – великий государственный деятель. Его имя – Иосиф Сталин. Второй – великий математик. Его имя – Эйнштейн. Третий – великий драматург. Скромность не позволяет мне назвать его.
Из газеты «Газетт энд дейлиз», Лондон, 24 июля 1948 г.– Я поддерживал Ленина задолго до того, как Черчилль… признал и провозгласил его великим государственным деятелем.
Теперь я пытаюсь заставить наших тупиц-дипломатов осознать тот очевидный факт, что Сталин является еще более великим. Он на целую голову выше самого способного из них.
Из газеты «Ньюс хроникл», Лондон, 3 февраля 1949 г.Глава 2. Видные французские лица просят пересмотра московских процессов
Маршалу Булганину послана в Москву телеграмма следующего содержания:
«Париж, 20 февраля. После заявления Микояна, заставляющего предполагать, что с точки зрения правительства и Коммунистической партии Советского Союза старые революционеры, осужденные в московских процессах 1936–1938 гг., были не виновны, мы уверены, что выражаем требования всемирной демократической и социалистической совести, обращаясь к Вам с просьбой о пересмотре всех московских процессов и реабилитации всех старых революционеров, соратников Ленина, осужденных и обесчещенных на этих процессах.
Жерар Блок, Андрэ Бретон, Жан Кассу, Робер Шерани, Ив Дешезелль, Жан Дювио, Клара Мальро, Даниэль Мартине, Эдгар Морен, Морис Надо, Марсо Перер, Поль Риве, Жан Ру, Поль Риф, Лоран Шварц, Эдит Тома».
Из газеты «Монд», Париж, 22 февраля 1956 г.Глава 3. Дэв Мурарки: «Призрак Сталина бродит по Москве»
Сейчас началась самая далеко идущая из всех до сих пор предпринимавшихся попыток возродить и воссоздать славу Сталина среди обыкновенных советских людей. Эта попытка приняла форму романа «Блокада» видного писателя, поддерживающего существующую систему, Александра Чаковского, редактора ортодоксального еженедельника «Литературная газета».
Пока только первая из трех частей романа опубликована в одном ежемесячном журнале. Но она вызвала чувство глубокой тревоги среди интеллигенции. На первый взгляд этот роман – слабое литературное произведение о событиях, предшествовавших трагической блокаде Ленинграда гитлеровскими войсками и сопутствующих ей.
Однако простота романа обманчива. Даже первая вышедшая часть не оставляет у читателя сомнений в том, что Сталин будет подлинным героем этой эпопеи. Умно и тонко Чаковский ухитряется обелить Сталина, создавая при этом видимость объективности. Он тщательно приводит все возражения против Сталина, выдвигаемые антисталинистами, и критикует его за то, как велась война против Финляндии. Но важно то, что автор находит оправдание всем действиям Сталина.
Так, например, с чистками Чаковский разделывается следующим замечанием: «Казалось, Сталин всегда шел вперед, не оборачиваясь назад, и те, кто, по его мнению, вставали на его пути, – люди или факты – превращались в его врагов».
Чаковский озаботился тем, чтобы ввести в книгу убедительные подробности (под явным влиянием «Двадцати писем к другу» Светланы Аллилуевой), но суть его изображения Сталина сводится к тому, чтобы придать Сталину черты некоего гамлетовского героя, который ставит под сомнения свои собственные действия и побуждения, но поступает, как бог, считая, что он всегда прав. Без сомнений, образ Сталина приобретает еще большее значение по мере развития романа. Не приходится сомневаться в том, что роман предназначен для массового распространения, и советские интеллигенты боятся, что он понесет за собой реабилитацию Сталина в сознании неискушенных читателей.
Это не единичная попытка. Военные мемуары адмирала Николая Кузнецова, опубликованные в одном из последних номеров «Октября», также воздают обильную хвалу Сталину за его огромную силу и авторитет. За последнее время в советской печати появилось много подобных высказываний о Сталине, главным образом, в воспоминаниях о периоде войны, написанных военными.
Тревожит то, что по мере того, как стирается память о сталинском терроре, образ Сталина приобретает для многих романтическую и даже ностальгическую окраску. Это – ностальгическое восхищение целеустремленностью решительного человека, человека действия, который знал, куда идет, не терпел глупости и умел наносить смертельный удар по своим врагам.
Ясно, что на этом чувстве ностальгии спекулируют не только ради того, чтобы придать свежий блеск прошлому, но и чтобы придать видимость чистоты тому грязному белью, которое обнаружилось, когда Хрущев сбросил Сталина с бесчисленных пьедесталов, на которые он был вознесен.
Однако здесь кроется и нечто большее. Даже осторожная, ограниченная защита Сталина оправдывает более жестокую власть партии и правительства над народом. И если можно одной фразой определить сущность советской внутренней и внешней политики в последние годы, то это – поиски утраченной власти.
Власть советской коммунистической партии не столь велика, как в дни Сталина, ибо сталинизм разрушил ее изнутри, и, в свою очередь, сам был разрушен. Вызов, брошенный сначала из Пекина, затем подхваченный левыми и правыми ревизионистами в коммунистическом движении всего мира, подорвал власть Москвы. Внутри страны вызов исходил не от какой-либо организованной или даже значительной оппозиции, он был порожден неудержимым стремлением к более легкой обеспеченной жизни в равной степени как у интеллигенции, так и у масс.
Вызов извне был недооценен, вызов изнутри преувеличен. Потерпев неудачу в попытках справиться с создавшимся положением полумерами, руководство оказалось перед единственным известным ему путем – использовать силу в физическом и идеологическом смысле этого слова. Принятие такого курса неизбежно повлекло за собой воскрешение тех сталинистских взглядов, которые оказались желательными и приемлемыми.
В этом и причина того, почему нашли нужным возобновить кампанию против Троцкого. Со времени смерти Сталина Троцкого скорее игнорировали, чем подвергали резкому осуждению. Но вдруг стали появляться антитроцкистские брошюры, содержащие полуправду и даже подчеркивающие его еврейское происхождение. Очевидно, имя Троцкого будет снова использовано, чтобы заклеймить и осудить всех тех, кто не согласен с общепринятой ныне ортодоксальностью Москвы.
Однако, как это ни парадоксально, реставрация образа Сталина не является попыткой возродить сталинизм, уже дискредитированный. Ностальгию по отношению к личности Сталина не следует путать с ностальгией по сталинистской системе, которая остается неприемлемой. Есть даже основания полагать, что, как только кончится нынешняя волна спекуляции на образе Сталина, начнется второй, еще более острый, чем первый, кризис десталинизации.
Тот, кто несет ответственность за возрождение образа Сталина, в действительности ищет способ скрыть отсутствие свежих идей, которые помогли бы встретить во всеоружии все возрастающий напор некоторых из основных доктрин марксизма-ленинизма в их сегодняшней московской интерпретации. В данный момент от этого вызова можно отмахнуться, но его нельзя подавить навсегда.
Основных условий, при которых мог бы процветать сталинизм, более не существует, – это факт.
Из еженедельника «Обсервер», Лондон, 15 декабря 1968 г.Вкладка
Портрет И. Сталина работы А. Яр-Кравченко, 1938 год
Слева направо: Вася Сталин и Артем Сергеев, приемный сын И. В. Сталина, 1926 год
Слева направо: Светлана Сталина, Иосиф Сталин, Ольга Климович (племянница жены С. М. Буденного), С. М. Буденный, Василий Сталин, Артем Сергеев. Сочи. Госдача № 9. 1934 год
Василий Сталин и Артем Сергеев на борту пограничного катера. Сочи, 1934 год
Николай Байбаков, сталинский нарком нефтяной промышленности. «Имейте в виду, если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем. Но если вы уничтожите промыслы преждевременно, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем», – заявил Н. Байбакову Сталин во время одного из совещаний
Николай Байбаков с внуками, 2002 год
Анна Михайловна Бухарина-Ларина, вдова Николая Ивановича Бухарина, партийного деятеля, с 1934 по 1937 годы главного редактора газеты «Известия», расстрелянного по обвинению в организации заговора и в причастности к убийству Кирова
Шарж на Сталина. Надпись рукой Н. Бухарина «Бух. 20/II–28»
Жена и дети Анастаса Микояна, легендарного политического деятеля, наркома пищевой промышленности и торговли. Сидит второй слева – Серго Микоян
Серго Микоян
Шахматный король Хосе Рауль Капабланка и его супруга Ольга Капабланка (княгиня Чегодаева). Капабланка после партии с М. Ботвинником в 1936 году не побоялся сказать наблюдавшему за игрой Сталину, что «советские игроки трусят». Сталин, хитро улыбнувшись, ответил: «Я этим займусь…» – и пригласил Капабланку в Кремль
Сергей Михалков в годы Великой Отечественной войны был корреспондентом фронтовых газет. В честь нравившейся ему девушки молодой поэт назвал стихотворение, опубликованное в «Известиях», «Светлана». Но «завоевал» сердце совсем другого человека – строки понравились Сталину, чью дочь звали Светлана
Легендарный армянский атлет, любимец Сталина, Серго Амбарцумян. В 1938 году побил рекорд «фашистского» штангиста Иозефа Мангера и официально стал самым сильным человеком планеты
Пропуск Артема Сергеева на похороны своего приемного отца, Сталина
Генерал Артем Сергеев
Вырезки из мартовских газет 1953 года со статьями о состоянии здоровья и о смерти И. В. Сталина
Здание пантеона и памятник Сталину (деревня Курейка, Туруханский край Сибири) были возведены в конце 1940-х в память о пребывании в этих краях ссыльного Иосифа Джугашвили. Конец 1950-х
Письмо югославского диссидента, писателя Михайло Михайлова автору книги. Текст гласит: «25.XII.89. Дорогой Феликс, хочу сообщить Вам радостную для меня весть: в ноябре меня в Югославии полностью реабилитировали. Восстановили в гражданстве, всё время берут интервью и печатают много статей обо мне (посылаю одну из журнала «Дуга» – «Радуга»). Поздравляю с Новым Годом и надеюсь вскоре увидеть в Вашингтоне. Привет супруге. Ваш Миша Михайлов»
Государственный деятель, сотрудник газет «Правда», «Известия», Карл Радек (арестован в 1936 году и после признаний в японском шпионаже и подготовке убийства Сталина приговорен к 10 годам тюрьмы, позже убит в камере) с дочерью Софьей
Александр Вертинский с дочерьми. Когда его фамилию внесли в расстрельные списки, Сталин собственноручно вычеркнул ее красным карандашом и дал указание Берии «не трогать артиста Вертинского»
Федор Раскольников, легендарный командир Балтийского флота (1920), посол РСФСР в Афганистане (1921–1923), Болгарии (1934–1938), мужественный человек и яркая личность. В открытом письме Сталину в 1939 году написал: «Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов»
Титульный лист книги Евгения Евтушенко «После Сталина», 1962 год
Единственная книга Наума Коржавина, напечатанная в Советском Союзе до его эмиграции. Она вышла во время хрущевской «оттепели». Его строки: «…но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят», «Какая сука разбудила Ленина?! Кому мешало, что ребенок спит?!», «…но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь» и многие другие цитировались на интеллигентских кухнях и создавали Коржавину славу «подпольного», «самиздатовского» поэта
Слева направо: автор книги и яркий персонаж столичной богемы 1950–1970-х годов, литератор, сценарист Виктор Горохов. Виктор Горохов собрал и издал под одной обложкой рассказы, анекдоты, воспоминания о генералиссимусе. Книга «Тот самый Сталин… Портрет без ретуши» вышла в 2005 году
И. Сталин и А. Поскребышев на XVII съезде ВКП(б), 1934. Александр Поскребышев проработал заведующим особым сектором ЦК («тенью Сталина», как говорили) почти тридцать лет и не оставил мемуаров
Старший сын Иосифа Сталина – Яков Джугашвили. Наследник вождя, старший лейтенант Красной Армии попал в плен в начале войны и погиб в немецком концентрационном лагере Заксенхаузен в 1943 году после того, как Сталин отказался обменять сына на захваченного в плен гитлеровского генерала. Свидетельство о его смерти подписано самим Генрихом Гиммлером
Скульптор Эрнст Неизвестный: «Личный терроризм Сталина сегодня заменен терроризмом машины, создателем которой он является»
Эдуард Кузнецов. В 1961 и 1970 годах осужден за антисоветскую деятельность и «измену социалистической родине». Приговорен к смертной казни по «ленинградскому самолетному делу». В результате давления академика А. Сахарова и президента США Р. Никсона «высшая мера» была заменена на 15 лет лагерей строгого режима. В заключении тайком написал две книги: «Дневники» и «Мордовский марафон».
В 1979 году досрочно освобожден в рамках обмена на двух советских шпионов, арестованных в Америке



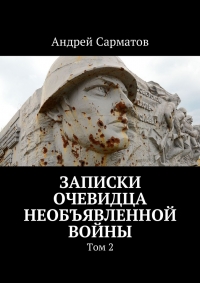



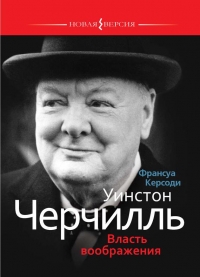
Комментарии к книге «О Сталине без истерик», Феликс Николаевич Медведев
Всего 0 комментариев