Ник Барон КОРОЛЬ КАРЕЛИИ Полковник Ф. Дж. Вудс и британская интервенция на Севере России в 1918-1919 гг.
ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ
Как историк, изучающий Восточную Европу в XX в., в своих исследованиях я долгое время уделял основное внимание российскому региону Карелия, отдаленному и малоосвоенному краю сосновых лесов и ледниковых озер на северо-западе России, на границе с Финляндией. В особенности меня интересовало развитие российской Карелии в ранний советский период — ее формирование при Ленине как отдельного региона и дальнейшее развитие при Сталине, которое сопровождалось надеждами, трудностями, голодом и репрессиями. Работая над этой темой в Департаменте документов Имперского военного музея в Лондоне, я и обнаружил мемуары Филиппа Вудса, озаглавленные «Карельский дневник» и напечатанные в двух частях на пишущей машинке.
Я сразу же понял, что в «Карельском дневнике» содержится новая ценная информация об интервенции союзников на севере России в 1918-1919 гг. по Гражданской войне в России, а также об истории и народах самой Карелии. Он представлял собой новый важный источник для специалистов, изучающих военную и политическую историю, международные отношения, для исследователей национальных движений, а также для всех тех, кто интересуется народами и культурами Северной и Восточной Европы.
Но чем дольше я читал эти мемуары, тем сильнее всплывали в памяти прочитанные в детстве книги Баллантайна[1], Бакана[2], Хаггарда[3], Хенти[4]. Воспоминания Вудса о приключениях в Карелии оказались живописным и чрезвычайно интересным повествованием, рассказанным элегантно, живо и остроумно, что было весьма неожиданно для работы, десятилетиями томившейся в картонной коробке в сухом (хотя и не пыльном) историческом архиве. Не дочитав и до половины, я решил, что ее нужно освободить из архива и опубликовать не только для сведения ученых, но и для развлечения читателей.
Приняв это решение и найдя издательство, с радостью согласившееся опубликовать мемуары Вудса, я начал изучать биографию автора. Чем больше я узнавал, тем сильнее она меня увлекала и очаровывала. То, что начиналось как краткое предисловие к мемуарам, быстро превратилось в более широкое исследование жизни и эпохи Филиппа Вудса. Оно и представлено во второй части данной книги.
Причина моего восхищения Вудсом кроется как в его уникальном характере и карьере, так и в том, насколько его жизнь — при всей ее неорганизованности и неопределенности — была также историей целого поколения людей. Он родился в рабочем квартале Белфаста в 1880 г. и умер в тихой английской деревушке в 1961 г. Большую часть жизни он был солдатом. Он воевал в Южной Африке под началом Баден-Пауэлла[5], во Франции и Фландрии в составе 36-й (Ольстерской) дивизии и на севере России в английских интервенционных силах. По образованию и профессии Вудс также был текстильным дизайнером, и его рисунки украшали столовое и постельное белье на «Титанике» в его роковое первое плавание.
Карьера Вудса — художника, искателя приключений, бизнесмена, политика и солдата — переплеталась с жизнями многих видных, часто противоречивых исторических личностей начала XX в.: революционеров и реакционеров, представителей национальных движений и защитников идеи Британской империи, премьер-министров и шпионов, комиссаров-большевиков и британских нацистов. И все же, когда я начал собирать воедино существующую биографическую информацию о Филиппе Вудсе, стало ясно, что с точки зрения историка он прожил жизнь, с трудом поддающуюся изучению. Исторические свидетельства упоминают его лишь от случая к случаю, всегда на втором плане, практически без подробностей. Любая попытка воссоздать историю его жизни предполагает большой объем детективной работы.
В статьях из справочников «Кто есть кто»[6], начиная с первого упоминания в 1918 г. и заканчивая последним в 1961 г., можно найти основную хронологию его карьеры. Но при обращении к этим источникам следует помнить, что их писал сам Вудс. Это поднимает вопрос о пропусках и искажениях. В других публикациях того времени — например, в адресных книгах и газетах — можно найти лишь отрывочные детали, обычно подтверждающие сведения самого Вудса, но практически ничего не добавляющие по существу. Филипп Вудс также иногда фигурирует в мемуарах своих современников и в трудах историков. Однако все они упоминают его лишь мимоходом, и ошибки, допущенные в ранних работах, часто повторяются в следующих. Краткие намеки на его роль в тех или иных исторических событиях практически не связывают между собой различные эпизоды из его жизни и несут больше вопросов, чем ответов. В частности, как мы увидим, в мемуарах Фрэнка Перси Крозье[7] содержатся загадочные упоминания о действиях Вудса в битве на Сомме, о его неудачном опыте командования батальоном и о причине, по которой ему предложили секретную миссию, приведшую его на север России. Мемуары финского политика-социалиста описывают Вудса как защитника независимости Ирландии, но в то же время до Первой мировой войны он был членом Добровольческих сил Ольстера, готовым с оружием в руках отстаивать союз с Великобританией. В мемуарах, опубликованных в этой книге, Вудс заявляет, что он не сыграл активной роли в неудавшемся националистическом карельском движении, но эти утверждения также противоречивы, поскольку многие и в то время, и позже верили, что он был самым непосредственным образом вовлечен в эти опасные политические игры. Личные письма от одного из ведущих британских фашистов, вставшего на сторону Гитлера во время Второй мировой войны, открывают новые интригующие повороты в изучении дальнейшей карьеры и политических взглядов Вудса. Используя личные документы Филиппа Вудса, государственные архивы и интервью (метод устной истории), я попытаюсь пролить свет на эти секреты.
Разумеется, косвенные и фрагментарные свидетельства не позволяют нам восстановить подробную, систематизированную биографию Вудса. Это и не было моей целью. Вместо этого во второй части данной книги я беру на себя смелость передать ощущение «жизненных миров» Филиппа Вудса, драмы — и трагедии — тех десятилетий, в течение которых истреблялись человеческие жизни и разрушались общественные устои, десятилетий политических конфликтов, рушившихся империй и новых национальных порядков, не оправдавшихся надежд и отброшенных идеалов, мечтаний и разочарований — всего того, что сформировало Вудса. Это — история потерянного поколения.
Первая часть книги — это моя редакция текста «Карельского дневника» Филиппа Вудса, написанного, скорее всего, в конце 1938 и в 1939 г. (обоснование датировки см. в сноске 13 к главе 10, с. 342 наст. изд.). Сохранено оригинальное авторское деление на шестнадцать частей. В них приводится красочное описание военных действий карелов в составе интервенционных сил союзников, впечатления Вудса от необыкновенной субарктической природы и культурных традиций, а также леденящие душу истории о жестоких политических интригах, плетущихся вокруг Карельского полка, особенно в долгие зимние месяцы.
В первой главе своих мемуаров Вудс рассказывает, как он был завербован на эту миссию, и описывает свое путешествие на север России. Во второй главе изображено прибытие в Кемь и первые встречи с карелами. В третьей, четвертой и пятой главах повествуется об осенней кампании Карельского полка против немцев и белофиннов. В шестой главе Вудс вновь рассказывает о событиях в Кеми, а также описывает свою поездку в Соловецкий монастырь и его изумительные сокровища.
В седьмой главе Вудс возвращается к сложным политическим интригам, которые плелись в Кеми, а в восьмой и девятой описывает карельскую зиму с ее жизнерадостными праздниками и трескучими морозами, рождественскими торжествами, новогодними снегопадами и все теми же непрекращающимися интригами. Десятая глава повествует о роли Вудса в карельском националистическом движении, о визите финляндского экс-премьер-министра и о заговоре, организованном белогвардейцами против британских офицеров и их карельских союзников. В одиннадцатой и двенадцатой главах продолжается освещение политических интриг в Карелии, а также реакции на них со стороны британского командования и других сил. В тринадцатой главе Вудс рассказывает об обращении карелов к королю Великобритании Георгу V с просьбой предоставить Карелии статус британского протектората и о реакции союзников. В четырнадцатой главе прослеживается дальнейшая судьба Карельского полка весной и летом 1919 г. В пятнадцатой подробно повествуется о летних партизанских операциях в Сумском Посаде, которыми руководил Вудс, а в шестнадцатой — о заключительном этапе военного вмешательства союзников, об эвакуации их сил, и приводится авторская оценка событий и последствий интервенции.
В конце книги приведена подробная хронология событий, которая должна помочь читателю соотнести исторический анализ второй части с мемуарным описанием военных и политических событий в Карелии в первой части. В приложении к книге публикуются документы из личной коллекции Вудса, которые могут помочь пониманию его роли в данных событиях.
* * *
Во второй части представлено исследование жизни и времени Филиппа Вудса. В первой главе с помощью личных документов Вудса и военных архивов описывается его участие в битве на Сомме в июле 1916 г. — переломном событии, которое разрушило столь многие из еще не утраченных иллюзий девятнадцатого века и провозгласило приход заблуждений века двадцатого. Вторая глава возвращается к происхождению и воспитанию Вудса в Ольстере, а третья вкратце обрисовывает его первый опыт имперских авантюр под руководством Баден-Пауэлла в Южной Африке. В четвертой главе рассматривается участие Вудса в предвоенной деловой и политической жизни Ольстера. В пятой главе прослежены взлеты и падения его военной карьеры во время Первой мировой войны.
В шестой и седьмой главах дается детальный анализ британской интервенции на севере России, основанный на ранее опубликованных исследованиях и мемуарах на английском, финском и русском языках, а также на моих собственных архивных исследованиях. В этих главах читатель познакомится с людьми и событиями, упоминающимися в мемуарах Вудса, в более широком историческом контексте. В шестой главе сначала освещается историческая эволюция Карелии, которая была разделена соперничающими державами на западную и восточную части, а затем описываются условия и ход британской интервенции на севере России и, в частности, первая кампания Вудса во главе Карельского полка против немцев и белофиннов. В седьмой главе события интервенции описаны вплоть до эвакуации сил союзников осенью 1919 г. Там же дается оценка противоречивой роли Вудса во взлете и падении карельского националистического движения в течение шестнадцати месяцев интервенции.
Восьмая глава показывает участие Вудса в его второй миссии в Прибалтику, на этот раз в Литву, а девятая рассказывает о его парламентской карьере в Северной Ирландии в 1920-х гг. В последней главе освещается деятельность Вудса в Англии в 1930-х гг., включая сложный вопрос, насколько далеко в эти годы зашли его крайне правые политические убеждения.
* * *
В составлении и публикации данной книги очень большую роль сыграл Майк Терни, племянник Филиппа Вудса (со стороны его второй жены) и правообладатель его мемуаров. Я выражаю ему глубокую признательность за разрешение предложить мемуары Вудса издателю, а также за доступ к другим личным документам, проливающим свет на его уникальную и бурную жизнь. Я также хотел бы выразить особую благодарность сотрудникам Департамента документов Имперского военного музея за помощь в организации доступа и использования документов Вудса и за поиск библиографической и архивной информации.
В Ирландии меня щедро и в изобилии снабдил информацией о своей семейной истории Эдвин Вудс (правнук дяди Филиппа Вудса, Джереми), а Анжела Клиффорд любезно предоставила информацию о Ф. П. Крозье и сделала для меня ряд запросов, касающихся местной истории Белфаста. В Лонг Крендоне, графство Букингемшир, местный историк Эрик Сьюелл щедро уделил мне свое время, собирая методами устной истории воспоминания о жизни Вудса в этой деревне в 1930-х гг. Историки британского фашизма Джули Готтлиб и Ричард Терстон (оба из университета Шеффилда) и Питер Мартленд (Кембридж) любезно ответили на мои запросы о членстве в этом движении и о Уильяме Джойсе (Лорде Хау-Хау), с которым Вудс был тесно связан в течение определенного времени.
Я также хотел бы поблагодарить Джеки Ходжсон, руководителя специальных фондов библиотеки университета Шеффилда, за предоставленный доступ к документам Джойса; сотрудников Национального архива и читальный зал периодической литературы Британской библиотеки; Криса Ригли (Ноттингем) за сведения об английской и ирландской политической и социальной истории начала XX в.; Ричарда Гонта (Ноттингем) за совет использовать «Книгу пэров Берка» (справочник, к которому я вряд ли обратился бы при изучении советской истории); многих друзей и коллег в Карелии и Финляндии за поддержку и помощь в моей работе в течение почти десяти лет. Особенно (в отношении данного проекта) хотелось бы выделить Елену Дубровскую (Карельский научный центр РАН, Петрозаводск); а также Питера Гатрелла (Манчестер) и моих коллег по историческому факультету университета Ноттингема за потворство моему внезапному увлечению ирландской историей, битвой на Сомме, британским фашизмом и многими другими областями, далекими от моей привычной исследовательской тематики. В хитросплетениях финского синтаксиса мне помогла разобраться Майю Лехто. Линда Доус с необычайным терпением и профессионализмом составляла для меня карты. Наконец, выражаю большую благодарность моему издателю Клайву Бутлу за энтузиазм в отношении этого проекта, за редакторский профессионализм и за терпение.
Книга посвящается моей матери, Делорес Барон.
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Филипп Вудс, автор представленных здесь мемуаров и герой биографического эссе, помещенного во второй части книги, покинул Карелию осенью 1919 г., испытывая грусть оттого, что позади остался край, в который он влюбился, а также его близкие друзья и верные собратья по оружию. Но он также ощущал и горечь, поскольку считал, что Британия в своем имперском высокомерии оставила эту далекую землю и ее гордый народ на произвол судьбы. С того времени прошло почти девяносто лет. Россия прошла сквозь череду драматических изменений. Нынешняя Британия — также совершенно иное государство. Если бы Вудс был сейчас жив, он едва ли узнал бы страну, за которую сражался. Я подозреваю, что он остался бы разочарован большинством произошедших с ней изменений. Хотя прошло много десятилетий с тех пор, как Британия потеряла свою империю, она до сих пор не может примириться со своей ролью небольшой и незначительной страны. Ослабевает даже само ее внутреннее устройство, так как у Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сейчас есть собственные парламенты и широкие права на самоуправление, похожие на права автономных республик в рамках конституционного устройства СССР. Однако Вудс, непримиримый империалист и консерватор по убеждениям, всегда отрицал религиозный фанатизм и националистический шовинизм. Поэтому он, скорее всего, остался бы доволен ситуацией в Северной Ирландии, где после многих десятилетий гражданских и религиозных конфликтов сейчас, наконец, наступает примирение и согласие. В этом отношении показательно, что читатели в Северной Ирландии встретили английское издание биографии Вудса с большим интересом и энтузиазмом. Я думаю, что Вудс также с удовольствием узнал бы о событиях современной истории Карелии, которая, несмотря на значительные демографические, национальные и социальные изменения, произошедшие после его службы на севере России, также достигла примирения и согласия и в рамках федеративной структуры Российской Федерации, и в отношениях с соседней Финляндией. Мы можем многое почерпнуть из опыта Вудса, изложенного ниже. В этот беспокойный век мы должны искать модели нашего будущего развития не в блестящем и безжалостном прошлом национальных государств и империй, а в менее масштабных историях регионов, похожих на современную Карелию, которая сохраняет свою особую идентичность, в то же время оставаясь открытой веяниям окружающего мира.
Как и Вудс, я был также очарован суровой красотой карельской природы и радушным гостеприимством ее жителей. Поэтому я был особенно рад, когда оригинальное англоязычное издание получило положительный отзыв в газете Петрозаводского государственного университета. История Вудса отчетливо показывает важность местного самосознания, региональных интересов и верности идеалам человечества, а также неуместность слепой приверженности «разумным интересам» государств и империй — ведь сам Вудс стал жертвой идеологии, за которую он сражался, и именно это вызвало у него разочарование и постепенную утрату иллюзий. Я надеюсь, что в то время, когда отношения между Британией и Россией проходят через период взаимного непонимания, история Вудса поможет хотя бы немного улучшить и скрепить отношения между нашими странами.
Я хочу выразить благодарность В. Нилову, который был автором первой в Карелии рецензии на эту книгу, что привлекло к ней интерес местных читателей. Я также хочу поблагодарить моих коллег, с которыми я давно и плодотворно сотрудничаю, — Илью Соломенца и Ирину Такалу, историков Петрозаводского государственного университета с международной известностью. Я также выражаю свою глубокую признательность Издательству Европейского Университета в Санкт-Петербурге за интерес, проявленный к этой книге. Именно благодаря ему российский читатель может познакомиться с историей Филиппа Вудса и его карельскими мемуарами. В Москве существенную помощь в моих попытках распространить информацию о жизни Филиппа Вудса и понять, может ли знание о его опыте способствовать улучшению взаимопонимания между Россией и Британией, оказали Александр Прокопов и Аполлон Давидсон. В августе 2008 г. Юрий Борисёнок, главный редактор журнала «Родина», опубликовал большую статью, основанную на этой книге, за что я также хотел бы выразить ему свою благодарность. Кроме того, я хочу отметить помощь и советы своего аспиранта Алистера Райта, который недавно вернулся из длительной командировки в Петрозаводск и чьи познания в истории Карелии уже чрезвычайно глубоки. Спасибо и Лене, моей жене, которая, будучи родом из Москвы, всегда поддерживала меня в моих исследованиях истории Карелии.
Наконец, я хотел бы выразить мою глубокую признательность Алексею Голубеву, переводчику этой книги. Если бы не его неослабевающий энтузиазм, постоянная работоспособность, обширные лингвистические познания и неизменная энергичность, это русскоязычное издание не было бы опубликовано и у меня не появилась бы возможность посвятить эту книгу всем моим старым российским друзьям и новым читателям.
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Гражданская война и иностранная интервенция стали одной из самых ярких и интересных страниц в истории Карелии. В ожесточенной борьбе, продолжавшейся несколько лет на Европейском севере России, переплелись интересы белого движения и большевиков, финских националистов и финских интернационалистов, карельского национального движения и таких иностранных держав, как Великобритания, Франция и США. Историки вновь и вновь обращаются к событиям этого периода — в научный оборот вводятся новые источники, переосмысливаются роли отдельных личностей, дается новая трактовка тех или иных событий[8]. Традиционно гражданская война и иностранная интервенция в Карелии изучались советскими, позднее российскими, и финскими историками, и, как следствие, документы других сторон, участвовавших в этих событиях, оставались практически неизвестными. Между тем, материалы, хранящиеся в британских архивах, могли бы открыть много нового по истории событий 1918-1919 гг. в Карелии. В связи с этим публикация русского перевода книги доктора философии, доцента Ноттингемского университета Ника Барона «Король Карелии. Полковник Ф. Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 гг. История и мемуары» (Лондон, 2007), представляется актуальной и своевременной.
В русском переводе по сравнению с англоязычным изданием было решено поменять местами первую и вторую части книги. Если британского читателя привлекает в первую очередь фигура Филиппа Вудса, чья жизнь и карьера оказались столь уникальными и в то же время характерными для Британской империи начала XX в., то для российского и особенно карельского читателя гораздо больший интерес представляют собственно мемуары Вудса — повествование о его участии в британской интервенции в северной Карелии. Именно поэтому мемуары Ф. Вудса публикуются в первой части книги, а исследование Н. Барона, посвященное жизни и деятельности Вудса, — во второй.
Вудсу не удалось опубликовать свои мемуары при жизни, и это создало ряд трудностей при переводе, которых можно было бы избежать, если бы его текст был обработан профессиональным редактором. В ряде случаев хромает стиль и логика повествования, некоторые авторские метафоры с трудом поддаются расшифровке даже носителями английского языка. Впрочем, Вудс был талантливым писателем с интуитивным литературным чутьем, и подобные случаи остаются редкостью. Его карельские мемуары написаны с вдохновением и читаются легко, на одном дыхании. Следует отметить, что на стиль автора оказал заметное влияние жанр приключенческого романа, чрезвычайно популярный в Британии начала XX в. Для этого жанра характерны преувеличения и даже гиперболы, и, как следствие, к некоторым событиям и фактам в изложении Вудса следует относиться с осторожностью. Например, численность отряда большевиков под командованием И. Д. Спиридонова летом 1918 г. никак не могла составлять 800 человек[9], да и температура в Кеми, пусть даже в середине зимы, едва ли могла упасть до —58 градусов по Цельсию, как следует из мемуаров британского офицера. Выросший в культурной атмосфере британского империализма, Вудс вольно или невольно воспринимал северную Россию как экзотическую страну, отсюда его стремление изображать карельских крестьян через стереотипные образы благородных дикарей, подчеркивать и преувеличивать интриганство и восточное коварство белогвардейских офицеров или описывать Соловецкий монастырь в стилистике, близкой скорее буддизму, чем христианской религии. Культурные образы европейского ориентализма стали для Вудса формой восприятия карельских реалий и позволили ему в чужом враждебном пространстве воспроизводить британский символический порядок и тем самым сохранить свою идентичность офицера Британской империи — именно это, пожалуй, и привлекло внимание Ника Барона к этой исторической фигуре как воплотившей типичные черты своего поколения. При всем этом мемуары Вудса остаются ценным историческим источником и для понимания событий гражданской войны на севере России: в конце концов, в основе его повествования лежит не художественный вымысел, а конкретный исторический материал. Помимо собственных свидетельств, Вудс опирался на переписку с бывшими сослуживцами и на свой архив, содержащий уникальные документы, и часто цитировал эти источники в своем тексте. Чего стоит одна петиция северных карелов королю Великобритании Георгу V с просьбой признать Карелию британским протекторатом — по сути дела, включить ее в состав Британской империи. В данном издании эта петиция приводится в оригинале.
Вторая часть данной книги — исследование Н. Барона, которое помещает «карельские мемуары» Вудса в биографический нарратив его жизни и карьеры. Российского читателя особенно заинтересует большой раздел, посвященный британской интервенции на Европейском севере России, который автор писал не только на основе уже опубликованных исследований, но и с использованием малоизвестных документов британских архивов. В целом, исследование Н. Барона создает широкий исторический контекст, который позволяет понять цели и принципы, руководившие Вудсом в его активной и во многом противоречивой деятельности в качестве «короля Карелии» в 1918— 1919 гг.
А. ГолубевЧАСТЬ 1. ПОЛКОВНИК ФИЛИПП ДЖ. ВУДС. КАРЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
ГЛАВА 1. ПРИБЫТИЕ В КАРЕЛИЮ
«Согласны ли вы поступить добровольцем на секретную службу, где вас могут послать в любую часть мира?»
Этот вопрос был задан мне и еще троим старшим офицерам в маленькой задней комнате пустого дома на площади Ватерлоо весенним утром 1918 года. После шести месяцев бездеятельного, но изнурительного командования резервным батальоном в Британии это предложение казалось ответом на мои бесчисленные молитвы Военному министерству.
«У вас есть двадцать четыре часа на то, чтобы принять решение», — сказал этот джентльмен.
Один из нас, бригадный генерал[10], хотел знать все подробности, другой неохотно ответил, что от него зависит семья, а я и еще один полковник заявили, что нам не нужны эти двадцать четыре часа и все, что мы хотим знать, — когда можно приступить к исполнению обязанностей. Наша готовность действовать, не задавая вопросов, произвела приятное впечатление. Нас провели в другую, еще меньшую — хоть это казалось невозможным — комнату, где предупредили об опасностях, поджидающих на море и на суше, вплоть до возможной смерти или тюремного заключения. Поскольку мы, по крайней мере внешне, не проявили признаков колебания, нас заставили еще раз подтвердить свою решимость, после чего приказали отправиться в лондонский Тауэр для медосмотра, вакцинации и прочей подготовки к жертвоприношению. Я больше никогда не видел моего товарища по несчастью — подозреваю, что военный медик из Тауэра отказал ему в возможности попасть на более интересную службу.
На следующее утро я рапортовал о своем прибытии в Тауэр, где мне сделали прививки, провели вакцинацию, приказали раздобыть обмундирование для тропиков и приготовить поношенную гражданскую одежду и выделили отдельную комнату. Однако вскоре планы изменились, и мне разрешили вернуться домой, но при этом ни днем, ни ночью не отходить от телефона. Последовали долгие дни ожидания по офицерским клубам и гостиницам, когда я боялся даже пойти в театр, не оставив подробных указаний на случай тягостно ожидаемого звонка. Это тревожное состояние закончилось спустя десять дней, когда я получил приказ прибыть на следующее утро к 5.30 на вокзал Кингз Кросс.
В гостинице при вокзале уже находилось около тридцати офицеров всех возрастов, рангов и родов войск. Среди них ходили упорные слухи, что место нашего назначения — Россия, однако по поводу конкретного порта мнения разделились: из-за тропического обмундирования некоторые считали, что это будет Владивосток, в то время как разнообразное снаряжение с надписью «Ньюкасл» на вокзальной платформе намекало на то, что нашим будущим театром действий станет Балтика. Представитель Военного министерства не изъявил желания рассказать нам что-либо, кроме того, что адрес для писем от наших друзей и родственников будет следующим: кодовое имя, Главное почтовое управление, Лондон.
После завтрака мы добрались поездом до Ньюкасла и сели на пароход «Марсель», на борту которого уже находилась пулеметная рота численностью примерно двести человек, несколько связистов и других специалистов из инженерных войск, а также еще примерно пятьдесят офицеров, в основном старших, почти из всех существующих родов войск. Лишь когда был убран последний трап, мы узнали, что пункт нашего назначения — Мурманск, город на севере России, единственный порт в Арктике, открытый в зимнее время. Как обычно, источником информации оказался чей-то ординарец.
Наш корабль был не очень большим, с весьма ограниченным жилым пространством, и отправление нашей группы «современных буканьеров»[11], как прозвал нас какой-то шутник из Военного министерства, сопровождалось, как это обычно бывает, шумной, но спокойной неразберихой, спорами и тщетными поисками лучшей койки. Мы были крайне заинтригованы присутствием на пароходе нескольких таинственных бородатых мужчин в гражданской одежде, среди которых, согласно различным слухам, был бывший наставник царя, Троцкий, Стенько-Разин[12], Керенский, Толстой, Распутин и Синяя борода. Позже мы узнали, что ни один из них не был подобной знаменитостью, однако нас несколько утешила информация о том, что вместе с нами плывет знаменитая леди, командующая отделением «Женщин смерти»[13]. Ее наружность несколько разочаровала нас — в ней не было ничего романтичного. На лице бедного создания были видны следы жестокого обращения, которое она недавно испытала в руках своих соотечественников; я уверен, что она чувствовала симпатию, которую мы к ней испытывали.
Первые несколько дней на борту единственным, что вызывало наш неподдельный интерес, были попытки шестерых офицеров бриться одновременно в каюте площадью три квадратных фута[14] и невольная гимнастика, без которой нельзя было обойтись, чтобы одеться в шторм. Однако в сравнении с двумя сопровождавшими нас эсминцами наши неудобства казались верхом роскоши. Экипажам этих маленьких судов приходилось хуже всех. С наших сравнительно высоких палуб казалось, что эсминцы изо всех сил стараются сделать сальто; они выскакивали из моря, показывая большую часть киля, затем скрывались, и мы видели только короткие мачты и верхушки дымовых труб. Иногда их палубы были видны целиком, и каждая доска блестела от стекавшей воды, потом вновь обнажалось днище, а надстройки погружались в морскую пучину. Я был крайне рад, что не поступил на службу во флот.
К сожалению, на наш корабль сели и несколько микробов эпидемии гриппа, которая столь яростно бушевала в 1918 году, и им удалось значительно ослабить наши силы, заразив несколько важных офицеров. Хоть эпидемию и удалось предотвратить, потери от болезни настолько обескровили группу, направленную для операций в Мурманске под началом генерала Мейнарда, что он был вынужден искать добровольцев из числа архангельской группы, в состав которой входил я. Я был очень доволен результатами своего нынешнего добровольного поступления на службу и решил, что и в этом случае не прогадаю. На следующий день я стал одной из «сирен»[15], а в моем кармане появился паспорт и официальное предписание Главного секретаря Департамента иностранных дел Ее величества обеспечить Уильяму Томасу Петерсону, торговцу лесом, беспрепятственное передвижение и оказывать ему всяческую защиту и содействие, в которых он может нуждаться.
Мы прибыли в Мурманск в день летнего солнцестояния. Вряд ли можно найти более унылое место, чем это, особенно в мрачных лучах полуночного солнца: широкий залив с серо-зеленой водой, окруженный низкими коричневыми холмами без какой-либо растительности, которая могла бы порадовать глаз, и неподалеку от него скопление серых деревянных избушек и домиков. Рядом с берегом стоял старый британский военный корабль «Глори», а за ним — старый русский пятитрубный линкор[16] «Аскольд», который наши солдаты тут же окрестили «пачкой сигарет». К пристани было привязано несколько беспризорных ободранных рыбачьих лодок; неровными рядами стояли на якоре паровые рыболовные суденышки, выглядевшие совершенно заброшенными. Город казался вымершим, если не считать нескольких крепких мужчин, большинство из которых были с винтовками. У металлических ворот на входе в порт стояли двое часовых странного вида, небритых, одетых в простые шинели и высокие сапоги. Эта парочка, казалось, была чрезвычайно довольна своей работой, которая позволяла им со спокойной совестью ничего не делать целыми днями.
Наш главнокомандующий генерал Пуль решил, что именно сейчас будет наиболее уместно рассказать о цели нашего присутствия в этом уголке мира. Он созвал нас в баре и объявил, что мы прибыли сюда для организации отвлекающего удара, который должен был создать угрозу для Германии с севера и востока и не позволить ей отвести войска из России и Финляндии для укрепления своих сил во Франции.
Это задание показалось нам необычайно важным, и каждый из присутствующих почувствовал, что Военное министерство видит в нем, по меньшей мере, целую дивизию.
Те офицеры, что знали страну, дали нам ценные советы по поводу личного поведения. Майор Фитцвилльям из медицинской службы, в частности, рассказал о разнице между моралью британцев и русских. Смысл его слов заключался в том, что наши нормы более высокие, однако мы их не соблюдаем, у русских же мораль на более низком уровне, однако они изо всех сил стараются следовать ей.
Та часть корабельного экипажа, которая не принимала участия в организации экспедиции, в течение нескольких дней была вынуждена бездействовать. За это время возникла неожиданная проблема: индийский экипаж «Марселя» решил умереть. Они говорили, что попали в ад. Солнце не всходило и не садилось, и это самым очевидным образом не позволяло им читать свои молитвы, без которых у них не было никакой надежды обрести вечное спасение. Корабельные офицеры тщетно умоляли их и молились за них — ничего нельзя было добиться ни насилием, ни уговорами. Я думаю, что примерно четырнадцать индийских моряков успели достичь поставленной перед собой цели, после чего другие отказались от мысли о присутствии в царстве Аида. Возможно, оставшиеся в живых просто были не столь твердолобыми.
Приказ двигаться на юг по железной дороге был воспринят с огромным облегчением. Нашей конечной целью являлся город Кемь, до которого было 350 верст. Мы должны были усилить стоявшее там отделение морской пехоты. Я и еще два полковника, Джоселин из территориальных войск и Киз из военной разведки, все еще в военной форме, прибыли на станцию, больше напоминавшую полустанок, так как на ней не было ни платформ, ни зданий. Здесь состоялся наш первый и не слишком обнадеживающий контакт с русским пролетариатом. Некий служащий выделил нам маленькое купе без подушек (как оказалось позднее, это было только к лучшему). Соотечественники не проявили к нему должного уважения: за это решение его во весь голос бранили все русские семьи, оказавшиеся поблизости. Огромный мужчина в обычном здесь наряде из шинели, сапог и небритости в сопровождении тучной, обливавшейся потом женщины, нескольких отпрысков и с семейными пожитками, кишащими неизбежными паразитами, протиснулся в купе, несмотря на наши попытки воспрепятствовать этому. Однако полковнику Кизу после получасовой речи, в которой обильно перемежались угрозы и фразы, по нашим догадкам, вряд ли уместные в присутствии женщины, удалось ослабить бульдожью хватку наших друзей, и мы вытолкнули их из вагона обратно в толпу, сохранив от них лишь несколько сувениров, от которых тоже избавились бы с большим удовольствием. После необычайно длинных разговоров и ругани, а также нескольких яростных споров между паровозной бригадой, охраной и станционными механиками, мы устремились вперед на невообразимой скорости в три мили в час, которая постепенно увеличилась до просто безрассудных пяти миль или что-то около того, в результате чего поезд едва не сходил с рельсов, а пассажиры испытывали крайнее неудобство. Уже в самом начале пути прорвало котел, и мы остановились рядом с огромной кучей дров, которые, судя по всему, были заготовлены в качестве топлива. Тут же продолжилась перебранка между паровозной бригадой, пассажирами и охраной, и далее этот непрерывный спор происходил на каждой остановке. В конце концов, мы решили, что они останавливают поезд каждый раз, когда кому-то из участников приходит в голову обсудить очередную проблему.
С наступлением того, что можно было назвать сумерками, мы остановились на очередном «вокзале», который на сей раз оказался домиком. В нем был установлен телеграфный аппарат и большой резервуар горячей воды — «кепиток»[17]. Все вокруг было окутано тучей комаров. Цель резервуара для горячей воды вскоре стала очевидной: не дожидаясь остановки, мужчины, женщины и дети начали спрыгивать с поездка с банками, чайниками, кувшинами и прочими сосудами — с любой посудой, пригодной для заваривания чая. «Кепиток» — это комната отдыха на железной дороге, распространенная повсюду в провинциальной России. До этого момента я не упоминал комаров, но в действительности они были одним из худших неудобств, с которыми приходилось мириться. Северный комар — гораздо более крупное и свирепое насекомое, чем африканский москит, а поскольку остановки никогда не чистились и на них не проводились никакие санитарные меры, провинциальный российский «вокзал» был идеальным местом для размножения этих свирепых кровососов, тем более что здесь им представлялась ежедневная возможность лакомиться пассажирами и отбросами. Повсюду слышался звук их жужжания, или писк, и не будет преувеличением сказать, что облака комаров были иногда настолько густыми, что сквозь них даже нельзя было различить лица других пассажиров, стоявших на расстоянии всего лишь одного железнодорожного вагона.
В Кандалакше мы лишились одного из членов нашей группы. На этой станции сошел майор Бертон, молодой канадец, который должен был помочь полковнику Маршу, командовавшему здесь небольшим отрядом. Марш проявил гостеприимство и подбадривал нас с помощью виски с содовой, хотя его новости о «крови и пальбе» дальше к югу едва ли могли повысить наш боевой дух. Впрочем, мы уже были готовы предпочесть любое испытание комарам, постоянные сражения с которыми были столь же тщетными, сколь и изматывающими. Марш обладал ценным качеством: он знал русский язык и поэтому мог общаться с железнодорожными служащими в весьма убедительной, как нам казалось, манере, которая заключалась в основном в оскорблениях. Лишь позже, выучив русский язык, я осознал, что эта манера разговора была абсолютно неприспособленной для четкого и понятного проявления недовольства кем-либо — с ее помощью можно было выразить лишь свои мысли по поводу неспособности предков виновного вести нравственный образ жизни, но подобное внушение было слишком косвенным, чтобы действовать эффективно. Однако полковнику Маршу как-то удалось вложить в свои слова существенный смысл, и все болезни нашего паровоза на этом прекратились.
Во время трехчасовой остановки на станции нам удалось хорошо отдохнуть, после чего поезд продолжил свой изнуряющий путь сквозь сосновые леса, болота, снова сосновые леса, березы, снова болота — один и тот же пейзаж все длился и длился нескончаемые мили, прерываясь частыми и длительными остановками, иногда по существенным причинам, но чаще без какого-либо повода. Дни без ночей, отличающиеся друг от друга лишь продолжительностью остановок и все возраставшим дискомфортом, вызванным редкими возможностями помыться и побриться, пылью, жарой и вниманием маленьких, но очень проворных обитателей нашего купе, — все это путешествие было так утомительно, что мы даже обрадовались, когда какой-то «товарищ» несколько раз наобум выстрелил в поезд из-под прикрытия леса. Мы не испытали никакого сожаления, прибыв, наконец, в Кемь, где нас приветствовал капитан Дрейк-Брокман из королевской морской пехоты. Я не могу не отдать должное этому джентльмену, не проявившему разочарования ни словом, ни взглядом при виде двух грязных и небритых полковников, которые были его единственным пополнением, так как полковник Киз должен был уехать на юг по другому поручению.
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛКА
С военной точки зрения значение станции Кемь было трудно переоценить. Она стояла на северном берегу реки Кемь, которая в этом месте была широкой и быстрой. Железная дорога пересекала реку по добротному и высокому деревянному мосту длиной примерно 250 ярдов. Была еще одна ветка, соединяющая город с Поповым Островом[18]: там, в пяти милях к востоку на беломорском побережье, на северном берегу устья реки Кемь, располагался порт с глубокой гаванью.
Со стороны Финляндии, с запада, дорогу защищали непроходимые леса, болота и тундра. За исключением водного транспорта, передвигаться там можно было только пешком по тропинке, тянувшейся вдоль северного берега реки и пересекавшей ее притоки по мостикам, сделанным из одного бревна. Город лежал примерно в двух милях от станции. В нем был собор, несколько магазинов, довольно много больших домов, расположенных вдоль четырех улиц, — все это на северном берегу реки. По деревянному мосту можно было попасть на остров, где располагались казармы, вмещавшие примерно 600 человек, старая ветхая деревянная церковь и трехэтажный театр, также построенный из дерева. Единственным каменным зданием во всем городе был собор. Даже тротуары были сделаны из досок, уложенных вдоль проезжей части по три-четыре в ширину. Улицы и дороги представляли собой всего лишь широкие грязные тропы без какого-либо покрытия. Когда они не утопали в грязи, с них поднимались облака разъедавшей глаза пыли. Население — около трех с половиной тысяч человек — было самого разного происхождения и классовой принадлежности, так как до войны Кемь была местом ссылки для политических преступников. Здесь все еще жили те, кто не уехал при первой же возможности, предоставленной революцией. Возможно, они начали воспринимать Кемь как свое убежище.
Кемский Успенский собор, построенный в 1717 г. Январь 1917 г.
Дрейк-Брокман и его рота морской пехоты жили в грузовых вагонах на железнодорожной станции. Его офис и склады располагались в полуразвалившихся пассажирских вагонах без единого стекла, а прачечная и туалеты стояли в лесу, который спускался к железной дороге с северо-запада. Эти блага цивилизации были в новинку для русских солдат, которые не испытывали никакого желания общаться с британцами, соблюдая что-то вроде напряженного вооруженного перемирия — последнее в любой момент могло перерасти в открытую враждебность. Впрочем, морские пехотинцы были готовы и к такому развитию событий. Мы также узнали, что железную дорогу Мурманск—Петроград на участке от моста, по которому она пересекала реку, и до Кандалакши на севере патрулирует «самодельный» бронепоезд (большая часть его брони была гофрированным железом!) французского артиллерийского отделения.
Вся собранная нами информация говорила о том, что мы оказались в чрезвычайно деликатном положении. Никто не знал, были ли мы в состоянии войны с местным населением или нет; не знали об этом и сами местные, и различное отношение к этому вопросу подчеркивалось желанием одних и нежеланием других железнодорожных чиновников помогать нам. Инженер Аргиев, начальник кемской дистанции железной дороги, был настроен к нам благожелательно и предоставил нам с Джоселином теплушку[19], или грузовой вагон, оборудованный печкой. Во всем остальном мы разумно полагались на умение морских пехотинцев «брать взаймы» — смекалка британского солдата позволяла им добывать все необходимое втихомолку.
Чтобы еще больше осложнить и без того хаотичную ситуацию, к нам обратилась делегация бородатых разбойников с просьбой освободить из плена большевиков 58 человек, насильно удерживаемых в кемском гарнизоне. Причиной их ареста было нежелание этих людей — не русских, а карелов, чьи земли лежали к западу, между Финляндией и Белым морем, и в то время были оккупированы финнами, которыми командовали немцы, — носить оружие и воевать на стороне большевиков. Они просили выделить им дюжину спичечных коробков, обещая спалить все оккупированные деревни в Карелии. Их намерения казались искренними, и мы пообещали передать их просьбу нашему командованию, что и было сделано.
Что же касается отношений между нами и местными, то еще несколько дней прошли в напряжении; обе стороны наблюдали друг за другом, присматриваясь к каждому движению. Дошло до того, что наша закодированная телеграфная линия с Мурманском прослушивалась агентами, которых могли подослать только наши подозрительные соседи. В конце концов, наступила развязка: из штаб-квартиры поступил приказ разоружить русский гарнизон и переместить его через мост, на другую сторону реки.
Морские пехотинцы взялись за выполнение этого приказа с большой охотой и удовольствием. Выбрав время, когда большинство русских находилось в расположении своей части, Дрейк-Брокман по всем правилам военного искусства расставил своих людей и повел один взвод к казармам. Был произведен всего один выстрел уоррент-офицером[20] для того, чтобы привлечь внимание к цели нашего визита. Она была понята быстро и правильно. Из окон посыпались винтовки с несъемными штыками, за ними — ремни и прочее обмундирование; казалось, что находившиеся внутри люди разбирают себя на части. Все обошлось без смертельных исходов, хотя несчастья было бы не избежать, если бы споткнулся маленький пехотинец, несший целую кучу длинных русских сабель едва ли не больше себя самого.
Когда наши пленные осознали, что их не будут использовать в качестве мишеней для стрельбы, они испытали большое облегчение, и многие без всякого сожаления садились на поезд, который должен был провезти их миль шестнадцать к югу и там высадить. Однако после того, как они достигли пункта своего назначения, нам доставили письма с угрозами страшной мести от командующего гарнизоном, комиссара Спиридонова. Он, очевидно, думал, что у нас, как и у кошек, по девять жизней, так как обещал вернуться с шестью тысячами солдат и расправиться с нами, причем с каждым по несколько раз и различными способами.
Через десять дней оказалось, что Спиридонов собирался выполнить свое обещание, по крайней мере, частично. Наша русская служба разведки доложила, что на Кемь с юга идут три поезда и 3000 человек под командованием Спиридонова, собиравшегося напасть на нас на следующий день. Как обычно, мы разделили данные разведки на три и узнали примерную силу угрожавшего нам противника — эти расчеты и подтвердились через два дня. Жители Кеми были крайне взволнованы: одни ликовали по поводу неизбежной участи маленького британского гарнизона, другие — те, кто мог что-то потерять, — осознавали все перспективы вторжения «неограненных алмазов»[21] Спиридонова. Наши силы составляли всего лишь 200 человек, однако мы были хорошо подготовлены к обороне и могли ожидать вражеского нападения без излишнего беспокойства. Капитан Мак-Киллиган, опытный сапер с отличным чувством юмора и огромным, под семь футов, ростом, и четверо его подчиненных заминировали мост, подходы к нему простреливались из пулеметов; мы вытащили на свой берег все лодки и приставили к ним охрану, а на противоположном берегу сожгли все, что можно было использовать как прикрытие, и пристреляли ориентиры.
Тем временем из штаб-квартиры в Мурманске пришли указания по возможности избегать кровопролития, но при этом удерживать позицию любой ценой. Для выполнения этого приказа мы снарядили небольшой, но представительный комитет по встрече в составе полковника Фрайера, двух пулеметных расчетов из состава Королевской морской пехоты, которые заняли позиции с обеих сторон железной дороги на расстоянии примерно 200 ярдов к югу от моста, перегородившего дорогу бревна, очень нервничающего переводчика и меня, также в очень нервном состоянии. Мой дух несколько поддерживала новая тропическая форма и белые перчатки. Думаю, успеху нашего предприятия мы были отчасти обязаны заслугам моего портного. Когда появился враг — поезд с комиссаром Спиридоновым и его 800 людьми медленно приблизился и остановился при виде лежащего на рельсах бревна, — своей чистой перчаткой я сделал знак на манер стрелочника. Из всех окон показались головы, и воцарилось глубокое молчание. Переводчик спросил у пассажиров из первого купе, где можно найти Спиридонова. В дальних вагонах начали открываться двери, и я сказал переводчику, чтобы их немедленно закрыли, так как поезд стоит на мине и в случае неподчинения взлетит на воздух. Я также дал условленный знак Фрайеру, который скомандовал сделать несколько предупредительных очередей справа и слева от поезда. После этого мы приказали выйти комиссару, который оказался во втором вагоне. Он вышел и хотел что-то сказать, но я протянул руку, требуя от него сдать револьверы (их у него оказалось два, необычайно огромных и слишком тяжелых для обычного человека), а также приказать своим людям выбросить винтовки через окна. Они подчинились, и чтобы ускорить выполнение приказа, полковник Фрайер дал еще несколько очередей. После этого переводчик прошел по поезду, чтобы убедиться в сдаче всего оружия, и нашел еще несколько винтовок. Пока Фрайер занимался поездом, я отвел Спиридонова на станцию, чтобы задать несколько вопросов. Он был так поражен ситуацией, в которой оказался, что забыл закурить предложенную мной сигарету. После того, как майор Роулендсон — переводчик, специально прибывший из штаба, — подробно допросил Спиридонова, его отвели назад к поезду, и тот отправился обратно на юг вместе со своим набедокурившим грузом, предводитель которого, без сомнения, уже обдумывал возможность следующего нападения, во время которого его не удалось бы так легко заманить в ловушку.
К этому времени личный состав британцев на станции Кемь состоял из капитана Дрейк-Брокмана, под командованием которого находились два младших офицера, Хитон и Норрис, и рота морских пехотинцев; капитана Мак-Киллигана и четырех саперов; полковника Джоселина и меня; наши союзники были представлены майором Батаяром из французской военной разведки и «бронепоездом». После этого случая несколько местных русских жителей изъявили желание участвовать в обороне Кеми, но до приезда главнокомандующего, генерала Мейнарда, 7 июля их предложение сводилось лишь к бесконечным разговорам. Когда же он прибыл, на станции было устроено что-то вроде совещания, на котором Беляев, местный мэр, и его помощники в течение нескольких часов убеждали в чем-то главнокомандующего. Тому на ответ потребовалось лишь три минуты. Результатом встречи стало формирование отряда из местных добровольцев, получившего название Славяно-Британского Легиона, под командованием полковника Джоселина. Едва этот вопрос был разрешен, как с генералом завела разговор группа из примерно тридцати мужчин дикой внешности, в косматых медвежьих шапках и тулупах, ощетинившихся ножами, топорами и неизбежными усами. Генералу с большим трудом удалось сохранить серьезное выражение лица при виде этой странной компании. Посовещавшись со штабом, он вызвал меня в свой вагон и сказал: «Вудс, те парни, что со зловещим видом стоят на улице, — карелы. Они просят оружие, немного еды и офицера, который смог бы руководить ими. Их цель — очистить свою страну от финнов, которыми руководят немецкие офицеры. Они не будут приносить никакую клятву верности союзникам, поэтому мы можем полагаться исключительно на их слово. Вы бы взяли над ними командование?»
Я ответил, что взял бы.
«Что ж, — сказал генерал, — мне кажется, с Вами от них будет прок. Но перед тем, как Вы примете окончательное решение, должен предупредить Вас: <белогвардейские> русские офицеры и горожане уверены, что карелы перережут глотку любому иностранному офицеру, как только окажутся в своих землях; все, что им нужно, — это провиант и оружие. Так что скажете?»
Я сказал, что они не кажутся мне более страшными, чем их соседи, и что я все еще согласен; в ответ на это генерал дал мне свое благословение и пообещал оказать всевозможную помощь. Он спросил меня, что я собираюсь делать в первую очередь.
«Заставить их побриться, чтобы хотя бы разглядеть», — ответил я.
Генерал представил меня моим новым подчиненным. Они смотрели на меня с благоговейным ужасом, но в глазах горел огонек надежды. Что странно — хоть я и был для них иностранцем и чужаком, я почувствовал, что они сразу же мне поверили; не потребовалось никаких обсуждений, и различие в языках не стало помехой нашему взаимопониманию. Мы стали друзьями с самого начала.
В помощью переводчика я пристально изучил делегацию. Одного мальчишку — паренька лет девятнадцати — украшала на удивление роскошная борода; я поздравил его с такой ценной собственностью, но объяснил, что в моей стране это было бы воспринято как знак миролюбия и капитуляции. Он тут же согласился пожертвовать ей. Чтобы я смог привести в порядок эту разношерстную команду, мне выдали переводчика, лейтенанта Хитона, сержанта Уолкера, капрала Фрайера из морской пехоты и двух хороших сербских сержантов. Мои люди должны были оставаться в городских казармах, где они жили вместе со своими семьями, но получать рационы и припасы на станции. Нашей первой задачей было создать для них приемлемые условия, для чего мы заставили их убраться в казармах, а также выделили женщинам отдельное помещение. Их положение до этого момента было неопределенным — явный недостаток в организации дел, который едва ли способствовал спокойному отдыху их мужей и отцов.
Срочно требовал разрешения и вопрос с транспортом, но с помощью лести, которую мы в избытке расточали местному земству, нам удалось преодолеть и эту трудность, и в скором времени мы были гордыми владельцами шести пони и телег — совершенно невероятных механизмов, каждый из которых представлял собой четыре колеса, скрепленных тремя досками, и две жерди, между которыми была закреплена деревянная арка, лежащая на шее пони.
Когда нам доставили 50 комплектов формы цвета хаки, я воспользовался этой возможностью, чтобы указать на неуместность бакенбардов и иного волосяного покрова, от которых все еще не могли отказаться некоторые из наиболее консервативных воинов. После этого полк больше никогда не выглядел лохматым.
Следующей задачей было найти вооружение. Поначалу мы собрали винтовки и боеприпасы, которые очень любезно оставил нам Спиридонов и его отряд во время эвакуации, а позднее нам улыбнулась фортуна, когда на железной дороге мы нашли два вагона русских винтовок и боеприпасов. Среди всего этого вооружения оказались и четыре исправных пулемета.
В полку теперь насчитывалось 65 умелых, крепко сложенных мужчин — хорошее ядро, однако их численность оставалась чересчур незначительной для освобождения Карелии от врага, чьи силы, согласно разным оценкам, составляли от пяти до двадцати тысяч человек. Посовещавшись, мы выставили заградительные патрули, которые должны были следить за рекой и за каждой лесной тропинкой. Патрульные пропускали любого, кто шел из Карелии, но запрещали покидать нашу территорию в обратном направлении. Из нашего полка также были отправлены вербовщики, которые должны были набрать в полк как можно больше карелов, работавших на железной дороге и в порту, а также рыбаков, охотников, лесорубов и крестьян. Неоценимую помощь оказали двое карелов, пользовавшихся большим авторитетом: Григорий Лежев, который был искусным оратором, и Николай Петров, прирожденный солдат. То, чего не мог достичь один из них с помощью своих способностей, добивался другой своими методами, и прошло совсем немного времени, как в рядах нашего полка были все карелы, пригодные к службе по возрасту и физическому состоянию. Через месяц наши силы насчитывали уже 500 человек, большинство из них в отменной форме, причем каждый был замечательным снайпером, так как в стране, где не знали мясных лавок и ценили каждый патрон, добыча собственного пропитания напрямую зависела от умения метко стрелять. Все они ранее служили в российской императорской армии и после небольшой муштры держались в строю так же подтянуто, как любая иностранная армия в обычных обстоятельствах. Их дисциплина не вызывала нареканий: не было ни одного случая нарушения субординации или пьянства, ни одной жалобы от местных жителей, и это несмотря на то, что русские их искренне невзлюбили и не упускали возможности предупредить меня об опасности с их стороны (создавалось впечатление, что распятие на кресте — не самый худший вариант из того, что могло меня поджидать). Ни тогда, ни когда-либо позднее я не позволял себе усомниться в искренности и преданности своих карелов. В конечном итоге они заслужили отличную репутацию за свою исключительную честность, которую признавали даже их враги.
По своему характеру карелы были неунывающими и энергичными, готовыми видеть юмор в любой ситуации. Этим они очень напоминали мне ирландских солдат, которые не теряют присутствия духа даже в самых сложных ситуациях. В качестве примера могу вспомнить случай, когда на реке Кемь перевернулась лодка и шестеро рыбаков оказались в воде. С берега, где стояли их товарищи, это было встречено взрывом смеха, к которому незамедлительно присоединились и сами бедолаги, едва показавшись на поверхности. Доброе отношение сразу находило у них отклик, но если на них начинали давить или задирать, то они вели себя бестолково и упрямо.
Подготовка и организация карелов была в разгаре, когда в Кемь прибыло пополнение в виде двух рот сербов под командованием майора Дукича, пересекших всю Россию с юга на север. Сербы были отличными здоровыми парнями, медленными на подъем, но крайне упорными. Полковник Торнхилл, офицер военной разведки из архангельской группы войск, герой множества увлекательных приключений в Петрограде в дни революции, отправился вместе со взводом этих сербов на другой берег Онежской губы в какой-то городок, где требовалось наше вмешательство. Согласно его донесениям, сербы-были смелыми до безрассудства и атаковали вражеские позиции под винтовочным огнем, пренебрегая какими-либо укрытиями. Работа была выполнена с успехом, однако ценой ненужных потерь по вышеупомянутым причинам.
В ходе этой экспедиции было захвачено несколько ящиков, которые Торнхилл переправил в Кемь вместе с одним из своих людей. Внутри мы обнаружили вино. Ящики были отвезены на станцию под опеку Дрейк-Брокмана. Он в течение нескольких дней выставлял к ним охрану и потом, не получив дальнейших распоряжений, спросил у меня, что с ними делать. Я был совершенно не против помочь ему в этом вопросе и предложил отправить ящики в город, в мой штаб, располагавшийся рядом с казармами, где они были бы в безопасности и ему не потребовалось бы выделять морских пехотинцев для охраны. Вино оказалось чрезвычайно полезным: в городе, где запасы вина и более крепких напитков были почти полностью истощены, жители не отличались трезвым образом жизни, а деньги не имели никакой покупательной способности, наш престиж заметно вырос. Разумное использование вина увеличило наши транспортные ресурсы в четыре раза и помогло приобрести молоко, хлеб и многое другое, о существовании чего в округе мы и не подозревали. Дрейк-Брокман поблагодарил меня за избавление от ящиков и был очень признателен за несколько бутылок сладкого русского шампанского, которые мы ему отправили.
Когда к нам с инспекцией прибыл генерал Мейнард, мы послали ему корзину с несколькими ярко раскрашенными — позолоченными и посеребренными — бутылками вина; их этикетки украшали рисунки фруктов, из которых оно было сделано. В ответ на этот жест доброй воли он подарил нам шесть бутылок шотландского виски. Если бы мы только предполагали подобный более чем выгодный обмен, мы бы отправили ему целый ящик вина! Но я уверен, что он не рассматривал это как сделку: генерал отличался гостеприимством, добротой и чуткостью во всех ситуациях, которые касались его подчиненных; отсюда то раскаяние, которое преследовало меня с тех пор, как я какое-то время спустя узнал, что партия вина изначально предназначалась для нашего штаба! Торнхилл обвинял меня в пиратстве и других недостойных деяниях, хотя позднее смягчил свое отношение. От генерала же я не услышал ни слова упрека, даже когда лично описал ему эту неприятную ситуацию. Думаю, узнав от меня про резиновый вкус вина, он был только рад, что ему не пришлось все это пить. На мой некрасивый поступок он ответил добром, прислав еще виски; впрочем, оно же и помогло мне в борьбе с угрызениями совести.
В строю Карельский полк производил очень хорошее впечатление, но оно все же сопровождалось чувством легкой неудовлетворенности. Причина этого крылась в отсутствии полковой эмблемы или кокарды. С этим нужно было что-то делать, однако наше командование не могло помочь в решении этого вопроса. К этому времени штаб Карельского полка переехал в трехэтажный деревянный дом, на первом этаже которого располагался театр, а на верхних были жилые комнаты. Второй этаж занимал начальник дистанции железной дороги — до того, как его расстреляли большевики. У него был определенно хороший вкус в том, что касалось убранства комнат и развлечений. В гостиной мы нашли прекрасный рояль «Bechstein», граммофон «HMV», замечательную коллекцию пластинок и большой бильярдный стол. По какой-то причине он стал единственной вещью, которую невзлюбили вселившиеся после него жильцы: с его поверхности было почти полностью сорвано сукно. Возможно, именно цвет материи подсказал нам, как применить ее с пользой. Перочинным ножом из куска дерева была вырезана печать в форме трилистника. С помощью штемпельной подушечки мы проставили ее на остатках зеленого сукна, чтобы позднее их можно было разрезать для изготовления кокард. Следуя модному обычаю, принятому у нас дома, мы пригласили на чай русских леди, которые в социальных привычках отличались снисходительностью и могли забыть о предрассудках против карелов ради энтузиазма по отношению к британцам. Каждую гостью мы попросили принести с собой ножницы; две дамы угостили нас разновидностью пирожных «радость викария», мы угощали всех чаем, и, хоть вместо фарфора пришлось использовать жестяные кружки, это лишь добавило впечатлений от чаепития.
Наше гостеприимство принесло практические результаты в виде 500 тщательно вырезанных кокард. Они крепились к головным уборам солдат с помощью латунных скрепок, что добавило последний штрих к их униформе. Солдаты чрезвычайно гордились своими головными уборами, и боевой дух в полку вырос до необычайно высокого уровня. Число рекрутов с каждым днем все росло, и позднее в вопросе кокард нас выручил капитан Мак-Киллиган: когда с бильярдного стола уже нечего было взять, он прислал нам очень красивые трилистники, которые искусно вырезали из старых гильз его изобретательные саперы. Несмотря на то, что эти металлические значки крепились с помощью застежки, кокарды из зеленого сукна так и остались отличительным знаком наших первых добровольцев.
Колонна Карельского полка идет строем по мосту через р. Кемь, осень 1918 г. На заднем плане виден Кемский Благовещенский собор, построенный в 1904 г.
ГЛАВА 3. КОРОЛЕВСКИЙ ИРЛАНДСКИЙ КАРЕЛЬСКИЙ ПОЛК
Когда генерал Мейнард прибыл из Мурманска в Кемь, чтобы провести инспекцию полка, он был несколько недоволен, узнав, что строевые учения ведутся по русским принципам и на русском языке. Однако вскоре он согласился с тем, что было более практично выучить русскую систему британским офицерам, которые могли в нужных местах вносить небольшие исправления и улучшения, чем муштровать тысячу солдат, многие из которых были безграмотными, используя команды на чужом для них языке. В остальном он был доволен их дисциплиной и построением. В то же время было заметно, что генерал испытывает к полку легкое недоверие (внушенное ему, без сомнения, российскими советниками), которое карелы тут же почувствовали и о котором позднее вспоминали. То, что они не обманывались в своих суждениях, получило подтверждение, когда генерал настоял на выделении мне личной охраны, состоящей из двух пулеметных команд морских пехотинцев. К сожалению, это сказалось на их отношении к генералу: искренне уважая его, они всегда испытывали сомнения в характере его дружбы и даже высказывали недоверие, когда мы, добиваясь каких-либо уступок, указывали на генерала (без преувеличения) как на их причину. Как следствие, настоящими друзьями они считали лишь своих собственных офицеров и в этом отношении доходили до таких крайностей, что даже отказывались выполнять приказы, исходившие не из штаба Карельского полка или не подтвержденные им, и никакие наши усилия не могли побороть эту тенденцию.
Славяно-Британский легион под командованием полковника Джоселина поначалу добился неплохих успехов, однако, к сожалению, его дальнейший прогресс сдерживался острой нехваткой рекрутов, набирать которых было практически неоткуда. Джоселину не подходили наши методы для поиска добровольцев, поскольку в случае с русским населением не было столь действенных — личных и безотлагательных — мотивов. Учитывая эти факторы, 200 человек было вполне похвальным результатом, и качество этих молодых людей, из которых он сформировал одну роту, было очень приличным. Между нами существовало своего рода здоровое соперничество, особенно в его старой солдатской разновидности, касавшейся материальных запасов. В подобных состязаниях Джоселин проявлял себя так же хорошо, как и в военном деле. Не могу не вспомнить небольшой случай с моим участием, за который — признаюсь честно — я заслуживаю всяческого порицания. Мы с Джоселином обедали вместе. Как правило, наша еда ограничивалась консервами «Булли» или «Маконаки» <рагу из мяса и овощей>, поэтому мы всегда были благодарны за масло, свежий хлеб и другие деликатесы, которыми нас время от времени угощали. В тот раз одна леди послала банку сметаны[22], и когда ее подали нам на обед, Джоселин, восседавший в самом удобном кресле, сказал:
«А, эти ужасные русские сливки. Я знаю их на вкус — кислые как уксус. Я не буду это есть — можете попробовать, если хотите».
Я попробовал — вкус был удивительно свежий, однако Джоселин так сильно ожидал увидеть гримасу на моем лице, что я не стал его разочаровывать и сморщился с притворным отвращением. Это его развеселило, и когда я снова предложил ему сметану, он ответил:
«Что-то не хочу. Можете съесть все».
Так я и поступил, что, в конце концов, вызвало у него подозрение — однако слишком поздно. С тех пор он все пробовал сам.
Тем, что мы не смогли забыть британские привычки и небольшие удовольствия, мы были обязаны капитану Коуэну, его офицерам и экипажу британского судна «Найрана». Когда-то оно было австралийским пассажирским пароходом, но после реконструкции использовалось в качестве авиаматки. Их гостеприимство было в лучших традициях флота — Мак-Киллиган однажды охарактеризовал его так: «Уходите, когда пожелаете, и возвращайтесь, когда сможете». Мы очень ценили возможность мыться в ванне, как это принято в Британии, вместо русской парной бани, тем более что на судне царила идеальная чистота; здесь мы были временно недоступны для атак клопов, без которых не обходилось почти ни одно здание на севере России. Когда перед нами на белую скатерть ставили ростбиф, это казалось настоящим праздником — к тому времени мы привыкли к вечным мясным консервам и армейским рационам, которые обычно ели на старом номере «Тайме», до этого служившем в качестве крышки на коробке с печеньем. Для меня было большим наслаждением сидеть в компании этих жизнерадостных моряков и слушать их флотские разговоры; здесь можно было привести в порядок свои убеждения и вернуть себе здравый взгляд на окружающее, а также отдохнуть душой и телом.
Мы договорились с пилотами «Найраны», чтобы они организовали разведку и фотосъемку вражеских укреплений в Карелии, но только после условленной даты, так как преждевременное проявление нашего интереса было нежелательным. Их самолеты были довольно устаревшими, с ограниченной дальностью полета, однако недостатки машин с избытком компенсировались достоинствами их пилотов, которые охотно выполняли все поручения, чтобы помочь нам.
Из-за эмблем главнокомандующий прозвал Карельский полк «Ирландским Карельским». К этому времени он уже стоял на довольствии британской армии и получал военные пайки. К концу июля 1918 г. мы были готовы начать боевые действия против врага.
Во время подготовительного и организационного этапа мы готовили план атаки, тщательно отслеживая все передвижения по местности и постепенно собирая информацию о численности и расположении противника, ближайший пост которого находился в 16 верстах вверх по реке. Так как лесные тропинки не были приспособлены для движения войск, мы собрали все лодки на 50 миль в округе, и, когда эти запасы были исчерпаны, в нашем распоряжении оказалась флотилия из более чем 300 лодок с носами, как у яла, и кормой наподобие норвежских плашкоутов[23] — такая форма облегчала высадку на берег. Каждая лодка могла принять на борт двенадцать пассажиров или равноценный груз.
В начале нашей кампании возникла сложная и неприятная проблема, связанная с одним из карельских офицеров. Его присутствие в штабе было крайне важным по политическим причинам: он был выдающейся личностью, энергичным патриотом и видным политиком карельского народа и имел большой авторитет, но, к сожалению, он страдал злокачественной формой венерического заболевания, весьма распространенного в этих землях, где очень давно не было ни лекарств, ни медицинской помощи (карелы не видели ни одного доктора вот уже лет пятьдесят!). Перспектива все время — и в помещении, и в походных условиях — находиться в тесном контакте с этим человеком означала постоянную опасность заражения, которой подвергался весь личный состав нашего штаба. Доктор X. Гаррисон, известный автор книг для мальчиков, приписанный к штабу полка, категорически возражал против его присутствия, как и лейтенант Хитон из морской пехоты. Я сам не испытывал по этому поводу никакого восторга, в частности, из-за того, что рапорт о подобном заболевании у британского офицера вызвал бы негодование в Военном министерстве, тем более что его чиновники скептически отнеслись бы к истинной причине болезни. Однако я считал, что в нашей работе нужно преодолевать любые трудности. Нам были даны приказы, и нужно было их выполнять, невзирая на опасности, какой бы природы они ни были. Мне удалось убедить в этом доктора, и он так тщательно следил за чистотой посуды и инвентаря, что никто из нас не подцепил эту заразу; при этом сам карельский офицер и не догадывался о специальных мерах предосторожности — все это благодаря безупречному такту и таланту доктора, за которые мы всегда будем перед ним в долгу.
Подготовка складов с припасами и транспорта была, наконец, закончена. Руководить базой оставался Дрейк-Брокман, прекрасно знавший свое дело. В назначенное время в лодки были погружены припасы и экипажи заняли свои места. Каждый четко знал свои задачи и обязанности. Гребцами были женщины, что значительно увеличивало наши силы. Здоровые, физически сильные и веселые, они привыкли выполнять гораздо больший объем работы, чем ожидается от слабого пола, и с легкостью справлялись с лодками, часто проводя за веслами против течения в 2,5-3 узла весь день с семи утра до семи вечера с единственным перерывом на часовой отдых. Они отвечали за эту работу до самого конца кампании, при этом вечером на берегу в их обязанности входило готовить еду на кострах, которые их мужчины очень ловко разводили за несколько минут в любую погоду с помощью маленьких топориков, висевших на поясах практически у каждого из них.
Наше авангардное и фланговое прикрытие, состоявшее из разведчиков, выдвинулось вечером 15 августа, за день до выступления основной колонны. Штаб полка занимал две лодки и включал капитана Гаррисона из Королевской армейской медицинской службы, лейтенанта Хитона, переводчика сержанта Лакса, шестерых королевских морских пехотинцев, двух карельских офицеров и меня. Место погрузки находилось вверх по течению в миле от моста, и присутствующие навсегда запомнили картину, когда вся флотилия свежевыкрашенных лодок, растянувшихся на милю поперек широкой реки от одного берега до другого, ожидала сигнала к отправлению. Было теплое летнее утро, и на зеркальной поверхности кристально чистой воды, которую лишь изредка нарушал случайный всплеск весла или рябь от легкого ветра, отражалось безоблачное небо, яркие лодки и костюмы их экипажей. Почти в каждой лодке — они были изумрудно-зеленого, синего, белого или красного цвета — сидело по четыре привлекательные женщины в национальных костюмах из яркой юбки, пестрой вышитой рубашки, обнажавшей всю шею, и яркого платка, повязанного на голове. Все они смеялись, пели или перекликались с друзьями, и их голоса вместе с командами, отдаваемыми более низким тоном, и шумом весел, стучащих в уключинах, смешивались в веселый гам, усиливавшийся многократным эхом, которое отражалось в мрачных сосновых лесах, покрывавших берега с обеих сторон. По команде двигаться вперед тысячи весел ударили по воде, взбивая пену. Вскоре, чтобы поймать легкий ветерок, были поставлены маленькие паруса, некоторые из которых оказались сделанными из мешков для муки или из лоскутов, на судах же без столь шикарного оснащения обходились тем, что ставили на нос маленькую елку и поджигали ее, чтобы осветить работу гребцов. Это была свежая картина, полная ярких красок и оживления, и ее просто невозможно забыть.
Наше плавание вверх по течению реки не было чересчур неудобным: мы могли размять ноги, когда приходилось переправляться волоком, а такая возможность представлялась довольно часто. Таких перевалов длиной от 100 ярдов до 18 верст между Кемью и озерами было девять. Некоторые нам удалось пройти, сняв с лодок груз и протащив их по порогам с берега с помощью каната, но в двух местах были водопады, и, чтобы обойти их, нам приходилось тащить лодки по земле. Однажды, пробираясь по лесной тропе по такому перевалу, мы попали в зыбкое болото, где почва пружинила под ногами, уходя вниз на несколько дюймов. Шагать по этому своеобразному надувному матрасу было очень любопытным ощущением; палка, воткнутая в землю, показывала, что толщина почвы была всего лишь шесть дюймов. Здесь трава была красной, листья у кустарников — малиновыми, и даже стволы и кроны деревьев были красными; этот необычный пейзаж тянулся две версты, пока местность вокруг не приняла свой обычный вид. Это жутковатое место напоминало декорации ада из театральных пантомим школьных дней.
Осознав, что нам придется сидеть лицом к лицу с нашими гребцами в течение четырех дней, Григорий решил создать для нас максимально приемлемые условия и для управления лодкой отобрал шесть самых красивых девушек в округе. Пару дней молодые женщины побаивались нас, пока не обнаружили, что могут не опасаться ни расстрела, ни побоев и что мы искренне восхищаемся их силой и умениями. Они пересмеивались и перешучивались друг с другом, и мне очень хотелось понимать их язык, так как несколько раз карельские офицеры смеялись над их шутками, однако отказывались перевести их смысл. Николай объяснял это: «Мы не хотим, чтобы все в лодке покраснели». Они всегда были исключительно скромны и до последнего дня нашего путешествия выказывали нам полное уважение, никогда не заговаривали первыми, пока мы не задавали вопрос, и отвечали всегда лишь по делу. В лодке, где ехал наш эскорт из морских пехотинцев, дела обстояли иначе: для них Григорий выбрал экипаж, уделяя основное внимание физической силе, а не красоте, и им было гораздо интереснее рассматривать окружающий пейзаж, чем своих попутчиков. Впрочем, я должен отдать должное нашим пехотинцам: они всегда вели себя как джентльмены, демонстрируя готовность помогать карелам, учились у них и полностью доверяли своим новым товарищам, на что те отвечали взаимностью.
Произошло лишь одно легкое нарушение приличий: Джонстон, мой рыжий денщик и прирожденный комедиант, как-то сделал вид, что помогает улыбчивой поварихе ставить на костер котел, а сам попытался обнять ее. Его голова раскалывалась еще несколько часов от игривой оплеухи, которую отвесила ему за эти вольности покрасневшая леди. Насколько я помню, это был единственный амурный инцидент в течение нашего путешествия, доставивший удовольствие всем, кроме Джонстона.
День за днем мы плыли вверх по удивительно чистой реке мимо гигантских деревьев, чей цвет постоянно менялся в зависимости от освещения. В темную и мрачную атмосферу сосновых лесов вносили оживление высокие и стройные березы, которыми известна Карелия. В нашем способе путешествия не было ничего монотонного, каждый новый участок реки был не похож на предыдущие, отличаясь цветом и очертаниями берегов, а также разнообразными возможностями для спортивных развлечений. Нам в изобилии встречалась дичь — утки и другие водоплавающие, а в лесу — глухари, тетерева и местная крупная разновидность куропатки; также было много белок и выдр, а один раз мы вспугнули крупного коричневого медведя, который очень удивил нас скоростью своего бегства. Однажды, пройдя крутую излучину реки, мы оказались неподалеку от выводка диких уток. При нашем приближении они не бросились в паническое бегство, и Хитон, отложив в сторону свою вечную книжку, сказал:
«А вот и прекрасный обед! Попробуйте подбить их из револьвера, сэр!»
Мне казалось, что у птиц больше шансов просто испугаться, чем попасть на обед; тем не менее я взял прицел на шесть дюймов выше головы одной из уток, плывшей на расстоянии около сорока ярдов от меня, и выстрелил. Этот выстрел оказался самым удачным в моей жизни: он не только обезглавил утку, но и принес мне совершенно незаслуженную репутацию меткого стрелка, которая сослужила мне хорошую службу во время моих странствий по России, увеличив мой и без того высокий авторитет, поскольку в пересказе карелов эта история ничего не потеряла.
ГЛАВА 4. УХТИНСКАЯ КАМПАНИЯ
Аванпосты противника уже устранила наша головная группа, захватившая Подужемье — деревню, находившуюся у подножья водопада. Там мы устроили первый склад. В это же время наша рота на левом фланге очистила Половину. Мы обнаружили, что противник оккупировал все деревни к западу, разместив там маленькие гарнизоны численностью от десяти до восьмидесяти человек, и построил несколько блокгаузов. Методы, которые использовал Карельский полк для борьбы с вражескими гарнизонами, были практически идентичны и различались лишь мелочами, обусловленными географическими условиями или случайностями. Описания одной операции будет вполне достаточно, чтобы стал понятным весь наш образ действий и составилось представление обо всей компании, закончившейся последним сражением и изгнанием захватчиков. Для этого необходимо рассказать о солдатах, противостоявших друг другу. С одной стороны были карелы, умелые охотники и следопыты, которые могли точно прочитать сообщение, оставленное парой сломанных камышей на берегу реки, погнутой веточкой или пучком травы, плывущим по воде. Возмужав на Северном полярном круге, где жизнь была трудной и приходилось бороться даже за такие основные потребности, как еда, одежда и крыша над головой, они стали крепкими и упорными. Они использовали дымовые сигналы и передавали военные сообщения с помощью маленьких веточек, которые укладывали в определенные фигуры на лесные тропинки или рядом с ними. Они не брали пленных, так как их пришлось бы кормить, а их этика не позволяла отдавать врагу такую ценность, как пища. Более того, карелы воевали за свои дома и за своих женщин.
Целый ряд запросов, отправленных в наше Военное министерство по поводу немцев и финнов, пропавших во время боевых действий в Карелии, позволяет составить представление о качестве противостоявших нам войск. Как оказалось, в их штаб-квартире в Ухте находилось несколько немецких офицеров, кроме того, несколько сержантов-немцев были разбросаны по разным частям. Финны же были в большинстве горожанами. Умелые солдаты, они плохо разбирались в лесу и были посредственными стрелками, однако их пулеметчики действовали чрезвычайно эффективно, до последнего удерживая любую позицию. Их замечательные качества могли бы завоевать им большее уважение, не используй они разрывные пули.
Когда мы принимали решение атаковать какую-либо деревню, мы консультировались с теми солдатами нашего полка, кто был из нее родом. С их помощью составлялась карта подходов, улиц, домов и доступных прикрытий. Разведчики снабжали нас полной информацией о численности и диспозиции противника, и вместе со знанием местности, которым обладали наши солдаты, это позволяло нам относительно легко составить план нападения. Нашим лучшим союзником была внезапность, с которой мы всегда старались атаковать, создавая численное превосходство над противником, наблюдая за выходами, перекрывая пути отступления и не позволяя бежать ни одному человеку, чтобы не выдать наше присутствие. Благодаря этим методам нам всегда удавалось избегать больших потерь.
В нескольких случаях нашу обычную схему атаки приходилось подстраивать под местные условия. Операции в Половине, Гайколе, Панозере, Соповараке, Маслозере и Сопасалме отличались друг от друга лишь в мелочах, но в Юшкозере нам пришлось действовать совсем по-другому. Эта деревня растянулась на три версты вдоль берега реки и была разделена еще несколькими речками и ручьями, что делало внезапную атаку нашими силами почти невозможной. Поздно вечером 27 августа карелы вошли в деревню из леса и окружили вражеские казармы, где к своему удивлению обнаружили лишь десять человек вместо ожидаемых семидесяти. Оказалось, что как раз было время смены, и сорок человек недавно ушли в Ухту, а оставшаяся часть гарнизона была рассредоточена по деревне. Первый выстрел выдал наше присутствие финнам на другом конце деревни, и двое из них помчались вверх по реке за подкреплением. Карелы избавились от примерно тридцати врагов (всех, кого они смогли найти) и бросились в погоню за группой, ушедшей вверх по реке. Тем временем эта группа сама повернула обратно и встретилась с карелами в лесу, в восьми верстах от деревни, где финны оказались в уязвимом положении и после двух часов боя, потеряв часть своих людей, отошли обратно к лодкам, которые находились в верхней части речных порогов. Здесь они угодили в засаду, и лишь немногие сумели спастись на противоположном берегу. Река приняла свою дань ранеными и теми, кто не умел плавать.
С помощью веток, которые складывались в знаки в тех местах, где тропинки делали поворот, разведчики могли передавать следующую информацию:
Дымовые сигналы
Подавались с помощью одеяла, которым накрывали костер из зеленых веток.
1. Много больших клубов дыма — Наступайте
2. Много маленьких клубов дыма — Опасность
3. Один большой клуб дыма — Оставайтесь на месте
4. Два больших клуба дыма — Нужна помощь
5.Три больших клуба дыма — Выдвигайтесь сюда
6. Четыре больших клуба дыма — Все в порядке
Система карельских сигналов и наземных знаков
На следующий день группа противника численностью примерно 250 человек столкнулась с нашей заставой, расположенной на южном берегу у речных порогов, и попыталась выдавить ее в реку. Мы предусмотрели такое развитие событий и разместили мощные подкрепления на обоих берегах реки. Карелы на дальнем берегу зашли в тыл атакующим, в то время как наша южная группа сдерживала их натиск с помощью пулеметов и одновременно обходила их справа. Когда окружение было завершено, пороги оставались единственным направлением отступления. Бой был жестоким, в районе порогов он вылился во множество яростных рукопашных схваток, где каждый боролся до конца. Наш полк захватил три пулемета с лентами и патронами, много автоматических пистолетов и несколько лодок.
Возглавлял «Белую гвардию», как называли себя финны, германский офицер, который погиб у реки вместе с большинством своих подчиненных. У него нашли интересный памфлет, напечатанный на карельском языке и озаглавленный «Почему Англия хочет Карелию». Позднее мы обнаружили, что этот документ распространялся здесь повсеместно, что, без сомнения, стало одной из основных причин, позже толкнувших карелов на определенные предложения. Это также произвело определенное впечатление на Батаяра, офицера французской военной разведки, уже упоминавшегося выше, которому мы переслали этот документ в Кемь.
Захват Лусалмы был ужасающим примером того, насколько безжалостно карелы вели войну. Нельзя не отдать должное блестящему военному таланту карельского офицера, проведшего эту операцию, однако в самом бою совершенно не признавались гуманные принципы ведения войны, за исключением одного, и то сомнительного, но применяемого обеими сторонами: когда быстрая смерть предпочиталась краткому и чрезвычайно мучительному плену. Стороннему наблюдателю, не прошедшему через подобные страдания, сложно оценить чувство, которое испытывал к противнику солдат, чей дом сгорел, а женщины были уведены; также невозможно применить просвещенные стандарты Европы к людям, столь сильно отставшим от нас в социальном развитии, но не менее сложно забыть резню в Лусалме, где враг был окружен, вытеснен на узкий песчаный берег и перебит до последнего человека, причем никто не предлагал и не просил пощады.
Лейтенант Кемпуев, командовавший этой атакой и захвативший два пулемета и довольно много разрывных патронов, вне службы был добрейшим человеком. Помню, как он нес раненого ребенка своего соседа много миль через лес, чтобы того осмотрел доктор Гаррисон. За Ухту он получил Военный крест, но там же был тяжело ранен пулей и желудок, и его в бессознательном состоянии отвезли по реке в наш временный госпиталь, которым заведовала известная акушерка. Она была первой, кого увидел Кемпуев, придя в сознание, и, несмотря на свою слабость, он не мог не пошутить с ней: «Принесите мне новорожденного! Это мальчик или девочка?» Лишь через пять или шесть дней его смог осмотреть сам доктор. Он был очень обеспокоен тяжестью ранения и дал сестре подробные указания по лечению, диете и так далее. Кемпуев слушал все это с интересом, так как ему переводили слова доктора, и потом спросил: «А не вредно ли мне будет съесть “Маконаки”?» Гаррисон ужаснулся такому абсурдному заявлению и прочел пациенту целую лекцию о том, как серьезны ранения в желудок и как глупо нагружать воспаленный орган жесткими галетами, овощами и мясом. Терпеливо выслушав его, Кемпуев заметил: «Я поинтересовался, потому что после ранения съедаю по две штуки каждый день». Через две недели пациент уже ходил, а еще через шесть вернулся к своей любимой винтовке. Доктор всегда считал этот случай неудачной шуткой над медицинской профессией.
По мере нашего продвижения к нам присоединялось все больше и больше добровольцев из деревень, лежавших по обе стороны фронта на расстоянии до ста верст. Мы послали гонца в штаб-квартиру, чтобы доложить об этом. Эти пополнения были весьма кстати, так как, согласно нашим сведениям, численность противника в Карелии превышала нашу в пропорции четыре к одному. Неудивительно наше изумление, когда мы получили срочное донесение, требующее послать всех новобранцев в Колу, чтобы строить для генерала бараки! Мы знали, что генерал делал все возможное, чтобы помочь нам, так откуда мог возникнуть подобный приказ? Мы приписали его штабному офицеру, но нужно было решить срочный вопрос: как обойти его? Можно было, конечно, утопить курьера и сказать, что мы никогда не получали этого сообщения, однако он показался нам хорошим парнем, и, в конце концов, мы нашли компромисс, написав полковнику Маршу, который переслал нам сообщение, что мы не смогли его прочесть и не может ли он послать его заново? Мы знали, что сможем сделать очень многое с помощью наших новобранцев, пока будет идти ответ. Одновременно личное письмо Маршу, который был понимающим человеком и отличным солдатом и мог разобраться в ситуации, сотворило чудеса: он проделал всю работу так эффективно, что нам, в конце концов, разрешили оставить себе всех новобранцев — к нашему огромному облегчению.
Мы организовывали «марши» таким образом, чтобы к началу обеденного времени оказаться в нижней части порогов, и, пока одни перетаскивали грузы и с помощью шеста или каната проводили лодки через пороги, несколько мужчин оставались, чтобы развести костры, и к тому времени, как вся тяжелая работа была закончена, женщины успевали приготовить пищу. Все это делалось удивительно быстро — каждый досконально знал свои обязанности, и никто ни у кого не путался под ногами. Большинство волоков были короткими, некоторые всего 200 ярдов, но два были по миле длиной, а еще один тянулся на три мили. Пороги представляли собой незабываемое зрелище: вода, пенясь, неслась на огромной скорости и разбивалась о скалы, образуя несколько потоков, над которыми поднималось облако водяной пыли с радугой на фоне темно-зеленого леса. У каждого порога мы оставляли охрану и несколько лодок, чтобы ускорить подвоз припасов. Это помогало сэкономить силы и время и не сказывалось на темпе наступления наших войск благодаря лодкам, захваченным у противника или предоставленным нам ликующим населением освобожденных деревень. Наша численность росла с каждым днем.
Из-за необходимости расширять фронт операции по мере нашего наступления мы были вынуждены замедлить продвижение вперед; мы также должны были не отрываться от наших фланговых отрядов, которые уничтожали вражеские блокпосты и гарнизоны в деревнях и действовали на территории в 60 миль по обе стороны от нашего основного направления удара. Между прочим, обнаружилось, что карты, предоставленные нам русскими чиновниками, были крайне неточны: создавалось впечатление, будто топографы не выезжали из Кеми и составляли карту на основе слухов. Во многих случаях города были отмечены миль на пятьдесят в стороне от их реального местоположения, русла же рек рисовались исключительно силой воображения, возможно, основываясь на послеобеденных сплетнях, и лишь изредка — и то случайно — соответствуя действительности.
Мы не могли позволить врагу ударить в наше самое слабое место — растянутую линию коммуникаций и снабжения, поэтому наши фланговые роты проявляли особую бдительность. В этом они были столь усердны, что однажды захватили разведчика — красного финна из отделения майора Бертона; по счастью, они доставили его живым, и мы смогли войти в контакт с его колонной, которая двигалась из Кандалакши к финской границе со стороны нашего правого фланга на расстоянии примерно 75 верст. Похожую ошибку совершили и люди Бертона, захватив одного из наших курьеров, которому из-за этого не удалось добраться до места назначения. Это вызвало сильное беспокойство у генерала Мейнарда, так как он не получал от меня известий и течение семи дней, и, чтобы определить наше местонахождение, он отправил вверх по реке гидроплан.
Самолет прилетел после того, как мы захватили Лусалму, и, согласно сигналам, о которых мы условились перед выходом из Кеми, на иоле на окраине деревни мы разложили простыни, чтобы пилоты могли нас обнаружить. Жители, словно зачарованные, наблюдали за появившимся в небе самолетом, а когда он скользнул на поверхность реки и причалил к нашей посадочной площадке, их эмоции били через край. Многие женщины вышли на улицу, опустились на колени и начали креститься. Я никогда не видел пилотов более смущенных, чем эти два молодых человека, когда они спустились на берег и старухи начали хватать и целовать их руки, очевидно, считая их посланцами с небес. Пилот и его штурман пережили эту встречу вполне благополучно, и я даже думаю, что сильные чувства, проявленные жителями деревни, усилили их энтузиазм по отношению к нашему карельскому предприятию.
Мы были уже готовы покинуть Лусалму, как лейтенант Фрайер доставил документ, который меня сильно расстроил. Чтобы нагнать меня, лейтенант передвигался со средней скоростью 40 миль в сутки, меняя гидов, через реки и болота, по лесным тропинкам — все это в течение трех дней и ночей: весьма выдающееся проявление настойчивости и выносливости. В этом донесении содержалось подробное описание военного положения мурманских сил и, в частности, очень опасное положение Карельского полка <см. Приложение А>. Излагая свои доводы — они были очень убедительны в свете новых тревожных вестей о численности и планах противника — генерал сообщал, что, согласно разведке генштаба, в Финляндии находилось 70 тыс. немцев, и половина от этого числа угрожала Мурманским силам именно через Карелию! Поэтому предполагалось отвести почти все войска к северу, оставив Кемь и железную дорогу к югу от Кандалакши. С теми карелами, которых удалось бы убедить, нужно было отступить к Кандалакше; в случае их отказа генерал мог предоставить нам продовольствие на зиму на 800 человек, однако не мог гарантировать зимнего обмундирования. Британскому составу Карельского полка была дана полная свобода действий в соответствии с их собственным выбором, я не должен был давить на своих подчиненных, чтобы убедить их принять то или иное решение. Однако всем британским офицерам было рекомендовано вернуться в Кемь до конца сентября — по крайней мере, если я не желал остаться здесь в качестве «Короля Карелии». При любом нашем решении генерал обещал оказать всю возможную помощь.
Я был крайне разочарован, более того, на мои плечи был возложен необычайно большой груз ответственности — либо бросить эту землю и ее людей на произвол безжалостного врага, который бы, несомненно, вернулся, или форсировать наступление и постараться закончить за две недели кампанию, которая вполне могла растянуться на полгода. Я всегда был готов выполнять приказы начальства, но я также знал, что бесполезно даже пытаться убедить карелов оставить свою столицу в руках противника, бросив жен, семьи и все имущество. Трудно было представить, что могло подвигнуть их на подобные действия, к тому же приказ исходил от представителей государства, которому они не приносили формальной присяги на верность. Также возникал вопрос о судьбе наших русских друзей и лояльных нам кемских чиновников, беззащитным положением которых не преминул бы воспользоваться Спиридонов со своими большевиками. Мне казалось, что, если мы будем следовать той политике, к которой склонялся наш штаб, это нанесет урон доброму имени Британии, так как местные жители воспримут наше отступление как самое настоящее предательство. Мы обсудили этот вопрос с карельскими офицерами, и они согласились частично выполнить инструкции генерала — после освобождения Карелии послать от 400 до 600 неженатых мужчин в Кандалакшу. После этого я написал полковнику Маршу о решении карелов, а также о моем собственном — оставаться с ними до тех пор, пока не будет закончена эта работа.
В донесении полковнику Маршу я также высказал свое мнение о предложении эвакуировать гарнизон Кеми и о неминуемых последствиях и предложил, чтобы эвакуацию отложили на максимально поздний срок, а также чтобы карелам была предоставлена возможность обеспечить требуемую защиту города. Я добавил, что разведданные, полученные в нашей штаб-квартире, были, без сомнения, подстроены врагом — столь большая численность войск могла существовать разве что в воображении вражеского штаба, — и что в данных карельской разведки нет ни малейшего подтверждения новостей и слухов, получаемых из Швеции и других мест.
У нас имелось несколько хороших агентов — родственников офицеров нашего штаба — которые собирали для нас информацию в Финляндии и в чьей достоверности и лояльности у нас была полная уверенность. По последним данным, полученным от них, вражеские войска в Карелии насчитывали три тысячи человек, практически без резервов.
Через несколько дней нас посетил майор Бертон, преодолевший примерно 100 верст по труднопроходимой местности, чтобы проконсультироваться с нами по вопросу продолжения нашей маленькой войны. Сказать, что он был возмущен, значит передать лишь небольшую часть его чувств. Во время войны офицеры имеют обыкновение меньше сдерживаться в выражениях по раздражающим их вопросам, но Бертон с легкостью превзошел всё то, что я слышал до сих пор; его обороты были настолько витиеваты, что пехотинцы пришли в восторг, а доктор от смущения покраснел. Из того, что нам удалось понять, Гнило ясно его недовольство новыми приказами. Он остался на одну ночь, и на следующий день отбыл в весьма довольном расположении духа, вернувшись к нормальному английскому языку, чему способствовали наши договоренности о дальнейших совместных действиях. Бертон во всех отношениях был большим человеком — храбрый, одаренный и жизнерадостный, он вызывал в людях исключительно симпатию. С того дня мы действовали совместно, в совершенной гармонии, преодолевая все те трудности, что возникали во время нашего пребывания в России.
Карельский полк убедился в настоятельной необходимости изгнать врага за наиболее короткое время. Поэтому мы решили действовать с большим риском, чем в обычных условиях, что неминуемо вело к лишним потерям, которых удалось бы избежать в другой ситуации. На самом деле, эта гонка со временем стала для нас новым стимулом, все выражали большое удовлетворение отменой приказа оставить Карелию и Кемь и разрешением нам с Бертоном продолжить кампанию. Это внесло изменения в наши планы, так как теперь нам не было необходимости защищать нашу базу в Кеми от другого врага <большевиков>, в то же время продолжая сражаться с немцами и финнами.
Время от времени вражеские разведчики пытались проникнуть в тыл нашей главной колонны, но с ними разбирались либо наши речные заставы, либо конвои, сопровождавшие припасы. С одной из этих разведгрупп был связан случай, который в популярной прессе назвали бы «эпическим» и который поднял боевой дух карелов на необычайную высоту. Две девушки из наших женских вспомогательных сил, плывшие на одной из небольших лодок с припасами, оторвались от своего конвоя, чтобы решить какие-то личные и домашние дела в следующей деревне. Трое финских шпионов, которые лежали в лодке, скрытой за тростниками и нависавшими ветвями деревьев, издалека наблюдали за приближением их суденышка. Они дождались наиболее, как им казалось, удачного момента и затем резко выплыли на середину реки: двое на веслах, а третий, балансируя на носу и держа винтовку наизготове, приказал девушкам остановиться. Этот приказ был проигнорирован, и финн выстрелил в них, но из-за своей позиции и раскачивания лодки промахнулся. Он выстрелил еще несколько раз с расстояния чуть менее 100 ярдов — но пуля лишь пробила одну коробку с сухарями. После этого карельские девушки замерли в кажущейся нерешительности и, обменявшись парой слов, развернули лодку и начали грести по направлению к финнам. Эти воины остановились, чтобы наблюдать за приближением своих жертв; один из них всё кричал о карах, которые обрушатся на их головы, и при этом размахивал немецкой гранатой. Девушки гребли изо всех сил, как будто хотели быстрее покончить с этой ситуацией. Когда они приблизились к финнам на расстояние корпуса лодки, те начали выкрикивать указания, проклиная их за неуклюжесть, но вместо того, чтобы послушаться, они резко повернули, направив свою лодку на полной скорости в лодку противника, и ударили ее точно посередине. От удара мужчина, который отложил свою винтовку и наклонился, чтобы схватить планшир другой лодки, потерял равновесие и рухнул за борт. Двое гребцов вскочили, но один от мощного и точного удара веслом тут же последовал за своим товарищем в воду, а третьего навечно успокоило весло с правого борта, которое, описав широкую дугу, ударило его со всего размаха в шею. Девушки нанесли еще несколько ударов веслами, но это уже не играло роли: мужчины не умели плавать. Они исчезли под водой, и позже их тела были найдены в нижней части порогов. Охрана конвоя захватила первого человека и лодку. Акулине и Саше Никулиным[24] была присуждена Военная медаль — думаю, они были первыми женщинами, получившими эту награду.
Карельским девушкам повезло, что они так удачно вышли из этой ситуации, поскольку их судьбе в случае поимки едва ли можно было позавидовать. Обе стороны не отличались милосердием, часто проявляя необыкновенную жестокость. Приведу пример в качестве иллюстрации отношений между завоевателями и завоеванными. Однажды мы продвигались по лесной тропинке, ведущей в обход порогов, и я заметил нечто похожее на старый ободранный мешок, из которого во все стороны торчали лохмотья; он висел на нижней ветке сосны, покачиваясь на ветру. Рядом свисал оборванный кусок веревки. Я спросил Григория, который шел рядом: «Что это, Григорий? Наши разведчики оставили знак?»
Он ответил: «Нет, веревка осталась после того, как мы сняли с нее Бориса Богданова. Финны отрезали ему уши, пальцы на руках и ногах и гениталии перед тем, как повесить его. А предмет рядом — это убитый финн, с которого сняли кожу и набили ее листвой. Он здесь в качестве предупреждения. Карелы — хорошие охотники и могут освежевать все, что угодно, но это не самый лучший пример, так как кожу снимали в спешке, и к тому же он провисел здесь все лето».
Другой раз я спросил карельского офицера: «Почему вы все время носите за поясом топор, Николай?»
«Видите ли, — тут же последовал ответ, — это хорошее и бесшумное оружие для внезапного нападения, к тому же оно очень полезно — если его правильно применять — для выбивания информации из противника». Он улыбнулся и проиллюстрировал свои слова, подсунув кончик лезвия под ноготь большого пальца.
Любое возражение против этих обычаев воспринималось здесь как проявление слабости, поэтому единственное, на чем я решительно настоял, — это отказаться от подобной практики, пока я командую ими. Карелы согласились, но, как я подозреваю, для них это означало лишь то, что я просто не должен слышать о подобных жестокостях. Во всяком случае, больше я с этим не сталкивался, и все остальные шедевры таксидермии, попадавшиеся мне, были старыми и потрепанными погодой.
Но по одному вопросу оказалось сложно достичь согласия. Мне были необходимы пленные, чтобы допросить их и составить более точное представление о силах нашего противника; я был осведомлен об их численности, но оказалось почти невозможным узнать их качество и опыт боевых действий — информацию, которая для меня была крайне важной. Когда я спрашивал о пленных, ответы не отличались разнообразием: «Я прибыл слишком поздно, чтобы спасти кого-нибудь из них…» или «Все погибли в первой же атаке». Генерал Мейнард в каждом сообщении просил прислать пленных, и мне становилось все труднее находить оправдания их отсутствию. Наконец, мне пришла идея — купить одного. Я предложил фунт табака за пленного, если его доставят живым и невредимым. Карелы решили, что я сошел с ума. Предлагать настоящий табак в таких количествах за бесполезного финна, которого придется кормить и которому, что хуже, придется оставить его сапоги! (Стоит отметить, что к этому времени почти весь личный состав Карельского полка носил финские сапоги.) Таким способом я сумел заполучить одного пленного — однако, поскольку больше табака у меня не было, он так и остался единственным. Мне пришлось отправить его под конвоем вниз по реке Кемь, не из опасения, что он сбежит, а чтобы сохранить его жизнь… и сапоги. Он был неплохим парнем, каким-то духовным лицом, однако здесь занимался совсем не своей профессией. Он даже не пытался дезинформировать или лгать нам, и, хотя его информация оказалась бесполезной, его пораженческие настроения и рассказы о Финляндии нас очень ободрили.
ГЛАВА 5. БОЙНЯ В ВОКНАВОЛОКЕ
Между мной и карелами существовало расхождение во мнениях, касавшееся не наших целей, а методов их достижения. Мы соглашались, что эти земли нужно очистить от захватчиков, но карелы хотели истребить всех финнов, я же предпочитал нанести им серьезное поражение и вышвырнуть за границу. Для этой цели с помощью деревенских жителей по ту сторону фронта мы начали щедро снабжать противника ложной информацией, из которой становилось ясным, что наши силы насчитывали свыше 10 000 человек и что к нам быстро прибывали пополнения. Этим историям добавил правдоподобия тот факт, что нам действительно удавалось практически одновременно захватывать деревни, отстоящие друг от друга на 60 верст.
То, что наша дезинформация была столь же эффективна среди финнов, сколько их дезинформация — среди наших людей в Мурманске, показывают их фантастические представления по поводу нашего состава. Через несколько недель финское правительство направило официальную жалобу в наше Министерство иностранных дел на жестокость, проявленную Королевскими ирландскими стрелками при захвате Ребол. Еще одна несправедливость по отношению к Ирландии! Эта политика устрашения ослабила боевой дух врага, который и без этого страдал от постоянных поражений: с того момента, как противник узнал о нашем появлении в этих землях, мы никогда не оставляли его в неведении о судьбе его отдаленных гарнизонов и постов; еще больший удар по его морали нанесли бомбардировки Ухты, проведенные нашим аэропланом.
В Ухте окопалось около 600 человек, которые не испытывали недостатка в боеприпасах и продовольствии. Сама Ухта представляла собой что-то вроде миниатюрного Гибралтара — она стояла на утесах высотой в шестьдесят футов, с запада и юга к ней примыкало большое Ухтинское озеро[25], ширина которого в этом месте достигала восемнадцати верст, с севера ее защищало болото, о котором все отзывались как о непроходимом, к востоку же на две версты протянулись пустые поля, где не было даже листика для прикрытия, так как урожай только что убрали — это создавало идеальный простор для многочисленных пулеметов противника. В Ухте командовал полевой офицер, и то, что нам удалось узнать, свидетельствовало о тщательной подготовке к ее обороне. В распоряжении оборонявшихся было восемь орудийных окопов, столько же пулеметных точек, а также система траншей с огневыми позициями — все это было защищено мешками с песком и колючей проволокой. Таким образом, со стороны озера у противника было надежное прикрытие. Еще больше пулеметов и три окопных миномета простреливали сжатое поле, со стороны же болота их командир ограничился несколькими полосами колючей проволоки.
Во время своего налета гидропланы провели фотосъемку Ухты, и в нашем распоряжении оказалось несколько очень полезных фотографий. Мы знали, что удар с воздуха весьма впечатлил гарнизон и что следующий налет мог бы оказаться не менее эффективным, если бы нам удалось параллельно с ним организовать свою атаку. Эту задачу, однако, оказалось чрезвычайно трудно выполнить, так как у нас не было ни телефона, ни телеграфа, посредством которого мы бы могли связаться с внешним миром — вся связь зависела от курьеров, которым требовалось шесть дней, чтобы спуститься вниз по реке, и девять-десять дней, чтобы добраться обратно, а базой самолетов была «Найрана», находившаяся от нас в 200 верстах. Самолеты оказывали нам неоценимую помощь и эффективно бомбили позиции врага, но из-за упомянутых условий оказалось невозможным скоординировать их налет и нашу атаку. Ее организация под покровом темноты казалась единственной альтернативой сомнительному удовольствию нести неизбежные и тяжелые потери. Однако неожиданно один из разведчиков рассказал, что он знает тропу через якобы непроходимое болото. Эти новости пришлись кстати, поскольку в перспективе они могли сохранить жизни многих карел.
Для нападения была выбрана ночь 11 сентября. Мы дождались, пока с западной части неба не пропадет последний луч, и, когда в лесу окончательно стемнело и все стихло, 600 человек единой колонной начали пробираться по предательскому болоту. Все блестящие части оружия и обмундирования были прикрыты. В полной тишине люди двигались подобно теням, никто не произносил ни слова, даже когда солдаты, идущие в начале колонны, нашли и перерезали проволоку и достигли, наконец, прикрытия сараев, стоящих на отшибе, где они залегли на земле и ждали, пока не подтянулись последние бойцы нашей длинной колонны.
Город находился от нас в четверти мили пересеченной местности, местами заросшей кустами. В окнах горел свет, были хорошо слышны голоса и звуки аккордеона. Шепотом был отдан приказ идти вперед. Карелы рассредоточились по пустырю, но не удалось им пройти и половину пути, как справа раздался крик и звук выстрела, затем секундная тишина, еще несколько выстрелов, очередь и снова тишина. Оказалось, что у противника в замаскированном укрытии был форпост из девяти человек, на который и наткнулись наши солдаты. У врага не было ни единого шанса, однако им удалось предупредить гарнизон своими выстрелами.
Впоследствии мы узнали, что майор Куцман, немецкий командующий, услышав стрельбу, в спешке собрал своих немецких подчиненных, большую часть корреспонденции и местные денежные запасы, которые не успел вывезти его предшественник, скрывшийся в Финляндии за два дня до этих событий с шестью тысячами фунтов стерлингов. Со всем этим он сел на моторную лодку и, взяв на буксир еще десять лодок, сбежал в западном направлении, однако перед этим в заливе и на берегу он с помощью гранат разрушил столько лодок, сколько было возможно в такой спешке. Разумеется, мы не смогли организовать преследование, однако эта стратегия крайне эффективно отрезала путь к отступлению для оставшейся части его гарнизона.
Имевшихся у нас сил было недостаточно, чтобы окружить весь город, и мы сосредоточили внимание на тех местах, где, как было известно, размещались вражеские войска. Казармы противника были захвачены очень быстро. Враг крайне неразумно попытался бежать через тренировочный зал, и результат этого решения напоминал попадание бомбы в траншею на французском фронте — один пулемет поставили в окно, другой — в дверной проход, а тех, кто пытался бежать через другие окна, поджидали штыки. В остальных местах сопротивление было подавлено так же быстро; из всего гарнизона выжили лишь те, кому посчастливилось добраться до леса, но и там они нашли лишь временную безопасность, поскольку их выследили и перебили в течение нескольких следующих дней.
Из захваченной корреспонденции было видно, что в Ухту неоднократно и безрезультатно запрашивались подкрепления, что противоречило докладам разведки в Мурманске и подтверждало нашу правоту.
В наши руки попали орудия, окопные минометы, пулеметы, боеприпасы, много продовольствия и, конечно, оставшиеся лодки. Захваченные в Ухте флаги напомнили нам о том, что у нас до сих пор не было полкового знамени. Чтобы устранить этот недостаток, я написал домой брату и заказал четыре флага с эмблемой нашего полка, в качестве которой, если вы помните, служил зеленый трилистник. Чтобы он выделялся ярче, для фона был выбран оранжевый цвет. Карелы так восхищались этим красивым знаменем, что, в конце концов, выбрали его в качестве национального флага, а когда им объяснили, что три листика имеют религиозный смысл, символизируя веру, надежду и милосердие, флаг был безоговорочно поддержан и церковью. Сам Святой Патрик не стал бы возражать против интерпретации значения, которое нес скромный цветок со склонов Слемиша[26]. Одно из наших знамен развевалось на флагштоке здания городского совета в Ухте, другое — над казармами и зданием телеграфа в Юшкозере, примерно в девяноста милях от Ухты, третье — над казармами в Кеми, и четвертое было поднято под «Юнион Джеком»[27] над зданием штаба Карельского полка на станции Кемь.
Германский штаб и его охрана смогли добраться до большой деревни Вокнаволок, находившейся в сорока пяти километрах в сторону границы. Там они остановились, поджидая подкреплений из Финляндии. В этом месте к ним присоединились еще 200 человек, однако промедление в шесть дней обошлось им слишком дорого: их позиция стала смертельной ловушкой, так как превосходящим силам карелов удалось полностью окружить деревню. Несмотря на возражения карелов, я написал немецкому командующему, предлагая ему и его людям безопасный проход в Финляндию при условии, что они сдадут все оружие и возьмут продовольствие лишь на четыре дня. В этом предложении он, очевидно, увидел ловушку и, к сожалению, отказался сдаться. Второго октября он попытался прорваться к границе, но до нее практически никто не добрался. За один день боев он потерял 214 человек убитыми, после чего беспорядочное бегство продолжалось до самой границы.
Тем временем мне пришлось оставить Ухту, чтобы как можно быстрее добраться до Кеми, где я должен был взять командование над войсками. Уезжал я с легким сердцем, так как ничто не могло помешать полной победе и изгнанию с карельской земли всех захватчиков до единого. Была организована сильная пограничная охрана и тщательно укреплены все стратегически важные пункты. Хитон остался в Юшкозере, чтобы заведовать транспортом и подвозом припасов с помощью портативной радиостанции (карелы проявили поразительную изобретательность, сумев поднять 200-футовую мачту без каких-либо механизмов).
Поскольку опасности со стороны врага больше не было, путешествие вниз по реке показалось несколько скучным — впрочем, это отчасти компенсировалось волнением, с которым приходилось нестись вниз по порогам, а также возросшей скоростью лодок. Местность вокруг изменила свой облик и оделась в осенние цвета. Дикие птицы — лебеди, гуси и утки — собирались в стаи перед отлетом на юг. За очередным поворотом реки больше нельзя было обнаружить два-три утиных выводка, бесшумно уступающих дорогу лодкам: вместо этого очередной плес был либо пуст, либо покрыт сотнями уток; к концу же путешествия мы встречали стаи из тысяч птиц. Гуси вели себя более скромно, чем обычно, и попадались на реке довольно редко, предпочитая озера, более отдаленные от маршрутов людей. Мы хотели подстрелить гуся из стаи, собравшейся на большом озере Панозеро, однако их часовые были настороже и всполошили остальных. В следующее мгновенье туманный воздух наполнился беспорядочными криками птиц и хлопаньем тысяч крыльев, после чего птицы скрылись в предрассветной темноте.
Перед самой Кемью нам посчастливилось увидеть поразительное зрелище — начало массового исхода. В течение последних двух недель во всей Карелии дикие птицы объединялись для отлета на юг, используя военную метафору, сначала в роты, потом в батальоны и бригады, а сейчас слились в огромные армии и поднимались в небо, занимая каждая свою высоту. Воздух был наполнен хлопаньем миллионов — без преувеличения — крыльев. Их стаи шириной в полмили тянулись по небосводу от горизонта до горизонта, на все тридцать верст, что мы могли охватить взглядом, и им не было конца. Глубину этого огромного скопления птиц было трудно оценить: казалось, что лебеди и гуси предпочитали лететь выше, чем утки, поднимаясь на 1000 футов. Обычно они минут пятнадцать маневрировали, чтобы занять нужную позицию, затем, словно услышав какой-то безмолвный сигнал, все разом начинали лететь на юг, соблюдая абсолютную гармонию. Южный край этой огромной массы птиц выстраивался в четкую и прямую, как стрела, линию, на острие которой летели вожаки, за ними стройный порядок постепенно нарушался, и в конце стаи царила полная неразбериха, в которой отстающие птицы торопились занять свои места. Понемногу издаваемый ими шум стихал, и на небе становилось светлее, когда очередная стая исчезала за южной стороной горизонта, оставляя за собой полную тишину и чувство потери, напоминавшее о скором наступлении полярной зимы.
Лишь однажды, когда расстояние между деревнями было слишком большим, чтобы преодолеть его за один день, нам пришлось разбить лагерь на берегу реки. Комары, разбуженные от спячки теплом костров, были очень рады нашему визиту, и к тому же нам уделили самое пристальное внимание крошечные древесные мошки, слишком маленькие, чтобы от них помогала противомоскитная сетка. Карелы рассказали, что эти маленькие бестии не умеют видеть и ориентируются по запаху; казалось, они состоят из одного носа, который крайне любят совать в чужие дела, и это отчетливо отражалось на наших лицах на следующий день.
Условия для ночлега во всех деревнях были одинаковыми — одноэтажные бревенчатые избы с чердаком, где хранилось сено и инструменты, и подполом. Одна половина дома была жилой, во второй держали лошадей или коров. Выступающая веранда[28] защищала дверь от непогоды, щели во внешней двери затыкались изнутри одеялами, шкурами или брезентом. Внутренняя дверь вела из маленькой прихожей, где оставляли верхнюю одежду, в большую квадратную гостиную с натертыми, без единого пятнышка полами. В одной стене обычно было два маленьких окошка с двойными стеклами, все стыки между которыми были проклеены бумагой или законопачены ватой. Четверть площади комнаты занимала огромная кирпичная печь высотой примерно пять футов. На ее верху было устроено спальное место для семьи, которым пользовались зимой, а также летом в те дни, когда не пекли хлеб. В углу стояли неизбежные иконы, под которыми обычно горела маленькая красная лампадка с ароматизированным маслом. Деревянные стены были пустыми, лишь иногда на них висели рождественские картинки из финских или шведских, реже русских журналов. Мебель обычно состояла из белого отполированного стола, двух скамеек без спинок, и иногда двух кресел в виндзорском стиле, стоявших в противоположных углах комнаты. В любое время дня и ночи был готов кипящий самовар. Дом вентилировался с помощью трехдюймовой трубки, идущей сквозь стену; когда требовалось, ее внутренний конец затыкали круглой пробкой.
В России в избах был особый запах, скорее приятный, чем наоборот, несколько похожий на тот, что можно почувствовать в деревенских домиках в Ирландии, отапливаемых торфом — смесь из запахов кожи, сигарет, древесного угля и клопов. Впрочем, в одном эти запахи сильно различались: здесь присутствовал очень необычный мускусный аромат, который легко узнавал любой знающий человек. Этот маленький зверек живет в мхе, который прокладывают между бревнами во время строительства дома, и русские очень трепетно относятся к этим домашним питомцам, особенно когда они появляются в самый несвоевременный момент. Однажды после обеда в русском доме я завоевал антипатию хозяев, застрелив прекрасный экземпляр из маленького карманного пистолета. Мне казалось, что выстрел получился исключительно удачным, поскольку он настиг маленькую и проворную цель на расстоянии четырех футов, но хозяин дома его совершенно не оценил. Есть в местных домах и другой жилец, пригретый теплом русской печи, которая служит ему и инкубатором, и штабом, — таракан. Его длина нередко достигает двух дюймов от усов до хвоста, питается он крошками, которые буквально сметает с пола и других мест. Он не нападает на людей, однако издает раздражающие звуки, щелкая и шурша долгими душными ночами. Если его потревожить во время этих ночных операций, он развивает удивительную скорость и с шумом скрывается в укрытии. Когда тараканов становится слишком много, русские зимой оставляют дом на несколько дней, чтобы остыла печь, и открывают все двери и окна. Арктический мороз избавляет их от этой проблемы.
Егор, наш широколицый неунывающий рулевой, был замечательным лодочником; он знал все камни, течения и мели на двести миль и безопасно провел нас через все пороги, включая три мили бурлящей воды за Панозером. Можно было учиться навигации, просто наблюдая за его работой. Он мог резко повернуть рулевое весло и отдать приказ гребцам (на этот раз мужчинам), которые тут же его выполняли: одна сторона начинала грести, а другая поднимала весла, или же все начинали мощно грести, чтобы уйти от опасной подводной скалы или скрытого течения. Если начинаешь долго вглядываться в воду по ходу движения, то возникает странное чувство, будто лодка никуда не движется; рядом с ней медленно, словно в замедленном кино, встает большая волна и угрожает обрушиться на нас, но потом постепенно убывает, и на ее место встает новая. Ощущение движения возвращалось только при взгляде на берег реки или на скалу, торчащую над поверхностью воды; казалось, что эти объекты проносятся мимо на огромной скорости, как местность, мелькающая за окном скоростного поезда. Это ощущение было приятным и напоминало скачку по открытой местности на быстро несущейся лошади или спуск на гоночном бобслее.
Заслуживающий упоминания случай произошел на водопаде в Подужемье. После дружеских споров по поводу возможности преодолеть этот опасный участок на лодке двое известных в этих краях лодочников решили попробовать — не ради денежного вознаграждения, а ради славы и почета. Мы предлагали им деньги, чтобы они взяли пассажиров, однако они отказались. Сначала они тщательно изучили все скаты и проследили направление основного течения вплоть до самого водопада, затем сели в лодку — старый бородатый мужчина на руле и карельский сержант со сложением Геркулеса за веслами. Мы стояли на скалах у вершины водопада и смотрели вниз на пятидесятифутовый каскад бушующей воды, в котором перепад высоты достигал двадцати футов. Вода неслась по разбитому руслу мощным и быстрым потоком, повороты которого были внезапными и непонятными и, без сомнения, формировались скалами, скрытыми под поверхностью воды, после чего с грохотом падала в небольшой бассейн. Маленькая лодочка подплыла к краю порога, ее рулевой припал к корме и пристально вглядывался вперед, а второй мужчина медленно греб вперед. Затем, как только нос лодки начал клониться вниз, сквозь грохот воды мы услышали, как рулевой что-то прокричал своему товарищу, после чего тот начал грести изо всех сил и всем весом своего тела. Нос лодки слегка приподнялся и, описав кривую, полностью показался из воды, и лишь треть лодки и рулевое весло оставались в контакте с нисходящим потоком; потом, как нам показалось, лодка на какое-то мгновение зависла в воздухе и исчезла в облаке водной пыли внизу. Мы решили, что она потеряна навсегда, однако через какой-то промежуток времени, стоивший нам немало нервов, наполовину затопленное суденышко появилось из тумана и густой пены с промокшим до нитки, но торжествующим экипажем. Подвиг лодочников поразил наших морских пехотинцев больше, чем все остальное, что они видели в этой стране.
По возвращении в Кемь я через генерала Мейнарда направил в Военное министерство запрос касательно вдов и сирот солдат, погибших в боевых действиях, а также осведомился, какого рода помощь может быть оказана инвалидам. Карелы не были частью британской армии и не приносили присяги на верность, и подобный случай на моей памяти не имел прецедентов. Военное министерство, в свою очередь, спросило, есть ли у меня какие-либо идеи. Я к тому времени обдумывал возможность организации торговли мехом, что позволило бы создать фонд для этих целей, и это предложение было одобрено Военным министерством. Майор П.Дж. Маккези дал несколько ценных советов по поводу финансового учета, которые помогли нам избежать проблем в будущем.
Затея с торговлей мехом увенчалась полным успехом. Охотники доставили нам отличные шкуры рыжей и черно-бурой лисы и несколько шкур серебристо-черной лисы. За них мы заплатили от 10 до 30 шиллингов и продали их нашим офицерам по ценам от 12 до 16 фунтов стерлингов за каждую! Также было продано несколько рысьих, куничьих и горностаевых, довольно много лосиных и несколько тысяч заячьих шкур. Несмотря на наши баснословные доходы, покупатели также были чрезвычайно довольны: нескольким офицерам, уезжавшим в отпуск, за шкуру лисы давали 35 фунтов, а в Лондоне за одну шкуру серебристо-черной лисицы предложили целых 75 фунтов.
Учет велся офицером, который в свободное время между войнами работал профессиональным бухгалтером, поэтому при отъезде из России вся наша бухгалтерия была в полном порядке: были выплачены все пенсии за три месяца, а в активах оставалась отличная моторная лодка с двигателем мощностью 10 лошадиных сил и 600 фунтов стерлингов деньгами. В конце концов Военное министерство согласилось выплачивать пенсии карельским вдовам и сиротам и пособия солдатам-инвалидам.
ГЛАВА 6. ПОЕЗДКА В СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
Прибыв в Кемь, мы обнаружили, что за время нашего отсутствия здесь многое изменилось. Проводилась какая-то политика, однако ее конечная цель оставалась неясной для тех из нас, которым великие не доверяли свои тайны. Было очевидно, что на политическом море появились течения и водовороты, которые угрожали поглотить чисто военные соображения и вовлечь нас в лабиринт интриг.
Капитан Дрейк-Брокман очень обрадовался, когда с его плеч была снята ответственность за Кемский район. К этому времени здесь появилось несколько небританских офицеров, которые были значительно выше его по званию и, как следствие, не слишком помогали ему в этой трудной работе. Однако благодаря проявлению неординарного такта и дипломатии ему удалось сохранить хотя бы внешнюю гармонию в отношениях между разнородными частями и конфликтующими интересами, представленными сейчас в командовании. Прибыла еще одна рота сербов под командованием одного или двух пылких младших офицеров, чьи представления о времяпрепровождении значительно отличались от тех, что были приняты среди «высших фронтовых кругов», как мы говорили во Франции. Один из этих молодых людей в ответ на протесты матери, к чьей дочери он проявлял преувеличенное внимание, выставил пожилую леди из ее собственного дома и поставил часового, чтобы она не могла вернуться! Также прибыла французская гаубичная батарея, которая не доставила никаких проблем и оказалась весьма полезной. Однако контингент <белогвардейской> Новой Мурманской армии был совсем иным делом. Офицерами в ней служили люди, которые, согласно данным нашей разведки, были настроены против союзников и создавали нам всевозможные помехи. Дружба между союзниками и этими русскими офицерами не сложилась, не было и братания между нашими и их солдатами. В городе, где до появления белогвардейцев к нам относились по-дружески, теперь за редкими исключениями боялись не только проявлять гостеприимство по отношению к нам, но и просто быть замеченными в нашем обществе. Администрация мурманской армии постоянно пыталась подорвать наше влияние и авторитет среди карелов, при этом одновременно генерал Мейнард получал доклады, согласно которым карелы всё это время только и ожидали удобного случая, чтобы восстать и убить всех британцев в Карелии. Такие попытки не прекращались вплоть до нашей эвакуации из России и вызывали совершенно ненужные трения между нами и штабом генерала Мейнарда. Влияние этой пропаганды на наш мурманский штаб было очень большим, и мне кажется, что я сам стал объектом подозрения, хотя оставалось непонятным, должен ли я был «восстать» вместе с карелами и содействовать расправе над моими соотечественниками или просто захватить Россию ради каких-то собственных целей и водрузить над Кремлем черный флаг с черепом и костями.
Помимо этих затруднений, наши войска атаковала эпидемия гриппа в той смертельной форме, которая в 1918 г. словно косой, прошлась по Европе, наиболее сильно затронув Англию. Очень пострадала рота морских пехотинцев Дрейк-Брокмана, и мы часто находили карельские лодки из числа тех, что подвозили нам припасы, вытащенными на берег реки рядом с избушкой, внутри которой лежал мертвый экипаж. Немало людей потеряла и сербская рота.
Постоянные интриги русских в Мурманске заставили нас в интересах нашей безопасности организовать и развивать собственную контрразведку. В этом отношении нам повезло, поскольку мы нашли способного и опытного офицера из бывшей царской полиции, Мащерина, который в данный момент был капитаном мурманской армии, приписанным к Кеми, и имел откровенно пробританские взгляды. У Мащерина имелись друзья на почте, на телеграфе и на железной дороге, и поэтому он находился в отличной позиции для сбора «внутренней информации», с помощью которой он предотвратил три покушения на мою жизнь. Может показаться странным, что эти покушения организовывались нашими русскими союзниками, тем более что нашей целью — по крайней мере, формально — было оказать им помощь против давления большевиков с юга, и мне в голову приходят два объяснения: ревность или то, что мурманские войска были уже заражены вирусом революции. Возможно, истина крылась где-то посередине, однако я все-таки склоняюсь в сторону последней причины и считаю, что именно она была основной. Весьма показательно то, что русские солдаты в Мурманске отказались от привычки, привитой им собственными офицерами и еще недавно бывшей в порядке вещей, — уступать дорогу проходящему мимо офицеру, будь то русский или британец.
Первое покушение было предотвращено Мащериным и его агентами в самом начале. Из Мурманска в Кемь послали двух людей с единственной целью способствовать моей скорой кончине, но, поскольку нас заблаговременно предупредили об этом замысле, их встретили на вокзале, допросили русскими методами и внесли некоторые поправки в их дальнейший маршрут. Мне никогда не говорили, что стало с ними, однако через несколько месяцев в Кемь из Мурманска пришло шифрованное письмо с запросом об их местонахождении; оно не было адресовано мне, однако попало в мои руки по обычным каналам. Размышляя над ним, я был не слишком удивлен тому, что они не вернулись в Мурманск: Мащерин, находившийся в крайне деликатном положении, едва ли мог позволить им уйти.
Русские методы допроса в подобных ситуациях были, мягко говоря, грубыми, но давали немедленные результаты. Первым делом с человека срывали верхнюю одежду; потом, встав перед ним и медленно, с намеком поглаживая ремень кнута, Мащерин задавал четкие вопросы и требовал немедленных ответов. Если ответы были недостаточно быстрыми и полными, он наносил жертве три сравнительно сильных удара, и обычно этого хватало, чтобы добиться желаемой информации. В том случае первый из наших гостей, приведенный на допрос, отказался говорить, опасаясь, без сомнения, последствий разглашения имен своих хозяев. Его упорное молчание вынудило Мащерина применить кнут в полную силу, и удары, наносившиеся мужчиной весом в семнадцать стоунов и ростом шесть футов и три дюйма, выбили из жертвы то, чего не удалось добиться одним предупреждением. Имена и все другие необходимые детали были получены, однако к концу допроса его жертва лежала без сознания сплошной кровоточащей массой.
Полученная таким образом информация была подтверждена вторым пленным при схожих обстоятельствах.
Благодаря своим специфическим талантам Мащерин оказался для нас незаменимым союзником. Вскоре он стал хорошим другом всех британцев. Я думал, что хорошо знаю его, пока мне не стало известно о его методах допроса, что вынудило меня осознать огромную разницу между русским и нашим отношением к подобным вопросам. Когда я приказал ему больше не применять пытки, он решил, что я сошел с ума, и я не могу поручиться, что в дальнейшем он не нарушал мой приказ.
Исчезновение двух первых тайных агентов не удержало их хозяев от повторных покушений, которые были организованы несколько месяцев спустя. Посланные ими люди были вновь перехвачены, и у меня не имеется никаких сведений об их судьбе, за исключением рапортов о том, что время от времени их тела видели в разных прорубях на реке. Было организовано и третье неудачное покушение, не отличавшееся от двух предыдущих, но на этот раз агенты просто струсили, что и обусловило его неудачу. Если бы эти методы дали желаемые результаты, то в моем убийстве, без сомнения, обвинили бы карелов.
Поскольку прямолинейный подход оказался на удивление неэффективным, была предпринята попытка разрушить хорошие отношения между карелами и нами. В Карелию из Полярного круга, станции, находившейся поблизости от нашей северной границы, была послана группа из восьми человек с приказами использовать всю возможную пропаганду против британцев, чтобы убедить карелов уйти из Кеми. Основная цель заключалась в захвате всех складов с припасами, созданных нами вдоль реки. Я могу представить себе, как поступил Карельский полк с этими людьми. Их участь так и осталась неизвестной.
Эти события были всего лишь незначительными эпизодами в очень хлопотное время, в течение которого мы пытались доставить в Карелию продовольствие в достаточном количестве до того, как прекратится сообщение по рекам. Между тем временем, когда реки покроются льдом и плыть по ним станет невозможно; и тем, когда лед станет достаточно толстым, чтобы выдержать вес лошадей и груженых саней, был промежуток в шесть недель или даже больше. К этому времени нам удалось убедить руководство, что в продовольствии и одежде нуждались не только принятые на службу солдаты, но и гражданское население, у которого враг отобрал весь скот и хлеб и которое без незамедлительной помощи было обречено на голодную смерть. Чтобы доставить припасы в огромный малозаселенный район общей площадью 20 тыс. кв. миль, нам пришлось проделать огромную работу.
Время от времени до меня доходили обрывки разговоров о знаменитом монастыре, расположенном на Соловецких островах, которые лежали примерно в тридцати милях к северо-востоку от Попова Острова. Я знал, что наши военно-морские силы разрушили телеграф, принадлежащий монахам, но, поскольку Соловки не были подчинены кемскому командованию, благополучие монастыря меня не очень волновало.
Однажды утром я был крайне удивлен, обнаружив, что в штабе меня поджидают три достопочтенных благочестивых человека с письмом от архимандрита, т. е. архиепископа Соловецкого монастыря, в котором содержалась просьба обеспечить защиту на зимние месяцы, когда по льду Белого моря с материка к ним смогут с легкостью добраться банды вооруженных бандитов. Он писал, что у монахов нет ни физической защиты против насилия и агрессии, ни навыков обращения с оружием, несмотря на то, что у монастыря имелась полностью укомплектованная батарея современных двенадцатифунтовых орудий, подаренная им царем, и не могли бы мы прислать батальон британских солдат, во имя всего святого! Выразив сожаление по поводу того, что в настоящее время у нас не было запрошенного числа солдат, я сказал, что мы постараемся сделать все возможное, чтобы найти выход из этой ситуации, и высказал свое твердое мнение, что батарея, скорее всего, станет желанной добычей для людей со злыми умыслами, которые могут напасть на монастырь, чтобы захватить ее и использовать совершенно не по назначению, и что эти орудия следует поручить нашей опеке в Кеми, в то время как для монастыря их отсутствие будет означать большую безопасность. Я решил, что эмиссарам совершенно излишне знать о реальной численности британских частей в Кеми, которая в то время составляла около 250 человек. В результате длительных переговоров между нами и архимандритом мы отправили на Соловки Славяно-Британский Легион, состоявший исключительно из русских, который должен был защищать монахов в течение опасных месяцев, а взамен архимандрит должен был перевезти батарею двенадцатифунтовых орудий в Кемь. Однако мои мечты о Королевской ирландской карельской конной артиллерии так никогда и не материализовались. Об орудиях узнал генерал Айронсайд[29] и до того, как их успели отправить, заявил на них права архангельских сил. Архимандрит, проявив изрядный дипломатический талант, сыграл на противоречиях между Архангельском и Кемью, и мне кажется, что в конечном итоге он сохранил их за собой. Спор за эти орудия принял настолько серьезный оборот, что генерал Айронсайд лично приехал из Архангельска в Кемь, чтобы «обсудить эти вопросы». С ним было сложно спорить по многим причинам, но в первую очередь из-за его личных качеств, если не принимать во внимание старшинство по званию. Когда следующей весной вскрылось море, из Кеми на Соловки был отправлен маленький пароход, чтобы забрать оттуда нашу охрану. Я воспользовался этой возможностью, чтобы принять многочисленные приглашения архимандрита в гости и лично поблагодарить его за отличное отношение к своей охране, а также за добрые пожелания и копченого лосося, которого он часто посылал к нашему столу. Корабль двигался медленно, так как ему приходилось постоянно маневрировать, обходя льдины, и у нас имелось много времени, чтобы изучить цель нашего визита с расстояния в несколько миль. Земля была низкой и тщательно возделанной, почти без деревьев, и взгляд сразу останавливался на самом монастыре, который по площади занимал много акров и был окружен серыми, мрачными и неприступными стенами с бойницами. По углам стен стояли массивные башни, также с бойницами, через которые простреливались все мертвые зоны. Это был настоящий город-крепость. Его вид оживляли десятки стройных белых башенок, покрытых ярко-зеленой медью, которые поднимались над стенами, и огромный византийский купол собора, доминировавший над всем островом. В солнечную погоду его можно было увидеть с моря с расстояния во много миль.
Вид на Соловецкий монастырь, весна 1919 г.
Приблизившись, мы увидели добротно построенный волнорез, за которым скрывалась гавань, вмещавшая четыре или пять пароходов средней грузоподъемности и целый флот рыбачьих лодок, принадлежавших монастырю. О том, что здесь останавливаются и более крупные суда, свидетельствовал сухой док и несколько подъемных кранов на пристани.
После того, как послушники с выбритыми макушками в коричневой одежде и в русских сапогах вместо сандалий пришвартовали наш корабль к пристани, нас поприветствовала группа священников в черном платье, на головах которых были обычные высокие черные головные уборы, закреплявшиеся длинными черными лентами. Меня с Менде (моим переводчиком) провели по длинному разводному мосту через ров, затем сквозь массивные железные двери в большой каменный зал без каких-либо украшений или мебели и далее по нескольким каменным коридорам к самому архимандриту.
Он ждал нас в светлой солнечной комнате, где из мебели был лишь чистый, без единого пятнышка стол из светлого дерева и несколько деревянных стульев; впрочем, от любой комнаты, где присутствовал архимандрит, оставались лишь самые смутные воспоминания. Его общество производило неизгладимое впечатление. Высокий мужчина, одетый в простое черное платье и в высоком головном уборе, соответствовавшем его положению, — единственным, что разбавляло черный цвет, был золотой русский крест, висевший на шее, — он не нуждался ни в каких знаках отличия, чтобы в нем признавали лидера и руководителя величественной и древней организации. Я никогда не встречал человека с таким необычайным личным магнетизмом. Абсолютно черная борода окаймляла его мертвенно-бледное лицо, а глаза, передававшие больше доброты и расположенности, чем способно любое слово, создавали впечатление глубокого интеллекта и знаний, подобных которым я не видел ни у одного человека. Он излучал вокруг себя атмосферу абсолютного спокойствия.
В тот момент я еще не понял, что он мог читать мои мысли, как открытую книгу, — осознание этого пришло внезапно, когда я обнаружил, что он все время отвечает на вопросы, о которых я подумал, но еще не успел задать. Мне пришло в голову, что эта способность делает меня уязвимым в случае переговоров по поводу орудий или по любым другим интересующим меня вопросам.
Мы в полной мере ощутили гостеприимство архимандрита за его столом, на который подали превосходно приготовленную рыбу, свежий хлеб и молоко, в то время как наш хозяин, питавшийся один раз в день, ограничился тарелкой сычужка. Он рассказал нам много интересных фактов, связанных с историей монастыря, который был основан в десятом или одиннадцатом столетии и был вторым по значимости в Российской империи. Всего в нем находилось 1200 монахов, но сейчас здесь осталось жить менее половины от этого числа, хотя было много послушников, трудившихся на фермах, на рыбачьих лодках, на пароходе или занимавшихся другой работой или ремеслом. Было видно, что только для поддержания зданий монастыря в таком прекрасном состоянии требовалось много постоянных работников. Кроме того, вся одежда на острове ткалась и изготавливалась вручную, нужно было выделывать кожи, шить сапоги и сандалии, молоть муку, печь хлеб, а еще плотничать и работать в кузнице — судя по всему этому, население острова было весьма значительным. Монахи сами построили свой пароход и рыбачий флот и соорудили сухой док, глубоководную гавань и очень эффективный волнорез. Они также построили три огромных четырехэтажных общежития, в каждом из которых могло уместиться по 700 паломников. Вся еда поставлялась с ферм, на них же выращивались сотни голов прекрасного скота херефордской породы и много породистых свиней. Местное молочное хозяйство было самым большим, современным и гигиеничным из всех, что я видел.
Дороги здесь были лучше, чем на континенте, хотя в сравнении с английскими все-таки проигрывали, однако они часто оказывались под водой, когда с востока дул сильный ветер и вода поднималась, затапливая низкий берег. Когда мы ехали по дороге на местную ферму, монах, сидевший за рулем «Форда», остановился и вышел из машины, чтобы согнать с дороги семейство белых куропаток. Архимандрит объяснил эту необычную ситуацию, рассказав, что на острове существует закон, запрещающий убийство любой живой твари, и поэтому он в течение сотен лет оставался для птиц убежищем. Среди цветов по обеим сторонам дороги высиживали свои яйца морские птицы, не обращавшие ни малейшего внимания на проезжающих мимо людей и проявляющие признаки раздражения лишь в тех случаях, когда мы щелкали фотоаппаратом в шести футах от них. Птицы продемонстрировали видимое волнение лишь однажды, когда по тропинке к ним спустился монах с остатками рыбы, предназначавшейся на их стол — кайры, бакланы и чайки, высиживавшие яйца, оглушили нас своими хриплыми голосами, стараясь привлечь к себе внимание.
Сады монастыря содержались в условиях, не уступающих Хэмптон-корту[30]. В них в изобилии росли растения и цветы, в существование которых рядом с Северным полярным кругом едва ли можно было поверить. Тропинки петляли мимо живописных белых стен общежитий, школ, часовен и храмов, украшенных изображениями святых в двадцать футов высотой с золотыми нимбами, которые занимали все свободное пространство, а в каждой нише стояла раскрашенная деревянная фигура. Высоко на стенах одного большого храма я увидел круглые темные проемы, покрытые стеклом, под которыми была видна надпись, сделанная крупными буквами. Мне не без гордости указали на проемы и рассказали, что они остались от бомбардировки английским флотом во время Крымской войны: оказалось, что несколько судов проникли в Белое море и атаковали Соловецкий монастырь. Я извинился перед архимандритом за эту неучтивость, объяснив, что это было задолго до меня; он принял мои извинения с улыбкой и добавил, что и сам не был в монастыре во время бомбардировки, но испытывает гордость за эти небольшие следы истории, и показал мне большую груду древних ядер под деревянным навесом, стоявшим на резных колоннах.
Из садов можно было лучше оценить красоту и изумительные узоры высоких башен с их куполами, здания со множеством окон, прекрасные старые витражи часовен и идеальные пропорции высокой колокольни с огромным, низким по тону колоколом, который, как нам говорили, можно было услышать в любом уголке острова.
Свежий воздух и солнечный свет остались позади, когда нас повели в главную трапезную по длинным, тускло освещенным коридорам, в которых каменный пол был за многие годы отполирован ногами, обутыми в сандалии, а стены были украшены длинными рядами икон и картин на религиозные темы — иногда их окружала красивая каменная резьба. Воздух здесь, как и во всем монастыре, был пропитан запахами ладана и кожи. Трапезная оказалась круглым залом диаметром примерно 100 футов с таким низким сводом, что я был весьма удивлен, не обнаружив в центре поддерживающих колонн: весь его огромный вес лежал только на внешних стенах. Потолок также украшали фрески на религиозные темы — ими было покрыто все пространство свода. Некоторые из них показывали необычайный талант автора. Мне сказали, что большинство фресок было создано в XVII в., хотя некоторые были гораздо старше. Их несколько раз реставрировали и постоянно подновляли, чем отчасти можно было объяснить яркий цвет красок. В центре стояли длинные столы и простые деревянные скамейки, отполированные до снежной белизны, каменный пол блестел, как полированный мрамор, благодаря постоянной уборке и босым ногам братии этого старинного ордена, поскольку в этой части монастыря монахи не носили обувь.
На раке, которая находилась перед поставленными в линию столами, сверкало величественное золотое распятие. Оно было единственным предметом на уровне глаз и привлекало внимание, затмевая все остальное вокруг.
Из трапезной мы пошли в оружейную комнату, расположенную в укрепленной части монастыря, и по дороге прошли по множеству коридоров, миновали несколько железных дверей и поднимались по каменным лестницам, пока, наконец, не оказались в галерее, проходящей внутри внешних стен. Ее ширина достигала четырнадцати футов, чтобы в случае нападения защитники крепости могли свободно перемещаться из одного места в другое. Ширина внешней части стены составляла примерно двенадцать футов, с бойницами через регулярные промежутки, и камни в кладке были настолько хорошо подогнаны друг к другу, что для поддержания идеального состояния стены практически не требовалось внимания. Оружейная комната находилась за массивной железной дверью. Она представляла собой большое и освещенное электричеством помещение со сводом и располагалась в одной из боковых башен рядом с воротами, однако, в отличие от трапезной, ее крыша поддерживалась множеством колонн. Содержимое комнаты было изумительно по количеству и разнообразию, составляя целый — необычайно интересный — музей. Вдоль стен были расположены стойки со всеми видами оружия в его долгой эволюции от длинных луков и стрел до пулеметов образца 1914 года. Алебарды, боевые топоры и булавы, копья, пики, аркебузы, мушкеты, пистолеты, револьверы и автоматическое оружие — все это было расставлено в хронологическом порядке, начинаясь слева от входа, и каждый экземпляр находился в идеальном состоянии, начищенный, смазанный и готовый к использованию. Между стойками с оружием стояли доспехи, тоже в прекрасном состоянии. Нам рассказали, что некоторые из них были собственностью крестоносцев. Один из доспехов наверняка принадлежал кому-то из высших чинов того времени, поскольку он был очень красиво инкрустирован причудливым узором из золота.
Любопытное доказательство происхождения русских можно было увидеть в отчетливо восточном характере ранних экземпляров оружия, в изогнутых лезвиях и легкой рукоятке мечей и утонченном, почти женственном орнаменте копий и пик. Некоторые старинные катапульты были сделаны очень искусно, и тем более удивительно было изучать их при искусственном освещении, к тому же когда рядом находился еще и телефон. Меня настолько увлекли предки артиллерии, что архимандриту пришлось довольно настойчиво предложить мне осмотреть сокровищницу. Это звучало не менее интересно, а когда к нам присоединились два огромных монаха, бесшумно скользивших за нашими спинами, стало совсем захватывающе. Хозяин объяснил присутствие охраны существовавшим в монастыре строгим правилом, согласно которому сокровищницу можно было открывать только в присутствии трех старших священников; от нее был всего лишь один ключ, который он всегда носил с собой.
Скрытая дверь увела нас в лабиринт проходов и лестниц, пока мы наконец не остановились перед металлической дверью высотой примерно шесть футов, шириной два с половиной и толщиной три дюйма. Она была выкрашена в зеленый цвет — без сомнений, для защиты, поскольку была сделана из чистого золота. В этой большой квадратной палате не имелось окон, зато было много электрических ламп, и мне дали понять, что внутри было много различных хитроумных ловушек, чье устройство, конечно же, нам не раскрыли. Стены были покрыты бесценными старинными гобеленами и золотой вышивкой, на внутренних колоннах висело много золотых ламп, распятий и икон, а также мечи, инкрустированные драгоценными камнями, и прочие подобные украшения. В стеклянных ящиках вдоль стен и в центре комнаты находились изящные миниатюры с портретами российской императорской семьи, резные орнаменты из слоновой кости, золотые подсвечники, а также иконы, сделанные из золота, слоновой кости и перламутра. Однако, на удивление, многие ящики оказались пустыми, хотя вельветовые подушечки под стеклом еще оставались примятыми, словно на них лежало что-то тяжелое, и под ценностями, которые нам разрешили осмотреть, проступали следы других предметов, отличающихся по форме.
Мы осмотрели великолепную и ценную коллекцию предметов искусства, но, я убежден, так и не увидели настоящие сокровища. Особенно обращало на себя внимание отсутствие бриллиантов, изумрудов и рубинов, хотя эти драгоценные камни являлись довольно популярным подарком русской церкви от ее богатых прихожан. Думаю, что здесь было принято прятать сокровища от посторонних глаз во время подобных экскурсий в качестве меры предосторожности, из-за чего мы так и не увидели ни один из роскошных даров, которыми, согласно слухам, покойный царь осыпал монастырь в 1913 году.
Наконец, мы прошли в личную часовню Его Преосвященства, где он подарил мне прекрасную икону, освященную им самим. После этого он в течение нескольких секунд пристально глядел на меня, не произнося ни слова. Не знаю, было ли это гипнозом, но эффект был таким же освежающим, как от здорового сна.
Вернувшись на борт парохода и покидая гавань, я ощущал сильнейшее желание еще раз вернуться в Соловецкий монастырь. Но этому желанию не суждено было сбыться. Маленькая колония, строительство и организация которой заняли почти семьсот лет труда, которой многие поколения мастеров дарили свои лучшие шедевры живописи и резьбы, и в которую цари, князья, дворяне и паломники несли богатые дары, чтобы она в течение этих веков сохраняла свое благосостояние, — это мирное место, где бесчисленные тысячи усталых и отчаявшихся душ нашли утешение, сейчас превратилось в большевистский лагерь для смертников, из которого еще ни одному заключенному не удалось вернуться живым.
ГЛАВА 7. ЗАГОВОРЫ ПРОТИВ СОЮЗНИКОВ
Летом <1918 г.> руководство железной дороги построило на станции два новых деревянных здания, в которых предполагалось устроить служебные помещения, однако в качестве альтернативы старому театру или железнодорожному вагону мы выбрали их под нашу зимнюю штаб-квартиру. Огромную помощь в обустройстве нам оказал лейтенант Кеннеди, сапер, когда-то бывший лондонским актером и офицером известной во всем мире канадской конной полиции. Он проявил незаурядную смекалку, раздобыв отличные внутренние планы помещений и, что было еще важнее, электрогенератор, благодаря которому мы стали независимы от железнодорожного и городского электроснабжения со всеми вероятными неудобствами, которые могли бы вытекать из этой зависимости. Он подобрал старый выброшенный паровой двигатель, а также «нашел» где-то за пятьдесят миль от Кеми динамо-машину, он выпрашивал и одалживал провода и осветительные приборы, из старого товарного вагона он позаимствовал материал и облицевал им столовую штаб-квартиры в тюдоровском стиле, осветив ее приглушенным светом ламп, которые он хитроумно смастерил из коробок из-под печенья. Разрисованные вручную абажуры на обеденном столе создавали эффект респектабельности, которая производила впечатление на всех наших гостей.
Наше новое расположение оказалось очень удобным, так как приезжим было легко нас найти, а мы могли внимательно наблюдать за всеми прибывающими и отправляющимися поездами. Дома были одноэтажными, построенными из массивных бревен, которые соединялись между собой с помощью «ласточкиного хвоста» и стояли на сваях. Потолки были высотой около пятнадцати футов, на чердаке между потолком и крышей был насыпан слой песка толщиной около двенадцати дюймов, чтобы удерживать тепло и защищать дом от холода. На чердак можно было попасть снаружи через смотровые люки. Промежутки между сваями были обшиты досками за исключением фасада, в котором располагалась дверь в подвал. Один дом заняла штаб-квартира Карельского полка и управление районного командования, а второй подготовили для полковника (повышенного до бригадного генерала) Марша, который обещал вернуться в Кемь, однако, к несчастью, пока из-за болезни не мог этого сделать. У генерала Марша был обширный опыт, и он прекрасно знал русский язык и местное население; именно ему я обязан многими полезными советами о характере и привычках русских и о том? как вести с ними дела, что видно из следующего примера. К кемскому командованию относилась Сорока, город на Белом море в 35 верстах по железной дороге от Кеми. Там находился лесопильный завод, на складах которого лежало очень много леса, а также мастерские местного участка железной дороги. Там стояла часть Белой армии под командованием полковника Круглякова, чья должность оказалась весьма и весьма нелегкой. С железнодорожными рабочими было очень трудно ладить, поскольку среди них активно распространялась большевистская пропаганда и интриги; к тому же там жил генерал Звегинцев, чья позиция оставалась для нас загадкой. Под его командованием не находилось никаких войск, лишь несколько офицеров, но он, казалось, пользовался определенным влиянием среди железнодорожных рабочих. В конечном итоге, из-за угрозы забастовок и прекращения работы я был вынужден послать двух хороших специалистов из военной разведки, чтобы они разобрались в причинах беспорядков. Их донесения меня удивили, однако вскоре их данные подтвердил капитан Бленнерхаасет, офицер разведывательной службы Военного министерства. В обоих докладах говорилось, что генерал Звегинцев находится в постоянном контакте с неким человеком или группой людей на вражеской <большевистской> стороне и что ответственность за пропаганду и волнения лежит на главном инженере Сахарове; согласно донесениям, некоторые из его речей носили весьма определенный политический оттенок. Эта информация была тут же передана в мурманскую штаб-квартиру, и Кругляков, следуя моему приказу, поместил месье Сахарова под арест. В мастерских и на лесопильном заводе вновь воцарился мир, и тем удивительнее мне было получить от генерала Марша телеграмму следующего содержания:
Цитирую главнокомандующего силами «сирен». Чтобы справиться с дезорганизацией работы на железнодорожных мастерских в Сороке, необходимо немедленно выпустить Сахарова под честное слово и позволить ему продолжить работу в Сороке. Ему необходимо сообщить, что данное решение принято до завершения расследования по его делу, и пр. Но этот приказ не отражается негативно на действиях британских офицеров, которые его арестовали. Это было сделано исключительно ради блага железной дороги. Некорректное обращение с Сахаровым во время ареста и отвратительные условия его содержания были совершенно излишними, неразумными и будут расследованы. Об исполнении доложите генералу Маршу.
Мне было трудно понять весь скрытый смысл этого сообщения — из него казалось, что мурманскую штаб-квартиру захватили большевики. Ответная телеграмма едва ли хоть сколько-нибудь отражала мои чувства:
Ни я, ни кто-либо еще в Сороке не имеем никакой информации о дезорганизации работы в городе. Пожалуйста, ознакомьте нас с фактами, которыми вы располагаете и которые могут обосновать освобождение Сахарова, поскольку факты, имеющиеся в моем распоряжении, свидетельствуют об обратном. После ареста я приказал, чтобы Сахарову было выделено отдельное купе железнодорожного вагона, которое до этого занимали британские офицеры. Ничего лучше у меня нет. В течение некоторого времени он жил в частном вагоне, принадлежащем чиновнику железной дороги. Пишу ему приносят из офицерской столовой. Должен ли я рассматривать вашу телеграмму как официальный выговор?
На это генерал Марш ответил:
Я лишь по ошибке отправил зашифрованную телеграмму от «сирен» в незашифрованном виде. Вы не должны рассматривать ее как официальный выговор. Лично я никогда не слышал о дезорганизации в работе, о чем по железной дороге и сообщил напрямую в Мурманск. Посылаю вам копию моей телеграммы «сиренам».
В своем ответе Мурманску генерал Марш процитировал мою телеграмму и добавил от себя:
Я резко протестую против того, чтобы о действиях британского офицера складывалось мнение до того, как он сможет высказать свои аргументы. Я также протестую против приказа выпустить на свободу потенциально опасного заключенного, пока не будут выслушаны причины его ареста в изложении офицера, ответственного за местную безопасность, и почтительно прошу, чтобы полковнику Вудсу была дана полная свобода действий по содержанию арестованных им людей.
Это происшествие проливает свет на лояльность генерала Марша по отношению к своим собратьям-офицерам, и в то же время позволяет составить определенное представление о доверчивости и неосторожности нового начальника штаба <Льюина>, который действовал по своей собственной инициативе, пока генерал Мейнард находился в Англии. Как выяснилось, вокруг этого офицера вращалась группа русских офицеров, настроенных против союзников, а он слишком легко верил им. Его неосмотрительность иногда вызывала определенные проблемы, но, по счастью, не имела серьезных последствий, так как ограничивалась теми периодами, в течение которых отсутствовал главнокомандующий.
Мне представился случай проявить свою власть, когда русский полковник без каких-либо известных мне полномочий отдал приказ о передвижении войск в Кемском округе, не получив на это разрешения ни от меня, ни от кемского управления. Я отменил этот приказ и послал офицеру вежливое письмо, в котором сообщал, что я с удовольствием пойду ему навстречу в любом важном деле, однако поскольку именно я отвечаю за данный район, то и все приказы о передвижении войск в округе должны проходить через мое управление. Ответ на это письмо так и не пришел, но примерно через две недели российский младший офицер сказал работнику железной дороги, что «мурманская штаб-квартира объявила полковнику Вудсу строгий выговор, который поставит его на место; возможно, его даже отошлют обратно в Англию».
Я ожидал подтверждения этим гарнизонным слухам с интересом и даже любопытством, и через неделю действительно получил «выговор» из Мурманска, составленный таким образом, что становилось очевидным совершенное непонимание ситуации и обстоятельств со стороны написавшего его человека. Я ограничился подтверждением его получения, однако при нашей первой же встрече его автор проявил достаточно такта, чтобы принести мне пространные извинения. Правда, по телеграфу они переданы не были.
Находившийся в Сороке русский генерал Звегинцев продолжал оставаться для нас загадкой, и всех нас интересовало его странное поведение. Ходили слухи, что большевики удерживают в Петрограде его жену в качестве заложницы, чтобы контролировать его действия; это могло бы объяснить его переписку с кем-то на вражеской территории, а также несколько таинственных случаев, которые иначе оставались недоступны нашему пониманию. Если он и испытывал антагонизм по отношению к союзникам, то, по крайней мере, был достаточно умен, чтобы скрывать этот факт, что не удавалось большинству русских офицеров. Определенное мнение о его позиции можно составить из случая, имевшего к нему непосредственное отношение.
Однажды днем в наш штаб зашел одетый с иголочки русский лейтенант, чьи пышные знаки отличия указывали на его принадлежность к Генеральному штабу. Он принес приглашение от генерала Звегинцева на «праздник»[31], организованный в здании кинотеатра в Сороке. Этот величественный вестник подробно рассказал о будущем мероприятии: оно начиналось в два часа дня с банкета, который должен был продолжаться до шести вечера, после чего предполагалось показать кинофильм, за которым должны были последовать танцы в холле кинотеатра. «Его Превосходительство» надеялся, что все британские и союзные офицеры смогут принять приглашение, и обещал организовать специальный поезд, чтобы привезти нас в Сороку, а потом доставить обратно домой. Как заманчиво это звучало для людей, давно питавшихся одними говяжьими консервами и «Маконаки»! Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Я поблагодарил этот эталон безупречности и попросил передать генералу, что мы принимаем это приглашение с благодарностью. Едва заметная хитрая улыбка, появившаяся после моих слов на его лице, не очень удивила меня, так как в моем кармане лежало донесение от военной разведки, содержавшее несколько иную программу намеченного мероприятия, столь приятного для всех нас.
Информация была получена из нескольких источников, однако наибольшей подробностью отличался хвастливый рассказ младшего русского офицера своей подружке, на которую он, очевидно, хотел произвести впечатление своей значимостью и умом. Эта юная леди оказалась одним из наших лучших «контрразведчиков». Согласно этой информации, официальная программа совпадала с усовершенствованной лишь до 6.15 вечера. Во время показа фильма, когда зал погрузится в темноту, наши гости и их друзья должны были выходить по одному или по двое, ссылаясь на неотложные дела или просто без повода. Только после этого начиналось настоящее веселье. На площадке за экраном предполагалось заранее установить два пулемета, из которых должны были открыть огонь сквозь занавес. Из зала можно было спастись через два выхода, однако там планировалось организовать не менее теплую встречу. Единственная цивилизованная часть этого замысла заключалась в том, что нас должны были как следует накормить перед тем, как отправить в мир иной.
С учетом этой информации мы составили свой план и собирались внести коррективы в намеченную программу, однако опасаюсь, что у кого-то из союзников также имелась подружка, потому что за день до того, как мы собирались отправиться на свою собственную казнь, генерал Звегинцев отложил «праздник» на неопределенное время «из-за серьезной болезни своей домохозяйки»! Мы так и не получили твердых доказательств соучастия или невиновности генерала. Он мог быть автором этого плана, или всего лишь инструментом, или даже ничего не знать о бойне, подготовленной для его гостей. Остается надеяться, что правильным предположением было все-таки последнее.
Однако я бы не хотел создать впечатление, что все русские офицеры, с которыми мы сталкивались, были настроены против союзников или что их действия подчинялись странной и ошибочной политике, учитывавшей лишь собственные интересы и жажду мести. Было много и тех, кто близко к сердцу воспринимал судьбу своей страны и признавал, что без помощи союзников им не удалось бы ничего добиться. Таким был генерал Виктор Скобельцын, недавно назначенный главнокомандующим мурманской русской армией[32]. Этот офицер со штабной подготовкой, обладавший большим боевым опытом, трезво смотрел на своих соотечественников и обладал талантом воспринимать ситуацию в целом. Как-то он попросил меня высказать объективную критику его действий на посту командующего, что я и сделал по возможности беспристрастно, полагаясь лишь на свои наблюдения. После этого он сказал мне, что не видит ни малейшего шанса на успех этой кампании, так как белое движение потерпело поражение уже в самом начале из-за интриг, недоверия и отсутствия единства со стороны офицеров; однако даже в такой ситуации он обязан выполнять свой долг, пусть это неминуемо приведет к его смерти. Он всегда навещал меня, когда оказывался в Кемском округе, но при каждой нашей встрече выглядел все более и более обеспокоенным и печальным, что контрастировало с растущим энтузиазмом, который он проявлял на словах. Думаю, у него было предчувствие ужасного конца, однако действительность превзошла своей жестокостью всё то, что он мог представить. Его нашли в одном из районов Кеми распятым на двери. Это произошло уже после того, как мы ушли из округа.
Было много русских офицеров, которые искренне сотрудничали с нами и которых мы очень ценили. Нашей работе необычайно помогли такие люди, как Полебин, капитан порта на Поповом Острове, чью необычайную доброту будут помнить офицеры и экипажи наших судов, стоявших в этом порту, а также персонал Королевской армейской медицинской службы, эвакуационной станции и французской гаубичной батареи. Он был надежным другом, которому, в частности, очень многим был обязан и я. Мне он сделал бесценный подарок, одолжив на неопределенный срок замечательную арабскую кобылу — животное, с которым управился бы и ребенок с помощью шелковой нити.
Полебин однажды подарил мне прекрасную самоедскую лайку, но, поскольку бедное создание отказывалось есть и не покидало свой пост у окна, постоянно ожидая возвращения своего хозяина, мне пришлось вернуть собаку обратно, чтобы спасти ее жизнь.
Бесценным союзником оказался Аргиев, помощник начальника Кемской дистанции железной дороги. Он обладал редким чувством юмора и большой храбростью и часто вызывал неудовольствие коллег и начальников своей дружбой с британцами. Были и другие люди, я не помню лишь их имен, однако их энергичную помощь и неизменное гостеприимство никогда не забудем ни я, ни, осмелюсь думать, кто-либо другой из офицеров, служивших со мной.
Есиев, полковник ветеринарной службы в Кемском округе, принадлежал к особой категории людей. Качество его дружбы, пожалуй, лучше всего иллюстрируется «гимном Баллимены»[33]: «А что мне будет от этого?» Его хорошенькая и привлекательная жена была увлечена британцами, что вызывало у него неуместную ревность, и из-за этого находиться в его компании было подчас не очень приятно.
Именно в доме Есиева в Кеми проходили различные встречи сомнительного характера, на одной из которых недавно прибывший русский полковник предсказывал события, связанные с будущим союзников. Из его высказываний явствовало, что этот офицер был достаточно сведущ для подобных авторитетных суждений, потому что в Берлине, до того, как переехать в Англию, он пользовался доверием начальника германского Генштаба — впрочем, я не думаю, что он упомянул об этом факте британским властям, от которых принял гостеприимство, деньги и бесплатный проезд до России. На встрече с русскими офицерами он рассказал следующее: эту войну союзники выиграют, однако немцы уже подготовили на будущее тайники с оружием в Германии, России и в других местах. Теперь они собирались всеми возможными способами сеять раздор между Великобританией и Америкой, используя для этого пропаганду и дипломатические методы. Англия больше не будет воевать за Францию, поэтому сначала будет разбита Франция, а потом — эта проклятая Англия. Их можно будет завоевать по отдельности. В конце встречи офицер сделал предложение, поддержанное и принятое присутствующими, что, как только сила новой русской армии превысит силы британцев на севере России в соотношении пять штыков к одному, их нужно будет выдавить в Белое море или уничтожить.
У меня были все причины полагать, что Есиев и его коллеги пользовались доверием нашей мурманской штаб-квартиры, и я боялся доложить о данной встрече в отсутствие генерала Меинарда, поскольку в этом случае мой осведомитель вряд ли избежал бы мести. Мне пришлось дожидаться возможности доложить о случившемся генералу лично и в устной форме. За исключением этого ничего нельзя было сделать, разве что принять все возможные меры предосторожности против этих вероломных планов и одновременно не раскрыть свою осведомленность о готовящемся предательстве. Эти меры вызвали определенные разногласия, о которых я упоминал выше, между мной и нашим временным начальником штаба, однако я не мог доверить столь важную информацию бумаге, и я также боялся, что получатель не разберется в ситуации и проконсультируется с одним из своих русских советников — шаг, который стал бы сигналом к немедленному уничтожению лояльных нам друзей.
Примерно в это же время на мораль британского гарнизона в Кеми оказал позитивное влияние визит капитана Филиппа Броклехерста из «Сверкающего Десятого» <Десятый королевский гусарский полк, «Сверкающие»>, приехавшего, чтобы купить лошадей для транспортных нужд. После него приехал знаменитый капитан Брокас Барроуз, кавалерийский офицер, на тот момент находившийся на секретной службе. Он снабдил нас новой информацией, которая помогла разобраться в различных группах внутри белого движения. Из нее следовало, что излишний оптимизм был абсолютно не к месту, однако благодаря его чувству юмора мы сумели сохранить разумный взгляд на ситуацию.
Через Кемь проезжал капитан Стенхаус, также известный как «Стенни». Он готовил собачьи упряжки для зимней поездки сэра Эрнеста Шеклтона[34]. К сожалению, я пропустил приезд самого Шеклтона в Кемь, так как уезжал на это время вглубь округа, однако позже мне удалось подробно рассказать ему о ресурсах и нуждах Карелии — эта информация была нужна ему для оценки дальнейших действий.
Для того, чтобы снять с капитана Гаррисона часть тяжелой работы, вызванной примитивной санитарией среди растущего населения, прибыл еще один медик, капитан Мьюир. К нам также был прислан в качестве переводчика лейтенант Ники Менде, англичанин, который родился в России и уехал в Англию, чтобы вступить в британскую кавалерию. Он оказался надежным и тактичным другом, заслужившим общее уважение. За ним приехал капитан Уилльямс, брат знаменитого актера Валентина Уилльямса. Из этого офицера получился отличный адъютант при гарнизоне, и нам было очень жалко отпускать его обратно в Англию, так как он прекрасно знал людей, с которыми ему пришлось иметь дело, и давал ценные советы для поддержания боевого духа войск во время долгой зимы, которая еще только начиналась.
ГЛАВА 8. ЗИМА В КЕМИ, 1918 г.
Выпал первый снег, за ним ударили морозы, и передвигаться по рекам стало невозможно. Однако к этому времени мы уже создали достаточно запасов, чтобы гарнизон и население Карелии не испытывали трудностей до того, как лед достаточно окрепнет и сможет выдержать вес транспорта. Солнце появлялось на короткое время, почти не поднимаясь над горизонтом, но сумерки продолжались достаточно долго, а когда небо было чистым, звезды светили так ярко, что были видны объекты на расстоянии до 200 ярдов. В морозные ночи северное сияние давало достаточно света, чтобы увеличить эту видимость вдвое.
Северное сияние обычно предшествовало южному ветру. В нем свет принимал самые удивительные формы: от точного повторения поисковых прожекторов военного флота до мерцающих разноцветных огоньков на сцене во время постановки рождественской пантонимы, только вместо замкнутого пространства сценой являлось все небо.
Незадолго до Нового года нам посчастливилось наблюдать особенно изумительное северное сияние, когда весь небосвод превратился в огромный мерцающий купол света, по которому от зенита во все стороны к темной линии горизонта стремились сверкающие золотые искры. Едва заметное свечение, отражавшееся от покрытой снегом земли, нисколько не уменьшало грандиозную красоту зрелища, от которого захватывало дыхание и которое длилось в течение нескольких часов.
Мне казалось, что у карелов должно иметься какое-либо сверхъестественное объяснение этому электрическому явлению, но в ответ на мой вопрос они всего лишь сказали, что скоро с юга придет вьюга. На морских пехотинцев это произвело большее впечатление. Они благоговейно молчали, лишь изредка восклицая: «Ничего себе!»
С приходом зимы я столкнулся с другим арктическим явлением, неизвестным в наших широтах. «Дед Мороз щелкает пальцами» — эта фраза ни о чем мне не говорила, когда я был ребенком, однако на севере России у детей, должно быть, совершенно иное представление о выходках Деда Мороза. Его суставы едва ли могли произвести такие звуки, какие мне довелось услышать однажды ночью в Кеми! Чуть позже полуночи, когда заснеженный пейзаж засверкал бриллиантами и арктическая луна сияла так ярко, что любой предмет был виден на расстоянии многих миль, я шел пешком со станции в Кемь. Пятидесятиградусный мороз <—45 по Цельсию — Примеч. перев.> — загнал всех жителей в дома, и царила такая тишина, что было слышно, как кровь бежит по венам. Проходя через старое кладбище с десятками деревянных памятников — это был самый прямой маршрут, — я неожиданно вздрогнул от раздавшегося слева звука, похожего на пистолетный выстрел. Я тут же спрятался. Однако немного поразмыслив и оглядевшись, я с облегчением понял, что звук был вызван треснувшим и упавшим деревянным крестом, не выдержавшим ударов непогоды. Я посмеялся над своей минутной тревогой еще и потому, что вспомнил: ни один русский не осмелится пройти через кладбище в подобную ночь, как, впрочем, и в любую другую.
Добравшись до окрестностей города, я сделал лишь пару шагов по «тротуару», как под моим весом треснула доска. Это послужило сигналом для начала необычного представления. Я замер, с тревогой ожидая, что старая деревянная церковь вот-вот развалится на моих глазах — так сильно она трещала и грохотала. Мне было слышно, как рушится деревянный мост через реку, хотя зрительно с ним ничего не происходило. В театре, стоявшем на острове, казалось, стреляли из десятка невидимых пулеметов. Каждый дом, крыша и сарай в городе вносили свой вклад в пугающий и почти оглушающий грохот.
Пораженный, я стоял в дверном проеме, ожидая, что все жители сейчас ринутся вон из своих домов, но они так ничего и не услышали, а если и услышали, то не обратили внимания на эту шутку природы, так как ничто вокруг не шелохнулось.
Примерно через десять минут от всего этого шума остались лишь отдельные звуки, потом прекратились и они, и на заколдованный город опустилась еще более пугающая тишина.
Позже мне объяснили этот любопытный случай. Все оказалось просто: весь этот шум был вызван влиянием сильных морозов на влагу внутри дерева, когда любая слабая вибрация могла привести к результату, который мне довелось наблюдать.
К рождеству 1918 г. зима окончательно установилась, и мы смогли организовать почтовое и транспортное сообщение по льду реки <Кемь>. В Юшкозере Хитона, по-видимому, вполне устраивало его карельское подразделение и количество припасов на складе. Его радиостанция позволяла ему получать новости из разных источников и каждый день вместе с регулярными сводками отправлять нам просьбы о книгах и табаке. Гарнизонный взвод Карельского полка отвечал за охрану станции, моста и железной дороги, а после того, как все признали абсолютную порядочность карелов, им также доверили охранять вагоны, которыми нам доставлялись припасы. На Поповом Острове разместился строительный взвод, и еще довольно много квалифицированных карелов было нанято для изготовления тележных колес и «дуг»[35] — высоких деревянных арок, закрепляемых над шеей животного, которые использовались для того, чтобы удерживать оглобли саней и телег. В них на севере ощущался большой недостаток. Эти же люди строили ездовые сани, которые были примерно девяти футов длиной, четырех футов шириной и около тридцати дюймов высотой в центральной части. Сверху сани примерно на треть длины были покрыты брезентом. По своему устройству они напоминали дощатый плоскодонный ялик с приподнятым носом, чтобы защищать пассажиров от плотного снега, летящего из-под копыт лошади. Деревянным полозьям отдавалось предпочтение перед железными, и благодаря тому, что они были прекрасно отполированы, одна лошадь могла с легкостью тянуть очень тяжелый груз по смерзшемуся снегу.
Григорий, старший карельский офицер, назначил в качестве извозчика для моих легких саней рыжебородого гиганта, чье имя было таким же огромным, как и он сам. Для удобства мы сократили его до Микки. Он принял это обращение с широкой ухмылкой, которая, казалось, была неотъемлемой частью его жизни. С собой он привел гнедую лошадку, которую представил нам Мышкой[36], то есть маленькой мышью. Позже мы обнаружили, что это животное ростом лишь чуть выше четырнадцати ладоней[37] было самым быстрым ездовым пони в округе; у этой лошадки было львиное сердце, и поездка за пятьдесят верст была лишь разминкой для ее невероятно проворных ног. Мне всегда было приятно ехать в санях и слушать, как Микки разговаривает со своим другом. Однажды я спросил его, что случится, если он ударит Мышку хлыстом или палкой. Он перестал улыбаться, его глаза удивленно расширились, и, покачивая головой, он торжественно сказал: «Бедняжка умрет от разрыва сердца».
Среди всевозможного снаряжения, присланного нам Военным министерством, оказались и лыжи швейцарского образца. Впрочем, карелы предпочитали использовать свои собственные, которые были на шестнадцать дюймов длиннее и на два дюйма уже; единственными креплениями на них были два ремня: один для носка обуви, второй закреплялся на лодыжке. Мы постоянно практиковались в езде на лыжах, пока не научились сохранять вертикальное положение и передвигаться более-менее успешно, однако так и не смогли сравняться в мастерстве с карелами, которые катались на лыжах с самого раннего детства.
<Ииво> Ахава, офицер разведчиков, время от времени демонстрировал свое блестящее умение кататься на лыжах. Он прыгал с утеса высотой 200 футов, едва касаясь уступов лыжами, все это без каких-либо пауз и совершенно не теряя равновесия, и тут же — проходило гораздо меньше времени, чем нужно, чтобы описать это — проносился, словно ласточка, над замерзшей рекой. В другой раз он выбирал быстрого северного оленя, который, как говорили, мог бежать со скоростью сорок миль в час. Он набрасывал на него сбрую из каната или веревки, закреплял ее на шее животного и, пропустив под туловищем оленя, привязывал к своему запястью. К основанию рогов привязывался поводок, который наездник крепко сжимал в правой руке, в то время как в левой он держал хлыст. Даже на максимальной скорости он легко справлялся с самыми отчаянными попытками оленя освободиться и контролировал каждое движение — мог в любой момент повернуть направо или налево, а на полную остановку ему требовалось всего лишь несколько футов.
Ахава, очевидно, в полной мере пользовался возможностью кататься на лыжах, для чего в Карелии имелись все условия: снег лежал здесь в течение шести месяцев из двенадцати. В деревнях обычным зрелищем были дети, младшим из которых было года четыре, слетающие с горок на бочарных клепках или просто на ровных досках, прикрепленных к ногам на манер импровизированных лыж.
Суровый климат и отсутствие солнечного света позволяли отдыхать и заниматься спортом на открытом воздухе лишь несколько часов в неделю, но гостеприимные русские предлагали многочисленные и разнообразные возможности провести свободное время. Среди них был неизбежный обед, продолжавшийся с трех до семи или восьми часов. Обычно он состоял из закусок[38], обычно от двенадцати до сорока видов, всегда превосходного супа, различных рыбных блюд, оленины, которую также готовили по-разному; иногда подавались и другие виды мяса, в том числе кабанина и медвежатина. По счастью, смена блюд происходила без спешки, и у нас оставалось много времени на то, чтобы поговорить или выкурить сигарету. В качестве аперитива подавалась водка. Часто она оказывалась единственным алкогольным напитком, так как было трудно достать вино, но, поскольку водка изготавливалась из чистого спирта и разбавлялась градусов до тридцати, да к тому же мы пили ее с осторожностью из ликерных рюмок, за последствия нам не приходилось испытывать ни чувства смущения, ни какого-либо другого — она лишь стимулировала общение.
Британцы, играющие в футбол на льду р. Кемь, 1919 г.
Помимо этого, почти каждую неделю кемский почтмейстер ставил новые пьесы, в которых играли сам он и некоторые из чиновников его несоразмерно большой конторы — на местной почте работало примерно тридцать пять человек, которым приходилось справляться с полудюжиной писем и парой телеграмм, составлявших нашу обычную недельную почту. Это создавало идеальную обстановку для репетиций.
Как правило, ставились трагедии, перенасыщенные тем, что мы называем «сырыми» диалогами: по большей части они состояли из рыданий. Главный герой не отличался разнообразием — он был неизменно слеплен по образу и подобию мрачного принца Датского, только без соответствующих подвигов. Актеры сидели на деревянных стульях, а главный герой — на мягком кресле, и все они говорили, говорили, говорили! Сцены сменялись л ишь тогда, когда на место одних актеров приходили другие — очевидно, первые к этому времени были уже не в состоянии говорить. Трагедия становилась интенсивней, когда главный герой бывал простужен и при этом забывал взять с собой носовой платок. Развитие сюжета не обходилось без прогрессирующего безумия, и к концу пьесы, длившейся около пяти часов, герой до того утрачивал над собой контроль, что убивал, обычно с помощью яда, всех остальных персонажей. В финале он, как правило, кончал жизнь самоубийством. В течение всего этого времени мы бывали вынуждены сидеть в одной позе на виндзорских стульях, поэтому полностью одобряли авторский финал, хотя, по нашему мнению, пьеса только выиграла бы, если бы вместо первого акта был сыгран сразу последний.
Вежливая просьба поставить что-либо более легкое привела к увлекательнейшим размышлениям о нравах английского дворянства. Наш плодотворный драматург постарался угодить нам, написав комедию, в которой он, по обыкновению, сыграл главную роль — на сей раз «английского лорда». Он интерпретировал эту роль чрезвычайно оригинально. В течение всей пьесы он сидел глубоко в кресле, блистая афоризмами, и в то же время с очень благородным видом ковырялся в носу, внимательно изучал плоды своего труда, и потом невозмутимо стряхивал воображаемый предмет на пол, словно любитель нюхательного табака, только что доставший щепотку из своей коробочки. Комедия имела оглушительный успех.
Большое удовольствие доставляли нам концерты. В Кеми оказалось довольно много профессиональных музыкантов, в том числе несколько певцов с превосходными голосами, и они всегда были готовы предложить свои услуги человеку, проявлявшему щедрость. Музыкальные вечера обычно заканчивались танцами, которые сопровождали любое культурное мероприятие. Танцы являлись чрезвычайно популярной формой развлечения во всех слоях местного общества, особенно деревенские, и хотя они часто исполнялись скорее энергично, чем грациозно, танцующие оставались неизменно довольны.
Вряд ли можно было ожидать, что эти культурные мероприятия останутся в стороне от интриг: они предоставляли слишком много возможностей, чтобы претворить намерения наших противников в жизнь. В основу одного весьма оригинального плана, который привел бы как минимум к моей отставке, был положен бал-маскарад. Средства для его выполнения не отличались новизной. Предполагалось участие прекрасной соблазнительницы в маске: она должна была завлечь меня в компрометирующую ситуацию, в которой меня «обнаружил» бы ее муж, сопровождаемый двумя свидетелями, причем одним из них был бы британец. Должен был разгореться скандал, что неминуемо привело бы к докладной нашему главнокомандующему.
Для постановки был должным образом подготовлен сценарий и реквизит: маленькая уединенная комната с ковром, диваном и столиком, на котором стояло три бутылки (две из них пустые) и два бокала. У затененной лампы рядом с диваном был удобный выключатель, две люстры срабатывали от таких же выключателей, находившихся рядом с дверью, и с их помощью леди должна была выключить весь свет, когда настало бы время вести жертву на убой.
Мы были заранее осведомлены об этих планах и не могли не принять в них участия. В день бала доктор Мьюир, лейтенант Менде, лейтенант Смит, прибывший к нам в качестве пулеметчика, Николай, Григорий и я посовещались, чтобы как следует подготовиться к своим ролям. В результате мы решили надеть абсолютно одинаковые костюмы из коричневых халатов, позаимствованных в госпитале, а также наших накидок с капюшонами для защиты от ветра и затемненных очков. Эта маскировка скрывала наши лица и руки. Между нами была небольшая разница в росте, которую мы также постарались по возможности скрыть: на ногах самого высокого из нас были только тапочки, также позаимствованные в госпитале, а остальные надели тапочки поверх ботинок на высокой подошве, и в довершение к этому под подошвами все пропустили завязки, которыми крепились накидки для защиты от ветра.
Когда наши хозяева, они же заговорщики, увидели шесть одинаково одетых фигур, заходящих в прихожую, они были озадачены и тут же начали спешно и оживленно совещаться. После этого один из них повел себя весьма необычно: он настоял на том, чтобы очень тепло приветствовать каждого из нас рукопожатием, причем так цеплялся за руки, словно был членом секретного братства и ожидал получить некий тайный знак. Я внезапно понял, что они пытались определить меня с помощью среднего пальца моей правой руки, который не сгибался после одного происшествия на футбольном поле. Лишь один из русских знал об этом, и сейчас он решил на практике применить свои знания.
Вскоре очередь дошла до меня, и мои подозрения подтвердились, когда хозяин начал искать и нашел мой палец. Торжествуя, он удерживал меня, пока не приблизились двое его друзей, но мне удалось не пустить их к себе за спину до подхода моих спутников. Однако они все-таки пометили меня, и при первой же удобной возможности доктор шепнул мне, что на моем плече остался отпечаток ладони, сделанный с помощью муки или пудры. Я попросил его передать Менде и Григорию, чтобы они присоединились ко мне в туалете. Они при шли, и, пока Менде присматривал за дверью, я поменялся костюмами с Григорием и проинструктировал его, что делать дальше. После этого мы с Менде пробежали две мили, чтобы вернуться в наш штаб, и гам быстро переоделись.
Времени на подготовку у нас было немного: вскоре раздался телефонный звонок. На проводе был наш русский хозяин, желавший поговорить со мной. Менде ответил, что я уже ушел спать и что утро будет более уместным временем для делового разговора. От этого он пришел в крайнее волнение и захотел услышать мой голос. Я вежливо спросил, чем могу быть ему любезен. У заговорщиков не было времени, чтобы придумать правдоподобный повод, и, после недолгих сомнений, они сказали, что хотели бы видеть меня прямо сейчас. Через полчаса доложили о приходе взволнованного джентльмена. Его оправдания звучали красиво. Он якобы подслушал о заговоре, в результате которого на бале меня должны были застрелить, отсюда его нетерпение увидеть меня во плоти и поговорить со мной. Его руки тряслись, и во время своей речи он часто вытирал с лица пот. Я поблагодарил его за беспокойство и верность, предложил ему выпивку и отправил домой.
После возвращения наши товарищи позабавили нас рассказами о конфузе, который произошел на балу. Заговор развивался по плану, так как Николай быстро одел двух карелов в такие же наряды, чтобы число «людей в капюшонах» не уменьшилось и наше отсутствие не было бы обнаружено. Григорию не потребовались слова, чтобы выразить свое восхищение леди в маске и послушно последовать за ней в ловушку. Здесь его внимание было полностью поглощено столь уместно оставленной бутылкой. Когда пришел момент истины, в комнату ворвался разгневанный муж в сопровождении стольких друзей, сколько поместилось в коридор; за их спинами стояли все наши товарищи. Леди дала полную волю своим эмоциям, и Григорию пришлось удерживать ее, чтобы она не убежала, когда обнаружила, что осталась наедине не с тем человеком. Ее муж бросился вперед и ударил Григория, которой тут же предложил ему стреляться на револьверах, не сходя с места. Муж пережил несколько очень неприятных минут, пытаясь избежать подобного развития событий, так как он с огромным уважением относился к храбрости карелов и их навыкам обращения с оружием и не строил иллюзий по поводу собственных способностей. Леди весьма язвительно комментировала эту ситуацию; к тому же его осыпали откровенными и несдержанными упреками собственные товарищи, в результате чего заговор был полностью раскрыт. В конце концов, пытаясь оправдать себя, он и позвонил мне, однако мое присутствие на другом конце провода оказалось последней каплей.
Старый деревянный театр был свидетелем многих драм помимо тех, что предназначались для развлечения, в основном из-за того, что он являлся центром общественной жизни в Кеми и, как следствие, в мирное время в нем располагались штаб-квартиры различных организаций. Сейчас он стал базой Карельского полка, командиром которой был назначен недавно прибывший британский офицер, майор Гаррисон из Уэст-Йоркширского полка. У него было мало времени для адаптации к ситуации на севере России, поэтому Григорий старался проводить с ним как можно больше времени, чтобы предохранить его от ошибок.
Однажды ранним утром в нашей штаб-квартире раздался настойчивый телефонный звонок, на который ответил Менде. Звонил Григорий, находившийся на верхнем этаже театра. Он попросил меня как можно быстрее приехать, сказав, что вот-вот взбунтуются солдаты Новой мурманской армии.
Когда мы в спешке оделись, у дверей нас уже поджидал Микки на санях, и мы добрались до города за рекордное время. Та ночь была одной из самых холодных, что мне довелось испытать: температура упала до семидесяти трех градусов мороза <—58 по Цельсию — Примеч. перев.>. Прибыв в театр, мы обнаружили около пятидесяти русских солдат на заднем дворе, который использовался для стоянки транспорта; они были вооружены винтовками, те, кто был позади, просили стоявших спереди расступиться, и все одновременно что-то кричали. Мы протиснулись сквозь толпу и, добравшись до самого центра беспорядков, забрались на сиденье пустых саней. Менде тщетно пытался перекричать весь этот гам, и, чтобы привлечь внимание, мне пришлось использовать тот же тон, с которым я когда-то муштровал батальон. После этого они немедленно притихли. Я начал с того, что назвал их крикливыми мальчишками и упрекнул за то, что они вытащили меня из теплой постели в такую ночь, после чего попросил, чтобы их представитель поднялся на сани для переговоров. К этому моменту они заинтересовались и, как мне кажется, немного развеселились, услышав мой акцент. В конце концов один из них начал пробираться ко мне, но молодой русский офицер приказал ему остановиться, угрожая пристрелить его. Я приказал офицеру выйти, спросил его имя и часть и сообщил ему, что он арестован.
После этого солдат изложил свою жалобу. Он сказал, что офицер, который только что пытался вмешаться, ударил его по лицу хлыстом и потом угрожал ему револьвером. Повернувшись к одному из четырех офицеров, стоявших рядом с первым, я спросил у него, правда ли это. Разумеется, он не смог дать прямого ответа, и, поскольку солдаты снова заволновались, я приказал им разойтись по казармам, пообещав, что лично разберусь в происшедшем. Мое обещание их успокоило, и они разошлись без лишнего шума; однако в какой-то момент ситуация складывалась крайне неприятным образом: пятеро пьяных юных офицеров стояли спиной к спине, окруженные толпой разгневанных солдат, в руках которых были русские винтовки с несъемными штыками.
Из доклада Григория следовало, что арестованный младший офицер во время танцев приказал солдату уступить ему свою прелестную партнершу, а после того как солдат не смог скрыть свой гнев, достал револьвер и пригрозил пристрелить его. Тот ушел в казармы со своими товарищами и, вооружившись, они вернулись, чтобы продолжить спор. К офицеру присоединились его друзья, также с револьверами наизготовку, и именно в этой ситуации мы застали спорщиков, предотвратив дальнейшее развитие событий.
Я доложил об этом случае полковнику Байкову и попросил, чтобы он передал мне копию протокола военного суда, рассматривавшего дело этого офицера. Я также посоветовал полковнику перевести офицеров, оказавшихся замешанными в этом деле, в другой район — в противном случае их жизни постоянно подвергались бы опасности. Это было выполнено. К другому моему совету — относиться к солдатам с большим уважением, — боюсь, так и не прислушались. Я сдержал свое обещание, данное русским солдатам, и добился того, чтобы их пайки были увеличены, а за снабжение отвечал наш персонал, за что они были очень благодарны.
ГЛАВА 9. ПОЕЗДКА ПО КАРЕЛЬСКИМ ЗАСТАВАМ
Эпидемия гриппа долго не покидала Кемь и Карелию, в основном из-за апатии и фатализма местных жителей, а также из-за отсутствия вентиляции в перетопленных и перенаселенных домах. Особенно страдали от нее карелы, и в течение многих недель в наших войсках в Кеми ежедневно умирало по два-три человека.
Захоронение мертвых с соблюдением всех приличий было сопряжено со значительными трудностями. В местном климате земля промерзала на глубину нескольких футов и была твердой, как камень, поэтому перед тем, как копать могилу, нужно было развести костер и поддерживать его в течение нескольких часов. Огромные костры, движущиеся силуэты и пляшущие тени людей, присматривавших за огнем, производили довольно жуткое впечатление, особенно на фоне черных сосен и крашеных деревянных памятников на кладбище.
Другой трудностью являлась серьезная нехватка дерева, пригодного для изготовления гробов, при том что потребность в нем все возрастала. В России гробы обычно тщательно украшались и раскрашивались, и использование обычных досок или грубой сырой древесины для этих целей считалось неприличным, так как означало неуважение к умершему. Посовещавшись с Григорием и Николаем, мы разработали план, как преодолеть эти трудности. Мы приобрели величественный гроб с резьбой и росписью, обильно украшенный серебряными и золотыми листьями, в котором, как сказал Григорий, «почел бы за честь упокоиться любой граф». Различие между этим гробом и любым другим заключалось в том, что в нем мы устроили съемное дно, и после того, как он опускался в могилу, с помощью четырех шнуров его вытягивали обратно, в то время как тело умершего в грубо сколоченном ящике оставалось внизу. На какое-то время, чтобы отдать должное приличиям, гроб оставляли на кладбище, прикрыв его брезентом, затем забирали обратно на станцию и готовили для очередной церемонии. Карелы очень гордились пышностью своих похорон, идея которых пришлась по душе как их чувству юмора, так и свойственной им бережливости. До того, как главнокомандующий распорядился покрывать похоронные расходы из официальных фондов, карелы оплачивали их из денег, собранных на танцевальных вечерах, которые организовывались для этой цели.
Благодаря гостеприимности дружелюбно настроенных жителей Кеми, британцы достойно отметили рождественские праздники, хотя нельзя было вполне отрешиться от ощущения, что политическое затишье было, скорее всего, лишь прелюдией к очередной волне неприятностей. Оставалось только гадать, какую форму они примут на сей раз.
Мне очень хотелось лично присутствовать на торжественной рождественской службе, однако друзья предупредили меня, что и место, и обстановка будут для меня небезопасными. Поэтому я надел холщовое пальто на овчинной подкладке и меховую шапку, которые были одинаковыми у британцев всех званий, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Для этой же цели я не взял с собой спутников и, прибыв уже после начала службы, купил свечку и выбрал место рядом с главным входом, где мог стоять спиной к стене, что, как я полагал, уменьшало риск возможных неприятностей. Эта позиция давала мне отличную возможность наблюдать за людьми, которые стояли вокруг и передо мной. В соборе собралось много очень разных людей: солдат, крестьян, женщин всех сословий; некоторые из них — очевидно, политические беженцы — были очень хорошо одеты. Каждый держал в руках горящую свечу, и все внимание было приковано к трем священникам и епископу, чей сан я определил по надетой им митре. Стоя перед толпой у величественного алтаря, они читали нараспев службу. Все стены были увешаны различными богато украшенными реликвиями; в золотых и усыпанных бриллиантами рамах висели иконы святых. Под высоким позолоченным потолком, едва видимые сквозь дым благовоний и тысяч горящих свечей, висели пять огромных канделябров.
Их спокойный свет струился вниз и встречался с мягким сиянием, которое словно поднималось, мерцая, от собравшихся в соборе людей. Воздух был теплым и плотным, пропитанным непонятными ароматическими запахами, которые источали благовония в кадилах, однако самое большое впечатление производил невидимый глазу мужской хор. Звучные басы и чистые голоса теноров и дискантов не уступили бы любой опере в Ковент-Гардене[39].
Я был очень доволен, что смог придти на службу, и уже собирался выйти из собора, как мое внимание привлекло движение у алтаря. Там сформировалось торжественное шествие, которое возглавил епископ и которое двигалось к выходу из собора. Толпа внутри поспешно расступилась, чтобы освободить ей проход. Вокруг меня сгрудилась группа крестьян, которые могли помешать мне скрыться в случае опасности. Однако у меня не возникало никаких подозрений, пока один крестьянин с роскошной бородой не прижался ко мне так близко, что огонь моей свечи подпалил его усы. Они мгновенно вспыхнули, и мне пришлось прикрыть рукой их остатки, чтобы не обгорели его глаза. Те, кто стоял поблизости, решили, что я напал на него, пока он не рассмеялся и не сказал: «Ничего! Ничего!»[40], что успокоило ситуацию. Однако воздух вокруг теперь был пропитан другим, гораздо менее приятным запахом.
После этого я еще много раз был в соборе, в основном для того, чтобы послушать мужской хор, а также чтобы лучше понять русский характер. Мне рассказали, что однажды в кемском соборе некто, притворившийся богомольцем, так поцеловал инкрустированную драгоценными камнями раму одной из усыпальниц, что откусил от нее большой рубин!
В русской церкви был один интересный религиозный обычай, который иногда мог оказаться весьма приятным. В конце пасхальной службы священник, проводящий богослужение, обращался к пастве: «Христос воскресе!», на что ему отвечали: «Воистину воскресе!» Потом священник обходил прихожан, повторяя слова, сказанные апостолами у гробницы, получал ответ и обнимал каждого, целуя его или ее в обе щеки. Прихожане повторяли это действие со своими ближайшими соседями, сначала в церкви, а потом в своих домах. Привлекательная сторона этого обычая заключалась в том, что каждый до начала службы был волен выбирать, с кем стоять рядом.
Неделя после Рождества прошла в приятном времяпрепровождении и в визитах в гости и закончилась торжественным обедом в новогоднюю ночь, который мы дали нашим русским друзьям и союзникам. Наше меню — работа лейтенанта Кеннеди — было весьма впечатляющим:
Различные закуски
Суп — томатный
Рыба — отварной лосось
Первое блюдо — говядина a la Bonne Femme
Жаркое — индейка
— дичь
— жареная говядина
Гарнир — картофель
— фасоль
— рис в соусе по-французски
Десерт — рождественский пудинг
Острые закуски — ангелы-наездники
— Персиковая мелба
— Кофе
— Молодой сыр
Это меню, возможно, выглядело лучше самой еды, но даже при этом обед стал часом триумфа для наших поваров из морских пехотинцев, которые, вооружившись консервными ножами, показали себя во всей красе. Свежего лосося мы нашли без проблем, а за две порции «Маконаки» смогли достать и разновидность дикой индейки, но вот говядина a la Bonne Femme представляла собой лишь слегка закамуфлированные и поджаренные консервы.
Новогоднее меню лейтенанта Кеннеди
Отсутствие военной и политической активности, а также установившаяся спокойная погода предоставили удобную возможность для инспекционной поездки по карельским заставам. Оставив инструкции на случай любой непредвиденной ситуации, мы с Менде закутались в шубы и одеяла и при температуре всего в -30 градусов <—34 по Цельсию — Примеч. перев.> отправились на санях с Микки и Мышкой в сторону границы. Наш путь пролегал, в основном, по льду замерзшей реки Кемь, которую мы покидали лишь тогда, когда дорога срезала ее повороты. Местность, укутанная тяжелым одеялом снега, выглядела совершенно незнакомой, и если летом она казалась тихой, то сейчас была абсолютно безмолвна. В суровый мороз звуки журчащей воды, ревущих быстрин и водопадов исчезли подо льдом в несколько футов толщиной. О том, что мы передвигаемся по реке, мы могли судить лишь по широкому просвету между темными стенами леса, так как снег укрыл и реку, и землю одинаково толстым белым покрывалом.
Так называемая дорога представляла из себя узкую тропу, по которой могли проехать лишь одни сани. Она была обозначена маленькими деревцами, воткнутыми в лед на расстоянии примерно 100 ярдов друг от друга, ее поверхность была утрамбована проезжающими санями до состояния насыпной дороги и уходила в глубину на шесть футов. Иногда с обеих сторон дороги возвышались сугробы высотой до десяти футов, однако бывало и так, что ветер сдувал весь снег, и трасса превращалась в своеобразную дамбу. Когда нам встречались другие сани, приходилось съезжать с дороги, что неизбежно означало холодный душ и невероятные усилия для нас и маленькой лошадки, чтобы вернуть сани обратно. На трассе было принято уступать дорогу нагруженным саням, а поскольку крестьяне, направлявшиеся в Кемь, всегда ехали с грузом, удача была не на нашей стороне. Однако подобные встречи происходили не чаще двух раз в день, и у нас было немного поводов для недовольства.
Микки прерывал монотонность нашей поездки, указывая на отверстия, которые проделывали для доступа воздуха лисы и другие животные. Своим острым зрением он различал их перемещения под снегом и однажды остановил сани, чтобы показать нам охоту, где в роли добычи выступал заяц-беляк. Мы различали лишь едва заметные движения под снегом, но он в деталях описывал перемещения охотника и добычи, как если бы видел это при ярком солнечном свете на фоне яркой листвы, а не в тусклых сумерках на бескрайней бело-серой поверхности без единого следа. Для его историй о призраках и феях трудно было найти более подходящую обстановку — даже перед камином где-нибудь в Англии они звучали бы далеко не так страшно. Огромная фигура Микки, закутавшегося в коричневую шинель, его покрытые инеем борода, брови и лицо, то, как он удерживал поводья в огромных почерневших ладонях — в любую погоду он ходил без рукавиц; его лошадка в длинной заиндевелой попоне, чьи чувствительные уши реагировали на каждый шорох, улавливая в черном лесу много звуков, недоступных нашему слуху, замерзавшие в воздухе облака пара, вырывавшиеся из ее ноздрей при каждом выдохе, давящая тишина, нарушаемая лишь звоном колокольчика на деревянной дуге и шелестом полозьев, — вся эта обстановка идеально подходила для рассказов о снежных духах и медведях-призраках.
Мы сделали первую остановку в Подужемье в доме, где я летом провел ночь и где мне не давал уснуть грохот водопада. Но сейчас скалы в реке были покрыты толстым слоем сплошного льда, и не было слышно даже слабого журчания. Все паразиты в доме «вымерзли», и после морозного воздуха на улице нагретая печь, стоявшая в углу чистой, без единого пятнышка гостиной, и кипящий самовар на столе казались замечательной сменой обстановки.
После того как мы осмотрели расположение нашего отряда и склады, нас посетил деревенский староста, у которого были жалобы — не очень-то убедительные — на нехватку припасов у гражданского населения, а также по поводу ряда вопросов личного характера; однако с этим мы быстро разобрались, и привычная улыбка окончательно вернулась на его лицо, когда мы поблагодарили его за гостеприимство.
Следующий день ничем не отличался от предыдущего — мы ехали дальше через леса, реки и озера, за тем исключением, что в одном месте свернули с прямого пути в сторону границы, чтобы посетить деревенскую заставу, на которой служили восемь человек во главе с сержантом Богдановым, одним из первых добровольцев и прекрасным солдатом. Он вручил нам взнос в Пенсионный фонд для вдов — маленькую коллекцию жемчужин, найденных им в раковинах, которые он доставал со дна реки через проруби. Они не представляли большой ценности ни формой, ни цветом, однако свидетельствовали об искреннем участии дарителя, и мы посоветовали ему продать их позднее.
Микки все утро испытывал беспокойство и понуждал послушного пони бежать быстрее, чем днем раньше. Когда мы спросили его о причинах этого, он показал нам несколько небольших завихрений, поднимавшихся со снежного покрова, и сказал: «Когда просыпаются снежные демоны, они приносят на хвостах метель. Через четыре часа начнется метель, а нам еще нужно пройти шестьдесят верст». Мы осознали, насколько аккуратным был его прогноз, когда вдали показались первые огоньки Панозера. Они тут же исчезли за такой толстой пеленой снега, поднятого яростным порывом ветра, что в ней было трудно различить даже фигуру нашего возничего, сидевшего лишь в трех футах от нас. Микки просто бросил поводья на спину лошади и приказал ей идти дальше. «Она разберется лучше», — объяснил он, и нам не пришлось разочароваться в его уверенности, так как- всего через десять минут Мышка вывела нас на деревенскую улицу, и вскоре мы сидели под крышей с привычным стаканом горячего чая, чувствуя, как оттаивают наши замерзшие конечности.
Метель не давала нам выйти на улицу в течение шестнадцати часов, что позволило маленькой лошадке немного отдохнуть, а небольшому гарнизону дало шанс продемонстрировать свое великолепное катание на лыжах. Очень преуспели в этом виде спорта деревенские ребятишки. Они также весьма позабавили нас, играя в местный вариант пятнашек, кувыркаясь так, словно их тела были резиновыми. Матери не испытывали беспокойства из-за их промокших ног, они лишь меняли льняные или хлопчатые портянки, которые карелы носили на ногах вместо шерстяных носок или гольф и зимой, и летом.
Чистое небо и яркая луна обещали хорошую погоду, когда мы, отдохнув, отправились дальше в Юшкозеро, до которого было шестьдесят километров. По дороге мы проверили две заставы, Соповарака и Сопасалма, где все было в полном порядке. На второй заставе капрал, который командовал здесь, сказал, что ему удалось завербовать в полк двух новых членов, после чего провел нас в дом рядом с казармой и показал пухлых малышей — близнецов месячного возраста. Он рассказал, что назвал одного Филиппом, в мою честь, а второго Николаем, в честь Менде. Это удостоило нас обоих чести в равной степени и без ущерба для чьего-либо самолюбия, но стоило мне двух последних полукрон из английских денег, еще остававшихся у меня, и установило моду, которая тяжелой данью легла на мои личные сбережения!
В Юшкозере мы увидели, что Хитон вместе со своими радиооператорами и карельскими друзьями устроились здесь совсем неплохо. Он набрал вес и научился сносно говорить на карельском языке. С особой гордостью он показал мне двухсотфутовую мачту, стоявшую рядом с его квартирой, и описал, как удалось поднять ее без какой-либо механической силы. После ее установки он мог получать новости с британских станций на своем переносном радиоприемнике.
Я провел большую часть дня, инспектируя его припасы и решая различные вопросы. У него возникли проблемы с распределением запасов рома. С точки зрения местных жителей, двухнедельной нормы рома вполне хватило бы на одно застолье, что не совпадало с нашими намерениями и не лучшим образом отразилось бы на дисциплине. Мы договорились перепрятать ром в определенном месте, из которого он мог бы легко его брать, чтобы расходовать постепенно и в небольших количествах, пока тот не закончится. Кроме того, мы решили не посылать ему больше рома, за исключением того, что предназначался для его непосредственных подчиненных, а также на случай непредвиденной ситуации. Небольшой запас был оставлен и в местной больнице. Мы также договорились об отправке еще одного транспорта на северных оленях, так как конные сани, имевшиеся в его распоряжении, не справлялись с развозом припасов по окрестным деревням.
Мы сообщили Хитону наш маршрут, чтобы в случае необходимости он мог переправить нам срочное сообщение с лыжником.
Нашей следующей остановкой была Лусалма, находившаяся примерно в сорока верстах, и к полудню мы добрались до нее без каких-либо происшествий. Едва мы успели поговорить с командовавшим здесь сержантом, как прибыл лыжник, покрытый снегом и инеем до неузнаваемости — он проделал весь путь, держась за поводья быстрой лошади, чтобы доставить от Хитона срочное сообщение из Кеми, посланное Дрейк-Брокманом. Оно было зашифровано нашим личным секретным кодом и требовало моего срочного присутствия в Кеми.
Серьезность сообщения была очевидной, так как в нем отсутствовало сколько-нибудь четкое или подробное изложение причин его отправления. Несомненно, Дрейк-Брокман опасался, что его могут получить и расшифровать на какой-либо другой станции. Нам оставалось только вернуться как можно быстрее, и, приказав Микки приготовиться, мы с некоторыми опасениями начали настраиваться на обратную поездку, обсуждая, что же мы встретим в ее конце.
Мы обсудили с Микки, не нужны ли нам свежие лошади, и он с неохотой признал, что «малыш» не сможет проделать весь путь без отдыха, поэтому перед отправлением мы послали к Хитону другого карельского гонца. Он должен был предупредить Хитона, чтобы тот приготовил к нашему прибытию другую лошадь и горячую еду, а также сменных лошадей в Маслозере. Микки настоял на том, чтобы править всю дорогу и оставить своего обожаемого друга у одного из своих бесчисленных кузенов в Юшкозере, пока не сможет вернуться за ним. Мы решили поберечь маленькую лошадку, так как она уже пробежала свою дневную норму и начала показывать признаки усталости, поэтому наш вестник намного обогнал нас, и Хитон успел выбрать для наших саней хорошую лошадь и выслать вперед лыжников, чтобы на следующих остановках тоже подготовились к нашему прибытию. Я послал Дрейк-Брокману радиограмму, в которой согласился сходить с ним в зоопарк, и предупредил Хитона, чтобы он не ссылался на меня в своих сообщениях или радиограммах; я также пообещал известить его, если будет намечаться какая-либо заварушка.
Через двадцать минут мы снова были в пути. На этот раз сани тащила огромная серая лошадь высотой шестнадцать ладоней; она была очень сильной, однако для наших низких саней шла слишком высокой рысью, и мы подвергались постоянной бомбардировке снежками, вылетающими из-под ее копыт. Впрочем, мы не жаловались, так как бежала она хорошо, и для ее веса наши легкие сани казались не более чем балластом. До нашей первой остановки было всего двадцать верст, и Микки как следует погонял лошадь, зная, что скоро ее сменят и нам не придется ждать, пока она отдохнет — до Соповараки нам оставалось всего полчаса. Там мы задержались лишь на несколько минут; на этот раз нам дали крепкую черную кобылу, которую Микки, как оказалось, хорошо знал и которой с удовольствием правил.
Следующая смена лошадей предстояла только через шестьдесят верст, и на этот раз наш ямщик правил гораздо аккуратнее, иногда позволяя кобыле перейти на быстрый шаг. К счастью, местность была почти без холмов, а когда дорога становилась неровной, то шла под гору и тащить наши сани было не так тяжело.
Во время этой части поездки фортуна оказалась к нам менее благосклонной. Мы не успели отъехать далеко, как луна скрылась за тучами и снег, поднятый сильным ветром, начал бить в лицо. Через несколько секунд мы уже пробирались сквозь густую метель, в воздухе было столько снега, что дышать можно было лишь с трудом, не помогал и брезент, натянутый на сани. Завывание ветра и свист снежных вихрей, крутившихся вокруг нас, напоминали шум бушующего моря. Нельзя было разглядеть ни Микки, ни что-либо еще — лишь гонимый ветром снег, который врезался в легкие, словно нож, и пробирал нас холодом до самого сердца. Лишь когда сани встряхивало, мы понимали, что еще движемся, и все наши одеяла, шкуры, меха и валенки не могли защитить нас от ужасного холода, от которого кровь стыла в венах. Мы оба почти достигли полусознательного сонного состояния, но внезапно проснулись, испугавшись крика Микки, который хотел, чтобы мы поднялись на ноги. Он прокричал, что метель скоро закончится, а его лошадь знает каждый дюйм этой дороги. Он спрашивал нас о чем-то, чтобы мы ему отвечали и не засыпали. Мы почти оставили надежду пережить эту ночь, когда вдруг заметили, что метель пошла на убыль, и вскоре ветер стих так же внезапно, как и поднялся. Через несколько минут на чистом небе сияла яркая луна, и мертвая тишина, которую лишь время от времени нарушал треск ветки, обломившейся под тяжестью снега, снова царила над этой страной неистовых контрастов.
Температура упала еще ниже, но сейчас, по крайней мере, мы могли дышать медленно и без боли через шерстяные шарфы, с которых нам часто приходилось стряхивать лед, образовывавшийся от нашего дыхания.
Последние несколько верст нашего пути лежали через густой сосновый лес, где тени казались такими же материальными, как сами деревья. В далеком Маслозере не горел ни один огонек, сверкающие крыши не позволяли определить точное расстояние до деревни, но обещали тепло и безопасность. Приближаясь к ней, мы не заметили ни единого движения на ее белых улицах, но едва мы поравнялись с первым домом, как вздрогнули от тихого голоса, раздавшегося рядом с санями. Его источником была фигура в плаще и со штыком, приказавшая нам остановиться. Через несколько мгновений крепкий сержант уже вел нас в здание школы. Он объяснил, что нас ожидали три часа назад и он уже собирался выслать группу на поиски. Оказывается, было три часа ночи и мы провели в дороге больше восемнадцати часов. По нашим же ощущениям, прошло несколько лет.
Мы испытали такое сильное облегчение после бури и холода, что почти не обратили внимания на окружающую обстановку; словно во сне, мы сели на чистые деревянные стулья, и молодая женщина, укутавшаяся в одеяло, попросила нас подождать, пока она вскипятит самовар. Мы осознали, что находимся в маленькой школьной комнате. В желтом свете единственной масляной лампы мы смогли различить дюжину маленьких парт, несколько карт на стенах и доску. Скоро вернулась молодая женщина, одетая в кофту и юбку, и принесла самовар, который она поставила на маленький столик. Показав на дверь, она предложила нам снять наши шинели в соседней комнате, где было теплее. Эта комната, судя по всему, была ее спальней и гостиной. Один угол был целиком занят большой кроватью под балдахином с красными занавесками, которые были задернуты. В другом углу стояла огромная печь для отопления и приготовления пищи, на ней же в двух футах от потолка было наше спальное место. Обстановку завершал стол из белого дерева, два виндзорских стула и красивая икона, перед которой горела масляная лампадка.
Мы рухнули на стулья и начали медленно снимать с себя верхнюю одежду, пояса и револьверы, оставляя их на полу там, куда они падали. Мы так расслабились в тепле этой комнаты, что не имели желания сдвинуться хотя бы на дюйм. Наши стулья стояли напротив двери, между кроватью и печью, икона оказалась прямо за мной. Полная тишина дома окутала нас подобно толстому покрову, она была почти осязаемой и начала петь в наших ушах.
Прошло какое-то время. Мне вдруг послышался вздох, хотя ему неоткуда было взяться — я знал, что Менде не двигался и ничего не говорил. Я списал этот звук на игру воображения, но скоро услышал еще один и, взглянув на кровать, увидел, что занавески слегка колышутся. Я указал Менде на занавески, шевеление которых стало более заметным. Мы ожидали, что сейчас появится домашний кот, но то, что предстало перед нашими глазами, разом прогнало весь сон. В нашу сторону шагнула высокая, совершенно нагая девушка с улыбающимся лицом, обрамленным длинными русыми волосами, протягивая к нам руки самым дружелюбным образом.
Я прошептал Менде: «Не двигайся, она спит». Но, взглянув на ее глаза, я понял, что она бодрствует, хотя и не отдает себе отчета о своем необычном наряде. Наткнувшись на мои ремни и револьвер, она остановилась, подняла кобуру и шепотом завела разговор с кем-то невидимым моему глазу, кто, судя по словам девушки, опирался на спинку моего стула. Я почувствовал, как у меня на затылке волосы встали дыбом, и через несколько секунд мне уже казалось, что я ощущаю на шее чье-то дыхание.
В диалоге, в котором мы могли слышать только реплики девушки, обсуждалась наша внешность, национальность, обмундирование и причина нашего появления. На все свои вопросы, насколько мы могли судить по комментариям нашей гостьи, она получала вполне удовлетворявшие ее ответы.
Чары спали лишь тогда, когда в комнату торопливо вошла наша хозяйка. Она схватила с кровати лоскутное одеяло и, быстро прикрыв девушку, спешно вывела ее из комнаты. Она возвращалась еще несколько раз, чтобы взять более привычную одежду, каждый раз принося нам массу извинений, пока, наконец, не зашла еще раз и не сообщила, что готов чай и хлеб. Воспользовавшись моментом, она объяснила, что наша поздняя гостья была душевнобольной, находившейся под ее присмотром. Она сказала, что девушке четырнадцать лет и она осталась без матери, а также что она обладала способностью видеть невидимых людей, с которыми время от времени начинала разговаривать. С испуганным видом она умоляла нас никому не рассказывать о поведении девушки, поскольку, если о нем станет известно, власти заберут ее из опеки ее друзей и поместят в лечебницу. Мы пообещали не разглашать эту тайну. Это не принесло бы нам никакой выгоды, да и было бы просто жестоко выдать нежное создание за опасную сумасшедшую. Несложно было представить, какое обращение ждало бы ее в руках официальных лиц наподобие тех, с кем нам уже довелось познакомиться.
Подкрепившись чаем и хлебом, мы сняли сапоги, забрались на верх печи и провели там два часа в полуудушье до появления Николая. Он прибыл из Кеми, чтобы встретить нас и подготовить к ситуации, сложившейся в городе. После очередной порции чая с хлебом мы почувствовали, что снова готовы отправиться в путь. Чтобы нас не заметили возможные недоброжелатели, Николай повез нас круговым маршрутом в обход Подужемья и главной трассы, соединяющей окрестные деревни.
Согласно информации Николая, которую позже полностью подтвердил Дрейк-Брокман, староста Подужемья предупредил наших русских коллег из Мурманской армии, что я уехал из Кеми на планируемую инспекцию пограничных застав и должен был отсутствовать в течение нескольких недель. В соответствии с этим они разработали план по разоружению карелов под предлогом готовящегося мятежа, после чего были бы казнены карельские офицеры и захвачена Кемь; я, якобы, знал обо всем этом и, получив предупреждение, бежал в Финляндию. Операция была назначена на воскресное утро, когда многие карелы должны были находиться на богослужении.
Заговорщики тщательнейшим образом продумали все детали своего плана, но не приняли во внимание нашу разведывательную службу и радиостанцию в Юшкозере. В то время как по их расчетам мы находились в четырех или пяти днях пути от Кеми, мы вернулись в город в пятницу вечером накануне предполагаемого «переворота».
Мне хотелось избежать любых конфликтов, которые могли бы вспугнуть наших друзей и выдать наши источники информации. Григорий и Николай настаивали на том, чтобы арестовать и тут же повесить зачинщиков. Но даже полагая, что этот шаг мог предотвратить значительные волнения и, возможно, спасти драгоценные жизни в будущем, я был тем не менее уверен, что главнокомандующий крайне неодобрительно отнесется к подобным действиям, даже если они и вызовут глубокое удовлетворение среди рядового состава Мурманской армии. Все это было слишком противоестественно. Я мог лишь сделать вид, что нахожусь в полном неведении, и ограничиться рутинной сменой охраны и караулов; поэтому утром в субботу два британских офицера разместились в казармах Карельского полка, а еще один британский офицер взял командование над всеми караулами на станции и в городе. Карелы, охранявшие железнодорожный мост, были усилены пулеметной командой морских пехотинцев с «Льюисом», дополнительными пулеметами была вооружена и охрана штаба.
Когда в субботу я вышел из штаба, я с большим трудом мог сохранить безразличный вид. Почти каждый встретившийся мне русский чиновник так пристально рассматривал меня, что было нетрудно понять: мое появление оказалось неожиданным и нежеланным. Их удивление было столь сильным, что они забыли о своей обычной преувеличенной вежливости и просто глазели на меня. Я воспринял это как искренний комплимент. Едва ли нужно говорить, что я взял на заметку тех, кто проявил досаду и тем самым выдал свою вину. Разумеется, их заговор был на время отложен, в воскресенье ничего не произошло, однако мы не ослабили бдительности и не снимали дополнительную охрану еще в течение нескольких последующих недель.
ГЛАВА 10. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НЕЗАВИСИМОСТИ
Численность войск, находившихся в распоряжении кемского командования, постоянно росла. В дополнение к Королевским инженерным войскам, артиллерии и Королевской службе снабжения и транспорта был прислан полностью укомплектованный полевой госпиталь под командованием подполковника Босвелла. Он разместился на Поповом Острове вместе с французской гаубичной батарей и отрядом Карельского полка.
Для обустройства госпиталя на новом месте Босвеллу после его прибытия была предоставлена нестроевая рота Карельского полка, и потом он время от времени просил дежурного карельского офицера направить в его распоряжение определенное число солдат. В одно прекрасное утро эта практика привела к ситуации, позабавившей весь полк.
Офицер, недавно переведенный из вспомогательных войск, выстроил больных для регулярного утреннего медосмотра, когда прибыла карельская нестроевая рота во главе со своим сержантом. Доктор не знал ни слова на их языке, карелы также не знали ни слова по-английски, однако они привыкли подчиняться приказам британского офицера в любых обстоятельствах. С должной серьезностью он подверг их тщательному осмотру, в результате которого отправил пятерых из них на стационарное лечение, еще четверым наложил повязки на обморожения, которых в обычной жизни они даже не замечали, а про остальных записал: «Оказана медицинская помощь без освобождения от занятий и нарядов». Сержант получил от доктора большую дозу английской соли[41], после чего, усмехаясь, отвел уцелевших — и весьма развеселившихся — солдат обратно в казарму.
Вскоре прибыл дневальный подполковника Босвелла с запиской от его адъютанта, в которой тот спрашивал, не забыли ли карелы прислать нестроевую роту. Тогда в госпиталь отправился дежурный офицер Карельского полка, чтобы разобраться в ситуации и сообщить адъютанту, что он опасается, не попадет ли в стационар вся рота, если он выделит госпиталю еще солдат. Не знаю, что на это ответил подполковник.
Помимо упомянутых пополнений, в Кемь прибыл бригадный генерал Тернер, который заместил генерала Марша на посту командующего 237-й бригадой — тот, к сожалению, был вынужден из-за проблем со здоровьем вернуться в Англию. Штаб-квартира этого разношерстного соединения располагалась в Кандалакше, однако полковник Льюин, начальник мурманского штаба, считал, что наличие в Кеми старшего по званию офицера станет отличным средством против комплекса превосходства, от которого, по его мнению, страдал я. Можно только гадать, насколько это мнение отражало советы его русских друзей; мы лишь беспокоились по поводу инструкций, данных полковником Льюином бригадному генералу, суть которых можно выразить во фразе: «Вудса нужно обуздать». С этим подходом необходимо было что-то сделать, так как он создавал подозрительную и нездоровую атмосферу в отношениях между генералом Тернером и штаб-квартирой Карельского полка, тем более что штаб бригады и квартира генерала располагались в соседних домах. Однако после того, как первая неделя прошла без каких-либо попыток приструнить меня, и узнав о том, что генералу Тернеру до смерти надоели его подчиненные, как-то днем я решил нанести ему визит как офицеру старше меня по званию и представиться.
Было заметно, что у генерала обо мне сложилось довольно странное впечатление, так как его приветствие заключалось во фразе: «Ну, и что вы хотите?» При этом он быстро оглянулся вокруг, словно в любой момент был готов схватить какое-нибудь оружие для самозащиты!
Он был весьма удивлен — и, возможно, успокоен — простым ответом: «Чаю, с вашего позволения».
С этого момента напряжение исчезло, и мы стали хорошими друзьями. Познакомившись с ним поближе, я узнал, что натянутость в наших отношениях была совершенно необоснованной. Он сам абсолютно верно разобрался в подоплеке инструкций из Мурманска и ни на минуту не задумывался о том, чтобы выполнить их или вмешаться в командование Карельским полком и в управление округом.
Полковник Стил из Военного министерства в Лондоне с самого начала существования Карельского полка живо интересовался его делами и оказывал неоценимую помощь, напрямую пересылая нам нужное оснащение. В числе прочего он подарил нам оркестровые инструменты необычной формы. В это время он отправил нам то, в чем мы наиболее нуждались, — британских младших офицеров. Он сообщил, что тщательно проверил их всех и остался удовлетворен их подготовкой. Изначально было послано двадцать восемь человек, но к тому времени, как они добрались до нас, их число сократилось более чем наполовину: большая часть отсеялась в Мурманске, оставшись служить при штаб-квартире главнокомандующего. Даже несмотря на это, мы остались более чем довольны теми, кто прибыл в Кемь, так как все они были в избытке наделены острым умом, отвагой и инициативой. Позднее некоторым из этих юных офицеров пришлось взвалить на свои плечи ответственность, сравнимую с командованием бригадой, и все они с честью выдержали это испытание.
Вместе с офицерами, отобранными полковником Стилом, в Карельский полк были назначены несколько младших офицеров одного из батальонов прибывшего в Россию Уэст-Йоркширского полка, которые поступили на службу добровольцами. Они оказались замечательными парнями и с большим энтузиазмом отнеслись к службе в полку.
Теперь мы смогли значительно улучшить организацию Карельского полка, поставив британских офицеров во главе всех рот, расквартированных в Кеми, и выслав двоих вглубь страны в помощь Хитону. В самом городе ценным приобретением для полка стал наш новый адъютант, лейтенант У. Э. Батлер. Раньше он служил в Манчестерском полку, но потом попал в плен к немцам и был репатриирован после окончания войны. Он отличался инициативой и обращался с карелами очень тактично. Капитан Гиллинг, ранее служивший в Королевской гарнизонной артиллерии, был назначен гарнизонным адъютантом, а лейтенант Лонг из Колдстримского гвардейского полка был направлен командовать в Сороке. На этой опасной и трудной должности он проявил себя с блеском, несмотря на свою молодость. Лонгу часто приходилось иметь дело с критическими ситуациями и принимать решения, полагаясь исключительно на себя. В целом, все новые офицеры проявили себя с лучшей стороны во время службы в Карельском полку или в округе, и все, как один, относились к этой работе с огромным интересом и энтузиазмом.
В конце января Григорий и Николай попросили меня о встрече по частному делу, на которую они также изъявили желание привести трех гражданских друзей из Карелии. На самой встрече выяснилось, что это были старосты Ухты и двух других больших сел, расположенных еще дальше к западу. Они спросили, могут ли изложить свое дело не официальным образом, а в частном порядке, чтобы получить мой совет, и тут же сказали, что осведомлены о намерениях британцев в ближайшем будущем уйти из России и что боятся снова оказаться под русским господством. Что, спросили они, мог бы посоветовать им я и какие действия я бы предпринял, если бы сам был родом из Карелии?
Я решил отвечать на их вопросы так, как это принято в Ирландии, — задавая новые, и в результате расспросов узнал, что среди карелов необычайно вырос национальный дух и что в той же степени, как они невзлюбили финнов, они ненавидели и не доверяли русским, поэтому хотели стать независимой нацией — если, конечно, это было возможно.
Я искренне сочувствовал этим людям, оказавшимся в столь затруднительном положении. С географической точки зрения их расположение едва ли могло быть хуже. Россия была их соседом на севере от Финляндии и практически до Кандалакши на Белом море, а также на востоке от южного берега Белого моря и почти до Петрограда на юге. Вдоль всей западной границы — от северо-запада до юго-запада — лежала Финляндия, и, таким образом, Карелия представляла собой вытянутую территорию в форме клина с единственным выходом в районе Белого моря.
Дать совет в этом вопросе означало принять на себя серьезную ответственность, и я попросил у них немного времени, чтобы обдумать лучшее, с моей точки зрения, решение при любом возможном развитии событий. Они согласились подождать, но в то же время сказали, что хотели бы проконсультироваться с бывшим премьер-министром Финляндии[42], который сейчас служил солдатом у майора Бертона, и попросили организовать прибытие этого человека в Кемь в течение ближайших дней. Я четко дал им понять, что все переговоры с ним будут вестись в присутствии моего переводчика и ни о какой нелояльности по отношению к союзникам не может идти и речи. Только после этого я согласился попросить майора Бертона прислать месье Токоя в Кемь в качестве моего гостя.
Майору Бертону хватило одного намека, чтобы экс-премьер-министр, озадаченный причинами этого приглашения, в должное время прибыл в штаб Карельского полка. Он оказался тихим небольшим человеком с умным лицом, широким и обветренным, и серыми глазами — типичная внешность для всех северян, с которыми я встречался и от которых вряд ли отличил бы его. Однако когда он заговорил, его глубокий и звучный голос, способный выразить все, что угодно, выдал в нем опытного оратора. Бертон предусмотрительно послал и переводчика с прекрасным знанием английского языка, чтобы мы оставались в курсе всех переговоров. Этот человек, капитан Лехтимяки, мог служить прекрасным образцом мужественности, однако его политические взгляды были безнадежно красными. Впрочем, он дал мне слово, что не будет говорить о политике в Кеми за пределами нашего штаба, и честно сдержал его.
Рекомендации, данные финским политиком, полностью отразили его профессию — они были чрезвычайно длинными и предельно туманными, однако его было интересно слушать, а его идеи о политическом устройстве были вполне разумными. Чтобы помочь Григорию и Николаю услышать то, что в будущем могло оказаться для них полезным, я постарался, насколько это было возможно, перевести месье Токоя на разговор о финской конституции. Сделать это было несложно, поскольку конституция и ее реформа оказались его любимой темой, в то же время это обсуждение дало нам максимум полезной информации по вопросам практической работы правительства.
Токой гостил у меня уже в течение двух дней, когда из мурманской штаб-квартиры главнокомандующего на мое имя пришла длинная телеграмма, в которой сообщалось, что из Кандалакши «сбежал» финн по фамилии Токой, предположительно направлявшийся в Кемь. В случае, если он окажется в моем округе, я должен был арестовать его и поместить под надежную охрану, так как он чрезвычайно опасный человек.
Этот приказ поставил меня перед неприятной дилеммой. Арест собственного гостя едва ли мог рассматриваться как проявление гостеприимства; с другой стороны, нельзя было игнорировать приказ. Я сообщил в Мурманск, что финн находится под моим надзором, и обещал отправить им подробный отчет. Однако до того, как мой осторожный отчет смог достичь штаб-квартиры, мы получили еще один, на сей раз категорический приказ немедленно поместить финна под строгий арест и доложить об исполнении. На этот раз нам оставалось только подчиниться. Месье Токой был, разумеется, крайне удивлен, когда доктор внезапно настоял на тщательном медосмотре, но его изумление достигло предела, когда его поместили в госпиталь с диагнозом «аппендицит». Без сомнения, с политической точки зрения он уже какое-то время был больным человеком, но сейчас ему, пожалуй, впервые был поставлен диагноз до того, как он в действительности подхватил заболевание. Мы тут же отправили телеграмму в Мурманск, подтвердив выполнение последнего приказа.
Мы навестили нашего пациента в госпитале и принесли с собой еду и напитки для восстановления сил, которые едва ли предусматривались его диетой. В то же время персонал госпиталя создал ему такие комфортные условия, в которых ему давно не доводилось жить. Через две недели он вернулся из Кеми в Кандалакшу с самыми приятными впечатлениями о нашем гостеприимстве.
Мурманск больше не вспоминал об этом деле, скорее всего, потому что в своем подробном докладе я уделил особое внимание своему присутствию на всех встречах между карелами и «опасным» финном, благодаря чему из первых рук мог получить информацию о всем происходящем. Аналогичные встречи произошли бы в любом случае, только без нашего знания или участия, и их результаты, скорее всего, были бы совершенно иными. Через некоторое время генерал Мейнард намекнул мне, что я играл с огнем. Возможно, он был прав, но я не могу не думать, что все мы занимались этим, хотя, возможно, не все осознавали этот факт.
Примерно через шесть недель после описываемых событий из официальных русских источников поступила секретная информация. Она в зловещих подробностях представила совещание карелов в Кеми, организованное для подготовки массовой резни всех британцев на севере России. Планы «бунта» описывались с такими подробностями, что этот подвиг воображения мог бы вполне заслужить мое уважение гениальностью его авторов, если бы не удивительное сходство с недавним заговором, из-за которого я был вынужден поспешно покинуть Лусалму.
Я дал карелам свой совет по поводу их планов на будущее и попросил как следует обдумать его, прежде чем предпринять какие-либо действия, которые могли бы использоваться их врагами в своей пропаганде. Они пообещали так и поступить. Наши офицеры находились в постоянном контакте с их солдатами и смогли подтвердить мою уверенность в отсутствии среди них какого-либо беспокойства или даже малейшего проявления недовольства. Они были все время чем-то заняты. По вечерам их свободное время занимал наш новый ансамбль балалаек и мандолин, а днем было дежурство на различных постах в городе и на станции, занятия с пулеметом Льюиса или лыжная подготовка.
Время от времени крестьяне или перегонщики с наших транспортов приносили вести о медведе, и тогда несколько карелов организовывали охоту. Едва ли это можно назвать «охотой» с точки зрения англичан, поскольку у животного не было никаких шансов спастись от смерти. Как правило, берлогу медведя обнаруживал некий внимательный наблюдатель, который мог увидеть едва заметные пары дыхания, поднимающиеся над заснеженным берегом или другим подходящим местом. Он отмечал это место и рассказывал о нем в ближайшей деревне. После этого три или четыре человека с ружьями и собаками шли на место действия. Мужчины занимали позиции перед берлогой и отпускали собак, чтобы те подняли косолапого. Потревоженный во время зимней спячки, голодный и злой, медведь выскакивал наружу, чтобы разорвать своих мучителей, и иногда делал это так быстро, что калечил одну-две собаки. Однако в остальном результат был один и тот же: пули охотников находили свою цель. Для собак была особенно опасна медведица с двумя-тремя медвежатами, и даже бывали случаи, когда ее убивали лишь после того, как она, защищая потомство, ранила одного из охотников. Особенно опасны были медведи с белой шеей, питающиеся мясом. Поскольку охотники не знали, что делать с медвежатами, они обычно убивали их вместе с матерью.
Нам подарили одного из таких медвежат, оставшегося сиротой. Это был бесформенный комочек коричневого меха, размерами едва ли больше скотч-терьера. Несколько недель мы кормили его из соски, пока он не научился есть из блюдца. Вначале он был очень робок, все время прятался по углам и жалобно звал мать, но скоро сдружился с щенками дворняжки, помесью овчарки и ретривера, которых нам также подарила самым естественным образом их бездомная мать. Щенки были примерно того же размера, что и медвежонок, но мишка бегал быстрее и у него была не одна дюжина хитрых уловок, чтобы дурачить их. Он доставил нам немало приятных минут, преследуя или спасаясь бегством от щенков — игра, из которой он всегда выходил победителем. Его огромным недостатком была поразительная нечестность; никакое наказание не могло отучить его воровать варенье или сахар при любом подходящем случае, и прислуге офицерской столовой Карельского полка приходилось все время быть настороже, пока они накрывали на стол, чтобы защитить его от набегов, которые планировались с необычайной хитростью и осуществлялись молниеносно, смело и со сноровкой.
Через два месяца его рост достиг примерно трех футов и он стал слишком тяжелым для щенков, поэтому для развлечения ему пришлось полагаться исключительно на самого себя. У него появилось другое любимое времяпрепровождение: он занимал стратегическую позицию за дверью, ведущей во двор, где, никому не видимый, мог наблюдать, не отрываясь, одним озорным глазом за пространством между воротами и забором, через которое хорошо просматривалась дорога и идущий мимо скот. Когда первая корова проходила мимо ворот, он подскакивал к ней сзади, от чего та в панике мчалась по дороге, в то время как медвежонок гнался за ней, подскакивая, словно коричневый шарик. Примерно через сто ярдов он бросал погоню и с удивительным проворством скатывался с дороги, спасаясь от наказания, которое сулила бы ему поимка разгневанным пастухом. Когда все стихало, он возвращался в свою засаду, где готовился к следующей вылазке.
С нашим ручным мишкой был связан один забавный случай. Майор Харт из Канадского шотландского полка прибыл в Кемь в пять часов утра со срочными донесениями для меня. Я приказал дневальному, который принес их в мою комнату, разбудить прислугу офицерской столовой, чтобы они приготовили для майора завтрак, и предложить ему журналы из наших старых запасов, пока я буду одеваться. Прочитав донесения, я не торопясь побрился и оделся: никаких причин для спешки не было. Лишь примерно через три четверти часа я открыл дверь офицерской столовой и был изрядно удивлен зрелищем, открывшимся моим глазам.
Медведь Нобс
Майор Харт сидел в кресле, вжавшись как можно глубже в спинку, абсолютно неподвижно. Его лицо было белее мела, и он не отрывал взгляда от коричневой фигуры Нобса, который самым наглым образом сидел на столе среди тарелок, прижав одной лапой к груди миску со сливово-яблочным вареньем и слизывая его же с другой лапы, которой он зачерпывал варенье из миски. Маленький негодяй настороженно смотрел на меня и не двигался до тех пор, пока я не подошел к нему и не занес руку, чтобы надрать ему уши; тогда, словно коричневая вспышка, он проскользнул под моей рукой и исчез в открытой двери.
Выражение лица майора Харта стоило того, чтобы на него посмотреть. Примерно с минуту он не мог выдавить ни слова; потом, вытирая со лба пот, рассказал мне, что он уже приступил к завтраку, как внезапно осознал, что с другого края стола его внимательно изучает медведь! Зверь приблизился к нему совершенно бесшумно, и майор боялся позвать на помощь или хотя бы пошевелиться, поэтому примерно двадцать минут сидел абсолютно неподвижно, в любую минуту ожидая нападения медведя, который тем временем опустошил всю сахарницу и преспокойно доедал варенье. Мне стало жаль Харта, и я воздержался от шуток над ним. Он был хорошим офицером и позднее прекрасно проявил себя, командуя карельским подразделением в Полярном Круге.
Через несколько дней после возвращения месье Токоя в его отряд в Кандалакше враждебные нам элементы в русских кругах предприняли решительные усилия, чтобы избавиться от Мащерина и лишить нас его бесценных услуг. Мы давно опасались, что рано или поздно им станет известна его роль в исчезновении их бандитов, и та настойчивость, с которой они принялись за его устранение, подтвердила наши худшие страхи. Первым шагом в этом направлении стал приказ от какого-то ученого мужа из Архангельска, согласно которому Мащерину надлежало немедленно прибыть туда для исполнения служебных обязанностей. И мы, и Мащерин прекрасно представляли себе, что это означает, поэтому я отменил приказ, аргументировав это незаменимостью Мащерина в Кеми.
Через несколько дней в его квартиру были посланы два сержанта и четыре солдата с приказом арестовать его по сфабрикованному обвинению в фальсификации ведомостей по расходам. Мы вовремя перехватили этот ход, приказав эскорту доставить обвиняемого в наш штаб вместе со всеми ведомостями. Когда это было сделано, к нам пришел младший офицер и предъявил Мащерину обвинение в присвоении заработка и рационов двух солдат, которые на самом деле не числились в личном составе. Проверка ведомостей, которую мы провели в присутствии обвинителя, показала, что обвинение было совершенно беспочвенным. По моему совету Мащерин потребовал, чтобы перед ним извинились и указали ему имя настоящего обвинителя, однако ни того, ни другого мы так и не дождались. Нам еще повезло, что мы успели забрать подшивки с ведомостями до того, как они были конфискованы, и что в них не успели внесли изменения, которые бы подтвердили обвинения.
Тишина продолжалась лишь один день. Потом позвонил один из подчиненных Мащерина и сообщил, что Мащерин был еще в постели, когда пришли два офицера, чтобы арестовать его, и сейчас они ждут в его квартире, пока он оденется. Мы спешно снарядили Менде и двух морских пехотинцев, чтобы «арестовать» Мащерина и тут же препроводить его в наш штаб. Менде едва успел забрать пленника из рук крайне недовольных конвоиров. После недолгого спора он убедил этих двух молодых офицеров последовать за ним, чтобы перекусить у нас в штабе. Несмотря на то, что мы вручили им письмо, которое должно было объяснить причину неудачи их начальству, они явно боялись возвращаться в русский штаб. Они объяснили, в чем заключались обвинения против Мащерина: он «не выполнил приказ и не посылал отчеты в Архангельск».
Мы в очередной раз проконсультировались с нашим находчивым другом, офицером медицинской службы, и диагноз оказался настолько серьезным, что Мащерина тут же пришлось положить в госпиталь. Мы думали, что там он будет в безопасности, однако сильно ошибались. Он пролежал в госпитале три дня, а на четвертую ночь его оглушили прямо в кровати, засунули в рот кляп, связали и увезли в санях, набросав сверху мешки и одеяла для маскировки.
В течение двух дней мы тщетно пытались узнать о его судьбе, а вечером третьего дня из Кеми на станцию прибыл взвод Мурманской армии вместе со своим грузом. Где-то среди узлов с постельными принадлежностями находился бедняга Мащерин, связанный по рукам и ногам и накрытый одеялом, как тюк. Мы были бессильны: мы не могли обыскивать имущество наших союзников. Тем не менее я написал начальнику Мащерина, что, хоть я и не требую от него ответа или комментариев, я был бы очень признателен, если бы он сообщил капитану Мащерину, когда тот прибудет в Мурманск, что генерал Мейнард хочет поблагодарить его за отлично проделанную работу. Это возымело хоть какое-то действие, потому что мы получили от Мащерина из Мурманска прощальное письмо, в котором он выражал признательность за все попытки спасти его жизнь и сообщал, что штаб британских сил в Мурманске был к нему очень добр, однако сейчас его переводят в Архангельск в качестве заключенного, и судя по охране, приставленной к нему на эту поездку, у него нет надежды добраться до пункта назначения живым.
Было грустно читать это письмо, однако ничего другого мы и не могли ожидать от наших беспринципных мурманских союзников. Сейчас было более чем очевидно, что они не остановятся ни перед чем и сделают все, что в их силах, чтобы лишить нас любой поддержки.
Нам не пришлось долго ждать следующей встречи с их методами. Учебной частью Мурманской армии, которая была расквартирована между Сорокой и Кемью, командовал тихий и квалифицированный офицер, всегда готовый помочь союзникам, проявлявший исключительную пунктуальность в вопросах снабжения и скрупулезность в своих отчетах. Оттого неожиданным был выговор, полученный им из штаб-квартиры Мурманской армии за то, что он набрал недостаточно новобранцев (хотя это не входило в его обязанности). Вслед за этим он получил совершенно необоснованный выговор за отсутствие дисциплины, проявленное его подчиненными.
Сначала он сказал мне, что, как ему кажется, его скоро сместят с должности, однако я не думаю, чтобы он предвидел то, как в действительности будет организована его отставка, которая состоялась сразу же после получения им второго выговора.
В качестве генерал-губернатора Севера России был назначен, предположительно с подачи союзников, некий Ермолов[43], который в этой должности и посетил Кемь. Он прибыл однажды утром вместе со своим штабом в специальном поезде с персональными вагонами. Как того требовали приличия, я посетил его вместе с Менде в качестве переводчика. Заставив нас прождать надлежащее время, чтобы я почувствовал свою незначительность, генерал-губернатор принял нас без какой-либо обходительности, а его штабные офицеры и вовсе были настроены к нам откровенно враждебно и презрительно посматривали на мою полевую форму. Я не был обескуражен этим приемом и пригласил генерал-губернатора и одного из его офицеров на ужин в наш штаб. К моему удивлению, он принял приглашение и даже прибыл вовремя вместе со своим адъютантом, что было еще большим сюрпризом, так как пунктуальность не была привычкой, которой дорожили русские.
У меня сложилось о нем впечатление как о человеке честном, но не обладающем достаточной силой воли, чтобы контролировать разрушительные силы, которыми он был окружен. Он был коренастым и невысоким, с серьезным загорелым лицом; если ему смотрели в глаза, то он не отводил взгляд. Поздравив Карельский полк с успехом в его маленькой осенней кампании, он сказал, что до него дошли слухи о мятежах и предательстве в Кемском округе. Я ожидал подобного вопроса и честно рассказал ему о сложившейся ситуации, об отношении карелов к России и о предательской политике по отношению к союзникам со стороны некоторых из его офицеров, которые не останавливались перед убийством, чтобы достичь своих целей. Я также поделился с ним наблюдением, над которым давно задумывался, что в определенном отношении карелы напоминали ирландцев: ими можно было руководить, но не погонять.
О том, каких успехов мы добились с помощью этой открытой дипломатии, можно судить из инцидента, произошедшего на следующий день. Наш друг полковник, командовавший учебным отрядом, получил приглашение от генерал-губернатора и был принят очень доброжелательно в его специальном вагоне. После поздравлений по поводу отлично выполненной работы его пригласили в вагон-ресторан и в конце обеда налили бокал вина. Через минуту он уже лежал мертвый рядом с поездом.
Мы постарались устроить убийцам как можно больше проблем, приказав доктору и полиции морской пехоты эксгумировать тело, чтобы провести посмертное вскрытие. Единственным результатом была необходимая шумиха, которая доставила немало неприятных минут тем, кто был замешан в этом деле; настойчивые поиски полицией тела прекратились лишь тогда, когда генерал Ермолов лично отдал приказ, запрещавший эксгумацию. Он покинул Кемь, не предложив нам нанести ему ответный визит.
Боюсь, что все британские офицеры, бывшие в курсе этого происшествия, потеряли всякую симпатию, которую до этого они могли питать к белому делу. В офицерской столовой мне даже пришлось проявлять определенную глухоту, от которой я никогда не страдал, чтобы не комментировать предложения об адекватных мерах в интересах правосудия.
После этого случая генерал-губернатор обратил свое внимание на ситуацию в Карелии, однако здесь его усилия оказались тщетными. В карельские области были засланы шпионы, которые должны были выведать имена политических лидеров — несомненно, с намерением их скорейшего устранения. Григорий, недавно повышенный в звании до майора, вскоре сообщил мне о присутствии и целях этих людей и запросил инструкции о дальнейших действиях. Мы ответили, что у нас отсутствует какая-либо информация о разрешении человеку или группе людей на въезд в этот район, поэтому мы не можем дать ему никаких четких инструкций. Николай попросил и получил двухнедельный отпуск. Вернувшись, он сообщил нам много новых сведений о личном составе мурманских сил. Мы не стали расспрашивать его ни об источниках этой свежей информации, ни о методах ее получения.
ГЛАВА 11. ВРАЖДЕБНОСТЬ СО СТОРОНЫ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ
В Кемь прибыла эскадрилья Королевских ВВС во главе с юным командиром, которому подчинялись еще более юные офицеры. Их машины доставлялись в разобранном виде несколькими рейсами, и в распоряжении офицеров оказалось чересчур много свободного времени. Как следствие, они тут же оказались втянутыми в местные интриги, что вызывало у нас немалую тревогу, так как они стали лакомой добычей для всех местных вражеских агентов как мужского, так и женского пола. Это неминуемо вело к утечке информации, разумеется, непреднамеренной — брал свое их юный возраст, — но всё же настолько серьезной, что нам пришлось подвергать цензуре все приказы, которые отдавались британским соединениям, чтобы они не выдали какую-либо информацию, имеющую тактическое значение. Впрочем, мы научились использовать и данное обстоятельство, время от времени пуская по этому каналу информацию, которую намеренно хотели донести до сведения нашего противника.
Очень частым гостем в их офицерской столовой был один русский, навещавший их под предлогом взаимного обучения языкам. Он сообщил им, что не знает английского, и у них не было причин думать иначе, однако мы были осведомлены, что до войны он в течение семи лет жил в Ливерпуле. Мы внимательно следили за его действиями, и большая часть его корреспонденции перехватывалась нашей разведкой.
Бригадный генерал Тернер очень страдал от местного климата, к тому же простое перечисление интриг и заговоров, которыми мы были окружены, доставляло ему немало волнений, поэтому я старался как можно меньше беспокоить его по этим вопросам. Однако он все же попросил освободить его от должности командира 237-ой бригады, и эта просьба была удовлетворена. На его место прибыл бригадный генерал Дж. Д. Прайс. К сожалению, он получил те же инструкции, что были даны его предшественнику, а именно: «Вудса нужно обуздать», что он и пытался выполнить с неуместным рвением, пока в какой-то момент не осознал их абсурдность.
Я всегда буду с большим удовольствием вспоминать свою первую беседу с генералом Прайсом. Она произошла в гостиной, расположенной в казармах бригады. Генерал Тернер стоял у стены, и его жизнерадостная улыбка говорила о том, что он с нетерпением предвкушает надвигавшуюся схватку. Генерал Прайс мерил комнату шагами, держа руки за спиной, с грозным и решительным видом. Он пристально уставился на меня сквозь монокль и выставил подбородок под углом, не предвещавшим ничего хорошего. Его приветствие заключалось во фразе: «Вы Вудс? Садитесь, и я расскажу вам, как вижу сложившуюся ситуацию».
И, не дав мне ответить, он в течение двадцати минут излагал мурманскую версию военной и политической ситуации в Кемском округе и Карелии.
Я не перебивал его и не вставлял никаких замечаний, пока он не закончил, и потом, когда он напоследок рявкнул: «Это все правда?», просто ответил: «Нет, сэр».
Генерал Тернер заметно веселился, когда генерал Прайс в ярости потребовал у меня разъяснений. Я попросил, чтобы мне дали возможность изложить свою версию политической ситуации, и генерал Тернер, взявший на себя роль третейского судьи, признал, что это будет справедливо. После этого я рассказал генералу Прайсу краткую историю событий, произошедших с тех пор, как мы оккупировали Кемь, обратив основное внимание на три главных расхождения с его рассказом: во-первых, на лояльность и честность карелов; во-вторых, на вероломство определенной группы русских офицеров; и в-третьих, на совершенно неуместное доверие мурманской штаб-квартиры по отношению к этой клике.
Было очевидно, что генерал Прайс поверил в мой рассказ: его весьма агрессивное отношение ко мне смягчилось, он стал держаться более естественно, и скоро мы вполне дружелюбно обсуждали разные вопросы. Позднее наши отношения стали вполне дружественными, и лишь иногда он вспоминал, что меня нужно держать в узде, что, впрочем, мало что меняло. Обычно это принимало форму соревнования — кто кого перехитрит. Когда он выходил из него победителем, то был доволен, а когда проигрывал, то вел себя как настоящий спортсмен и не расстраивался. Мое уважение и симпатия к генералу Прайсу разделялись всеми другими офицерами нашего подразделения, и его советы оказывали нам неоценимую помощь в различных трудных ситуациях, в которые мы нередко попадали.
Когда он только приступил к командованию бригадой, враждебные нам русские элементы хотели использовать его в качестве инструмента для своих собственных целей. Он едва успел войти в курс всех дел, как из Сороки к нему прибыл с визитом генерал Звегинцев. Однако если они думали, что смогут сделать его оружием в своих руках, то им пришлось вскоре осознать свои заблуждения. На него посыпались жалобы о моем «своевольном обращении» с определенными русскими офицерами, однако те, кто доставлял их, всегда уходили от него далеко не с той уверенностью и чванливостью, с какой приходили. Скоро его оставили в покое.
Иногда я обращался к нему за советом, какие контрмеры предпринять против тех или иных действий наших враждебных друзей, на что он отвечал: «Ничего мне об этом не рассказывайте. Не хочу знать, как вы их похороните».
Когда стало ясно, что попытка привлечь бригадного генерала на свою сторону потерпела неудачу, интриганы с новыми силами начали обрабатывать мурманскую штаб-квартиру, что немедленно принесло плоды. Однажды утром я получил категорический приказ от начальника штаба разоружить карелов, начав немедленно с войск, расквартированных в Кеми — как на станции, так и в городе; одновременно бригадный генерал Прайс получил приказы проследить за выполнением данных мне приказов, а также приставить к штабу бригады охрану из морских пехотинцев.
Я показал бригадному генералу доклады нашей разведки, из которых было ясно видно дальнейшее развитие событий: за разоружением карелов должно было последовать нападение на британцев, в результате которого в живых не должно было остаться ни одного свидетеля, способного опровергнуть нужную версию событий. Как обычно, во всем предполагалось обвинить карелов, которые якобы подняли восстание и, воспользовавшись заранее припрятанным оружием, перебили всех нас.
Разобравшись в ситуации, генерал Прайс пришел в ярость, и я попросил его не предавать официальной огласке мои действия, какими бы они ни были, кроме тех, которые просто не могли остаться незамеченными. Он согласился на это с одной оговоркой: я должен был сдать на склад шесть пулеметов Льюиса, которые были в распоряжении Карельского полка на станции Кемь. Я пообещал сделать это.
После этого я прошел к капитану Смиту в оружейный склад, который располагался в двух железнодорожных вагонах на запасных путях, и договорился с ним насчет пулеметов Льюиса и винтовок. Карелам было приказано явиться с ними на склад под предлогом того, что оружейный отдел хочет провести регулярную сверку номеров их оружия. Мы сдали оружие в одну часть вагона, после чего обошли его и с противоположной стороны получили восемь пулеметов Льюиса со всеми необходимыми боеприпасами и двадцать четыре винтовки. Все это было выписано на меня. Я вручил заведующему оружейным складом квитанцию для бригадного генерала о сдаче шести пулеметов Льюиса с магазинами и двадцати четырех винтовок со штыками. Единственными карелами, кто знал истинную подоплеку этого маневра, были Николай и Григорий.
Нужно было действовать быстро, чтобы наши намерения не были раскрыты и чтобы не заставлять бригадного генерала становиться нашим соучастником. Было решено очистить станцию от возможных наблюдателей перед тем, как разместить на чердаке над штабом бригады четыре пулеметных команды, которые скрытно, через черный ход, установили там свои «Льюисы». Они простреливали подходы с юга, востока и запада, а также с трех сторон прикрывали штаб Карельского полка, располагавшийся в соседнем здании. На чердаке нашего штаба мы разместили две пулеметные команды с «Льюисами» и четверых снайперов. Эти два дома были отличными бастионами, непробиваемыми для пулеметного или винтовочного огня, поскольку, въехав в них, мы сразу же дополнительно защитили стены чердаков мешками с песком.
На скалах за станцией мы разместили две пулеметные команды с «Максимами», и наши разведчики прикрыли все подступы к железнодорожному мосту и к самой станции, чтобы исключить попытку внезапной атаки через реку из Кеми. В качестве дополнительной меры предосторожности мы послали роту карелов к мосту, а бригадный генерал расставил морских пехотинцев на различных стратегических позициях рядом с железной дорогой, так что любая попытка напасть на наши казармы встретила бы теплый прием. Морские пехотинцы и карелы всегда работали вместе в идеальной гармонии, поэтому риск ошибок были практически исключен.
Когда задолго до обычного времени на железной дороге был выключен свет и внезапно пропала телефонная связь с Кемью, мы приготовились отразить нападение. Однако прошло два часа, и все оставалось тихо — слишком тихо. Наконец, сразу после полуночи мы с генералом Прайсом вышли на станцию, чтобы оглядеться. Нигде не было ни намека на движение, но, как мне кажется, ему было несколько не по себе всякий раз, когда нас окликали по-русски. Однако он успокоился, когда из вагона, который казался пустым, послышался жизнерадостный голос Николая: «Доброе утро, джентльмены».
Мы узнали, что Николай весь вечер держал под наблюдением заговорщиков в Кеми. Около десяти часов вечера их люди были готовы двинуться на станцию, однако тут к ним присоединились два человека, прибывшие в большой спешке. Заговорщики что-то взволнованно обсудили и после этого приказали своим людям разойтись. Он сказал, что за ними продолжают наблюдать, и если они предпримут сколько-нибудь значительные шаги, то нас тут же известят об этом. Он добавил, что сейчас можно вполне безопасно ложиться спать, а если что-то произойдет, он тут же нас разбудит.
К сожалению, ничего так и не произошло. Несмотря на наши торопливые меры предосторожности, кто-то из шпионов на железной дороге донес в Кемь, что карелы не были разоружены, как они надеялись и ожидали.
Насколько мне известно, ни тогда, ни позднее генерал Прайс не узнал, какие меры были предприняты, чтобы предотвратить наше уничтожение, и что я впервые в жизни намеренно нарушил дух прямого приказа от вышестоящего начальства.
В докладе в мурманскую штаб-квартиру я объяснил, что было невозможно выполнить приказ о полном разоружении карелов, а их частичное разоружение было бы опасным, поскольку могло спровоцировать восстание даже в самых лояльных нам войскам, и добавил, где именно нужно искать настоящих предателей.
Меня поддержал бригадный генерал, который доложил о постоянстве и лояльности Карельского полка, несмотря на постоянные попытки мурманских заговорщиков связать их с незначительными волнениями и различными выдуманными мятежами в Финском легионе Бертона. Это соединение действительно оказалось весьма беспокойным, и их недовольство не уменьшилось вследствие ареста их лидеров и периодического разоружения солдат. Я не могу сказать, насколько оправдал себя этот метод управления легионом, однако знаю, что должность Бертону попалась очень нелегкая, и только его личная популярность среди солдат вкупе со значительным тактом, проявленным генералом Мейнардом после его возвращения к командованию, предотвратили развитие очень неприятной ситуации.
В конце концов, было решено выслать из северной России группу лидеров Финского легиона, включая Лехтимяки и Токоя. Их должны были переправить на советскую сторону, и из Мурманска поступил приказ, чтобы мы не допустили общения карелов и финнов, когда те будут проезжать Кемь, где у поезда будет часовая остановка. Бертон прислал мне телеграмму, в которой попросил встретить поезд и пожелать Токою удачи. Ему нравился этот человек, несмотря на окраску его политических взглядов, и он жалел, что приходится расстаться с ним. Чтобы выполнить инструкции штаб-квартиры и при этом не дать карелам понять, что их подозревают в склонности к «красной» лихорадке, на станции финнов встретили Менде и Дрейк-Брокман и проводили их в нашу офицерскую столовую. Здесь их накормили и развлекали, пока не пришло время отправляться. Мы расстались с ними весьма любезно, при этом не нарушив полученных приказов.
Два верхних этажа, конюшни и внутренний двор кемского театра использовались в качестве штаб-квартиры транспортного отдела гарнизона. В квартире, расположенной на этаже над зрительным залом, поселился командир гарнизона, майор Гаррисон из Уэст-Йоркширского полка; там же находился его штаб, в то время как верхний этаж был занят сотрудниками вспомогательной и транспортной служб, которые жили вместе со своими семьями. Общественная часть театра включала в себя сцену, несколько гардеробных и зал с ровным полом, способный вместить пятьсот человек. По субботам и воскресеньям он, как правило, использовался для вечерних танцев. Представления давались гораздо реже. Танцы устраивались различными организациями, и на них обычно пускались все, кто мог заплатить за вход десять копеек. Однако весьма примечательно, что карелы, очень любившие танцевать, не посещали танцы, организованные русскими, и вообще с подозрением относились к подобным мероприятиям.
В одно воскресенье майор Гаррисон проснулся в два часа ночи от света, падавшего на его лицо. Выпрыгнув из кровати, он открыл дверь из спальни, чтобы узнать, в чем дело, и тут же отпрянул назад, увидев, что путь на лестницу отрезан пламенем и дымом. Он едва успел разбить двойные стекла, выкинуть на землю поспешно собранную одежду и спрыгнуть вслед за ней в снег с высоты в тридцать футов. Он и двое подчиненных из транспортного отдела сумели вывести лошадей, однако спасти людей с верхнего этажа уже было невозможно. Там сгорело двое мужчин, три женщины и несколько детей.
Здание было построено из сухого дерева, и пламя с удивительной быстротой охватило все стены. Внутренняя часть здания была похожа на ревущую печь, из которой вырывался огромный факел, осветивший весь город и окрестности. Той ночью я задержался в городе, поэтому видел это зрелище почти с самого начала. Насколько я мог судить, не было ни малейшего шанса хоть что-нибудь спасти, и даже все пожарные бригады в России не смогли бы помешать огню полностью уничтожить здание. Однако требовалось предпринять решительные шаги, чтобы локализовать пожар, поэтому я спешно собрал русских и карельских солдат и послал их по двое-трое на крыши соседних зданий с мокрыми тряпками, чтобы они гасили искры, которые сыпались на весь город.
Жар был невыносимым. Горящие обломки в два фута длиной взлетали в воздух на высоту до ста футов и, падая, представляли угрозу как для соседних зданий, так и для наблюдателей. Добраться до пожарных ведер в театре было абсолютно невозможно — ни один человек не смог бы подойти к зданию ближе, чем на сорок ярдов, к тому же река все равно промерзла на глубину шесть футов, и во льду была сделана лишь одна небольшая прорубь, откуда жители Кеми черпали воду для домашних нужд. Персонал транспортного отдела нашел несколько ведер, но все их усилия не принесли никаких результатов.
Когда пожар был в самом разгаре, русский комендант, полковник Байков, в крайне нервном состоянии подбежал к группе недавно прибывших солдат Мурманской армии и, обратившись к ним, как к собакам, приказал найти ведра и встать в цепочку от реки. Один из солдат отдал честь и спросил, где можно найти ведра и раздобыть инструмент, чтобы пробить лед на реке. Ответ поразил меня до глубины души. Байков достал револьвер и приставил его к груди солдата, пригрозив выстрелить, когда досчитает до трех. Я положил свою руку на руку полковника и попросил его помочь мне и послать своих солдат на все крыши в городе, объяснив, что и его дом, и казармы Мурманской армии находятся в опасности. Он развернулся и на мгновенье навел револьвер на меня, пока не признал, кто к нему обращается, после чего сказал, что он отдал этим солдатам приказ и сейчас намерен пристрелить взбунтовавшихся преступников. При такой дисциплине солдаты были готовы на все, что угодно, кроме подчинения, и, чтобы предотвратить кровопролитие, я быстро схватил его за руку и выкрутил револьвер из его ладони. Нравилось ему это или нет, но ответственность за порядок в округе лежала на мне.
Эта сцена оставила болезненное впечатление, и я доложил обо всем происшедшем в Мурманск.
Причины пожара долго обсуждались. Согласно наиболее распространенной версии, он был вызван брошенным окурком. Возможно, это и было правдой, однако мы оказались в сложном положении, потеряв удобную транспортную базу, а также немало бумажных денег, книг и припасов. Майор Гаррисон лишился всего личного имущества, но, по крайней мере, спас свою жизнь. Удача повернулась к нему лицом еще раз: когда он выпрыгнул из окна, то приземлился в сугроб, смягчивший его падение, и обошелся без серьезных травм.
Какое-то время мы не знали, удалось ли спастись донскому казаку Омару, театральному сторожу, однако в конце концов его нашли на берегу реки, где он горько рыдал. Это было удивительно, ведь он всегда был абсолютно бесстрастным и, как нам казалось, просто не умел выражать эмоции. Омар представлял собой реликт царской России: он был личным слугой начальника кемского участка железной дороги, который раньше занимал квартиру Гаррисона, и, когда его хозяин уехал по делам в Петроград (откуда он так и не вернулся), он оставил Омара присматривать за собственностью. Омар ни с кем не общался, и оставалось загадкой, как он жил и на какие средства питался, однако он всегда был готов защищать собственность хозяина, даже если бы ради этого пришлось пожертвовать своей жизнью. Ему было около сорока лет, он был ростом шесть футов и четыре дюйма, сложен из одних мускулов и костей, никогда не заговаривал первым, пока к нему не обращались, и отвечал только односложными словами. Он обладал талантом перемещаться абсолютно бесшумно, не расставался с казацкой формой, и в своих сапогах и казацкой шинели с высоким воротником, серебряным патронташем и ремнем с серебряной пряжкой, с которого свисала острая, как бритва, шашка, представлял собой зловещую фигуру, с которой никто не рисковал сближаться. Его единственным другом был большой черно-белый кот, проводивший все лето у реки, где, сидя на камне и почти погрузив голову в ледяную воду, он охотился за мальками и корюшкой.
Казак Омар с капитанам Гиллингом
Не было ничего удивительного в том, что он не любил большевиков, порвавших сукно на бильярдном столе его хозяина. К счастью, британцам он симпатизировал, и, когда мы нашли тактичный подход к его гордому нраву и убедили, что его информация не выйдет за наши стены, мы завербовали самого полезного сотрудника нашей разведки.
Через два дня он сообщил мне, что, согласно его сведениям, театр намеренно подожгли два солдата из Мурманской армии. Я спросил, сможет ли он найти достаточно доказательств для их ареста. На это он ответил, что доказательств, разумеется, не отыскать, поскольку дюжина свидетелей в любой момент подтвердит, что эти люди находились в нескольких милях от пожара. Он добавил, что можно обойтись без ареста, так как он займется ими сам. Так и произошло.
Я не могу не думать о том, что великолепно сбалансированная шашка Омара, настолько острая, что он для нашего развлечения часто разрубал на две части падающее перо, была слишком милосердным возмездием для поджигателей. Их ждала бы совершенно иная участь, если бы они попали в руки родственников тех, кто погиб в пожаре.
ГЛАВА 12. ВЕСЕННЯЯ КАМПАНИЯ
Генерал Прайс начал испытывать живой интерес к политическим маневрам наших русских соседей в Кеми, и ему в голову пришла идея найти новые источники информации. Результатом его размышлений стало довольно робкое предложение пожертвовать одному из нас своим званием и честью до такой степени, чтобы подружиться с одной из леди в городе, и впоследствии, как он несколько несвязно выразился, «прищучить этих ***ков, которые хотят покончить с нами».
Я согласился с генералом, что это было бы весьма полезно, и спросил, когда он хотел бы начать. Более того, я выступил с инициативой и предложил ему несколько адресов, уверив его, что он может всецело полагаться на мое благоразумие. Эта шутка стоила мне большого стакана виски с содовой — лишь с его помощью удалось восстановить дружественный тон нашего разговора. В конце концов я рассказал ему в общих чертах, не упоминая имен, об организации, которую выстроил Дрейк-Брокман, и позже, встретившись с нашим главным агентом, он поблагодарил его за великолепно проделанную работу и выразил сожаление, что ее официальное признание невозможно по очевидным причинам.
В начале марта, вероятно, чтобы скрасить наше скучное существование, штаб-квартира главнокомандующего отправила в Кемь с инспекцией Карелии и Карельского полка майора П. Дж. Маккези, второго офицера Генерального штаба. К счастью, «Пи Джей» обладал очень человечными взглядами на жизнь и, как оказалось, весьма необычным чувством юмора.
В назначенное время майор Маккези отправился в инспекционную поездку по приграничным заставам. Мы сообщили об этих планах Григорию и попросили его помочь в организации поездки майора. Он уточнил у нас, согласны ли мы на эту поездку (вопрос, вполне закономерно вызванный отношением штаб-квартиры главнокомандующего к карелам). Дело в том, что большинство солдат — почти все они владели земельными наделами — были отпущены для подготовки к весеннему севу. Граница при этом оставалась в совершенной безопасности, поскольку распутица на дорогах и ледоход на реках на месяц или полтора сделали невозможными любые военные операции. Мы уверили Григория, что никаких возражений против этой поездки у нас не имеется, и он целиком посвятил себя приготовлениям. Первым делом он решил, что, если майор хочет получить какое-либо удовлетворение от этой поездки, ему нужно будет хоть что-то инспектировать. В соответствии с этим он организовал мобильный взвод, который должен был путешествовать от заставы к заставе параллельно с инспекцией, для чего проводник Маккези соответствующим образом подстраивал время поездки от одной заставы к другой.
Григорий, однако, не принял во внимание наблюдательность, присущую нашим штабным офицерам, и после возвращения в Кемь майор Маккези сообщил мне, что нас обманывают и на некоторых лесных заставах он инспектировал тех же самых солдат, что и на первой! В том, что он не разобрался в политической ситуации в районе, не было ничего удивительного: к этому времени карелы уже поняли, что мурманская штаб-квартира относится к ним с подозрением, и поэтому смотрели на всех ее представителей без особого дружелюбия, а едва ли можно найти людей более упрямых, чем северяне, к которым приставлен надзиратель. Боюсь, мнение майора о карелах сложилось не в самой благоприятной обстановке. И все же, несмотря на различие во взглядах на определенные политические вопросы, мы сожалели, когда он вернулся в Мурманск.
Однажды днем Григорий зашел в наш штаб с вырезкой из «Тайме», которую ему кто-то перевел. Напечатанная в ней новость необычайно его встревожила. Прочитав параграф из новостей о России, я послал в Мурманск телеграмму следующего содержания:
В «Таймс» от 25 апреля опубликовано сообщение о попытках мятежа среди карелов и финнов, которое ссылается на вас как на источник информации. Очень прошу Вас направить официальное опровержение этого сообщения в той его части, которая касается карелов, и почтительно прошу сделать это как можно быстрее. Уже не раз было доказано, что в России у нас нет более надежных войск. Вы восстановите правду и предотвратите значительный ущерб, если внесете поправки в это сообщение.
Ответ не успокоил возмущение, которое испытывали все мы. В нем говорилось:
Понимаю ваши чувства. Я испытываю то же самое, когда читаю многие сообщения, однако невозможно заставить некоторых людей в Британии понять, что в действительности здесь происходит. Генерал Мейнард.
Мы постарались настоять на том, чтобы были предприняты хоть какие-то решительные шаги, отправив следующий рапорт:
Поскольку опубликованное сообщение официально исходило из Военного министерства, мне остается полагать, что Военное министерство и общественность считают мою деятельность на посту командующего нелояльной и вышедшей из-под контроля. Почтительно прошу вас официально опровергнуть это сообщение и публично доказать несостоятельность несправедливейших обвинений в мой адрес, а также по отношению к моим офицерам и полку. Вы являетесь единственным человеком, кто может восстановить мою честь. Приношу извинения за назойливость, но я знаю, что вы поймете серьезность всех обстоятельств.
Вудс.
Эта телеграмма принесла более удовлетворительные результаты, как видно из следующего официального сообщения:
237-я Бригада.
Пожалуйста, сообщите полковнику Вудсу в ответ на его № W8, что я прочитал указанную заметку и согласен, что она создает ложное впечатление. Как следствие, я отправил телеграмму в Военное министерство с просьбой опубликовать официальное заявление, в котором нужно указать, что Карельский полк оставался абсолютно лояльным во время неспокойного периода и не поддался на все попытки большевиков посеять в нем семена мятежа или неподчинения. Он может сообщить об этом в полку и добавить, что лично у меня никогда не было сомнений по поводу лояльности полка по отношению к нему или ко мне. Единственная опасность заключалась в том, что агитаторы могли спровоцировать самых невежественных на какие-либо глупые действия, которые они сами не сочли бы нелояльными, но которые могли заставить меня принять жесткие меры. Однако полк своей стойкостью во время неспокойного периода продемонстрировал, что даже это опасение не имеет под собой оснований, и я полностью полагаюсь на его лояльность, в чем солидарен с полковником Вудсом.
Генерал Мейнард.Этим благополучно завершился инцидент, который мог бы иметь самые серьезные последствия для всей нашей кампании. Мы были благодарны генералу за быстрый ответ и за тон по отношению к полку, высказанный им в сообщениях; это сгладило вред, нанесенный глупостью чиновника из Военного министерства, который написал эту заметку. В то же время справедливость, проявленная генералом, подняла его авторитет в наших глазах.
В Кемь направлялось все больше и больше союзных войск. Прибыл батальон итальянцев под командованием полковника Сифола, французская пехота под командованием полковника Бежу, а также различные британские части в качестве усиления тех, что уже размещались здесь. Для организации продовольственного снабжения из Мурманска прибыл майор Самуэльсон. В его неофициальные функции также входило улаживание отношений. В дополнение к этим официальным пополнениям приезжало много русских офицеров, большинство из которых называли себя полковниками. Их возраст был таков, что некоторые, казалось, начали продвижение по служебной лестнице еще в колыбели, в то время как другие, должно быть, застали времена лучников. Их обязанности оставались туманными, но все они относились к Мурманской армии. Прибыло несколько гражданских лиц, которые, возможно, были русскими (а возможно, и нет), причем у них было достаточно средств, чтобы приобретать в городе припасы. Наша разведка ни на минуту не могла расслабиться, собирая всю возможную информацию об этих лицах, наделенных полномочиями. Как правило, в отчетах указывалось, что все они приезжали из Архангельска.
Одним из них был барон Тизенгаузен. Он называл себя русским, однако его манеры и поведение больше соответствовали национальности, о которой говорила его фамилия. Официально он не был связан с Мурманской армией и проявлял очень большое желание подружиться с нами, оказывая особое расположение карелам. Он никогда не брал с собой жену и не приглашал никого из наших офицеров к себе в гости, однако, поскольку мы не собирались раскрывать ему никаких секретов, мы не отказывались принимать его у себя. Его негостеприимство — совершенно не русская привычка — вызывало еще большие подозрения. Очень занимательно и познавательно было наблюдать за тем, как к барону относились карелы. Когда он обращался к ним, они приходили в такое замешательство, что нетрудно было догадаться: они ему совершенно не доверяют. Через несколько недель такой безрезультатной дружбы с нами он, наконец, перестал скрывать свою связь с Мурманской армией.
Позже Григорий пересказал нам некоторые из вопросов, которые задавал ему барон. Они выставляли ситуацию все в том же свете: «Как карелы могут служить таким полным идиотам, как британцы?», «Почему бы тебе не стать мужчиной и не командовать своими собственными людьми?» и так далее. В конце концов, он предложил свои услуги, если карелы решат избавиться от британских офицеров. Из-за всего этого нам было очень трудно сохранять любезность в общении с бароном, и мы не сильно сожалели, когда он перенес свою благосклонность на кого-то другого; тем не менее мы продолжили наблюдать за его действиями, которые свидетельствовали о чем угодно, кроме непорочности его намерений.
Отказавшись от бесплодного заигрывания с карелами, барон Тизенгаузен обратился за разрешением отправиться в Карелию на охоту. Оно было дано с тем условием, чтобы он не заезжал на запад далее Панозера — ограничение, которое предоставляло в его распоряжение сотни квадратных миль. Однако его не устраивали условия, ограничивавшие свободу передвижения, поскольку, по его заявлениям, достойную добычу можно было найти только вблизи границы. Мы указали ему, что он является новичком, совершенно не знакомым с местностью, что его выстрелы рядом с границей могут быть поняты совершенно превратно и что лоси в огромных количествах бродят к востоку от железной дороги между Кемью и Сорокой. В конце концов, он соизволил удовлетвориться территорией, отведенной ему для охоты. Мы проинформировали Николая о его планах и дали инструкции на тот случай, если он от них отклонится.
Мы не удивились, когда начали приходить доклады о передвижениях Тизенгаузена. Он путешествовал из деревни в деревню, выведывая у местных жителей их политические взгляды и отношение к британцам. То ли его разозлила собранная информация, то ли он был разочарован отсутствием ожидаемых результатов, но внезапно барон попытался прорваться к границе. Это было предсказуемо, поэтому, когда он шел в обход Панозера, его вместе со слугой остановил патруль и потребовал пропуск.
Пока командир патруля читал пропуск, барон попытался достать свой револьвер, однако штык, приставленный к горлу, быстро убедил его не оказывать физического сопротивления. Впрочем, даже он не смог унять поток красноречия, с которым он обрушился на солдат. В его аргументах против задержания щедро перемежались все доводы, начиная с угроз и заканчивая взятками. Однако все это было впустую: его разоружили и под конвоем отправили обратно в Кемь.
Николаю было приказано отпустить его, как только они доберутся до первой городской заставы, и вернуть ему револьвер и ружье. Обретя свободу, барон первым делом ворвался в наш штаб с протестом на «своевольные» действия карелов и потребовал расстрелять арестовавших его людей! Мы заверили его, что с ними обойдутся так, как они того заслуживают, добавив, что в настоящее время их расстрел был бы весьма опасным мероприятием. Он воспринял все буквально и был настолько окрылен, что тут же рассказал нам уже наскучившую историю о заговоре с целью перебить всех нас, только на этот раз нас должны были умертвить в наших собственных постелях.
«Белый дом», Кемь, 1919 г.
Когда его спросили, сколько дичи ему удалось настрелять, он не смог ответить ничего вразумительного о размерах своего ягдташа. Мы не стали докучать ему этим вопросом, вместо этого выразив неподдельный интерес к двум замечательным лисьим шкурам, которые он принес с собой. Мы проявили достаточно такта, удержавшись от вопроса, как ему удалось выделать их, не в последнюю очередь потому, что знали, где он купил их и какую цену заплатил.
Прошли слухи, что весной, когда растает снег и лед, союзники под командованием генерала Прайса начнут наступление на юг, и подготовка к нему сейчас занимала почти все наше время и силы: нужно было найти помещения, чтобы разместить войска, и решить вопросы с обеспечением транспорта и организацией припасов. В то же время нам нужно было подыскивать новое помещение для штаб-квартиры Карельского полка и для управления районного командования, так как в Кемь переезжал генерал Мейнард вместе со своим штабом, и наше уютное здание было признано подходящим для их размещения. Мы восприняли это изгнание философски, когда нашли в городе большое трехэтажное здание. Это здание, расположенное рядом с собором, называлось «Белым домом» и стояло в центре своего собственного сада. От других домов его отделяла маленькая речка, через которую вел деревянный мост. Одним из его достоинств было отсутствие по ночам звуков, издаваемых паровозами.
Среди различных вьючных животных, прибывающих в Кемь, было несколько южноамериканских мулов — прекрасных экземпляров, средний рост которых составлял около шестнадцати ладоней. В городе они стали настоящей сенсацией, поскольку в этой части мира еще никогда не видели подобных гибридов. Микки считал их шуткой природы и каждый раз с изумлением разглядывал их уши и хвосты. Но еще большее удивление у него вызвал тот факт, что они не предназначались для еды. Высказывал он это удивление весьма забавно: «Не Маконаки?» Когда один из мулов показал, на что он способен, внезапно взбрыкнув задними ногами, Микки стал плясать и кричать от восторга, однако потом никогда не соглашался подходить слишком близко к этим «полудьяволам». Мулы здесь так и не прижились: им было трудно управляться с местным транспортом, да и климат не пошел им на пользу.
ГЛАВА 13. ПЕТИЦИЯ КОРОЛЮ ГЕОРГУ V
К концу февраля мы, к своему огромному облегчению, доказали наконец несостоятельность всех предостережений о готовящемся восстании среди карелов, которым нас запугивали последние месяцы.
В наш штаб пришла делегация, состоящая из двадцати карельских старост во главе с неким <Г.> Титовым, владельцем шерстяного производства в Петрограде, откуда он с огромными трудностями вернулся на родину специально для этой цели. Было видно, что эти люди происходили не из крестьянского сословия, откуда, в основном, набирались наши солдаты, — все они получили образование, среди них были преподаватели университетов, инженеры, промышленники и даже несколько человек, вернувшихся из Австралии и Америки.
Они изъявили желание подать петицию Его Величеству Королю Георгу V, в которой умоляли принять их под защиту британской короны. После длительных и глубоких размышлений они изложили причины своего решения в документе, дословный перевод которого, сделанный в то время, приводится ниже[44]:
Г-ну Полковнику Корельского Добровольного Отряда Британской Службы Вудс для представления и ознакомления с настоящей просьбой их Королевского Высочества Короля Британского.
От имени всего народа Корельского, основываясь на множестве собраний и размышлений, имеем великую честь заявить Вашему Королевскому Величеству следующее:
До нашествия в пределы нашей родины финнов-белогвардейцев Корелия уже несколько столетий находилась под властью России. Но вот вспыхнула революция, которая улучшающего нам не дала, хотя от ней мы многого ждали. Затем в пределы Корелии вторгнулись финны-белогвардейцы и большевики с целью насильным образом покорить Корелию и присоединить к Финляндии, но тогда мы явились к Командующему Войск Британских в Мурманске и, получив винтовки и патроны, своими маленькими силами изгнали количеством в несколько сот больше своих сил противника.
Корелия сама по себе маленькая страна — с запада ее граничит финская граница, с юга — река Свирь, с востока — Онежское озеро, река Онега и Белое море, и с севера — Северный Ледовитый Океан. Лесов в Корелии много, масса озер и рек, в которых есть большие пороги и водопады, а также всякая руда и минералы.
Уже несколько столетий Корелия находилась под властью-игом России. Она, имея полную власть над Корелией, старалась держать Корелию в темноте, не давая просвещения и высасывая из нас наше последнее достояние, от которой на долю Корелии ничего никогда не приходилось. С Россией сжиться мы никогда не сможем, да и не желаем. К Финляндии, которая наглым образом хотела присоединить нашу родину к себе, опустошив наши села и деревни, унеся наши последние деньги-гроши, мы быть солидарны никогда не хотим.
Народ Корельский от всей души благодарит Ваше Королевское Величество за оказанное Вашими властями содействие, благодаря которому нам удалось изгнать из пределов нашей родины финнов-белогвардейцев. Мы от души желаем, чтобы Британское правительство приняло нас под свою защиту-покровительство на автономных началах, т. е. дав нам право устроить внутреннюю жизнь нашей родины и управлять внутренней жизнью, как нам желательно.
Делегаты от всей Корелии хотели бы приехать в Англию и ознакомить Ваше Королевское Величество с бытом и положением Корелии. Умоляюще просим принять нашу родину Корелию под защиту Британии, которую всякий щиплет, т. е. Корелию.
Это заявление изложено в очень маленьком размере, но нам было бы желательно изложить все наши требования еще раз и со всеми подробностями, снабдив и укрепив требования подписями граждан всей Корелии, которые — требования — представим Вашему Королевскому Величеству, если Вам будет желательно.
Мы, нижеподписавшиеся, выбранные от всей Корелии представителями, подписуемся:
Майор <от руки> Г. Лежев <от руки> П. Лежев <от руки> С. Петерсон От занятых волостей Финским Легионом Кемского и Александровского уезда Капитан Иво Ахава Представители от волостей Кемского уезда Кондокская вол. Имя неразборчиво Маслозерская вол. Михаил Пахтев Тунгудская вол. А. Евтюфин Н. Годеев Ухтинской вол. Алексей Попов Юшкозерской вол. Г. Титов Погосской вол. Г. Попов Ф. Никифоров Вокнаволокской вол. Федор Пертуев Кирилл БогдановЯ согласился передать петицию карелов по официальным каналам и послал ее бригадному генералу Прайсу как следующему по званию офицеру. У него, как и у меня, не было опыта в подобных вопросах, однако документ был должным образом передан генералу Мейнарду с пояснительной запиской, и Управление главнокомандующего переслало его в Лондон.
К сожалению, каким-то образом в Кемь просочилась информация о существовании этой петиции и о том, что она уже отправлена в Лондон. Были предприняты попытки узнать у нас с Менде ее точное содержание, однако мы отвечали, что не знаем намерений карелов, поскольку не имеем обычая читать корреспонденцию, адресованную другим, и предлагали спросить напрямую у Григория, который, возможно, расскажет все, что им так хочется знать. Этим предложением никто так и не воспользовался.
Без всякого энтузиазма воспринял эту ситуацию также майор Батаяр, офицер французской разведки, что проявилось в резком изменении его отношения к нам: если раньше, общаясь с нами, он добродушно шутил, то сейчас демонстративно ограничивался ледяной вежливостью.
Петиция королю Георгу V, c. 1
Петиция королю Георгу V, c.2
Петиция королю Георгу V, c.3
Через несколько дней из Мурманска в Кемь приехал генерал Мейнард. Он сообщил, что эта затея является несбыточной и британское правительство на нее не пойдет. В поддержку своей точки зрения он представил несколько неоспоримых аргументов; тем не менее я продолжал считать, что интерес к Мурманску, единственному арктическому порту, не замерзающему в зимние месяцы, возможно, перевесит географические трудности, тем более теперь, когда было совершенно ясно, что у Мурманской армии нет никаких шансов одержать верх над большевиками, в то время как Карелия могла бы стать полезным буферным государством на севере. К тому же не было никаких сомнений в коммерческой привлекательности рабочей золотодобывающей шахты, расположенной на юге Карелии рядом с железной дорогой, местных запасов золота, серебра и свинца, а также сотен квадратных миль нетронутых лесов вместе с изобилием водной энергии.
Спустя некоторое время из Англии, из Министерства иностранных дел прибыл известный дипломат <Линдли>, чтобы разрешить вопрос с карельской петицией. Я был заранее извещен о времени его прибытия в Кемь и пришел на вокзал, чтобы лично встретить гостя. Высокий и худощавый, с чисто выбритым лицом и сединой на висках, он с широкой улыбкой перешел через железнодорожные пути и протянул мне руку, поприветствовав следующими словами:
«Неужели, полковник Вудс, это очередной ирландский розыгрыш?»
Я поспешил снять с себя ответственность, но не думаю, что его вполне убедили мои отрицания. Тем не менее он сообщил мне, что правительство тщательно рассмотрело все аспекты сложившейся ситуации и с большой неохотой пришло к выводу, что не сможет принять Карелию под британский протекторат. Он упомянул, что поданная петиция вызвала переполох среди некоторых из наших союзников, которые обвиняли меня в подстрекательстве «британских планов на захват Карелии».
Он попросил, чтобы я сообщил карелам о решении правительства. Я отказался по двум причинам: во-первых, я был уверен, что ему лучше удастся подсластить пилюлю, к тому же в качестве представителя правительства именно он был должен дать карелам официальный ответ на их официальный запрос; во-вторых, я не испытывал желания наблюдать разочарование, с которым, как я был уверен, они воспримут решение Британии. Именно поэтому я не пошел на собрание, созванное карелами, чтобы принять посланника британского правительства и выслушать его заявление.
Мне кажется, мое разочарование было почти таким же глубоким, как и у карелов; к тому же я опасался, что отказ принять их предложение может повлиять и на их лояльность по отношению к союзникам во время будущих боевых действий. Однако <Линдли> удалось значительно смягчить эффект своего сообщения, и карелы никак не изменили своего дружелюбного отношения к нам, да и их уважение к авторитету британцев совершенно не пошатнулось. Тем не менее нетрудно было заметить, как сильно они разочарованы.
Мне кажется, антипатия к русской власти сидела в них очень глубоко, так как их лидеры использовали любую возможность, чтобы добиться хоть какой-нибудь независимости. Как следствие, я был не очень удивлен, когда через несколько недель получил приведенный ниже документ, который их лидеры попросили передать британским властям. Он был написан на другом языке, и на нем было гораздо больше подписей, чем на первом. Его перевели с финского на русский и затем на английский. Далее приведен его точный перевод[45]:
Главнокомандующему силами союзников в Мурманске.
Сэр,
Мы, нижеподписавшиеся представители, выбранные от всего карельского народа, хотим представить на ваше рассмотрение результаты нашего обсуждения письма, полученного от вас в ответ на петицию, которую мы направили командующему 237-й бригады.
Мы сожалеем, что содержание вашего ответа совершенно не принимает во внимание истинные настроения среди карельского народа. Содержание письма совершенно не основывается на принципах ни демократии, ни автономии различных народов, хотя Союзные Правительства провозгласили торжественно, что эти принципы будут основой их настоящей политики. Тому, кто не знаком с автором письма, может почти показаться, что этот человек не вполне представляет глубокий патриотизм карелов и их горячее стремление к свободе.
В связи с общим тоном письма мы находим уместным более ясно выразить нашу точку зрения, и мы имеем честь попросить вас проявить любезность и заново обдумать следующие вопросы:
(1) Комитет, членами которого мы являемся, был выбран на собрании представителей-делегатов от деревень всей нашей страны, и получил всю власть решать все дела карельского народа, для решения которых он и получил свои полномочия.
(2) Из того, что этот комитет может узнать из прессы, Союзные Правительства пригласили на планируемую Конференцию на Принцевых островах не только представителей различных признаваемых Правительств (в России), но также и делегатов от таких политических и национальных групп, у которых в это время еще нет политической индивидуальности. По этой причине комитет желает назначить представителя от Карельской Нации, чтобы присутствовать на планируемой конференции.
(3) В марте прошлого года, когда было заключено соглашение между Лидерами Союзных Сил и Мурманским Советом, по которому Союзные Силы должны были оккупировать страну, чтобы сдержать прилив национальных врагов России, Совет спросил у карелов, согласны ли они с предпринятыми шагами. Карелы согласились на это предложение, и в то время было заключено соглашение, согласно которому у Мурманского Совета оставалась та же власть, которая была у него в то время. Но потом, позже, было образовано временное Правительство и назначен губернатор, и это было сделано без совета с Карельским Народом (как будто Карельский Народ не мог помочь в этих двух делах) или с союзниками. Мы считаем, что, поскольку с Карельским Народом не посоветовались, Мурманский Совет должен был посоветоваться с Лидерами Союзных Сил.
(4) Предложения, сделанные Союзными Силами о конференции на Принцевых островах, развеивают все сомнения в готовности Союзников признать осуществимость встречи с Русским Советским Правительством. Карельский Комитет надеется, что при данных обстоятельствах не было ничего смехотворного в их надежде получить разрешение послать своих представителей на эту конференцию.
(5) В вашем письме сделано заявление, что нынешние выборы в земское собрание Кемского уезда дают жителям возможность выбрать таких представителей, каких они действительно хотели бы. Мы думаем, что это заявление, которое не основывается на твердых фактах, было сделано, потому что вас дезинформировали об истинной природе этих выборов; так как их организация не была такой, чтобы обеспечить то, чтобы выборы в будущее земское собрание могли рассматриваться как справедливые и чтобы они действительно отражали мнение и желания избирателей, как это должно быть. Официальное объявление об этих выборах подразумевает, хотя напрямую не говорит, что заседания земского собрания будут проводиться на русском, а не, как это должно быть, на карельском языке. Карелы неоднократно просили, чтобы все объявления в связи с выборами печатались на карельском, но безуспешно. По этой причине те карелы, кто не говорит и не понимает по-русски, не имеют возможности получить всю информацию для своего полного участия в выборах. Мы спрашиваем, Сэр, как при таком способе выборов, в которых мы не можем принять полное участие, можно ожидать, что будет выражена воля всех избирателей? Из этого следует, что, так как земское собрание будет избрано только одной частью избирателей, они и будут заботиться о благе только этой части. Предполагая, что желательно выбрать земское собрание, которое будет справедливо и равно представлять всех избирателей, является крайне важным, чтобы все жители от двадцати лет и старше и все добровольцы, которые служили в армии, не только получили право голосовать, но и имели бы все возможности осуществить это право. Для этого необходимо, чтобы все извещения в связи с выборами печатались на языке народа, то есть на карельском, и чтобы этот же язык использовался в дискуссиях земского собрания. Мы хотели бы добавить, что, учитывая тот факт, что почти все население страны говорит только по-карельски, эти требования не являются преувеличенными.
В заключение мы имеем честь указать, что никогда не просили и не ожидали, что Союзники будут заниматься внутренними делами Карелии, пока мы остаемся незатронутыми внешними воздействиями. Пока Карелия остается в этом счастливом состоянии, нашей заботой как членов комитета представителей является вести Карельский Народ и охранять его интересы всеми имеющимися у нас возможностями. Раньше Царское Правительство и те, кому оно делегировало свою власть, не допускали ни малейшей попытки развития Карельской национальности, образования и сельскохозяйственного дела. Нашим самым большим желанием является то, чтобы Союзники не оказывали поддержки старому режиму, который не дает Карелии использовать эту возможность навести в своем доме порядок.
Кемь, 25/3/19.
Документ был подписан выборными представителями, чьи имена по очевидным причинам не могут быть опубликованы[46].
Я крайне неодобрительно отнесся к реакции, последовавшей на это обращение, и до сих пор готов придерживаться своего мнения. Действия руководства после получения этого документа создали очень опасную ситуацию, учитывая характер людей, которых она затрагивала напрямую. Штаб-квартира главнокомандующего сообщила об обращении генералу Ермолову и предложила, чтобы он лично встретился и переговорил с комитетом представителей.
Однажды утром карельские старосты были созваны на встречу с русским генерал-губернатором, организованную в его личном вагоне на станции Кемь. Были приняты меры предосторожности, чтобы обе стороны не пришли с оружием. Генерал Ермолов принял их при полном параде и заставил их стоять во время своей речи. Без сомнений, этот прием напомнил им о довоенных днях, когда русский чиновник видел себя наместником Бога на Земле и считал ниже своего достоинства общаться с карелами наравне. Лишь осыпав карелов жесткими упреками в предательском поведении, выражавшемся в том, что они осмелились высказать свое мнение, генерал соизволил выслушать их жалобы — если они, конечно, имелись. Должно быть, они высказались достаточно прямо, так как встреча закончилась тем, что генерал-губернатор окончательно вышел из себя, а карелы замкнулись в угрюмом и мрачном равнодушии. Было бы странно, если бы эта встреча поколебала их убеждения, учитывая то, что их обзывали мятежными свиньями и дворнягами, чей выводок нужно истребить под корень, и что им пообещали заменить всех британских офицеров на русских. Последняя угроза их крайне взбудоражила, и нам пришлось намекнуть генерал-губернатору, что он находится под защитой британцев и его безопасность в Кеми всецело зависит от людей в этой форме.
Комитет представителей обратился ко мне за рекомендациями по дальнейшим действиям. Несмотря на всю симпатию к ним, в данной ситуации я не мог нечего посоветовать по политической стороне вопроса, не скомпрометировав намерения генерала Мейнарда, поэтому я предложил им подождать, пока ситуация немного не прояснится, и использовать это время, чтобы организовать региональное и национальное представительство на основе системы тайного голосования. Я также порекомендовал им создать Национальный сберегательный банк и торговое общество на кооперативных началах, что было оптимально для страны, в которой отсутствовало классовое деление, а немногие частные торговцы могли бы быть наняты в качестве управляющих или руководителей этих предприятий. Эти схемы пришлись по душе их бережливой натуре, и они согласились, что, если карелам удастся сплотиться и полноценно использовать свои ресурсы, их позиция станет намного прочнее и им будет легче справляться с ходом событий.
Мы получили доказательства, что политическая ситуация в Карелии интересовала и другие страны, когда карельский патруль доставил двух финских офицеров, пойманных рядом с южной границей. На допросе финны объявили, что правительство послало их в качестве представителей к британскому главнокомандующему, однако не смогли предоставить соответствующих документов и были переправлены в Мурманск.
Вскоре после этого случая в центре Карелии была арестована финская девушка примерно двадцати лет, одетая в мужскую одежду. Ее доставили в Кемь, где после перекрестного допроса мы выяснили, что она была известной проституткой из Гельсингфорса, которую подослали финские власти, чтобы разведать точное положение дел в Карелии и «подружиться с британским командиром карелов, который не застрелит ее, как шпионку». Эта девушка в одиночку преодолела не одну сотню миль по враждебной территории, по большей части пешком, неся еду в рюкзаке — суровое испытание. Согласно документам, которые ей дали с собой, она обвинялась в финансовых растратах, от которых якобы и спасалась, стремясь избежать финляндского правосудия; однако, принимая во внимание то, что она рассказала на допросе, эти документы были совершенно неубедительными. Несколько дней ее держали под строгим арестом, потом привезли обратно к границе и под белым флагом передали на финскую заставу, перед этим под угрозой расстрела посоветовав больше не соглашаться на подобные приключения.
ГЛАВА 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛКА
При первых признаках приближения весны инженеры железной дороги начали закладывать динамит в лед в разных местах на реке выше моста, чтобы свести к минимуму опасность для его конструкций с приходом настоящего тепла. Прошло немного времени, и мы увидели, насколько необходимы были эти меры предосторожности. Когда вся поверхность льда покрылась трещинами, огромные льдины начали наползать на поверхность еще крепкого льда, в результате чего образовывались торосы, возвышавшиеся над поверхностью реки и ее берегами на сорок футов. Под их напором мост не продержался бы и нескольких минут.
Для инженеров наступило тревожное и тяжелое время. Отработав полный рабочий день, они часто были вынуждены задерживаться далеко за полночь и при свете сигнальных огней с риском для жизни карабкаться по неверным и предательским склонам, чтобы поместить взрывчатку туда, где ее можно было использовать наиболее эффективно. Некоторые из них получали тяжелые травмы во время закладки зарядов, когда ледяные нагромождения, которые они планировали взорвать, вдруг оседали под их ногами.
Несмотря на все их усилия, лед продолжал скапливаться перед мостом, пока самые верхние льдины не начали перелезать через парапет на полотно железной дороги. Давление было ужасным, и полное разрушение моста казалось лишь вопросом времени, однако благодаря почти сверхъестественным усилиям русских инженеров, которым помогали наши саперы, угроза была на время предотвращена. Один из инженеров погиб, когда вся масса льда внезапно двинулась и раздавила его о столб. Рев освободившихся ледяных глыб был слышен в округе на многие мили, и прошло немало дней, прежде чем треск льдин, сталкивающихся между собой, и постоянный грохот над быстринами начали постепенно стихать. Через неделю грохот возобновился, когда до Кеми доплыл лед из больших озер выше по течению реки. Он принес с собой резкое падение температуры, которое продолжалось около двух недель. На одной из плывущих льдин можно было различить фрагменты зимней дороги — ее можно было узнать по еще торчавшим над поверхностью маленьким деревцам и шестам, которые использовались в качестве указателей.
На одном из этих миниатюрных айсбергов в совершенно безвыходной ситуации оказалась маленькая, напуганная до смерти собачка. Лишь с большим трудом и риском ее удалось спасти нескольким карелам с помощью длинных шестов и необычайной ловкости, с которой они прыгали по быстро плывущим льдинам, проявляя безошибочное чутье, когда требовалось определить, какая из них сможет выдержать их вес.
Перед тем, как лед на реке тронулся, жители Кеми вырезали глыбы чистого льда в тех местах, где не было тропинок и санных дорог, чтобы спрятать их в свои погреба, которые в летнюю жару служили им отличными холодильниками. Даже в самую жаркую погоду в конце лета земля никогда не прогревалась глубже, чем на пять-шесть футов, и лед под землей почти не таял.
Активная пропаганда, которую русские вели против карелов в Мурманске, принесла слишком плодотворные результаты в отношении генерала Мейнарда, но, несмотря на антипатию по отношению к карелам и их деятельности, которую удалось вселить в нашего главнокомандующего и его штаб, без помощи Карельского полка союзники обойтись не могли, так как их коммуникации все больше и больше растягивались в связи с наступлением генерала Прайса на юг. Однако подозрения мурманской штаб-квартиры были вряд ли сильнее, чем недоверие, которое карелы питали по отношению к русскому и союзному командованию, и мне даже пришлось доложить генералу Мейнарду, что личный состав полка едва ли покинет район реки Кемь, пока рядом стоит Мурманская армия, так как карелы боятся, что русские попытаются оккупировать Карелию в отсутствие ее мужчин, которые будут сражаться где-то в другом месте.
Для солдат Карельского полка не оставалось секретом не только отношение к ним русского командования, но и отношение каждого представителя союзного командования в Мурманске. В этих обстоятельствах, когда генерал Мейнард отдал приказ о реорганизации полка, этот приказ пришлось долго разъяснять, и я должен был персонально поручиться за честные намерения генерала, стоящие за его решением разделить полк на новые подразделения.
Помимо этого, карелы с подозрением отнеслись к назначению русского офицера, которого перевели на службу в Карельский полк, чтобы в перспективе постепенно заменить всех британских офицеров на русских. Лишь благодаря такту и удивительному пониманию, проявленному графом Беннигсеном, карелы сначала смирились, а потом даже стали уважать его за мужество, тактичность и лидерские способности, проявленные при командовании Олонецким (1-м) батальоном.
В результате реорганизации полка, кроме Олонецкого батальона, были созданы следующие подразделения:
(а) Мобильный боевой батальон, состоящий в основном из молодых или недавно рекрутированных солдат;
(б) Саперно-строительные части;
(в) Гарнизонная охрана;
(г) Пограничная охрана;
(д) Трудовой батальон.
Офицерами в этих соединениях были следующие люди:
Майор X. С. Филселл Командующий 1-м вспомогательным батальоном
Капитан Е. С. Ланс Адъютант 1-го вспомогательного батальона
Капитан Ф. Смит Транспортный офицер и интендант
Капитан Дж. Б. Ноэль Командир роты
Капитан Л. Дж. Грэхэм-Толер Командир роты
Капитан Ф. Л. Аллан Командир взвода
Лейтенант Ф. У. Хилл Переводчик
Лейтенант Д. Дрю Офицер пулеметной команды
Лейтенант С. Форбс Командир взвода (и. о. командира роты)
Лейтенант А. Прайер Командир взвода (помощник адъютанта)
Лейтенант Дж. Лидбитер Командир взвода
Капитан Дж. Хармер Пограничная охрана
Лейтенант Дж. Томпсон Пограничная охрана
Капитан Е. X. Хитон Гарнизонная охрана[47]
Лейтенант Е. Д. Маккай Гарнизонная охрана
Майор У. X. Гаррисон Трудовой батальон
Лейтенант У. М. Робертсон Трудовой батальон
Майор Е. Райт-Керр Саперно-строительные части
Капитан Странак Саперно-строительные части
Лейтенант Дж. Миллс Речной транспорт
Лейтенант У. Батлер Полковой адъютант
Лейтенант Р. С. Робинсон Учетный отдел
Лейтенант Н. Е. Менде Переводчик
Лейтенант У. Литтл Адъютант трудового батальона
Лейтенант А. К. Тетчер Полковой квартирмейстер
Олонецкий батальон блестяще осуществлял разведывательную деятельность под руководством майора Дрейк-Брокмана и провел несколько успешных атак на белофинские деревни и гарнизоны в юго-западной Карелии. Однако новый «боевой батальон» был организован в условиях, совершенно не способствующих набору новых солдат, и я знал, что немало молодых людей, без чьего присутствия мы вполне могли обойтись в случае неприятностей, принудили «добровольно» поступить на службу. Большинство мужчин, включая лучших солдат и разведчиков, либо перешли в другие соединения, либо вернулись домой для боронования и других полевых работ (из-за короткого лета вспашка и сев проводились по осени, и, когда сходил снег, молодые ростки уже пробивались из земли), и при этом все забрали с собой оружие.
Эти неудачи сами по себе очень обескураживали, однако все шансы на улучшение ситуации были окончательно потеряны, когда штаб-квартира главнокомандующего, проявив то, что я не могу назвать иначе как отсутствием здравого смысла, прислала из Мурманска для командования этим батальоном <Карельским добровольческим батальоном> самого неподходящего офицера.
Майор Филселл был во многих отношениях отличным офицером, с которым я был бы горд служить в английском полку; однако его десятилетний опыт службы в Королевском полку африканских стрелков, из которого он только что прибыл, сослужил плохую службу, когда ему пришлось командовать этими жителями севера. Ему рассказали историю Карельского полка и вкратце изложили события, начиная с высадки союзников на севере России, чтобы он смог соответствующим образом настроиться на свою новую должность; его адъютантом был капитан Фрайер, а ротными командирами были назначены Николай, Григорий и лейтенант Форбес из Королевского гренадерского гвардейского полка; но он, несмотря на все созданные для него условия, так и не смог понять своих солдат.
Филселл не знал ни слова на их языке, и можно только сожалеть, что он был очень нетерпелив со своим сербским переводчиком и не сумел осознать тщетность своих попыток муштровать солдат для официальных парадов, в то время как нужно было срочно заниматься с ними совсем другим, как и не смог понять то, что само существование его батальона зависело исключительно от доброй воли карельских лидеров.
В этих условиях конфликт становился неизбежным. Прошло совсем немного времени, как Николай и Григорий уволились со службы, а Фрайер написал заявление о переводе. Около пятидесяти человек дезертировало, так как не могли уволиться, и остались лишь те, у кого не было дома, куда можно было вернуться. Их командир называл своих солдат «неграми» — словом, которое они узнавали, — и точно так же относился к ним. Карельским офицерам было запрещено показываться в офицерской столовой, да и к Фрайеру, который выслужился из рядовых, относились как к человеку второго сорта.
Солдат заставили носить походные ботинки, которые натирали им ноги, и заниматься физической и строевой подготовкой чаще, чем в армии Кичинера[48] в самый напряженный подготовительный период. Они понимали и любили стрелковую подготовку, но эти стойкие жители лесов, рыбаки и лесорубы не могли понять необходимость «гимнастики», как и то едва скрываемое презрение, которое испытывал к ним их командир. В общем, для меня не стали сюрпризом частые случаи дезертирства или то, что медосмотр стал главным событием в распорядке дня.
В дополнение ко всем сложностям, связанным с подготовкой батальона к службе, в его казармы пробрались два агента большевиков, замаскировавшиеся под американских моряков из экипажа флагманского корабля адмирала Мак-Калли, который сейчас стоял в кемском порту. Один из этих людей, знавший русский язык, наплел карелам, что их полковой значок был символом рабства; что все ирландские солдаты подняли восстание и убили своих офицеров и их примеру последовали тысячи их английских и шотландских товарищей. В свете этой информации их призвали сорвать кокарды со своих униформ и растоптать их.
Эти «американцы» пришли к карелам с подарками: шоколадом, сигаретами и ящиком виски. Трое самых неразумных солдат напились настолько, что сломали значки, о чем позднее очень сожалели, когда ими занялась полковая полиция в своей обычной, соответствующей случаю манере.
Я доложил о происшествии в штаб-квартиру главнокомандующего, и, взяв с собой майора Мейклджона из контрразведки и двух карельских солдат, отправился на Попов Остров для разговора с адмиралом Мак-Калли. Американский флагман, один из кораблей «флота Форда», был построен предельно утилитарно, без каких-либо излишеств. Голые трубы и клапаны над стальными палубами и перегородками придавали судну очень современный вид. Адмирал принял нас исключительно любезно, выразив негодование по поводу известий, что кто-то из его экипажа оказался виновным в предательстве по отношению к англичанам. По нашей просьбе весь экипаж был собран и выстроен на палубе для поиска виновных.
Разнородность корабельного экипажа стала для меня большой неожиданностью. Однажды я уже был в гостях на американском эсминце, но там не видел ничего подобного. Здесь же на борту были представлены самые разные национальности: японцы, китайцы, португальцы, испанцы, негры, мексиканцы, шведы, индусы, малайзийцы, полинезийцы и многие другие, чье происхождение осталось для нас загадкой. Двое карельских солдат не смогли никого узнать, однако после долгих расспросов стало ясно, что не хватает двух матросов, которые находились не то в лазарете, не то где-то еще. Было установлено, что один из них был поляком, который несколько лет прожил в Глазго. Я попросил адмирала Мак-Калли выдать этого человека нам, но он отказался, пообещав, впрочем, что разберется с ним сам.
Мы объяснили адмиралу, что всегда рады видеть у себя друзей, однако отныне Кемь будет закрыта для его подчиненных, за исключением офицеров или матросов, которым адмирал лично подпишет пропуск. Ему была вполне понятна необходимость подобных мер, и он согласился соответствующим образом ограничить свободу своего экипажа.
Я всегда восхищался смекалкой моряков, но мне показалось, что даже она бессильна, когда требуется четко и без искажений донести приказ до группы людей, сорок процентов которых не понимают по-английски. Мы спросили у адмирала, как он справляется с этой трудностью, но он уверил нас, что нет ничего проще!
Мы так и не узнали, какие меры предпринял адмирал в случае с двумя агентами большевиков, но лично я надеюсь, что пропажа ящика виски из его запасов все-таки сказалась на их наказании.
Как уже упоминалось в списке офицеров, занимавших должности в Карельском полку (см. выше), гарнизонный взвод находился под командованием лейтенанта Джона Салливана Лонга. Мне кажется, что своему полному имени, полученному при крещении, он был обязан своим ростом и худобой. Он был так высок, что казалось неуместным обращаться к нему по такой короткой фамилии. У Лонга был удивительный талант — он умел приручать диких зверей и птиц. В начале весны он вскарабкался на колокольню кемского собора и достал птенца из находившегося там гнезда галки. Он держал галчонка у себя в комнате, выкармливая и ухаживая за ним, пока тот не подрос и не научился летать. К этому времени Лонг приучил его есть из своих губ, прилетать на зов и, сидя у него на плече, насвистывать песенку «Вон крадется ласка»[49]; галчонок мог также весьма достоверно подражать соло пикколо, которое он услышал на граммофонной пластинке.
Когда Лонг ездил с проверками по различным постам, Джек всегда его сопровождал. Иногда он срывался с плеча своего хозяина, чтобы погоняться за насекомым или другой птицей, но всегда возвращался обратно, не обращая внимания ни на какие препятствия или звуки. Часто, когда Лонг обедал в нашей офицерской столовой, мы замечали отсутствие Джека, и в ответ на наш вопрос о его местонахождении Лонг говорил: «Он просто пошел в гости к друзьям». Поев, Лонг высовывал голову из окна и особым образом свистел. Тут же из шумной толпы на соборной колокольне вылетал Джек и, спланировав через окно, приземлялся на тарелке или на плече своего хозяина.
Переезд штаб-квартиры главнокомандующего вместе со всем имуществом и персоналом в Кемь был приятным событием, которое оживило общественную жизнь в городе. Бумажная война, которую мы время от времени вели до этого, сменилась гостеприимством и радушным сотрудничеством. Конечно, не обошлось без обычных разбирательств по мелким вопросам снабжения, но теперь мы могли отвечать на них лично, используя язык, более подходящий для соответствующей ситуации, и тем самым подвергая себя меньшему риску попасть под трибунал.
Полковник Т. С. Р. Мур, отвечавший за транспорт и снабжение всех гражданских лиц и войск из различных стран, составлявших наши силы, никогда не позволял работе брать верх над его неисчерпаемым чувством юмора. Я буду всегда с благодарностью вспоминать его помощь и терпение, проявленное в отношении постоянно меняющихся чисел и плохого транспорта.
Личная встреча с полковником Шустером, длившаяся всего несколько минут, тоже принесла гораздо лучшие результаты, чем можно было бы добиться, исписав не одну стопку бумаги в раздражающей переписке.
Майор Маккези, которого его многочисленные друзья называли «Пи Джей», также был нашим давним знакомым. Он приезжал к нам в марте и, помимо неистощимого чувства юмора и профессионализма, дал нам ценные советы и помог решить много проблем, возникавших почти ежедневно в связи с реорганизацией Карельского полка.
Майор Грув, майор Стил, лейтенант Роджерсон, да и все остальные сотрудники штаба оказались замечательными товарищами в ситуации, которая потребовала от каждого человека, участвовавшего в операции, проявить свои лучшие качества. Меня удивило лишь одно открытие: я еще никогда не встречал такого неумелого игрока в бридж, как генерал Мейнард!
Когда лед почти полностью сошел, личный состав британцев в Кеми увеличился за счет полезного — и жизнерадостного — пополнения в виде легкого крейсера Его Величества «Внимательный» под командованием капитана Альтама. Прошлым летом «Внимательный» уже заходил в Кемь, однако в тот раз его стоянка была недолгой, и на смену ему пришли наши старые друзья на «Найране» со своими гидропланами.
ГЛАВА 15. ОПЕРАЦИИ ПОД ОНЕГОЙ
Карелы собрали достаточно средств с продажи мехов и постройки телег, чтобы купить моторную лодку с дышащим на ладан тридцатисильным двигателем. Предполагалось, что она будет буксировать груженые лодки в нижнем течении реки. Корпус длиной тридцать пять футов был в хорошем состоянии, чего нельзя было сказать о немецком двигателе, который довольно долго оставался без присмотра. Однако главный инженер «Найраны» и его механики были настолько любезны, что согласились перебрать для нас двигатель. Много деталей пришлось заменить и перепроверить, пока наши эксперты не остались довольны. Когда он, наконец, был признан готовым к работе, мы стали арендовать лодку по воскресеньям для прогулок по реке и вдоль маленьких островков в ее устье, где иногда можно было поохотиться.
Экипажем во время этих прогулок служили два матроса, а гостями были, как правило, капитан Джонстон и несколько собратьев-офицеров, главный инженер и один пилот с «Найраны». Благодаря этим офицерам наш дневной рацион часто разбавлялся спиртными напитками, и именно с них пошло соревнование, кому удастся смешать самый жуткий — пусть и не всегда самый аппетитный — коктейль. (Если мне не изменяет память, победителем был Батлер, полковой адъютант.) Впрочем, это была не первая история о том, как опасно для жизни смешивать спиртное.
В одно воскресенье, когда гостями на борту «Карельского» были лейтенант Джон Салливан Лонг и его друг Джек, галчонок настоял на том, чтобы облететь каждого человека, сидящего в кубрике, и отпить глоток из его стакана. Сделав несколько кругов, он вернулся на плечо своего хозяина и заснул, но вскоре проснулся от жужжания крупного желтого насекомого, пролетавшего мимо кубрика нашего катера. Он встряхнул перьями и погнался за ним. Насекомому удал ось увернуться от него, и оно помчалось к берегу. Джек преследовал его по пятам. Они мчались зигзагами прямо над поверхностью воды — слишком близко; бедный Джек задел кончиком крыла волну и, прежде чем мы смогли развернуться и подобрать его, захлебнулся. Лонг ничего не сказал, но унес маленькое тельце с собой домой.
Весной и в начале лета наше наступление на юг под командованием генерала Прайса (или дяди Дудли, как с любовью звали его друзья) продвигалось довольно успешно, несмотря на значительные трудности, не все из которых возникли в результате действий нашего противника.
С Архангельского фронта на восточной стороне Белого моря до нас доходили новости о тяжелых сражениях и восстаниях. С юга наступали войска большевиков, которыми руководила женщина, известная как Кровавая Роза[50]. Эта леди имела привычку лично разбираться с военнопленными. Из ее рук они выходили изуродованными, после чего их расстреливали, и из-за этих дьявольских обычаев ее имя наводило ужас на весь русский Север.
В Онеге поднял мятеж русский батальон, которым командовали британские офицеры. Все они были убиты, за исключением полковника Эндрюса, которого забрали в качестве военнопленного в Москву. (Продержав несколько месяцев в заключении, этого офицера по приказу Ленина выпустили и вернули в Англию. Примерно в 1923 году он был убит в гараже, которым владел совместно с покойным бригадным генералом Ф. П. Крозье.)
Эти новости вызвали беспокойство в рядах Мурманской армии, создав дополнительные проблемы для людей, командовавших операцией. Вызвать упадок боевого духа в русских войсках под командованием генерала Прайса никогда не было трудной задачей, а события в архангельских силах лишили их последнего желания воевать, если оно у них когда-нибудь и было. Хотя они еще не достигли стадии открытого восстания, но все время оставались хмурыми и молчаливыми — разительный контраст с довольно высоким боевым духом, который неизменно проявляли наши войска во Франции, даже будучи промокшими, грязными и усталыми.
Позже генерал Прайс сказал мне, что почти всеми своими успехами на юге он был обязан горстке британцев, канадцев и Карельскому Олонецкому батальону, которые никогда его не подводили.
Онега, которую сейчас контролировали крупные силы большевиков, представляла серьезную угрозу коммуникациям генерала Прайса, так как от нее до железной дороги было всего девяносто миль, на протяжении которых враг не встретил бы почти или вообще никакого сопротивления. Его мобильные силы могли быстро продвинуться по прямой дороге на Сороку, ведущей вдоль южного берега Белого моря через Сумский Посад, и атаковать железную дорогу, особенно уязвимую из-за большого количества деревянных мостов. Поэтому я с облегчением получил в начале июля приказ от главнокомандующего выдвинуться в Сумский Посад, большую деревню на берегу реки Сумы. Согласно инструкциям, я должен был организовать отряд из местных жителей и любыми средствами удерживать дорогу на Онегу от наступления на запад сил большевиков. Предоставить мне войска из Кеми не было возможности, однако после уговоров я получил разрешение взять с собой сербский взвод и с помощью различных уловок выпросил гаубичный расчет под командованием капитана Лака. Со мной был лейтенант Менде в качестве переводчика и Григорий, вызвавшийся добровольцем. Мы даже уговорили присоединиться к нам две пулеметные команды с «Льюисами» из гарнизонной охраны Карельского полка и в целом были настроены вполне оптимистично.
Наши наземные силы позже были усилены двумя мощными «морскими охотниками», которые несли по трехфунтовому орудию и пулемету. Они должны были поддерживать нас в районе беломорского побережья, но, к сожалению, действовать они могли только по отдельности — отчасти из-за постоянных поломок в двигателях, отчасти из-за непомерного потребления топлива. На каждом из них стояло по два двигателя мощностью 45 лошадиных сил, и мы считали удачей, если в нужный момент удавалось запустить хотя бы один из двигателей на одном из катеров.
Сумский Посад оказался живописной деревушкой с обычными здесь деревянными домами, раскинувшейся на обеих берегах реки. Части деревни соединялись друг с другом двумя мостами, один из которых, на окраине, был перекинут через пороги, а второй построен напротив церкви на севере. Западный берег реки был крутым, и на его вершине стояла колокольня, с которой окрестности просматривались на три стороны света на много миль. Местность здесь была ровной, безлесной, с возделанными полями. Однако на востоке деревню от леса отделяла лишь полоска земли в милю шириной, в то время как неприятности ожидались именно оттуда.
После обычных приготовлений мы обошли дома, убеждая местных жителей присоединиться к нашим силам. Впрочем, шансов на то, чтобы найти подходящих новобранцев, у нас почти не было, поскольку до нас в этом районе уже поработал полковник Кругляков, набиравший своих «партизан», и прошел набор в Мурманскую армию. Тем не менее нам удалось произвести впечатление на нескольких дюжих женщин и одного мужчину, насчет которого Лак предположил, что мы «выкопали его из могилы на кладбище». Всё же эти усилия принесли свои плоды, и на запрос: «Какова сила ваших новобранцев», присланный по телеграфу из штаб-квартиры главнокомандующего, мы смогли ответить согласно с правдой: «Один ветеран встал под знамена».
Я попросил Григория, чтобы он прислал кого-нибудь из своих прежних подчиненных, покинувших Карельский полк, и через пару дней в расположении нашего отряда появились двадцать пять жизнерадостных и крепких мужчин, с радостью готовых поучаствовать в очередной кампании.
Чтобы найти дополнительных новобранцев, мы с Менде отправились вверх по реке в маленькую деревушку, где, как нам рассказали, еще оставалось несколько мужчин. Нас не обманули, но нам не потребовалось много времени, чтобы понять, почему их обошли стороной наши предшественники. Все четыреста человек, живущие в этой деревне, — мужчины, женщины и дети, которых было немало, — были больны сифилисом, и у большинства из них он уже достиг последних стадий. Внешность их была слишком ужасной для описания; вид этих бедняг вызывал такое отвращение, что нас с Менде долго тошнило, и мы пропустили несколько приемов пищи, прежде чем прошла дурнота, вызванная этим отталкивающим зрелищем.
После этого случая Григорий рассказал, что в этой части страны, которую избегали посещать даже священники, никогда не имелось медицинского обслуживания. По его словам, это был замкнутый круг: изначально распространению болезни способствовали кровосмесительные браки, а сейчас уже сама болезнь принуждала их вступать в браки только между собой.
Наши разведчики хорошо выполнили свою работу, проверив округу и найдя на онежской дороге позицию, на которой благодаря рельефу местности мы получали большое преимущество. На протяжении нескольких миль дорога тянулась между болотом по одну сторону и морем по другую; в одном месте она проходила между двух больших скал, поросших кустарником и невысокими деревьями. Здесь можно было устроить отличное укрытие для наших пулеметных команд и стрелков. Разведчики доложили о приближении вражеских сил, численность которых они оценили в пятьсот человек, включая кавалерию. Была проведена необходимая подготовка, капитан-лейтенанту Джонстону удалось завести двигатели своего морского охотника, и мы стали ожидать появления нападавших.
Едва ли можно найти человека, который бы считал себя командиром и при этом был бы столь же безрассуден и беспечен, как командующий силами большевиков, наступавших по онежской дороге. Он не выслал вперед ни разведчиков, ни авангардный отряд; вместо этого его силы — примерно тридцать конных бойцов, сразу за которыми толпой шла пехота — медленно тащились по дороге шириной примерно семь футов.
Послав условленный сигнал Джонстону с задней стороны утеса, на котором мы притаились, мы с трудом сдерживались, пока всадники не приблизились к нашей засаде на дистанцию примерно тридцать ярдов. Тогда с обеих сторон открыли огонь пулеметы Льюиса; их тут же поддержали стрелки, среди которых были и женщины. С такого расстояния промахнуться было невозможно.
В результате наступил хаос. Те из всадников, кто уцелел после первого залпа, развернули лошадей на свою же пехоту. Копыта лошадей топтали раненых и сбивали с ног живых. Лошади, оставшиеся без ездоков, усугубили общее замешательство, когда в панике промчались сквозь людей, которые побросали оружие и устремились назад, спасая свои жизни. Однако спастись им было нелегко, так как бежать можно было только по длинной открытой дороге, откуда они только что пришли, а на ней не было ни кустика, который мог бы сгодиться в качестве прикрытия. В довершение ко всему, среди бегущих со смертоносным эффектом падал снаряд за снарядом, которые выпускал Джонстон из своего трехфунтового орудия.
Нам не составило бы труда уничтожить весь вражеский отряд до последнего солдата, но мне казалось, что гораздо лучше будет дать некоторым из них спастись, чтобы их рассказы об этом разгроме заставили большевиков лишний раз подумать, прежде чем организовывать очередное нападение на железную дорогу. Прекрасно зная о любви русских крестьян к преувеличениям, я решил, что это поражение произведет огромный эффект, что позднее и подтвердилось докладами нашей разведки.
Чтобы усилить впечатление от этого разгрома, я послал из Нюхчи по правительственному телеграфу приказ старосте поселка Лугиновского, находившегося от нас в тридцати верстах, чтобы он подготовился к размещению двух британских пехотных батальонов, кавалерийского эскадрона, пулеметной роты и вагонов с припасами, и затребовал у него ордера на постой для 95 офицеров и удобное место с коновязями для лагеря. В России в то время использовали систему телеграфной связи, при которой сообщение, посланное с одной станции на другую, поступало на все аппараты на линии, поэтому мое сообщение могли получить в Онеге, Архангельске и во многих других местах. Видимо, область приема этой телеграммы была неограниченной, и, возможно, она удивила самого Ленина в Кремле, потому что некий незнакомый мне офицер из союзных сил, не отличавшийся ни проницательностью, ни воображением, отправил с другой дальней станции телеграмму генералу Мейнарду с вопросом, где тому удалось достать все эти войска!
Я надеялся, что в Онеге не догадаются о подоплеке этого сообщения. Так оно и вышло: большевики отозвали все свои силы, находившиеся к западу от города, и наши разведчики после этого встречали только маленькие разрозненные отряды.
Оставив в Нюхче сербский гарнизон, разместив наблюдательные посты в каждой деревне до самой Онеги — из лучших разведчиков мы набрали связных, которые быстро доставили бы нам информацию, передавая ее по цепочке, — я решил, что мы выполнили поставленные задачи и что было бессмысленно действовать дальше без подкреплений. Морские охотники не смогли бы оказать нам действенную поддержку, если бы мы решили атаковать саму Онегу, хотя Джонстон думал иначе и был не против предпринять подобную попытку. Тем не менее, два монитора подошли к Онеге и провели тренировочные стрельбы, во время которых враг спрятался в близлежащем лесу, вернувшись в город лишь тогда, когда дым мониторов скрылся за горизонтом.
Передышка для местных жителей оказалась краткой. Вскоре к Онеге подошел капитан Уортон на мониторе большего тоннажа и издалека выпустил по городу несколько пятнадцатидюймовых снарядов. Звук, с которым они летели, напоминал рев скорого поезда, проносящегося по тоннелю, а от их взрывов в радиусе нескольких миль содрогнулась земля и были разрушены многие дома. Перед местной церковью образовался огромный кратер, от чего здание покосилось под опасным углом наподобие Пизанской башни.
Бомбардировка оказала деморализующее действие на население, и лишь через несколько часов после того, как силуэт монитора скрылся за горизонтом, местные жители отважились выйти из укрытий. Пораженные ужасом, они разбились на группы и обсуждали ущерб, едва ли помышляя о немедленной мести. К сожалению, у нас не было под рукой войск, чтобы воспользоваться этим очевидным замешательством, и пришлось упустить эту возможность, ограничившись пристальным наблюдением. Однако результат предварительной бомбардировки открывал отличную дорогу для наших будущих операций.
ГЛАВА 16. ЭВАКУАЦИЯ
В начале августа ситуация осложнилась в связи с тем, что союзники на севере России получили категорический приказ готовиться к полной эвакуации. Мне пришлось устроить штаб в Сумском Посаде, чтобы находиться в постоянном контакте с Кемью и решать сотни административных вопросов, связанных с управлением округом и Карельским полком.
В Кеми в это время Батлеру пришлось работать практически без сна и отдыха. К счастью, на его здравый смысл вполне можно было положиться, что снимало часть бремени с моих плеч.
По идее, не меньшее напряжение в это время должно было царить и в штаб-квартире главнокомандующего в Мурманске, однако складывалось впечатление, что их внезапно поразил недуг легкомыслия. Это проявилось в целом ряде эпизодов. Одним из них стала отправка мне некого животного в ответ на мою просьбу срочно прислать коня. До этого мне приходилось ездить на одной из артиллерийских лошадей Лака, но мой новый конь… Это было нечто! Его холка была длиннее, чем у любого животного, кроме жирафов из Лондонского зоопарка в Риджентс-Парке, у него была очень короткая и покатая спина, на которой не было места для седла, и все это заканчивалось крупом, украшенным хвостом, который, судя по размеру, должен был принадлежать той-терьеру. В качестве компенсации это существо ростом семнадцать ладоней было в избытке наделено другой крайностью — огромной головой, которую, казалось, грубо вытесали топором и посадили на длинную тощую шею. Его ребра выпирали самым удивительным образом, а ноги напоминали настоящие снегоступы. У нас также имелись подозрения, что у коня было не все в порядке с головой, так как он был сам не свой до газет и старой одежды!
Штаб-квартира долго игнорировала все мои протесты, но, в конце концов, мне удалось привлечь их внимание к тому факту, что просто забраться на это животное было подвигом, который приходилось совершать через окно второго этажа. Я предложил, чтобы в стандартную комплектацию к нему включили раздвижную лестницу. Мы также запросили шесть футов пенькового каната, чтобы изготовить из него искусственный хвост, без которого лошадь была вызовом благопристойности.
Мои неоднократные жалобы в штаб-квартиру, наконец, возымели действие. Я получил заказную посылку, в которой оказались наилучшие пожелания от Маккези и свежий лимон! Пожелания доставили удовольствие лошади, в то время как лимон мы использовали по назначению.
К разочарованию жителей Сумского Посада и окружающих деревень, этот лошадиный комедиант был вскоре спрятан среди других артиллерийских лошадей, и я продолжал эксплуатировать великодушие Лака, пользуясь одной из них. Иногда, если позволяли запущенные дороги, я менял свое средство передвижения на однотонный грузовик Форда. Однако даже в своем лучшем состоянии эти дороги можно было преодолеть лишь с помощью лопаты и лома, которые стали неотъемлемой частью «Форда» и не раз выручали нас, когда мы попадали в огромные выбоины или начинали буксовать.
Лучшая дорога в округе тянулась на протяжении нескольких миль вдоль реки Сумы, и мы воспользовались этим, когда к нам с очередной проверкой приехал майор Маккези. На этот раз он привез с собой отличную и дорогую удочку и большую коллекцию наживок, чтобы проверить свое умение на местном лососе.
Мы выбрали многообещающий водоем и нашли неподалеку прогнившую плоскодонку, которая могла оставаться на плаву с двумя пассажирами в течение двадцати минут до того, как начинала тонуть. Маккези достал свои снасти и приступил к рыбалке.
Мы знали, что в водоеме водится много рыбы — видно было, как она плавает, — однако эта рыба оказалась исключительно скучной и напрочь отказывалась соблазниться любой из самых разнообразных и привлекательных наживок, предложенных ей рыбаком. Через три часа безуспешной ловли терпение Маккези было истощено, хотя его красноречие только возрастало после каждого нового совета, поданного участливыми зрителями. В конце концов, мокрый и разочарованный, он сдался.
Его немного развеселило и заинтересовало наше предложение использовать гранату Миллса, подвешенную над поверхностью воды (мы всегда возили с собой в «Форде» несколько гранат в ящике для инструмента на случай непредвиденных ситуаций), но когда он понял, каким образом мы хотим добыть из воды улов, он ужаснулся. К его чести, надо признать, что он крайне неодобрительно отнесся к нашим браконьерским методам — однако он все же не оказался пуристом настолько, чтобы отказаться от своей доли улова.
На обратном пути Маккези мрачно наблюдал, как маленькие дети с легкостью таскали рыбу за рыбой крючками из проволоки.
Жители Сумского Посада ловили лосося с помощью общественных ловушек, которые плелись из ивовых прутьев и опускались на дно у быстрин рядом с верхним мостом. Рыбу чистили и коптили в домиках, возведенных на сваях вдоль берега реки, — они придавали деревушке почти венецианский вид.
Я остановился на постой в маленьком домике, хозяин которого был старовером. Я так и не смог понять, в чем точно заключались догматы его веры. Какое-то время я не подозревал, что моим хозяевам причиняла много страданий моя почти неосознанная привычка свистеть по утрам. Оказалось, что свист, согласно их верованиям, был музыкой дьявола; таким образом, все внешние признаки говорили о том, что я был одержим и душой, и телом. Они прикрыли одеждой домашние иконы и потушили лампы, стоящие рядом с ними. В конце концов, в мое отсутствие пришел местный священник и провел полный обряд по изгнанию злых духов.
Что-то было не так, но я никак не мог понять, что именно. Пришлось спросить у Григория, и когда он объяснил мне причину их бедствий, я стал воздерживаться от звуков, нарушающих душевное спокойствие моих хозяев. Как следствие, священник добился успеха, который, наверно, превзошел его самые смелые ожидания.
Со свистом были связаны какие-то суеверия во всей России. Русские солдаты никогда не пользовались им, чтобы подбодрить себя во время переходов — вместо этого они, предварительно назначив кого-либо солистом, пели хором.
Сумский Посад был приятным местом, имевшим много достоинств. Здесь мы могли достать свежие овощи, масло, сливки, яйца, а из ближних деревень нам даже привозили белую малину — деликатесы, которых мы почти не видели с того времени, как покинули Англию. В этих местах жили зажиточные крестьяне, мелкие земельные собственники, чьи наделы располагались неподалеку от главной деревни, что было типично для севера России, где практически не встречались отдельные фермы. Их жилища были чистыми и добротными, с полными закромами и хорошей мебелью, и сами люди чувствовали себя уверенно и комфортно. Добрые и гостеприимные, они были приверженцами «старой веры», что было заметно по большому количеству деревянных крестов во всех значимых местах в округе. От православных они отличались тем, что к основанию прикреплялись две поперечных перекладины, а также украшения из цветной ткани, особенно во время праздников.
Возникли многочисленные административные трудности, связанные с передачей припасов и попыткой заменить в карельских батальонах британских офицеров на русских, что еще больше осложнялось большими расстояниями между нашим штабом и соответствующими частями. У Хитона в Юшкозере возникло много проблем, самой сложной из которых было обеспечение дополнительного речного транспорта: карелы категорически возражали против того, чтобы все их лодки разом оказались поблизости от Кеми, поскольку были уверены, что русские попытаются конфисковать их, едва закончится эвакуация союзников. Сложилось безвыходное положение, и мне пришлось спешно приехать в Кемь на одном из морских охотников, который в этом случае выполнил свою работу на отлично — в Кеми я успел решить вопросы с транспортом, уладил несколько других срочных дел и в тот же день еще до полуночи вернулся в Сумский Посад.
Неохота, с которой карелы предоставили свои лодки, отражала их настроения после реорганизации полка. Они стали молчаливыми и осторожными, а их поведение — серьезным, что очень контрастировало с жизнерадостностью прежних дней. Я не знаю, стали ли им известны намерения генерала Мейнарда разоружить их. Он рассказал мне об этих планах и, без сомнений, обсуждал их с некоторыми офицерами из своего штаба, однако по этому поводу у меня были только самые мрачные предчувствия, и, когда он спросил мое мнение, я ответил, что потребуется шесть месяцев и британская пехотная дивизия, чтобы хотя бы отчасти претворить эти планы в жизнь. Я также напомнил генералу о специфике этой страны и о характере ее народа. К моему огромному облегчению, от этих намерений отказались, но независимо от того, была ли у карелов точная информация о намерениях генерала по поводу их разоружения или нет, я знал, что они очень тонко чувствовали его отношение к себе и, как следствие, с подозрением относились ко всем его приказам, которые затрагивали их интересы. Чтобы добиться исполнения приказов, мне приходилось лично разъяснять их и давать что-то вроде персональной гарантии честных намерений, стоявших за ними. У меня не было желания сообщать об этом состоянии дел в штаб-квартиру главнокомандующего, так как это не принесло бы никакой пользы и лишь усилило бы взаимное недоверие.
Я не сомневался тогда, и сейчас не сомневаюсь, что если бы карелы в тот момент обратили оружие против нас, то наша эвакуация с севера России прошла бы с заметными трудностями.
Мне удалось сохранить полное доверие со стороны карелов, и те, кто служил вместе с нами на онежской дороге, были отличными парнями, надежными и сообразительными. Более того, их доклады всегда отличались разумностью и оперативностью. Из этих докладов было очевидно, насколько упал боевой дух большевистских войск в Онеге. Любая демонстрация силы с нашей стороны не встретила бы серьезного сопротивления; с другой стороны, обреченная на неудачу атака с теми немногими солдатами, которые были в нашем распоряжении, привела бы к тому, что к ним бы вернулась уверенность в своих силах и в будущем они оказали бы более упорное сопротивление. Неудивительно, что мы обрадовались, узнав о подкреплениях, присланных для освобождения города. Однако до того, как это произошло, большевики сами ушли из Онеги, причем предварительно подожгли многие из основных зданий и забрали с собой столько награбленного, сколько смогли унести. Лишь на южной окраине города был оставлен маленький отряд — не столько для защиты города, сколько для наблюдения.
На следующий день в Онегу без какого-либо сопротивления вступили войска генерала Айронсайда из архангельской группы. Теперь, когда были достигнуты все цели и закончился период активной и полезной деятельности в этом районе, нашей единственной задачей оставалось содержание разведывательных постов в Нюхче и Сумском Посаде. В начале сентября они были переданы в распоряжение русского отряда, переведенного с юга из-под командования генерала Прайса. Оставив Менде в Сумском Посаде, где ему нужно было решить какие-то мелкие личные вопросы, я вернулся на железнодорожную станцию в Сороке.
На станции я обнаружил поезд с британскими войсками, возвращавшимися в Мурманск. Пробравшись к вагону с целыми, не разбитыми окнами, я вскарабкался на посадочную площадку (в Сороке, как и на всех других станциях на севере, не было платформ) и радостно поздоровался с хмурым майором и безукоризненно чистым капитаном, которые сообщили мне, что вагон был предназначен исключительно для офицеров! Это напомнило мне, что моя форма имела весьма потрепанный вид. Однако я разглядел в ситуации и забавную сторону, на ломаном английском попросив у них разрешения остаться. Ответом был совершенно неучтивый отказ, после чего я посоветовал им поискать другой вагон, где им никто не стал бы мешать обсуждать завоеванную славу. Это был удар ниже пояса: согласно сообщениям, их соединение допустило ряд грубых просчетов, из-за которых и было преждевременно отозвано. Естественно, это вызвало их негодование.
Проглатывая нарастающую ярость, майор спросил у меня, являюсь ли я офицером, однако мой ответ, хоть и не пролил свет на это обстоятельство, разозлил его еще больше, и наш разговор закончился тем, что он сквозь зубы пробормотал мне несколько пожеланий о не очень светлом будущем.
Когда мы приехали в Кемь, я решил, что шутка затянулась, и пригласил их выпить вместе со мной. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы установить дружеские отношения, и я не очень сожалел, когда наше относительно недолгое совместное путешествие подошло к концу.
В Кеми меня ожидало несколько беспокойных недель, во время которых нужно было решить все административные вопросы, связанные с бухгалтерией районного управления. Это было осложнено постоянной сменой валюты и колебаниями ее курса. Часть подразделений получала зарплату в «британских» рублях, призванных заменить русские эквиваленты, в то время как остальным платили старыми рублями, которые постепенно утрачивали свою стоимость и, в конце концов, вообще перестали что-либо стоить. Однако, несмотря на всю эту путаницу, капитан Гиллинг продолжал вести тщательный учет, и у нас не возникло трудностей со сдачей отчетности.
Батлер, которому помогал Робинсон, выдал зарплату солдатам Карельского полка и его различных подразделений. Здесь также не возникло никаких трудностей с отчетностью. Эти два офицера также вели учет средств Фонда вдов и сирот. Когда его передали карелам, он имел позитивный баланс, на котором находилось примерно 600 фунтов стерлингов и работоспособная моторная лодка, а также значительное количество товаров и снаряжения.
Была предпринята еще одна попытка убедить карелов сдать пулеметы и боеприпасы к ним, но и она, боюсь, совершенно не удалась, так как все ручное оружие имело тенденцию самым мистическим образом исчезать под различными предлогами, и проведенное расследование показало, что единственным оружием, остававшимся в Кеми, были старые французские винтовки, к которым здесь было не найти патронов.
Те русские жители из гражданского населения Кеми, кто был дружелюбно расположен к союзникам, с ужасом ожидали нашей эвакуации, уверенные, что она станет прелюдией к их преждевременной смерти от рук большевиков, которые неизбежно должны были занять округ после нашего ухода. Слишком во многих случаях эти мрачные предчувствия оказались верными. У местных жителей появилась слабая надежда, когда прошел слух, что их эвакуируют вместе с нами и дадут убежище в Англии, но вскоре пришло официальное опровержение, и им осталось лишь с отчаянием и фатализмом ожидать свою судьбу.
Мы были бессильны им помочь. Единственное, что мог сделать лично я, — это заручиться по отношению к тем русским, которые в прошлом были нашими преданными друзьями, поддержкой карельских лидеров, чтобы те помогли им пробраться через Карелию в Финляндию в том случае, если побег из России останется для них единственным выходом. Карелы пообещали сделать все, что будет в их силах, чтобы исполнить мою просьбу.
Они очень хотели, чтобы я пообещал им вернуться в Карелию, как только смогу уйти в отставку с британской службы. В этом отношении они сделали очень лестное предложение мне и любым десяти младшим офицерам, которых выбрал бы я сам. Я был тронут их доверием и верностью, которые были косвенным комплиментом моему руководству. Они прекрасно понимали, что у меня не будет поддержки британского правительства. Было бы нетрудно найти необходимое число британских младших офицеров, так как те, кто служил в Карельском полку или был по долгу службы связан с карелами, испытывали сильное желание остаться в этой стране, несмотря на то, что многие из них за всю службу на севере России ни разу не были в отпуске и что возвращение на родину могло оказаться весьма и весьма проблематичным. Обычно мне хватало нескольких слов, чтобы напомнить им о долге по отношению к их собственной стране и убедить не принимать никаких опрометчивых решений. Сложнее пришлось с лейтенантом Кеннеди, и я был вынужден прибегнуть ко всему своему таланту убеждения, чтобы отговорить его от намерений немедленно связать свою судьбу с карелами. Я знал, что он превосходно перенес бы все трудности и суровые условия жизни в субарктическом климате, так как служил офицером в Королевской канадской конной полиции, но я указал ему на то, что до нашего возвращения в Карелию (если оно когда-либо произойдет) он будет оставаться один, к тому же отрезанным от внешнего мира. В конце концов, он принял мой совет вместе с заверениями, что я не вернусь обратно без него.
Так, совершенно неудовлетворительно, заканчивалось предприятие, начинавшееся с целью не дать немецким силам на севере усилить их армии на западном фронте и постепенно превратившееся в кампанию против большевизма, к которой мы оказались совершенно не готовы. Когда были получены четкие приказы эвакуироваться из Кеми и Карелии, удовольствие, которое мы теоретически должны были испытывать от скорого возвращения домой, было омрачено размышлениями о грядущей судьбе наших русских друзей, которых мы оставляли на «милосердие» наших врагов. Нас не отпускала мысль, что их затруднительное положение было вызвано в первую очередь нашей напрасной интервенцией.
Все наши припасы, снаряжение и счета были приведены в порядок, все британские офицеры и персонал Карельского полка вернулись в Кемь, и к тому времени, как к Попову Острову прибыло транспортное судно, мы были готовы к погрузке. Карельские офицеры пришли к пристани, чтобы пожелать нам удачного плавания. Лишь дав им обещание вернуться как можно раньше, я смог отказаться от ценных прощальных подарков от моих преданных друзей. Многие из наших русских друзей в Кеми также пришли, чтобы попрощаться с нами, но многие испугались, что привлекут внимание вражеских шпионов, и остались дома. В то время я не понимал, насколько близкой и реальной была для них опасность. Единственными, кто испытывал радость, были несколько русских беженцев и кое-кто из британских рядовых. Те же из нас, кто тесно общался с нашими друзьями, оставшимися на берегу, понимали, что мы прощаемся с людьми, обреченными на смерть. Последнее, что мы видели, было множество машущих шляп, среди которых выделялась высокая черная фигура казака Омара, размахивающего своей шашкой.
Мы прибыли в Мурманск, где на борт взошли генерал лорд Ролин-гсон, генерал сэр Чарльз Мейнард, который в то время тяжело болел, бригадный генерал Прайс, а также их штабы и прочие подчиненные. Во время стоянки в Мурманске я попытался купить одну из канадских эскимосских лаек Шеклтона. Она была точной копией ирландского терьера, за исключением размера — ростом она не уступала волкодаву. Ее владелец не захотел расставаться с ней.
Домой мы плыли на бывшем немецком лайнере, который был отдан союзникам в рамках репараций и назывался, если я не ошибаюсь, «Левиафан». Перед передачей судна немцы повредили забортную трубопроводную арматуру и внесли некоторые усовершенствования в двигатели, в результате чего нам приходилось часто останавливаться для ремонта и удаления песка из поршней. Это еще больше усиливало наше разочарование от недоделанной работы. Из-за всех этих обстоятельств мы не могли наслаждаться чувством свободы от каких-либо обязанностей, которое обычно испытывает «возвращающийся воин». Отсутствие военно-морского эскорта являлось первым и самым заметным доказательством того, что война, наконец, закончилась и наша цель была достигнута.
С собой в Британию я взял в качестве слуги очень умного карельского юношу, хорошо знакомого британскому персоналу Карельского полка своей смекалкой и знанием английского языка. После того, как мы вернулись в Ирландию и парень успел прожить в моем доме два дня, внезапно уволилась кухарка, а служанки заявили, что не будут спать под одной крышей с юным варваром! В результате небольшого расследования я выяснил, что этот мальчишка показывал женщинам свой кинжал и в лицах описывал, как он перерезал глотки бесчисленным немцам и всем другим, осмелившимся встать у него на пути. Увещевания оказались бесполезными, многочисленные обещания вести себя хорошо неизменно нарушались, и когда вторая группа служанок пригрозила уйти, я убедил своего брата взять его в качестве слуги. Четыре дня его поведение было образцовым, но потом он показал на кухне фотографию, сделанную Менде, на которой карельские мальчишки делали вид, что собираются обезглавить одного из своих товарищей. В роли палача позировал Ефим, и этого прислуга не вынесла. Ловкость, с которой он обращался с топором, и проявление непомерного воображения погубили его карьеру слуги в Ирландии. Мы отправили его к своим русским друзьям в Ричмонд, графство Саррей, где уже через несколько дней он заслужил огромное уважение и получил благодарность от полиции за храбрость, которую проявил, остановив понесшую лошадь на переполненных улицах этого городка. Настоящая история этого подвига заключалась в том, что Ефим увидел лошадь без наездника, несущуюся по дороге прямо на него, и решил, что «кто нашел, тот и хозяин», после чего предпринял смелую и успешную попытку захватить этот приз. Ему пришлось испытать большое разочарование, когда его иллюзии развеял хозяин лошади — полисмен! Однако общественное признание помогло ему найти работу у местного дантиста, где он был, без сомнения, счастлив в окружении грозных инструментов. Он проработал там несколько лет, пока, в конце концов, не вернулся в Россию.
Обстоятельства заставили меня две недели спустя покинуть Англию для службы в литовской армии, и в Ковно я получил первые новости от моих друзей с севера России. Аргиев, когда-то работавший инженером Кемского участка Мурманской железной дороги, написал мне из финского концентрационного лагеря, перечислив имена тех, кто пережил катастрофу, последовавшую за нашей эвакуацией из Кеми: полковник Есиев и его семья, мадам Елена Фирсова и некоторые другие, когда-то оказавшие нам неоценимые услуги. К счастью, мне удалось связаться с британским военным атташе в Гельсингфорсе, который смог договориться об освобождении наших друзей и помог им добраться до Франции. Будучи за границей, я потерял контакт с этими людьми, но недавно я встретился с мадам Фирсовой, которая проживает в Париже и получает от французского правительства пенсию в размере шестидесяти франков в месяц за услуги, оказанные союзникам во время их операций на севере России. История ее злоключений такова, что ее нельзя слушать спокойно; проплешины на ее голове в тех местах, где были выдраны волосы, и черный шрам на губах в том месте, где ее двадцать лет назад ударили прикладом винтовки, до сих пор напоминают о том, как с ней обошлись четверо ее соотечественников в то самое время, когда мы несколькими милями дальше грузились на пароход. Голую, окровавленную и в бессознательном состоянии, ее спасла группа королевских инженеров <британской армии>, которые задержались, чтобы «очистить» Кемь. В 1938 году подполковник сэр Томас Мур, член парламента, по моей просьбе попытался добиться для нее у Военного министерства небольшого пособия или пенсии, но, к сожалению, безрезультатно, поскольку для таких случаев отсутствует подходящая статья финансирования.
Песков, еще один ценный сотрудник нашей разведки, переехал в Лондон со своей матерью и сестрами. Он купил такси и работал на нем; он умер не так давно. Генерал-губернатор Ермолов был расстрелян большевиками в Мурманске, а генерал Скобельцын, как говорят, владеет гаражом в Париже.
Офицеры из «сирен» приезжают со всех уголков мира на ежегодную встречу в клубе «Рэг» <Клуб армии и военно-морского флота>, где мы всегда рады видеть графа Беннигсена в качестве нашего почетного гостя. Разумеется, на этих встречах постоянно кто-то отсутствует, но меня особенно интригует один случай. Кеннеди, когда-то бывший главным артистом знаменитого театрального ансамбля мисс Сибил Торндайк[51], исчез из Лондона в 1925 году, не оставив никаких намеков на цель своего путешествия ни семье, ни друзьям. Вплоть до сегодняшнего дня у меня нет о нем никаких известий. Возможно ли, что он не смог дождаться меня и вернулся обратно в Карелию, чтобы работать вместе с Николаем и Григорием?
Полк, который мы создали, великолепно проявил себя в кампании против большевиков в Мурманске. Наступая по железной дороге, он отогнал их за Петрозаводск, очистив от них всю Карелию. После этого карелы заключили с Советами мир на условиях предоставления им статуса «автономной республики», хотя я сомневаюсь, что этот компромисс соответствует их представлениям о независимости. Об их лидерах я ничего не слышал с тех пор, как они попрощались с нами на причале на Поповом Острове.
Кемь сейчас используется как центральный пункт колонии для заключенных, условия содержания в которой являются кошмарными, а остров и прекрасный древний Соловецкий монастырь временно превращены в тюрьму для тех, кто осужден на пожизненное заключение. Ни один заключенный еще не вернулся с острова живым.
Недавно Карелия упоминалась в газетных новостях из России. В них писали, что вдоль всей линии финско-карельской границы сейчас строятся протяженные фортификационные сооружения. Это кажется мне бессмысленным, так как результаты вряд ли окупят затраты на труд и материалы. Большая часть этой границы представляет собой болота, реки и непроходимые леса.
ЧАСТЬ 2. ЖИЗНЬ И ЭПОХА Ф. ДЖ. ВУДСА
ГЛАВА 1. КОРОЛЕВСКИЙ ИРЛАНДСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК. ЛЕС ТИПВАЛЬ, ИЮЛЬ 1916 г.
Ранним утром 2 июля 1916 г. майор Ф. Дж. Вудс, заместитель командира 9-го (Западного белфастского) батальона Королевского ирландского стрелкового полка, получил неожиданный приказ. Вместо командира батальона, подполковника Ф. П. Крозье, Вудс должен был встать во главе отряда, собранного из истощенных солдат четырех белфастских батальонов 107-й бригады, которым удалось пережить вчерашний бой. В первой половине дня ему предстояло повести их в очередную атаку с позиций в лесу Типваль к югу от реки Анкр в северной Франции на считавшуюся неприступной немецкую цитадель, известную как Швабский редут[52].
Это был второй день битвы на Сомме. Неделей ранее союзники начали масштабный артобстрел немецких позиций. В половине восьмого утра 1 июля первые британские пехотные дивизии с трудом преодолели нейтральную зону и тут же натолкнулись на смертоносный вражеский огонь. За несколько минут до этого подполковник Крозье и майор Вудс стояли в секторе Типваль. Среди солдат, выстроенных у края леса, царило полное молчание. Позднее Крозье вспоминал этот эпизод:
Приблизился полковник. Я знал его. Его лицо было смертельно бледным. «Посмотри на его лицо, — сказал я Вудсу и спросил, — что это с ним?» «Он боится смерти, — сухо ответил уроженец Ольстера и добавил, усмехнувшись, — но далеко не так, как я». Я подал сигнал свистком. Мы двинулись по дамбе, ведущей через Анкр[53].
Неизвестный полковник не зря боялся худшего. Общие потери британцев в первый день наступления составили 57 470 человек, из них почти 20 тыс. погибших. 36-я (Ольстерская) дивизия, частью которой была 107-я (Белфастская) бригада с соответствующими батальонами, понесла особенно тяжелые потери во время своего раздвоенного удара с севера и с юга от реки Анкр по направлению к деревне Бокур. Тем не менее, к югу от реки им удалось захватить неустойчивый плацдарм на немецкой территории на крутом откосе Швабского редута. 1 июля подполковник Крозье повел в битву 700 солдат Западного белфастского батальона. К концу дня из них вернулось только 70.
День, в который началась эта бойня, имел особое значение для северных ирландцев из тринадцати вспомогательных батальонов, собранных осенью 1914 г. из лоялистской организации Добровольческие силы Ольстера и приписанных к трем бригадам 36-й дивизии. По современному календарю первый день июля был годовщиной битвы на реке Войн, в которой протестант Вильгельм Оранский одержал победу над католиком Яковом II. Согласно лоялистскому фольклору, это событие сохранило в Ирландии протестантизм и власть Британии. По имеющимся сведениям, в 36-й бригаде некоторые выходцы из Ольстера шли в бой с оранжевыми шарфами или лилиями, которые обычно носят в годовщину битвы на реке Войн[54].
Ночью 1 июля командир дивизии генерал-майор О. Нюджент потребовал, чтобы бригадный генерал У. М. Уиттиком из 107-й бригады послал подкрепления разрозненным силам, удерживающим вражеские линии, которые были захвачены к концу первого дня сражения. Уиттиком собрал всех выживших солдат из своих четырех белфастских батальонов и поместил этот импровизированный отряд, усиленный двумя пулеметными подразделениями, под командование Вудса. Крозье был отстранен, так как днем ранее во время руководства атакой он нарушил приказ штаб-квартиры союзников, запрещавший старшим офицерам принимать непосредственное участие в сражении[55]. Майор Дж. Гаффикин, третий по старшинству офицер в батальоне, ушел в битву 1 июля, повязав оранжевый платок, и был убит. В связи с этим выбор пал на Вудса, для которого это была первая командная должность в карьере.
В два часа дня 2 июля Вудс повел 360 пехотинцев (60 из 10-го батальона, командир которого, полковник X. К. Бернард, также в предыдущий день нарушил приказ и был убит; и по сто из трех других добровольческих батальонов) с британских позиций, известных как «Замок Гордона», на краю леса Типваль в водоворот немецкого пулеметного огня, бризантных взрывов, шрапнели и стеклянных бомб[56]. Через час семафор союзников на гряде Меснил получил сообщение лейтенанта Хогга из 15-го батальона, находящегося в окружении: «Я ранен и почти мертв. О'Коннор тяжело ранен… от отряда осталось около 20 человек. Делаю все, что могу, сообщите подполковнику Крозье». В 3.15 Вудс телеграфировал, что он «пробивается на соединение», но уже потерял по 40 человек в каждом из четырех батальонов. «Пришлите сигнальщиков, — добавил он, — я не могу найти своих».
Днем Крозье отправил ему оперативное сообщение: «Дорогой Вудс, я слышал, что вы хотите вынести на носилках раненого офицера, только не днем, к огромному сожалению, он должен подождать до ночи. Возвращайтесь поскорее, ради Бога!! Вы отлично справились»[57]. В шесть часов вечера Вудс доложил, что он добрался и снова занял немецкую линию «А» у Гранкура, но дорогой ценой: только 15-й батальон потерял половину личного состава. Он запросил, чтобы ему доставили гранаты, сигнальные ракеты и воду. Устроив в немецкой землянке командный пункт, Вудс выслал несколько отрядов солдат, чтобы занять другие части рубежа, и начал эвакуировать своих раненых.
Ольстерцам пришлось сражаться всю ночь, отражая контратаки противника. К 11 часам утра прибыла только одна рота из двух обещанных, поэтому Вудсу удалось отослать назад лишь половину своих солдат. Сам он оставался на захваченном у врага рубеже. Только в 10.40 на следующее утро Вудс смог, наконец, вернуться с линии фронта в относительную безопасность леса Типваль вместе со 160 оборванными и измотанными солдатами и горсткой немецких военнопленных. Согласно некоторым свидетельствам, из 700 добровольцев Западного белфастского батальона, которые пошли в бой утром 1 июля, к третьему дню битвы на Сомме в живых оставалось только 60[58].
Какими бы героями ни были ольстерцы, но они все-таки были людьми. Некоторые из солдат намеренно отстали в атаке первого дня или бежали, испугавшись вражеского огня. К полудню 3 июля немногие выжившие, согласно имеющимся сведениям, «напились и начали горланить»[59]. Начальник оперативно-разведывательного отдела штаба 107-й бригады Морис Дей вскоре после боя написал Вудсу, поздравив его с командованием во время второго дня сражения и лаконично добавив, что «бригадный генерал <Уиттиком> очень сожалеет о больших потерях»[60].
Из своего личного состава — примерно 15 тыс. человек — на краю леса Типваль во время первых трех дней битвы на Сомме 36-я (Ольстерская) дивизия потеряла 5500 солдат, из них две тысячи убитыми.
Ей удалось ненадолго добиться одного из немногих успехов во время начального наступления, захватив Швабский редут, но через день после того, как Вудс эвакуировал своих солдат, не получив подкрепления от других соединений, она была вынуждена отступить из твердыни на склоне холма.
В Ирландии сражение у Типваля быстро вошло в фольклор, поскольку местным сообществам, связанным тесными узами и обладавшим ярко выраженной идентичностью, требовалось осмыслить понесенные ими ужасающие потери, а политики жаждали превратить это самопожертвование в политический капитал. 19 июля газета «Белфаст Ньюс-Леттер» опубликовала стихотворение, озаглавленное «Наступление Ольстерской дивизии у Типваля»:
Не знал еще мир подобных атак, И разве забудет сын Ольстера, как Взошла звезда славы народа его В тяжелом сражении на Сомме. Смеялись они смерти прямо в лицо И сквозь пушек гром пели песни отцов, Те песни, что ольстерцы только поют — «Река Войн» и «Мы не сдаемся»[61].Битва на Сомме до сих пор имеет огромное значение для коллективной памяти и идентичности Ольстера. Яркие картины, украшающие стены домов по улице Шанкилл Роуд и в других протестантских районах Белфаста, где почитают ольстерских добровольцев и события 1-3 июля 1916 г., убедительно свидетельствуют о важности этого прошлого в современном обществе[62].
В январе 1917 г. майор Ф. Дж. Вудс получил орден «За безупречную службу» за свое участие в этих событиях. Он также был повышен в звании до подполковника и принял командование 9-м батальоном Королевского ирландского стрелкового полка. Будущему «Королю Карелии» было 36 лет.
ГЛАВА 2. ПАРЕНЕК ИЗ СЭНДИ РОУ. СЕМЬЯ И ДЕТСТВО
Филипп Вудс был империалистом. Однако для него империя не была абсолютным и универсальным правом великих или богатых наций. Для него главным всегда оставался британский имперский идеал, согласно которому моральный долг был превыше презренной прибыли или политики грубой силы, и этому идеалу Вудс оставался верен даже тогда, когда, как мы увидим дальше, он утратил уважение к политикам и бюрократам, управлявшим территориями и народами Британской империи. В грязи окопов Франции и Фландрии, в снегах северной России и на тротуарах Белфаста он испытывал растущее негодование по поводу предательства простого народа политической и социальной элитой, «старой кликой», частью которой он никогда себя не ощущал и интересы которой вызывали у него стойкую, искреннюю и взаимную неприязнь. Чтобы понять, что для Вудса значила империя и как при своем непримиримом отношении к сильным мира сего он стал консерватором, нам нужно погрузиться глубже в историю, к его ольстерским корням и воспитанию.
В конце XVI в. протестантская королева Англии Елизавета I начала подчинять и колонизировать северо-восточную Ирландию. Этим она преследовала две цели: извлечь прибыль из местных земель и защитить их от своих континентальных врагов. Один историк охарактеризовал Ольстерскую плантацию, возникшую в течение следующих 50 лет, как «колониальное предприятие, которое по масштабам и характеру можно сравнить с английской миграцией в Новый Свет»[63].
Как и колонизация Америки, английское завоевание Ирландии имело моральную и духовную подоплеку — миссию, целью которой было завершить, как говорил наследник Елизаветы I король Яков I, «реформацию и цивилизацию этих невежественных земель нашей страны»[64]. Естественно, что там, где неуступчивые поселенцы не сумели склонить местное население к «послушному поведению» и «правильной цивилизованной жизни», они покоряли его огнем и мечом. Двойственный характер империи был заметен уже в то время.
Когда в 1660-х гг. Вудсы переехали на Ольстерскую плантацию, которую решили сделать своим новым домом, они поселились рядом с городским округом Тафблейн, графство Даун (к юго-западу от Хиллсборо). На этом месте, на краю леса Килварлин, за двадцать лет до этого генерал-майор Роберт Мунро и его шотландская армия, вторгнувшиеся в Ирландию, устроили бойню местного населения. В течение 1650-х гг. в результате кампании Оливера Кромвеля, сопровождавшейся массовыми казнями, выселениями и конфискациями, освободилось еще больше земли, которая привлекала новую волну колонизаторов, солдат и искателей приключений[65].
Большинство новых колонистов арендовали землю у крупного землевладельческого дворянства этого региона. Лендлордами Вудсов была семья Хилл, которой за пятьдесят лет до того английская корона пожаловала за военную службу значительные земельные владения в Дауне и Антриме. Колонисты Ольстерской плантации выращивали картофель, овес и ячмень. Они также изготавливали ткань из льна, растущего в этих местах, что давало им дополнительный доход между урожаями.
Вскоре текстильное производство начало играть заметную роль в экономике Ольстера. В 1698 г. ирландский парламент выплатил субсидию известному французскому ткачу-гугеноту, и под его руководством в Лисбурне, всего в четырех милях от Тафблейна, возник центр ткачества с искусными ремесленниками. Вудсы, без сомнения, принадлежали к числу многочисленных ольстерских фермеров, перенявших в XVIII в. технологии и знания этих специалистов. Их благосостоянию также способствовали преференции в торговых делах, пожалованные Англией, и пособия и субсидии, выделяемые Ирландским льняным управлением[66].
Вместе с ростом импорта текстиля из Ольстера росло и благосостояние семьи Вудсов. В договоре аренды, подписанном в 1774 г., некий Джереми Вудс выступает как «поставщик льна», в чьей собственности находилось «девять акров, три руды и четыре перча» (т. е. чуть меньше десяти акров)[67]. Переписи 1815 и 1824 гг. показывают, что размер ежегодной ренты, которую выплачивал Джереми своим лендлордам, составлял 40 шиллингов — стандартная сумма за свободное владение землей в этой части страны. Его лендлордами было семейство Хиллов, чей старший сын в то время носил титул маркиза Даунширского и закрепил свое колониальное наследие в девизе «Я завоевал свои владения именем Господа и мечом». Соседний участок был записан на Генри Вудса — возможно, родственника.
Вудсы были типичной семьей средних фермеров-арендаторов графства Даун. Они арендовали свой надел на долгий срок, выращивая на продажу зерновые культуры и лен и передавая небольшие земельные участки в субаренду крестьянам. Будучи усердными прихожанами Церкви Ирландии (в местном приходе Святого Иоанна в Килварлине еще можно найти могильные плиты их рода) и покровителями местной бедноты, Вудсы, скорее всего, пользовались общественным уважением и привилегированным статусом в своем маленьком сообществе. Средние фермеры, подобные им, в течение столетий были опорой сельского ольстерского общества. В 1802 г. переписчик следующим образом охарактеризовал их социальную прослойку: «уважаемые … проницательные и умные»[68]. Современный историк описывает их «упорными, настойчивыми, самодостаточными и прямодушными»[69].
В начале XIX в. у Джеймса Вудса, сына Джереми, было одиннадцать детей, четверо из которых умерли в младенчестве или детстве. В книге арендаторов Килварлина 1848 г. сказано, что у него имеется два надела земли общей площадью почти 22 акра. Старший из выживших сыновей Джеймса, также Джереми (родился в 1827 г.) унаследовал семейный дом и большую часть земли. В Метриках Гриффита указано, что владения Джереми составляли почти двадцать акров стоимостью 21 фунт стерлингов, дом стоимостью восемь фунтов стерлингов и три маленьких земельных надела с садами, сдаваемых в субаренду.
Он также нанял несколько местных жителей в качестве рабочих и ткачей. Скорее всего, это были деревенские прядильщики или ткачи, которые не могли самостоятельно добывать средства для жизни, причиной чего были распространившиеся в начале XIX в. механические прядильные и ткацкие станки. В результате индустриализации Ольстера и обнищания его сельского населения, усугубленного голодом, даже не самые бедные слои населения оказались перед выбором: либо эмигрировать в Америку, либо переехать в быстро растущие города — Дублин и Белфаст. Семья Вудса была большой, и их земельных владений и небольшого льняного бизнеса не хватало на то, чтобы поддержать всех отпрысков с их семьями. Примерно к середине XIX в., в то время как Джереми остался жить в Черч Фарм, Килварлин (его потомки живут там до сих пор), как минимум двое из его младших братьев присоединились к миграционному потоку в города.
Братья преуспели лишь отчасти. Уильям Вудс связал свою жизнь с духовной карьерой и с начала 1850-х гг. руководил частной дневной школой на Рутланд Сквер (сейчас Парнелл Сквер) в центре Дублина. С 1859 по 1863 г. это учреждение посещал больной и впечатлительный мальчик Абрахам Стокер. Его успехи в учебе были весьма посредственными, но он проявил глубокую любовь к литературе. Один из биографов будущего автора «Дракулы» характеризует преподобного Вудса как «человека большой учености и бесстрашного красноречия», который проявлял к мальчику «расположение и почти безграничное терпение»[70].
Другой же брат, Хью Вудс (родился в 1833 г.), переехал в Белфаст, где можно было легко найти работу на новых промышленных льняных мануфактурах, а позже — на судостроительных верфях. Между 1851 и 1871 гг. в Белфасте поселились свыше 85 тыс. иммигрантов из сельской местности. Хью был одним из них. В результате столь быстрого роста — население Белфаста за этот период почти удвоилось — расцвела общественная жизнь во всем ее разнообразии, однако усилились и противоречия на религиозной почве, вызванные близким соседством протестантских и католических рабочих слоев[71].
Хью Вудс поселился в Сэнди Роу, бедном и исключительно протестантском районе, где жили рабочие, занятые в льняной промышленности. Район примыкал к самому центру Белфаста с юго-запада и в 1857 и 1864 гг. был охвачен рядом восстаний. В докладе, сделанном в британском парламенте во время первой вспышки насилия, жители Сэнди Роу характеризовались как люди «скромного происхождения, среди которых нет никого из высших классов. Это торговцы, управляющие и те, кто работает на заводах»[72]. (К 1880-м гг. центр религиозных противоречий сместился на несколько миль к северо-западу, в район новой улицы Шанкилл Роуд, где жили более высокооплачиваемые судостроительные рабочие[73].) Хью устроился на работу клерком на местное предприятие. У них с женой Эмили Катериной была дочь (родившаяся в 1864 г., в год уличных бунтов, и умершая через пять лет; она была похоронена на кладбище Св. Иоанна в Килварлине) и двое сыновей. Старшего звали Роберт Джеймс, а 28 сентября 1880 г. родился Филипп Джеймс, герой нашего повествования[74].
Хотя их семью едва ли можно было назвать зажиточной, оба мальчика получили аристократическое воспитание, как подобало близким родственникам сельских джентльменов из Килварлина в Хиллсборо. Более того, как указал Филипп Вудс в статье о себе в справочнике «Кто есть кто», его мать была благородного происхождения: ее дед, сэр Джон Пулстон из Флинтшира в Уэльсе, мог проследить свою родословную вплоть до Норманнского завоевания. Сэр Роджер де Пулстон был назначен Эдвардом I первым шерифом графства Энглси после завоевания Уэльса в конце XIII в. и был убит местными жителями во время одного из ранних восстаний против английских налогов. Построив свое имение в Эмрал Холл (рядом с Рексхэмом) в северной части англо-уэльской границы, эта семья колониальных поселенцев постепенно стала играть важную роль в местной жизни и покровительствовала многим видным уэльским поэтам. На определенный момент они даже присоединились к восстанию Овайна Глиндура против английского владычества в начале XV в.[75]
Джон Генри Пулстон (1830-1908), принадлежавший к этому роду и широко известный в конце XIX в., был дальним родственником матери Филиппа Вудса. Нажив состояние в США в годы гражданской войны, Пулстон вернулся в Британию, где нажил и потерял еще одно состояние в лондонском Сити, в 1874-1892 гг. был членом парламента во фракции консервативной партии от Девенпорта и в 1887 г. получил рыцарский титул[76]. Юный Филипп Вудс был, разумеется, осведомлен о своем родстве с этим выдающимся, пусть отчасти и беспутным деятелем, как и о своем происхождении со стороны матери; тем более странными эти связи должны были казаться мальчику, родившемуся в маленьком доме с террасой на улице Норвуд Стрит в Сэнди Роу.
К 1892 г. Хью Вудс стал более высокооплачиваемым заводским служащим, и семья переехала на улицу Лавиниа Стрит. Это был респектабельный район, в котором жили торговцы, учителя и канцелярские работники, примерно в миле к юго-востоку от Сэнди Роу рядом с Ормю Роуд[77]. В 1894 г. они переехали на Дункайр Авеню, к северу от центра города, а через год вернулись на Университетскую улицу, еще более благородный район рядом с Квинс Колледжем, где жили купцы, священнослужители и управляющие среднего звена. Дом под номером 19 был занят «Школой для девочек сестер мисс Сеймур»[78]. В эти годы, как писал сам Ф. Вудс, он получал образование в расположенном неподалеку Королевском белфастском академическом институте, одной из самых престижных городских школ[79]. Учитывая скромные доходы семьи, вполне вероятно, что их второй сын получал стипендию в течение нескольких лет своей учебы в этой школе.
Королевский белфастский академический институт был основан в 1810 г. группой пресвитерианских реформаторов, которые стремились преодолеть религиозные противоречия, разделявшие страну, внедряя образование, где отсутствовало бы деление по религиозному признаку. Одним из его первых покровителей был Уильям Дреннан, видный ирландский радикал, который в начале 1780-х гг. принимал активное участие в деятельности Ольстерских добровольцев, а позже организовал кампанию против «объединения» Великобритании и Ирландии, законодательно закрепленного Актом об Унии 1801 г.
На церемонии торжественного открытия Института в феврале 1814 г. постаревший и уже не такой пылкий Дреннан объявил, что целью школы было «распространять полезное знание, особенно среди средних слоев общества, что является необходимостью, а не роскошью». Тем не менее, его видение нового учреждения не ограничивалось нуждами общества в практических знаниях, предвосхищая, что школьники всех религиозных конфессий должны общаться как можно больше и в дружелюбной манере в общем для них деле учения. Возможно, это изменит национальный характер и привычки и научит всех детей в Ирландии любить друг друга[80].
Школа процветала, хотя ей и не удалось реализовать мечты своих основателей о религиозной интеграции и национальном примирении. К тому времени, как в «Инст» (неформальное название школы) начал ходить Филипп Вудс, в ней в основном учились дети из белфастских либеральных протестантских семей, принадлежащих к прослойке квалифицированных специалистов. Уже не раз отмечалось, что среди ее выпускников был ведущий физик того времени Уильям Томсон, 1-й барон Кельвин (его отец преподавал в «Инсте» в первые годы существования школы), и Уильям Джеймс Пирри, один из владельцев гигантских верфей «Харланд и Волфф» в Белфасте. В 1896 г. его выбрали на пост лорд-мэра, а позже специально для него был учрежден титул «Виконт Пирри города Белфаст». Многие из одноклассников Вудса или других учеников, посещавших школу одновременно с ним, позднее стали видными политиками, учеными, бизнесменами, инженерами, священнослужителями, солдатами и журналистами.
Помимо учебной деятельности, в школе учеников поощряли заниматься командными видами спорта (особенно регби, в котором школа удерживала ведущие позиции) и вести активный образ жизни. Больше всего школьники любили заниматься греблей на небольших лодках в Белфастском заливе[81]. Школа также наняла главного сержанта из казарм Виктории, чтобы тот занимался с учениками военной подготовкой. В соответствии с образовательными взглядами того времени, «Инст» обращал не меньшее внимание на физические способности и на формирование «характера», чем на интеллектуальное развитие детей. Он стремился развивать в школьниках то, что рекомендовалось в начале XIX в. английской идеологией индивидуализма и уверенности в своих силах — «ту физическую энергию и силу… без которой не может обойтись настоящий мужчина»[82]. Фотография двенадцатилетнего Филиппа Вудса показывает смышленого, живого, физически сильного мальчика среднего роста, аккуратно одетого в костюм из грубого материала — шорты, жилетку и галстук. В его поведении проступает зрелое спокойствие, взгляд прямой, несколько любопытный, добродушный, но не дерзкий — все это соответствует присущему тому времени идеалу юношеской мужественности и правильного характера.
Филипп Вудс в возрасте 12 лет, 1892 г.
Если в «Инсте» Вудс усвоил базовые викторианские ценности: лояльность короне, стране и империи, а также непоколебимую уверенность в своих силах и стремление к приключениям, то идея, связанная с основанием школы, дала ему открытое, гибкое осознание своей национальной и религиозной идентичности, которое позже отличало его от многих соратников-протестантов. По линии отца Филипп Вудс был потомком протестантских поселенцев, которые колонизировали и усмиряли Ольстерскую плантацию, а по линии матери — потомком английских сборщиков налога и шерифов уэльских болот, и всю жизнь оставался преданным ирландским юнионистом и британским патриотом. Однако он никогда не опускался до шовинистических взглядов или религиозной нетерпимости и в своей политической деятельности энергично защищал интересы как католических, так и протестантских отставных военнослужащих. Возможно, его уважение к различным традициям отчасти объясняется примером того покровительства уэльской культуре, которое оказывали Пулстоны.
Поскольку по происхождению Вудс был связан с сельским дворянством Уэльса и Ирландии и конторскими служащими Белфаста, то в зрелом возрасте он всегда испытывал глубокую симпатию по отношению к униженным и оскорбленным, что позже выразилось в приверженности идеям социальной справедливости и в подчеркнутой враждебности по отношению к правящей элите. Наверно, паренек из Сэнди Роу так и не почувствовал себя принятым в аристократическое сословие, откуда родом были многие из его одноклассников, и именно его уязвленная социальная гордость воспитала в нем агрессивную независимость и негодование на обремененный предрассудками «избранный круг», который доминировал и в офицерской столовой, и в общественной жизни.
Индивидуализм Филиппа Вудса был, скорее всего, также связан с его чувствительностью и склонностью к искусству. Эти качества проявились в его школьные годы, и неудивительно, что в возрасте шестнадцати лет он решил поступить в Белфастскую школу искусств. Впрочем, хотя его решение изучать текстильный дизайн и связать с ним свою карьеру отвечало его собственным талантам и склонностям, оно, несомненно, носило и более прагматичный характер, так как именно в этом бизнесе работал его отец.
В городском справочнике Белфаста 1898 года (опубликованном в октябре 1897 г.) Хью Вудс уже не упоминается. Скорее всего, это означает, что отец мальчиков умер годом ранее. Мы точно знаем, что старший брат Хью, Джереми, умер в 1900 г., оставив Черч Фарм своему старшему сыну Джеймсу (который еще за двадцать лет до этого отдельно упоминался в списке «Знать и дворянство» Хиллборо, что свидетельствует о высоком социальном положении сельской ветви этой семьи). Возможно, Роберт и Филипп Вудс что-то унаследовали от состояния своего дяди, к тому же определенное покровительство им мог оказать и сэр Джон Генри Пулстон, своенравный и очень богатый родственник их матери, который умер в 1908 г. В любом случае, на рубеже веков старший брат Филиппа, Роберт, отделился от семьи и стал дизайнером и производителем льна. За следующие десять лет он превратился в успешного бизнесмена, женился на признанной в обществе красавице и поселился в Бангоре в огромном доме, известном как Принстон Лодж[83]. В 1908 г. Роберт отдал своего сына Сесила Филиппа Вудса учиться в «Инст»[84].
У нас не имеется точной информации о бизнесе Роберта, но он, должно быть, расширялся очень быстро, так как через несколько лет он поставлял ткани в корабельную компанию «Уайт Стар», которая строила и снаряжала свои океанские лайнеры на верфях «Харланд и Волфф» в Белфасте[85]. Среди судов, на которые поставлялась продукция Вудса, был злополучный суперлайнер «Титаник» (построенный в 1909-1911 гг. племянником Уильяма Пирри Томасом Эндрюсом и еще одним выпускником «Инста», который мог хорошо знать Роберта или Филиппа по школе). Поэтому неудивительно, что семейные ожидания и ощущение личного призвания подтолкнули Филиппа Вудса к изучению прикладного искусства. Уже через год он начал работать текстильным дизайнером в фирме одного белфастского льняного производителя.
Однако для энергичного и крепкого семнадцатилетнего паренька, жаждавшего приключений, льняной бизнес, должно быть, казался скучным занятием. Через четыре года британские имперские неудачи дали Филиппу Вудсу шанс осуществить свои мечты[86].
Филипп Вудс в Южной Африке
ГЛАВА 3. ЗАЩИЩАЯ ИМПЕРИЮ. ЮЖНАЯ АФРИКА С БАДЕН-ПАУЭЛЛОМ, 1901-1903 гг.
В октябре 1899 г. британские колонии в Южной Африке были атакованы силами соседних бурских республик. Поначалу война складывалась для британской армии неудачно — к концу года большая часть войск отступила в осажденные города Ледисмит, Мафекинг и Кимберли или застряла в южноафриканских степях в результате стремительных ударов, наносившихся мобильными коммандос буров. Особенно не хватало британцам кавалерии, без которой им было тяжело противостоять мобильным голландским поселенцам. Армия призвала добровольцев из британских йоменских полков — милиции, служащей на непостоянной основе и организованной в английские и ирландские региональные полки под командованием местного дворянства. Из этих рекрутов предполагалось сформировать новые кавалерийские стрелковые отряды — Имперский иоменский кавалерийский полк, который должен был сражаться вместе с регулярной армией.
Согласно свидетельству самого Вудса, как только в Южной Африке начался конфликт, он попытался записаться добровольцем на службу и Имперский йоменский кавалерийский полк, но получил отказ по нозрасту[87]. Не разочаровавшись, он вновь подал заявление, на этот раз в Южноафриканскую полицию, которую возглавлял генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл, и оно было принято. Неизвестно, послал ли он заявление напрямую Баден-Пауэллу в Трансвааль или был рекрутирован одним из офицеров, которые прочесывали империю в поисках людей, согласных на службу в колонии. В любом случае, Вудс оставил свою работу текстильного дизайнера в начале 1901 г., а в июле того же года сошел на берег Южной Африки. Очень скоро он понял, что попал не на полицейскую работу, а в самую гущу боев.
Необходимо вкратце объяснить ситуацию, в которой формировалась Южноафриканская полиция. К концу лета 1900 г. британцы захватили столицы буров — Блумфонтейн и Преторию — и оккупировали Йоханнесбург, и имперским политикам и руководителям стало казаться, что война близится к концу. Поэтому они решили создать военизированную конную полицию, чтобы подавлять волнения и поддерживать порядок в сельской местности. В августе 1900 г. Баден-Пауэлл («герой Мафекинга») получил приказ создать и принять командование над новым подразделением из 10 тыс. человек, которое было формально основано 22 октября того же года. Однако британский Секретарь колоний Джозеф Чемберлен уступил настойчивым просьбам армии, чтобы полиция взяла на себя часть военных обязанностей, пока продолжается война[88]. Сэр Альфред Милнер, Верховный комиссар в Южной Африке, категорически возражавший против тотального разрушения ферм буров британской армией, неохотно согласился на это, но подчеркнул, что полиция должна использоваться иначе, чем подразделения регулярной армии, осуществляя «политику защиты, а не наказания» с целью «медленно и постепенно покорять и удерживать один район за другим»[89].
Как оказалось, до окончания войны было еще далеко: буры еще два года использовали против британской армии тактику партизанских действий. Поэтому в начале 1901 г., за несколько месяцев до прибытия Вудса, лорд Китченер, главнокомандующий британскими войсками в южноафриканских колониях, взял под свое командование подразделения Южноафриканской полиции. В соответствии с условиями Милнера по поводу участия полиции в боевых действиях, Китченер согласился использовать ее лишь для того, чтобы обеспечивать безопасность в определенных районах — например, для строительства и охраны блокгаузов, которые затрудняли мобильное перемещение вражеских отрядов, — а не для широкомасштабных наступательных операций и карательных экспедиций[90]. Лишь после того, как 31 мая 1902 г. был подписан мир, Южноафриканская полиция вернулась под гражданскую юрисдикцию, хотя еще в течение нескольких лет она проводила военные операции против тех, кого Милнер называл «самыми беспокойными душами»[91].
Баден-Пауэлл в Южной Африке, фото, сделанное Ф. Дж. Вудсом
Вудс провел в Южноафриканской полиции одиннадцать месяцев во время войны и еще год по ее окончании. После прибытия он должен был пройти интенсивную подготовку, которая заключалась в верховой езде, стрельбе из ружья, строевой подготовке и полевой тактике, а также строительстве блокгаузов и окопов, защищенных колючей проволокой, в городе Моддерфонтейне, расположенном между Йоханнесбургом и Преторией[92]. Баден-Пауэлл формировал Южноафриканскую полицию по принципу «децентрализованной ответственности» и стремился привить своим подчиненным дисциплину, «исходящую изнутри, а не навязанную снаружи». Его целью было воспитать «умных молодых людей, которые могли бы использовать свою сообразительность и не были бы вымуштрованы в бездушные машины, способные действовать только по прямому приказу». Этот подход, несомненно, идеально подходил независимому характеру самого Вудса. Фотография Вудса, сделанная в это время, также передает такое качество, как задумчивость: молодой человек одиноко стоит на степной равнине, выпрямившись и в то же время спокойно, его руки лежат на дуле «длинной» винтовки Ли-Энфилда (ее производство было налажено в 1900 г. специально для Имперского йоменского кавалерийского полка и других добровольческих подразделений, однако вскоре в ней обнаружились большие конструктивные недостатки), через левое плечо перекинут патронташ, его обожженное солнцем изящное лицо задумчиво склонилось вниз — герой Байрона, которого застали в минуту меланхолических раздумий.
Помимо романтического позирования, южноафриканский конфликт потребовал от Вудса и тяжелой работы. Здесь он познакомился с партизанской войной, а также узнал, как справляться с враждебным или подозрительным населением конструктивно и в духе примирения — опыт, который позже поможет ему на севере России и в Прибалтике. Его товарищи были столь же разнородными, сколь и бурские коммандос, противостоящие им: четыре дивизии Южноафриканской полиции представляли собой, по словам Баден-Пауэлла, разношерстную коллекцию «скотоводов из Австралии, фермеров из Новой Зеландии, полицейских и ковбоев с северо-западных территорий Канады, плантаторов из Индии и Цейлона, констеблей Королевской Ирландской полиции из Ирландии и йоменов из Англии». В этих силах служили почти две тысячи учеников из общественных школ, столько же коренных зулусов и 600 дружественно настроенных буров. После окончания войны Южноафриканская полиция выполняла разнообразные задачи помимо своих основных полицейских функций, включая переселение беженцев, организацию переписи и регистрацию избирателей, доставку почты и сбор таможенных пошлин, борьбу с захватами земли, скотокрадством, производством самогона и торговлей оружием, уничтожение саранчи и обеспечение порядка во время золотой лихорадки. Им также пришлось пойти на жесткие меры, чтобы отобрать у местных племен оружие, которым во время войны снабдили их сами британцы для борьбы с бурами.
Баден-Пауэлл был очень горд своими людьми, восхваляя их стойкость в письме, адресованном высшему военному командованию:
Наши лошади в хорошем состоянии, организован и отлично работает госпиталь, все в порядке с транспортным сообщением. Одежда наших людей совершенно обтрепалась, потому что они выполняют очень трудную работу во время ночных рейдов и засад. У них не было отдыха в течение одиннадцати месяцев, но они полны энергии и стремления работать в полевых условиях.
Джозеф Чемберлен доложил в Палате общин в 1902 г., что, признавая военный героизм Южноафриканской полиции, он в первую очередь хотел бы отдать должное «огромному значению ее цивилизующего и объединяющего влияния». На других людей она производила гораздо меньшее впечатление: «Откуда, черт побери, вы достали весь этот низкий и грубый сброд с почти криминальной внешностью? — спрашивала Эмили Хобхаус, которая пыталась организовать помощь женщинам и детям, страдавшим от бедствий войны, — Бедная Южная Африка! Неужели она больше никогда не увидит хороших англичан?»[93] Репрезентация и реалии империализма вновь находились в разительном контрасте.
Опыт, который Филипп Вудс получил в Южной Африке в этих разношерстных нерегулярных частях, подготовил его к специфике военных операций в Карелии, куда он получил назначение через пятнадцать лет. Здесь он научился тому, что позднее помогло ему рекрутировать и командовать «самыми замечательными бандитами» в боях против врага, который использовал тактику внезапных ударов и отступлений, заручиться поддержкой местного населения, а также в свободное от всего этого время воздвигнуть в темных северных лесах маяк английской цивилизации и культуры.
Вудс уехал из Южной Африки в июне 1903 г., через четыре месяца после того, как Баден-Пауэлл ушел с поста командующего Южноафриканской полицией. После своего возвращения в Англию Баден-Пауэлл основал движение бойскаутов, позаимствовав для них у южноафриканских полицейских девиз и несколько видоизмененную форму. Здесь стоит процитировать отрывок из написанного в 1910 г. романа Джона Бакана «Пресвитер Иоанн» (о приключениях в Южной Африке), в котором выражается одновременно романтика, мифология и мистика империи, а также предпосылки и взгляды на расы, мораль, обязанности, дисциплину и дегенерацию, которые сформировали британские имперские стремления на рубеже XIX и XX в. (Бакан, который был на пять лет старше Вудса, также провел период с 1901 по 1903 г. в Южной Африке в официальной должности личного политического секретаря лорда Милнера.)
Этот отрывок также дает представление о ценностях, которые, несомненно, вдохновили юного Филиппа Вудса на поиски приключений в Южной Африке. Их отголоски можно различить — конечно, без махрового расизма романа и в преломлении разочарований и сомнений его взрослого опыта — и в стиле, и в предмете его карельских мемуаров. Герой Бакана, проявив фантастическую храбрость (и одновременно чрезвычайно обогатившись), берет на себя тяжелую и бескорыстную работу по расселению армий покоренных туземцев и организации транспорта, продовольственного снабжения и безопасности — работа, схожая с той, что выполняла Южноафриканская полиция. В этой деятельности и сопряженных с ней трудах он находит личное удовлетворение и лучшее понимание имперской миссии Британии:
И все же это был тот опыт, за который я всегда буду испытывать благодарность, ведь именно он превратил меня из безрассудного мальчишки в серьезного мужчину. Тогда я узнал, что же все-таки означает долг белого человека. Он должен идти на любой риск, пренебрегая угрозами своей жизни и состоянию, и быть довольным той наградой, которую дает чувство выполненной задачи. Именно в этом заключается разница между белым и черным человеком: в даре ответственности, в способности быть в некоторой степени королём, и пока он помнит об этом, мы будем править не только в Африке, но и во всех других местах, населенных темными людьми, которые живут лишь сегодняшним днем и думают только о своем животе. Более того, эта работа сделала меня более милосердным и добрым. Я многое понял, наблюдая за безмолвным страданием местных жителей, и немного разобрался в их странном, извращенном ходе мыслей. К тому времени, как мы вернули армию Лапуты обратно в их краали[94], снабдив их достаточным количеством еды, чтобы весной они смогли засеять свои поля, мы с Аткином стали смотреть на мир гораздо более здраво, чем в городах, где люди сидят в своих конторах и видят мир сквозь бумажный туман[95].
ГЛАВА 4. МЫ НЕ СДАЕМСЯ! ЛЕН, НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ВВОЗ ОРУЖИЯ И ОЛЬСТЕРСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ СИЛЫ, 1904-1914 гг.
Какое-то время после возвращения Филиппа Вудса казалось, что он решил остепениться и заняться собственным благосостоянием — «ветреный мальчик» превратился в «серьезного мужа». Он вернулся к карьере белфастского текстильного дизайнера — скорее всего, в фирме своего старшего брата — и работал в студии в доме номер 4 по Говарде Стрит в самом центре Белфаста, а жил в доме номер 225 («Вязы») по Белмонт Роуд, в зеленом пригороде в восточной части города рядом с замком и поместьем Стормонт. Как уже упоминалось, бизнес процветал, поскольку рынком сбыта была не только Ирландия, но и Шотландия и континентальная Европа[96]. Очевидно, с целью придать больший вес своему художественному авторитету, Вудс на время взял новое, более звучное второе имя — в справочнике Белфаста 1907 г. он упоминается как «Филипп Вильерс Вудс, дизайнер»[97].
7 августа того же года он сделал еще один шаг на пути к аристократизму, женившись на Флоренс Эдит Блэкер Квин. Церемония проходила в методистской церкви в Бундоране, популярном морском курорте на атлантическом побережье графства Донегал, известном как
«Ирландский Брайтон» благодаря своим аристократическим клиентам начала XIX в.[98] Флоренс была старшей дочерью Стюарта Блэкера Квина, владельца и директора белфастской фирмы лицензированных бухгалтеров, услугами которой в основном пользовались местные льняные производители. Какое-то время Блэкер Квин был председателем Льняной торговой ассоциации, что являлось одной из самых видных позиций в белфастских деловых кругах. Он также активно занимался благотворительностью и был почетным контролером Белфастского детского госпиталя. О нем отзывались как о «доброжелательном, щедром, симпатичном человеке, наделенном магнетизмом, который привлекал к нему всех окружающих»[99]. Оба его сына, Герберт и Стюарт, во время свадьбы сестры учились в «Инсте»[100].
Стюарт Блэкер Квин был также одним из основателей Ольстерского юнионистского совета. Эта организация была основана всего лишь за два года до свадьбы его дочери, чтобы поддержать лоялистские организации в Ирландии и координировать оппозицию ирландским националистам, которые пытались заставить британское правительство изменить или аннулировать Акт об Унии 1801 г.[101] Уже более двадцати лет ольстерские бизнесмены возглавляли сопротивление идеям Гомруля[102] в Ирландии[103]. В основе их позиции лежали как чувства, так и более приземленное стремление к выгоде.
Ольстерские предприниматели и квалифицированные специалисты, разумеется, понимали, что независимость Ирландии будет означать конец имперским субсидиям, получаемым из Лондона. В августе 1886 г. Уильям Пирри, выпускник «Инста» и председатель судостроителей верфей «Харланд и Волфф», объявил на собрании белфастских бизнесменов, что, если когда-нибудь Гомруль будет законодательно закреплен, он перенесет все операции своей фирмы в Глазго. Позже один журналист вспоминал о единодушии, с которым гости Пирри соглашались, что «при ирландском парламенте и правительстве их жизнь и собственность уже не будут в безопасности, что против лоялистов на севере Ирландии будет вестись грязная игра и что будет утрачена уверенность бизнеса в завтрашнем дне, без чего Белфаст перестанет быть процветающим городом»[104]. Эти тревоги разделялись представителями среднего и мелкого бизнеса, в том числе владельцами многочисленных компаний в льняном бизнесе и торговле, а также большинством протестантских ремесленников и квалифицированных рабочих.
Если рассматривать ситуацию еще шире, североирландские протестанты не доверяли своим католическим соседям, подозревая, что те затаили обиду и жажду мести и ждут лишь удобной возможности, которую предоставит им независимость, чтобы подняться против потомков переселенцев, убить и обобрать их. Как уже упоминалось, этот антагонизм время от времени выливался в религиозные столкновения, которые часто ассоциировались с лоялистским праздником «Двенадцатого» — годовщиной битвы на реке Войн[105]. Иногда юнионисты пользовались этими народными силами, а иногда предпочитали сдерживать их, считая, что таким образом лучше добьются своих целей.
В начале XX в. на счету политического альянса консерваторов и юнионистов было уже две победы, одержанных над либеральным премьер-министром У. И. Глад стоуном, который в 1886 и 1893 гг. пытался законодательно закрепить Гомруль в Ирландии[106]. Однако в самом начале нового столетия страхи юнионистов окрепли, так как политические разногласия между английскими правящими классами по вопросам тарифов и имперских преференций могли помочь ирландским националистам получить большинство во власти на следующих выборах и, в конечном итоге, добиться введения Гомруля. Учитывая это, в марте 1905 г. был основан Ольстерский юнионистский союз, который объединил все группы юнионистов Ольстера: его членов в парламенте, его политические ассоциации и Оранжевую Ложу.
Оранжевая Ложа была местным отделением Оранжевого Ордена, основанного в качестве протестантской организации для «самозащиты» в 90-х гг. XVIII в. Среди предшественников этой организации были Ольстерские добровольцы, в деятельности которых в юношеские годы принимал участие Уильям Дреннан[107] — до того, как посвятил себя республиканскому делу и религиозному примирению. Однако сам Оранжевый Орден не отличался веротерпимостью. Большую часть XIX в. он был запрещен за подстрекательства к насилию, а к началу XX в. превратился в мощную региональную сеть, которая, по словам современного писателя, была «отчасти социальной, отчасти политической и на сто процентов нетерпимой»[108]. (У католиков была аналогичная организация, Ирландский орден. Его возглавлял Гроссмейстер Джозеф Де-влин, член парламента от западного Белфаста — избирательного округа, по которому Вудс будет баллотироваться в 1929 г.).
Тем временем всеобщие выборы 1906 г. вернули либералов к власти с таким парламентским большинством, что они уже могли не принимать во внимание мнение ирландских делегатов. На какое-то время новое правительство заняло выжидающую позицию в ответ на требования националистов вернуться к обсуждению проблемы Гомруля.
Нам неизвестны политические взгляды Филиппа Вудса в это время, хотя мы знаем, что он остался верен идеям, заложенным в основание его школы, и не стал членом Оранжевой Ложи. Однако в 1912 г., когда Гомруль в Ирландии снова был поставлен на повестку дня и юнионистская политика начала радикализироваться, Вудс (как кратко и расплывчато указал он в статье о себе в справочнике «Кто есть кто») «заинтересовался деятельностью Добровольческих сил Ольстера и принял немаловажное участие в последовавшем ввозе оружия и т. д.»
Вряд ли нужно удивляться участию Вудса в этих событиях, учитывая активную позицию его тестя-лоялиста и любовь самого Вудса к приключениям и военным операциям. Даже если бы он в тот момент узнал, что этот выбор приведет его в кровавые окопы северной Франции, в не менее яростную гражданскую войну в революционной постимперской Восточной Европе, а потом в жаркую популистскую политику новой парламентской системы, он бы все равно принял то же самое решение. Свой третий десяток Вудс прожил в теплой дымке «бабьего лета» Британии правления короля Эдуарда, продвигаясь по карьерной лестнице и отдыхая в тихой гавани семейной жизни. Теперь, когда начали сгущаться грозовые тучи, он предвкушал новую волнующую встречу с внешним миром, устав наблюдать за ним «сквозь бумажный туман». Должно было пройти не одно десятилетие, чтобы гром истории отступил из его жизни.
* * *
В понедельник 27 апреля 1914 г. в утреннем выпуске «Таймс» появилась заметка следующего содержания:
Добровольческие силы Ольстера провели выдающуюся операцию по незаконному ввозу большой партии оружия в период между 9 часами вечера в пятницу и 6 часами утра в воскресенье. Партия оружия, доставленная в Ларн, Бангор, Донагади и в другие места на побережье Антрима и графства Даун, согласно оценкам, составила от 35 000 до 40 000 винтовок и около миллиона патронов. В истории Великобритании еще не было операции подобного масштаба, а ее смелость и дерзость, как и четко проработанный общий план, удивили даже тех жителей Белфаста, которые прекрасно представляли себе эффективность Добровольческих сил Ольстера как мобильной организации.
Это была «Операция Лев», осуществленная с целью снабдить недавно сформированные Добровольческие силы Ольстера оружием на тот случай, если кризис, развивавшийся в связи с Третьим биллем о Гомруле, перерастет в гражданский конфликт. В тот момент подобное развитие событий казалось вполне вероятным.
В целом, британское общественное мнение разделяло восхищение корреспондента «Таймс» по поводу этой операции. Большинство британцев испытывало симпатии к политическим позициям юнионистов. В августе 1911 г. Ирландская националистская партия поддержала либерального премьер-министра Герберта Эсквита, которому удалось заставить парламент принять акт, значительно урезавший право Палаты Лордов на вето в законодательных вопросах. Взамен Эсквит в апреле 1912 г. принял Третий билль о Гомруле, в котором содержались все предпосылки к предоставлению Ирландии самоуправления. Не только консервативная партия, с которой партия юнионистов находилась в официальном альянсе, но и многие видные политические деятели (включая сэра Альфреда Милнера) считали это опасным и предательским поступком и открыто выражали свою поддержку ирландским лоялистам[109].
По словам одного историка, этим наблюдателям казалось, что «единственным преступлением Ольстера была верность короне. Исключить Ольстер из Британской империи против его воли означало удар в сердце самой идее империи»[110]. Писатель и поэт Редьярд Киплинг, пылкий защитник как ирландского унионизма, так и британского империализма (частично финансировавший ввоз оружия в Ларн), выразил в своих стихах то острое ощущение предательства, которое испытывали лоялисты, и их мятежный пыл:
Еще нет и полуночи, Как проданы мы тьме, Отродьям зла, с которыми Сражались сотни лет. Гнев, зависть, жадность, ненависть, Все смертные грехи, Нас в рабство им отдали Указом Англии. ... На это скажет Север: У нас одна страна. Если предаст нас Англия, С нами падет она[111].В 1910 г. сэр Эдвард Карсон, видный политик и адвокат, встал во главе Юнионистской парламентской партии[112]. Несмотря на свое южноуэльское происхождение, Карсон скоро завоевал доверие ольстерских юнионистов, возглавляемых капитаном Джеймсом Крейгом, богатым жителем Белфаста, который служил в Королевском ирландском стрелковом полку и Имперском иоменском кавалерийском полку в Южной Африке и после возвращения, как и Вудс, не мог вести спокойное существование и был втянут в политическую деятельность своими родственниками. В 1906 г. Крейг был избран в британский парламент от восточного округа графства Даун[113].
В сентябре 1911 г., чтобы продемонстрировать непреклонную оппозицию Ольстера относительно введения Гомруля в Ирландии, Крейг организовал демонстрацию, в которой приняло участие пятьдесят тысяч человек и которая прошла от центра Белфаста до его дома, расположенного на одной из городских окраин. Там к толпе с воодушевляющей речью обратился Карсон, обещая бороться против Гомруля, даже если для этого потребуется создать в Ольстере собственное правительство и защищать его силой. В течение 1912 г. юнионисты начали формировать местную добровольческую милицию, а 28 сентября почти полмиллиона лоялистов подписали Ольстерский Ковенант на церемонии, охватившей весь Ольстер. В ней они просили защитить их право на британское подданство и «целостность Империи». Вудс также поставил на обращении свою подпись. Это произошло в Оранжевом Зале в Баллилумфорде неподалеку от Ларна в Восточном Антриме, примерно в восемнадцати милях к северу от Белфаста[114].
В январе 1913 г. Ольстерский юнионистский совет решил объединить лоялистскую милицию в Добровольческие силы Ольстера численностью в 100 тыс. человек. Они были организованы по графствам и делились на дивизии, полки, батальоны, роты и взводы. Белфастская дивизия состояла из четырех полков, по одному на каждый парламентский избирательный округ в городе. В Добровольческие силы вступил, скорее всего, и Филипп Вудс, так как среди его личных бумаг сохранился членский значок, на котором изображен символ Ольстера — красная ладонь — и написан девиз «Ради Бога и Ольстера», однако точно неизвестно, к какому подразделению он был приписан и какую должность занимал.
С каждым парламентским чтением, которое проходил Билль о Гомруле, продвигаемый Либеральной партией, в Ольстере нарастало напряжение. В Добровольческих силах Ольстера были созданы отряды специального назначения, которые предполагалось использовать в Белфасте в качестве ударных отрядов. Западным белфастским взводом специального назначения численностью 300 человек, которые были набраны из особенно пылких юнионистов с Шанкилл Роуд, командовал капитан Франк Перси Крозье. Коренастый, упрямый и чрезвычайно прямой человек, Крозье позднее был командиром Филиппа Вудса во Франции и в Литве, и (согласно его мемуарам) именно благодаря ему Вудса пригласили принять участие в британской миссии на севере России, которая и является основной темой данной работы.
Крозье был на год старше Филиппа Вудса. По происхождению он не был ольстерцем — он родился и вырос неподалеку от Дублина в издавна жившей там англо-ирландской семье землевладельцев и военных и получил образование в английской частной школе. Он попытался поступить на службу в регулярную армию в возрасте восемнадцати лет, но, к своему огорчению, был забракован по причине невысокого роста и физической слабости. Как и Вудс, он по своей собственной инициативе пустился в приключения в Южной Африке. В 1900 г. Крозье приехал в Дурбан в провинции Наталь, где вступил в кавалерийский полк. В конце войны он перевелся в Западноафриканские пограничные силы.
В своих мемуарах, опубликованных в 1930 г. (и написанных языком, очень сильно напоминающим язык Бакана в «Пресвитере Иоанне»), он вспоминал, что в течение своей колониальной карьеры «получил огромный опыт имперской службы и полностью убедился в величии Англии. Я видел, как зулусы, басуто, цветные[115], готтентоты и свази покоряются белому человеку и подчиняются британскому флагу, и я убедился, что все это достигалось справедливым с ними обращением»[116]. Однако, хоть и вполне чувствуя «ответственность и обязанности имперского человека по распространению гуманности», Крозье, как и Вудс и другие люди, которых мы встретим на страницах этой книги, уже терял веру в то, что он с иронией называл «цивилизованным продуктом» «бремени белого человека»[117].
Крозье вернулся из тропиков в Британию в 1908 г. с подорванным здоровьем и пристрастием к алкоголю. Скандал, разразившийся из-за невыплаты им долгов, заставил его подать в отставку с армейской службы и уехать в Канаду, чтобы начать новую активную жизнь фермера, охотника и исследователя северных территорий[118]. В 1912 г. Крозье вернулся в Британию энергичным и непьющим человеком и получил приглашение от Карсона и Крейга вступить в Ольстерские добровольческие силы[119]. Под руководством Крозье «Шанкилльские парни» из Западного белфастского взвода специального назначения заслужили репутацию элитного подразделения Добровольческих сил Ольстера. В апреле 1914 г. им была поручена охрана Карсона, когда возникли слухи о его готовящемся аресте.
Тем временем Добровольческие силы Ольстера выросли в мощную организацию, которая состояла из Военного совета под командованием генерал-лейтенанта сэра Джорджа Ричардсона и комитетов, отвечавших за личный состав, финансы, разведку, железные дороги, припасы и медицинскую помощь. Чтобы обеспечить эту гражданскую армию оружием, Военный совет сформировал специальное подразделение, возглавляемое майором Фредериком Кроуфордом, яркой личностью, в которой соединились солдат, бизнесмен, искатель приключений и радикальный юнионист. После того, как в течение лета несколько партий оружия были перехвачены полицией и таможней, Кроуфорд начал формировать сеть заговорщиков из числа ольстерских бизнесменов, у которых имелись связи в Англии и континентальной Европе и доступ к складам и транспорту.
Скорее всего, Вудс оказался вовлечен в операцию на этой стадии. «В этой игре, — как писал один историк, — нашлось место для приключений, которых жаждали многие ольстерцы, задыхавшиеся в скучной рутине офисной работы»[120]. В начале 1914 г. руководители Добровольческих сил Ольстера опасались, что британское правительство может нанести превентивный удар и разоружить добровольцев, и согласились на ввоз в Ольстер огромной партии контрабандного оружия, закупленного в Германии. Вудс, который, как уже упоминалось, подписал Ольстерский ковенант в Баллилумфорде, маленьком городке на берегу залива Ларна недалеко от местного порта, несомненно, сыграл свою роль в этой контрабандной операции. Неизвестно, участвовал ли он в разгрузке товара, или координировал прибытие и отправку пятисот машин, мобилизованных для перевозки груза вглубь острова, или перерезал провода связи между Ларном и Белфастом (в процитированном выше отрезке он ограничился тем, что указал на свое «немаловажное участие в последовавшем ввозе оружия»). В любом случае, благодаря его южноафриканскому опыту партизанских действий, полицейской работы и логистики, на него, скорее всего, были возложены важные функции.
Успешно вооружившись, Добровольческие силы Ольстера теперь могли с уверенностью ожидать возможного столкновения со сторонниками Гомруля. Тем временем 14 июля соответствующий билль прошел третье чтение в парламенте. Католики также мобилизовали свою собственную военизированную организацию, Ирландских Добровольцев (охватывавшую северные и южные графства), и гражданский конфликт казался неизбежным. Британские армейские офицеры в Ирландии заявили, что они не поднимут оружие против своих лоялистских товарищей. Только объявление Британией войны Германии 4 августа 1914 г. остановило приготовления Добровольческих сил Ольстера к военному перевороту.
К 18 сентября, когда биллю о Гомруле была придана сила закона (с условием, откладывающим окончательное решение о точной форме его выполнения до конца европейской войны), Добровольческие силы Ольстера уже почти прекратили свое существование в качестве единой силы. Большинство их офицеров были призваны в свои части, а большая часть рядовых торопилась записаться в ряды «Новой армии» Китченера. У них появилась возможность продемонстрировать свою верность Королю и Стране не путем восстания, а службой за патриотическое дело. Как торжественно объявил некий бард в местной газете:
Там, где самое пекло сражений, Там, где будет труднее всего, ОЛЬСТЕР БУДЕТ СРАЖАТЬСЯ ЗА АНГЛИЮ, И ОНА НЕ ЗАБУДЕТ ЕГО[121].ГЛАВА 5. ШАНКИЛЛЬСКИЕ ПАРНИ. ФРАНЦИЯ, 1915-1918 гг.
Среди новобранцев из числа Добровольческих сил Ольстера, записавшихся в армию Китченера, был и Филипп Вудс. Вместе со всем Западным белфастским добровольческим взводом, «шанкилльскими парнями» Крозье, он попал в 9-й вспомогательный батальон Королевского ирландского стрелкового полка, который, как мы уже видели, стал подразделением 107-й (Белфастской) бригады и 36-й (Ольстерской) дивизии, когда последняя была сформирована в конце октября. Три других белфастских отряда Добровольческих сил Ольстера превратились в 8-й (Западный белфастский), 10-й (Южный белфастский) и 15-й (Северный белфастский) вспомогательные батальоны.
Вудс сразу же получил звание лейтенанта, в первую очередь благодаря своему боевому опыту в Южной Африке[122]. Это также косвенно свидетельствует о том, что он уже занимал офицерскую должность в Добровольческих силах Ольстера, хотя документальных доказательств этого у нас нет[123]. Крозье проигнорировал приказ перевестись в Королевский ирландский фузилерный полк, чтобы остаться со своими парнями из западного Белфаста, и был повышен до звания майора (по чьему-то недосмотру при этом не была принята во внимание запись в его досье о пьянстве, долгах и бесчестных поступках)[124].
Личный состав 36-й дивизии, добровольцы Западного белфастского батальона и среди них Вудс, с нетерпением и чувством неудовлетворенности провели год в подготовительных лагерях в Ирландии, прежде чем в июле 1915 г. их перевели в Сифорд, на южное побережье Англии. Все это время Крозье и подполковник Дж. С. Ормерод, командующий батальоном, уделяли основное внимание (по словам Крозье) «выбиванию из всех званий пива и политики, вместо которых полагалось воспитать боевой дух», и в то же время старались «побудить, внушить, научить и вселить жажду крови и стремление к уничтожению врага»[125]. Подход Крозье к подготовке и руководству людьми нравился не всем его подчиненным, и некоторые из них воспринимали его как «черствого и властолюбивого любителя палочной дисциплины»[126].
В эти месяцы Крозье и Ормерод также постарались решить то, что первый из них деликатно назвал «офицерской проблемой». Во-первых, все офицеры набирались из одних и тех же районов, они «слишком много знали о личных делах друг друга и волей-неволей переносили свои мелкие конфликты из гражданской жизни в офицерскую столовую». Во-вторых, эти «представители среднего класса» говорили на одном диалекте, их «личная жизнь» была слишком публичной, и не все из них могли должным образом командовать рядовыми, призванными из тех же районов[127]. Как следствие, Ормерод подал заявку на перевод в свои части офицеров из других регионов, и вскоре под его командование прибыло девять новых офицеров. За это время Вудс, должно быть, произвел хорошее впечатление на своих командиров, так как он дважды получал повышение — сначала до чина капитана в ноябре 1914 г., а потом и до майора в сентябре 1915 г. В начале октября дивизия высадилась во Франции.
Подготовка, которой Крозье занимался со своими подчиненными, оказалась эффективной только отчасти. Не полностью удалось ему решить и «офицерскую проблему». 36-я дивизия часто появлялась в списке дисциплинарных взысканий, и ее 9-й батальон Королевского Ирландского полка в этом отношении не был исключением (хоть был и не самым худшим из вспомогательных батальонов). В ноябре 1915 г. генерал Нагент устроил разнос персонально Крозье за его «недисциплинированную толпу»[128]. Главной причиной развязного и недисциплинированного поведения было пьянство, на чем попадались как рядовые, так и офицеры. В течение первого года во Франции 31 солдат из Западного белфастского батальона предстал перед трибуналом за различные преступления, и один был приговорен к смертной казни за мнимое дезертирство (это был восемнадцатилетний Джеймс Крозье, о котором Ф. П. Крозье, давая свидетельские показания, сказал, что тот «увиливал от службы» и как солдат «не представлял никакой ценности»). Несколько офицеров были отправлены в отставку или подвергнуты дисциплинарному взысканию[129]. Чтобы привести 107-ю бригаду в форму, Нагент перевел ее на три месяца в окопы и переподчинил другой дивизии, которая недавно прибыла во Францию[130]. В январе 1916 г. Крозье получил повышение до подполковника и принял командование над своим батальоном[131]. Вудс теперь был его заместителем. В начале марта 1916 г. 36-я дивизия (107-я бригада уже воссоединилась с ней) была развернута в лесу Типваль в преддверии «большого наступления» в середине лета. В течение июня Вудс использовал свои навыки в черчении, чтобы нарисовать большую настенную карту из ткани для лекций Крозье о надвигающейся битве[132]. Если раньше у Нагента и были сомнения по поводу готовности ольстерцев к сражениям, их отвага и трагическое самопожертвование 1-3 июля, описанные в первой главе, доказали его неправоту.
После первых дней бойни на Сомме 36-я дивизия была отведена на север для отдыха и перегруппировки. В течение нескольких месяцев позиции, которые они занимали в районе г. Мессин, оставались относительно спокойными. В середине октября Крозье командировал Вудса в Британию на курсы старших офицеров в Олдершоте, что явно свидетельствовало о его намерении подготовить Вудса для очередного повышения в должности[133]. Пока Вудс отсутствовал во Франции, у него появилось время, чтобы обдумать другие дела. 27 октября 1916 г. в газете «Таймс» был опубликован «Настойчивый призыв к кабинету министров, подписанный тысячей представителей интеллектуальных кругов британской нации», в котором высказывались требования ограничить потребление алкоголя на время войны и принять меры по прекращению роста смертности новорожденных[134]. В нем высказывалась уверенность, что «угроза жизни детей в нашем государстве» объясняется широким распространением венерических заболеваний, которые, в свою очередь, вызвались неконтролируемым пьянством. Под этой петицией подписались многие ведущие военные, промышленники, писатели, политики и другие общественные деятели того времени.
Почти в самом конце списка военных подписей стоит имя «Майор Ф. Дж. Вудс, фронт». В культуре Ольстера было укоренено и пьянство, и воинствующая трезвость — только в 9-м батальоне Королевского Ирландского полка и Крозье, и покойный Гаффикин были излечившимися алкоголиками, которые отказывались от своей порции рома перед боем, но у самого Вудса не было ни особой склонности к выпивке, ни сильного предубеждения против нее (в его карельских мемуарах часто встречаются эпизоды, связанные с алкоголем — как правило, в юмористическом контексте, и, как мы увидим позднее, его политическая карьера частично спонсировалась владельцами питейных заведений и пивоваренных заводов). Скорее всего, Вудс решил поставить свою подпись под обращением после того, как лично увидел, насколько широко распространено на фронте пьянство и сколько проблем с дисциплиной оно вызывает в его собственной дивизии. Свою роль, возможно, сыграли и семейные связи, так как фирма его тестя «Стюарт, Блэкер, Квинн и Компания, Белфаст» также числится в разделе «Финансы и промышленность» в списке тех, кто подписал обращение.
В конце ноября 1916 г. Крозье был награжден за храбрость, проявленную во время битвы на Сомме, хоть она и была связана с нарушением приказа; он получил звание бригадного генерала и командование над 119-й пехотной бригадой (которая не являлась ирландским соединением). В этот момент Нагент спросил у него, кого он мог бы посоветовать в качестве командира 9-го батальона Королевского Ирландского полка, и здесь обнаружилось, что «офицерская проблема» так и не была решена. Согласно мемуарам Крозье, опубликованным в 1930 г., он сразу же порекомендовал майора Горация Хэслетта, который, по его описанию, был «очень здравомыслящим Белфастским бизнесменом, сыном бывшего лорд-мэра Белфаста». В битве на Сомме Хэслетт потерял глаз, но быстро шел на поправку. В отсутствие Вудса и Хэслетта 9-м батальоном командовал третий майор, Уильям Монтгомери, оценщик и аукционист из Белфаста (а также зять и близкий друг Хэслетта). Позднее Крозье следующим образом объяснял свое решение:
Я указал, что мой заместитель, Вудс, сейчас находится в школе для старших офицеров в Олдершоте. Я послал его туда, чтобы тот подготовился к командованию батальоном. Он обладал хорошим военным мышлением, но были и проблемы, о которых я знал. Он бы никогда не смог командовать батальоном в Белфастской бригаде, да и, пожалуй, во всей Ольстерской дивизии, так как у тех, кто там служил, были свои особенности, предубеждения, предпочтения или мелочная зависть. Я всегда считал, что он должен командовать батальоном в другой дивизии, где по отношению к нему не испытывали бы мелочной зависти и где у него не было бы соблазна использовать в ответ свою власть. В тот момент я приступал к командованию бригадой и хотел заполнить первую вакансию именно Вудсом[135].
Крозье не дает ни одного намека на характер или причину антагонизма между Вудсом и другими офицерами. Так как Крозье выражал искреннюю уверенность в военных талантах Вудса, эти «трудности», скорее всего, объяснялись личными мотивами, а то, что Крозье не сомневался в способности Вудса командовать батальоном вне 36-й дивизии, показывает, что эта «мелочная зависть», скорее всего, относилась именно к его ольстерскому прошлому.
Филипп Вудс, 8 августа 1917 г.
Возможно, коллеги Вудса не приняли его с социальной точки зрения. Большинство из них были бывшими офицерами регулярной армии или выходцами из деловых или профессиональных кругов и принадлежали к верхней прослойке среднего класса Белфаста. Многие также были видными гражданскими чиновниками, и почти все являлись членами Оранжевого ордена. Они происходили из семей, которые были тесно связаны друг с другом и давно укоренились в городе. Многие из них учились в Королевском академическом институте и знали о происхождении Вудса (Хэслетт пошел в школу в 1894 г. и, скорее всего, учился вместе или параллельно с Вудсом). Такие люди должны были воспринимать Вудса как выскочку, чуждого их кругу, из непонятных слоев общества и с подозрительно демократичными взглядами. Он даже не состоял в Оранжевом ордене! С другой стороны, рядовые могли испытывать неприязнь к тому, что они считали замашками на аристократичность со стороны паренька из Сэнди Роу — в этот период войны большинство офицеров все еще были «джентльменами» по социальному происхождению.
Судя по той враждебности, которая возникнет между Вудсом и социальными кликами и элитой Ольстера во время его дальнейшей политической карьеры, сам Вудс, скорее всего, не предпринимал никаких шагов, чтобы ослабить неприязнь к себе других офицеров, а возможно, даже сам усугублял и провоцировал ее, что подразумевается отсылкой Крозье к «использованию в ответ своей власти».
В мемуарах Крозье, написанных в 1930 г., можно также найти намек на одну деталь, которая, возможно, имеет отношение к нашей истории — а, возможно, и не имеет. Во время одной из избирательных кампаний Вудса в 1920-х гг. его политический оппонент намекнул, что Вудс «во время первой битвы на Сомме спрятался в окопе, хотя должен был находиться совсем в другом месте». Крозье «был вынужден вмешаться посредством телеграммы и письма, чтобы доброе имя <его> бывшего батальона … не оказалось испачканным в грязи». В конце концов, именно он рекомендовал Вудса к награждению орденом «За безупречную службу» и поэтому «лучше кого бы то ни было мог оценить то, что произошло в те три трудных дня». Узнав об этом обвинении, Крозье постарался защитить Вудса, пусть в первую очередь и для того, чтобы защитить честь батальона, а не оклеветанного человека:
Разумеется, только плохие солдаты и дураки пренебрегают укрытием, когда именно это отвечает интересам государства, однако меня больше всего поражают инсинуации, что второй по старшинству офицер проявил трусость перед лицом врага и после этого получил орден «За безупречную службу». Это верх политического жульничества, которое очерняет весь батальон.
Обвинение в адрес Вудса довольно трудно оценить. Оно, скорее всего, отсылает нас к ночи на 3 июля, когда Вудс занял немецкую траншею на склоне Швабского редута и высылал партии солдат на защиту захваченных у врага укрепленных линий (распоряжение, за которое он был упомянут в донесениях и получил благодарность). В официальном военном журнале батальона также не содержится никакой информации о том, что Вудс устроил на эту ночь свой временный командный пункт в немецкой траншее исходя из осторожности, а не исключительно из тактических соображений. В течение 1920-х гг. несколько оставшихся в живых офицеров 9-го батальона выступали против политических амбиций Вудса, но нет свидетельств, чтобы кто-нибудь из них пытался опорочить его военное прошлое. Сообщение, которое Крозье отправил во время сражения Вудсу 2 июля (оно опубликовано во втором томе его мемуаров — интересно, не было ли это личной просьбой Вудса после того, как он прочитал первый), является еще одним доказательством отсутствия чего-либо предосудительного в действиях Вудса. Исходя из всего этого, можно утверждать, что либо это было всего лишь голословное обвинение, сфабрикованное беспринципным оппонентом, чтобы добиться легкого успеха на выборах (ведь Вудс выступал как «боевой полковник», друг бывших военнослужащих), либо, если эти слухи уже циркулировали среди боевых товарищей Вудса во время войны, эта сплетня была вызвана злобой по отношению к нему, а не стала причиной этой неприязни.
Несмотря на предупреждение Крозье, Нагент временно повысил Вудса до звания подполковника и назначил его командиром 9-го батальона Королевского Ирландского полка (это свидетельствует о том, что ему удалось добиться расположения высшего начальства — чего не произошло с равными по званию офицерами)[136]. Пока Вудс оставался в Англии, временное командование было передано его сопернику, Горацию Хэслетту. 6 января уже Хэслетт отбыл на курсы для старших офицеров в Олдершоте, а через два дня во Францию вернулся Вудс и принял командование батальоном. Записи в батальонном военном дневнике, сделанные Вудсом, показывают, что следующие два месяца прошли в подготовке и отдыхе. Развлечения заключались в гонках по пересеченной местности и просмотре фильмов на передвижных киноустановках. В конце марта Вудс прошел еще одни трехнедельные курсы (в его отсутствие батальоном командовал Монтгомери). Он вернулся как раз вовремя, чтобы 7 июня повести свой батальон в битву на Мессинской гряде, к юго-востоку от Ипра, в бельгийской провинции Фландрия.
Ранним утром союзники подорвали почти 450 тыс. кг взрывчатых веществ, закопанных в виде 19 огромных мин под германской передовой. Взрыв был слышен на юго-востоке Англии. На месте погибло около 10 тыс. немецких солдат, а также несколько солдат из 36-й дивизии, что было вызвано задержкой в подрыве Спанброекмоленской мины. Несмотря на эту неудачу, ольстерцы — включая 9-й батальон под командованием Вудса — продолжили наступление и захватили штаб немецкого батальона, после чего соединились с 16-й (Ирландской) дивизией. В пылу войны их религиозные и политические разногласия были забыты[137].
После этого успеха Вудс снова ненадолго уехал и вернулся к концу июля. В течение всех этих семи месяцев его подчиненные регулярно писали Крозье жалобы, в которых просили избавить их от нового батальонного командира. Как писал Крозье в мемуарах, «в конце концов интриги, ревность, постоянные упреки наподобие “а ведь если бы…” вместо радости победы — все это, в итоге, привело к дезорганизации действий батальона и к незаконному отстранению полковника Вудса от командования»[138]. Он снова не уточняет, в чем конкретно заключалась «дезорганизация» действий или кто позволил личным амбициям взять верх над военным долгом, хотя его отзыв об отстранении Вудса как о «незаконном» позволяет предположить, что сам Крозье не считал Вудса виноватым в проблемах, созданных его руководством. В военном дневнике батальона просто указано, что 2 августа Вудс «сдал командование» и был сменен подполковником X. С. Элвесом из Шотландского гвардейского полка. Хэслетт остался заместителем командира батальона.
30 августа 8-й и 9-й батальон Королевского ирландского полка были объединены, и в октябре этот сводный батальон принял участие в Третьей битве под Ипром, где (по словам Крозье) «его полностью уничтожили еще до того, как он выбрался из окопов». Хэслетт снова был ранен, и на этот раз его комиссовали из армии до конца войны[139]. Остатки 8/9-го батальона еще участвовали в битве при Камбре до середины декабря, когда их сняли с линии фронта. В феврале 1918 г. батальон был расформирован.
Сдав командование 9-м батальоном, Вудс вернулся в Белфаст. Он был, несомненна, подавлен ходом событий. Его холодная и мрачная злость заметна на фотографии, сделанной через несколько дней после возвращения. Примерно в это же время Вудс отправил в справочник «Кто есть кто» статью о себе, из которой нам известно, что у них с Флоренс родилась дочь и что его увлечения включали в себя футбол, теннис, парусный спорт и верховую езду. В январе 1918 г. Вудс вступил в командование 19-м (резервным) батальоном Королевского ирландского полка, базировавшимся в Ирландии. В апреле батальон был переведен в Англию и объединен с другой частью. Именно поэтому в июне Вудс и оказался в Лондоне. Он был знающим офицером с опытом командования, но без подчиненных ему войск. Именно в этот момент его вызвали в пустой дом на площади Ватерлоо, на противоположной стороне от улицы Пэлл Мэлл в центре Лондона. Там, в маленькой задней комнате, ему вместе с тремя другими старшими офицерами был задан вопрос: «Согласны ли вы поступить добровольцем на секретную службу, где вас могут послать в любую часть мира?»
В этом месте и начинаются карельские мемуары Вудса (см. с. 21 наст. изд.). Однако сам он не объясняет, почему он получил приглашение или как получилось, что в это время он оказался свободным и смог принять приглашение на секретную службу. Чтобы понять это, нужно снова обратиться к мемуарам Крозье:
…В конце концов, я встретил генерала Нагента <которому Крозье отправил письмо> и после того, как ушел Вудс, обсудил с ним этот вопрос. Мне было искренне жаль полковника Вудса, хотя я и знал: случилось то, что должно было случиться, — поэтому при первой же возможности я похлопотал за него в Военном министерстве, в результате чего он отправился на север России со своей секретной миссией.
В конечном итоге, на этот раз Военное министерство согласилось с Крозье, что Вудс был талантливым, но «неудобным» человеком, чьи таланты лучше всего могли проявиться на расстоянии. Можем ли мы доверять свидетельствам Крозье по поводу этих событий? Как кажется, на эту проблему стоит взглянуть и с другой стороны — были ли у него в 1930-х гг. причины что-то утаивать? В его мемуарах едва ли можно найти места, написанные с целью возвеличить или оправдать себя (основные причины, ради которых авторы мемуаров берутся за перо), поэтому нет особой причины — при отсутствии других фактов — не доверять им[140]. Другой вопрос — в чем коренились проблемы, из-за которых Вудс потерял командование над батальоном: в конфликтах школьных лет, в личном соперничестве или в политических разногласиях? Скорее всего, этого мы никогда не узнаем.
ГЛАВА 6. КОРОЛЬ КАРЕЛИИ (1). ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ, 1918 г.
Примерно к концу первого тысячелетия нашей эры карелы, народ финно-угорской группы, мигрировали из центральной евразийской равнины на северо-запад и заселили пространство между Белым морем и Финским заливом, которое представляло собой субарктические территории, покрытые озерами, болотами и хвойными лесами. В течение следующих веков два враждебных друг другу государства, Швеция (позже Финляндия) с запада и Новгород (позже Московская Русь, Российская империя и, наконец, Советская Россия) с востока раз за разом сталкивались в конфликтах, оспаривая друг у друга эти пограничные земли.
Карельская земля была впервые разделена в XIV в., и местные жители, оказавшиеся по разные стороны неопределенной и постоянно меняющейся границы, постепенно стали отличаться друг от друга диалектами, культурой и религией. С тех пор история Карелии с обеих сторон границы характеризовалась и формировалась длительными периодами, в течение которых обе ее части отдалялись друг от друга в своем развитии, этот процесс постоянно перемежался организованными для возврата Карелии кампаниями как с востока, так и с запада; при этом обе стороны старались навязать друг другу свои политические, административные, культурные и религиозные условия и игнорировали интересы самих карелов[141].
Уже со Средневековья население восточной (русской) Карелии было — по крайней мере, формально, — православным, хотя определенные языческие обряды сохранились вплоть до начала XX в. Жители южной части этой территории, примерно между Ладожским и Онежским озерами, — она стала называться Олонецкой Карелией — жили в соседстве с русским населением. Это оказало сильное влияние на развитие их языка и культуры. В начале XVIII в. Петр Великий начал строить на берегах Финского залива новую столицу, Санкт-Петербург, и это быстро изменило облик юго-восточной Карелии: благодаря бескрайним лесам и торфяным болотам, запасам руды и других полезных ископаемых у нее сформировались тесные связи с новой имперской столицей, куда она поставляла корабельный лес, дрова и строительные материалы, а также оружие и другую продукцию, производимую на Петровском заводе на западном берегу Онежского озера.
Петровский пушечный завод вырос в город Петрозаводск. К 1788 г. в Петрозаводске (ставшем к тому времени административной столицей Олонецкой губернии) и Петрозаводском уезде проживало 50 тыс. жителей (из них 83% были государственными крестьянами)[142]. В течение XIX в. до 20 тыс. крестьян Олонецкой губернии, примерно 10% всего ее населения, каждый год уходили работать на заводы в Санкт-Петербург или Ригу[143]. Русские составляли почти 60% населения Олонецкой губернии, в то время как доля карелов составляла от 15 до 20% (в 1897 г. это составляло примерно 60 тыс. человек). Проживали они в северо-западной части Повенецкого уезда, северо-восточной части Петрозаводского уезда и в Олонецком уезде[144].
Северная часть русской Карелии — более суровая и скалистая местность между финляндской границей и Белым морем, — никогда не подвергалась столь сильному экономическому, политическому и культурному влиянию со стороны царской России. Разговорный язык населения этого региона, Беломорской Карелии, оставался «чище», чем у их южных соотечественников (ни тот, ни другой не имели письменности). Единственным бастионом русской власти в этом регионе был хорошо укрепленный монастырь на Соловецких островах, примерно в тридцати милях к востоку от Кеми в юго-восточной части Белого моря. С XV в. монахи разрабатывали на беломорском побережье лесные, соляные и рыбные ресурсы, нанимая местных крепостных карельских крестьян или русских поселенцев, и накопили огромные богатства[145].
В XVI в. в Белое море проникли английские исследователи. За ними последовали купцы, основавшие здесь торговые пункты. Из нового порта Архангельск на юго-восточном берегу Белого моря английские послы совершили путешествие на юг, в Москву, к царю Ивану Грозному и вернулись от него с предложением Елизавете I о браке, которое она отвергла[146]. В то время как между Архангельском и Москвой был проложен и процветал оживленный торговый маршрут (эта дорога до сих пор остается важной магистралью, вдоль которой стоят монастыри и церкви и которая ведет прямо в сердце столицы), отдаленность Беломорской Карелии привлекала тех, кто хотел скрыться от государственной власти.
В XVII в. Соловецкий монастырь стал центром сопротивления реформам царей из династии Романовых, направленным на централизацию и модернизацию (в нем также располагалась тюрьма для ссыльной знати; в XIX в. он стал центром паломничества и туризма, что необычайно обогатило его; эти многочисленные сокровища увидел Вудс во время своей поездки в монастырь). В то же время в непроходимые леса и священные рощи центральной и северной Карелии бежали религиозные противники церковной реформы, так называемые староверы (Вудс называет их последователями «старой религии»). Здесь они основали поселения, существующие по сей день[147].
Город Кемь, расположенный в нескольких милях от побережья, стал промежуточным центром, через который Соловецкий монастырь организовывал всю свою деятельность в Карелии (река Кемь впадает в море в районе Попова Острова, одного из главных транспортных портов для Соловецких островов). В начале XVIII в. быстро растущее население города построило великолепный деревянный собор. В конце XVIII и XIX в. Кемский уезд стал местом ссылки для тех политических преступников, чьи проступки не требовали более долгих сроков и суровых мер наказания. Из-за этого регион стал известен как «подстоличная Сибирь». В начале XX в. в Кеми, процветавшей благодаря близости Соловецкого монастыря, был построен новый Благовещенский собор, в котором Вудс (замаскировавшись и опасаясь покушения на свою жизнь) побывал на рождественской службе в 1918 г. (см. с. 94-95).
Ко времени первой переписи Российской империи в 1897 г. население Кемского уезда, принадлежавшего в то время Архангельской губернии, едва превышало 35 тыс. человек. В 1907 г. здесь насчитывалось уже более 42 тыс. жителей. Почти половину от этого количества составляли русские, селившиеся исключительно на побережье, вторую половину — карелы, жившие дальше от берега моря[148]. Основными промыслами беломорских карелов были охота и рыболовство, хотя к концу XIX в. карельские коробейники занимались активной приграничной торговлей с Финляндией, поставляя туда меха и ремесленные изделия. Благодаря этому некоторые из них разбогатели, а их дети смогли получить образование (в Финляндии). Однако большинство карелов этого региона в начале XX в. жили в ужасной бедности в кишащих паразитами деревянных избах (от паразитов можно было избавиться только ежегодным вымораживанием), отрезанные большую часть года от внешнего мира непроходимыми лесами, снегами, болотами и речными быстринами. Учителей и докторов в их деревнях можно было пересчитать по пальцам, в результате чего был распространен врожденный сифилис и другие инфекционные заболевания, о чем столь ярко и пугающе пишет Вудс в своих мемуарах (см. с. 156).
В середине XIX в. финские исследователи начали изучение Беломорской Карелии, приезжая в такие села, как Ухта (переименовано в Калевалу в 1963 г.), Ругозеро и Панозеро, фиксируя язык, обычаи и фольклор местных жителей[149]. Благодаря тому, что здесь практически отсутствовало и шведское, и русское влияние, северная Карелия и ее население стали источником и сутью «финской идеи». Первый профессор финского языка в университете Хельсинки Маттиас Александр Карстен (по происхождению швед) в 1839 г. предпринял путешествие в Беломорскую Карелию, чтобы лично встретиться с тем, что он считал «целым новым миром», напоминающим «потерянную» к этому времени мифологию финского народа.
Примерно в это же время Элиас Лённрот использовал фольклор, записанный им у деревенских рунопевцев этого региона, в качестве основы для финской эпической поэмы «Калевала» (первое издание было опубликовано в 1835 г.)[150]. Ученые-националисты, как Карстен или Лённрот, создавшие и систематизировавшие нормативный письменный финский язык, собравший в себя несколько близко связанных финно-угорских разговорных диалектов, подчеркивали «чистоту» языка, на котором говорили в Беломорской Карелии. Язык беломорских карелов относительно легко воспринимается современными носителями финского языка, в то время как олонецкие карельские диалекты с их лексикой, подвергшейся сильному влиянию русского языка, непонятны финнам в той же степени, в какой непонятны они и русским.
В конце XIX в. новый средний класс Финляндии обратился к образу Карелии как к источнику, в котором сохранилось древнее национальное знание. Эта земля и ее народ стали ключевой темой национальной культуры, что видно на примере музыки Яна Сибелиуса (его сюита «Карелия» и симфонические поэмы, основывающиеся на легендах из «Калевалы») и графического искусства Аксели Галлен-Каллела[151]. «Отторжение» восточной Карелии Россией воспринималось как несправедливость, что стало основанием для объединения националистических сил. Еще более радикальные патриоты провозгласили идею суверенной «Великой Финляндии», которая не только включила бы в свои границы русскую Карелию, но и протянулась бы до Уральских гор[152].
В результате финского «открытия» Карелии энтузиасты, представляющие эти политические тенденции, в первом десятилетии XX в. организовали вдоль восточной границы (часто на деньги финских лесоторговцев) культурную и религиозную пропаганду и лютеранскую миссионерскую деятельность[153]. 21 октября 1905 г., сразу после того, как царь Николай II, вынужденный пойти на уступки в результате революции 1905 г., даровал подданным империи ограниченные конституционные права, 300 беломорских карелов, большинство из которых были богатыми торговцами и представителями интеллигенции, жившими в Финляндии, собрались в большом селе Ухта, чтобы обсудить более тесную интеграцию своего региона с Финляндией. За этим последовал двухнедельный съезд в январе 1906 г., и в августе был основан «Союз Беломорских карелов», который возглавил карельский купец Пааво Ахава. Целью союза было способствовать культурному, экономическому и духовному развитию родного края под благородным покровительством западного соседа[154].
В это же время Русская православная церковь предприняла активные ответные действия против данной финско-карельской деятельности, организовав церковные школы, миссии и читальные комнаты, где использовался русский язык[155]. Для проведения антифинской пропаганды в Карелии были основаны две радикально правые черносотенные организации. В одном из памфлетов утверждалось, что финны стремились «отделить нашу карельскую периферию от православной церкви» посредством «офинения» карелов (особенно путем их крещения в «лютеранскую ересь») и поддержки «еврействующих» политических партий, стремившихся к автономии приграничных народностей[156]. В другой брошюре черной сотни, опубликованной накануне войны, заявлялось, что без вмешательства «граница недружелюбной нам финской культуры отодвинется дальше на восток, угрожая своим тайным влиянием уже русифицированным соседним карелам Олонецкой губернии»[157].
Циничный наблюдатель, особенно воспринимающий окружающий мир с марксисткой точки зрения, мог предположить, что истинным мотивом, стоящим за взаимными претензиями на территорию Карелии, были ее неисчерпаемые лесные ресурсы, а не бессмертные души или культурная идентичность ее жителей. Хотя экономический потенциал региона и не использовался в полную меру самой Россией, он не остался незамеченным для западноевропейских держав. Огромная доля британского капитала в лесной промышленности северной России позволила Владимиру Ленину в 1914 г. остроумно заметить, что Архангельск являлся «внешним рынком для Англии, не будучи внутренним рынком для России»[158].
В тот момент, когда экспедиционные силы, возглавляемые Великобританией, высадились в январе 1918 г. в Мурманске, что частично было вызвано стремлением обезопасить свои национальные экономические интересы, связи Карелии и всего Русского Севера с центром были ослаблены, поскольку сама Россия в это время была охвачена революционным хаосом и начинающейся гражданской войной. Казалось, что эта территория, ее ресурсы и народ только и ждали нового хозяина. В течение следующего года группа карелов, центром деятельности которой была Кемь, впервые в своей истории постаралась утвердить идентичность и судьбу, не связанную ни с Россией, ни с Финляндией.
Согласно большинству свидетельств, их стремление в значительной мере было обусловлено излишне рьяной поддержкой со стороны «предприимчивого» ирландского офицера, назначенного для того, чтобы вербовать и обучать их для армии союзников. Далее мы рассмотрим условия и ход британской интервенции на севере России перед тем, как обратиться к противоречивой роли Вудса в развитии этих драматических и, в конечном итоге, трагических событий.
* * *
Историки до сих пор не могут придти к согласию в вопросе, какова была основная цель интервенции союзников в России после захвата власти большевиками в октябре 1917 г.[159] Советские историки, а также некоторые историки с левыми взглядами изображают вторжение, осуществлявшееся с трех сторон — из Сибири на востоке, Украины на юге и Мурманска и Архангельска на севере, — как грубую попытку западных империалистических держав свергнуть новое революционное русское правительство, восстановить царский режим и подчинить российскую территорию и ее природные богатства своему полуколониальному господству.
Другие ученые считают, что интервенция представляла собой развитие обоснованной и успешной стратегии государств Антанты, которые стремились сохранить Восточный фронт в войне с Германией после того, как в марте 1918 г. Ленин заключил с кайзером Брест-Литовский мир. Эта точка зрения предполагает, что капитуляция Германии в ноябре 1918 г. на несколько месяцев оставила экспедиционные силы «в подвешенном состоянии», без каких-либо указаний или целей. В это время отдельные руководители из числа ярых врагов большевизма, в частности Уинстон Черчилль (назначенный 10 января 1919 г. военным министром Британии) и некоторые высшие британские офицеры в России, использовали свои силы в гораздо большем объеме, чем планировалось изначально, для помощи белому движению (политическим и социальным группам, выступившим против революции) в надежде отобрать власть у красных до того, как британское и другие союзные правительства прикажут вывести войска. Согласно этой позиции, у союзников никогда не было намерений вести войну против большевиков.
В действительности цели союзников с самого начала были неопределенными, неясными и изменялись в ходе постоянных споров, как внутренних, так и между различными правительствами, принимающими участие в интервенции, в особенности Британии, Соединенных Штатов, Франции и Японии. Более того, когда эти страны с большей или меньшей готовностью и энтузиазмом высадили свои военные силы в России в середине 1918 г., они обнаружили, что их втягивают в запутанный и многосторонний конфликт, и в этой ситуации отдельные руководители могли осуществлять полунезависимую политику, определявшуюся их предубеждениями, симпатиями или личными предпочтениями. Как писал в 1928 г. об интервенции на севере России генерал сэр Чарльз Мейнард, командующий силами союзников в Мурманске и командир Вудса, «те, кто отвечал за ее проведение… обнаружили себя в таком сложном и запутанном клубке политических интриг, что многие из его нитей до сих пор <остаются> нераспутанными»[160]. Только теперь, с первой публикацией карельских мемуаров Вудса, помещенных в контекст уже опубликованных материалов и новых архивных источников, мы можем сформировать полную картину сложных, перекрестных и часто противоречивых политических маневров, которые определяли ход интервенции.
Уже 23 декабря 1917 г. Верховный военный совет Антанты согласился оказать поддержку антибольшевистским силам в России, которые вели подготовку к борьбе против нового революционного режима. Считалось, что Ленина контролируют немцы, которые в апреле перевезли его в Россию в запечатанном поезде, чтобы спровоцировать восстание внутри страны под лозунгами «Хлеба, земли и мира». Больше всего союзников беспокоило то, что Ленин обещал русским людям мир. 15 декабря большевики согласились на перемирие и начали мирные переговоры с немцами. Кайзер немедленно воспользовался этой возможностью, чтобы перевести часть войск на Западный фронт. К тому же казалось, что для заключения мира Ленин был готов отдать немцам ряд пограничных территорий вдоль западной границы России, которые были богаты земельными ресурсами и углем. Эти ресурсы и население этих территорий могли вдохнуть новую жизнь в немецкую военную машину и свести на нет морскую блокаду, осуществлявшуюся союзниками. Казалось, что сбываются их худшие страхи.
Правительства стран Антанты также были крайне обеспокоены раздаваемыми Лениным обещаниями «хлеба и земли» для народа, что подразумевало экспроприацию и социализацию частной собственности. Капиталистические нации боялись, что вирус революции, если позволить ему вызвать воспаление и размножиться, тут же перекинется и на их народы. Поэтому с самого начала среди союзников раздавались влиятельные голоса, призывающие к интервенции в Россию, чтобы сдержать и выжечь революционный фермент в тех немногих городах внутри страны, где он успел пустить корни.
Одним из тех, кто наиболее горячо призывал к действиям против большевиков, был генерал Альфред Нокс из Ольстера (он родился и 1870 г. в графстве Даун), вступивший в Королевский ирландский стрелковый полк в 1891 г. и служивший в качестве военного атташе и Санкт-Петербурге с 1911 по октябрь 1917 г.[161] В начале 1918 г., после возвращения в Лондон, он подал меморандум, в котором требовал немедленно начать интервенцию с трех фронтов, чтобы вызвать внутренний коллапс нового режима до того, как тот сможет «окончательно ограбить богатые классы в России» или спровоцирует «всеобщую коммунистическую революцию во всем мире»[162].
Зимой 1918 г. в течение определенного времени казалось, что стремление Ленина экспортировать революцию добилось первого успеха, когда пробольшевистские финны взяли власть в своей стране, всего за несколько недель до этого — благодаря национальной политике Ленина — добившейся признания независимости от России[163]. После непродолжительной, но жестокой гражданской войны красные финны были разбиты контрреволюционными силами белых. К марту белые окончательно захватили власть и восстановили парламентскую систему. Ряд лидеров красных финнов бежали в Стокгольм, некоторые — в Петроград (и оттуда в Москву), а несколько тысяч закаленных бойцов пересекли границу в поисках убежища в северной Карелии. В последней группе был Ииво Ахава, радикально настроенный двадцатидвухлетний сын эмигрировавшего карельского купца Пааво Ахава (основателя Союза беломорских карелов)[164]. В это время Германия, к которой обратились за помощью белофинны, высадила в Хельсинки 50-тысячный корпус под командованием генерала фон дер Гольца, который и начале апреля начал наступление на север и на восток своими силами и таким же количеством белофиннов, очищая страну от революционных партизан[165].
Однако немецкое присутствие в Финляндии вызвало новые тревоги в британских военных кругах, где верили, что наступление фон дер Гольца может свидетельствовать о его намерениях осуществить вторжение в северную Россию. Там немцы могли захватить железную дорогу между Петроградом и побережьем Северного Ледовитого океана, построенную в 1916 г. для транспортировки военных грузов союзников. Они также могли создать базу подводных лодок в Мурманске (недавно основанном портовом городе, в котором заканчивалась железная дорога), в Печенге на побережье Северного Ледовитого океана, и Кеми или Кандалакше на Белом море, откуда можно было атаковать жизненно важные для союзников атлантические транспортные конвои[166]. Германское вторжение также создавало угрозу для огромных запасов сырья и военного снаряжения, которые союзники завезли на север России для снабжения русской армии и которые все еще хранились в Архангельске. Британцы не хотели, чтобы эти запасы, а также лесные ресурсы севера России, в которых они были напрямую заинтересованы, попали в руки немцев или большевиков[167].
В начале марта британцы высадили в Мурманске небольшой контингент, состоящий из 130 морских пехотинцев. В конце мая он был усилен еще 370 солдатами под командованием генерал-майора Ф. К. Пуля, профессионального артиллерийского офицера с тридцатилетним опытом службы в колониях, во Франции и на севере России. В действительности сначала само большевистское правительство, опасавшееся грабительских намерений Германии до окончания мирных переговоров, пригласило союзников для защиты Мурманска. Хотя после заключения мирного договора с Германией в середине марта Ленин и комиссар по военным делам Лев Троцкий аннулировали эту просьбу, мурманский совет независимо от них с неохотой согласился на высадку союзных войск, за что Ленин сначала сделал ему выговор, а потом объявил его действия государственной изменой. Как следствие, мурманским руководителям нечего было терять, а упрочив свои отношения с союзниками, они могли что-то приобрести. После того, как в качестве посредников выступили генерал-майор Николай Иванович Звегинцев, бывший офицер Царскосельского гвардейского гусарского полка, которого большевики назначили на должность командующего войсками в этом районе, и капитан-лейтенант Георгий Михайлович Веселаго, местный военно-морской офицер, они обещали оказать поддержку русскими войсками в любом предприятии союзников[168].
Пуль, талантливый военный, не обладал политической тонкостью и тактом и обращался со своими русскими союзниками с добродушной снисходительностью британского имперского офицера, разговаривающего с дружелюбными туземцами. Как вспоминал в своих мемуарах Мейнард, Пуль называл Звегинцева и Веселаго «Свиггенсом» и «Весселсом» соответственно, а также:
…относился к ним, как хозяин относится к паре своих слуг, постоянно давая им понять, что они должны помнить о своей ответственности и делать все для процветания его дома, и при этом не сомневаясь ни секунды в том, что все их действия должны в точности следовать его заранее обдуманным планам[169].
Как заметил Уллман, это наблюдение «характеризует Мейнарда в той же степени, что и Пуля»[170]. Русские, как мы увидим далее, не могли смириться с таким отношением, что никоим образом не способствовало развитию англо-русской дружбы или сотрудничества.
Когда 3 июля союзники договорились послать в Мурманск более значительные силы, они надеялись не только на полное сотрудничество с местными русскими руководителями, но и на возможность мобилизовать местное население против наступающих немецких и белофинских сил (и, если потребуется, против большевиков). Их присутствие должно было, как минимум, не дать войскам фон дер Гольца захватить Мурманскую железную дорогу и добраться до побережья Северного Ледовитого океана, а также сковать его силы и не дать им передислоцироваться обратно на Западный фронт. Как максимум, имелись определенные надежды (подогревавшиеся, в частности, оптимизмом Нокса), что северо-русские силы смогут соединиться с другими антибольшевистскими частями, особенно с Чехословацким корпусом и Центральной России и белыми и союзными армиями в Сибири, и набрать достаточно новых войск из местного населения, чтобы в дальнейшем по возможности восстановить Восточный фронт[171]. Именно с учетом этих планов значительная часть мурманских экспедиционных сил должна была перебазироваться в Архангельск, где они должны были не только охранять запасы военного снаряжения, созданные союзниками, но и очистить эту территорию к прибытию подкреплений с юга и востока, которые они бы позднее подготовили и снарядили. Сам Нокс уехал на российский Дальний Восток, чтобы устроить там подготовительный лагерь и наладить контакт с белыми силами, собиравшимися в этом регионе перед походом на запад, в центр России.
Мурманские силы получили кодовое имя «сирены», а командование ими принял генерал-майор Чарльз Мейнард, сорокавосьмилетний ветеран, служивший в Бирме, Южной Африке и Франции, который был завербован на эту службу в типично английский манере — во время обеда в его лондонском клубе. Вудс же первоначально поступил на службу в архангельские силы, получившие кодовое имя «Беглец», которыми командовал Пуль (он также сохранил общее руководство операцией союзников на севере России).
В тот момент интервенция официально объяснялась «чисто военными» соображениями. «Политическая судьба России, — гласил доклад Военного министерства за февраль 1919 г., — не является первоочередной заботой союзников, за исключением того, что в случае необоснованного мира она может продлить и усилить военную мощь Германии»[172]. Однако, поскольку союзники считали большевиков лакеями немцев, свержение Ленина, несомненно, было их первоочередной заботой, даже если судьба России после большевиков могла быть отдана в руки самих русских. Очевидно, что цели и приоритеты интервенции были крайне запутанными с самого ее начала, что не могло сулить особенных успехов. Оценивая ситуацию в ретроспективе, Мейнард назвал все это предприятие «чем-то вроде азартной игры»[173].
18 июня мурманские силы «сирен», включавшие примерно 600 британских пехотинцев низшей категории физической годности, несколько пулеметчиков и офицеров, а также примерно 560 человек, направленных в тренировочный лагерь «беглецов», отплыли из северного английского порта Ньюкасл на борту судна «Город Марсель» в направлении — о точном пункте назначения они еще не знали — северной России. Как вспоминает Вудс (см. с. 22-23), среди пассажиров было несколько русских, возвращавшихся домой для борьбы с революционерами. Одним из этих таинственных людей была Мария Бочкарева, бывший командир 1-го женского батальона российской армии, известного как «батальон смерти», который охранял Зимний дворец в Санкт-Петербурге в ту ночь, восемью месяцами ранее, когда большевики захватили власть (женщины были разоружены красногвардейцами без сопротивления). Военное министерство отправило ее в миссию «Беглец» в Архангельск[174].
Путешествие по морю продолжалось пять дней. В течение этого периода и без того истощенные солдаты были еще больше ослаблены вспышкой опасного испанского гриппа, который в то время свирепствовал в масштабах эпидемии по всему миру. Особенно пострадали от него индийские кочегары, хотя некоторые свидетели (включая Вудса, см. с. 23) объясняли их смерть добровольным отказом от приема пищи[175]. Священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого им нельзя принимать пищу в дневное время, в тот год выпал на середину лета, когда в северных широтах темнота вообще не наступает. (Аналогичная проблема уже возникала в 1916 г. во время строительства Мурманской железной дороги, на которое было прислано много подданных Российской империи из мусульманских регионов Центральной Азии)[176]. Комбинация длительного поста и гриппа вполне могла оказаться смертельной. Другим следствием эпидемии было то, что еще на борту корабля Вудс перешел добровольцем в обескровленные силы «сирен» генерала Мейнарда. Именно это решение и привело его в Карелию.
* * *
Мурманск, каким увидел его Вудс, был маленьким и серым портовым городком с деревянными избами, построенным совсем недавно для приема грузов, которые поставляли во время войны союзники[177]. Другой британский офицер писал, что он выглядел, как «временный городок, построенный кинематографической компанией для съемок фильма о Диком Западе, со всеми его ковбоями и индейцами»[178]. Устроив в городе свой штаб, генерал Мейнард начал планировать дальнейшие действия.
В дополнение к морским пехотинцам, уже находившимся в Мурманске, и тем, кого Пуль послал по железной дороге на юг в Кандалакшу и Кемь, в распоряжении Мейнарда был сербский батальон (прорвавшийся с боями на север из Одессы), бронепоезд с экипажем из французской военной миссии (которая прибыла с Румынского фронта) и красные финны. Уже в мае двое финских социалистов, бежавших из Финляндии и находившихся в то время в Москве — Оскари Токой (уважаемый профсоюзный деятель и премьер-министр недолговечного финского революционного правительства в начале года) и Отто Куусинен — согласились сотрудничать с союзниками в их борьбе против немцев и белофиннов[179]. Тогда Пуль сформировал Красный финский легион, командование которым было поручено канадскому офицеру, майору Р. Б. Бертону. Базой легиона стала Кандалакша[180]. Тем не менее, Мейнард понимал, что красные финны не будут сражаться против большевиков, которые в тот момент наступали по железной дороге от Петрограда на север. Передовой отряд красноармейцев, возглавляемый комиссаром Иваном Дмитриевичем Спиридоновым, бывшим железнодорожным рабочим, к этому времени уже добрался до Кандалакши.
Мейнард решил, что приоритетной задачей является усиление войск союзников на железной дороге, чтобы не допустить дальнейшего продвижения большевиков и защитить стратегически важный маршрут от возможного вторжения немцев[181]. Он также решил немедленно мобилизовать и вооружить местное население региона. Во- время своей первой поездки на юг Мейнард захватил в Кандалакше поезд с войсками Спиридонова и выслал их на юг, после чего арестовал большевистских руководителей в Кеми[182]. Узнав, что красногвардейские части перегруппировались в Сороке и собираются вернуться обратно, Мейнард приказал капитану Л. А. Дрейк-Брокману, британскому офицеру, командовавшему отрядом в Кеми, не допустить их прорыва на север и послал ему небольшое подкрепление[183].
3 июля в пять часов утра Вудс и двое его сослуживцев-офицеров сели в поезд с этим подкреплением и отправились на юг[184]. После трудной поездки Вудс прибыл в Кемь, где стал свидетелем того, как Дрейк-Врокман разоружил местный большевистский гарнизон, а потом сам принял участие в тщательно разработанном блефе, организованном для отражения нового нападения войск Спиридонова, что он и описал н своих мемуарах (см. с. 29-30).
Примерно в это же время, по словам Вудса, он принял «делегацию бородатых разбойников». Это были карелы, которые просили у союзников помощи против большевиков (см. с. 32-33). Карелы также обратились к генералу Мейнарду с петицией о помощи против немцев и белофиннов[185]. Вернувшись вскоре после этого в Кемь, Мейнард дал карелам положительный ответ, так как их просьба соответствовала его собственным планам по вербовке войск из местного населения, и поручил Вудсу набрать, подготовить и принять командование над новым Карельским полком (другой офицер, полковник Дж. Джоселин из Саффолкского полка, получил задание создать Славяно-Британский легион из местного русского населения)[186].
Согласно отдельному соглашению, подписанному 6 июля Мурманским советом и генералом Пулем, союзники обязывались снабжать весь регион вплоть до Кеми продовольствием, одеждой и другими товарами, а также военным снаряжением. На Вудса была возложена обязанность выполнять эти условия по отношению к карельскому населению. Однако весьма важно то, что в данном документе Пуль официально указал цель союзников — защиту Мурманска от немецкой коалиции — и то, что «единственной целью для заключения этого соглашения является сохранить Мурманский регион в его целостности <т. е. вместе с Карелией> для великой Неделимой России»[187]. Даже когда союзники вооружали карелов, они отказывали им в какой-либо возможности утвердить свою отдельную территориальную идентичность или осуществить политическое самоопределение.
9 августа Мейнард снова вернулся в Кемь, где он опросил Дрейк-Брокмана и Вудса и проинспектировал примерно 500 карельских рекрутов — с новым вооружением, заново обученных и чисто выбритых[188]. К этому времени Вудс также спроектировал полковые значки (это описано в «Карельском дневнике», см. с. 37) в форме трилистников, вырезанных из зеленого сукна разбитого бильярдного стола, найденного в здании штаба. Показательно, что Вудс, протестант из Ольстера, выбрал для своих подчиненных ирландский национальный символ. Это отчетливо показывает, что у него не было религиозных предубеждений. Это также позволяет предположить, что он с симпатией воспринял сходство между карелами и коренными ирландцами своей родины — двумя бедными крестьянскими обществами, управляемыми внешней властью, стремление которых к самоопределению не принималось во внимание.
Чувство, что история несправедливо обошлась с карелами, наложилось на уверенность Вудса в британском культурном превосходстве и веру — которую он сохранил, несмотря на свой опыт войны на Западном фронте, — в то, что «просвещенные стандарты Европы» были неприменимы «к людям, столь сильно отставшим от нас в социальном развитии» (см. с. 48). В этой схеме культурной эволюции карелы, как и ирландцы, уже выросли из глупых младенцев в гордых и настойчивых детей. «В определенном отношении, — писал Вудс в своих мемуарах (см. с. 116), — карелы напоминали ирландцев: ими можно было руководить, но не погонять».
Он был носителем имперской идеологии в ее самой противоречивой форме. С одной стороны, эта идеология подразумевала просвещение местных жителей (даже против их воли), в результате чего они могли создать и утвердить свою собственную культурную жизнь и идентичность. (Финны и русские, разумеется, точно так же верили в это понятие прогресса, за одним исключением: они полагали, что их великодушная опека превратит отсталых карелов не в современных карелов, а в финнов или русских соответственно.) В то же время империалистические взгляды Вудса, что отчетливо видно в его мемуарах, были отчасти поколеблены смутно осознаваемой экзистенциальной тревогой: в этих «благородных дикарях» его восхитили простые, естественные законы морали, чистые в своей доброте и в своей жестокости, которые отринула «цивилизация» ради своего культурного и технологического тщеславия.
Во вторую неделю августа Мейнард получил доклад военной разведки, согласно которому финские войска под руководством немецких офицеров сосредотачивались вдоль карельской границы, очевидно, с целью наступления на Кемь и Кандалакшу (эта информация была собрана на основе перехватов телеграмм, которыми обменивались между собой Москва и Берлин, осуществленных британским резидентом разведки Сиднеем Рейлли, который в то время работал в Москве)[189]. Мейнард решил перебзировать мобильные колонны Карельского полка и красных финнов ближе к границе. В это же время британские и сербские войска под командованием бригадного генерала Ф. Дж. Марша, командира британской 237-й пехотной бригады (которому к тому времени были подчинены все силы в Кемском уезде, включая карелов), должны были начать наступление против большевиков в центральной Карелии, на Сороку, чтобы обеспечить защиту железной дороги и создать ложное впечатление общей мощи союзников. В Белом море также стояла небольшая британская авиаматка «Найрана», несущая гидропланы, которая должна была обеспечить этим частям минимальное прикрытие с воздуха. Бертон повел красных финнов из Кандалакши на запад в непроходимые скалистые леса Северной Карелии; одновременно к югу от него начал продвижение вдоль реки Кемь вглубь страны и Вудс. К 15 августа — дате начала наступления — под непосредственным командованием Вудса было три колонны, в которых насчитывалось свыше тысячи человек. Тем временем Дрейк-Брокман отправился на юг, в Олонецкую Карелию, вместе с горсткой британских офицеров, французской миссией с их бронепоездом и примерно 500 британскими и русскими солдатами, чтобы набрать добровольцев в отдельный карельский батальон[190].
Подробное и красочное описание успешной кампании Карельского полка против белофиннов и их немецких командиров, которое Вудс приводит в своих мемуарах, подтверждается документами и официальными сообщениями, сохранившимися в его бумагах и в общественных архивах. К 28 августа одна из карельских колонн столкнулась с белофинскими силами в Юшкозере и отбила у них эту деревню. 30 августа Вудс отправил Маршу из Панозера телеграмму, в которой с уверенностью сообщал: «В данный момент идут тяжелые бои, к завтрашнему дню покончим с врагом». Однако его разведчики в тот момент сообщали, что две тысячи белофиннов контратакуют с юго-запада. Перспектива столкновения с такими силами заставила Вудса уклончиво сообщить о собственной позиции и перспективах своему командиру: «Завтра будем находиться в 96 часах от Кеми, ЕСЛИ не произойдет чего-либо непредвиденного»[191].
Несмотря на численное превосходство противника, карелы оттеснили белофиннов еще дальше к западу, к Ухте, где последние, согласно докладам разведки, целиком посвятили себя убийствам, грабежам и погромам[192]. Неделю спустя Вудс сообщил Маршу из Юшкозера: «Я начну наступление на Ухту завтра или во вторник. Посылаю на «Найрану» просьбу сбросить бомбу-другую на это место во вторник, если они не против — я не возражаю, если они не станут этого делать, но они знают, где находится штаб белофиннов, и это должно помочь»[193]. Карелы атаковали белофиннов в Ухте 11 сентября, и через два дня Вудс отправил сообщение: «Враг потерпел сокрушительное поражение, окончившееся полным и беспорядочным бегством»[194].
В течение недели Вудс сформировал в Ухте гарнизон, организовал систему сбора разведданных вдоль границы и отправился с отрядом из 400 солдат Карельского полка, чтобы окончательно очистить этот район от остатков вражеских войск[195]. Тем временем местные карельские мужчины изъявляли желание получить значок с трилистником, и к началу октября, несмотря на тяжелые потери от эпидемии гриппа, численность Карельского полка превысила 1560 человек[196]. 22 сентября карелы окружили на острове рядом с Вокнаволоком (на юго-западной оконечности озера, на котором расположена Ухта) спасшихся из Ухты белофиннов, к которым присоединилось еще 200 человек, прибывших в качестве пополнения[197]. Через две недели белофинны попытались прорвать блокаду. Большая часть при этом погибла. 13 октября Вудс отправил доклад: «Сейчас в той части Карелии, которая находится под моим командованием, белофиннов больше не осталось»[198]. Операция по зачистке южных территорий Беломорской Карелии от большевиков и бандитов была с блеском проведена подразделением диких и безжалостных русских нерегулярных частей под командованием капитана Круглякова[199].
Уже 19 сентября генерал Мейнард послал донесение Пулю (который в конце июля передислоцировался вместе с силами «Беглеца» в Архангельск), описав разгром противника в Ухте и заметив: «Этим успехом мы, в основном, обязаны здравому руководству подполковника Ф. Дж. Вудса из Королевского ирландского стрелкового полка, кавалера ордена “За безупречную службу”, а также храбрости и упорству карельских войск под его командованием, которые сражаются, чтобы освободить от захватчиков свои дома»[200]. Через десять лет Мейнард описывал карельскую операцию в своих мемуарах:
Если сравнить ее с самым незначительным наступлением во Фландрии или Франции, она могла бы показаться всего лишь затянувшимся военным пикником — несколько стычек за бесполезные леса, озера и болота, которые велись силами полуобученных призывников. И тем не менее им удалось добиться выдающихся результатов.
Далее он писал, что их победа «ярко показывает твердость и настойчивость как <красных> финнов, так и карелов, а также прекрасные боевые качества британских офицеров и сержантов, которые возглавляли их»[201]. Мейнард рекомендовал сделать Вудса кавалером ордена св. Михаила и св. Георгия (которым награждаются британские подданные за заслуги, оказанные за рубежом). Вскоре Вудс получил эту награду. В октябре он также был повышен до временного звания полковника[202].
Успех «Королевских ирландских карелов» Вудса (это прозвище они получили, разумеется, за свои полковые значки) стал весьма позитивным примером, который поднял боевой дух всех союзных войск на севере России, и вызвал прилив новых добровольцев. К концу года в Карельском полку числилось около четырех тысяч солдат.
С приближением зимы пришло время заниматься и другими делами. В начале октября в Кемь прибыл новый медицинский офицер, капитан Мьюир, который заменил на этом посту капитана Гаррисона. Он сформировал полковой госпиталь, обслуживавший как военных, так и гражданских пациентов[203]. Также возник вопрос о методах поддержа-иия боевого духа в течение долгих зимних месяцев. В конце месяца Марш послал Вудсу телеграмму из Кандалакшского штаба: «Поступило предложение создать любительские ансамбли. Какие музыканты имеются у вас и какие им нужны инструменты?» Ответ Вудса, отправленный в тот же день, свидетельствует о его хорошем настроении:
…из того, что мы узнали по этому вопросу, сообщаем следующую информацию: 12 балалаечников без инструментов — четыре гармониста без гармошек — один горнист без горна — два органиста без органа — есть ансамбль из девяти человек, играющий на бумаге и расческах, но этого недостаточно. У одного русского офицера есть кларнет, но я запретил ему играть в пределах одной могли от человеческих поселений согласно Закону о защите королевства. Мак-Киллиган умеет играть на волынке, но волынки у него нет. Старший морской начальник кемского порта сообщил нам, что консул играет на своей флейте[204]. Говорят, что в Кеми есть несколько старых скрипачей, но точных сведений на этот счет лично у меня не имеется…[205]
Празднуя осенние успехи Вудса, генерал Мейнард был также занят вопросом размещения своих сил на время приближавшейся зимы. По мере того, как выпадал первый снег, дороги становились все более и более непроходимыми. К концу ноября Белое море должно было покрыться льдом, после чего генерал уже не мог бы снабжать свои карельские базы из Мурманска или Архангельска. К этому времени он уже вызвал арктического исследователя Эрнеста Шеклтона, чтобы посоветоваться с ним по вопросу подготовки к зиме[206]. В своих мемуарах Мейнард пишет, что в тот период он никак не мог выбрать между достоинствами и недостатками двух вариантов: оставить свои силы в районах их развертывания или отвести на север и разрушить железную дорогу. В конечном итоге, он решил, что отступления не будет[207].
В действительности документы Вудса показывают, что он получил от Мейнарда инструкции отвести войска на север и карелы категорически отказались покинуть свои родные края, поскольку в результате их семьи оказались бы беззащитны как перед белофиннами, так и перед большевиками. Вудс, который к этому времени глубоко симпатизировал своим подчиненным, как видно из его мемуаров, понимал причины их отказа и сам не хотел покидать их. 29 августа Мейнард послал Вудсу длинное письмо (опубликованное в Приложении А данной книги), в котором объяснил ему «общее военное положение» и рекомендовал вернуться со своими силами сначала в Кемь, а потом на север в Кандалакшу. Он вновь и вновь повторял, что основным врагом союзников и причиной их присутствия на севере России являются немцы, а не белофинны или большевики (которые, разумеется, представляли серьезную угрозу для карелов), и предупреждал Вудса о риске застрять глубоко в стране на всю зиму, без необходимого снаряжения и без надежды на подкрепления или снабжение. «Вы должны понять, — писал он, — что нужно думать и о других вещах, кроме как о чувствах ваших корел <так в тексте>».
Мейнард допускал, что Вудсу, возможно, не удастся убедить карелов отступить на север. В этом случае он разрешал Вудсу остаться с ними, хотя и не рекомендовал делать это, «разве что вы готовы провести здесь весьма суровую зиму в качестве некоего “Короля Карелии”». После этого он продолжил:
Не думайте, что мне безразлична ваша позиция. Я понимаю вас, но мне приходится смотреть на вещи шире, чем вам. Если вы сможете убедить своих подчиненных идти в Кандалакшу, это будет считаться лучшим достижением всей вашей жизни. Но что бы вы ни решили предпринять, от всей души желаю вам удачи[208].
Вудс не мог не чувствовать, что отношение Мейнарда было безразличным или снисходительным. Возможно, он почувствовал себя оскорбленным предложением бросить своих людей, которым (как мы можем предположить) он уже пообещал материальную и моральную поддержку со стороны союзников. Для него этот вопрос, скорее всего, стал делом чести. Это было то, что герой романа Бакана «Пресвитер Иоанн» назвал «долгом белого человека», ради чего можно было «пренебречь своей жизнью и состоянием». Выполняя этот долг, он проявлял «дар ответственности, способность быть в некоторой степени королем». (Вудс был не единственным британским офицером, который принял на себя бремя королевской власти в этом регионе. Лейтенант Питер Кроуфорд из Королевского шотландского полка, стоявший вместе с семью солдатами в лапландской деревушке неподалеку от Мурманска, получил прозвище «Короля Рестикента»[209].)
Однако Мейнард был не тем человеком, чтобы давить своим авторитетом и расстраиваться из-за уязвленной гордости или своенравности своего подчиненного. Нам неизвестен ответ Вудса Мейнарду, но у нас есть успокаивающая записка, отправленная после этого генералом:
Не могу поверить, что вы действительно так неправильно истолковали письмо. В эти весьма беспокойные времена, которые требуют от нас нестандартных действий, мне кажется, что я имею право на небольшой розыгрыш, пусть я и являюсь главнокомандующим офицером. В любом случае, я стараюсь оставаться человечным и практичным, и вы можете не сомневаться: я никогда бы не дал вам всех полномочий с вашими самыми замечательными бандитами, если бы я хоть немного считал вас за дурака[210].
В конце этой второй записки он разрешил Вудсу остаться в Кемском уезде на зимний период вместе с его карелами.
В тот же день Марш отдал секретный приказ, подтверждая вынужденное решение главнокомандующего не отводить из Кеми Карельский полк и не разрушать железную дорогу. В этом приказе говорилось, что Вудс мог без помех «осуществлять свой план по очистке Южной Карелии» до конца сентября, когда он должен был вернуться в Кемь, чтобы принять командование над кемским гарнизоном и уездом у майора Дрейк-Брокмана (который был назначен командиром недавно набранного в Сорокской волости 4-го Олонецкого батальона Карельского полка) и организовать эвакуацию на север основной массы не карельских союзных войск, расквартированных в Кеми (то есть большей части Сербского батальона, королевской морской пехоты, французского бронепоезда, нескольких польских солдат и половины контингента королевских инженерных войск под командованием капитана Мак-Киллигана).
Вудс должен был провести зиму в кемской штаб-квартире Карельского полка с капитаном Мак-Киллиганом и его оставшимися саперами, подразделением Славяно-Британского легиона и несколькими подразделениями новой белогвардейской Мурманской армии, которые тоже были отданы под его командование[211]. Четыре тысячи карельских солдат были распределены по четырем батальонам, расквартированным на их землях: самый большой стоял в Юшкозере, а три других — в Вокнаволоке (его задачей была охрана границы), на 44-й ветке (на железной дороге примерно посередине между Кемью и Кандалакшей) и в Сороке[212].
Над зданием ухтинской городской управы, на радиомачте в Юшкозере, над кемскими казармами и над штабом Вудса в Кеми (под Юнион-Джеком) развевался новый флаг Карельского полка — зеленый трилистник на оранжевом фоне. Вудс сам придумал его дизайн (объединив цвета ирландских юнионистов и республиканцев), а изготовлены новые флаги были в Бангоре его братом Робертом (см. с. 59).
Для белых офицеров Мурманской армии, недавно прибывших в Кемь, не остались тайной симпатии Вудса к карелам, к которым они относились с нескрываемым презрением, подозрениями и враждебностью. Зная ирландское происхождение Вудса, они также предполагали, что он был ярым националистом, стремившимся склонить своих подчиненных к сепаратистским выступлениям. Как мы вскоре увидим, их доклады военному и политическому руководству белых сил в Архангельске постепенно настроили британских генералов и дипломатов против Карельского полка и подтвердили подозрения британской штаб-квартиры в Мурманске (проявляющиеся уже в мягких предостерегающих сообщениях от Мейнарда, датированных августом и сентябрем), что Вудс «окарелился». К наступлению зимы была подготовлена сцена для заговоров, двуличной политики и распространения зловещих слухов, что так красочно описал Вудс в своих мемуарах.
ГЛАВА 7. КОРОЛЬ КАРЕЛИИ (2). МЕЧТЫ НАЦИОНАЛИСТА И РЕАЛЬНОСТЬ ИМПЕРИАЛИСТА, 1919 г.
К концу 1918 г. большинству наблюдателей и участников интервенции стало ясно, что, пока союзники находятся на севере России, их главным противником остается режим большевиков, даже если об официальном объявлении новой политики речи не шло. После перемирия 11 ноября немецкая угроза была устранена. Упорное стремление белофиннов аннексировать Карелию никогда не принималось во внимание. В начале 1919 г. президент США Вудро Вильсон и британский премьер-министр Ллойд Джордж предложили противоборствующим сторонам в русской гражданской войне провести мирные переговоры на острове Принкипо в Мраморном море. Большевики приняли это приглашение, но белое движение (при поддержке Франции) отказалось, что разрушило все надежды договориться о прекращении гражданской войны. Хотя американцы не оставили попыток организовать мирные переговоры, основной вопрос, который теперь стоял перед союзниками, заключался в следующем: остаться ли им в России в надежде сокрушить революционное государство или вывести свои войска (чего хотели многие правительства и большинство их народов) и предоставить белым силам исключительно моральную и материальную поддержку для продолжения борьбы.
К этому времени союзники уже перевели на север России значительные силы. Численность британских и канадских войск превышала 13 тыс. человек, многие из которых были физически негодными к несению службы. Эти войска были распределены поровну между Мурманском и Архангельском. Свыше пяти тысяч солдат было в Архангельске у американцев, физически годных, но неопытных и с низким боевым духом; французские войска численностью 2500 человек были разбросаны по обоим регионам — среди них были очень замерзшие и злые африканские части; кроме того, вдоль Мурманской железной дороги было рассредоточено примерно по 1200 итальянцев и сербов[213]. Во всех частях процветало пьянство, к тому же большевистская пропаганда умело играла на их усталости от войны и отсутствии цели.
Вдобавок союзники рекрутировали из числа местного населения около 7500 человек, из которых самым крупным контингентом был четырехтысячный Карельский полк. Белогвардейское Временное правительство Северной области, сформированное в августе в Архангельске (в октябре оно отстранило Мурманский совет от управления Мурманским краем), так и не сумело мобилизовать более многочисленное, но остававшееся апатичным русское население этого региона[214]. Многие из русских крестьян, призванных в белую армию, быстро взбунтовались или дезертировали. (Распустив Мурманский совет, белогвардейское руководство начало проводить расследование в отношении Звегинцева, который до этого сотрудничал с большевиками. Вудс подозревал Звегинцева в связях с красными и в организации нескольких покушений на жизнь британских офицеров в Сороке (см. с. 76-78). Позже Звегинцев бежал из России и по имеющимся сведениям в 1928 г. жил в Париже.)[215] Помощник генерал-губернатора Северной области Василий Васильевич Ермолов, возглавивший Мурманский край и Беломорскую Карелию в октябре 1918 г., был настроен особенно недружелюбно по отношению к Вудсу, не в последнюю очередь из-за явных успехов ирландца в вербовке и подготовке карелов.
Даже если союзники и решили эвакуировать свои войска, сначала им нужно было создать безопасный плацдарм, чтобы большевики не сумели помешать их эвакуации и, в идеале, не смогли бы сразу одержать победу над остающимися белогвардейскими силами. Парадоксально, но эта задача потребовала размещения дополнительных подкреплений перед собственно эвакуацией. В любом случае, до весны союзники были связаны замерзшим морем, что откладывало принятие какого-либо решения. Им также требовалось время, чтобы подготовить передачу белогвардейской армии тех подразделений, которые они набрали из местного населения, включая Карельский полк и Славяно-Британский легион. Тем временем русское военное руководство, чтобы усилить свои войска, ввело на контролируемых территориях обязательную воинскую повинность.
Союзники также надеялись, что сибирская белогвардейская армия адмирала Колчака, в которую с таким энтузиазмом отправился Альфред Нокс и которая к этому времени добилась некоторых успехов, сможет продвинуться достаточно далеко на запад, чтобы соединиться с белогвардейскими силами в Архангельской губернии. Их сил должно было хватить, чтобы позволить союзникам безопасно вывести свои войска и потом, соединившись с Добровольческой армией генерала Деникина на юге России, сокрушить власть большевиков. Поэтому и течение первой половины 1919 г. силы союзников наступали в южном направлении на Архангельском фронте (где их гораздо сильнее сдерживали мятежи в собственных войсках, чем вражеское сопротивление) и в Олонецкой Карелии. К началу лета войска Мейнарда в Карелии, которым помогали белогвардейские силы, достигли северо-западного берега Онежского озера[216].
Тем временем в структуре британского командования произошли некоторые изменения. В октябре 1918 г. бестактного генерала Пуля заменил бригадный генерал Эдмунд Айронсайд. Ему было всего тридцать семь лет, но он уже имел репутацию блестящего пехотного командующего и человека, искушенного в политике (несмотря на то, что он нередко делал уничижительные замечания обо всех национальностях, кроме англичан)[217]. В начале своей карьеры Айронсайд работал под прикрытием в немецкой юго-западной Африке (где он принял участие в геноциде племен хереро, проводимом немцами), а потом служил в Южной Африке, где встретил Джона Бакана. Огромный англичанин произвел на романиста такое впечатление, что Айронсайд стал прообразом Ричарда Хеннея, бесстрашного героя «Тридцати девяти шагов» (1915).
После прибытия Айронсайда мурманская штаб-квартира Мейнарда стала независимой от архангельского командования. В конце сентября начальником штаба Мейнарда был назначен подполковник Е. О. Льюин[218]. Этот офицер имел тесные связи с белогвардейской группой в мурманской штаб-квартире и был враждебно настроен по отношению к Вудсу, который, по его мнению, страдал от «комплекса превосходства» и которого «нужно было обуздать» (см. с. 107). В декабре 1918 г. Марш по состоянию здоровья вернулся в Англию. Вудс на четыре дня принял временное командование над 237-й бригадой (недолгое, но очень почетное повышение, которое он не упоминает ни в мемуарах, ни в статье из справочника «Кто есть кто»), пока его не сменил сначала бригадный генерал М. Н. Тернер из 236-й бригады (в которую входили союзные части, действующие к северу от Кандалакши), а потом бригадный генерал Дж. Д. Прайс, прибывший в середине января (также с инструкциями от Льюина «обуздать Вудса») и командовавший бригадой до ее эвакуации[219].
К лету 1919 г. большевики остановили наступление Сибирской армии Колчака на запад. В начале июня Нокс отправил в Военное министерство телеграмму, в которой излагал два варианта действий в данной ситуации. Союзники были должны либо существенно усилить Архангельск и высадить 50-тысячную армию в Эстонии, чтобы захватить Петроград, а потом начать наступление на Москву, либо потребовать, чтобы белые и красные заключили перемирие, а потом организовали под международным наблюдением выборы в Учредительное собрание, которое и решило бы дальнейшую судьбу России. Нокс заметил, что второй план встретит сопротивление как со стороны «еврейских комиссаров» (т. е. правительства Ленина — согласно расхожему, но неправильному мнению, в нем доминировали евреи), так и «бесполезной буржуазии», но нашел бы поддержку у девяноста процентов населения[220].
Однако союзники уже начали разрабатывать практические и более реалистичные планы по эвакуации своих беспокойных северных русских сил во второй половине лета. Чтобы успокоить британское общественное мнение по вопросу отправки восьмитысячных вспомогательных сил на север России, Уинстон Черчилль организовал кампанию в прессе, которая должна была показать, насколько легко и успешно проходила операция. 3 апреля мурманский корреспондент «Таймс», например, писал, что «здесь ничуть не труднее, чем в Фарнборо <в графстве Гэмпшир, промышленном и испытательном центре военной авиации> — хорошая еда, развлечения и спорт, и все это приправлено приключениями в виде незначительных стычек с большевиками». 8 апреля он прислал по телеграфу статью, опубликованную под заголовком «Королевские ирландские карелы. История двух речных амазонок», в которой описывалась — с несколькими небрежными неточностями — победа, одержанная полком в прошлом году, полковой значок в виде трилистника и награждение Военным крестом нескольких карельских женщин, отвечавших за снабжение по реке (описание Вудса см. на с. 53-54).
Тем временем 237-я бригада Прайса теснила противника на южном направлении, чтобы захватить у большевиков передовые позиции в Повенецком уезде в центральной Карелии. К началу июля в Мурманском крае и в Карелии белогвардейцам удалось мобилизовать лишь около пяти тысяч человек (не считая карелов, особая история которых в данный период будет рассмотрена ниже). Эти русские призывники были поставлены под командование генерала Владимира Степановича Скобельцына, который поразил Вудса сочетанием нескрываемого фатализма и чувства долга (см. с. 80). Эту точку зрения разделял и Мейнард: «Его спокойствие было настолько сильным, — вспоминал британский генерал о Скобельцыне в своих мемуарах, — что создавалось впечатление постоянной печали — впечатление, которое, как мне кажется, было недалеко от истины, ведь горести его страны были его горестями»[221].
Хотя силы белогвардейцев были еще недостаточными, Мейнард уже получил четкие приказы об эвакуации. Французские войска покинули север России в начале июня, американские — в середине июля. Эвакуация британских и других союзных войск из Архангельска была свершена к середине сентября. В это же время, после последнего наступления на юг в сторону Петрозаводска, мурманская штаб-квартира Мейнарда передала набранные из местного населения отряды под командование белогвардейцев и эвакуировала все оставшиеся войска. Последний британский солдат покинул Кемь 29 сентября, а Мурманск — 12 октября[222].
За месяц до этого Черчилль объявил в «Таймс», что союзники эвакуируют всех русских, оказавших им помощь. Айронсайд ожидал, что и Архангельске будет подано около 18 тысяч заявлений. На деле вышло, что британцы забрали с собой лишь около шести тысяч русских беженцев, остальные же решили остаться и сражаться[223]. Ответственность за судьбы оставшихся русских (большинство из них стали жертвами победителей-большевиков в начале следующего года), как позже с нескрываемой горечью писал Черчилль, лежала «на могущественных и блистательных нациях, которые выиграли войну, но так и не довели начатое дело до конца»[224].
Оглядываясь назад, Мейнард полагал, что интервенции в целом удалось добиться поставленных целей: «Небольшая горстка британцев и союзников, — писал он в своих мемуарах, — дислоцированная в практически неизведанной арктической пустыне, помогла победе над Германией больше, чем можно было бы добиться гораздо более значительными силами, занятыми на любом другом театре военных действий!»[225] Начальник Имперского генерального штаба сэр Генри Уилсон, излагая события в служебной записке Черчиллю в декабре 1919 г., был более сдержан в оценке интервенции (в которой британцы потеряли около тысячи человек, в том числе убитыми — 41 офицер и 286 военнослужащих других званий). В заключении он писал, что извлек из этого опыта важный урок: «Когда военные силы оказываются вовлеченными в наземные операции, почти невозможно ограничить степень их участия». Он пророчески добавил: «При нынешнем уровне мирового хаоса будет весьма мудро не забывать про этот принцип»[226].
* * *
Как все эти события повлияли на карелов и их националистические стремления? Февральская революция 1917 г. в России, которая свергла царский режим и поставила во главе страны Временное правительство до национальных выборов в Учредительное собрание (оно должно было решить будущее конституционное устройство России), открыла новые перспективы для многих небольших приграничных народов. Впервые в истории казалось, что карелы больше не стоят перед двумя взаимоисключающими вариантами — русским имперским господством или поглощением «родственной» Финляндией, которая сама собиралась провозгласить себя независимым государством. Либеральная демократическая Россия могла предоставить карелам возможность для создания территории со своим самоуправлением внутри российских границ или даже для провозглашения независимости (как, например, потребовали три прибалтийских государства, каждое размерами от трети до половины Карелии и с ненамного более многочисленным населением).
В июле 1917 г. недавно сформированное Ухтинское волостное собрание написало предварительный вариант конституции Карельского автономного края в составе Российской конфедерации, который оно намеревалось подать в соответствующее время в Учредительное собрание. Ухтинское собрание, которое не было профинским и не стояло на крайних антибольшевистских позициях, понимало, что в данный момент лучше занять выжидающую позицию, и тем временем предложило раздать государственные земли и леса населению, чтобы получить народную поддержку[227].
После октября новое правительство Ленина распустило местные собрания, выбранные демократическим путем. На тот момент казалось, что ожиданиям карелов на решение своего вопроса на основе территориальной децентрализации не суждено сбыться. Такой поворот событий мог бы толкнуть карелов обратно в объятия Финляндии, если бы белофинские добровольцы не организовали в 1918 г. два вооруженных вторжения в Олонецкую Карелию. Вполне вероятно, что карелы воспользовались бы помощью Финляндии в осуществлении собственных схем самоопределения, но это нападение было воспринято ими как явная попытка захвата их территории, и они мобилизовали свои силы, чтобы противостоять дальнейшему вторжению[228].
Когда в начале лета на севере России началась высадка союзных войск, карелы обрели надежду, что им удастся заручиться достаточной материальной и политической поддержкой, чтобы утвердить свое право на автономию или независимость как от России, так и от Финляндии. Это стремление полностью соответствовало принципу национального самоопределения, провозглашенному в январе 1918 г. президентом США Вудро Вильсоном в своей программе из четырнадцати пунктов, которая должна была послужить основой для мирной конференции, начавшейся через год в Париже[229]. Карелы, разумеется, не хотели считаться с соглашением, подписанным 7 июля 1918 г. Пулем с мурманскими властями в прагматических целях, без оглядки на принцип национального самоопределения. В этом соглашении Пуль обязался поддерживать региональную территориальную целостность и «великую неделимую Россию» — условие, на котором настаивало белое движение. Не был этот акт политического реализма и тем аргументом, который заставил бы Вудса, человека воинственного в своей принципиальности, отказаться от поддержки тех, кто так хорошо ему служил.
В конце 1918 г. Мейнард признал, что успех, которого карелы добились в своей осенней операции, начал создавать политические трудности. Поступив к союзникам на службу и выступив на их стороне против белофиннов, возглавляемых немцами, они теперь верили, что союзники должны оказать им поддержку или, по крайней мере, беспристрастно выслушать. Союзники считали, что они ничего не должны карелам, и продолжали требовать послушания, покорности и службы. В отличие от Вудса, они так и не поняли, что карелами «можно было руководить, но не погонять».
В начале ноября Мейнард встретился в Кеми с лидерами Беломорской Карелии (включая Ииво Ахава, который перевелся из красногвардейского Финского легиона в полк Вудса в начале осени). После встречи британский генерал уведомил директора военной разведки в Лондоне, что на карелов можно положиться в вопросе «поддержания и охраны местной границы» (т. е. для возможного отражения будущего немецкого или белофинского вторжения), однако он не испытывает уверенности в их готовности сражаться на стороне белогвардейцев против большевиков. Скорее всего, он был прав. В конце концов, правительство Ленина провозгласило национальную политику, основанную на антиимпериалистических принципах, которая давала карелам какие-то надежды на уступки, в то время как белогвардейцы демонстративно выказывали надменную непримиримость по отношению к подчиненным народам бывшей империи.
Мейнард предостерегал, что любая попытка улучшить отношения между белым движением и карелами, скорее всего, лишь усугубит недовольство последних. Другими словами, за свое дальнейшее сотрудничество карелы выдвигали условия, которые, как он знал, было невозможно выполнить. Однако далее Мейнард указывал: «Если все же будет принято решение об отзыве союзных сил, эту попытку нужно предпринять, иначе без помощи карелов у русских на этой стороне, скорее всего, не будет никаких шансов оказать сопротивление большевикам»[230].
Британский главнокомандующий был прав в том, что белогвардейцев и карелов нельзя было примирить. С одной стороны, русские рассматривали контакты британцев с карелами как «предательские» — архивные данные показывают, что рассказы Вудса о смертоносной двуличности ряда белогвардейских офицеров в Кеми и Мурманске не были всего лишь игрой его излишне богатого воображения[231].
С другой стороны, карелы начали преследовать свои националистические цели с еще большим рвением и настойчивостью. В конце января карельская делегация вручила Вудсу написанное от руки письмо, адресованное «Его Величеству Королю Великобритании», которое он должен был вручить британскому Верховному командованию, чтобы оно переправило письмо в Лондон (Вудс воспроизводит этот документ в «Карельском дневнике», с. 134-139, хотя он ошибочно датирует его концом февраля). Он был подписан представителями семи волостей Беломорской Карелии, тремя офицерами Карельского полка (майором Григорием Лежевым, его адъютантом капитаном Петром Лежевым и капитаном С. Петерсоном) и Ииво Ахава, который представлял волости, оккупированные красногвардейским Финским легионом. В документе кратко описывалось сложившееся затруднительное положение и предлагалось его решение:
С Россией сжиться мы никогда не сможем, да и не желаем. К Финляндии, которая наглым образом хотела присоединить нашу родину к себе, опустошив наши села и деревни, унеся наши последние деньги-гроши, мы быть солидарны никогда не хотим… Умоляюще просим принять нашу родину Корелию <Так в тексте. — Примеч. перев.> под защиту Британии[232], которую всякий щиплет, т. е. Корелию.
Вудс передал это письмо Прайсу с пометкой «секретно», но без каких-либо комментариев[233].
Через неделю, 7 февраля, Мейнард прибыл в Кемь. (Этот визит и все последующие события описаны в мемуарах Вудса с подкупающей непосредственностью, но непонятно и путано хронологически). Утром главнокомандующий силами союзников провел инспекцию полка и вручил награды (в том числе двум девушкам-гребцам, упомянутым выше). После этого он встретился с Прайсом и Вудсом и сообщил им о категорическом отказе британского правительства на петицию карелов. Более того, Мейнард даже не постарался смягчить эту новость для карелов, вместо этого потребовав от Вудса, чтобы тот начал готовить полк к переходу под российское командование, «когда наступит время эвакуации». Для этого Мейнард предложил постепенно вводить в полк русских офицеров. Первым русским, получившим туда назначение, был граф Беннигсен, бывший императорский гвардеец, который вступил в 4-й (Олонецкий) батальон Дрейк-Брокмана и марте и которого высоко оценивали как Вудс, так и Мейнард[234].
Следующим вечером Мейнард, Прайс и Вудс ужинали в Кеми вместе с несколькими белогвардейскими офицерами, включая Ермолова, вице-губернатора Северной области[235]. Через шесть дней, 14 февраля, Мрмолов подал докладную о Карельском полке генерал-губернатору Е.К. Миллеру в Архангельск. Он писал, что карелы под руководством Вудса «окрасились в отчетливо красный оттенок… который проявляется в актах насилия по отношению к русским чиновникам и более богатым соотечественникам, а также в системе террора по отношению к буржуазии — белой <финской> гвардии — врагам союзников»[236]. Он признал, что Вудс и другие британские офицеры в определенной степени смягчали политический радикализм в полку. Однако Вудс и его подчиненные позволили «неразумно вовлечь себя в преследование тех <т. е. белогвардейцев>, кто жаждет бороться с красногвардейцами и большевиками». Далее Ермолов писал:
Полковник Вудс — сильный и энергичный мужчина — в заботе о своих подчиненных слишком увлекся своей ролью. Появился новый карельский флаг (оранжевое полотно с трилистником — несомненно, ирландский); и этот трилистник используют в своей униформе не только карельские офицеры и солдаты, но и британские офицеры, возглавляющие карелов. Впервые на исторической сцене появилась «Карельская нация», и свежеиспеченные офицеры, среди которых есть два или три бывших учителя, неуклюже обсуждают вопросы, на которых на протяжении десяти прошедших лет умело играла банда панфинских агитаторов в Карелии. Они заручились поддержкой британского командования, и их работа основывается на значительных продовольственных запасах[237].
Ермолов указал, что местные русские жители испытывают «неприкрытое беспокойство» и признал, что «их раздражение выливается лично на полковника Вудса и его офицеров». По его мнению, это было неприятно, но вполне понятно. Лично познакомившись с полковником Вудсом, он сделал вывод, что «не может быть никаких сомнений в его искренности, оттого его ошибки еще более печальны, так как в них он проявляет типичное британское упрямство»[238].
Чтобы исправить эту ситуацию, Ермолов предложил приостановить вербовку в Карельский полк, запретить ему операции к югу от Кемского уезда (он боялся, что иначе полк заразит своим радикализмом олонецких карелов), а в южной Карелии свести в новый смешанный полк 4-й батальон и русские подразделения малочисленного Славяно-Британского легиона. Вдобавок он предложил лишить карельских солдат «привилегированного» снабжения, которое они получали в качестве подразделения союзных сил: вместо этого они должны были ограничиться теми же (меньшими) рационами, что получали белогвардейские отряды.
В то же время новое кемское земское собрание, выборы в которое в тот момент организовывали русские власти, должно было обеспечить лучшие условия для северо-карельского населения и выработать программу общественных работ (строительство дорог, больниц и т. д.). Подобный подход поощрил бы карелов более активно сотрудничать с русскими — предположительно, чтобы ослабить их ложное чувство национальной обособленности, — и позволил бы им почувствовать свою роль в победе антиреволюционного движения. Наконец, британских офицеров Карельского полка предполагалось постепенно заменить на русских, что позволило бы союзному командованию «сохранить лицо и выпутаться» из этой странной и нелепой ситуации[239].
* * *
Как свидетельствует запись внизу документа, сделанная от руки, Ермолов получил от Мейнарда согласие по всем этим пунктам. Оно было подтверждено 18 февраля на встрече между Ермоловым и полковником Льюином, начальником штаба Мейнарда в Мурманске, который к тому времени уже был недоброжелательно настроен по отношению к Вудсу и его карелам. В марте 4-й батальон Карельского полка, командиром которого был Дрейк-Брокман, вывели из-под командования Вудса и слили с отрядами Славяно-Британского легиона, действующими в южной Карелии. Новое смешанное подразделение, получившее название «Олонецкий полк», включало в себя два батальона (один из них назвали Карельским, что создало определенную путаницу). Его командиром был назначен подполковник Л. Дж. Мур, подчинявшийся непосредственно генералу Прайсу[240].
Тем временем кемские карелы направили все усилия на защиту национальных интересов, а не большевизма. Согласно мемуарам Вудса, делегация, подавшая ему петицию в конце января, также обратилась к нему за рекомендацией по сложившейся ситуации «не официальным образом, а в частном порядке» (см. с. 108-109). Когда Вудс проявил осторожность, они попросили у него разрешения пригласить бывшего премьер-министра финского социалистического правительства Оскари Токоя, который в тот момент служил в красном Финском легионе Бертона, приехать на поезде из Кандалакши и высказать свое мнение в качестве эксперта по поводу их дальнейших действий. Полковник согласился на это, что было рискованным решением, ведь Мейнард уже подозревал Токоя вместе с его другом, капитаном Вернером Лехтимяки, также красным финном, в подрывной деятельности (неясно, знал ли об этом Вудс до того, как уступил просьбам карелов; его мемуары подразумевают, что нет)[241].
Результатом встречи карелов с Токоем — согласно мемуарам Вудса, встреча проходила в его присутствии — было решение созвать в конце месяца съезд представителей карелов. На встрече, которая состоялась 16 февраля в штаб-квартире Карельского полка, также присутствовали его офицеры, Григорий Лежев и Ииво Ахава[242]. Ахава произнес пылкую речь, которую, согласно имеющимся сведениям, написал для него Токой, требуя права на самоопределение, международного признания и представительства на международной мирной конференции, которая в это время собиралась в Париже для обсуждения новой национальной карты послевоенной Европы.
Мейнард был заранее предупрежден о кемском съезде и приказал бригадному генералу Прайсу посетить его и зачитать на нем телеграмму от главнокомандующего с угрозами, что союзники прекратят оказывать карелам помощь, если те продолжат настаивать на своих националистических требованиях. Прайс выполнил этот приказ и произнес долгую и горячую речь от себя (опубликована в Приложении В). Если с русскими лидерами британские генералы обращались как со старшими школьниками, то с карелами они держались как с испорченными школьниками младшего возраста. Прайс заявил, что цель интервенции союзников с самого начала заключалась в «искоренении и уничтожении большевиков» (это должно было весьма удивить некоторых из его слушателей), чьей верой была «анархия и разруха». Карелы были обязаны принять участие в антибольшевистской кампании, продолжал он, чтобы заслужить благосклонность белогвардейцев, которые после победы и восстановления своей империи, возможно, дадут им какую-то степень автономии. Тем временем делегаты должны были разойтись по домам и объяснить свои людям, что «мир, процветание и счастье Карелии будут возможны … лишь тогда, когда возродится великая, единая и свободная Россия».
Карелов в их убеждениях не поколебали ни угрозы Мейнарда, ни покровительственные аргументы Прайса — все это прозвучало впустую, учитывая нескрываемое презрение и враждебность, которую демонстрировали по отношению к местному населению белогвардейцы. Вместо этого карелы поддержали требования Ахава и решили сформировать Национальный комитет, состоявший из пяти человек, — своего рода временное правительство, которое должно было подготовить местные выборы в карельское национальное Учредительное собрание. Именно оно и должно было определить, будет ли будущее Карелии связано с Россией, с Финляндией или ни с той и ни с другой. Национальный комитет был наделен полномочиями начать переговоры с «соседними государствами» Карелии (т. е. с Финляндией, белогвардейским Временным правительством Северной области и Советской Россией), чтобы добиться от них признания ее независимости, а также послать двух делегатов на Парижскую конференцию и на остров Принкипо (в том случае, если эта конференция состоится), чтобы обязать договаривающиеся стороны признать право Карелии на самоопределение[243]. Майор Григорий Лежев из Карельского полка и его адъютант Петр Лежев (скорее всего, братья) получили от съезда особый мандат на участие в Национальном комитете и согласились помогать ему в его деятельности, если она не вступит в противоречие с их воинским долгом (это условие является важным в свете обвинений, выдвинутых позднее против карельских офицеров полка)[244].
Всем без исключения, кроме Вудса и самих карелов, эти требования казались смехотворными и опасными. Белогвардейцы открыто высказывали свое убеждение в том, что съезд карелов предвещает немедленное большевистское восстание в уезде, которое начнется и будет возглавлено самим Карельским полком. Несомненно, в их интересах было представить для британцев деятельность карелов именно в таком свете. Хотя Мейнарда так и не удалось убедить, что полк собирается поднять восстание, и Вудс энергично и неоднократно опровергал это, остальные офицеры и командование союзных сил были склонны верить, что дела обстоят именно так.
5 марта Дрейк-Брокман отправил Прайсу в штаб-квартиру 237-й бригады в Кеми телеграмму, в которой говорилось, что «командующий Батаяр, офицер французской военной разведки, переслал рапорт <он был написан, скорее всего, Ермоловым и в то время ходил по кругу>, где сообщается, что на Карельский полк, по его мнению, нельзя полагаться и нужно предпринять меры, чтобы обезвредить любое восстание, которое может в нем произойти»[245]. Штаб-квартира в Мурманске, очевидно, пришла к тем же выводам, и Прайс немедленно вызвал Вудса и приказал ему разоружить свой полк. В британских военных архивах отсутствуют сведения о дальнейших событиях. Однако, как сообщают мемуары Вудса, ему удалось убедить своего командира в том, что история о планируемом в Карельском полку мятеже была сфабрикована белогвардейцами, которые хотели использовать ее как уловку, чтобы убить всех британцев в Кеми и потом возложить ответственность на карелов. Прайс согласился, чтобы карелы, пока создается видимость их разоружения, оставили при себе все оружие за исключением пулеметов Льюиса (легкий пулемет, с которым управлялись два человека, был широко распространен в британской армии). Вудс разработал план, чтобы у карелов остались даже пулеметы (впервые в своей жизни, утверждает Вудс в своих мемуарах на с. 122, он «намеренно нарушил дух прямого приказа от вышестоящего начальства»), и расставил свои войска таким образом, чтобы предотвратить спланированное русскими нападение.
Британское правительство уже передало карелам четкий ответ на их петицию через генерала Мейнарда. В начале марта министерство иностранных дел послало в Кемь Фрэнсиса Линдли, своего поверенного на севере России, чтобы окончательно уладить этот вопрос. Согласно мемуарам Вудса (с. 140), Линдли весело приветствовал его на станции словами: «Неужели, полковник Вудс, это очередной ирландский розыгрыш?» Дипломат снова повторил, что британское правительство не примет Карелию в качестве протектората, после чего отправился на встречу с карелами, которую Вудс пропустил, так как «не испытывал желания наблюдать <их> разочарование». Линдли также сообщил Вудсу, что карельская петиция «вызвала переполох среди некоторых из наших союзников» и что самого Вудса считали ответственным за подстрекательство «британских планов на захват Карелии».
Хотя мы знаем, что эта часть обвинений была исключительно плодом воображения белогвардейцев — Британия никогда не вынашивала «планов» на захват территории в этом регионе — остается неясным, какую роль сыграл Вудс в политической деятельности карелов в этот период. Был ли он в действительности подстрекателем, как считали некоторые, или просто пассивным наблюдателем? В своих мемуарах он не скрывает, что искренне поддерживал стремления карелов — он стал испытывать по отношению к ним «милосердие и доброту, многое поняв, наблюдая за безмолвным страданием местных жителей», если снова процитировать героя «Пресвитера Иоанна» Бакана. Он верил и надеялся, что их петиция с просьбой предоставить Карелии статус британского протектората могла иметь успех не в последнюю очередь благодаря лесным богатствам и полезным ископаемым края, которые, как он понимал, были соблазнительной приманкой для империи (см. с. 140).
Однако, согласно свидетельству Вудса, он тщательно сохранял профессиональную беспристрастность, предлагая свои советы (например, организовать избирательную систему, сформировать сберегательный банк и кооперативные торговые общества, см. с. 144) только частным образом. То, что его лояльность британскому командованию всегда оставалась на первом месте, не подлежит сомнению. Когда во время ухтинской кампании, длившейся с августа по октябрь 1918 г., он узнал, что несколько карелов организовали встречу в Панозере, на которой обсуждали политические требования, он искренне посоветовал им быть осторожнее в своих намерениях и не позволить отдаленным амбициям отвлечь себя от борьбы против белофиннов и немцев. Он осознавал, что это было приоритетной задачей как для него, так и для них[246].
Однако тот факт, что Вудс в действительности самым очевидным образом «нарушил дух» приказа разоружить карелов в марте следующего года и осмелился весьма творчески интерпретировать инструкции в нескольких других случаях (например, когда ему было приказано арестовать Токоя в то время, когда финский политик находился с визитом в Кеми, см. с. 110), предполагает, что он, возможно, не всегда проводил различие между профессиональной и личной ролями. Это также придает вес другим свидетельствам, согласно которым Вудс сыграл более активную и конструктивную роль в развитии карельского националистического движения.
Мы уже сталкивались с мнением Ермолова о том, что Вудс «слишком увлекся своей ролью» и что он «проявляет типично британское упрямство», не желая отказаться от своей ошибочной позиции. Ермолов также, вполне возможно, верил (как намекнул Линдли), что Вудс мог поощрять карелов в их «свежеиспеченных» националистических амбициях только с распоряжения или при попустительстве британского правительства. Однако у вице-губернатора хватило такта, чтобы скрыть эти подозрения в докладе, который он отправил Миллеру и который был переведен и распространен среди британских дипломатических и военных чиновников, в конечном итоге достигнув Уайт-холла, где он оказался на столе британского министра иностранных дел лорда Керзона.
Другие белогвардейцы высказывали свои обвинения более откровенно. Владимир Иванович Игнатьев, политически левый антибольшевик и министр внутренних дел в русском правительстве в Архангельске до августа 1919 г., через несколько лет вспоминал в своих мемуарах (написанных в советской тюрьме и потом опубликованных в советском журнале):
В Карелии англичане устроили авантюру — английский полковник, командовавший там военными силами, сорганизовал тайный съезд корел <так в тексте> и, играя на их национальном чувстве, провел резолюцию о независимости, в которой этот съезд передавал вопрос, от имени карельского народа, на разрешение Лиги Наций. Нечего указывать на то, что здесь англичане выкраивали себе первый колониальный плацдарм на нашем севере. Мы протестовали и авантюру эту сорвали[247].
Мемуары Игнатьева можно, конечно, проигнорировать как типичное советское переписывание истории, а также как попытку самооправдания, в которой он перевел основное внимание со своей роли на непорядочных английских империалистов (с очевидным успехом — в 1922 г. его выпустили из тюрьмы на основании того, что он «полностью расстался со своим контрреволюционным прошлым»).
Однако генерал Владимир Владимирович Марушевский, бывший гвардеец российской императорской армии и главнокомандующий белогвардейской армией в Архангельске и Мурманске с ноября 1918 г. по август 1919 г., стоявший на совершенно иных политических позициях и написавший свои мемуары в конце двадцатых годов в эмиграции, свидетельствует о том же[248]. Марушевский (с ним мы еще встретимся) отрицал само существование отдельной карельской народности среди русского населения этого региона, считая, что «карельская национальность» была наглым британским «изобретением», а стремление местного населения к «самоопределению» было британской инициативой, основывавшейся на высокомерии «сынов гордого Альбиона, <которые> не могли себе представить русских иначе, чем в виде маленького, дикого племени индусов или малайцев что ли». Очевидно, что русский генерал все еще испытывал жгучую боль, вспоминая, как с ним обращались:
Русское мнение, исходившее от людей даже высокостоящих в императорской России, встречалось англичанами с добродушным снисхождением, похлопыванием по плечу и с той типичной английской веселостью, которая заставляет людей совершенно не различать, имеют ли они дело с очень умным и хитрым человеком или с совершенным простаком. Результат этого русско-английского обмена мнений был всегда один и тот же. Англичане всегда все делали по-своему и всегда неудачно.
Таким же образом, продолжал Марушевский, англичане отвергли все возражения русских по поводу формирования карельского армейского подразделения. Британцы вооружили, одели и накормили карелов, как будто они были частью британской армии, с тем единственным исключением, что недавно рекрутированные крестьяне носили на своих головных уборах бронзовые трилистники (он также обратил внимание на то, что новым карельским флагом был трилистник на оранжевом фоне). «Трудно себе даже и представить, — продолжал он, — сколько политической нетерпимости, ссор, борьбы и затруднений внесло в жизнь края это формирование»[249].
Из британских военных документов явствует, что Прайс и Льюин воспринимали Вудса как источник постоянного раздражения в вопросах, касавшихся поддержания более-менее нормальных политических отношений с русскими (а во время долгой темной зимы им было почти нечем заняться, кроме политики). Мейнард, как мы видели, относился к Вудсу более мягко и, в целом, был готов иногда поверить ему — его мемуары умалчивают о размахе и природе политической деятельности Вудса.
Британские дипломаты проявляли меньше сочувствия, но, как и следовало ожидать, выражали неодобрение более уклончиво. Чиновник из министерства иностранных дел, проезжавший через Мурманск и Кемь в марте 1919 г., послал в Лондон доклад, в котором описывал Вудса как «предприимчивого» офицера, «немало сделавшего для подъема национального духа» карелов, не в последнюю очередь тем, что он изобрел для них эмблему и флаг[250]. В этом контексте, «предприимчивый»[251], без сомнения, обозначает энергичность, творческий подход и независимость суждений — все то, что словно специально смущает и раздражает дипломатическую чувствительность.
Линдли, переслав доклад Ермолова лорду Керзону, добавил в своем комментарии, что тот «приписал рецидивы старой <пробольшевистской> пропаганды влиянию полковника Вудса и других британских офицеров» (хотя на самом деле Ермолов писал, что Вудс и его подчиненные прилагали определенные усилия, чтобы «смягчить» политический радикализм в полку). Он также писал об обвинениях Ермолова против Вудса, согласно которым последний чинил русским офицерам препятствия в исполнении их обязанностей в Карелии[252].
У Линдли, несомненно, сложилось собственное мнение о Вудсе из разговоров с белогвардейцами и Мейнардом, а также по результатам его собственной поездки в Кемь в начале марта:
Вудс <писал он лорду Керзону>, кажется, приобрел большое влияние на <карелов> и немало сделал для подъема национального духа среди людей, которые до сих пор всегда считали себя неотъемлемой частью России… Пыл полковника Вудса вызвал определенное беспокойство среди русских, но генерал Мейнард уверил меня, что дал Вудсу строгий приказ прекратить свою политическую деятельность и не поощрять сепаратистские тенденции, которые в настоящее время совершенно очевидно ограничиваются небольшим по численности населением уезда[253].
Если Мейнард действительно счел необходимым приказать Вудсу воздержаться от «политической деятельности» — значит, главнокомандующий на самом деле чувствовал, что его подчиненный переступил границы профессионального военного поведения. В свете свидетельства Линдли тот факт, что Мейнард не упоминает этот эпизод в своих мемуарах, также дает основания подозревать, что он считал действия Вудса не вполне уместными, но хотел сохранить великодушное молчание по этому вопросу, не желая подвести того, кого он искренне уважал за военный профессионализм. С другой стороны, Мейнард мог, разумеется, отдать подобный приказ лишь для того, чтобы успокоить своих разгневанных союзников или утешить дипломатическую чувствительность Линдли. В конечном итоге, можно утверждать, что все белогвардейские и британские генералы и дипломаты принадлежали к одной и той же мурманской «клике» (как назвал ее Вудс, см. с. 119), и поэтому нельзя считать, что их высказывания, взятые каждое в отдельности, подкрепляют друг друга.
Однако левый финский политик Оскари Токой предложил схожую интерпретацию роли Вудса в своих мемуарах, хотя он смотрел на события совершенно с иной политической точки зрения и его представления сложились в другой обстановке (никакой связи с Мурманском у него не было), когда он в течение двух дней был гостем Вудса в Кеми в начале февраля и потом недолго в апреле. Он также прекрасно знал о том, что у британцев не было никаких «планов» по захвату Карелии и что у карельского националистического движения была предыстория, о которой намеренно ничего не желали знать белогвардейцы и британцы, поэтому он был более осведомленным и менее пристрастным наблюдателем. По мнению Токоя (он писал в 1950-е гг.), «предложения <февральского> съезда и независимость Карелии нашли поддержку у командира Карельского Легиона Вуда <так в тексте>, который был ирландцем и ярым сторонником независимости Ирландии»[254].
Характеристика Вудса как ирландского националиста, данная Токоем, является весьма любопытной. Этот финн был проницательным и очень умным политиком, и сложно поверить, что он неправильно интерпретировал политические взгляды Вудса в тот момент, хотя вполне возможно, что при написании мемуаров три десятилетия спустя память могла его подвести. Скорее всего, Токой связал Вудса с ирландским сепаратизмом под влиянием карельского трилистника, о котором часто вспоминают в «фольклоре», связанном с этими событиями. Можно предположить, что ольстерец сам догадывался о неизбежности этой путаницы, когда придумывал эмблему полка и флаг, и не придал этому большого значения.
Несомненно, утверждение Вудса о своей пассивной роли, заключавшейся в том, что он всего лишь дал карелам рекомендации, является искренним, но при этом так же очевидно и то, что его отношение и поведение получили совсем иную оценку у других людей, как в то время, так и позже. Если Вудс активно воодушевлял и продвигал карельский вопрос, который любой беспристрастный наблюдатель, при всей вере в его благородство и романтичность, не мог не оценивать как безнадежный, он должен был разделить ответственность и за последствия его неудачи. Вероятно, громогласное возмущение, которое в последующие годы Вудс высказывал по поводу того, что он считал надменным, аморальным, предательским и лицемерным поведением британских правящих классов, было вызвано не дававшим ему покоя сознанием собственного нечаянного соучастия в крахе маленькой нации. Возможно, Вудс чувствовал, что имперская элита также предала его собственный идеал империи.
* * *
В мемуарах Вудса особенно туманна последовательность событий, произошедших в течение следующего полугода до эвакуации, когда он вел все более и более тяжелый и, в конечном итоге, проигранный арьергардный бой против роспуска своего полка, оказавшегося под ударом как извне, так и изнутри, пока в результате сочетания заговоров, сложных обстоятельств и своего собственного несгибаемого упрямства он, в конце концов, снова не потерял свою командную должность.
Карелы упрямо не желали признавать официального отказа Британии на поданную ранее петицию и в начале марта послали Мейнарду протоколы своего февральского съезда, чтобы доказать, что их политическая деятельность далека от подготовки восстания. После встречи с Ермоловым, состоявшейся 11 марта, Мейнард прислал карелам ответ, в котором отвергал их требования на самоопределение как «абсурдные», отказывал во всех их просьбах и в очередной раз высказывал свое убеждение, что «из-за своего неразвитого состояния Карелия в настоящее время не может существовать как независимое государство»[255].
Согласно мемуарам Мейнарда (в хронологии которых присутствуют ошибки), Ермолов настаивал на немедленном аресте и наказании карельских главарей, но британский генерал отговорил его от каких-либо радикальных действий, так как верил, что они спровоцируют мятеж. Он предложил, чтобы вместо этого Ермолов ограничился суровым выговором и предупреждением лидерам карелов[256]. После этого Ермолов приехал в Кемь, где обрушился на Карельский национальный комитет с яростной бранью и среди всего прочего назвал их (согласно мемуарам Вудса, где также допущена ошибка в датировке, с. 143) «мятежными свиньями и дворнягами, чей выводок нужно истребить под корень».
Теперь невозможность примирения ни у кого не вызывала сомнений. В марте, после этих событий, Карельский национальный комитет послал Мейнарду длинный документ (снова через Вудса), в котором совершенно оправданно указал, что «содержание письма <генерала> совершенно не основывается на принципах ни демократии, ни автономии различных народов, хотя Союзные Правительства провозгласили торжественно, что эти принципы будут основой их настоящей политики» (см. с. 141).
После этого национальный комитет рассмотрел каждый из пунктов, которые сделал в своем письме их главнокомандующий. Они заявили, что члены комитета получили демократические мандаты от местного населения, что их просьбы присутствовать в Париже или на Принкипо соответствовали условиям, объявленным в связи с этими встречами, что они не могли высказать своего мнения по поводу формирования белогвардейского Временного правительства Северной области или назначения вице-губернатора (подразумевалось, что они не считают эту власть законной) и что белогвардейцы намеренно исключают карельское население из предстоящих выборов в новое кемское земское собрание и из участия в работе самого земского собрания, так как официально утвержденным языком извещений и протоколов объявлялся только русский язык. В заключение они писали, что карелы больше ничего не ждут от союзников, за исключением того, чтобы им не мешали добиваться своих собственных целей и чтобы союзники не поддерживали белогвардейских империалистов.
Сложилась патовая ситуация. Каким бы «исключительно непримиримым» ни считал Мейнард Ермолова, он не мог позволить обострить отношения со своими белогвардейскими союзниками, так как успех британского отступления зависел от продолжения их сотрудничества. Тем временем карельские солдаты в Кеми самым явным образом давали понять свое нежелание переходить под командование русских офицеров. На юге олонецкие карелы, согласно Дрейк-Брокману, были «чертовски злы» на кемский полк, на который они больше не могли положиться в своей борьбе против красногвардейцев, наступающих из Петрограда. Теперь южные карелы размышляли, что им, возможно, стоит пригласить белофиннов обратно на свои земли, чтобы те помогли отразить вторжение большевиков[257]. В Кандалакше все большее беспокойство проявляли красные финны, ожидавшие исхода переговоров между британским и финляндским правительствами по вопросу их репатриации. В Мурманске белогвардейцы заявляли о бескомпромиссном неприятии всех финнов, как белых, так и красных, и всех карелов, и в то же время, не переставая, пререкались друг с другом. Трудная ситуация быстро превращалась в очень трудную.
В конце марта Мейнард получил рапорт, который, несомненно, был написан в штаб-квартире Ермолова. Согласно этому рапорту, 10 апреля Карельский полк планировал поднять в Кеми большевистский мятеж одновременно с восстанием красных финнов в Кандалакше и бунтом в Мурманске[258]. Ему также сообщили, что карелы (очевидно, южные) планируют организовать восстание, чтобы провозгласить свою независимость от России и вхождение в состав Финляндии, что будет поддержано финскими войсками, которые, как было известно, в то время группировались у границы[259]. Перед лицом такой комплексной угрозы Мейнард послал в потенциальные очаги неприятностей надежные войска. В действительности же никакого восстания не произошло[260].
Мейнард также поговорил с Токоем и Лехтимяки, лидерами красных финнов, которые согласились удержать своих подчиненных от каких-либо безответственных шагов. Взамен британский генерал обещал свободный проход всем красным финнам, которые решат отправиться на юг, чтобы присоединиться к большевикам (многие, в том числе и эти два лидера, воспользовались этим предложением; Вудс рассказывает об их проезде через Кемь в своих мемуарах, см. с. 122-123). Большинство из оставшихся красных финнов вернулись в сентябре обратно в Финляндию.
Остается открытым вопрос, насколько близки к восстанию были Финский легион и Карельский полк 10 апреля. Британский дипломат Линдли, находящийся в Архангельске, считал «паникой» убежденность Мейнарда в том, что восстание неминуемо: по его мнению, генерал воспринимал происходящее в искаженной форме из-за умственного и физического истощения[261]. Существуют свидетельства, что Лехтимяки, активно поддерживавший большевизм, планировал некие выступления, но его отговорил более политически зрелый и осторожный Токой. Согласно мемуарам, написанным одним из красных финнов, Лехтимяки надеялся на согласованные действия с карелами и вошел в контакт с капитаном Ахава по вопросу возможного переворота, но обнаружил, что его старый товарищ и его полк твердо намерены не предавать британцев[262]. Это подтверждает неоднократные утверждения Вудса, которые он делал и в то время, и позже в мемуарах, что Карельский полк никогда не планировал мятежа и все сомнения в их лояльности возникли в результате черной пропаганды против него и его подчиненных, организованной белогвардейцами[263].
Даже в отсутствие доказательств вероломных намерений белогвардейцы организовали массовые аресты финнов и карелов, подозреваемых в большевистской агитации или симпатиях к большевикам. Частью этой репрессивной кампании был провокационный акт, заключавшийся в жалобе лейтенанта Е. Богданова, белогвардейского офицера в Кеми, поданной Вудсу 12 апреля. Богданов утверждал, что в общении с ним Ахава нарушил субординацию и вел себя грубо, и потребовал, чтобы тот был соответствующим образом наказан. Вудс провел расследование и решил, что в основе конфликта лежало «различие в политических взглядах». Чтобы избежать ухудшения и без того напряженной ситуации, он посоветовал Ахава вновь присоединиться к Финскому Легиону и уйти вместе с ним на юг. 22 апреля капитану Ахава дали гражданскую одежду и посадили на поезд[264]. Через несколько дней сербские солдаты, действовавшие по приказу белогвардейцев, подстерегли Ахава во время его поездки и убили[265]. Неизвестно, узнал ли Вудс об этом убийстве в то время или позже — в его мемуарах это событие не отражено.
Несмотря на регулярные заверения в лояльности карелов, которые Вудс отправлял в Мурманск, 8 апреля «Таймс» опубликовала сообщение, в котором пересказывались слухи о мятеже в Карельском полку. По странному совпадению в следующем же номере газеты был помещен панегирик «Королевским ирландским карелам», о котором уже упоминалось выше — это была часть кампании Черчилля, с помощью которой он готовил общество к отправке сил поддержки. Как описывает Вудс в мемуарах, Карельский полк выразил негодование по поводу первой заметки, и он лично отправил Мейнарду телеграмму с вежливой просьбой об официальном опровержении (см. с. 128-129). Когда Мейнард попытался уклониться, Вудс отправил ему гораздо более прямую телеграмму: «Поскольку опубликованное сообщение официально исходило из Военного министерства, мне остается полагать, что Военное министерство и общественность считают мою деятельность на посту командующего нелояльной и вышедшей из-под контроля» (с. 129). После этого Мейнард отправил в Военное министерство официальное заявление, в котором подтвердил лояльность карелов, хотя и подстраховал себя с помощью фраз, из которых ясно, что он не разделял абсолютную веру Вудса в полк:
Без сомнения, многие в полку были бы готовы связать свою судьбу с финнами, если бы последним удалось поднять успешное восстание, но ситуация сложилась так, что им этого не удалось. По всем внешним признакам весь Карельский полк оставался на нашей стороне, и сейчас все они утверждают, что у меня нет более преданных солдат, чем они. Они заявляют, что, оставшись на нашей стороне в критическое время, сейчас они вправе резко протестовать против обвинений в попытках мятежа. С этим согласны и все британские офицеры полка[266].
29 апреля «Таймс», еще больше запутав своих читателей, перепечатала заявление Военного министерства под заголовком «Непоколебимые карельские союзники».
Белогвардейская кампания, заключавшаяся в дезинформации и преследованиях, оказала влияние и на сам Карельский полк. Несмотря на искреннюю лояльность по отношению к Вудсу, дезертирство принимало все большие масштабы, особенно с приближением лета, когда стало ясно, что вскоре полк переведут под русское командование. К лету из первых добровольцев Вудса, принимавших участие в прошлогодней успешной кампании, в полку оставалось лишь несколько человек. В апреле и мае, как уже упоминалось выше, силы генерала Прайса наступали на юг, чтобы захватить прочный плацдарм против большевиков на северном берегу Онежского озера. Олонецкий батальон принимал участие в этой операции (во время которой были убиты двое из бывших офицеров Вудса, майор Дрейк-Брокман и лейтенант Мьюир)[267]. Однако на фронте Мурманск карелам не доверял.
3 мая Вудс был временно назначен командующим недавно созданного Кемского военного округа, а 11 мая это назначение было подтверждено[268]. Очевидно, это назначение имело целью смягчить последовавший удар. 20 мая Мейнард издал по силам «сирен» приказ № 31, в котором распорядился «реорганизовать» Карельский полк. В приказе, изданном за подписью второго штабного офицера Мейнарда, майора П. Дж. Маккези (который в феврале совершил инспекцию карельских частей и, в отличие от своего старшего коллеги Льюина, был хорошо настроен по отношению к Вудсу), признавалось, что карелы хорошо проявили себя в прошлом году в боях против немцев и белофиннов, но отмечалось, что «условия, в которых набирались первые добровольцы, совершенно изменились, и полк в целом не выполняет цели, которая бы оправдывала большие затраты на его содержание».
Приоритетная цель заключалась в «уничтожении» большевизма, поэтому реорганизация полка проводилась, чтобы дать возможность тем карелам, кто искренне хочет лучшей доли для своей страны, доказать, что они готовы внести свой вклад в восстановление закона и порядка, и дать им возможность в будущем, когда будет завершено восстановление и модернизация России, с гордостью указать на свой вклад в осуществление этой желанной мечты[269].
Вместо трех существующих батальонов полка (четвертый, как уже упоминалось, еще в марте слился с Олонецким полком) активную службу должен был нести только один Карельский добровольческий батальон, а другие подразделения переформировывались в саперно-строительные части, гарнизонную и пограничную охрану и невооруженный трудовой батальон. Добровольцев в их ряды предполагалось набирать только из Беломорской Карелии (все карелы, поступившие на службу на юге, приписывались к Олонецкому полку), а на довольствие они становились в русской армии. Приказ вступал в силу с 30 июня.
Как признался Мейнард в своих мемуарах, правда заключалась в том, что Карельский полк распустили, поскольку ему больше не доверяли[270]. Тот факт, что Вудс сохранил командование над новым полком и его звание полковника было официально утверждено через прессу (т. е. повышение на местном уровне, которое произошло в прошлом году, получило формальное подтверждение публикацией в лондонской «Газетт»), едва ли утешил его или приободрил горстку людей, которых он смог набрать, чтобы заменить первоначальных добровольцев. Назначение в полк новых британских офицеров, которые прибыли вместе с силами поддержки Черчилля и не были знакомы с условиями северной России, также не улучшило положение дел. Не стало оно лучше и в результате большевистской пропаганды среди местного населения и солдат полка.
В начале июня недавно прибывший офицер Королевских ВВС набросился на карельского солдата, а потом попытался добиться его ареста. Карельские войска выразили резкое несогласие, и дальнейших неприятностей удалось избежать лишь после того, как вызвали Вудса, который пообещал провести расследование этого инцидента. Даже после этого Добровольческий батальон «отказывался подчиниться приказу вернуться в казармы, пока полковник Вудс не вернулся и не объяснил им через Григория <Лежева>, что такие приказы должны выполняться». Это показывает, что карелы продолжали испытывать личное доверие к своему командиру. Он, в свою очередь, продолжал верить, что, если ему дадут немного времени, он сможет справиться с нынешними проблемами полка[271].
Для этого Вудс предпринял несколько мер. Во-первых, он выпустил секретную директиву для всех британских офицеров в округе, напоминая им о необходимости поддерживать свою собственную дисциплину и соблюдать правила приличия, чтобы служить примером для местных войск. Прежде всего, британский офицер не должен был гулять в общественных местах, засунув руки в карманы; прогуливаясь с дамой, он также не должен был «настолько увлечься взглядами и разговорами своей спутницы, чтобы не замечать приветствий проходящих мимо солдат». Настоятельно рекомендовалось как ему, так и его спутнице воздержаться от физических проявлений привязанности, поскольку такое поведение «является предметом насмешек, а не зависти наблюдателей»[272].
Во-вторых, Вудс предпринял шаги по противодействию большевистской агитации среди карельских добровольцев. В это время в гавани Попова Острова в устье реки Кемь стоял флагманский корабль американского адмирала Ньютона Э. Мак-Калли, на который и пало подозрение как на источник новых проблем[273]. 19 июня подполковник Мейклджон, один из офицеров разведки Мейнарда, отправился на корабль вместе с Вудсом и его русским переводчиком лейтенантом И. Менде, чтобы поговорить с адмиралом. Тот дал им разрешение подвергнуть экипаж перекрестному допросу. (И у Мейнарда, и у Айрон-сайда была своя служба разведки. Полковник С. Дж. М. Торнхилл, которого Вудс несколько раз упоминает в своих мемуарах, был начальником союзной разведки в Архангельске.) Вудс привел с собой карельского солдата, чтобы тот указал на человека, ответственного за беспорядки. «Один человек вызывал сильные подозрения, — осталась запись и журнале генерального штаба, — но никаких мер принять не удалось, гак как карельский солдат, казавшийся весьма напуганным, отказался указать на него». Тем не менее адмирал согласился помочь, пообещав проверить всех американцев, которые говорили по-русски, на судах под его командованием[274]. Этот эпизод также описан в мемуарах Вудса (см. с. 149-150).
Штаб-квартира союзников планировала отправить Карельский добровольческий батальон в центральную Карелию в начале июля, чтобы подготовить его к действиям против большевиков. Однако к началу месяца Вудс был все еще обеспокоен недисциплинированностью своих подчиненных. 2 июля он послал Мейнарду телеграмму, объясняя высокий уровень дезертирства сельскохозяйственным сезоном и большевистской пропагандой, и попросил, чтобы были увеличены рационы для его солдат и их иждивенцев, а также решены проблемы с распределением продовольствия[275].
В частной переписке Вудс объяснил недовольство карелов отношением к ним нового командира Карельского добровольческого батальона, подполковника X. С. Филселла. Вудс описал их конфликт в своих мемуарах («Майор Филселл во многих отношениях был отличным офицером … однако его десятилетний опыт службы в Королевском полку африканских стрелков … сослужил плохую службу, когда ему пришлось командовать этими жителями севера», с. 148), однако степень их вражды и ее последствия более четко прослеживаются в его личных бумагах и военных документах.
2 июля Вудс послал Филселлу откровенное письмо (оно приводится в Приложении С данной книги), в котором очень неодобрительно отозвался о высокомерии, которое новые британские офицеры проявляли по отношению к карелам: «Я знаю, на что они способны, — писал Вудс, не скрывая ярости, — и если с ними обращаться, как с “белыми людьми”, они и будут вести себя соответствующим образом — достойнее, чем многие другие люди, у которых были шансы получше». Он особенно выделил капитана Николая Рогиева (которого ошибочно называет в своих мемуарах Николаем Петровым), одного из ветеранов ухтинской кампании, за его опыт лесных боев, его «исключительные качества» как командира и его «идеальное вплоть до каждой буквы» знание российского военного устава. «Поэтому, — резко заканчивал письмо Вудс, — если вы будете продолжать вести себя с ним, как с невежественным дикарем, — что же, значит, вам недостает мозгов в вашей собственной голове»[276].
5 июля Карельский добровольческий батальон был выстроен на площади в Кеми, и к нему обратились генерал Мейнард и главнокомандующий белогвардейскими силами генерал Марушевский. «Я не могу понять, — заявил Марушевский, — как вы, мужчины, имеете наглость считать, что союзники оденут вас и дадут денег, что они будут сражаться за вас в вашей стране, пока вы, как трусы, болтаетесь здесь без дела»[277]. Мейнард ругал карелов не менее жестко, называя их «невежественными дураками» и «посмешищем», и напомнил им, что дезертирство карается смертной казнью (речь Мейнарда приведена в Приложении D).
Вудс, должно быть, тяжело воспринял разнос, учиненный карелам двумя старшими офицерами, пусть даже собравшиеся здесь люди были, по большей части, недавними новобранцами и никто открыто не говорил, что нынешнее недовольство командования связано с его участием в местных политических интригах в течение зимы. Мейнард тонко чувствовал настроение Вудса. Он настроен, сказал он его подчиненным, дать им еще один шанс, «главным образом ради полковника Вудса, который уже в течение года выбивается из сил для вашего блага и который очень разочарован вашим поведением». Те, кто не хотел остаться в батальоне, могли сдать оружие и вернуться домой. Однако ушедшие снимались как с армейского, так и с гражданского довольствия и могли быть немедленно призваны в белогвардейскую русскую армию. Поскольку перспектива перехода под русское командование была одной из причин волнений среди карельских солдат, это едва ли было желанной альтернативой. Карелы снова попали в безвыходную ситуацию.
О том, что Мейнард почувствовал беспокойство Вудса, свидетельствует утешающая записка, которую он написал своему подчиненному через три дня. Ее стоит процитировать полностью, поскольку она поможет понять характер обоих офицеров:
Мой дорогой Вудс, мне очень жаль слышать, что вы так расклеились, и я надеюсь, что в самое ближайшее время вы снова будете в хорошей форме. Я знаю, вас глубоко волнует все, что имеет отношение к карелам, и из-за всего этого вы сейчас смотрите на мир предвзятым взглядом. Однако вы не должны принимать проблемы ваших приятелей слишком близко к сердцу. Меня, разумеется, это расстраивает, но вас еще больше, и я это полностью понимаю. В то же время вы и так сделали все, что могли, чтобы это представление завершилось успехом, и нельзя винить в частичной неудаче того, кто сделал все, что мог, — как, без сомнения, сделали вы. Кроме того, возможно, нам еще удастся сделать из карелов нечто большее, чем мы можем представить себе сейчас. В любом случае, не хочу и думать, что вы так беспокоитесь из-за этого. Мне не удавалось сделать массу вещей, которые я хотел сделать, но я знаю, как и вы, что я старался изо всех сил, и поражение меня не беспокоит. Поторопитесь поправиться и снова стать таким же жизнерадостным, как обычно. Искренне ваш, Ч. М. Мейнард[278].
В своих мемуарах Мейнард также делает великодушный вывод из беспокойной истории Карельского полка. «Теперь, когда мои дикие и недисциплинированные солдаты Карелии, наконец, покидают мой рассказ, — писал он, — я рад думать, что самое главное место в моей памяти все же занимает их былое величие»[279].
11 июля Карельский добровольческий батальон, в который входило 13 британских офицеров и всего лишь 285 военнослужащих других званий, отправился на поезде из Кеми по 11-му пути (в центральной Карелии) и затем походным маршем добрался до Повенца на северном берегу Онежского озера, чтобы подготовиться к боевым действиям[280]. Неделю спустя конфликт Вудса с Филселлом вышел наружу. Вудс подал майору Гроуву из штаба 237-й бригады жалобу на то, что Филселл «продолжает обращаться с карелами как с неграми — отношение, которое крайне возмущает как офицеров, так и солдат». Вудс утверждал, что он пытался найти почву для примирения во мнениях, но тщетно (неудивительно, учитывая тон его письма от 2 июля). После этого Филселл подал заявление об отставке, и Вудс рекомендовал штабу бригады принять ее. Он предложил, чтобы на место Филселла был назначен капитан Дж. Б. Ноэль, один из ротных командиров[281].
Тем временем массовое дезертирство карелов из нового формирования продолжалось, поскольку приближалась передача командования над ним русской армии. Согласно мемуарам Вудса, двое последних карельских офицеров, его надежные и верные товарищи Григорий Лежев и Николай Рогиев покинули батальон примерно в это время (см. с. 149). 5 августа генеральный штаб сделал запись: «Карельский саперно-строительный батальон прекратил свое существование»[282].
Однако к востоку от Карелии британцев поджидали гораздо худшие неприятности. В то время как генерал Скобельцын и бригадный генерал Прайс наступали — без Карельского полка — на юг вдоль западного берега Онежского озера, Архангельский фронт был охвачен серией восстаний. 20 июля 5-й русский пехотный полк под командованием полковника Эндрюса, стоявший в городе Онега (название может ввести в заблуждение — он стоит на южном берегу Белого моря), целиком перешел на сторону большевиков. Потеря Онеги и окружающей территории создала клин между мурманскими и архангельскими силами, что угрожало их коммуникациям и успешному взаимодействию в наступательных операциях, предшествующих скорому отступлению. (Довольно любопытную информацию приводит Вудс в своих мемуарах, согласно которой полковник Эндрюс после освобождения из большевистской тюрьмы был убит в 1923 г. в гараже, которым он владел совместно с Ф. П. Крозье, с. 154).
Мейнард понимал, что Вудс лучше всего действует независимо, командуя нерегулярными войсками, которые он может использовать очень гибко. Он также знал, что Вудс был глубоко огорчен и расстроен проблемами с Карельским полком. Штаб-квартира 237-й бригады в это время расследовала конфликт с Филселлом, но Прайс не был настроен следовать рекомендациям Вудса (он уже знал, что ольстерец был весьма упрям и имел трудный характер), да и в любом случае момент для отзыва опытного офицера был неподходящий, ведь именно в это самое время он готовил своих подчиненных к сражению.
По этой причине Мейнард решил поставить Вудса во главе небольшого отряда и отправить его в Сумский Посад к юго-востоку от Сороки. Там он должен был найти дополнительных добровольцев и организовать оборонительную линию для защиты Мурманской железной дороги, чтобы не допустить наступления большевиков на запад, а потом сам атаковать в восточном направлении, чтобы восстановить коммуникации между двумя фронтами. 25 июля Вудс выехал из Кеми[283].
Это было жизненно необходимое, но опасное задание. То, что Мейнард доверил его Вудсу, доказывает, что он сохранил уверенность в командирских способностях своего подчиненного. Это был также умный ход, с помощью которого его убрали с дороги. Вудс сохранил командование над Карельским полком (как и над всем Кемским округом), но, будучи занятым этой операцией, он уже не имел возможности вызвать дальнейшие проблемы или обиды в новой структуре полка. Формально Вудса не лишили его командирской должности, но свой полк он уже потерял.
Это позволило Прайсу оставить Филселла на его посту. В конце концов, он с успехом повел Карельский добровольческий батальон в битву в середине сентября. Позже бригадный генерал сообщил Мейнарду, что перед Филселлом «стояла трудная задача, учитывая то, что почти все его солдаты были недавними новобранцами. Под моим командованием он добился хороших результатов <…> У этого офицера есть дар военной подготовки, он умеет командовать и является способным и энергичным»[284]. Нельзя представить мнение, более резко противоречащее взглядам Вудса.
Между тем Мейнард был не менее доволен операцией Вудса в Сумском Посаде:
Он оказался именно тем человеком, который был нужен для этой работы <писал Мейнард в своих мемуарах>, и через несколько дней ему удалось собрать внушающий уважение отряд. Мне неизвестно, кем они были и как он их раздобыл, а от нескромных расспросов я уклонился. Возможно, некоторые из них были его старыми карельскими друзьями, притянутыми к нему связями общего прошлого, другие, скорее всего, были русскими, которые либо пренебрегли приказами о мобилизации, либо не попали под призыв по возрасту[285].
Мейнард попал в точку. Вудсу удалось собрать немного местных бойцов (в своих мемуарах он пишет, что рекрутировал «нескольких дюжих женщин и одного мужчину, насчет которого <капитан> Лак предположил, что мы “выкопали его из могилы на кладбище”», с. 156), но среди его тайных товарищей был Григорий Лежев. Он привел с собой несколько старых карельских добровольцев, которые до этого вернулись домой, отказавшись служить вместе с Филселлом и укрывшись от принудительного набора в русскую армию. Примечательна их верность Вудсу — эти люди сражались против сил большевиков на стороне союзников, хотя никакой выгоды из этого они извлечь не могли; при этом, если бы их обнаружили белогвардейцы или задержали британские войска Прайса, они были бы расстреляны как дезертиры. Позже к Вудсу присоединилась и группа сербов[286].
Эти разношерстные партизанские силы заняли деревню Нюхчу к юго-востоку от Сумского Посада и успешно отразили контратаку большевиков, как описано в мемуарах. Затем 7 сентября красные силы ушли из Онеги, куда вошли войска Айронсайда из Архангельской группы, таким образом, вновь соединив два фронта.
14 сентября, накануне эвакуации, майор Маккези подписал приказ, который окончательно распускал Карельский добровольческий батальон. Все солдаты, подлежавшие призыву на военную службу, переводились в белогвардейскую армию. Карельские трудовые роты и роты гарнизонной охраны передавались белогвардейцам без расформирования. 19 сентября Вудс сдал командование над районами Сороки и Сумского Посада русским офицерам и вернулся в Кемь, чтобы заняться организацией подготовки к эвакуации[287]. Когда 29 сентября он, наконец, сел в Кемском порту на борт судна, идущего в Мурманск, и 3 октября отправился домой в Британию, он осознавал, как писал в своих мемуарах, что, несмотря на его собственные военные победы, интервенция закончилась «совершенно неудовлетворительно».
* * *
Интервенция союзников и особенно руководство и одобрение Вудса вселили в карелов надежды на возможность добиться признания своих прав на самоопределение согласно принципам, по которым шло послевоенное переустройство остальной Европы. Если бы союзники, выполнив свою первоочередную цель по сдерживанию германского наступления на берег Северного Ледовитого океана и переброски немецких войск на западный фронт, после этого придерживались строгого нейтралитета в гражданской войне в России или настояли на своих мирных инициативах с большей твердостью и беспристрастностью, карелам, возможно, удалось бы хотя бы привлечь внимание мировых держав к своему вопросу, прежде чем стало слишком поздно.
Однако с самого начала цели интервенции формулировались неопределенно — как мы видели, ее движущей силой были не только стратегические соображения, касающиеся Германии, но и отвращение, которое многие политические и военные лидеры союзников испытывали по отношению к режиму большевиков, их целям и мировоззрению. Таким образом, союз Антанты и белого движения совмещал политические принципы и оппортунизм. Это также вынудило их отодвинуть на второй план и отвергнуть требования местного карельского населения, хотя карельские войска в значительной степени помогли союзникам достичь того, что считалось основной стратегической целью их вмешательства, и сдержали немецкие силы. Вудс был крайне возмущен несправедливостью и беспринципностью британских имперских властей, проявившимися в игнорировании того, что ему казалось справедливыми требованиями притесненных, подвергавшихся преследованиям и тем не менее отважных людей, а также симпатизировал карелам в их неприятии как русского империализма, так и финской алчности.
Финал мемуаров Вудса, в котором говорится, что карелы «заключили с Советами мир на условиях предоставления им статуса “автономной республики”» (с. 168), является понятной, но неправильной интерпретацией дальнейшей истории региона. В реальности поддержка, оказанная союзниками белогвардейцам, толкнула карельских националистов обратно к Финляндии. Больше они так и не смогли проводить действительно независимую политику.
В течение первой половины 1919 г. профинские карельские эмигранты, такие как Пааво Ахава, придерживающиеся ярко выраженной антибольшевистской (а также антирусской) программы, поддержали новое белофинское вторжение в Олонецкую Карелию как кампанию за освобождение и выступили против более независимой позиции Карельского национального комитета в Кеми[288]. К лету 1919 г. профинские карелы вновь доминировали в национальном движении, так как и боевой дух, и численность активистов, собравшихся в полку Вудса или вокруг него, были ослаблены проводившимися белогвардейцами арестами, убийствами (как в случае с сыном Пааво Ахава, Ииво) и высылкой, чему потворствовало и даже содействовало британское командование.
Съезд карелов, состоявшийся 21 июля в Ухте, ратифицировал резолюцию февральского съезда и учредил «Временное правительство Беломорской Карелии», которое заменило более не существующий Национальный комитет (пятеро его членов были мертвы или находились» изгнании). Новое Временное правительство ориентировалось исключительно на Финляндию[289]. Летом союзники перестали поставлять карелам запасы продовольствия (чем им угрожал генерал Мейнард).
Поскольку у белого движения не было желания, возможности и намерения оказать помощь, местное население все больше и больше зависело от поставок продовольствия из Финляндии через границу. Поставки материальной помощи в деревни Беломорской Карелии стали дополнительным обоснованием финских претензий на эту территорию.
После эвакуации союзников Карельское временное правительство решило организовать сопротивление большевикам, наступавшим с юга, а также распределить между населением финскую помощь, все это в условиях непрекращающейся враждебности, вмешательства и репрессий со стороны белого движения. Даже в конце 1919г., когда белогвардейское правительство генерал-губернатора Миллера находилось на грани распада, оно все так же отказывалось признать Карельское временное правительство (хотя в тот момент Миллер уже предлагал карелам ограниченную автономию в составе России взамен на военную поддержку — возможно, что кемские активисты полка Вудса приняли бы это предложение, если бы к тому времени белогвардейцы не уничтожили их влияние). После того, как профински настроенные карелы решили не ввязываться в междоусобный конфликт между белыми и красными, 23 февраля 1920 г. большевики сокрушили последние оставшиеся белогвардейские силы в Мурманске.
Даже в отсутствие белогвардейцев большевики все еще слабо контролировали этот регион, а финские войска продолжали оккупировать ряд районов Олонецкой Карелии, поэтому какое-то время казалось, что у Карельского временного правительства в Ухте появился шанс. В январе 1920 г. оно провозгласило независимость Карелии и начало подготовку к народным выборам в Карельское учредительное собрание, которые должны были состояться в конце марта. В перспективе планировалось организовать референдум по вопросу вхождения в Финляндию на правах автономного региона. Однако 19 марта Красная армия заняла Ухту. Под пристальным вниманием большевиков 120 представителей из двенадцати карельских районов встретились, чтобы обсудить будущее своей родины. Несмотря на данные правительством Ленина обещания, что Советская Россия предоставит региону автономию, Карельский съезд решил отделиться от России, после чего провести референдум о конституции, а пока потребовал, чтобы красноармейские части покинули Ухту. Они временно уступили требованиям, но 18 мая вернулись, заставив Временное правительство бежать в Финляндию. Там оно и осталось, в течение последующих двадцати лет организовывая кампании, заговоры и время от времени обращаясь в Лигу Наций.
Тем временем 7 июня красные финские активисты, поддержанные Красной армией и Лениным, торжественно провозгласили создание Карельской Трудовой Коммуны, в которой объединялись Олонецкая и Беломорская Карелии. Ей была предоставлена значительная автономия в самоуправлении и экономике, однако карельские «мелконационалистские» устремления были подчинены более глобальной цели финских «революционных националистов» — построению «Великой Красной Финляндии»[290]. Концепция карельской идентичности, которой придерживались красные финны, на деле немногим отличалась от аналогичной концепции белофинских националистов. Программа культурного развития, проводимая в Карельской Трудовой Коммуне, которая в 1923 г. была повышена до статуса автономной республики, ориентировалась на стандартный финский язык и имела целью ускорить «эволюцию» «отсталых» карелов в полноценных современных финнов.
Финское правительство осторожно признало эту форму национальной автономии, хотя и испытывало подозрения по поводу ее политической окраски, отвело свои войска и отказалось от территориальных претензий, чтобы заключить мирный договор с Советской Россией в октябре 1920 г. Карельские крестьяне сами подняли восстание против советской власти зимой 1921-1922 гг. Оно было поддержано белофинскими активистами, которые позже не сумели доставить подкрепления или материальную помощь и бежали, а карельское восстание было жестоко подавлено Красной армией, в которую входило значительное число подразделений красных финнов.
В течение следующих двух десятилетий советское правительство забрало большую часть автономных привилегий, которые изначально получила «Карельская» автономная республика. Уже к концу 1920-х гг. обширные территории в центральной Карелии были покрыты сетью исправительно-трудовых лагерей, включавшей зловещую тюрьму в Соловецком монастыре. В течение следующих десяти лет карельский ГУЛАГ вырос еще больше[291]. Кемское здание, в котором жил Вудс во время своего недолгого пребывания в северной России, стало штаб-квартирой главного транзитного пункта для принудительных переселенцев, обреченных на тяжелый труд (а многие — и на смерть) в карельских лесах. Индустриализация принесла с собой в Карелию не только заключенных, но и огромное количество новых русских рабочих, в результате чего национальное население превратилось в незначительное меньшинство на своей собственной территории[292].
В 1935 г. Иосиф Сталин удалил красных финнов из руководства Карелией (большинство из них были расстреляны в течение нескольких следующих лет) и какое-то время поддерживал «советское карельское» культурное развитие, что вызвало спешное создание письменного карельского языка, который во многих отношениях (включая использование кириллического алфавита) необъяснимым образом напоминал русский язык в его советском варианте[293]. В течение нескольких лет младшие карельские школьники учились читать Пушкина и Сталина на карельском языке. В январе 1938 г. финский язык в Карелии был запрещен.
Эксперимент продолжался всего два года. Когда Советский Союз начал Зимнюю войну против Финляндии в декабре 1939 г. (для подготовки к ней строились протяженные укрепления вдоль карельской границы, о чем упоминает Вудс в конце своих мемуаров), он вновь восстановил власть финских коммунистов над Карелией — хотя, за исключением хитрого Отто Куусинена, пережившего репрессии, Сталину было весьма трудно найти уцелевших красных финнов, которых можно было бы назначить в республиканское руководство. В начале 1940 г. Карелия была повышена в статусе до уровня союзной республики (т. е. тот же административный уровень, что Россия, Украина и т. д.) и переименована в Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику в надежде на то, что восточная Карелия в сочетании с маленькой полоской земли, которую захватила Красная Армия в кампании, оказавшейся за этим исключением крайне неудачной (возврата этих территорий с того времени и до сих пор требует небольшое, но шумное карельское лобби в Финляндии), сможет сформировать ядро будущей социалистической Финляндии.
В этом отношении карелы вновь были сведены до подкатегории большей существующей нации, их устный язык был проигнорирован ради чьего-то другого письменного языка, а их территория отдана другому государству, как происходило в течение всей их истории. (В 1956 г. советский лидер Никита Хрущев вернул региону его прежний статус автономной республики в составе РСФСР). Лишь в течение нескольких месяцев 1918-1919 гг. при помощи и поддержке Вудса карелы, объединившись под зелено-оранжевым флагом с трилистником, пытались осуществить мечту об отдельной, выбранной ими самими судьбе.
ГЛАВА 8. ПРИБАЛТИЙСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ. ЛИТВА, 1919-1920 гг.
По всей Европе огромные массы демобилизованных людей, заново искавших свое место в гражданской жизни, создавали социальную и политическую дестабилизацию. Проблемы мирной жизни включали в себя экономический кризис, безработицу и инфляцию. В Британии была разрушена традиционная классовая система, основанная на почтительности. Рядовые вернулись домой к обещанному «дому, достойному своих героев», где обнаружили, что правящие классы не способны или не хотят удовлетворять их требования и нужды. Покинувшая навсегда офицерские столовые новая каста «временных джентльменов», людей из рабочего и низшего среднего класса, заработавших офицерские звания во время войны, возмущенно восприняла попытки вернуть их обратно в прежний социальный статус[294]. Во всей Европе горечь и ощущение предательства, которые испытывали миллионы бывших военнослужащих, создавали новую радикальную массовую политику как крайне правого, так и крайне левого толка.
Филиппа Вудса вряд ли можно было назвать «временным джентльменом»: до войны у него была профессия, а семья его брата и его родственники со стороны жены были видными и богатыми членами ольстерского общества. Однако, вернувшись из северной России в Белфаст в октябре 1919 г., он также обнаружил, что его будущее покрыто туманом. В Ольстере, как и везде, льняная торговля находилась в кризисе из-за внезапного отзыва правительственных контрактов после войны и из-за нехватки исходных материалов, особенно льна. Северная Ирландия вступила в длительный период экономического спада[295]. Хотя бизнес Роберта Вудса выжил, его младший брат столкнулся с малоприятной перспективой безработицы, так как заказов становилось все меньше. В любом случае, у Филиппа Вудса не было желания возвратиться к работе в офисе или снова осесть, зажив семейной жизнью буржуа. Он был солдатом и военным лидером. Через несколько недель после возвращения Вудс узнал, что его бывший командир Ф. П. Крозье только что отправился в Литву. Он подписал контракт, согласно которому должен был организовать недавно появившуюся на свет армию этого младенческого государства, рожденного в хаотическом распаде Российской империи, против стран, желавших удушить его независимость еще в колыбели. Вудс (получив разрешение Военного министерства) также подписал контракт и присоединился к этой миссии.
История прибалтийских государств в этот период является настолько запутанной, что в сравнении с ней карельский конфликт кажется более чем ясным[296]. Здесь достаточно будет сказать, что литовцы, у которых были более веские исторические основания претендовать на государственность и особую этническую идентичность по сравнению с карелами и которых финансировала крупная североамериканская диаспора, смогли с большей убедительностью отстаивать свою независимость. Именно на Парижской мирной конференции в августе 1919 г. делегация нового, еще не признанного литовского государства вошла в контакт с Крозье (который оказался в Париже для награждения орденом Военного Креста) и попросила его помощи в организации их новой армии[297].
Крозье ушел в отставку из британской армии в конце июля после двух «неприятных» месяцев в южной Англии, когда он руководил демобилизацией и усмирял волнения среди солдат, которым не терпелось вернуться домой[298]. Он находился в списке Министерства иностранных дел в качестве кандидатуры на дипломатическую работу на Ближнем Востоке, но с радостью принял приглашение от литовцев на условиях, что ему и офицерам, которых он возьмет с собой, будут платить по тарифу британской армии[299]. Позже Крозье вспоминал, что все они «предвкушали возможность полезной службы в трудные времена, когда казалось, что с влиянием большевизма, распространявшимся во всем мире, лучше всего бороться путем осторожного продвижения британского влияния»[300]. Вне сомнения, они не представляли себе всех тех политических, военных и дипломатических интриг, в которые им сразу же пришлось окунуться.
Литва только что изгнала из своих границ войска Советской России, однако ей приходилось сражаться против других врагов на двух фронтах. С одной стороны, ей угрожали мародерствующие батальоны «Фрайкорпс», состоявшие из немецких добровольцев, которых набрал генерал фон дер Гольц после того, как в результате перемирия между Антантой и Германией он оказался в подвешенном состоянии в Финляндии (многие из бойцов «Фрайкорпс» позже стали уличными бойцами Гитлера и вошли в его ударные отряды). Эти нерегулярные силы стремились сохранить господство Пруссии над Прибалтикой, попутно не отказывая себе в удовольствии необузданного насилия — привычка, которую они приобрели в годы Первой мировой войны. С другой стороны, перед Литвой стояла угроза со стороны польских войск, которые с апреля оккупировали город Вильно (Вильнюс) и прилегающие территории[301].
В течение лета и осени польская делегация в Версале предъявила дальнейшие территориальные претензии к своему новому соседу. США, Франция и Британия, ведущие споры по поводу оптимальной политики в Прибалтике, с помощью которой они могли бы успокоить Польшу, не допустить союза Советской России и Германии и не восстановить против себя белогвардейское Северо-Западное правительство, готовившее наступление на советский Петроград, поспешили признать независимость прибалтийских стран. В самой Литве боролись за власть многочисленные политические и военные группы, причем некоторые из них были связаны с зарубежными государствами и силами. Население в целом и армия в частности испытывали беспокойство, и некоторые группы искали спасения в крайнем национализме, в то время как другие — в коммунизме.
Крозье прибыл в Литву в сентябре. Здесь он получил должность Главного инспектора литовской армии и стал военным советником в правительстве. Вудс прибыл в ноябре и был назначен в литовский генеральный штаб в качестве инспектора вооруженных сил в Ковенский район[302]. Первоначально казалось, что литовцы вынашивали планы по созданию Англоязычного легиона, который насчитывал бы до тридцати тысяч добровольцев — их предполагалось набрать преимущественно из литовских эмигрантов в США в обмен на высокую зарплату и выделение земельных участков после окончания службы. Эти вооруженные силы должны были сотрудничать с национальной армией генерала Сильвястраса Жукаускаса, чтобы заняться «работой по восстановлению и развитию… и помочь очистить страну от всех зарубежных сил»[303]. Скорее всего, Крозье и его подчиненные должны были сыграть ведущую роль в организации и подготовке легиона.
Литовскому правительству удалось найти один миллион долларов на это предприятие, но вместо этого решено было использовать собранные деньги на реорганизацию, подготовку и вооружение своей собственной регулярной армии[304]. На выполнение этого задания и была направлена группа Крозье[305]. К середине декабря литовские войска выгнали германских искателей приключений и сдерживали новое наступление большевиков, которое последовало за поражением белогвардейского наступления генерала Николая Юденича на Петроград месяцем ранее. Несмотря на эти успехи — а возможно, как раз из-за них, — Крозье и его подчиненные вызывали антагонизм в определенных политических и военных кругах Литвы, возглавляемых премьер-министром Аугустинасом Вольдемарасом. Эти круги были недовольны привилегированной позицией — особенно высокими зарплатами — британских офицеров (чья страна еще не признала формально независимость Литвы) в их собственной национальной армии и противодействовали реформам, которые пытались провести иностранцы[306]. Генерал Жукаускас, поддерживавший Крозье и его людей, устал от постоянных козней своих противников и в разочаровании подал в отставку.
Большую часть декабря Крозье отсутствовал, участвуя в различных военных конференциях, и можно предположить, что полковник Мьюирхед, его начальник штаба, и Вудс стали основными мишенями для заговоров и пропаганды. Должность регионального армейского инспектора, которую занимал Вудс, включала в себя приобретение формы, оружия и боеприпасов, а также поставку продовольствия и делала его особенно уязвимым для интриг и сплетен, распускавшихся коррумпированными литовскими офицерами и чиновниками, которые негодовали на то, что он разрушает их спекулятивные махинации. На фотографии, где изображена группа британских офицеров в литовской форме, Вудс сидит довольно безвольно, а в выражении его лица смешивается усталость, легкая озадаченность и стоицизм, в то время как Крозье рядом с ним выглядит важным и гордым, но немного огорченным.
Крозье признавал эту проблему. «Вернувшись в Ковно, — вспоминал он позже, — я обнаружил, что это место бурлит. Нам прислали гораздо больше британских офицеров, чем было нужно мне, и литовцы просто не могли позволить себе платить им всем. Некоторые из присланных оказались совсем неподходящими людьми, которые стремились исключительно к выгоде»[307]. Он постарался найти решение и отослал домой кое-кого из своих новых подчиненных, оказавшихся не подходящими по профессионализму или по мотивам, а оставшимся уменьшил зарплату. Это был единственный разумный выход. После своего назначения Крозье получал месячную зарплату в размере пятидесяти тысяч литовских марок, в то время как зарплата литовского генерала на аналогичной должности составляла всего 1 800 марок[308].
Тем временем Крозье приказал своему штабу прекратить работу, пока не будет достигнуто соглашение.
Британские офицеры в литовской военной форме, осень 1919 г. Крозье — третий слева в первом ряду, Вудс — четвертый слева в первом ряду
То, что британские офицеры приостановили активную деятельность, не удовлетворило их критиков. В начале февраля 1920 г. помощник британского уполномоченного в прибалтийских странах доложил лорду Керзону, что «ситуация с этими офицерами, наконец, начинает продвигаться после длительного периода довольно неприятных переговоров и тяжелого напряжения. Опасаюсь, что в течение этого времени престиж британских офицеров не вырос». В результате Крозье уволил всех своих подчиненных, оставив лишь двоих. Нам известно, что Вудс был одним из них. Это свидетельствует о том, что он сохранил доверие своего бывшего командира. Трое оставшихся британских офицеров вместе с четырьмя недавно прибывшими согласились получить урезанную зарплату[309]. Их патрон генерал Жукаускас был вновь назначен главнокомандующим. Лондонская «Таймс» сообщила, что «Крозье все еще сохранил полное доверие правительства, несмотря на тот факт, что со многих сторон против него ведется активная пропаганда»[310].
Однако прошел лишь месяц, и Крозье подал заявление об отставке — он был убежден, что литовское руководство «надуло» его, и не собирался больше быть «пассажиром на этом корабле»[311]. Вскоре он вернулся в Британию вместе с большинством своих офицеров. Согласно имеющимся сведениям, Вудс задержался в Ковно на несколько месяцев либо неофициально, либо как инструктор, получавший зарплату в британской армии[312]. Крозье не затаил обиды на литовскую нацию из-за поведения нескольких ее политиков и продолжал лоббировать ее интересы в британском правительстве, парламенте и прессе[313].
11 апреля литовский парламент, признав «различия во мнениях», тем не менее принял резолюцию, в которой содержалась «благодарность и выражение признательности страной генералу Крозье и полковнику Мьюирхеду за их работу и усилия на благо нового государства в последние семь месяцев, в течение которых помощь этих офицеров в борьбе против немцев и большевиков, силой оккупировавших нашу страну, оказалась неоценимой». Он также поблагодарил Крозье и Мьюирхеда за успешную помощь в налаживании взаимопонимания между литовцами, поляками и латышами[314].
Вудс, который по старшинству был вторым среди британских офицеров в Литве и сидел рядом с Крозье в центре их общей фотографии, не упомянут в этой официальной резолюции. Так, по неизвестным причинам (а возможно, и без каких-либо особых причин), история снова прошла мимо Вудса, не заметив его.
ГЛАВА 9. БЕЛФАСТСКИЙ БОЕВОЙ ПОЛКОВНИК. ПОЛИТИКА И ПАРЛАМЕНТ В СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
Когда весной 1920 г. Вудс вернулся из Прибалтики в Белфаст, он обнаружил, что провинция охвачена волнениями. Не только в Восточной Европе с новой силой и невиданной жестокостью прорезались старые политические конфликты, националистические движения и территориальные споры, когда вернулись люди, приученные к насилию на фронте и готовые убивать дома. Обострившаяся религиозная борьба в Северной Ирландии вынудила Карсона в июле 1920 г. возродить Добровольческие силы Ольстера. Теперь противником вооруженных добровольцев-юнионистов Северной Ирландии выступали хорошо организованные силы Ирландской республиканской армии (ИРА), которые успели перегруппироваться на юге после жестоко подавленного националистического Пасхального восстания 1916 г. Излюбленной тактикой обеих сторон был поджог[315].
Пока Ольстер был объят пламенем, в самой Британии «Оранжевое зарево в Белфасте» воспринималось с растущим беспокойством[316]. В попытке сдержать и направить в нужное русло народную активность премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж решил в конце осени того же года организовать Специальную полицию Ольстера, в которую входили «специалисты А», работавшие на постоянной основе, «Специалисты В», которые работали неполный день и не получали зарплаты (хотя и носили форму), и резервные «Специалисты С». Рядовые и офицеры Добровольческих сил Ольстера в массовом порядке вступили в новую организацию, которая, таким образом, превратилась в «официально разрешенную протестантскую военизированную полицию»[317].
Тем временем Акт о правительстве Ирландии, принятый 25 февраля 1920 г. (на основе Билля о Гомруле 1914 г., исполнение которого, напомним, было отложено до окончания войны), должен был привести к политическому разрешению кризиса. Этот акт, принявший силу закона 23 декабря и вступавший в силу с 3 мая следующего года, создавал два ирландских парламента. Двадцать шесть южных графств получали статус доминиона в границах Британской империи. Шесть графств северо-восточного Ольстера оставались в составе Соединенного Королевства и получали ограниченные права самоуправления, переданные им британским парламентом[318]. В действительности парламент Северной Ирландии был не более чем «почетным советом округа», зажатым между беспокойной местной властью с одной стороны, и верховным имперским парламентом в Вестминстере — с другой[319]. Многие юнионисты не были удовлетворены решением ни конституционных, ни территориальных вопросов[320].
24 мая 1921 г. в Ольстере состоялись первые выборы в парламент Северной Ирландии. Джеймс Крэйг, недавно сменивший Карсона на посту руководителя Юнионистской партии, опасался, что белфастское рабочее движение расколет лагерь лоялистов, особенно при текущей системе пропорционального представительства. Его страхи оказались беспочвенными: в результате народного голосования в парламент прошли сорок юнионистов и двенадцать националистов и членов. Шинн Фейн[321]. Однако ни выборы, ни официальная инаугурация парламента в Пресвитерианском колледже в Белфасте 22 июня 1921 г. не привели к прекращению религиозного насилия.
Отчасти это насилие было отражением гражданской войны на юге, в которой Ирландская республиканская армия столкнулась с британской армией и добровольцами, набранными в 1920 г. для помощи британским силам. Эти нерегулярные силы, «черно-рыжие» (названные так из-за цвета своей формы)[322] и Вспомогательная дивизия, были набраны из недавно демобилизованных военнослужащих: первое подразделение — из рядовых, второе — из офицеров. В их ряды стекались такие же беспринципные искатели приключений, как мародерствующие немецкие Freikorps, заслужившие дурную славу в прибалтийских войнах того времени.
В июле 1920 г. министерство по делам Ирландии пригласило Ф. П. Крозье на должность командира Вспомогательной дивизии. Несмотря на жесткость и властолюбие, Крозье также был человеком твердых принципов, верившим в дисциплину, порядок и трезвость. Вскоре британские правительственные чиновники начали жалеть об этом назначении. В течение нескольких месяцев Крозье пытался обуздать дикие, часто пьяные войска, которые мародерствовали, пытали, грабили и сжигали все на своем пути в южной Ирландии. В феврале 1921 г., всего лишь через шесть месяцев после своего назначения, Крозье подал прошение об отставке, когда британское правительство отказалось принять меры против двадцати шести офицеров, которых он обвинял в поджогах и грабежах[323].
Забрасываемый грязью со всех сторон, бывший командир Вудса провел несколько лет в публичной борьбе, пытаясь очистить свое имя от ассоциации с жестокими действиями своих войск и донести до сведения общества степень соучастия правительства[324]. В 1923 г. Крозье выдвинул свою кандидатуру в британский парламент, «чтобы привлечь внимание к дефектам британской бюрократии». Он испытывал злость на то, что «рядовых военнослужащих британской армии намеренно убирают со сцены после войны», и хотел добиться, чтобы «избиратели из светских гостиных, будуаров и комнат для курения — в общем, все самодовольные представители высших классов — получили самый памятный урок в своей жизни». Хотя Крозье и отвергал классовое деление в политике, он решил выдвинуть свою кандидатуру от Лейбористской партии, поскольку верил, что эта партия представляет «лучшие элементы уже не существующих британских армий, которые принесли нам победу на поле боя».
Ему не удалось пройти в парламент, и в своих мемуарах, написанных в 1930 г., он признавался, что с тех пор он отстаивал интересы «униженных и оскорбленных» и не был связан ни с одной партией, а его попытка заняться парламентской политикой была наивной ошибкой[325]. Захватившие ее политики и парламентские партии, интересовавшиеся лишь своими делами, держали власть мертвой хваткой и не испытывали желания спасти бывших военнослужащих от разжигания войны, безработицы, бездомности и несчастий, вызываемых продажей алкоголя, а империю — от катастрофы. «В эти времена, — писал он в 1930 г., — нужны настоящие люди». Нации требовался «лидер… “сахиб”, изъясняясь нынешним языком … некий человек … который способен объяснить людям, что стране… нужны дела, а не слова, и что она устала от нерешительности и партийных маневров». Где же, спрашивал он, можно найти «этого сверхчеловека» с «хваткой Муссолини»[326]? Как мы увидим, Крозье был далеко не единственным человеком, отвергавшим традиционную партийную политику и жаждавшим найти нового человека — он неоднократно и явно подчеркивает мужественность этой личности, подразумевая безвольную и изнеженную природу политиков старого типа. Он хотел, чтобы все началось сначала.
Тем временем в июле 1921 г. ИРА и британское правительство заключили перемирие и начали переговоры по урегулированию сложившейся ситуации. В результате этих переговоров в декабре был заключен англо-ирландский договор, который отменил на юге действие Акта о правительстве Ирландии, провозгласив создание Ирландского свободного государства. Эти события отразились на Ольстере, где вновь вспыхнуло насилие, поскольку южные отряды ИРА, которым больше не нужно было участвовать в сражениях, перегруппировались и перешли северную границу, а ольстерские юнионисты объявили мобилизацию, чтобы защитить свои шесть графств от этих нападений, от территориальных амбиций нового южного государства, которых они также опасались, и от пресловутого переворота, который, как они считали, готовят их католические соседи.
В конце 1921 г. и в первой половине 1922 г. ИРА распространило свою кампанию насилия на север, и ольстерская полиция и «специалисты В» отвечали им с такой же жестокостью[327]. Как всегда, больше всего страдали невинные мирные люди. Обоюдный террор, использовавшийся обеими сторонами, достиг своего пика в мае 1922 г., когда было зафиксировано 606 актов насилия, убито 66 мирных жителей (44 католика и 22 протестанта), произошли многочисленные поджоги и массовые выселения людей из их домов и рабочих мест. За 20-22 мая было совершено не менее четырнадцати убийств на религиозной почве.
Среди убитых был тридцативосьмилетний Уильям Джон Туодделл, работавший в льняном бизнесе, видный масон, лидер движения за трезвость, член Оранжевого ордена и член Ольстерской юнионистской партии в североирландском парламенте от округа Западный Белфаст[328]. В ответ на убийство Туодделла сэр Джеймс Крэйг, ставший к этому времени премьер-министром Северной Ирландии, заявил: «Если те, кто совершил это трусливое убийство, думают, что этим они на какое-то время ослабят работу нашего парламента или непреклонное мужество людей Ольстера, они жестоко ошибаются»[329]. Тем не менее было принято решение отложить выборы на место Туодделла до тех пор, пока не будет восстановлен гражданский порядок.
В течение лета и осени правительство Северной Ирландии реорганизовало полицию, которая теперь стала называться Ольстерской королевской полицией, расширило специальную полицию и воспользовалось чрезвычайными полномочиями для восстановления гражданского порядка. Меры по усилению безопасности оказались эффективными, и отряды Ирландской республиканской армии перенесли свою деятельность с севера обратно в Ирландское свободное государство, где набирала силу гражданская война между фракциями, поддерживающими и отвергающими мирный договор. К концу года в Ольстере воцарилось относительное спокойствие. В начале 1923 г. избирательные органы объявили перевыборы в округе Западный Белфаст. 1 марта, к удивлению и смятению всех остальных участников, о выдвижении своей кандидатуры в этом округе объявил полковник Ф. Дж. Вудс.
* * *
У нас практически нет сведений о том, чем занимался Филипп Вудс в течение трех лет после своего возвращения в Ольстер весной 1920 г. В это время в Ольстере еще больше обострился послевоенный льняной кризис, вызванный резким падением цен, что привело к широкой безработице и значительным трудностям в регионе, где в лучшие времена свыше половины населения было занято в текстильной промышленности[330]. Возможно, Вудс и сам больше не мог работать по своей бывшей профессии льняного дизайнера. Не исключено, что после большого опыта военных действий и командования он сам не хотел возвращаться к привычной гражданской жизни, ощущая потребность и желание применить свои знания в работе на благо своей родины в этот нелегкий период перехода к самоуправлению.
В конечном итоге, нынешний статус Ольстера был отчасти похож на тот, что требовали карелы, когда они просили об автономии под защитой британского короля от своих алчных соседей. Возможно, негодование Вудса на предательство Британии по отношению к его верным карельским и русским друзьям заставило его (как и Крозье чуть позже в том же году) пойти на гражданскую службу, чтобы у себя на родине помочь забытым людям и преподать хороший урок верности высшим классам.
Нам точно известно, что Вудс не присоединился к Крозье при его назначении во Вспомогательный батальон в южной Ирландии в конце 1920 г.[331] Вудс сохранил свою должность в Королевском ирландском стрелковом полку и, возможно, снова вступил в него после возвращения из Литвы, хотя и не поехал на военную службу в Месопотамию, куда полк был отправлен в то время для подавления восставших иракских племен. В 1922 г. Вудс перевелся в резерв своего полка (который после провозглашения ирландской независимости был переименован в Королевский ольстерский стрелковый полк). После этого он подал заявку на должность инспектора в недавно образованной Ольстерской королевской полиции, а после того, как она была отклонена, — на ряд других должностей в североирландской администрации и общественных организациях (включая Ирландскую лигу трезвости), также без успеха[332]. Мы можем только догадываться о связи между постоянными неудачами, которыми заканчивались его попытки получить достойную должность на гражданской службе, и местными склоками и обидами, которые создали ему столько трудностей во время войны.
Мы также можем полагать, что, несмотря на безработицу, он не испытывал значительных материальных трудностей. В конце 1921 г. умер Стюарт Блэкер Квин, тесть Вудса, оставив большое состояние своему старшему сыну Герберту, который сам к тому времени был успешным бизнесменом, и, скорее всего, достаточное наследство жене Вудса Флоренс. Старший брат Филиппа Роберт, чей льняной бизнес пережил кризис, мог в случае необходимости также оказать ему поддержку. Тем не менее то, что Вудсу не удалось получить стоящую работу, вызвало у него глубокий моральный упадок, а возможно, даже отчаяние, и усугубило его неприятие по отношению к местной старой элите, которая, как он убедился, могла поднять человека на вершину, а могла и уничтожить. Это также обострило его чувство солидарности с демобилизованными солдатами, которые больше всех страдали от безработицы. Он стал почетным казначеем Ассоциации бывших военнослужащих Ольстера и на этом посту много узнал о переполненных и полуразрушенных домах, ужасающих санитарных условиях и высоком уровне смертности в регионе[333].
Он также осознавал, что юнионистское правительство Северной Ирландии было абсолютно неспособно решить эти социальные и экономические проблемы. Помимо конституционной, а следовательно, и финансовой слабости правительства, политическая культура Ольстера совершенно не подходила для управленческих задач. Лидеры лоялистов построили свою организацию на единственном принципе и с одной целью — бороться против Гомруля. Как отмечает Баклэнд, им не удалось создать «конструктивную философию, <с помощью которой> они могли бы управлять государством, создания которого они не предусматривали и не хотели»[334]. Поэтому любая надежда на настоящие реформы и прогресс неминуемо влекла за собой борьбу с преобладанием юнионистов в парламенте, а начало этой борьбе могло быть положено только извне партийной машины.
Примерно в конце 1922 или начале 1923 г. к Вудсу обратилась группа бывших солдат с просьбой выдвинуть свою кандидатуру в парламент, чтобы представлять их интересы, которые, как они полагали, игнорируются официальными ольстерскими политиками. Поначалу казалось, что Вудс все же попытается получить поддержку своему выдвижению в парламент от официальных юнионистских кругов. В январе 1923 г. он даже вступил в Оранжевый орден — ход, который его противники считали (скорее всего, правильно) оппортунистическим и сделанным слишком поздно для того, кто искренне верил в кредо этого движения, то есть крайний лоялизм[335]. В любом случае, это ему не помогло. Ассоциация юнионистов выдвинула от Западного Белфаста кандидатуру богатого местного бизнесмена, сэра Джозефа Дэвисона, бывшего Старшего шерифа Белфаста и гроссмейстера белфастской ложи Оранжевого ордена[336].
Заклейменный сторонниками Дэвисона как предатель дела юнионистов, Вудс вел свою кампанию с характерной для него непреклонностью и уверенностью. «Боевому полковнику» (как он назвал себя) было нечего терять. В действительности, выдвижение Вудсом своей кандидатуры не внесло раздора в строй лоялистов, как заявляли его противники, а всего лишь использовало уже сложившиеся противоречия. Несмотря на поражение Североирландской лейбористской партии на выборах 1921 г., многие ольстерские протестанты были недовольны, как сказал один историк, «непредставительной природой ряда местных юнионистских ассоциаций, в которых доминировала аристократическая клика», и хотели более демократических и независимо настроенных представителей[337].
К этим избирателям и обратился Вудс. «Я в значительной степени демократ, — объявил он электорату Западного Белфаста, — поэтому ваши интересы — это мои интересы»[338]. Он требовал продлить Акт об ограничении арендной платы (который снижал расходы на жилье), принять меры по ремонту старого и строительству нового жилья, сделать более доступным образование и уменьшить безработицу. Он выдвигал обвинения «старой банде», доминировавшей в местной политике, утверждая, что «в этой клике нет ничего, кроме взяточничества и коррупции». В отличие от них, он подчеркивал свою солидарность и знакомство с простым солдатом — качества, которые сформировались у него за долгие годы общих трудностей в «братстве окопов»[339]. Он объявил, что «бывшие военнослужащие больше не попадут под колеса огромной машины. Хватит уже с них депутатов, требовавших “бить в барабаны и следовать за ними”»[340]. Вудс сравнивал правительство Ольстера с пресловутой коррумпированной администрацией Нью-Йорка в Таммани Холл[341]. Избиратели Северной Ирландии, утверждал он, сейчас выбирали не представителей, а правителей: «они избирали лишь очередного босса, над которым, в свою очередь, стоял босс побольше, и всем этим шоу управляли три маленьких босса на самой вершине — три ничтожных червя, которые никогда не сражались за свою родину, ограничиваясь одними словами», и чей единственный визит во Францию состоялся «на большую церемонию по случаю открытия памятника в Типвале»[342].
Вместе с Флоренс Вудс, которая с успехом агитировала за своего мужа среди избирателей-женщин, на трибуне нередко выступал и его брат Роберт, едко высмеивавший «клику тиранов, которая руководила карманным изданием так называемого парламента таким образом, чтобы подавить любую оппозицию». «Все это, — заявлял Роберт, — можно сравнить только с театральной абсурдностью, с генеральной репетицией фарса»[343]. В отличие от них, Филипп Вудс был «человеком, который является настоящим мужчиной, а не членом старой клики … человеком, которого нельзя купить»[344]. (Парламент Северной Ирландии на следующий день обсуждал, стоит ли публично осудить Роберта Вудса за клевету или даже привлечь его к суду, но решил, что он вовсе не достоин реакции, и объявил его безвредным и достойным презрения.)
Поначалу основной тактикой Дэвисона и его сторонников было разрушить образ Вудса как деятеля лоялистского движения («если бы полковник Вудс был по-настоящему членом Оранжевого ордена, он бы снял свою кандидатуру в пользу Гроссмейстера») и подчеркнуть опасность раскола среди протестантских избирателей в округе с большим католическим населением. Они также обвинили Вудса в обращении к избирателям-католикам (они даже утверждали, что он якобы печатает брошюры на зеленой бумаге). Если бы они только знали, что пять лет назад он использовал зеленый трилистник в качестве эмблемы для своего полка! Дэвисон также заручился поддержкой нескольких бывших офицеров 9-го батальона Ирландского стрелкового полка. Среди них были Гораций Хэслетт и Уильям Монтгомери, которые в годы войны пытались сместить Вудса с должности командира батальона. С другой стороны, Вудсу в его кампании помогали несколько младших офицеров 9-го батальона, а также несколько других служивших там военнослужащих более низких рангов.
В то же время Дэвисон понимал необходимость более конструктивного подхода и старался убедить избирателей, что даже бизнесмен может с успехом защищать интересы рабочего класса[345]. Его собственные попытки были неуклюжими и слишком покровительственными, и его сторонникам приходилось прилагать немало сил, чтобы обосновать его популистские претензии. Они выдвинули ветхие и невыразительные лозунги о необходимости почтительности со стороны рабочего класса. «Они выиграли войну, — объявил один из сторонников Дэвисона, — потому что они верили и слушались своих лидеров, и если верные избиратели Западного Белфаста еще раз поверят и послушаются своих лидеров, то, как и тогда, Западный Белфаст снова одержит победу»[346].
Такие заявления, разумеется, лили воду на мельницу Вудса, поскольку его основные аргументы заключались именно в том, что бывшие военнослужащие не должны верить и слушаться тех, кто «нажил богатство на горестях, страданиях и трудностях жен, вдов и семей солдат, сражавшихся во Франции» и кто потом нарушил свои обещания предоставить вернувшимся героям достойное жилье и работу[347]. 2 мая на зеленых и белых плакатах на католической Фоллз Роуд утверждалось, что «боевой полковник» является «другом бывших военнослужащих, врагом землевладельцев и человеком, готовым раздавить клику!»[348]
Предвыборная листовка Филиппа Вудса, апрель 1923 г. Надпись сверху: «Выборы по округу Западный Белфаст, 1923 г. (Парламент Северной Ирландии)». Надпись снизу: «Бывший военнослужащий — бывшим военнослужащим, рабочим и их иждивенцам»
На следующий день почти сразу после полудня полиция пыталась не пустить огромную толпу в зал городского собрания, где подсчитывались голоса. «В толпе бросались в глаза, — писала газета “Белфаст Ньюс-Леттер”, — солдаты в голубой больничной одежде, чьи симпатии были, несомненно, на стороне полковника Вудса». В результате выборов Вудс одержал убедительную победу, набрав почти восемь тысяч голосов из сорока восьми тысяч проголосовавших.
Поблагодарив председателя избирательной комиссии и его сотрудников, Вудс подал руку побежденному оппоненту. Дэвисон отказался пожать ее. Началось столпотворение; Вудс попытался перекричать поздравления, проклятья и возгласы неодобрения, чтобы произнести примиряющую речь. В итоге ему это не удалось, так как спустя несколько мгновений началась драка, и полиции пришлось вмешаться, чтобы навести порядок. Сторонники Дэвисона начали выводить своего кандидата из зала, освистывая победителя. Тогда Вудс сделал остроумный ход — он начал громким голосом исполнять «Боже, спаси Короля», заставив Дэвисона и его людей остановиться по дороге и присоединиться к припеву.
После этого Вудс вернулся в свой штаб на плечах своих сторонников. Толпу возглавлял «одноногий солдат в голубой больничной одежде … размахивавший одним из своих костылей». В тот вечер полковник возглавил шествие, которое при свете факелов прошло по главным улицам в районе Шанкилл Роуд под игру на трубах и флейтах и «громогласные приветствия многочисленных людей, толпившихся на улицах»[349].
В тот же день редактор «Белфаст Ньюс-Леттер» в своей колонке, едва скрывая раздражение, объяснял победу Вудса поддержкой националистической партии Шинн Фейн и торговцев спиртным (движение за трезвость перед самыми выборами призывало голосовать за Дэвисона, а противники сухого закона — за Вудса). Разумеется, своей победой полковник был обязан большему, чем поддержке только трактирщиков и республиканцев. Он уловил негодование избирателей, которые чувствовали себя преданными, устали от старой религиозной политики и надеялись, что все можно начать с нуля. Однако было сомнительно, что Вудс в одиночку сможет воплотить их мечты или оправдать их ожидания.
Парламент Северной Ирландии, который собирался в зале городского собрания Белфаста с 1921 по 1932 г., после чего переехал в гораздо более величественное здание замка Стормонт, не был влиятельным политическим учреждением. Абсолютное большинство правительства юнионистов, отсутствие оппозиции (большая часть националистических и все республиканские члены бойкотировали парламент в первые десять лет его существования) и круговая порука в парламенте приводили к тому, что ведение дел в нем было весьма запутанным, некритичным, неэффективным и затрудненным мелкими местными вопросами. Как заметил один историк, парламент «представлял собой работу с частичной занятостью, так как обычно он заседал лишь пару месяцев в году и существовал, как казалось, исключительно для одобрения правительственной политики»[350].
Когда Вудс 16 мая 1923 г. занял свое кресло в североирландской Палате общин, в ней состояло пятьдесят два члена, из которых он единственный не получил официального партийного выдвижения. С самого начала Вудс четко представлял себе свою позицию в качестве «оппозиции в единственном числе» и использовал свой фаталистический и самоуничижительный ум, чтобы вжиться в эту роль[351]. «Я знаю, что я — всего лишь глас в пустыне, — объявил он спустя несколько месяцев во время прений по финансовым вопросам, — и все, чего я хочу, — это чтобы мое мнение по данному вопросу попало в протокол. Я знаю, что на него не обратят никакого внимания, но все равно должен произнести то, о чем думают люди снаружи»[352].
В официальных протоколах парламентских дебатов Вудс предстает человеком честным, прямым и здравомыслящим, который твердо намерен добиться, чтобы его услышали, не только из-за того, что это является его правом и обязанностью, но и потому что он получает удовольствие, раздражая помпезных, снисходительных и привязанных к протоколу юнионистских сановников и их однопартийцев, которые пытались своими насмешками и угрозами заставить его замолчать. Временами Вудса сбивали с толку вопросы парламентского этикета, детали законодательства или сферы действия конституции, и его оппоненты тут же использовали эти ошибки, но он каждый раз выходил из ситуации, добродушно и скромно извинившись или пошутив. Он заслужил уважение некоторых членов парламента за упорную и чистосердечную защиту интересов бывших военнослужащих. Иногда палата общин принимала предложенные им поправки (но лишь те, которые касались мелких принципиальных вопросов), а министры соглашались рассмотреть отдельные случаи, на которые обращали их внимание неутомимые расспросы Вудса.
С другой стороны, Вудс, никогда не бывший очень хитрым или проницательным политическим деятелем, часто не разбирался в махинациях и мотивах партийной машины, против которой выступал. Так, он твердо поддержал предложение сэра Джеймса Крэйга заменить пропорциональное представительство системой одномандатных избирательных округов[353]. Вудс правильно рассудил, что система, в которой побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов, значительно снизит затраты на предвыборную кампанию для независимых депутатов. Однако он не учел, что эта избирательная реформа также поможет консолидировать существующее партийное большинство и существенно уменьшит шансы независимых кандидатов на победу. Именно в этом, разумеется, заключалась основная цель, которую преследовало руководство юнионистов в проведении данного закона[354].
Благородный и храбрый член парламента от Западного Белфаста, возможно, и был всего лишь любителем в политике, но он был человеком, который профессионально создавал неприятности — и не скрывал получаемого при этом удовольствия. Его первое продолжительное участие в парламентских дебатах состоялось менее чем через неделю после вхождения в должность, когда он обрушился на Билль о спиртных напитках (целью которого являлся запрет на продажу алкоголя по воскресеньям без сопутствующей еды) как на «документ, лучше которого едва ли можно что-то придумать, если политика правительства заключается в большевизации Ольстера». Он утверждал, что только богатые могут всегда позволить себе обильную пищу в придачу к своей выпивке, и это спровоцирует зависть и «классовую ненависть» среди большей части населения. По его мнению, эта мера олицетворяла презрение, которое демонстрируют «экстремисты» с «ограниченным умом» по отношению к «простым и весьма здравомыслящим гражданам», в то время как те лишь желают, чтобы в них поверили и дали им достаточно независимости и свободы, чтобы распоряжаться собственной жизнью[355].
За оставшиеся восемь недель сессии 1923 г. Вудс высказывался не менее девяносто пяти раз, обращая пристальное внимание на вопросы безработицы, профессиональной подготовки, жилищного вопроса, медицины, пенсий и страховок — тех проблем, которые больше всего беспокоили бывших военнослужащих. В следующем году он уделял не меньшее внимание этим же темам, но к ним еще добавились вопросы законодательства дорожного движения. Он все так же раздражал других членов парламента. Беспечные, но неизменно настойчивые выступления Вудса вызвали особенную антипатию у Сэма Мак-Гаффина, действительного члена Юнионистской лейбористской ассоциации Ольстера от Северного Белфаста, жителя Шанкилл Роуд.
Однако за стенами парламента позиция Вудса заслужила ему народную симпатию и поддержку. Когда в апреле 1925 г. в Ольстере проходили очередные всеобщие выборы (все еще по принципу пропорционального представительства), «боевой полковник» выдвинул свою кандидатуру в двух округах — как от своего нынешнего, Западного Белфаста, так и от Южного Белфаста, где он жил. Кампания Вудса, вновь активно поддержанная его братом и женой, была столь же яростной, как и два года назад, а нападки его противников не стали менее мстительными. Томас Моулз, официальный представитель юнионистов и заместитель спикера в нижней палате первого парламента, боровшийся с Вудсом по округу Южный Белфаст, объявил, что «за время своей карьеры он наблюдал, как появлялись и исчезали разные странные фигуры, но никогда не видел ничего подобного полковнику Вудсу»[356]. Другой кандидат от юнионистов по Южному Белфасту, Хью Мак-Дауэлл Поллок, бывший президент Торговой палаты Белфаста и министр финансов в предыдущем правительстве, обвинял Вудса в бесполезности и бездеятельности[357]. От юнионистов в этом округе выдвигались еще две важные персоны, сэр Кроуфорд Мак-Каллаг, бывший (и будущий) лорд-мэр Белфаста, и Эндрю Блэк, видный адвокат. Они также разделяли презрение, которое испытывали к наглому самозванцу их коллеги.
В ответ Вудс уничижительно называл своих юнионистских противников «четырьмя заплесневелыми стариками» (это было верно в отношении Поллока, которому было семьдесят три года, но Моулз был всего на девять лет старше самого Вудса)[358]. В Западном Белфасте он обещал бороться за «правду и честную игру… против объединенных сил Ольстерской Прессы, Политических Манипуляторов и Диктаторов»[359]. Он утверждал, что является истинным членом Оранжевой ложи (и, по его заявлениям, также членом «более высоких» братств — Фиолетового ордена Королевской Арки и Королевского Черного ордена) и сторонником нынешних границ. Однако он отказывался слепо следовать партийной линии в важнейших социальных и экономических вопросах, требуя снизить налоги, ограничить арендную плату, принять меры по уменьшению безработицы и снизить стоимость жизни, а также запретить законы, ограничивающие употребление спиртных напитков. Роберт Вудс был настроен более воинственно: «Полковник, — обещал он, — войдет в парламент и погонит разжиревшую клику на конце штыка точно так же, как 9-й батальон погнал жирных немцев во Фландрии»[360].
В Южном Белфасте Вудс выиграл выборы. В Западном Белфасте он стал вторым после Джо Девлина, ведущего националистического политика Ольстера (который вновь отказался от должности). Вудс выбрал место от своего прежнего округа, при этом считая себя «моральным представителем» другого округа[361]. В целом, прежнее большинство юнионистского правительства после этих выборов сократилось на семь мест. Независимые депутаты получили четыре места в Белфасте (включая два, выигранные Вудсом), лейбористы получили три места, и от сельского избирательного округа в парламент вошел депутат фермеров[362]. Вдобавок десять мест получили националисты и два — республиканцы. Националистическая газета «Айриш Ньюз» приветствовала результат как «избирательное поражение» лоялистов, и даже юнионистские газеты признали, что выборы отразили недоверие существующему правительству[363]. Именно неожиданная победа Вудса в 1923 г., а также его смелая и энергичная деятельность в первом парламенте подготовили путь для других, готовых бросить вызов гегемонии официального унионизма[364].
В своем втором парламенте Вудс не стал вести себя более почтительно, чем в первом, но теперь он был менее язвительным и многословным и вызывал меньший антагонизм. Очевидно, он начал привыкать к протоколу и этикету и подстроился к тонкостям и хитростям политических дебатов. Возросшее число независимых и оппозиционных членов в палате (к 1927 г. все представители от националистов, включая Джо Девлина, заняли свои кресла) также означало, что он больше не находился в той изолированной, ненормальной и со всех сторон осаждаемой позиции, как раньше. Большинство выступлений Вудса касались все тех же социальных и экономических вопросов, особенно тех, которые имели прямое отношение к благополучию бывших военнослужащих. Он регулярно выступал против расходов на государственный аппарат и парламент, которые он считал несоразмерно высокими, и против найма на государственную и полицейскую службу в Северной Ирландии англичан, так как считал, что эти должности должны занимать безработные ольстерцы[365].
Он также начал участвовать в работе парламентских комитетов, рассматривая и переделывая детали законодательных предложений. В частности, в 1926 г. он принимал участие в разработке Билля о моторных транспортных средствах (движение и правила). В 1927 г. он активно участвовал в работе над Биллем о спиртных напитках и лицензировании их продаж[366]. В то же время он представил свой Билль о трудовой занятости инвалидов — участников войны. Это был заслуживающий уважения законодательный акт, который предусматривал ряд радикальных и новаторских предложений по созданию рабочих мест для ветеранов. Однако его автор вновь продемонстрировал, что его принципы преобладали над прагматизмом. Вместо того, чтобы добиться поддержки юнионистов, Вудс попросил выступить в поддержку билля своих лейбористских коллег. Это автоматически настроило против него правительственное большинство, которое никогда не было в восторге от его беспартийной политики. Билль был отклонен[367].
Вудс также решительно клеймил любую политическую линию или действия, на которых лежал отпечаток религиозных противоречий. «Если человек служил в армии, — заявлял Вудс в 1926 г., — к нему нужно относиться так же, как и ко всем остальным, и неважно, каких убеждений он придерживается. Чем скорее к этим людям <католикам> станут относиться должным образом и по справедливости, тем выше это поднимет честь… нашего правительства»[368]. Он беспокоился не столько за бывших военнослужащих католического вероисповедания, сколько за принцип равенства. Через три года во время дебатов по постоянно откладываемому правительственному закону об одномандатных избирательных округах Вудс обрушился на привычку «все рассуждать и рассуждать о том, что это — дело католиков, это — дело протестантов. Неужели мы не можем обойтись без этого?.. Неужели все мы не можем быть ольстерцами и работать ради блага нашей страны? Разве не для этого мы здесь собрались?»[369].
Два месяца спустя, в июне 1929 г., Крэйг распустил парламент и назначил первые выборы, которые должны были проходить по новой избирательной системе. Западный Белфаст теперь был разделен на четыре избирательных округа. Вудс выдвинул свою кандидатуру в округе Святой Анны, в центре которого находилась его родная улица Сэнди Роу. Его противниками были майор Дж. X. Мак-Кормик, официальный юнионист, ранее служивший в канадской армии, который выступал против Вудса с обычными голословными обвинениями в политическом предательстве, и миссис Эмили Моффат Клоу, кандидат от общества трезвости, осуждавшая полковника за то, что его поддерживали торговцы спиртным. Братья Вудс отвечали привычной критикой «старой клики», которая, как они утверждали, создала «интеллектуальное царство террора, <в котором> никто не мог высказать то, что думает»[370]. Это обвинение было преувеличено. После трех воинственных кампаний, наполненных выступлениями на городских перекрестках, шествиями с факелами под музыку флейт и гром барабанов, и шести лет неукротимой борьбы в парламенте никто не считал, что «боевого полковника» можно заставить замолчать.
За день до выборов в Северной Ирландии Вудс объявил, что выставляет свою кандидатуру на предстоящие всеобщие выборы в парламент Соединенного Королевства, которые должны были состояться всего лишь через восемь дней. Неизвестно, действительно ли он в тот момент вынашивал более серьезные политические амбиции и хотел защищать свои убеждения на более высоком уровне, чем провинциальное собрание, погрязшее в собственных дрязгах, где он приобрел свой первый парламентский опыт. Он заявил, что выдвигает свою кандидатуру в Вестминстер с целью поднять вопрос о защите льняной торговли, который он уже пытался обсудить в североирландском парламенте, но получил тогда ответ, что он оставлен для парламента Соединенного Королевства[371].
Мы не знаем, переоценил ли он свои силы, вступив в эту борьбу (он был фаворитом на победу в округе Святой Анны на местных выборах, что стало бы его третьей победой на местном уровне), или, напротив, уже догадывался о своем поражении на выборах в местный парламент и понимал, что может дать себе второй шанс на парламентское кресло, ограничившись при этом затратами всего лишь на одну дополнительную неделю предвыборной кампании. Также возможно, что к тому времени появились и другие причины, объясняющие его желание переехать в Лондон. В любом случае, это доказывает, что он не был всего лишь марионеткой ольстерских торговцев спиртным, которые частично финансировали его предвыборные кампании в североирландский парламент, так как у них не было особой заинтересованности в парламенте Соединенного Королевства.
В Западном Белфасте, избирательном округе на выборах в Вестминстер, старый противник Вудса сэр Джозеф Дэвисон предложил в качестве кандидата от юнионистов У. И. Д. Аллена, двадцативосьмилетнего отпрыска одной из самых богатых семей в Белфасте и выпускника Итона[372]. Его соперником от националистов был известный адвокат. Поскольку округ был разделен между более южным районом Шанкилл и католической Фоллз Роуд, третьему участнику в местной предвыборной гонке места не было. По этой причине Вудс решил идти на выборы по округу Южный Белфаст. Там его единственным соперником был кандидат от юнионистов, другой видный местный миллионер У. Дж. Стюарт. В то время фирма, принадлежащая семье Стюартов, как раз заключила контракт на сумму 650 000 фунтов стерлингов на строительство нового грандиозного здания для североирландского парламента в замке Стормонт[373].
Выборы в североирландский парламент состоялись 22 мая, и результаты были объявлены на следующий день. Новая избирательная система обеспечила правительству требуемый результат. Юнионисты увеличили свое большинство с четырнадцати до двадцати двух голосов. В округе Святой Анны Вудс стал вторым, набрав ненамного меньше голосов, чем победитель, однако в связи с тем, что в новых одномандатных округах больше не использовалась система предпочтительного голосования[374], для Вудса это означало потерю места в парламенте. Газета «Таймс» назвала его поражение «одной из неожиданностей» выборов[375].
После этого Вудс переключился на избирательную кампанию в парламент Соединенного Королевства. В его предыдущем созыве все тринадцать депутатов от Ольстера были юнионистами. На этих выборах в двух округах у юнионистов не было конкурентов, однако в графствах Ферманаг и Тирон они уже проиграли кандидатам от националистов Джо Девлину и Томасу Харбисону, а в оставшихся девяти округах им противостояло десять кандидатов — представителей Либеральной партии, общества трезвости и независимых кандидатов. В Южном Белфасте Стюарт потребовал, чтобы Вудс ответил на вопрос: «Стал бы он голосовать вместе с консерваторами, либералами или социалистами?»[376] Вудс ответил, что он поддержал бы Консервативную партию Стэнли Болдуина, так как согласен с ее политикой, за исключением вопроса о пенсиях по инвалидности. В его интересы входила защита льняной промышленности, сокращение безработицы, строительство жилья, но прежде всего он бы продолжил отстаивать интересы бывших военнослужащих[377].
В двух случаях Вудс говорил, что он проработал в льняной торговле более семнадцати лет, еще один раз он упомянул о своем девятнадцатилетнем опыте в этом бизнесе. Поскольку до войны он не мог проработать больше пятнадцати лет, это, вероятно, означает, что в дополнение к своей небольшой парламентской зарплате он в течение нескольких последних лет работал по совместительству текстильным дизайнером. В любом случае, он представлял себя как материально независимого человека, чьим единственным мотивом был инстинкт милосердия: «Ему ничего не оставалось делать, — благочестиво говорил он, согласно определенным источникам, — и ничто не давало ему большего удовольствия, чем работа на благо людей как в самом парламенте, так и за его стенами»[378].
Короткая кампания Вудса закончилась безуспешно. Чтобы получить место в Вестминстере, требовалась либо поддержка мощной партийной машины, либо крупные средства, а у него не было ни того, ни другого. По результатам голосования Стюарт набрал почти двадцать четыре тысячи голосов, а Вудс — на десять тысяч меньше[379]. После объявления о столь сокрушительном поражении Вудс поблагодарил своих сторонников, «которые не забыли, что патриотизм, принципиальность и верность еще не списаны со счетов». Он продолжил: «Я думаю, что на данный момент я возьму паузу, но все еще впереди»[380].
ГЛАВА 10. ВСЕ СНАЧАЛА. ЛОНДОН И ЛОРД ХАУ-ХАУ, 1930-1939 гг.
Собственное будущее Вудса на тот момент еще оставалось неясным. Исчезнув из общественной жизни, он стал практически невидим и для взгляда историка. В середине 1920-х гг. Вудс вступил в Клуб младших офицеров военно-морского флота и армии, расположенный на улице Пэлл Мэлл в Лондоне (до этого он состоял только в Ольстерском реформаторском клубе, престижном либеральном юнионистском учреждении в Белфасте)[381]. Это позволяет предположить, что он, возможно, собирался чаще бывать в столице. Нам известно, что 16 февраля 1928 г. он посетил торжественный прием в честь десятой годовщины независимости Литвы, организованный дипломатической миссией этого маленького государства на Пэлэс Гейт в Лондоне[382].
Нам также известно, что в 1930 г. у Вудса в столице завязались романтические отношения с англичанкой, которую звали Вероника (Билли) Куэстед[383]. В начале следующего года он уехал из Белфаста и поселился в Лондоне, что ознаменовало новую страницу в его профессиональной и личной жизни. В декабре 1933 г. Филипп и Флоренс Вудс развелись[384]. Через несколько месяцев была сыграна его свадьба с Вероникой. Поначалу новобрачные жили в квартире в Вудсток-Хаус на Джеймс Стрит (недалеко от Оксфорд Стрит в центре Лондона). Через пару лет они переехали в коттедж Уэлл, необычный дом елизаветинской эпохи с почерневшими от времени деревянными стенами и соломенной крышей в Лонг Крендоне, архетипической английской деревушке, расположенной в графстве Букингемшир в тени Чилтернских холмов, на полдороге из Оксфорда в Эйлсбери[385].
Несмотря на то, что из Лонг Крендона до Лондона было всего тридцать пять миль на автомобиле — или недолгая поездка на поезде, — в сравнении со столичной суматохой он казался другим миром. Это было время Великой депрессии, когда индустриальные державы и страны, снабжавшие их сырьем, были потрясены экономическим кризисом и массовой безработицей, которая усугубляла и без того глубокие политические и социальные различия и еще больше поляризовала дискуссии о новых радикальных путях выхода из кризиса[386]. Крупные города стали одновременно центрами и символами кризиса и перемен. Британская политика также переживала неспокойные времена. Старые умеренные центристы, сидевшие в Вестминстере, проявляли нерешительность, а в это же время на улицах правый и левый радикализм становился все резче и приобретал популярность.
В мае 1930 г. из правительства меньшинства, сформированного опытным лейбористским лидером Рамсеем Макдональдом после всеобщих выборов 1929 г., вышел Освальд Мосли, бывший в то время членом парламента от лейбористов и занимавший одно из незначительных министерских кресел. Мосли был представителем нового поколения политических деятелей (он родился в 1896 г.), которых окопная война заставила стать радикалами, а послевоенная политика наполнила горечью. Это поколение говорило об «упадке демократии и парламентаризма» и о необходимости начать все заново[387]. Для этого Мосли поставил цель, состоявшую, как говорил его биограф, в создании «нового типа движения, которое могло бы совместить стремление к реформации общества с психологией Ubermensch <сверхчеловека>, без чего эта реформа была невозможной»[388]. Он верил в популизм и патриотизм, имперские торговые преференции, экономическое планирование и общественные работы, в строительство «страны, достойной своих героев», и в «союз “юных голов”, сколько бы лет им ни было, против “старых банд”»[389].
В начале 1931 г. Мосли вышел из Лейбористской партии. Его первым рискованным начинанием стало формирование Новой партии вместе с группой парламентских бунтарей, имевших похожие взгляды. Однако их провал на всеобщих выборах в том же году привел к изменению стратегии. После поездки к Муссолини в 1932 г. Мосли основал Британский союз фашистов, который в течение нескольких следующих лет вырос в огромную и потенциально мощную организацию. Одним из самых преданных и увлеченных последователей Мосли (и единственным членом Консервативной партии, перебежавшим в Новую партию) был У. И. Д. Аллен, молодой ольстерский миллионер и член парламента Соединенного Королевства от Западного Белфаста, который помогал финансировать фашистское движение на его начальном этапе и некоторое время был одним из его ведущих пропагандистов[390].
На какое-то время у Вудса могло сложиться впечатление, что его неприятие старого порядка и его видение будущего обновления отчасти начинали проявляться — к лучшему или к худшему — в национальной политической жизни, становясь в ней основной тенденцией. Переехав в Лондон, он основал Институт политических секретарей, заочную школу для людей, желавших сделать политическую карьеру. Можно предположить, что, взявшись за это рискованное предприятие, Вудс преследовал как прагматические, так и политические цели. Учитывая высокий уровень безработицы среди представителей среднего класса и активный интерес к политической жизни в обществе, институт, скорее всего, казался ему жизнеспособным и потенциально прибыльным делом. Его собственный опыт непрофессиональной парламентской деятельности и неэффективного государственного управления в Ольстере, без сомнения, заставил его задуматься о необходимости подготовить более профессиональное поколение политических деятелей и общественных служащих. К тому же нетрудно заметить, как его давний антагонизм по отношению к «тиранической клике» «заплесневелых стариков» воплотился в желании подготовить свежие силы, такие же деятельные и независимые, как и он сам, способные бросить вызов сложившемуся порядку вещей и старой элите. Для этого Институт политических секретарей предлагал подготовку в области публичных выступлений и искусстве составления политических документов, в секретарских навыках и иностранных языках, а также возможность изучать политические, экономические и социальные вопросы, имеющие отношение к современности. Как мы увидим ниже, учебный план института открывал широкий простор для отдельных преподавателей, желавших формировать восприятие и убеждения своих студентов.
Вудс открыл деятельность института, центр которого находился по его домашнему адресу, рекламой в разделе «Частные объявления» газеты «Таймс» от 8 июля 1931 г.:
Многие мужчины и женщины добились успеха, начав свою карьеру политическими секретарями. Превосходные возможности ждут вас как в Британии, так и за рубежом на дипломатической или консульской службе. — Напишите и позвоните секретарю, Институт политических секретарей, 5 Вудсток Хаус, Джеймс Стрит, Лондон, W. 1. Телефон: Лондон, 2183.[391]
В течение нескольких месяцев это объявление публиковалось каждую неделю, потом каждые две или четыре недели в течение семи с половиной лет (с перерывом на период с сентября 1933 г. по июль 1934 г., когда Вудс был предположительно занят личными делами). В 1932 г. Вудс изменил первую часть сообщения на следующий текст: «Современная политика предоставляет огромные возможности для квалифицированных политических секретарей, которые могут служить в парламентах Империи и доминионов, Лиге наций, на частной службе и т. д.»[392]. В конце 1935 г., после того как Вудс поселился в Лонг Крендоне, институт сменил свой адрес, переехав в расположенное неподалеку здание на Гилберт Стрит в районе Мэйфейр, сердце клубной и дипломатической жизни Лондона.
В качестве директора Института политических секретарей Вудс вступил в Королевское имперское общество, основанное в 1868 г. под названием Колониальное общество с целью распространения знаний о заграничных территориях Британии (в 1958 г. оно было переименовано в Королевское британское общество Содружества и под этим названием существует до сих пор). Вудс также стал членом лондонского Паблисити-клуба <The Publicity Club of London>, места встречи людей, занятых в рекламном бизнесе, связях с общественностью и средствах массовой информации, что, скорее всего, было вызвано его интересом к искусству политического общения. Он оставался членом Художественного клуба Ольстера, центра культурной жизни Северной Ирландии, в который был избран в 1931 г. Он также вступил в Королевский автомобильный клуб на Пэлл Мэлл, в котором мог реализовывать свою давнюю страсть к автомобилям.
Тем временем фортуна начала отворачиваться от его института. Один раз Вудсу пришлось занять средства у семьи Куэстед, чтобы удержать свой бизнес на плаву. В конце 1938 г. институт прекратил печатать свою постоянную рекламу. В следующем году появились всего лишь два коротких объявления («отличные возможности для работы на важных должностях; прекрасные перспективы»), второе — и последнее — было напечатано 20 июня 1939 г. Скорее всего, вскоре институт прекратил свое существование. В начале 1938 г. Вудс уже начал собирать материал для своих карельских мемуаров, а в следующем году он полностью написал их, что позволяет предположить наличие большого количества свободного времени[393].
У института никогда не было большого постоянного преподавательского состава — вместо этого Вудс нанимал внештатных преподавателей. В 1932-1933 гг. в ведомостях института были указаны лишь Вудс, его директор, и некто Эрик С. Лофорд, секретарь. В документах следующих лет перечисляются Вудс и восемь преподавателей поименно[394]. Среди них был мистер Л. У. Дэсбро, указанный как барристер[395], хотя в действительности он являлся недавним выпускником Лондонской школы экономики и читал в своем университете лекции по экономике. После Второй мировой войны Дэсбро стал одной из основных фигур в британском рекламном бизнесе[396]. В списке также перечислялись четверо других преподавателей с английскими фамилиями, которые с гордостью писали о хорошем знании экономики и квалификации дипломированных бухгалтеров и секретарей, и трое с иностранными фамилиями, которые предположительно преподавали иностранные языки. Одним из них был Александр Гамбс, сын Эрнеста Гамбса, который до революции был российским вице-консулом в Лондоне, а в 1930-х гг. стал видным деятелем российской эмиграции. С начала 1920-х гг. Алекс с трудом зарабатывал на жизнь фортепьянными концертами и уроками русского, французского и немецкого языков[397].
Этот немногословный исторический источник позволяет нам определить еще одного человека, которого Вудс нанял на должность преподавателя вскоре после основания своей школы. Это был Уильям Джойс, который через несколько лет приобрел скандальную известность как фанатичный фашистский агитатор, а позднее окончательно опозорил свое имя, став нацистским военным диктором, лордом Хау-Хау, и в январе 1946 г. был повешен за измену.
Джойс родился в 1906 г. в Нью-Йорке, его отец был ирландцем, а мать — англичанкой. Через три года семья переехала в Голуэй, город в южной Ирландии. Как рассказал Джойс британским следователям в 1945 г., он «был воспитан как крайний консерватор под сильным влиянием имперских идей»[398]. Он заявил, что во время гражданской войны в Ирландии в возрасте четырнадцати лет поступил на нерегулярную службу в разведывательный отряд 2-го батальона Королевского ольстерского стрелкового полка (полк Вудса) и вместе с «черно-рыжими» принимал участие в операциях против Ирландской республиканской армии и лиц, подозреваемых в симпатиях к ней[399].
После англо-ирландского договора пробритански настроенная семья Джойсов бежала в Англию. В 1927 г. Уильям окончил Бирбекский колледж Лондонского университета со степенью первого класса в английском языке и, получив отказ от Министерства иностранных дел из-за своих «экстремистских взглядов» и пропаганды «насилия в политической деятельности», начал преподавать языки и историю в Колледже Виктории[400]. В 1920-х гг. Джойс вступил сначала в британское фашистское движение, а потом в отделение Консервативной партии в Челси и в Юниорскую имперскую лигу. Его энтузиазм, преданность и ораторский талант произвели на тори впечатление, однако они испытывали все большее беспокойство по поводу его авторитарных наклонностей, «агрессивного национализма» и ярого антисемитизма, которых он даже не пытался скрыть[401].
К 1931 г. Джойс был вынужден выйти из отделения Консервативной партии в Челси. Примерно во второй половине года он установил контакты с Вудсом и его институтом и вскоре предложил им свои курсы на внештатной основе, несмотря на то, что в колледже Виктории у него уже была нагрузка в размере тридцати двух часов в неделю[402].
Ни одна из многочисленных биографий Уильяма Джойса не упоминает ни его связи с Институтом политических секретарей, ни имени Филиппа Вудса, и лишь фрагментарные документальные свидетельства позволяют больше узнать об их отношениях. В конце 1931 г. капитан Чарльз Сесил Кортни Льюис, ранее служивший в индийской армии, занимал скромную и бесперспективную должность в городе Джидда на Аравийском полуострове. Отчаянно желая вернуться в Британию вместе с женой и маленьким ребенком и имея неопределенное желание сделать политическую карьеру, но при этом столь же смутное представление о том, с чего ему следует начать, он прочитал газетное объявление Института политических секретарей, обещавшее «великолепные возможности», и подписался на курс по политической риторике. На должность преподавателя для Льюиса Вудс назначил Уильяма Джойса.
В течение следующих шести месяцев ученик Джойса каждую неделю писал и отправлял своему учителю (дипломатической почтой) наброски политических речей, задания в форме журнальных статей, эссе на актуальные проблемы. Джойс тщательно проверял эти задания и возвращал их с подробными пояснениями и обширными комментариями. Эти двое молодых людей также обменивались частными письмами, в которых они обсуждали свои политические цели, полковника Вудса и Институт политических секретарей. Из этих материалов следует, что Джойс считал Льюиса не столько учеником, сколько своим протеже, впечатлительным, послушным и обнадеживающе менее талантливым, чем он сам. Эти отношения, несомненно, повышали его самомнение. Придирчиво исправляя напыщенную и тяжеловесную прозу Льюиса и его многочисленные орфографические и грамматические ошибки, Джойс хвалил критическую позицию по отношению к современной политике, которую занимал его студент, и старался пробудить в нем еще больший антагонизм. «Очень приятно, — писал Джойс на полях одной из тренировочных речей Льюиса, — читать вашу честную философию в этот отравленный век». «В вашем ответе содержится много хороших мыслей и концентрированный яд», — писал он на другой. «Действительно, — высказывал он свое мнение в очередной работе, открывая скобки, — я начинаю думать, что ораторский дар Гитлера (absit omen[403]) оказался под угрозой уступить свои лавры»[404].
Когда Льюис спросил, в какую партию ему следует вступить, Джойс ответил, что Лейбористская партия уже мертва, все ее «люди культуры» оказались беспринципными, а ее «грязные пролетарии» рано или поздно все равно обратятся к фашизму или коммунизму. И потом, продемонстрировав практичность, которую сам Джойс порицал в других людях, он посоветовал своему студенту подать заявление в Консервативную партию и вызвался оказать ему помощь (бесплатно), научив Льюиса «нескольким профессиональным трюкам», которые он извлек из своего опыта. «Несмотря на мой ужасный цинизм в предыдущем письме, — писал Джойс, — я скажу вам, что вы можете попасть в парламент, если место в нем является вашей основной целью»[405].
Джойс также уверил Льюиса, что Институт политических секретарей гарантирует устройство своих успешных студентов на подходящую работу. «Я уверен, что полковник Вудс сделает все возможное, чтобы помочь хорошему ученику», — писал он, добавляя, что, в конце концов, найти работу для выпускников было в интересах самой школы. Он посоветовал Льюису «вцепиться бульдожьей хваткой в институт», но не тратить больше первоначально запланированной суммы. «Полковник, — предупреждал он, — верит в действенность длительных курсов, но, скорее всего, не понимает, что вы смогли одолеть закон за какие-то несколько месяцев». (Льюис незадолго до этого получил диплом юриста, скорее всего, также заочно.) Джойс пообещал поговорить с Вудсом — которого он называл «моим старым другом» — от имени Льюиса, если в этом возникнет необходимость. «Время от времени полковник разочаровывает меня своей апатией и философской отстраненностью, — сообщал по секрету Джойс. — Он лучше работает, если на него оказывают сильное, безжалостное, но незаметное давление»[406].
В другом письме Джойс рассказывал, что «ему самому <Вудс> дал такое же обещание» найти работу[407]. Очевидно, прочитав рекламу Института политических секретарей, Джойс сначала написал туда скорее с надеждой, что институт поможет ему восстановить политическую карьеру, чем ради места преподавателя. Он все еще проклинал свою «ужасную бестактность и общее безрассудство», из-за которых он недавно потерял все шансы на продвижение через Консервативную ассоциацию Челси[408]. Вудс мог заверить Джойса, что он приложит максимум усилий, чтобы помочь ему, — возможно, в «экстремистском» консерватизме и «энергичном» империализме двадцатишестилетнего ирландца ему виделось что-то от его собственной юношеской пылкости и храбрости — и принял его на работу в качестве своего протеже, не разглядев психопатических наклонностей его характера. В любом случае, примерно через полгода Джойс был явно разочарован очевидной неспособностью — или нежеланием — полковника выполнить свое обещание.
В конечном итоге Вудсу не удалось найти работу ни для одного из этих молодых людей. В мае 1932 г. Джойс поступил в аспирантуру по образовательной психологии в Королевский колледж в Лондоне. Поначалу он с головой погрузился в исследовательскую работу. Однако в 1933 г. он вступил в Британский союз фашистов, и к концу года все его время уходило на работу в этом движении, из-за чего он бросил учебу и большую часть преподавательской деятельности. В начале 1934 г. Мосли назначил Джойса на должность Директора пропаганды Британского союза фашистов. В 1937 г. Джойс рассорился с лидером фашистов и был исключен из движения. Как он с горечью жаловался, Мосли «оказался не тем человеком, каким представлял его себе» Джойс[409]. После этого Джойс основал Национал-социалистическую лигу, заработал немного денег частными уроками — отказываясь преподавать евреям и темнокожим студентам — и все больше опускался до откровенно расистской и антидемократической демагогии, пока, наконец, не уехал в Германию 26 августа 1939 г., за восемь дней до вступления Британии в войну[410].
Тем временем летом 1932 г. в Британию вернулся капитан Льюис. Помимо встреч с Вудсом и Джойсом, он также познакомился с Мосли, дал несколько открытых лекций по ближневосточной политике и в начале 1933 г. был назначен редактором-учредителем «Чернорубашечника», первой еженедельной газеты Британского союза фашистов[411]. В апреле Льюис сопровождал Мосли в его второй поездке к Муссолини в Рим[412]. По этой причине, когда Вудс в мае 1933 г. обратился к своему бывшему студенту с предложением занять должность секретаря в своем институте (Эрик Лофорд по настоянию своей жены уволился, чтобы стать членом местного совета в Истборне) с полномочиями ответственного за развитие «Индийского отделения» института и весьма приличной зарплатой 400 фунтов в год, Льюис уже не мог его принять[413]. Он продолжал редактировать «Чернорубашечника» до 1934 г., когда стал юрисконсультом Мосли, защищая членов Британского союза фашистов на многочисленных гражданских и уголовных процессах[414]. В апреле 1937 г. — в том же месяце, когда Джойс основал Национал-социалистическую лигу, — Льюис был объявлен банкротом и ушел с работы в фашистском движении[415]. В следующем году он развелся с женой, после чего окончательно исчез из исторических документов[416].
Наше знание об отношениях Вудса и Джойса неизбежно поднимает трудный и болезненный вопрос: до какой степени сам Вудс склонялся или участвовал в фашистском движении в то время, когда он писал свои карельские мемуары?
Имеются лишь косвенные факты, подтверждающие или опровергающие его симпатии или членство в фашистском движении. Что касается политических ценностей Вудса, мы уже знакомы с его верностью короне и стране, прошедшей проверку в битвах, с его верой в дисциплину и в благородство по отношению к простым людям, с его чувством личной неприязни и нескрываемого презрения к некомпетентной, продажной «старой банде» партийных плутократов и с его представлениями о более достойной, честной и прямой форме политики, в которой все социальные классы и группы подчинили бы свои частные интересы общему благу. Стоит вспомнить, что в 1929 г. в своей прощальной речи он взывал к «патриотизму, принципиальности и верности». Для Вудса Британская империя была естественным правом и долгом, стоявшим даже выше закона (о чем свидетельствует его подпись под Ольстерским ковенантом). И все же «Король Карелии» понимал, что слишком часто имперская власть на практике вырождается и становится бесчестной. Горечь, которую испытывал Вудс в конце кампании на севере России, становится почти осязаемой, когда он описывает, как британцы бросили людей, которых они призвали в свои ряды и использовали в своих интересах, «на “милосердие” их врагов». «Нас не отпускала мысль, — писал он, практически повторяя мнение Черчилля, процитированное выше, — что их затруднительное положение было вызвано в первую очередь нашей напрасной интервенцией» (с. 165). Подобные убеждения и горечь, разумеется, не могли сделать из него фашиста, хотя многие из тех, кто разделял его чувства, стали приверженцами крайне правой политики[417].
Несомненно, Вудс во многих отношениях относился к тому «типу» людей, которых привлекала крайне правая политика их времени. Как писал один историк, «фашизм был <в первую очередь> “социализмом солдата”, политической формой, через которую тот мог выразить социальный идеализм, возникший в годы войны и преданный политиками»[418]. Среди последователей Мосли было несколько видных военных, включая генерал-майора Дж. Ф. К. Фуллера, знаменитого историка и блестящего тактика, изменившего тактику ведения танковой войны, и адмирала сэра Барри Домвилля, бывшего руководителя военно-морской разведки, а также многих офицеров более низких званий и солдат — как на действительной службе, так и отставных. Кроме участия в Первой мировой войне, многие из них служили в Южной Африке и в других колониях, принимали участие в интервенции в России и в гражданской войне в Ирландии. У многих, как и у Вудса, сложилось четкое представление о том, что в расовом, культурном и моральном плане (по крайней мере, в принципе) поднимало «Белого Человека» над «черными» туземцами, а британцев — над всеми остальными. В 1939 г. появились слухи о том, что тайным членом Британского союза фашистов стал фельдмаршал Айронсайд (знаменитый тем, что он не скрывал своих предубеждений), который в 1918-1919 гг. командовал архангельскими силами, а перед самым началом Второй мировой войны был назначен начальником Имперского Генерального штаба[419].
Сам Вудс по своему духу, самовосприятию и образу, созданному для публики, был в первую очередь солдатом. Из его карельских мемуаров известно, что в 1930-е гг. Вудс каждый год встречался с ветеранами кампании на севере России в Клубе армии и военно-морского флота («Рэг») (с. 168). Он также принимал активное участие в деятельности Британского Легиона. Для Уильяма Джойса (который когда-то сам вынашивал мечты о военной карьере), как и для соседей Вудса по Лонг Крендону, «полковник» был типичным отставным военным, опрятным и подтянутым, отличным рассказчиком «хороших историй» о своей кампании в России против большевиков и других врагов[420].
Фашизм был также привлекателен для «оказавшихся ненужными профессионалов» и «несчастливых имперских скитальцев», которые, как и Вудс, выросли в вере, «по Бокану», в превосходство всего британского, в службу и готовность жертвовать собой, и которые чувствовали себя ненужными и чужими в послевоенном массовом обществе. Некоторые из них были апатичными и травмированными душами. Другие стали «современными буканьерами» — одиночками, бунтарями и скитальцами, которые искали в романтике имперских приключений либо чувства удовлетворения, либо бегства от действительности (офицерам, добровольно отправившимся на север России, «какой-то шутник из Военного министерства, — вспоминает Вудс, — <дал прозвище> “современные буканьеры”», с. 22). Как писал один историк, у многих из них «в результате долгого пребывания за границей сложился совершенно нереалистичный образ Англии, что приводило к немедленному разочарованию»[421]. Фашизм в двух отношениях удовлетворял эту потребность в фантазии: с одной стороны, он обещал будущее, в котором царят технологии, гигиена и здоровье, а с другой стороны, подчеркивал коллективистское деревенское прошлое, которое для многих (как, например, для У. И. Д. Аллена или историка Артура Брайента) ассоциировалось с елизаветинской нацией добуржуазного, докапиталистического шестнадцатого столетия[422].
Тюдоровские соломенные крыши, деревянные дома и холмистые поля Букингемшира, казалось, привлекали необычайно большое число отставных «буканьеров», а также кабинетных имперских искателей приключений, мечтавших именно о такой пасторальной идиллии. Многие из них занимались соответствующей политической деятельностью. Дом Брайента располагался в Ист Клейдон, примерно в двенадцати милях к северу от Лонг Крендона. Там он регулярно принимал ведущих фашистов — например, майора Фрэнсиса Йитс-Брауна (бывшего офицера Индийской армии и автора чрезвычайно популярного романа «Бенгальский улан»)[423]. Майкл Бомонт, бывший гвардеец и член парламента во фракции консерваторов, представляющий Эйлсбери, городок в нескольких милях к востоку, в 1934 г. объявил в Палате общин, что он «не скрывает своих антидемократических взглядов и открыто восхищается фашизмом в других странах», и утверждал, что в британском фашистском движении состоят многие «респектабельные, здравомыслящие и умные люди»[424].
В консервативную фракцию также входил делегат от Викома (города, расположенного к югу от Лонг Крендона) сэр Альфред Нокс, выходец из Ольстера, воевавший во время интервенции в России вместе с Колчаком. В то время он открыто выражал свое враждебное отношение к «еврейским комиссарам» и презрение к «бесполезной буржуазии». В 1930-е гг. он с не менее ревностным пылом пытался улучшить отношения с нацистской Германией. Для этого Нокс вступил в Англогерманское общество, организацию, среди членов которой были генерал Айронсайд, адмирал Домвилль и другие видные военные, а также двадцать три члена парламента, двадцать восемь пэров Англии и большое количество промышленников, епископов и банкиров[425]. Разумеется, энтузиазм, который они испытывали по отношению к Гитлеру, не делал их потенциальной пятой колонной или даже сторонниками политики примирения (хотя многие ее поддерживали). В действительности, как уже отмечалось, «большинство тех британцев, кто восхищался нацистской Германией, были в то же время убежденными патриотами и при своих мирных устремлениях нередко на деле оказывались весьма воинственными»[426].
Одним из наиболее активных участников общества (хоть и не жившим в Букингемшире) был подполковник сэр Томас Сесил Рассел Мур, ирландец английского происхождения (родился в 1886 г.), член Консервативной партии, который с 1925 г. представлял в парламенте шотландский избирательный округ Эйр Берге. До этого он два года работал в Министерстве внутренних дел в Ольстере, а еще раньше служил в южной Ирландии на должности офицера Генерального штаба[427]. В годы интервенции в России полковник Т. С. Р. Мур служил под командованием Вудса в Кеми на должности офицера, отвечающего за транспорт и снабжение. В карельских мемуарах Вудс с благодарностью вспоминал, что Мур «никогда не позволял работе брать верх над его неисчерпаемым чувством юмора» (с. 151).
К сожалению, занявшись политикой, Мур утратил свое чувство юмора. Вскоре после поездки в нацистскую Германию в сентябре 1933 г. он писал: «Насколько я могу судить по своему личному впечатлению от герра Гитлера, мир и справедливость — вот ключевые понятия его политики»[428]. В следующем году он заявил, что между фашистами Мосли и консерваторами не существует «принципиальных расхождений во взглядах» и что движущей силой как тех, так и других является «верность короне и любовь к своей стране»[429]. В 1936 г. Мур вместе с адмиралом Домвиллем и несколькими другими британцами был почетным гостем Гитлера на Нюрнбергском съезде. В следующем году Мур был возведен в рыцарское достоинство. До конца десятилетия он продолжал петь дифирамбы Гитлеру за то, что тот принес «счастье, безопасность и надежду» германскому народу, уничтожил коррупцию и пороки, способствовал социальному прогрессу и учил «быть уверенными в своих силах и полагаться исключительно на себя»[430]. Из карельских мемуаров Вудса известно, что в 1938 г. он просил Мура добиться от Военного министерства пенсии для русской женщины, помогавшей британским войскам в Карелии, которая на тот момент жила в Париже без средств к существованию (с. 167).
Разумеется, сам факт, что Вудс в то время поддерживал отношения с Муром, еще не означает, что он симпатизировал его политическим взглядам. Однако один житель Лонг Крендона, доживший до восьмидесятилетнего возраста, вспоминал, что, когда Вудс был «секретарем местной Англо-германской группы», у него в коттедже Уэлл гостил Уильям Джойс[431]. Если это правда, то появляется более осязаемая связь с Муром, который был одним из членов-основателей Англо-германского общества в сентябре 1935 г.
Однако слова нашего информатора относятся, скорее всего, к другой организации под названием «Звено»[432], которая была основана генералом Домвиллем в июле 1937 г. Цель этой организации совпадала с целью Англо-германского общества и заключалась в восстановлении дружественных отношений между двумя странами, однако ее социальная база была более широкой, а ее руководство более недвусмысленно выражало свою приверженность идеологии и целям нацистского режима[433]. В 1938 г. «Звено» переживало бурный рост, и к середине 1939 г. в его рядах насчитывалось 4300 членов с учетом всех региональных отделений, которые сосредоточились по большей части в Лондоне и его пригородах, а также в северных и центральных графствах. Одна ассоциация существовала и в Северной Ирландии. Эти отделения функционировали независимо друг от друга, организовывая социальные мероприятия, показы фильмов, туристические поездки и программы обмена, а также прочую невинную деятельность, цель которой заключалась, по словам Домвилля, в поощрении «взаимной симпатии и понимания между народами Великобритании и Германии», практически без открытой политической пропаганды[434]. На местном уровне членство в организации не обязательно подразумевало ярый антисемитизм, пронацистские настроения или антиправительственные намерения, хотя некоторые отделения — как, например, в Белфасте, Западном и Центральном Лондоне — были более радикальными, чем другие. Едва ли многие из официальных представителей и организаторов в местных отделениях не представляли себе истинных взглядов своего руководства.
Действительно, многие из более активных членов «Звена» также посещали собрания Национал-социалистической лиги Джойса или участвовали в деятельности других крайне правых групп того времени, таких как Нордическая лига или Правый клуб, который был абсолютно секретной организацией, основанной в мае 1939 г. капитаном Арчибальдом Рэмси, членом парламента от Шотландской консервативной партии[435]. Джойс был членом обеих организаций. Другим членом-учредителем Правого клуба была Анна Волкова, дочь последнего Военно-морского атташе Российской империи в Лондоне, которая в тот момент держала Русскую чайную комнату в южном Кенсингтоне. В конце 1930-х гг. ее помещение использовалось для встреч лондонских антисемитов и сторонников нацизма (многие из которых, включая Джойса, жили неподалеку)[436]. Алекс Гамбс, которого Вудс в конце 1930-х гг. нанял на должность преподавателя Института политических секретарей, вращался в эмигрантских кругах Волковой, хотя у нас нет свидетельств, что он разделял их политические взгляды[437]. В ноябре 1940 г. Анна Волкова была приговорена к десятилетнему тюремному заключению за нарушение Закона о государственной тайне. Среди прочего она передала своему другу Уильяму Джойсу секретную информацию, которую тот использовал в начале войны в своих радиопередачах из Германии[438].
Неизвестно, существовало ли в Букингемшире местное отделение «Звена» и был ли Вудс связан каким-либо образом с этой организацией или другими группами — здесь или в других местах. Тем не менее, если нашего информатора из Лонг Крендона не подводит память как в отношении визита Джойса в коттедж Уэлл, так и в вопросе «местной Англо-германской группы», это означает, что Вудс поддерживал связь с Джойсом как минимум до середины 1937 г. (когда было основано «Звено»). Если Вудс на самом деле принимал активное участие в деятельности обществ англо-германской дружбы во второй половине 1930-х гг. и при этом поддерживал отношения с Джойсом, чей патологический фанатизм после разрыва с Мосли становился все более заметным даже для его сторонников, то маловероятно, что и сам Вудс не был активно вовлечен в крайне правую политическую деятельность.
Однако здесь стоит еще раз повторить, что почти все свидетельства являются косвенными. Все остальное — лишь рассуждения, а не факты. Особенно ненадежной является устная история — тем более, чем больше временной промежуток между вспоминаемыми событиями и моментом воспоминания. Житель Лонг Крендона, цитировавшийся выше, был в 1930-е гг. ребенком. Он помнит Вудса как «человека среднего роста, носившего аккуратную военную форму» (что является правдой), который был награжден Крестом Виктории в Первую мировую войну (что не соответствует действительности). Воспоминания, основанные на слухах, редко бывают отчетливыми, особенно учитывая, что в Лонг Крендоне Джойс, по-видимому, уже стал персонажем деревенского фольклора (в целом чрезвычайно густо населенного привидениями). Некоторые старожилы — многие из которых вообще не помнят полковника Вудса — рассказывали о слухе, что какое-то время лорд Хау-Хау жил в коттедже Уэлл. Это, как нам известно, не является правдой.
Независимо от достоверности всех этих свидетельств будет некорректно приписывать человеку симпатии к фашизму исключительно на основании того, что он жил в определенном месте или общался с определенным кругом людей. В любом случае, имеются основательные причины подвергнуть сомнению некоторые из свидетельств, имеющихся в нашем распоряжении. В частности, маловероятно, что уже к 1932 г. Джойс и Вудс были «хорошими друзьями», как первый утверждал в некоторых своих письмах Льюису. Прежде всего, полковник был на двадцать шесть лет старше Джойса. К тому времени он прожил в Лондоне едва ли год, и, скорее всего, не знал Джойса до 1921 г. по южной Ирландии. Они также являлись совершенно разными личностями. Джойс был книжным интеллектуалом и безжалостным бандитом[439]. Вудс определенно не был ни тем, ни другим.
Хотя мы можем уловить схожесть в их убеждениях и ценностях, в принципиальных вопросах их политические позиции находились на противоположных полюсах. Джойс был истеричным фанатиком и сверхконспиратором, который защищал не что иное как антидемократическую революцию, диктатуру и расистскую войну. Когда Вудс в 1920-х гг. был членом парламента, он последовательно боролся с экстремизмом, религиозным фанатизмом и дискриминацией по религиозным, политическим и национальным признакам. Его здравый индивидуализм и всеобъемлющее чувство социальной ответственности подразумевали неприятие любых тайных интриг (обратите внимание на его презрительное отношение к жестоким белогвардейским заговорщикам в «Карельском дневнике»), всех претензий самопровозглашенных лидеров на абсолютную правду, слепого следования какой-либо одной идее или организации и любых попыток «экстремистов» (как он называл политиков, представляющих общество трезвости) ограничить личную или коллективную свободу. Он был консерватором по своим инстинктам и с враждебностью относился к революционной политике в любой ее форме.
В 1923 г. в Западном Белфасте Вудс заявлял: «Я в значительной степени демократ». Даже те фашисты, которые придерживались гораздо более умеренных взглядов, чем Джойс, отрицали не только то, что они считали злоупотреблениями демократией на благо плутократических интересов, но и саму демократию как унылую политическую шараду, которую неизбежно сменит автократическое корпоративное государство. Нет причин сомневаться, что Вудс был приверженцем парламентарной системы, как бы ни презирал он политиков, заполонивших ее. Конечно, не исключено, что после двойного поражения в Белфасте в 1929 г. взгляды Вудса изменились, однако его более ранняя политическая карьера не дает ни единого намека на то, что он мог бы заразиться экстремальным радикализмом — напротив, она предполагает обратное.
Нельзя рассматривать как доказательство протофашизма Вудса ни его выпады против «старой банды» во время парламентских кампаний, ни его любовь к шествиям при свете факелов. Фраза о «старой банде», возникшая в парламентских спорах в середине XVII в., в XX в. вошла в повседневный политический обиход, обозначая противопоставление молодой энергичности и деловой эффективности консервативной апатии[440]. То, что Вудс раз за разом обращался к этому выражению, указывает скорее на нехватку интеллектуальной оригинальности и риторической изобретательности, чем на какую-либо определенную политическую позицию.
Как уже предполагалось выше, Джойс, скорее всего, впервые обратился к Вудсу в 1931 г., надеясь на помощь в поисках работы, и поддерживал с полковником тесные отношения лишь до тех пор, пока тот мог быть ему полезен. Как писал один из биографов Джойса, «за исключением тесного круга приближенных к нему лиц, Джойс менял товарищей как перчатки. Он, по-видимому, принадлежал к тому типу личностей, которые встречают людей, используют их, ссорятся с ними и бросают»[441]. Учитывая склонность Джойса к фантазированию и самовозвеличиванию, он, скорее всего, хвастался, когда писал Льюису о том, что они с полковником «старые друзья», чтобы поднять свой авторитет в глазах ученика. Льюис, вероятно, распознал обман, когда встретился с ними в том же году. Тот факт, что Вудс предложил Льюису полноценную работу в марте 1933 г., когда тот уже несколько месяцев редактировал газету Британского союза фашистов, предполагает, что Вудс к этому времени не поддерживал тесных или постоянных контактов ни с одним из этих молодых людей.
Это не исключает возможности, что Джойс мог действительно нанести Вудсу один или несколько визитов в Лонг Крендоне во второй половине десятилетия — возможно, по дороге из Лондона на митинги в Оксфорде или Бирмингеме. Учитывая скандальную известность Джойса как подстрекателя, которую он приобрел еще до войны, его визит или непродолжительное пребывание могло вызвать у местного населения излишне пристальный интерес и дать почву для слухов в значительно большей степени, чем в действительности заслуживало это событие, тем более учитывая особое место лорда Хау-Хау в деревенской памяти.
Тот факт, что фашизм привлекал многих людей, принадлежащих к «типу» и социальному окружению Вудса, еще ничего не говорит о его собственных политических взглядах. В дальнейшем в одном частном разговоре он как-то обрушился на самодовольное позирование Мосли[442]. То, что мы знаем о характере и ценностях Вудса, позволяет предположить, что он критиковал лидера фашистов с умеренных, а не с экстремистских позиций. В конце концов, большинство консерваторов не соглашались с Бомонтом и считали, что Британский союз фашистов — это отвратительная, смехотворная и неуместная организация. Эта неприязнь особенно выросла с середины 1934 г., когда (отчасти под влиянием Джойса) риторика британских фашистов стала более одержимой евреями — темой, которая в то время оскорбляла немногих, но энтузиазм вызывала у единиц. Мы уже сталкивались с сухим и слегка сардоническим юмором Вудса (который заметен и в его «Карельском дневнике») и можем предположить, что он, должно быть, отдавал должное Родерику Споуду, персонажу писателя П. Дж. Вудхауса, Восьмому эрлу Сидкапа, «диктатору-любителю» и лидеру «чернопорточников» («к тому времени, как Споуд основал свою ассоциацию, рубашек уже не осталось»[443]), которые приветствовали его: «Хайль, Споуд!»[444]. Также трудно представить, чтобы Вудс мог с уважением относиться к такому «помпезному, самодовольному маленькому созданию» как Уильям Джойс (как описывал его доклад британской контрразведки МИ-5)[445].
Протофашистские идеи не всегда приводили к фашизму. Опыт, который получил Крозье в Ирландии, и его последующая ожесточенная борьба с британскими политиками и бюрократами ради восстановления своего честного имени и получения пенсии заставили его поставить под сомнение принимаемые на веру преимущества современности, культуры и прогресса. «Демократия, — писал Крозье в 1932 г. — если судить о ней по черно-рыжей авантюре, потерпела неудачу, после того как миллион демократов пожертвовали самым дорогим, что у них было, ради спасения Англии»[446]. Диагноз, который он ставил современному обществу и политике, заключался во фразе: «Серьезная болезнь требует серьезных лекарств». Выше уже цитировался его призыв к «сверхчеловеку» с «хваткой Муссолини»[447]. Однако Крозье выбрал путь воинствующего пацифиста и был одним из основных покровителей Союза сторонников мира до своей преждевременной смерти в августе 1937 г. «Его воинственный дух, — писали в одном из некрологов, — был настолько естественен для его характера, что он скорее перенесся, чем трансформировался, в сферу, где он пытался донести до всех свою убежденность в бесполезности войны даже ради самозащиты»[448].
Пацифизм был антитезой прославления насилия, исповедуемого фашистами. В 1932 г. Крозье был среди трехсот человек, которые хотели добровольно записаться в Союз Лиги Наций[449], чтобы в случае будущей войны встать без оружия между армиями, поскольку они верили, что подобный поступок заставит противоборствующие стороны опустить оружие[450]. Незадолго до смерти Крозье опубликовал агрессивно покаянные мемуары под названием «Люди, которых я убил». В его другом некрологе писали, что эту книгу «лучше забыть» за ее «дурной вкус», выражающийся в красочном изображении пьяной, ничем не сдерживаемой животной сущности людей во время сражения[451]. Было бы интересно поразмышлять, какой могла быть реакция Крозье на приближающуюся войну два года спустя, когда многие активисты Союза Лиги Наций, включая ее председателя Стюарта Морриса, вступили в «Звено» — скорее всего, не подозревая об истинной природе и целях этой организации[452]. Разумеется, нельзя провести прямую связь между происхождением, опытом, социальной идентичностью и индивидуальными склонностями человека, с одной стороны, и его этическими ценностями, политическими убеждениями и членством в той или иной партии — с другой.
Что важнее, нам не удалось найти сохранившихся свидетельств, которые подтвердили бы связь Вудса с какой-либо фашистской или радикальной организацией. Если бы он играл в подобной группе активную роль, его имя, скорее всего, неожиданно обнаружилось бы в том или ином источнике, доступном исследователям и просмотренном во время написания данной работы[453]. Не принесли результатов и запросы о Филиппе Вудсе и Веронике Куэстед, посланные ряду историков, специализирующихся в британском фашизме[454].
Разумеется, отсутствие свидетельств о противном не может использоваться для доказательства того, что Вудс не был вовлечен в эти круги[455]. Однако историкам редко приходится иметь дело с полными и точными фактами, поэтому они вынуждены основывать свои выводы и рассуждения на вероятностях. Рассуждая таким образом, мы можем сделать вывод, что Вудс не симпатизировал фашизму и не участвовал в деятельности фашистских организаций. Более того, он, скорее всего, считал отвратительным резкий тон их заявлений и фанатизм их позиции и абсурдными их дикие фантазии, предубеждения и методы — хотя, возможно, и чувствовал схожесть некоторых их идей и ценностей со своими.
Во многих отношениях сложность, двусмысленность и противоречивость, присущие политическим побуждениям Вудса, могут, если не вдаваться в подробности, продемонстрировать политические альтернативы, стоявшие в то время перед средним классом британского общества, разорванного между усталым разочарованием от старого и сильным недоверием к новому. Британия, как мы знаем, отвергла крайние политические решения. Скорее всего, так же поступил и Вудс.
ЭПИЛОГ
Даже если к 1939 г. Вудс и был разочарован агонизирующей политикой своего времени и неуклонным приближением войны, это никак не отразилось на его патриотизме. Как только началась Вторая мировая война (в то время, когда Джойс обживался в Берлине, а Домвилль распускал — по крайней мере, публично — «Звено»), Вудс поспешил вновь поступить на службу в армию. Однако из-за возраста он получил отказ[456]. К началу сентября 1939 г. Вудсу оставалось несколько недель до пятидесяти девяти лет, и он уже четыре года как «превысил верхнюю границу годного к службе возраста»[457].
Один из старожилов Лонг Крендона вспоминал, что именно Вудс «узнал Уильяма Джойса по его радиопередачам». Нет причин сомневаться, что Вудс узнал диктора (которого в середине сентября один британский юморист прозвал Лордом Хау-Хау) и доложил об этом в полицию. Однако Джойс обладал очень характерным голосом, который узнавали многие люди, и из этого нельзя сделать выводы о степени близости их более ранних отношений[458].
В любом случае, в то время Вудс был занят более серьезными и важными делами. В июне 1940 г. полковник направил генералу Айронсайду, который в то время был главнокомандующим Вооруженными силами метрополии (до своей внезапной отставки в середине июля), новую схему системы радиомаяков, разработанную бывшими младшими офицерами Карельского полка, которая должна была «устранить серьезные недостатки в обороне нашей страны»[459].
В следующем году Вудс работал в Движении национальных сбережений в отделении Ист Райдинга, для чего он переехал из Букингемшира на север — сначала в рыбачий порт Халл, а потом в маленький и более привлекательный прибрежный городок Бридлингтон. Первая кампания Национальных сбережений была организована во время Первой мировой войны, чтобы убедить людей вкладывать деньги в военную экономику через специальные облигации. В конце 1939 г. была основана сеть региональных и местных комитетов для координации усилий по привлечению средств, достижению целей и анализу результатов. Руководили этими комитетами, как правило, отставные офицеры или другие уважаемые люди из числа местного населения; у нас отсутствуют сведения, почему Вудсу, чтобы занять эту должность, потребовалось переехать из Лонг Крендона в графство Йоркшир.
Кроме поощрения в регионах экономии, сбережений и вложений в правительственные займы (посредством облигаций обороны, военных сберегательных сертификатов и пр.), каждый год Движение национальных сбережений организовывало активную недельную кампанию по сбору средств на определенные цели, с многочисленными плакатами, митингами и общественными мероприятиями, такими как концерты, церковные праздники и чайные танцевальные вечера. В 1941 г. Ассоциация национальных сбережений Ист Райдинга и ее дочерние комитеты организовали «Неделю Военного Оружия», а в 1942 г. — «Неделю Боевых Кораблей». Темой 1943 г. были «Крылья Победы» (в Бридлингтоне местный оркестр Королевских ВВС в течение недели в июле каждый день давал благотворительные концерты), а в 1944 г. — «Салют Солдату». Вероятно, Вудс также записался в S-й (Ист-Райдингский) батальон Местной обороны.
Во время работы Вудса в Движении национальных сбережений он купил большой дом и квартиру поменьше в Бридлингтоне и сдал коттедж Уэлл в субаренду своему родственнику. После окончания войны он какое-то время прожил в Йоркшире, потом ненадолго вернулся в Белфаст и снова поселился в Лонг Крендоне. В Северной Ирландии он вновь начал работать льняным дизайнером у своего брата, специализируясь на качественных «дамасских» узорах. Через некоторое время после окончания войны семейный бизнес был ликвидирован или продан. Вернувшись в Англию, Вудс продолжил выполнять заказы ольстерских льняных фирм, разрабатывая сложные узоры с изображением цветов для лоскутных одеял, а также начал в качестве хобби плести гобелены очень больших размеров.
Пока Вудс старел и проводил дни за ткачеством, распалась Британская империя. Возникли новые государства, долгое время мечтавшие о независимости. Их этнографические и географические границы часто определялись их колониальным прошлым. После Первой мировой войны и распада Российской империи карелы, попытавшиеся добиться национального самоопределения, потерпели неудачу. Через тридцать лет и после другой мировой войны африканские и азиатские народы нашли вдохновение, указания и силу в тех же базовых принципах, впервые провозглашенных и морально обоснованных Вудро Вильсоном в 1919 г. На этот раз народы одержали победу. Это был новый мир Организации Объединенных Наций, холодной войны и ядерных вооружений, в котором Британия больше не играла основной роли. Через несколько лет в Северной Ирландии вновь зазвучало название Добровольческих сил Ольстера, которое взяла военизированная группа, поставившая целью противодействовать борьбе Ирландской республиканской армии за объединенную Ирландию. Регион на следующие сорок лет погрузился в пучину терроризма и гражданских конфликтов. Филипп Джеймс Вудс мирно скончался от сердечного приступа в коттедже Уэлл, в Лонг Крендоне, 12 сентября 1961 г., не дожив несколько дней до своего восемьдесят первого дня рождения[460].
* * *
Хотя Вудс пытался опубликовать свои карельские мемуары еще при жизни, лишь сейчас они выносятся на суд публики. Хочется надеяться, что эта работа станет свидетельством жизни, которая сама по себе была исключительной и необычной и которая в то же время символизировала опыт всего этого потерянного поколения людей — а это, по сути, именно история людей, — чьи представления об идеализме, героизме и чести, пришедшие из XIX в., столкнулись с испытанием тотальной войной, упадком империи, социальными волнениями и политическим кризисом. Некоторые выдержали переход к новому веку с достоинством и терпением, стараясь сформировать новый гуманистический моральный порядок, чтобы приручить хаос современности. Другие стали жертвами менее благородных позывов, поддерживая и поощряя ярость, насилие, разрушение и беспорядок — все то, что сломало их собственные жизни.
Как историки, мы не можем сказать с полной уверенностью, как Филипп Вудс ответил на все вопросы, поставленные перед ним началом XX в. Однако эти неотвеченные вопросы его жизни, нехватка определенной биографической точности в действительности не имеют значения. Они оставляют нам — историку, читателю, современному комментатору — пространство для размышлений, экспериментов в сопереживании и исторической интуиции. Вудс был человеком своего времени, какими бы особенными и нехарактерными ни были его личность и карьера. С позиций сегодняшнего дня нам трудно выносить сколько-нибудь сложные суждения, которые бы не являлись анахронизмами. Мы лишь можем анализировать действия человека в прошлом в свете тех дилемм, которые стояли перед ним в то время, и размышлять, как мы ответили бы на новые дилеммы и альтернативы нашего собственного века.
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ «КАРЕЛЬСКОГО ДНЕВНИКА»
1917, 23 декабря …… Высший военный совет союзников поддержал антибольшевистские силы в России.
1918, 15 марта …… Большевики подписывают Брест-Литовский мирный договор с Германией.
16 марта …… Генерал Альфред Нокс подает меморандум «Отсрочка на Востоке», в котором рекомендует разместить в Архангельске союзные войска численностью 5000 человек.
3 апреля …… Немецкие войска под руководством генерала фон дер Гольца высаживаются в Финляндии.
24 мая …… Британия усиливает отряд своих морских пехотинцев (160 человек), высаженный в марте, войсками численностью 370 человек под командованием генерал-майора Ф. К. Пуля.
3 июня …… Высший военный совет союзников одобряет отправку в Мурманск крупных сил «сирены» под командованием генерал-майора Ч. М. Мейнарда. После этого Пуль перебрасывает свои войска в Архангельск, сохраняя общее командование над силами союзников на севере России.
18 июня …… Судно «Марсель» с британскими силами на борту отправляется из Ньюкасла.
23 июня …… Прибытие британских сил в Мурманск.
27 июня — 3 июля …… Мейнард берет под контроль Мурманскую железную дорогу, разместив войска в Кандалакше и Кеми (под командованием майора Л. А. Дрейк-Брокмана). Большевики под командованием комиссара И. Д. Спиридонова отходят на юг.
3 июля …… Вудс отправляется из Мурманска на бронепоезде. Прибытие в Кемь.
6 июля …… Союзники подписывают соглашение с Мурманским Советом о поставке продовольствия на территории от Мурманска до Кеми на юге. Совет сохраняет власть над администрацией и русскими войсками.
7 июля …… Мейнард приезжает в Кемь, где дает Вудсу приказ сформировать и возглавить карельские войска.
1 августа …… Пуль высаживается в Архангельске. Для управления Северной областью (включавшей Архангельск, Мурманск и Карелию) создается белогвардейское Временное правительство.
9 августа …… Мейнард вновь приезжает в Кемь и проводит инспекцию карельских войск Вудса.
15 августа …… Три колонны карельских войск выходят из Кеми, чтобы атаковать перешедшие границу финские войска под командованием немецких офицеров.
28 августа …… Силы Вудса захватывают Юшкозеро.
30 августа …… Карельские войска начинают сражение в Панозере. Вудс узнает, что 2000 белофиннов собираются контратаковать с юго-запада.
11 сентября …… Вудс докладывает из Ухты: «Враг потерпел сокрушительное поражение, окончившееся полным и беспорядочным бегством». Карельские силы возвращаются в Кемь.
22 сентября …… Карельские силы окружают уцелевших белофиннов на острове неподалеку от Вокнаволока.
7 октября …… После роспуска Мурманского Совета местная власть переходит к заместителю губернатора М. Ермолову, который подчинен генерал-губернатору в Архангельске.
13 октября …… Вудс докладывает, что во время попытки прорвать осаду под Вокнаволоком убито 214 белофиннов. «Сейчас в той части Карелии, которая находится под моим командованием, белофиннов больше не осталось». Конец кампании.
16 октября …… Пуль покидает север России, командование архангельскими силами принимает бригадный генерал Эдмунд Айронсайд.
5 ноября …… Мурманские силы Мейнарда, включая 237-ю пехотную бригаду (под командованием бригадного генерала Ф. Дж. Марша, которому подчинен Карельский полк Вудса), выводятся из подчинения архангельским силам.
11 ноября …… На Западном фронте союзники и Германия подписывают перемирие.
4 декабря …… Марш по состоянию здоровья возвращается в Британию. До прибытия бригадного генерала М. Н. Тернера (командующего 236-й бригадой) на несколько дней командование 237-й бригадой принимает Вудс. В начале января командование 237-й бригадой переходит к бригадному генералу Дж. Д. Прайсу.
1919, 12 января …… Тернер встречается с Вудсом и Дрейк-Брокманом, чтобы согласовать дислокацию карельских войск на зимний период. Мейнард выдвигает 4-й Карельский (Олонецкий) батальон под командованием Дрейк-Брокмана на юг Карелии против большевиков.
21 января …… Вудс передает Прайсу первую петицию карелов «Его Величеству Королю Великобритании», в которой высказывается просьба о самоопределении под защитой Британии.
7 февраля …… Мейнард проводит смотр Карельского полка в Кеми, вручает военные награды. Обсуждает с Прайсом и Вудсом подготовку к переводу Карельского полка под командование белогвардейских сил, в результате чего в 4-й Карельский (Олонецкий) батальон назначается первый русский офицер, граф Беннигсен. После этого он встречается с лидерами красных финнов, Оскари Токоем и Вернером Лехтимяки.
14 февраля …… Белогвардейский заместитель генерал-губернатора Северной области В. В. Ермолов посылает рапорт с обвинениями в адрес Карельского полка и Вудса генерал-губернатору Е. К. Миллеру в Архангельск.
16-18 февраля …… Проводится встреча представителей карелов в Кеми, организованная Григорием Лежевым и Ииво Ахава. Принимается решение о выборах в Карельское учредительное собрание, о представительстве на Парижской мирной конференции и о создании временного Национального комитета. Прайс зачитывает телеграмму Мейнарда и произносит собственную речь — в обеих отвергаются все претензии карелов на самоопределение.
18 февраля …… Полковник Льюин, начальник штаба Мейнарда, встречается с Ермоловым и полковником Костанди, начальником Военного отдела Мурманского края. На встрече принимается решение сузить район действий карельских сил, ограничить набор, заменить британских офицеров на русских и слить 4-й Карельский (Олонецкий) батальон со Славяно-Британским легионом в южной Карелии, чтобы сформировать смешанный русско-карельский Олонецкий полк под командованием подполковника Л. Дж. Мура.
18 февраля …… В центральной Карелии силы союзников захватывают 1 у большевиков Сегежу.
4 марта …… Правительство военного времени в Лондоне обсуждает эвакуацию сил из северной России в течение лета. Позже в марте согласуется график эвакуации.
5 марта …… Опасаясь волнений, Прайс приказывает Карельскому полку сдать пулеметы Льюиса и боеприпасы. Вудс обходит приказ.
11 марта …… После получения второй петиции от карелов с просьбой о британской поддержке Мейнард встречается в Кеми с Ермоловым. Он допрашивает лидеров карелов, отвергает их просьбы, однако отказывается принять карательные меры, несмотря на требования белых сил.
31 марта …… Получив рапорты о возможных волнениях 10 апреля, планируемых сторонниками большевиков в Мурманске, Карельском полку и Финском легионе, Мейнард предпринимает превентивные меры. Как следствие, белогвардейцы арестовывают и высылают большую группу финнов и карелов, подозреваемых в большевистской агитации, с территорий, удерживаемых союзниками.
6 апреля …… Вудс посылает Мейнарду сообщение, в котором просит, чтобы командование «сирен» официально признало безупречную лояльность карелов.
8 апреля …… В «Таймс» публикуется сообщение, содержащее косвенные обвинения Карельского полка в подготовке восстания.
9 апреля …… Еще одно сообщение «Таймс» о «королевских ирландских карелах».
12 апреля …… Вудс задерживает Ииво Ахаву в Кеми после получения обвинений белогвардейцев в его адрес. После этого он отпускает Ииво Ахаву, чтобы тот вновь присоединился к Финскому легиону, однако по имеющейся информации карельский офицер убит сербами по приказу белогвардейцев.
26 апреля …… Мейнард узнает, что финские добровольцы наступают на большевиков под Олонцом и Петрозаводском.
29 апреля …… После протестов Вудса, направленных Мейнарду по поводу публикации в «Таймс» от 8 апреля, газета публикует заявление Военного министерства под заголовком «Непоколебимые карельские союзники».
апрель—май …… Силы союзников, включая Олонецкий полк, начинают наступление из Сегежи в сторону Онежского озера.
11 мая …… Олонецкий полк наносит большевикам поражение под Карельской Масельгой. Смерть майора Л. А. Дрейк-Брокмана. В тот же день Вудс принимает официальное командование Кемским военным округом.
18 мая …… Силы союзников захватывают Повенец на Онежском озере.
20 мая …… Отдан приказ о расформировании единого Карельского полка, вместо которого образуются отдельный Добровольческий батальон, Саперно-строительная часть, гарнизонная и пограничная охрана и невооруженный трудовой батальон. Вудс сохраняет общее командование над всеми этими частями и получает повышение до полного полковника.
21 мая …… Силы союзников захватывают Медвежьегорск.
6 июня …… Генерал Скобельцын прибывает в Кемь, чтобы принять командование над Новой мурманской армией.
8 июня …… Карельские солдаты в Кеми отказываются подчиняться приказам после конфликта с офицерами Королевских ВВС. Вудсу удается на время успокоить ситуацию.
19 июня …… Вудс и другие союзные офицеры прибывают на американский флагман, стоящий в порту Попова Острова, на встречу с адмиралом Мак-Калли, где обсуждается антибританская пропаганда среди карелов, проводившаяся американскими моряками.
30 июня …… Происходит расформирование и реорганизация Карельского полка по указанной выше схеме.
2 июля …… На фоне продолжающегося дезертирства и недисциплинированного поведения в карельских войсках Вудс посылает письмо полковнику X. С. Филселлу, командиру Добровольческого батальона, в котором советует, чтобы он и его офицеры обращались с карелами, как с «белыми людьми».
5 июля …… Мейнард и русский генерал Марушевский обращаются к карельским силам в Кеми с предупреждением, что они должны соблюдать дисциплину, обещая в противном случае принять соответствующие меры.
11 июля …… Карельский добровольческий батальон выдвигается из Кеми в Повенец для подготовки к операциям против большевиков в южной Карелии.
18 июля …… Вудс подает майору Гроуву из штаба 237-й бригады рапорт, в котором обвиняет Филселла в «упорном обращении с карелами как с неграми» и рекомендует отстранить его от должности. Бригадный генерал Прайс не принимает просьбу Филселла об отставке с поста командира батальона.
19 июля …… Мейнард инспектирует в Повенце Карельский добровольческий батальон Филселла и партизанский отряд полковника Круглякова.
20 июля …… Восстание в 5-м русском пехотном полку под командованием полковника Эндрюса в Онеге (Архангельская губерния).
21 июля …… В Ухте встречаются представители карелов, ратифицируя февральскую резолюцию о самоопределении и выборах. Под усиливающимся финским влиянием Национальный комитет преобразуется во Временное правительство Архангельской Карелии.
24 июля …… Мейнард отправляет Вудса из Кеми в Сумский Посад, чтобы тот с помощью местных нерегулярных сил удерживал территорию между Онегой и Сумским Посадом, не позволяя прервать сообщение по суше между мурманскими и архангельскими силами союзников.
5 августа …… В результате непрекращающегося дезертирства штаб-квартира Мейнарда сообщает, что «Карельский саперно-строительный батальон прекратил свое существование».
13 сентября …… Карельский Добровольческий батальон Филселла («практически одни необученные новобранцы») ведет успешные боевые действия в южной Карелии.
1-27 сентября …… Эвакуация архангельских сил.
14 сентября …… Последнее наступление на юге для выпрямления линии фронта по реке Суне к северу от Петрозаводска. В тот же день штаб-квартира Мейнарда отдает приказ о роспуске Карельского Добровольческого батальона к концу месяца с переводом всех войск в русскую армию генерала Скобельцына.
19 сентября …… Штаб-квартира Мейнарда отдает приказ Вудсу сдать командование над Сорокским районом русской армии и вернуться в Кемь.
22 сентября — 12 октября …… Эвакуация мурманских сил.
ПРИЛОЖЕНИЯ[461]
Приложение А
Письмо генерала Ч. М. Мейнарда полковнику Ф. Дж. Вудсу от 29 августа 1918 г. (машинопись) с приложенной запиской от бригадного генерала Ф. Дж. Марша полковнику Вудсу от 31 августа 1918 г. (написана от руки).
Мурманск
29 августа 1918 г.
Дорогой Вудс!
Из вашего письма от 23 августа очевидно, что вам неизвестна общая военная ситуация, поэтому я вкратце обрисую ее. Именно в связи с этой ситуацией я проинструктировал полковника Марша отдать вам приказ об отступлении обратно в Кемь в конце сентября. Я очень хочу, чтобы вы и ваши офицеры поняли: наш главный враг — не ФИННЫ и не БОЛЬШЕВИКИ. Для меня не имеет большого значения, очистите ли вы от белофиннов КАРЕЛИЮ или нет. Ваша экспедиция является крайне полезной, так как благодаря ей наш западный фланг находится в относительной безопасности, ваши люди получают опыт, и вы можете рекрутировать новобранцев. Но я хочу, чтобы эти новобранцы сражались с НЕМЦАМИ, так как они — единственные, кого нам нужно действительно опасаться. В настоящее время в Финляндии находится 70 000 немцев, из которых около 35 000 — в ее северной части. Из последнего числа от 12 000 до 15 000 тысяч угрожают непосредственно Кандалакше и могут начать наступление на железную дорогу в любое время. Теперь вы можете понять свою ситуацию. Если железная дорога будет перерезана к северу от КЕМИ до того, как здесь наступит зима, по крайней мере, останется шанс эвакуировать гарнизон Кеми по морю, но даже если железная дорога не будет перерезана и КЕМЬ не будет атакована, у меня нет намерений оставлять гарнизон в Кеми после начала октября. Что вы и ваши силы будете делать, если вы не вернетесь в Кемь до конца сентября? Когда мы уйдем из Кеми, ее практически наверняка займут большевики, и шансы ваших людей на уход из Кеми по морю значительно снизятся в связи с тем фактом, что вам придется с боями прорываться в порт погрузки. Однако даже при этом сохраняется шанс на отступление по морю до начала декабря — после этого возможностей уже не будет, так как мы не пойдем на риск потерять судно во льдах Белого моря. Также не забудьте, что без ваших карелов я буду вынужден оставить и КАНДАЛАКШУ, и ближайшие к вам британские войска будут находиться лишь в тридцати милях к югу от Мурманска, разве что финны Бертона не застрянут здесь, как и ваши люди, и откажутся сражаться где-либо за исключением района к юго-западу от Кандалакши. Однако, если это будет в моих силах, они не станут этого делать, так как в моих планах их переброска на север играет весьма важную роль.
Разумеется, сейчас вы и ваши люди можете выполнить очень полезную работу, оставшись в Карелии в роли наемных солдат, если у вас уже достаточно людей, чтобы убедить их атаковать правый фланг немцев в случае их наступления с запада на Кандалакшу или разрушить железную дорогу и атаковать их линии снабжения с юга в случае попыток немцев и большевиков наступать вдоль железной дороги на север. Однако как вы решите проблему снабжения и расквартирования войск на зиму? Полковник Марш мог бы прислать вам в Кемь припасы и снаряжение, которых хватило бы примерно на 800 человек на 6 месяцев, однако сможете ли вы справиться с доставкой этого груза из Кеми в вашу часть света? Но даже если вы это сделаете, какие гарантии вы можете дать, что эти припасы не попадут в руки немцев, финнов или большевиков, для которых они гораздо важнее, чем новобранцы. И что насчет вашего зимнего обмундирования? Оно еще не прибыло из Англии и может задержаться в пути еще на несколько недель. Поэтому, если вы не отойдете на север по железной дороге, скорее всего, вы не сможете получить его вообще, так как я не смогу переправить его в Кемь до конца сентября. Как вы можете видеть, кроме чувств ваших карелов есть много других вещей, о которых нужно позаботиться.
Мне все-таки кажется, что у вас может получиться убедить их идти в Кандалакшу, если вы укажете следующее:
(A) Они смогут свободно организовывать оттуда военные операции на своих территориях.
(B) Их оставят всех вместе в едином соединении.
(C) Это единственный вариант, при котором они смогут получить зимнее обмундирование, отправленное для них, и будут обеспечены продовольствием на зимний период.
(D) Только в этом случае я смогу вооружить их пулеметами, которые будут особенно полезны зимой.
(E) В Кандалакше для них приготовлены казармы, куда они могут вернуться после экспедиции для освобождения своей страны.
(F) Они должны рассматривать в качестве своих врагов не только финнов, поскольку известно, что немецкие войска готовятся начать вторжение в Карелию. И у них не будет шансов успешно противостоять им без подходящей базы с продовольствием и боеприпасами, что может предложить Кандалакша.
Что касается (В), я бы упразднил подразделение, которое предлагал использовать для охраны моста через НИВУ к юго-востоку от озера ИМАНДРА, так как, если бы они стояли в Кандалакше и были бы выдавлены оттуда врагом, они смогли бы вернуться в МУРМАНСК, перебравшись на восточный берег НИВЫ по льду моря или пересечь НИВУ значительно выше по течению на северо-запад, где она впадает в озеро, которое бы к тому времени замерзло. В целом, я не хочу подвергать опасности ни вашу жизнь, ни жизнь ни одного британца, находящегося рядом с вами, поэтому я не настаиваю, чтобы вы приказали вашим людям вернуться в Кемь в конце сентября и потом заставили их идти в Кандалакшу. Изложите им все мои соображения, взывайте всеми способами к их патриотизму, объясняя, насколько выгодно это окажется для них в долгосрочной перспективе. Если они откажутся покинуть свою страну (но не ранее этого), скажите, что вы оставите им винтовки и боеприпасы и доставите им столько продовольствия, сколько будет возможно, но больше ничего сделать не сможете. Возможно, вам удастся найти добровольцев, которые вернутся вместе с вами в КЕМЬ, что поможет осуществить мои намерения. Если они решат, что не станут уходить из той местности, где находятся сейчас, я не собираюсь приказывать вам или любому из ваших офицеров или других британцев оставаться с ними, а если у вас имеется подобное желание, вы должны четко представлять себе вашу ситуацию. Я могу попросить полковника Марша прислать в Кемь месячный запас продовольствия на 800 человек и дополнительные боеприпасы, если вы в них нуждаетесь. Я также могу прислать зимнее обмундирование, если оно придет вовремя. Но даже если вы получите все, что хотите, из перечисленного выше, вы должны помнить, что будете полностью отрезаны от остальных моих сил примерно на восемь месяцев и окажетесь в полной изоляции — по крайней мере, если не сможете добраться до МУРМАНСКА пешком, так как железная дорога по причинам практического характера будет взорвана.
Полковник Марш, под чьим подчинением вы в данное время находитесь, читал это письмо и переправит его (вместе с любыми своими инструкциями) с офицером, который полностью введен в курс дела. Вы должны отправить этого или какого-либо другого офицера обратно к полковнику Маршу как можно скорее с письмом, в котором будет изложено ваше решение и подробно описано то, в чем вы нуждаетесь — в зависимости от того плана действий, который вы выберете. Это нужно сделать быстро, особенно если кто-то из британцев решит остаться. Я не хочу, чтобы вы оказывали давление на кого-либо из британцев, убеждая их остаться с вашими людьми, если они решат последовать моим советам. В действительности, я убежден, что, если они решат по-своему, для всех британцев будет разумно прибыть в Кемь к 30 сентября, разве что вы готовы провести здесь весьма суровую зиму в качестве некоего Короля Карелии. Я окажу вам поддержку, какое бы решение вы ни приняли, но в вопросе дат компромисса быть не должно — я должен взорвать железную дорогу в случае соответствующей ситуации, к тому же дополнительные трудности возникнут в связи с необходимостью эвакуировать карелов по морю после того, как я оставлю КЕМЬ, что, скорее всего, произойдет в начале октября. Если вы решите расстаться со своими людьми, внушите им необходимость как можно больше беспокоить любые немецкие войска, которые могут попытаться прорваться к железной дороге через Карелию, особенно в северной части рядом с Кандалакшей. Также скажите им, что любой человек, который сможет пробраться к нам с любой информацией о передвижениях немцев, будет вознагражден. Не думайте, что мне безразлична ваша позиция. Я понимаю вас, но мне приходится смотреть на вещи шире, чем вам. Обсудите все это непосредственно с полковником Маршем. В данной момент он находится рядом со мной и полностью введен в курс дела. Если вы сможете убедить своих подчиненных идти в Кандалакшу, это будет считаться лучшим достижением всей вашей жизни. Но, что бы вы ни решили предпринять, желаю вам большой удачи.
Искренне ваш Ч. М. Мейнард.
* * *
АСС2
Кандалакша, 31 августа
Дорогой Вудс!
Сегодня я прибыл сюда с этим письмом, которое передаю главному офицеру в Кеми[462]. Офицер, который доставит его вам, будет ознакомлен с его содержанием. Пожалуйста, подтвердите его получение по телеграфу из Кеми, указав как ответ на АСС2.
Я боюсь, что вам покажется затруднительной просьба бросить войска, которые вы организовали, но это остается единственной альтернативой в том случае, если они откажутся идти на север и присоединиться к нашим силам обороны, дислоцированным рядом с Колой. Однако это и было нашей единственной целью, когда мы продвигались на юг: собрать и организовать местных жителей.
Я ожидаю вашего решения: возвращаются ли ваши войска в Кемь к 30 сентября? Мне нужно подстроить другие планы под ваше решение. Эта работа не обещает быть легкой или приятной и для меня, однако чем дольше мы ее откладываем, тем менее выполнимой она становится.
Искренне ваш Ф. Дж. Марш.Приложение В
Запись обращения бригадного генерала Прайса к съезду представителей карелов в штабе Карельского полка, Кемь, 17 февраля 1919 г., включая телеграмму карелам от генерала Меинарда (машинопись, на русском языке, с многочисленными исправлениями и дополнениями от руки)[463].
Господа!
Его Превосходительство Генерал Прейс, командующий 237 союзной Бригадой, призывает меня читать вам следующую телеграмму, полученную от Главнокомандующего Союзными Силами в Мурманске.
* * *
Телеграмма
Союзное Командование не поддержит никакого предложения об отделении от России.
Зависимость Карелов от России является безусловно необходимой в интересах обеих сторон.
Союзное Командование будет, как и раньше, заботиться о благополучии Карелии только в том случае, если они признают себя частью России.
Его превосходительство генерал Прейс приказывает мне также сообщить следующее.
Я уверен, что в настоящее время представители Карелии согласятся со мною, что время еще не наступило для того, чтобы говорить о независимости. Цель, ради которой Союзники находятся здесь и ради которой Карелы так хорошо и верно им помогают, заключается в том, чтобы искоренить и уничтожить Большевиков. Все вы знаете, что такое Большевизм — это разрушение и ограбление всего имущества. Ваши деньги будут отняты, ни один дом не будет в безопасности, и даже ваши жены и дочери по последнему декрету будут принуждены стать публичным достоянием всех. Поэтому, пока Большевики и их защитники не уничтожены, не может быть порядка, мира и безопасности для народа, среди которого они существуют. Вам скажут, что Большевизм существует в Англии, Франции, Италии и Америке. Это ложь. Правда, есть Большевики в Германии, которые желают перенести анархию и разорение, существующие в России, в свою страну, но Германский народ знает, что такое Большевизм, особенно те, кто работает на земле и желают мира и спокойствия, а потому теперь сражается против Большевизма и почти победил его у себя. Поэтому и здесь, в России, наш долг всех союзников — Англичан, Французов, Итальянцев, Русских и Карелов — сражаться против этого зла по примеру наших бывших врагов до тех пор, пока Россия не будет очищена и освобождена и не сможет создать снова великое государство, которое сейчас беспомощно вследствие преступной работы Большевиков. Когда это будет сделано, то наступит время, когда будет созвано великое собрание представителей всех народов, находящихся под властью России, и те народы, которые помогли России в часы ее несчастья, представят ему свои просьбы о местном самоуправлении, которое будет избрано ими самими. Я понимаю под этим, что население этого края будет само ведать своими внутренними делами — такие же предприятия, как почта и железные дороги, должны находиться в заведывании центральной власти. В то же самое время Союзное командование будет и в будущем, как и прежде, заботиться о благополучии Карелии. Как только край окажется достаточно успокоенным и освобожденным от большевистского влияния, все усилия будут приложены к тому, чтобы ввезти в него продовольствие, одежду и земледельческие орудия и все необходимое для того, чтобы Карелы могли развить свой край и его производительные силы, и тем обеспечить им благосостояние, доселе неизвестное.
Правительство Новой России явится властью, избранной всеми народами, которые создадут ее обширную империю. Поэтому долг всех Карелов — приложить все свои силы к тому, чтобы было обрадовано это русское правительство, в которое войдут, конечно, и их представители этой власти, они и представят свое ходатайство о местном самоуправлении. Я поэтому прошу вас, представителей Карелии, вернуться домой и указать своим землякам, что Мир, благополучие и счастье Карелии возможны только в тесном единении с раздробленной и разгромленной Россией настоящего времени и в возрождении единой и свободной России будущего. Заря этого возрождения уже засияла.
Приложение С
Письмо полковника Ф. Дж. Вудса, командующего Карельским полком, подполковнику X. С. Филселлу, командиру 1-го вспомогательного батальона Карельского полка, Кемь, 2 июля 1919 г. (машинопись, без подписи).
Кому: Командиру 1-го вспомогательного батальона Карельского полка.
Мне хотелось бы привлечь внимание ваших офицеров к следующим вопросам: —
(1). Батальон, которым вы командуете, был очищен от всех подозрительных лиц и не желающих воевать солдат и сейчас, по моему мнению, составлен из самого лучшего боевого материала в мире. Некоторые из ваших младших офицеров могут полагать, что они знают все о карелах, но я могу уверить вас, что они даже еще не начали узнавать о их мужестве, способностях и природных боевых качествах. Без сомнения, ответом на это будет несколько дешевых саркастических ухмылок или замечаний, когда они мысленно вспомнят свой недолгий опыт, — но я видел, как карелы сражаются — я знаю, на что они способны, и если с ними обращаться, как с «белыми людьми», они и будут вести себя соответствующим образом — достойнее, чем многие другие люди, у которых были шансы получше.
(2). Карельский «кадет» в течение нескольких последних месяцев оказался в крайне сложной ситуации. Британские офицеры обращаются с ним, как с туземцем, а для карельских солдат он — подозрительная личность. Эти офицеры готовы и хотят ответить на любое проявление доброжелательности, и человек, который говорит на их языке, — это тот, кто может поддержать вас или подвести, когда возникнет соответствующая ситуация. Карельский «кадет» — это белый человек, остающийся верным по отношению к нам — несмотря на обращение с ним в прошлом — и эта верность будет определять очень многое, что опять-таки зависит от того, как вы к нему относитесь; и получится ли у вас сделать прекрасное боевое подразделение, или вы испортите его — это будет зависеть от того, поймете ли вы, чем вы сейчас имеете честь командовать, и от того, сможете ли вы забыть ограниченные и абсурдные стереотипы.
(3). Я хотел бы подчеркнуть, что люди, которыми вы имеете честь командовать, устояли перед пропагандой своих родственников и «друзей». Они сдержались против соблазнов своих женщин, они оставили свои семьи по зову иностранцев — потому что они хотят сражаться с большевиками — а не потому что их заставили, Финляндия бесплатно снабжает их семьи продовольствием — чтобы они покинули полк. И тем не менее они пришли. Учитывая то, сколько агитаторов работало против них, я полагаю, что батальон состоит из лучших людей, которыми можно желать командовать.
(4). Если есть офицеры, которые считают, что после первых же выстрелов эти солдаты побегут, я хочу, чтобы они сейчас же вернулись сюда. Я найду им должности в каком-нибудь другом подразделении, где их уверенность не будет столь сильно страдать. Здесь есть много офицеров, которые будут весьма рады заменить любого офицера во Вспомогательном батальоне.
(5). Николай Рогиев служит во Вспомогательном батальоне по своей собственной просьбе. Он сыграл ключевую роль в операциях Карельского полка против белофиннов, возглавляемых немцами, прошлым летом. Я рекомендовал его к ордену «За безупречную службу». Он вел за собой две роты (500 человек) в пяти рукопашных схватках с исключительной храбростью и успехом. Он знает о боях в лесных условиях больше, чем любой британец в России. — Он также знает, как вести карелов в бой. Он идеально, вплоть до буквы, знает российский военный устав, поэтому, если вы не снисходите до использования его опыта и умений и будете продолжать вести себя с ним как с невежественным дикарем — что же, значит, вам недостает мозгов в вашей собственной голове.
Командующий Карельским полком.Приложение D
Обращение генерал-майора Ч. М. Мейнарда, главнокомандующего силами союзников, Мурманск, к Карельскому добровольческому батальону и Карельской саперно-строительной роте, Кемь, 5 июля 1919 г. (машинопись).
Солдаты Карельского добровольческого батальона и Карельской саперно-строительной роты: —
Пришло время для прямого разговора, и я собираюсь поговорить с вами очень откровенно. То, что я собираюсь сказать, никоим образом не относится к вашим британским офицерам, а только к вам, карелам. Для начала я хочу, чтобы вы поняли раз и навсегда: у меня нет никаких намерений потакать недисциплинированности, которую вы демонстрируете последнее время. Мне более чем достаточно вашей чепухи, и это должно прекратиться. То, как мне придется прекратить это, зависит от вас, о чем я скажу дальше.
Я уже давно знаю, что среди вас работают агитаторы, старающиеся склонить вас к предательству как по отношению к вашей собственной стране, так и к союзникам. Я также знаю, что многие из вас оказались такими невежественными дураками, что поверили этим агитаторам и позволили убедить себя забыть все то, что сделали для вас и я, и полковник ВУДС в прошлом году. Вы, кажется, не осознаете, что за прошедшие месяцы от вас было мало или никакой пользы как от СОЛДАТ ни для меня, ни для кого-либо еще, и все же вам платили и вас кормили, словно вы были настоящими солдатами, а не бесполезными мошенниками. Это не могло продолжаться вечно, ведь почему вы должны получать зарплату и ходить одетыми, когда вы не делаете практически ничего для своей страны или для союзников в то время, когда каждый мужчина, достойный называться мужчиной, должен по мере своих сил помогать своей Стране и своему Правительству, которое дало ему закон и порядок, деньги и пищу. Поэтому я дал вам шанс сделать что-то полезное. Я сформировал новый батальон, новую саперно-строительную роту и другие подразделения, и вам сказали, что при желании вы можете в них вступить. Вас не принуждали вступать в них, и условия службы были вам полностью разъяснены. Те, кто сейчас находится на построении, вступили в батальон и саперно-строительную роту по своему свободному желанию, но не успели вы начать новую службу, как снова стали источником проблем. Кажется, что вы думаете, что можете уходить и возвращаться, когда пожелаете, и делать все, что хотите. Уже было много случаев неповиновения, несколько случаев дезертирства, и все это время вы были настолько нелояльными, что слушали пропаганду, направленную против союзников, которые все делают для вас. Мы с полковником Вудсом какое-то время выжидали, так как надеялись, что к вам вернется здравый смысл, но число трусов среди вас, которые уже дезертировали, и количество случаев неповиновения заставляют меня дать вам четко понять: я больше не потерплю, чтобы меня дурачили. Неужели вы думаете, что как главнокомандующий силами союзников, которые сейчас насчитывают тысячи русских, я буду и дальше так же беспокоиться о горстке карелов, многие из которых оказались предателями и большая часть которых показывает, что их женщины более достойны называться солдатами, чем они. Вы — посмешище для русских войск, которые стоят сейчас на фронте, и совершенно справедливо. Они говорят, что вы хотите спрятаться за их спинами, что вам ни до чего нет дела, кроме как набить свои животы и получить свои деньги, и что у вас не хватает мужества шевельнуть хотя бы пальцем ради блага вашей Страны. Об этом говорят не только русские войска на фронте, но и союзники и русское гражданское население, и у них есть полное право говорить это. Что касается тех из вас, кто уже дезертировал, то они дезертировали, находясь на действительной службе. Они прекрасно осознавали, что делают, и если их поймают, то они не должны удивляться, что их заставят понести полное наказание — они будут казнены. Их имена будут даны русским властям, поэтому маловероятно, что им удастся избежать поимки и суда в будущем, а, возможно, и уже сейчас.
Я хочу дать вам, солдаты, еще один шанс, чтобы вы смогли избежать той судьбы, которая поджидает тех, кто дезертировал, и я делаю это главным образом ради полковника Вудса, который уже в течение года выбивается из сил для вашего блага и который очень разочарован вашим поведением. Поэтому сейчас я сообщаю, что каждый из вас, кто хочет уйти, может сделать это прямо сейчас. Но он должен четко понимать, что делает это на следующих условиях:
1. Он сдает свое вооружение и форму.
2. Он больше не будет получать жалование и продовольствие ни для себя, ни для своих иждивенцев.
3. Его имя будет передано русским властям, и он сразу же будет подлежать призыву в русскую армию.
4. Он не сможет получать продовольствие от местного земства. Для этого мы уже приняли необходимые меры, так как ради чего местные власти должны кормить человека, который думает только о себе и не желает ничего сделать для своей страны.
5. Он не сможет вступить обратно в Карельский полк ни при каких обстоятельствах.
Более того, я пойду дальше и позволю любому человеку, который выразит подобное желание, перевестись из боевых подразделений, стоящих сейчас на построении, в Трудовой батальон. Это позволит более малодушным из вас так же честно получать жалование и продовольствие. Те солдаты Добровольческого батальона, кто все еще желает доказать, что они — мужчины, очень скоро будут переведены на станцию дальше на юге. Вас пока еще не пошлют на фронт, так как я не считаю, что вы достаточно дисциплинированы и подготовлены, но вы будете получать увеличенное жалование, положенное солдатам во фронтовой зоне, и встретитесь с местными жителями, которые могут рассказать о лично увиденных зверствах, совершенных по отношению к мужчинам, женщинам и детям большевиками, которых дураки, агитирующие среди вас, пытаются изобразить вам истинными патриотами.
Теперь вы можете сделать свободный выбор. Вы должны принять решение в течение следующих 24 часов, и любой солдат, решивший уйти из Добровольческого батальона или саперно-строительной роты на условиях, которые я изложил, должен сообщить об этом полковнику Вудсу до этого же времени завтра. После этого срока никаких новых решений я не потерплю.
К тем из вас, кто останется, я буду относиться, как относился всегда — справедливо и прямолинейно, пока они будут выполнять свой долг. К тем из них, кто нарушит свой долг или проявит неподчинение, будут без колебаний приняты самые строгие меры, так как я больше не могу позволить поведение, подобное тому, что было на протяжении нескольких последних недель. Если они захотят перевестись в Трудовой батальон, они могут перевестись. Возможно, это захотят сделать те, кто слишком напуган риском военных действий. Они также могут выйти вообще из карельских подразделений, но в этом случае они будут мобилизованы в русскую армию, если они принадлежат к группам, подлежащим мобилизации. Если они не принадлежат к этим группам, они больше не будут получать жалование и продовольствие ни из какого источника и столкнутся с риском голода, чего они и заслуживают. Вы все слышали, и это — мое последнее решение, вызванное вашим собственным глупым и преступным поведением.
Я многое сделал для вас и наградил многих из вас за боевые заслуги, но вы сделали все возможное, чтобы поколебать мою уверенность в вас как в надежных солдатах. Вы продемонстрировали, что совершенно лишены чувства благодарности, и вы должны снова заслужить мое расположение, чтобы я стал вновь считать вас Солдатами, которые достойны моего доверия и того, чтобы ими командовали британские офицеры. Я запротоколировал эту речь, чтобы в будущем вы не смогли сказать, что я сказал что-то иное кроме того, что я сказал. Для полной уверенности я распорядился сделать ее копии и повесить их в комнатах в ваших казармах. Теперь все зависит от вашего собственного решения. Мне не нужны солдаты, не желающие служить, которые станут посмешищем для всех остальных вокруг.
Ваше решение должно быть принято сейчас, и оно должно стать окончательным.
Ч. М. Мейнард. Генерал-майор.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
С. 29. Кемский Успенский собор, построенный в 1717 г., январь 1917 г.
С. 38. Колонна Карельского полка идет строем по мосту через р. Кемь, осень 1918 г. На заднем плане виден Кемский Благовещенский собор, построенный в 1904 г.
С. 47. Система карельских сигналов и наземных знаков
С. 69. Вид на Соловецкий монастырь, весна 1919 г.
С. 87. Британцы, играющие в футбол на льду р. Кемь, 1919 г.
С. 97. Новогоднее меню лейтенанта Кеннеди.
С. 113. Медведь Нобс.
С. 125. Казак Омар с капитаном Гиллингом.
С.132. «Белый дом», Кемь, 1919 г.
С. 137-139. Петиция королю Георгу V
С. 181. Филипп Вудс в возрасте 12 лет, 1892 г.
С. 187. Баден-Пауэлл в Южной Африке, фото, сделанное Ф. Дж. Вудсом
С. 206. Филипп Вудс, 8 августа 1917 г.
С. 263. Британские офицеры в литовской военной форме, осень 1919 г. Крозье — третий слева в первом ряду, Вудс — четвертый слева в первом ряду.
С. 273. Предвыборная листовка Филиппа Вудса, апрель 1923 г. Надпись сверху: «Выборы по округу Западный Белфаст, 1923 г. (Парламент Северной Ирландии)». Надпись снизу: «Бывший военнослужащий — бывшим военнослужащим, рабочим и их иждивенцам».
Примечания
1
Роберт Баллантайн (1825-1894), шотландский писатель. — Примеч. перев.
(обратно)2
Джон Бакан (1875-1940), шотландский писатель. — Примеч. перев.
(обратно)3
Генри Хаггард (1856-1925), английский писатель. — Примеч. перев.
(обратно)4
Джордж Хенти (1832-1902), английский писатель. Все перечисленные писатели работали в жанре приключенческой прозы. — Примеч. перев.
(обратно)5
Роберт Баден-Пауэлл (1857-1941), английский офицер, основатель движения скаутов. — Примеч. перев.
(обратно)6
Популярная в Великобритании серия биографических справочников (Who is Who). — Примеч. перев.
(обратно)7
Фрэнк Перси Крозье (Frank Percy Crozier, 1879-1937), британский генерал, командующий ирландскими частями в ходе Первой мировой войны. — Примеч. перев.
(обратно)8
Так, в 2011 г. в Университете Глазго состоялась защита докторской диссертации Алистера Райта «Установление власти большевиков на российской периферии: Советская Карелия, 1918-1919»; текст диссертации находится в открытом доступе по адресу: .
(обратно)9
Любопытно, что В. Пикуль, описавший в романе «В тупике» тот же эпизод противостояния красноармейского отряда Спиридонова британским силам, указывает, что в отряде было всего десять человек. Истина, как часто бывает, находится где-то посередине: согласно исследованиям карельского историка А. Афанасьевой, в отряде Спиридонова на тот момент состояло около 150 красноармейцев. См.: Афанасьева А. И. Организация добровольческих отрядов Красной Армии в Карелии в 1918 г. // Из истории интервенции и гражданской войны в Карелии. Петрозаводск, 1960. С. 14.
(обратно)10
Воинское звание в британской армии между полковником и генералом. — Примеч. перев.
(обратно)11
Буканьеры — английские пираты, грабившие испанские корабли в XVII-XVIII вв. — Примеч. перев.
(обратно)12
Так в оригинале. — Примеч. перев.
(обратно)13
Речь идет о Марии Бочкаревой (1889-1920), создательнице и командире 1-го женского добровольческого батальона смерти. М. Бочкарева была широко известна в Англии ив 1918 г. даже получила аудиенцию у короля Георга V. — Примеч. перев.
(обратно)14
В тексте будут встречаться следующие английские меры: 1 фут = 0,3 м, 1 кв. фут = 0,09 кв. м, 1 ярд = 0,91 м, 1 миля =1,61 км, 1 фунт = 0,45 кг, 1 стоун = 6,35 кг, 1 акр = 4 тыс. кв. м. — Примеч. перев.
(обратно)15
Кодовое название мурманской группы британских войск. — Примеч. перев.
(обратно)16
На самом деле крейсер. — Примеч. перев.
(обратно)17
Чтобы акцентировать эту особенность путешествия по России, в оригинале для обозначения комнаты автор использует транслитерацию (с ошибками) русского слова кипяток: «kepitoc». — Примеч. перев.
(обратно)18
Сейчас поселок Рабочеостровск. — Примеч. перев
(обратно)19
В оригинале автор транслитерирует это слово: «teplushka». — Примеч. перев.
(обратно)20
Категория командного состава между унтер-офицером и офицером. — Примеч. перев.
(обратно)21
Ироническая отсылка к известной фразе Дж. Беллерса: «Безработный бедняк подобен неограненному алмазу — его ценность никому не известна». — Примеч. перев.
(обратно)22
В оригинале используется слово «cream», т. е. сливки, поскольку сметана как продукт отсутствует в британской кухне. — Примеч. перев.
(обратно)23
Плоскодонная барка с высокими бортами. — Примеч. перев.
(обратно)24
Из мемуаров Вудса неясно, были ли они сестрами или он просто не знал фамилию первой девушки, однако первый вариант более вероятен. — Примеч. перев.
(обратно)25
Озеро Среднее Куйто. — Примеч. перев.
(обратно)26
Гора в Ирландии, на которой св. Патрик пас овец во время своего рабства. — Примеч. перев.
(обратно)27
Неформальное название флага Великобритании. — Примеч. перев.
(обратно)28
Сени. — Примеч. перев.
(обратно)29
Главнокомандующий силами союзников на севере России. — Примеч. перев.
(обратно)30
Знаменитая резиденция английских королей. — Примеч. перев.
(обратно)31
В оригинале Вудс транслитерирует это слово: «Prazdnik». — Примеч. перев.
(обратно)32
Скобельцын Владимир Степанович (1872-1944). Вудс неправильно запомнил его имя. — Примеч. перев.
(обратно)33
Город в Северной Ирландии. — Примеч. перев.
(обратно)34
Эрнест Шеклтон (1874-1922), известный британский полярный исследователь. Принимал участие в интервенции британских войск на севере России в качестве эксперта по северному климату. — Примеч. перев.
(обратно)35
В оригинале Вудс транслитерирует слово: «dougas». — Примеч. перев.
(обратно)36
В оригинале «Meesha, or Little Mouse». Очевидно, Вудс ошибся либо в транслитерации имени лошади (что более вероятно), либо в его значении. — Примеч. перев.
(обратно)37
Традиционная английская мера длины, которую используют только для определения роста лошадей, около 4 дюймов (10 см). — Примеч. перев.
(обратно)38
В оригинале Вудс транслитерирует слово: «zakooska». — Примеч. перев.
(обратно)39
Известный лондонский театр. — Примеч. перев.
(обратно)40
В оригинале «Nitchy Vo! Nitchy Vo!» — Примеч. перев.
(обратно)41
Слабительное средство. — Примеч. перев.
(обратно)42
Оскари Токой (1873-1963), видный деятель левого крыла Социал-демократической партии Финляндии, в 1917 г. руководил Сенатом Финляндии, в 1918 г. был членом Совета народных уполномоченных (красного правительства) Финляндии. — Примеч. перев.
(обратно)43
Василий Васильевич Ермолов, помощник генерал-губернатора Северной области, управляющий Мурманским краем с октября 1918 по февраль 1920 г. — Примеч. перев.
(обратно)44
В русском издании помещается оригинал данного документа из личного фонда Ф. Вудса в Имперском военном музее в Лондоне. Документ приводится с соблюдением правил современной орфографии (за исключением написания корня «карел») и пунктуации, но с сохранением оригинальных грамматических форм. — Примеч. перев.
(обратно)45
Приведен перевод английского текста, так как не сохранилась ни финская, ни русская версия. В связи с необходимостью как можно точнее реконструировать оригинальный текст документа, в грамматику и идиоматику английского текста вносилось как можно меньше изменений. — Примеч. перев.
(обратно)46
Согласно сохранившемуся в документах Вудса оригиналу английского перевода, напечатанному на пишущей машинке, обращение было подписано следующим образом: «Members of the Representative Committee, Alexanor Maskevitch, Simon Epiphanoff, Peter Lejeff, Ivan Ahava, Ivan Gavriloff». В переводе некоторые из этих имен были неправильно транскрибированы. На самом деле, членами Карельского Национального Комитета были Ииво Ахава (Ухтинская волость), Егор Лесонен (Вокнаволок), Александр Маскевич (Ругозеро), Семен Епифанов (Ругозеро) и Иван Гаврилов (Кестеньга). Майор Григорий Лежев и капитан Петр Лежев из Карельского полка получили на февральском собрании специальный мандат, чтобы принять участие в Национальном Комитете. См.: Itkonen O.V. Muurmannin suomalainen legioona: varustettu kartalla ja sarjalla liitekuvia. Helsinki: Kansanvalta, 1927. P. 90. — Примеч. Н. Барона.
(обратно)47
Хотя изначально Хитон был назначен командовать гарнизонной охраной, он оставался в центре Карелии почти до конца кампании, и это подразделение находилось под командованием лейтенанта Дж. С. Лонга. — Примеч. Ф. Дж. Вудса.
(обратно)48
Неофициальное название т. наз. Новой Армии, сформированной из добровольцев в Британии в начале Первой мировой войны. — Примеч. перев.
(обратно)49
«Pop goes the weasel», английский народный танец. — Примеч. перев.
(обратно)50
Роза Землячка (Залкинд) (1876-1947), политкомиссар 13-й армии, позднее видный деятель сталинского режима. — Примеч. Н. Барона.
(обратно)51
Сибил Торндайк (1882-1976), известная британская актриса. — Примеч. перев.
(обратно)52
О битве на Сомме в официальной истории полка см: Graves С. The Royal Ulster Rifles, Vol. 3 [1919-1948]. Mexborough, Yorks: Royal Ulster Rifles Regimental Committee, 1950. P. 309-317. Из более современных работ см.: Johnstone Т. Orange, Green and Khaki: the Story of the Irish Regiments in the Great War, 1914-18. Dublin: Gill and Macmillan, 1992. Из лучших исторических работ, посвященных истории битвы на Сомме в целом, см.: Hart P. The Somme. London: Cassell, 1996; Middlebrook M. First Day on the Somme: 1 July 1916. London: Penguin, 2006.
(обратно)53
Crozier F. P. A Brass Hat in No-Man's Land. London: Jonathan Cape, 1930. P. 101.
(обратно)54
Jeffery K. Ireland and the Great War. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 56. Битва на реке Войн произошла у Дрогхеда, примерно в сорока милях к северу от Дублина, 1 июля 1690 г. (по юлианскому календарю). В настоящее время юнионисты празднуют ее 12 июля, по григорианскому календарю (новому стилю). Личные свидетельства о действиях 36-й (Ольстерской) дивизии в битве на Сомме см. в: Crozier F. P. A Brass Hat… Orr P. The Road to the Somme: Men of the Ulster Division Tell their Story. Belfast: Blackstaff Press, 1987; Dungan M. Irish Voices from the Great War. Blackrock: Irish Academic Press, 1995.
(обратно)55
Крозье проявил исключительную храбрость, когда лично повел солдат в бой, поэтому позже было принято решение не применять к нему дисциплинарное взыскание. См.: Dungan M. Irish Voices… P. 105-106.
(обратно)56
Эти и дальнейшие сообщения цитируются по документам Первой мировой войны полковника Филиппа Джеймса Вудса, которые находятся на хранении в Департаменте документов Имперского военного музея в Лондоне (далее IWM), картон 78/24/1; а также по военному журналу 9-го батальона Королевского ирландского стрелкового полка, который находится на хранении в Национальном архиве (далее TNA), Отдел публичных документов (далее PRO) Военного министерства (далее WO), 95/2503.
(обратно)57
Сообщение опубликовано в: Crozier F. P. A Brass Hat… P. 110. Подчеркивание в оригинале.
(обратно)58
Свидетельство У. И. Коллинса, процитированное в: Bowman Т. The Irish Regiments in the Great War. Discipline and Morale. Manchester: Manchester University Press, 2003. P. 126. По другим свидетельствам, число выживших составляло примерно 70 человек.
(обратно)59
Crozier F. P A Brass Hat… P. 109-110; Orr P. The Road to the Somme… P. 181-183; Bowman T. The Irish Regiments… P. 125.
(обратно)60
Документы Вудса. IWM 78/24/1.
(обратно)61
Цитируется по: Jeffery К. Ireland and the Great War. P. 58.
(обратно)62
Фотографии многих из этих настенных рисунков воспроизведены на веб-сайте с подробным историческим комментарием, составленным Южно-Белфастским обществом Битвы на Сомме на основе монографии: Orr P. The Road to the Somme… См.: .
(обратно)63
Bardon J. A History of Ulster. Belfast: Blackstaff Press, 1992. P. 515.
(обратно)64
Слова Якова I, произнесенные в качестве похвалы одному из шотландских ольстерских феодалов. Цитируется по: Ibid. P. 122.
(обратно)65
Ibid. Р. 139-142.
(обратно)66
Ibid. Р. 180.
(обратно)67
Этот параграф и приведенная далее генеалогическая информация основываются на интервью и переписке с мистером Эдвином Вудсом из графства Корк (правнуком Джереми Вудса, дяди Филиппа Вудса), на материалах, находящихся на открытом доступе в Отделе публичных документов Северной Ирландии (), на «Книге пэров Берка» и на семейной истории Кристофера Бреннена, доступной по адресу: (вход осуществлен 29 июня 2006).
(обратно)68
Dubourdieu I. Statistical Survey of County Down. Dublin, 1802, цитируется по: Gibbon P. The Origins of Ulster Unionism. The Formation of Popular Protestant Politics and Ideology in Nineteenth-Century Ireland. Manchester: Manchester University Press, 1975. P. 25.
(обратно)69
Stewart A. T. Q. The Ulster Crisis. London: Faber and Faber, 1967. P. 43.
(обратно)70
Ludlum H. A Biography of Dracula. The Life Story of Bram Stoker. London: W. Foulsham & Co. Ltd., 1962. P. 13. См. также: Belford B. Bram Stoker. A Biography of the Author of Dracula. London: Weidenfeld & Nicolson, 1996. P. 29.
(обратно)71
Bardon J. A History of Ulster. P. 326.
(обратно)72
Цитируется по: Gibbon P The Origins of Ulster Unionism. P. 72.
(обратно)73
О Сэнди Роу и Шанкилл Роуд, а также об изменении социально-экономического характера восстаний см.: Ibid. P. 67-86.
(обратно)74
Свидетельство о рождении Филиппа Вудса хранится вместе с другими его личными документами.
(обратно)75
Информация доступна на веб-сайте Археологического треста Клвида- Поуиса по адресу: / (вход осуществлен 19 августа 2006 г.).
(обратно)76
Jones М. A. «The Impecunious Millionaire»: The Career of Sir John Pul- eston, MP // Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion. 1997, No. 4. P. 28-47.
(обратно)77
См.: The Belfast and Province of Ulster Directory of 1892. Belfast, 1892. P. 719.
(обратно)78
См.: The Belfast Directory, 1895, p. 730; 1896, p. 760; 1897, p. 512, 911.
(обратно)79
Согласно информации в статье из справочника «Кто есть кто», написанной самим Вудсом. Интересно, что Школьный альбом не перечисляет среди бывших учеников «Инста» ни Роберта, ни Филиппа Вудсов (вероятно, эти списки являются неполными). См.: Robb J.R., Fisher J. R. Book of the Royal Belfast Academical Institution. Belfast: M'Caw, Steven-son & Orr, 1913.
(обратно)80
См.: famieson J. The History of the Royal Belfast Academical Institution, 1810-1960. Belfast: William Mullan & Sons, 1959. P. 204-205.
(обратно)81
Об организации спортивной подготовки в Инсте в конце XIX в. см.: Ibid. Р. 104-108,122-129.
(обратно)82
Smiles S. Self-Help: With Illustrations of Character and Conducjt. Boston: Ticknor and Fields, 1866. P. 335-336.
(обратно)83
Роберт Вудс впервые появляется в отдельной записи в Белфастском Справочнике 1898 г. В ней указан следующий адрес: дом Киллоуин, Фернхем Роуд, Бангор (с. 1094). То, что в том же году из справочника исчез его отец, может просто означать, что он вышел в отставку и вместе со своей женой переехал в Бангор в семью старшего сына.
(обратно)84
Из школьного альбома, опубликованного в: Robb J.H., Fisher J.R. Book of the Royal Belfast Academical Institution.
(обратно)85
Информация о связи Роберта Вудса с «Уайт Стар Лайн» получена от родственников.
(обратно)86
Хронология этого периода основана на информации о Вудсе из справочника «Who's Who» за 1918-1921 гг. В 1923 г., когда Вудс стал членом североирландского парламента, он внес исправления в свою автобиографию, убрав упоминание о том, что работал в течение четырех лет после окончания Белфастской школы искусств до службы в Южной Африке — скорее всего, для того, чтобы читатель подумал, что он окончил школу в шестнадцать лет и не учился в высшем учебном заведении.
(обратно)87
Справочная статья «Col Philip fames Woods» в справочнике «Who's Who» (London: Black, 1918) на с. 2610.
(обратно)88
Surridge К. Т. Managing the South African War, 1899-1902. Politicians v. Generals. London: The Royal Historical Society, Boydell Press, 1998. P. 104-109.
(обратно)89
Письмо Милнера Чемберлену от 28 октября 1900 г., в: The Milner Papers. South Africa, 1899-1905. London: Cassell, 1933. Vol. II. P. 168.
(обратно)90
Surridge K. T. Managing the South African War… P. 127.
(обратно)91
Письмо Милнера генералу Н. Дж. Миттелтону от 18 ноября 1902 г., в: The Milner Papers… P. 396.
(обратно)92
В этом и следующем параграфах используется материал книги: Lord Baden-Powell of Gilwell, Lessons from the Varsity of Life. London: C. A. Pearson, 1933. Глава VIII.
(обратно)93
Цитируется по: Grundlingh A. «Protectors and friends of the people»? The South African Constabulary in the Transvaal and Orange River Colony, 1900-1908 // Policing the Empire: Government, Authority and Control, 1830-1941 / eds. D. M. Anderson and D. Killingray. Manchester: Manches-ter University Press, 1991. P. 168-182. Цитата на с. 169.
(обратно)94
Южноафриканская деревня, огражденная частоколом или забором. — Примеч. перев.
(обратно)95
Buchan J. Prester John. London: Penguin, 1983. P. 198.
(обратно)96
Woods P. II Who's Who (1918). P. 2610.
(обратно)97
The Belfast Directory, 1907, p. 1134.
(обратно)98
Объявление о свадьбе было опубликовано в газете «Belfast News-Letter» от 10 августа 1907, с. 1.
(обратно)99
«Belfast News-Letter» от 20 апреля 1923 г.
(обратно)100
Оба поступили туда в 1903 г., см. Школьный альбом в: Robb J. H., Fisher]. R. Book of the Royal Belfast Academical Institution.
(обратно)101
См.: Irish Unionism, 1885-1923. A Documentary History/Buckland P., ed. Belfast: HMSO, 1973. P. 204-205.
(обратно)102
Гомруль (от англ. Home Rule) — движение за самоуправление Ирландии. — Примеч. перев.
(обратно)103
Ольстерская юнионистская политика вначале возникла для защиты интересов слоя богатых земельных собственников, который в конце XIX в. переживал экономический и социальный упадок и, как следствие, терял политическое влияние. См.: Jackson A., Saunderson С. Е. Land and Loyalty in Victorian Ireland. Clarendon Press, Oxford, 1995. О юнионистских политических организациях того времени см.: Irish Union-ism, 1885-1923. A Documentary History. P. 99-101.
(обратно)104
MacKnight Т. Ulster As It Is: or, twenty-eight years' experience as an Irish editor. London: Macmillan, 7S96. Vol. II. P. 152-153.
(обратно)105
Irish Unionism, 1885-1923. A Documentary History. P. 59-60, 72,84 и да-лее.
(обратно)106
Jackson A. Home Rule: An Irish History, 1800-2000. Oxford: OUP, 2004.
(обратно)107
Уильям Дреннан (1754-1820), известный ирландский поэт и политический деятель. — Примеч. перев.
(обратно)108
Hattersley R. The Edwardians: Biography of the Edwardian Age. London: Abacus, 2006. P. 187-188.
(обратно)109
См.: JallandR The Liberals and Ireland: the Ulster question in British poli-tics to 1914. Brighton: Harvester Press, 1980; Jackson A. The Ulster Party: Irish Unionists in the House of Commons, 1884-1911. Oxford: Clarendon Press, 1989. Те, кого заинтересовала эта тема, могут обратиться к уникальной подборке высказываний того времени, отражающих поддержку британцами позиции юнионистов, которая опубликована в книге «Against Home Rule: the case for the Union» (авторы Arthur J. Balfour; J. Austen Chamberlain и др.) с введением сэра Эдварда Карсона и предисловием Э. Бонара Ло, члена парламента, и С. Розенбаума (London and New York: Frederick Warne & Company Ltd., 1912). Она доступна в Интернете по адресу: (вход осуществлен 19 августа 2006).
(обратно)110
Stewart А. Т. Q. The Ulster Crisis. P. 37.
(обратно)111
Стихотворение «Ulster, 1912» в: The Works of Rudyard Kipling. London: Wordsworth, 1994. P. 232-233. К сожалению, переводчику не удалось найти данное стихотворение в книгах Киплинга, изданных на русском языке, что вынудило его выполнить перевод самостоятельно. Ниже представлен оригинальный текст:
The dark eleventh hour draws on and sees us sold
To every evil power
We fought against of old.
Rebellion, rapine, hate,
Oppression, wrong and greed
Are loosed to rule our fate,
By England's act and deed. […]
What answer from the North?
One Law, one Land, one Throne.
If England drive us forth
We shall not fall alone
(обратно)112
Короткую, но информативную биографию из опубликованного в последнее время см. в: Jackson A. Sir Edward Carson. Dublin: Historical As-sociation of Ireland, Dundalgan Press, 1993. См. также: Lewis G. Carson, The Man Who Divided Ireland. London: Hambledon, 2005.
(обратно)113
См.: Buckland P. lames Craig: Lord Craigavon. Dublin: Gill and Macmillan, 1980.
(обратно)114
Ковенант доступен на веб-сайте Отдела публичных документов Северной Ирландии по адресу: . html (вход осуществлен 12 июня 2006).
(обратно)115
Обозначение смешанного населения, возникшего к началу XX в. в Южной Африке. — Примеч. перев.
(обратно)116
Crozier F. P. Impressions and Recollections. London: Werner Laurie, 1930. P. 63.
(обратно)117
Ibid. P. 83-84.
(обратно)118
В действительности Крозье был вынужден уйти в отставку с регулярной службы в 1907 г., а еще через два года — и со службы в запасе, оба раза из-за опротестованных векселей (результат постоянного пьянства). В 1909 г. его командир высказал мнение, что Крозье «совершенно непригоден для службы в войсках Его Величества и … позорит воинское звание, что неминуемо продолжится и в будущем». См. досье Военного министерства на Крозье в: TNA: PRO WO 374/16987. Крозье удалось избавиться от алкоголизма, когда он жил в Канаде, см.: Crozier F. P. Impressions and Recollections. P. 136-141.
(обратно)119
Crozier F. P. Ireland for Ever. P. 34-35.
(обратно)120
Stewart A. T. Q. The Ulster Crisis. P. 99.
(обратно)121
Из газеты «Newtownards Chronicle» от 31 октября 1914 г., цит. по: Orr P. The Road to the Somme… P. 54.
(обратно)122
Crozier F. P A Brass Hat… P. 54.
(обратно)123
Тимоти Боумен недавно доказал, что, вопреки общепринятому мнению, Добровольческие силы Ольстера не перешли в полном составе в 36-ю (Ольстерскую) дивизию, и что офицеры, служившие в Добровольческих силах Ольстера, в Белфастских батальонах составляли меньшинство. См.: Bowman Т. The Ulster Volunteer Force and the Forma-tion of the 36th (Ulster) Division// Irish Historical Studies. Vol. 32. No. 128 (Nov. 2001).
(обратно)124
Crozier F. P. Impressions and Recollections. P. 156-159.
(обратно)125
Crozier F.P. A Brass Hat… P. 37.
(обратно)126
Это суждение по поводу Крозье было сделано позже вторым лейтенантом Стюартом-Муром в его мемуарах, цитируется по: Bowman Т. The Irish Regiments… P. 30.
(обратно)127
Crozier F. P. 1) A Brass Hat… P. 54; 2) Impressions and Recollections. P. 161.
(обратно)128
Crozier F. P. A Brass Hat… P. 61.
(обратно)129
Bowman T. The Irish Regiments… P. 113,116-117.
(обратно)130
Crozier F. P. Impressions and Recollections. P. 163-164.
(обратно)131
Ibid. P. 169.
(обратно)132
Crozier F. P. A Brass Hat… P. 96.
(обратно)133
См. военный дневник 9-го батальона Ирландского полка: TNA: PRO WO 95/2503.
(обратно)134
«Таймс» от 27 октября 1916 г., с. 6.
(обратно)135
Эта и последующая информация взята из: Crozier F. P. Impressions and Recollections. P. 178-179.
(обратно)136
Повышение было опубликовано в «Тайме» от 22 марта 1917 г., с. 6.
(обратно)137
См.: Passingham I. Pillars of Fire: The Battle of Messines Ridge, June 1917. Thrupp: Sutton Publishing, 1998.
(обратно)138
Crozier F. P. Impressions and Recollections. P. 179.
(обратно)139
Crozier F. P. A Brass Hat… P. 163-164. Классической историей битвы является: Wolff L. In Flanders Fields. New York: Viking, 1958, переизд.: London: Penguin, 2001.
(обратно)140
На лето 2006 г. военное досье на Филиппа Вудса все еще хранилось в Министерстве обороны (из чего нельзя сделать никаких выводов о его содержании) и не было доступно для настоящего исследования. Возможно, эта информация сможет пролить свет на неясные моменты, связанные с его военной службой.
(обратно)141
Общий обзор спорного и «мифического» характера карельской истории см. в: Sihvo H. 1) Karelia: history, ideals, identity. Karelian history from the Finnish viewpoint // Karelia and St. Petersburg. From Lakeland Interior to European Metropolis / eds. Eira Varis and Sisko Porter. Joensuu: Joensuu University Press, 1996. P. 11-25; 2) Karelia: Battlefield, Bridge, Myth // Finland: People, Nation, State / eds. Max Engman, David Kirby. London: Hurst, 1989. P. 57-72; Engman M. Karelians between East and West // Ethnicity and Nation-building in the Nordic World / ed. Sven Tagil. London: Hurst, 1995. P. 217-245. На финском языке доступны следующие работы: Kirkiпеп H., Nevalainen P., Sihvo H. Karjalan Kansan Historia. Porvoo: Werner Sbderstrbm Osakeyhtio, 1994.0 религиозной идентичности в восточной и западной Карелии см.: LindJ. H. The Legacy of the Russo-Swedish Peace Treaty of 1323: Confessional Conflicts in the Border Region // The Dividing Line. Borders and National Peripheries / eds. Lars-Folke Landgren, Maunu Hayrynen. Helsinki: Renvall Institute, 1996. P. 233-240.0 происхождении и развитии карельского языка см.: Austin P. M. Soviet Karelian: the Language that Failed // Slavic Review. Vol. 51, No. 1 (1992). P. 16-35.
(обратно)142
О населении см.: Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. СПб., 1792. С. 191-192.
(обратно)143
Бергштрессер К. Опыт описания Олонецкой губернии. СПб., 1838. С. 16,92.
(обратно)144
Семенов В. П. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 3. Озерная область. СПб., 1900. С. 106-107.
(обратно)145
См.: Robson R. Solovki: The Story of Russia Told through Its Most Remarkable Islands. New Haven, CT: Yale University Press, 2004.
(обратно)146
Историю одного английского исследователя см. в: Fletcher G. Of the Russe Commonwealth // Russia at the Close of the Sixteenth Century / ed. E. H. Bond. London: Hakluyt Society, 1856.
(обратно)147
См.: CrummeyR. O. The Old Believers and the World of Antichrist: the Vyg Community and the Russian State, 1694-1855. Madison: University of Wis-consin Press, 1970.
(обратно)148
Нотёп Т. East Carelia and Kola Lapmark, described by Finnish Scientists and Philologists. London: Longman, 1921. P. 178; Покровская И. П. Население дореволюционной Карелии по материалам переписи 1897 г. // Вопросы истории европейского Севера. Петрозаводск, 1974. С. 94. Эти данные, разумеется, являются спорными.
(обратно)149
См. интересную историю Финляндии в контексте ее «пограничного» расположения: Mazour A. G. Finland Between East and West. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1956.
(обратно)150
Отрывки из путевых записок М. А. Карстена были опубликованы на русском языке в: Этнографический сборник. Вып. IV. СПб., 1858. С. 251-262. Об истории «Калевалы» см. Предисловие Майкла Бранчак: W.F. Kirby (перев.), Kalevala. London: Athlone, 1985) Bosley K. The Kalevala. Oxford: OUP, 1989. 'Introduction/
(обратно)151
О роли «Калевалы» в финском культурном национализме см.: Sihvo H. 1) Karelia: history, ideals, identity…; 2) Karjalan kuva. Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana. Helsinki: Helsinki Yliopisto, 1973; Faaskelainen M. Die ostkarelische Frage. Die Entstehung eines nationalen Expansionsprogramms und die Versuche zu seiner Verwirklichung in der Aussenpolitik Finnlands in den lahren 1918-1920. Helsinki: Finnish Historical Society, 1965. P. 18-40.0 Карелии в финском фольклоре см.: Wilson W.A. Folklore and Nationalism in Modern Finland. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1976, особенно р. 141-142,148-155. О Сибелиусе и Карелии см.: Wilson W.A. Sibelius, the Kalevala, and Karelianism // The Sibelius Companion / ed. Glenda Dawn Goss. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1996. P. 43-60; Tawaststjerna E. Sibelius. Vol. 1, 1865-1905. London: Faber & Faber, 1976. P. 96-123, 145-149. О художниках Аксели Галлене-Каллеле (наиболее знаменитом благодаря своим иллюстрациям «Калевалы») и Пекке Халонене см.: Northern Light. Realism and Symbolism in Scandinavian Painting, 1880-1910 / Varnedoe K. (ed.). New York: The Brooklyn Museum, 1982. P. 108-121.0 развитии финской «территориальности» см.: Paasi A. Territories, Boundaries and Consciousness. The Changing Geographies of the Finnish-Russian Border. Chichester: John Wiley and Sons, 1996.
(обратно)152
Примеры финских националистических взглядов на Карелию: Нотёп Т. East Carelia and Kola Lapmark…; Oost-Karelie = La Carelie Orientate / W. van der Vlugt (ed.). Helsinki, 1923; East Karelia. A Survey of the Country and Its Population and a Review of the Karelian Question. Helsinki: Academic Carelia League, 1934. Союз Финляндии с нацистской Германией в годы Второй мировой войны привел к более амбициозным взглядам на «жизненное пространство» Финляндии, см.: Auer V.Jutikkala E. Finnlands Lebensraum. Das Geographische und Geschichtliche Finnland. Berlin: Alfred Metzner Verlag, 1941; Stamati Constantin von Die Kola-Halbinsel und Ostkarelien. Berlin: Selbstverlag der Publikationsstelle, 1941.
(обратно)153
См.: Churchill S. The East Karelian Autonomy Question in Finnish-Soviet Relations, 1917-1922. Докторская диссертация, защищенная в Лондонском университете в 1967 г. Р. 39-79. Опубликована только на финском языке: Churchill S. Ita-Karjalan kohtalo, 1917-1922: Ita-Karjalan itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venajan valisissa suhteissa, 1917-1922. Porvoo: Werner Soderstrom, 1970.
(обратно)154
Vitukhnovskaia M. Cultural and Political Reaction in Russian Karelia in 1906-1907. State Power, the Orthodox Church, and the 'Black Hundreds' against Karelian Nationalism // lahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. Vol. 48,2001. P. 27-28.
(обратно)155
См.: Дубровская Е. Ю. Противоборство панфинизма и русского великодержавия в Карелии // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1991. С. 55-62; Vitukhnovskaia M. Cultural and Political Reac-tion…
(обратно)156
Цитата из памфлета «Новые данные к панфинской и лютеранской пропаганде в Беломорской и Олонецкой Карелии». 1907. С. 1.
(обратно)157
Православная Карелия. Очерк. Петроград, 1914. С. 85.
(обратно)158
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 596.
(обратно)159
Из недавно опубликованных работ стоит отметить следующую: Kinvig С. Churchill's Crusade: The British Invasion of Russia 1918-1920. London: Hambledon Continuum, 2006. Лучшей дипломатической историей до сих пор остается: Ullman R.H. Anglo-Soviet relations, 1917-1921, 3 vols. Princeton: Princeton University Press, 1961-1972. Что касается военных действий, см. исследование, использующее ряд советских материалов и личных свидетельств союзных офицеров: Dobson С., Miller J. The Day We Almost Bombed Moscow. London: Hodder and Stoughton, 1986. Другие работы см. в следующих ссылках.
(обратно)160
Maynard С. М. The Murmansk Venture. London: Hodder and Stoughton, 1928. P. vii.
(обратно)161
Knox A. With the Russian Army, 1914-1917, being chiefly extracts from the diary of a military attache. London: Hutchinson & Co, 1921. Vol. II. P. 509-511.
(обратно)162
Цитируется по: Swettenham J. Allied Intervention in Russia, 1918-1919, and the part played by Canada. London: George Allen & Unwin, 1967. P. 39-40.
(обратно)163
Upton A. F. The Finnish Revolution, 1917-1918. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1980.
(обратно)164
Об Ахава см.: Itkonen О. V. Muurmannin suomalainen legioona: varustettu kartalla ja sarjalla liitekuvia. Helsinki: Kansanvalta, 1927. P. 125-129.
(обратно)165
Вопрос германских интересов и действий в Карелии подробно рассмотрен в: faaskelainen M. Die ostkarelische Frage. P. 141-149.
(обратно)166
О постройке железной дороги и Мурманского порта см.: Кпох А. With the Russian Army… P. 509-511; Nachtigal R. Die Murmanbahn: die Verkeh- rsanbindung eines kriegswichtigen Hafens und das Arbeitspotential der Kriegsgefangenen (1915 bis 1918). Grunbach: Greiner, 2001.
(обратно)167
См.: Ullman R. H. Anglo-Soviet Relations, 1917-1921, Vol. 1, Intervention and the War. Princeton: Princeton University Press, 1961. P. 109.
(обратно)168
О Мурманском Совете см.: Ullman R. H. Intervention and the War… P. 114-119; Jackson R. At War with the Bolsheviks. The Allied Intervention into Russia, 1917-1920. London: Tom Stacey, 1972. P. 34-37.0 Звегинцеве и Веселаго см.: Kettle M. Russia and the Allies 1917-1920, Vol. II. The Road to Intervention, March-November 1918. London: Routledge, 1988. P. 231.
(обратно)169
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 38-39.
(обратно)170
Ullman R. H. Intervention and the War… P. 179.
(обратно)171
О Чехословацком корпусе см.: Bradley J. F. N. The Czechoslovak Legion in Russia, 1914-1920. Boulder, New York: Columbia University Press, 1991.
(обратно)172
Краткая история событий в России с ноября 1917 г. по февраль 1919г., доклад Военного министерства от 28 февраля 1919 г., напечатан в: British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print. Part II, Series A/ ed. D. Cameron Watt (далее: Confidential Print). Vol. I. P. 438.
(обратно)173
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 29.
(обратно)174
M. Бочкарева (родилась в 1889 г.) происходила из сибирской крестьянской семьи. Она последовала за мужем в российскую императорскую армию в 1916 г. и продолжала сражаться после его смерти. Генерал Эдмунд Айронсайд, командовавший архангельскими силами с октября 1918 г., процитировал «Повестку дня», поставленную белогвардейцами 27 декабря 1918 г. и заключавшуюся в запрете Бочкаревой носить униформу на основании того, что «призыв женщин к военной службе, не соответствующей их полу, станет тяжелым упреком и бесчестным пятном для населения всей Северной области». Цитируется по: Ironside Е. Archangel, 1918-1919. London: Constable, 1953. P. 76-78. См. также мемуары самой Марии Бочкаревой: Botchkareva М. Yashka: my Life as Peasant, Officer and Exile. London: Constable & Co., 1919.
(обратно)175
Другие свидетельства см. в: Dobson С., Miller J. The Day We Almost Bombed Moscow. P. 49-50.
(обратно)176
Kandaouroff P. Le Chemin de Fer de Mourmansk // Revue de Genie Militaire. Vol. 60,1927. P. 262.
(обратно)177
Kennan G. F. Soviet-American Relations, 1917-1920. Vol. II. The Decision to Intervene. London: Faber & Faber, 1958. P. 21-26.
(обратно)178
Цитируется по: Dobson C., Miller J. The Day We Almost Bombed Moscow. P. 59-60.
(обратно)179
О политической карьере Токоя до этого периода см.: Upton A. F. The Finnish Revolution, 1917-1918. О майском соглашении см. Itkonen О. V. Muurmannin suomalainen legioona… P. 47.
(обратно)180
См.: Churchill S. The East Karelian Autonomy Question… P. 183-190. Данное исследование не освещает деятельность красных финнов, за исключением тех случаев, когда это необходимо для понимания событий интервенции. См. исследование на финском языке: Nevakivi J. Muurmannin legioona. Suomalaiset ja liittoutuneiden interventio Pohjois-Venajalle 1918-1919. Helsinki: Tammi, 1970.
(обратно)181
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 30-31; Рапорт Мейнарда Пулю от 9 сентября 1918, приложенный к отчету Мейнарда Уинстону Черчиллю от 1 марта 1919 г. // TNA: PRO WO 32/5698.
(обратно)182
Трое из них были позже убиты при невыясненных обстоятельствах. См.: Dobson С., Miller J. The Day We Almost Bombed Moscow. P. 56. Для советских историков это стало началом «массового террора против местного руководства, лояльного к Советской власти», см.: Тарасов В. В. Борьба с интервентами на севере России (1918-1920 гг.). М., 1958. С. 81. Воспоминания самого Спиридонова об этих событиях см. на с. 82-83.
(обратно)183
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 49-50; Рапорт Мейнарда Пулю от 9 сентября 1918 г.// TNA: PRO WO 32/5698.
(обратно)184
См.: Военный дневник, Северная Россия (силы «сирены»), Кемские операции // TNA: PROWO 95/5426.
(обратно)185
См. также телеграмму от бригадного генерала Пуля (Мурманск) Директору военной разведки, Военное министерство, от 25 июня 1918 г. // TNA: PRO WO 33/962, No. 25.
(обратно)186
Вудс указывает, что это было 7 июля. Мейнард упоминает эти события в своих мемуарах, но датирует их временем после оккупации союзниками Сороки в середине июля. См.: Maynard С. М. The Murmansk Ven-ture. P. 64-65.
(обратно)187
Цитируется по: Ullman R. H. Intervention and the War… P. 184-185.
(обратно)188
Военный дневник, Северная Россия (силы Сирен), Штаб-квартира (далее: Военный дневник, Штаб-квартира) // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)189
О роли Рейлли см.: Kettle M. The Road to Intervention… P. 331.
(обратно)190
Телеграммы Дрейк-Брокмана Маршу от 21 и 23 августа, журнал кемских телеграмм, Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)191
Книга полевых заметок, Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)192
Телеграмма Мейнарда Директору военной разведки от 29 октября 1918 г. // TNA: PRO WO 33/962, No. 502.
(обратно)193
Телеграмма в Документах Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)194
13 сентября, Книга полевых заметок, Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)195
Там же, 18 сентября.
(обратно)196
Там же, 3 октября. Об эпидемии гриппа см. телеграмму от 24 сентября в журнале кемских телеграмм.
(обратно)197
27 сентября, Книга полевых заметок, Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)198
Там же, 13 октября.
(обратно)199
Телеграмма Круглякова Маршу от 21 октября, журнал телеграмм, Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)200
Донесение // TNA: PRO WO 32/5698.
(обратно)201
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 94,96.
(обратно)202
В британской армии повышение в должности считалось окончательно утвержденным только после того, как сообщение об этом публиковалось в лондонской «Газетт». В случае с Вудсом это произошло лишь летом следующего года. — Примеч. перев.
(обратно)203
Доклад медицинского офицера от 5 июня 1919 г., Документы Ф. Вудса//IWM 78/24/1.
(обратно)204
В этом и следующем предложениях Вудс с помощью легко узнаваемых в английском языке метафор пишет не о музыкальных пристрастиях жителей Кеми, а об их нестандартной сексуальной ориентации. Юмор Вудса и позволяет Н. Барону говорить о «хорошем настроении» английского офицера. — Примеч. перев.
(обратно)205
24 октября, журнал телеграмм, Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1. Закон о защите королевства, принятый 8 августа 1914 г., давал правительству чрезвычайные полномочия, позволяющие ему нарушать свободы слова и собраний, подвергать тюремному заключению без суда и изымать ресурсы на военные цели.
(обратно)206
Шеклтон присоединился к штабу Мейнарда 15 ноября и давал рекомендации о зимнем обмундировании и использовании лыж и собачьих упряжек (что оказалось трудновыполнимой задачей, так как эскимосские лайки, встречая северных оленей, нападали на них). См.: Меморандум в Военном дневнике, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424; Swettenham J. Allied Intervention in Russia… P. 189-190.
(обратно)207
См.: Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 101-103.
(обратно)208
Письмо в Документах Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)209
Кроуфорд оставил дневник своих приключений, см.: Dobson С., Miller J. The Day We Almost Bombed Moscow. P. 60,116 и далее.
(обратно)210
Письмо от 11 сентября, Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)211
Секретный приказ по бригаде АССЗ, подписанный Ф. Дж. Маршем, от 11 сентября 1918 г., в Документах Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)212
Распределение подразделений в 237-й бригаде, декабрь 1919 г. // TNA: PRO WO 106/1149.
(обратно)213
Swettenham J. Allied Intervention in Russia… P. 54.
(обратно)214
О белогвардейском правительстве см.: Ullman R. H. Intervention and the War… P. 254-255.
(обратно)215
Cm.: Maynard С. M. The Murmansk Venture. P. 38. Советское руководство объявило Звегинцева предателем, см.: Тарасов В. В. Борьба с интервентами…С. 61.
(обратно)216
Эти операции подробно описаны в: Maynard С. М. The Murmansk Venture.
(обратно)217
Об Айронсайде см.: Ullman R. Н. Intervention and the War… P. 256; Dobson C, Miller]. The Day We Almost Bombed Moscow. P. 137-139; Soutar W. With Ironside in North Russia. London, 1940. См. также: Ironside E. Arch-angel, 1918-1919.
(обратно)218
27 сентября 1918г., Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)219
4,8 декабря 1918 г. и 7 января 1919 г., Военный дневник, Штаб-квартира 237-й бригады // TNA: PRO WO 95/5427.
(обратно)220
Цитируется по: Kettle M. Russia and the Allies 1917-1920, Vol. III, Churchill and the Archangel Fiasco, November 1918 — July 1919. London: Routledge, 1992. P. 490.
(обратно)221
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 261-262.
(обратно)222
См.: «Доклад о Северной России» сэра Генри Уилсона от 1 декабря 1919 г. Военному министру Уинстону Черчиллю // Confidential Print. Vol. I. P. 427.
(обратно)223
См.: Ullman R. H. Anglo-Soviet Relations, 1917-1921. Vol. II, Britain and the Russian Civil War. Princeton: Princeton University Press, 1968. P. 198. См. также график эвакуации в: Confidential Print. Vol. I. P. 468-470.
(обратно)224
Дискуссию об эвакуации см.: Churchill W. The World Crisis. Vol. V. The Aftermath. London: T. Butterworth, 1929. P. 252-254.
(обратно)225
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 112.
(обратно)226
Данные о потерях взяты из «Доклада о Северной России» Уилсона: Confidential Print. Vol. I. P. 428.
(обратно)227
Churchill S. The East Karelian Autonomy Question… P. 108-113.
(обратно)228
Ibid. P. 122-125,137-152.
(обратно)229
Об отношении союзников и белогвардейцев к вопросу Восточной Карелии в международной политике см.: faaskelainen M. Die ostkarelische Frage. P. 152-168,205-213.
(обратно)230
Телеграмма Мейнарда директору Военной разведки от 5 ноября 1918 г. // TNA: PRO WO 33/962, No. 536. Передача Ахава обсуждается в работе Churchill S. The East Karelian Autonomy Question… P. 205, где цитируются мемуары двух красных финнов, Оскари Токоя и О. В. Итконена.
(обратно)231
Телеграмма Мейнарда директору Военной разведки от 17 февраля 1919 г.//TNA: PRO WO 33/966, No. 1155.
(обратно)232
В английском переводе используется термин «британский протекторат» («take Karelia as a British Protectorate»). — Примеч. перев.
(обратно)233
Письмо Вудса Прайсу от 21 января 1919 г., Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1. В этой же папке также находится текст петиции, напечатанный на пишущей машинке, с тремя оригинальными подписями (две из них разборчивые) и ее перевод на английский язык.
(обратно)234
7 февраля 1919 г., Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424. Мейнард характеризует Беннигсена как «способного и храброго офицера», см.: Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 183.
(обратно)235
8 февраля 1919 г., Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)236
См.: TNA: PRO FO 175/1/889, P. 1-2.
(обратно)237
Ibid. P. 2-3.
(обратно)238
Ibid. P. 3.
(обратно)239
Ibid. P. 4-5.
(обратно)240
17 и 18 февраля 1919, Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424. На встрече 18 февраля также присутствовал полковник Костанди, возглавлявший Военный отдел Мурманской области. См. также письмо Беннигсена Вудсу от 27 февраля 1938 г., Документы Вудса //IWM 78/24/1.
(обратно)241
Мейнард разговаривал с То коем и Лехтимяки в Кеми 7 февраля, см.: Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)242
О съезде см.: Дубровская Е. Ю. Из истории подготовки Ухтинского съезда представителей карельских волостей // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1998. С. 65-67. Jaaskelainen М. Die Ostkarelische Frage. P. 198; Churchill S. The East Karelian Autonomy Question… P. 212-215. Советскую интерпретацию этого «контрреволюционного» съезда карельских «кулаков» см.: Тарасов В. В. Борьба с интервентами… С. 86, 215-216. Протоколы заседаний опубликованы в мемуарах одного из солдат красного Финского легиона: Itkonen О. V. Muurmannin suomalainen legioona… P. 87-90; а также в фонде Ингмана, папка В3:1, Национальный архив Финляндии.
(обратно)243
Резолюция опубликована в: Finland and Russia, 1808-1920. From Autonomy to Independence. A Selection of Documents. London: Macmillan, 1975. P. 248-249.
(обратно)244
Itkonen O. V. Muurmannin suomalainen legioona… P. 90.
(обратно)245
5 марта 1919 г., Военный дневник, Штаб-квартира 237-й бригады // TNA: PRO WO 95/5427.
(обратно)246
Недатированное письмо «панозерцам», Документы Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)247
Мемуары Игнатьева опубликованы в: Белый север. 1918-1920 гг. Мемуары и документы. Выпуск 1. Архангельск, 1993. С. 155.
(обратно)248
См.: Марушевский В. В. Год на Севере, август 1918 г. — август 1919 г.// Белое дело. Т. 1-3,1926-27; опубликованы в СССР в 1930 г., и и: Белый Север… С. 170-341.
(обратно)249
Белый Север… С. 188-189.
(обратно)250
Ф. Ламберт, контролер снабжения, Мурманск, «Работа группы снабжения с июня 1918 г. примерно по конец марта 1919 г.» (без даты) // TNA: PRO FO 175/7, Para. 44.
(обратно)251
В оригинале «enterprising». — Примеч. перев.
(обратно)252
Письмо от 5 апреля 1919 г. // TNA: PRO FO 175/1/1108.
(обратно)253
Письмо Линдли Керзону от 5 марта 1919r.//TNA:PROFO 175/7/885, р. 6.
(обратно)254
Tokoi О. Maanpakolaisen muistelmia. Helsinki: Tammi, 1959. P. 289.
(обратно)255
17 марта 1919, Военный дневник, Штаб-квартира (приложение) // TNA: PRO WO 95/5424; и телеграмма Мейнарда в Военное министерство, 30 марта 1919 г. // TNA: PRO WO 33/966, No. 1461.
(обратно)256
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 182-183.
(обратно)257
Телеграмма от Дрейк-Брокмана из Ругозера Вудсу в Кемь от 25 марта 1919 г., Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)258
30 марта 1919 г., Военный дневник, Штаб 236-й пехотной бригады // TNA PRO WO 95/5426; телеграмма Мейнарда в Военное министерство от 31 марта 1919 г. // TNA: PRO WO 33/966, No. 1474. См. также: Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 207-215.
(обратно)259
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 251.
(обратно)260
См. телеграмму Мейнарда в Министерство иностранных дел от 31 марта //TNA: PRO FO 175/1/1057; и его «Доклад о намерениях большевиков по организации мятежей 1-15 апреля 1919 г.», приложение к апрельским записям в Военном Дневнике, Штаб 237-й бригады // TNA: PRO PRO WO 95/5427.
(обратно)261
Цитируется по: Kettle M. Churchill and the Archangel Fiasco… P. 314.
(обратно)262
Эта версия описана в: Itkonen О. V. Muurmannin suomalainen legioona… P. 99, и также цитируется в: Churchill S. The East Karelian Autonomy Question… P. 220-221.
(обратно)263
6 апреля Вудс отправил Мейнарду телеграмму, требуя, чтобы «сирены» официально признали абсолютную лояльность Карельского полка против «всех противников», Документы Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)264
Материалы об этой дискуссии см.: Документы Вудса // IWM 78/24/1; см. также: 12 апреля, Военный журнал, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)265
Itkonen О. V. Muurmannin suomalainen legioona… P. 91, цитируется по: Churchill. The East Karelian Autonomy Question… P. 222.
(обратно)266
Мейнард Военному министерству, 26 апреля 1919 г. // TNA: PRO WO 33/966, No. 1700.
(обратно)267
См.: Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 228; письмо Беннигсена Вудсу от 27 февраля 1938 г., Документы Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)268
Приказы по силам «сирен» №№ 22 и 24, приложения А и F, май 1919 г., Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)269
Приказ по силам «сирен» № 31, приложение М, май 1919, Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424; также телеграмма Мейнарда в Военное министерство от 22 мая 1919 г. // TNA: PRO WO 33/966/1960.
(обратно)270
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 256-257.
(обратно)271
8 июня 1919 г., Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)272
Конфиденциальный циркуляр от 10 июня 1919 г., Документы Ф. Вудса//IWM 78/24/1.
(обратно)273
О Мак-Калли см.: Weeks С. /. An American Naval Diplomat in Revolution-ary Russia. The Life and Times of Vice-Admiral Newton A. McCully, 1867-1951. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1993.
(обратно)274
19 июня 1919 г., Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)275
Телеграмма, Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)276
Вудс командиру первого батальона Карельского полка от 2 июля 1919 г., Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)277
Речь Марушевского приведена в приложении А к июльским записям Военного дневника, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424. Марушевский упоминает это событие в своих мемуарах, см.: Белый север… С. 321.
(обратно)278
Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1.
(обратно)279
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 260.
(обратно)280
Военный дневник, Штаб 237-й бригады // TNA: PRO WO 95/5427.
(обратно)281
17-18 июля 1919 г., Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)282
Там же.
(обратно)283
24 и 25 июля 1919 г., там же.
(обратно)284
Доклад бригадного генерала Дж. Д. Прайса, главнокомандующего 237-й пехотной бригадой, в штаб-квартиру сил «сирен» (без даты, конец сентября), 237-я пехотная бригада, доклады о боевых операциях // TNA: PRO WO 95/5427.
(обратно)285
Maynard С. М. The Murmansk Venture. P. 290-291.
(обратно)286
28 июля, Военный дневник, Штаб-квартира // TNA: PRO WO 95/5424.
(обратно)287
Приложение к записям за сентябрь, там же.
(обратно)288
См., например, длинную петицию, поданную в Британское консульство в Стокгольме в январе 1919 г. карельскими эмигрантами в Хельсинки, в которой высказывалась просьба изложить их дело непосредственно Мурманской штаб-квартире, чтобы «исправить не-верное впечатление и ложные сообщения о карелах» // TNA: PRO FO 608/187/223-232; и доклад министерства Иностранных дел по карельскому вопросу, датированный октябрем 1919 г. // Ibid., 235-242.
(обратно)289
Дальнейшее изложение основано на следующих работах: Churchill S. The East Karelian Autonomy Question…; Дубровская Е. Ю. Противоборство панфинизма…; MazourA. G. Finland Between East and West. P. 62-71; Jaaskelainen M. Die ostkarelische Frage. P. 205-272.
(обратно)290
О «революционном национализме» красных финнов в связи с марксистскими и националистическими концепциями пространства и территории см.: Baron N. Nature, Nationalism and Revolutionary Re-gionalism: Constructing Soviet Karelia, 1920-1923 // Journal of Historical Geography. Vol. 33, No. 3 (2007). P. 565-595. О концепции «Великой красной Финляндии» Эдварда Гюллинга см.: Kangaspuro М. Nationali ties Policy and Power in Soviet Karelia in the 1920s and 1930s // Commu-nism National and International / eds. Tauno Saarela and Kimmo Rentola. Helsinki: Finnish Historical Society, 1998. Кангаспуро также написал монографию о национальной политике красных финнов в Советской Карелии: Kangaspuro М. Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta: nationalism! ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankaytossa 1920-1939. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000, с кратким изложением основных тезисов на английском языке.
(обратно)291
См.: Baron N. Conflict and Complicity: The Expansion of the Karelian Gulag, 1923-1933 // Cahiers du monde russe. Vol. 42, Nos. 2-4 (2001). P. 615-648; 2) Production and Terror: The Operation of the Karelian Gulag, 1933-1939//Cahiers du monde russe. Vol. 43, No. 1 (2002).P. 139-180.
(обратно)292
Об экономическом и демографическом развитии Карелии см.: Baron N. Soviet Karelia. Politics, Planning and Terror in Stalin's Russia, 1920-1939. London: Routledge, 2007.
(обратно)293
Cm.: Austin P. M. Soviet Karelian: the Language that Failed. (Цитировалось в главе 6, сноска 1, см. выше).
(обратно)294
Petter M. «Temporary Gentlemen» in the Aftermath of the Great War: Rank, Status and the Ex-Officer Problem // Historical Journal. Vol. 37, No. 1 (1994). P. 127-152.
(обратно)295
См.: Ollerenshaw P. Textile Business in Europe During the First World War: The Linen Industry, 1914-1918 // Business History. Vol. 41, No. 1 (1999). P. 63-87.
(обратно)296
См.: Hovi O. The Baltic Area in British Policy, 1918-1921. Helsinki: Finnish Historical Society, 1980; SennA. The Emergence of Modern Lithuania. New York: Columbia University Press, 1959.
(обратно)297
CrozierF. P. Impressions and Recollections. P. 241-242. Британцы последовательно отказывались оказать официальную помощь, см.: TNA: PRO Foreign Office (FO) 608/187/92 и далее.
(обратно)298
Крозье вышел в отставку со службы в британской армии 31 июля 1919г. с разрешением сохранить почетное звание бригадного генерала, см.: TNA: PRO WO 374/16997; Crozier F. P. Impressions and Recollections. P. 240-241.
(обратно)299
О назначении Крозье в литовскую армию см. письмо полномочного представителя Литвы в Лондоне в министерство иностранных дел от 22 сентября 1919 r.//TNA: PRO WO 374/16997.
(обратно)300
CrozierF. P. Impressions and Recollections. P. 246.
(обратно)301
О немецких добровольцах см.: Waite R. G. L. Vanguards of Nazism: The Free-Corps Movement in Postwar Germany, 1918-1923. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1952.
(обратно)302
Ковно — дореволюционное название Каунаса. — Примеч. перев.
(обратно)303
«Тайме» от 9 сентября 1919 г., с. 9.
(обратно)304
См. письмо генерала Э. Дж. Тернера, главы британской военной миссии в прибалтийских государствах, начальнику генштаба Британской империи от 11 февраля 1920 г., напечатано в: Confidential Print. Vol. 2. P. 256.
(обратно)305
«Тайме» от 9 декабря 1919 г., с. 13.
(обратно)306
Confidential Print. Vol. 2. P. 256.
(обратно)307
Crozier F. P Impressions and Recollections. P. 246.
(обратно)308
Письмо полковника Р. Б. Уорда лорду Керзону от 12 февраля 1920 г. // Confidential Print. Vol. 2. P. 140.
(обратно)309
Ibid.
(обратно)310
«Тайме» от 28 февраля 1920 г., с. 15.
(обратно)311
Crozier F. P. Impressions and Recollections. P. 247.
(обратно)312
В документах Вудса находится письмо, адресованное ему в Ковно и датированное 31 апреля 1920 г. [sic, вероятно 31 марта], IWM 78/24/1. Полковник Уорд в письме лорду Керзону от 3 марта 1920 г. предлагал использовать офицеров британской армии, владеющих русским языком, в качестве инструкторов в прибалтийских странах, в том числе и в качестве мер против растущего французского влияния в этом регионе, см.: Confidential Print. Vol. 2. P. 264.
(обратно)313
Например, см. его письма в «Тайме», опубликованные в номерах от 12 марта 1920 г., с. 12; от 13 мая, с. 12; от 26 мая, с. 8.
(обратно)314
Сообщение в «Таймс» от 26 апреля 1920 г., с. 13.
(обратно)315
Из работ, в которых излагается история Ольстера в 1920-е гг., можно отметить следующие: Farrell M. Northern Ireland: the Orange State. Lon-don: Pluto Press, 1976; Buckland P. Irish Unionism, 1885-1923. Vol. 2. Ulster Unionism and the Origins of Northern Ireland, 1886-1922. Dublin: Gill and Macmillan; New York: Barnes and Noble Books, 1973; Buckland P. A History of Northern Ireland. New York: Holmes & Meier, 1981; Hennessey T. A History of Northern Ireland, 1920-1996. London: Palgrave, 2000.
(обратно)316
Из «Уэстминстер Газетт» от 2 сентября 1920 г., цитируется по: Boyce D. G. British Conservative Opinion, the Ulster Question and the Parti-tion of Ireland, 1919-1921 // Irish Historical Studies. Vol. 17, No. 65 (1970). P. 89-112.
(обратно)317
Irish Unionism, 1885-1923. A Documentary History. P. 158-168; Hezlet A. The В Specials. A History of the Ulster Special Constabulary. London: Tom Stacey, 1972.
(обратно)318
См.: Buckland P. Irish Unionism, 1885-1923. Vol. 2. P. 113-128.
(обратно)319
Ibid. P. 132. См. также: Buckland P. A. The Factory of Grievances. Devolved Government in Northern Ireland, 1921-39. Dublin: Gill and Macmillan; New York: Barnes and Noble Books. P. 2-4; Lawrence R. J. The Government of Northern Ireland. Public Finance and Public Services, 1921-1964. Oxford: Clarendon Press, 1965. P. 19-29.
(обратно)320
См.: Irish Unionism, 1885-1923. A Documentary History. P. 402-426; Buckland P. Irish Unionism, 1885-1923. Vol. 2. P. 135-143.
(обратно)321
Ирландская националистическая партия. — Примеч. перев.
(обратно)322
«Black and Tans» — наемные военизированные отряды, заслужившие недобрую славу за свое мародерство в гражданской войне в Ирландии. — Примеч. перев.
(обратно)323
Воспоминания самого Крозье об этом печальном эпизоде можно найти в его книге «Ireland for Ever» (London: Jonathan Cape, 1932). См. также: Bennett R. The Black and Tans. London: Times Mirror, 1970. P. 63-64, 146-149 и далее.
(обратно)324
См.: «Таймс» от 23 февраля 1921 г., с. 10; от 24 февраля 1921 г., с. 11; Частная переписка Крозье с чиновниками Военного министерства хранится в: TNA: PRO WO 374/16997; Crozier F. P. Ireland for Ever.
(обратно)325
Crozier F. P Impressions and Recollections. P. 293-294.
(обратно)326
Ibid. P. 294, 320.
(обратно)327
Свидетельства насилия и разрушений в Ольстере в 1921-1922 гг. см. в: Buckland P. Irish Unionism, 1885-1923.Vol.2.P. 168-174; Farrell M. Northern Ireland: the Orange State. P. 39-65; Follis B. A. A State Under Siege. The Establishment of Northern Ireland, 1920-1925. Oxford: Clarendon Press, 1995. P. 83-115.
(обратно)328
Краткую биографию см.: Harbinson J. F. The Ulster Unionist Party, 1882-1973. Its Development and Organisation. Belfast: Blackstaff Press, 1973. P. 193.
(обратно)329
Follis B. A. A State Under Siege. P. 99.
(обратно)330
Bardon J. A History of Ulster. P. 516-517.
(обратно)331
Я тщательно изучил все списки добровольцев, записавшихся во Вспомогательный батальон, которые хранятся в: TNA:PRO НО 184/50-53. Анализ этих документов и краткую историю подразделения см.: Harvey A. D. Who were the Auxiliaries? // The Historical Journal. Vol. 35, No. 3 (1992). P. 665-669.
(обратно)332
Сообщение в газете «Белфаст Ньюс-Леттер» от 28 апреля 1923 г., с. 5. Вудс упомянул о заявлении на должность в Лиге трезвости во время парламентских дебатов по вопросам лицензий, состоявшихся 18 мая 1923 г., см.: Parliamentary Debates: Official Report (Northern Ireland, House of Commons). Vol. 3. Belfast: HMSO, 1923. P. 999.
(обратно)333
О социальной ситуации и политике см.: Lawrence R.J. The Government of Northern Ireland. Public Finance and Public Services, 1921-1964. Oxford: Clarendon Press, 1965. Краткое обсуждение социальной политики в долгосрочной перспективе можно найти в: Birrell D., Murie A. Policy and Government in Northern Ireland. Lessons of Devolution. Dublin: Gill and Macmillan, 1980.
(обратно)334
Buckland P. A. A Protestant State. Unionists in government, 1921-1939 // Defenders of the Union. A survey of British and Irish unionism since 1801 / eds. D. George Boyce and Alan O'Day. London: Routledge, 2001. P. 218.
(обратно)335
«Belfast News-Letter» от 15 марта 1923 г., с. 8.
(обратно)336
Ibid.
(обратно)337
Irish Unionism, 1885-1923. A Documentary History. P. 427.
(обратно)338
«Belfast News-Letter» от 1 марта 1923 г., с. 4.
(обратно)339
Ibid., 24 апреля 1923 г., с. 8.
(обратно)340
Ibid., 26 апреля 1923 г., с. 8.
(обратно)341
Штаб-квартира Демократической партии в Нью-Йорке, которая в течение долгого времени в конце XIX — начале XX в. контролировала политическую и экономическую жизнь в городе; опиралась, в основном, на поддержку ирландской диаспоры. — Примеч. перев.
(обратно)342
«Belfast News-Letter», 27 апреля 1923 г., с. 5. Вудс говорит об Ольстерской башне, открытой сэром Джеймсом Крейгом и другими видными политическими деятелями Северной Ирландии в ноябре 1921 г., чтобы увековечить самопожертвование 36-й (Ольстерской) дивизии в Первой мировой войне. Этот памятник до сих пор играет ключевую роль в политизации общественной памяти битвы.
(обратно)343
«Belfast News-Letter» от 24 апреля 1923 г., с. 8.
(обратно)344
Ibid., 26 апреля 1923 г., с. 8.
(обратно)345
Ibid., 21 марта 1923 г., с. 6; 19 апреля, с. 7; 21 апреля, с. 6, 8; 26 апреля, с. 8; 2 мая, с. 8.
(обратно)346
Ibid., 1 мая 1923 г., с. 8.
(обратно)347
Роберт Вудс, опубликовано: Ibid., 26 апреля 1923 г., с. 8.
(обратно)348
Опубликовано там же, 3 мая 1923 г., с. 5.
(обратно)349
Ibid., 4 мая 1923 г., с 7.
(обратно)350
Buckland P. A. The Factory of Grievances. P. 26.
(обратно)351
Parliamentary Debates, Vol. 3 (1923). P. 999.
(обратно)352
Ibid. P. 1864.
(обратно)353
Дебаты по поводу обращения премьер-министра, 10 марта 1925 г. // Parliamentary Debates. Vol. 5 (1925). P. 28-29. См. также заявления Вудса, сделанные 21 апреля 1925 г. в: Parliamentary Debates. Vol. 5. P. 145-146; и во втором парламенте, сделанные 7 марта 1929 г., в: Parliamentary Debates. Vol. 10. P. 633.
(обратно)354
См.: Buckland P. A. The Factory of Grievances. P. 222-236.
(обратно)355
Ibid. P. 999-1101,1131-1132.
(обратно)356
«Belfast News-Letter» от 31 марта 1925 г., с. 6.
(обратно)357
Ibid. 2 апреля 1925 г., с. 8.
(обратно)358
Ibid. 31 марта 1925 г., с. 8.
(обратно)359
Ibid. 27 марта 1925 г., с. 6.
(обратно)360
Ibid. 27 марта 1925 г., с. 8.
(обратно)361
Заявление Вудса, 21 апреля 1925 г., в: Parliamentary Debates. Vol. 6 (1925). P. 145.
(обратно)362
Подробную информацию и анализ этих выборов см.: Knight J., Baxter- Moore N. Northern Ireland. The Elections of the Twenties. London: Arthur McDougall Foundation, 1972.
(обратно)363
См.: «Таймс» от 7 апреля 1925 г., с. 14.
(обратно)364
Бакленд отмечает это в своей работе «The Factory of Grievance» на с. 30-31. См. также: Follis В. A. A State Under Siege. P. 176; Harbinson J. F. The Ulster Unionist Party… P. 211-214.
(обратно)365
Например, речь Вудса 16 апреля 1925 г., в: Parliamentary Debates. Vol. 6 (1925). P. 86-87.
(обратно)366
См.: Parliamentary Debates. Vol. 7 (1926), Vol. 8 (1927).
(обратно)367
«Belfast News-Letter» от 20 мая 1929 г., с. 13.
(обратно)368
Дебаты по поводу обращения премьер-министра, 11 марта 1926 г. // Parliamentary Debates, Vol. 7 (1926). P. 128-129.
(обратно)369
Дебаты по Биллю о голосовании и перераспределению голосов, 7 марта 1929 г. // Parliamentary Debates. Vol. 10 (1929). P. 633.
(обратно)370
Роберт Вудс, опубликовано в «Belfast News-Letter» от 14 мая 1929 г., с. 9; 15 мая, с. 14,15.
(обратно)371
«Belfast News-Letter» от 29 мая 1929 г., с. 14.
(обратно)372
Самая престижная и дорогая частная школа в Великобритании. — Примеч. перев.
(обратно)373
Officer D. In Search of Order, Permanence and Stability: Building Stormont, 1921-1932 // Unionism in Modern Ireland. New Perspectives on Politics and Culture / eds. Richard English and Graham Walker. London: Macmillan, 1996. P. 141.
(обратно)374
Система, при которой избиратели могут отдать голоса за нескольких кандидатов в порядке предпочтения. — Примеч. перев.
(обратно)375
«Таймс» от 27 мая 1929 г., с. 8.
(обратно)376
«Belfast News-Letter» от 25 мая 1929 г., с. 5.
(обратно)377
«Belfast News-Letter» от 27 мая 1929 г., с. 10; 28 мая, с. 11; 29 мая, с. 14; 30 мая, с. 11.
(обратно)378
«Belfast News-Letter» от 27 мая 1929 г., с. 10.
(обратно)379
The Times House of Commons. London: Times Publishing Co., 1929. P. 136.
(обратно)380
«Belfast News-Letter» от 1 июня 1929 г., с. 7.
(обратно)381
Первое упоминание о его членстве в клубе встречается в справочнике «Who's Who» за 1926 г., с. 3174.
(обратно)382
«Таймс» от 17 февраля 1928 г., с. 17.
(обратно)383
Указано в заметке о разводе Вудса, «Таймс» от 12 декабря 1933, с. 4.
(обратно)384
Там же. Адвокатом Флоренс Вудс был Клиффорд Мортимер, отец писателя Джона Мортимера и персонаж его пьесы «Путешествие вокруг моего отца» (1969 г.).
(обратно)385
Информация получена от родственников Вудса и из списка избирателей по букингемширскому округу (информация о Лонг Крендоне любезно предоставлена местным историком Эриком Сьюеллом).
(обратно)386
Для общей информации о данном периоде см.: Taylor A. J. P. English History, 1914-1945. Oxford: Oxford University Press, 2001; Brendon P. The Dark Valley: a Panorama of the 1930s. London: Pimlico, 2001, особенно с. 175-202.
(обратно)387
Записано британским дипломатом, политиком и писателем Гарольдом Николсоном, цит. по: Skidelsky R. Oswald Mosley. London: Macmil-lan, 1975. P. 224.
(обратно)388
Ibid. P. 206.
(обратно)389
Ibid. P. 66, 93, 226.
(обратно)390
Ibid. P. 244, 301, 330 и 342. Аллен позже поссорился с Мосли и оставил политику, занявшись изучением истории и искусства Англии Георгианской эпохи. Мосли считал, что Аллен был осведомителем МИ5, см.: Lewis D. S. Illusions of Grandeur. Mosley, fascism and British society, 1931-1981. Manchester: Manchester University Press, 1987. P. 82.
(обратно)391
«Таймс» от 8 июля 1931 г., с. 1.
(обратно)392
Новая формулировка впервые появилась в «Таймс» от 25 октября 1932 г., с. 3.
(обратно)393
Время работы Вудса над карельскими мемуарами можно установить как по его личным документам (которые включают письма, полученные им в течение 1938 г. от бывших товарищей по карельской кампании — например, от Фрайера и Беннигсена, явно писавших в ответ на его запросы), так и по свидетельствам, содержащимся в самом тексте. Например, он пишет: «В 1938 г. подполковник сэр Томас Мор, член Парламента, по моей просьбе попытался добиться у Военного министерства небольшого пособия или пенсии, но, к сожалению, безрезультатно» (с. 168). Использование простого прошедшего времени в данном случае означает, что он писал эту, последнюю часть своего текста позже 1938 г. Его отсылки к «недавним» газетным новостям о том, что Советы строят оборонительные сооружения на карело-финской границе, также подразумевают, что текст писался после 1938 г. (см., например, статью в «Таймс» о новой советской «линии Мажино» в номере от 25 августа 1938 г., с. 9). Также примечательно, что Вудс не упоминает советско-финляндскую (Зимнюю) войну, которую СССР начал на карельской границе в декабре 1939 г. Это позволяет предположить, что он завершил первый черновой вариант до этой даты.
(обратно)394
Первый фирменный бланк Института политических секретарей находится в библиотеке университета Шеффилда, Специальная коллекция, Рукописи Джойса, 166/2/х (i) и (ii). Более поздние бланки института находятся в личном архиве семьи Вудса.
(обратно)395
Адвокат, имеющий право выступать в высших судах Великобритании. — Примеч. перев.
(обратно)396
Информация об ученой степени Дэсбро взята из «Таймс» от 31 июля 1936 г., с. 16. См. также его некролог: «Таймс» от 30 ноября 1973 г., с. 20.
(обратно)397
Об Александре Гамбсе см., например, «Таймс» от 12 октября 1923 г., с. 1; от 13 января 1928 г., с. 10.
(обратно)398
Протокол этого заявления Джойса напечатан в: Martland P. Lord Haw Haw. The English Voice of Nazi Germany. London: The National Archives, 2003. С 199.
(обратно)399
См.: Selwyn F. Hitler's Englishman: the Crime of Lord Haw-Haw. London: Penguin, 1993.
(обратно)400
Цитата из характеристики на Джойса, данной директором Политехнического института в Бэттерси, взятая из: Kenny M. Germany Calling. A Personal Biography of William Joyce, 'Lord Haw-Haw'. Dublin: New Is-land, 2003. С 85.
(обратно)401
Kenny M. Germany Calling. С 87.
(обратно)402
См. письмо Института политических секретарей Ч. С. Льюису от 18 февраля 1932 г. в библиотеке университета Шеффилда, Специальная коллекция, Рукописи Джойса, 166/2/xi (i) или: Kenny M. Germany Calling. С. 89.
(обратно)403
Да не послужит дурным знаком (лат.). — Примеч. перев.
(обратно)404
Упражнение III, «Речи», Рукописи Джойса. 166/2/i, с. 1,9 об.
(обратно)405
Упражнение V, «Текущие вопросы», Рукописи Джойса. 166/2/i, с. 9-9 об; письмо без датировки, 166/1/v, с. 1-3.
(обратно)406
Письмо от 5 апреля 1932 г., Рукописи Джойса. 166/1/i, с. 1-5.
(обратно)407
Письмо от 11 мая 1932 г., Рукописи Джойса. 166/1/ii, с. 2.
(обратно)408
Письмо от 11 мая 1932 г., Рукописи Джойса. 166/1/ii, с. 2; письмо без датировки, 166/1/v, с. 3.
(обратно)409
Доклад Специального отделения Лондонской полиции от 24 марта 1937 г., TNA: PRO НО 144/21063. Р, 233.
(обратно)410
Kenny М. Germany Calling. P. 108-127.
(обратно)411
О лекции Льюиса в Королевском институте международных отношений см.: Рукописи Джойса. 166/2/xii; о лекции в Королевском азиатском обществе см.: «Таймс» от 26 января 1933 г., с. 15; о должности редактора «Чернорубашечника» см.: «Таймс» от 15 ноября 1934 г., с. 4.
(обратно)412
Примечания к архиву рукописей Джойса, см.: / library/special/joyce.html (по состоянию на 15 июня 2006 г.).
(обратно)413
Письмо Вудса Льюису от 27 марта 1933 г., Рукописи Джойса. 166/2/xi (и).
(обратно)414
О защите Льюиса на процессе Джона Беккета, бывшего члена парламента от Лейбористской партии и приверженца Джойса, см.: «Таймс» от 27 августа 1934 г., с. 7. О его защите на процессе пяти фашистов, обвиняемых по делу «Битвы на Кейбл стрит», см.: «Таймс» от 6 октября 1936 г., с. 4.
(обратно)415
О банкротстве Льюиса см.: «Таймс» от 28 марта 1941 г., с. 10.
(обратно)416
«Таймс» от 1 февраля 1938 г., с. 5.
(обратно)417
См.: Cullen S. The Development of the Ideas and Policy of the British Union of Fascists, 1932-1940 // Journal of Contemporary History. 1987. Vol. 22, № 1. P. 115-136; Thurlow R. Fascism in Britain. From Oswald Mosley's Blackshirts to the National Front. London: LB. Tauris, 1998; Griffiths R. Fellow Travellers of the Right. British Enthusiasts for Nazi Germany, 1933-1939. Oxford: OUP, 1983; Griffin R. Fascism: A Reader Oxford: OUP, 1995.
(обратно)418
Skidelsky R. Oswald Mosley. P. 319.
(обратно)419
Библиотека университета Шеффилда, Специальная коллекция, Коллекция Британского союза фашистов, 7/Wise (i) и (и).
(обратно)420
Джойс Льюису, заметки на полях машинописной рукописи, Рукописи Джойса. 166/2/Ш. В личных документах Вудса содержится набор карточек с «ключевыми словами», имеющими отношение к его карельским приключениям, которые он, скорее всего, использовал во время лекций на эту тему.
(обратно)421
Skidelsky R. Oswald Mosley. P. 318-320.
(обратно)422
Allen W. E. D. (под псевдонимом James Drennan), BUF: Oswald Mosley and British Fascism. London: John Murray, 1934. О Брайенте см.: Roberts A. Eminent Churchillians. London: Phoenix, 1995. P. 287-322.
(обратно)423
Roberts A. Eminent Churchillians. P. 293; Griffiths R. Fellow Travellers… С 17-18 и далее.
(обратно)424
Lewis D.S. Illusions of Grandeur. P. 146; Griffiths R. Fellow Travellers… P. 54.
(обратно)425
См.: «Таймс» от 3 декабря 1937 г., с. 18. Griffiths R. Fellow Travellers… P. 182-86; Haxey S. Tory MP. London: Victor Gollancz, 1939. P. 194-237.
(обратно)426
Griffiths R. Patriotism Perverted. Captain Ramsay, the Right Club and British Anti-Semitism, 1939-1940. London: Constable, 1998. P. 69.
(обратно)427
Указатель «Таймс» по Палате Общин от 1931 г., с. 110-111; «Кто есть кто», 1931 г.
(обратно)428
Цитируется по: Griffiths R. Fellow Travellers… P. 157.
(обратно)429
Цитируется по: Haxey S. Tory MP. P. 235.
(обратно)430
Цитируется по: Griffiths R. Fellow Travellers… P. 158.
(обратно)431
Я выражаю благодарность Эрику Сьюеллу за то, что он проводил для меня интервью в Лонг Крендоне.
(обратно)432
В оригинале информатор из Лонг Крендона называет организацию, секретарем которой был Вудс, «Anglo-German link group», что созвучно оригинальному названию организации «Звено» — «The Link». — Примеч. перев.
(обратно)433
О Домвилле и «Звене» см.: Griffiths R. Fellow Travellers… P. 179-182, 307-317; Griffiths R. Patriotism Perverted. P. 39-42; Haxey S. Tory MP. P. 203-207; и автобиографию Домвилля: From Admiral to Cabin Boy. London: Boswell, 1947. P. 64-78.
(обратно)434
См. письмо Домвилля в «Таймс» в номере от 8 августа 1939 г., с. 7.
(обратно)435
О Нордической лиге см: Griffiths R. Patriotism Perverted. P. 45-47.0 Рэмси см.: Ibid. P. 77-127 и др.
(обратно)436
Ibid. P. 248-249.
(обратно)437
В «Таймс» перечислены многочисленные мероприятия, проходившие в российских эмигрантских кругах в 1920-х и 1930-х гг. (особенно похороны), в которых участвовали и Гембсы, и Волковы.
(обратно)438
Ibid. P. 258-272; Clough В. State Secrets: The Kent-Wolkoff Affair. Hove, East Sussex: Hideaway Publications, 2005.
(обратно)439
См. доклад МИ-5 о Джойсе, написанный агентом «М» (Чарльзом Генри Максвеллом Найтом) от 21 сентября 1934 г., в котором выносится суждение, что его «психическое равновесие не соответствует его интеллектуальным способностям», в: Martland P. Lord Haw Haw. P. 120-123.
(обратно)440
Я выражаю благодарность Крису Ригли за то, что он указал мне на употребление этого термина в конце XIX и начале XX в.
(обратно)441
Переписка автора с Питером Мартландом, письмо от 24 июля 2006 г.
(обратно)442
Информация от родственников.
(обратно)443
Обыгрывается фонетическое сходство между словосочетаниями «Black Shirts» («чернорубашечники») и «Black Shorts» (дословно «черные шорты», «чернопорточники»). — Примеч. перев.
(обратно)444
Споуд впервые появляется в книге «Кодекс Вустеров» (1937).
(обратно)445
Цитата из доклада агента «М» МИ-5, в: Martland P. Lord Haw Haw. P. 120-123.
(обратно)446
Crozier F. P. Ireland for Ever. P. 205.
(обратно)447
Crozier F. P. Impressions and Recollections. P. 320-321.
(обратно)448
«Таймс» от 4 сентября 1937 г., с. 12. О его упорной борьбе с Военным министерством, которую продолжила после смерти Крозье его вдова, см.: TNA: PRO WO 374/16997.
(обратно)449
The League of Nations Union — влиятельная британская организация, боровшаяся за мир в период между Первой и Второй мировыми войнами.
(обратно)450
Pugh M. Pacifism and Politics in Britain, 1931-1935 // The Historical Jour-nal. 1980. Vol. 23, № 3. P. 643-644.
(обратно)451
«Таймс» от 1 сентября 1937 г., с. 14.
(обратно)452
Griffiths R. Patriotism Perverted. P. 57-58,180-181 и др.
(обратно)453
Изученные материалы включают публикации Британского союза фашистов «Чернорубашечник», «Действие», «Ежеквартальный журнал фашистов» и «Ежеквартальный журнал Британского союза», журнал «Звена» «Англо-германское обозрение», другие незначительные крайне правые газеты, такие как «Новый пионер», «Патриот», «Британец», а также документы МВД и Военной разведки Великобритании и Лондонской полиции, в которых содержатся подробные списки людей, посещавших встречи или другим образом связанных с деятельностью Британского союза фашистов, Национал-социалистической лиги, Нордической лиги и др., особенно TNA: PRO НО series 45,144.
(обратно)454
Я выражаю благодарность Джули Готтлиб, Ричарду Терло и Питеру Мартланду за ответы на мои запросы.
(обратно)455
Разумеется, еще остается простор для дальнейших исследований — например, на основе военных записей Вудса (которые все еще хранятся в Министерстве обороны), других устных и письменных свидетельств, касающихся действий 9-го батальона в битве на Сомме (см., например: Dungan М. Irish Voices… P. 213); дневников Домвилля, где содержится информация о местных отделениях и активистах (Национальный военно-морской музей в Гринвиче), или одной из региональных газет Лонг Крендона (например, «Таймс Газетт»).
(обратно)456
Информация от родственников.
(обратно)457
Об исключении Вудса из числа офицеров запаса см.: «Таймс» от 25 сентября 1935 г., с. 6.
(обратно)458
Об игре в «угадайки» по поводу личности Лорда Хау-Хау см.: Kenny М. Germany Calling. P. 144-147. Британские власти официально объявили об идентификации Джойса по его радиопередачам только в апреле 1941 г. О прозвище см.: Barrington/. (псевдоним Сирила Карра Далмейна). Lord Haw-Haw of Zeesen: being a complete and revealing biography of Germany's No. I English radio announcer, together with some hitherto unpublished details of his love life with Winnie the Whopper, his marriage to Lady Haw-Haw, and his associations with Mopey the Baby, Auntie Gush, and Mr Smarmy. London: Hutchinson, 1939.
(обратно)459
Схема была разработана и прислана Вудсу капитаном У. И. Батлером, который был полковым адъютантом Вудса в Карелии, см.: Документы Ф. Вудса // IWM 78/24/1. О кратком пребывании Айронсайда на должности главнокомандующего Вооруженными силами метрополии (с 27 мая по 19 июля 1940 г.), см.: The Ironside Diaries, 1937-1940. London: Constable, 1962. P. 339-387.
(обратно)460
Сертификат о смерти, а также образцы узоров находятся в собственности семьи.
(обратно)461
Источник: личный фонд Ф. Дж. Вудса, Департамент документов Имперского военного музея, картон 78/24/1. Печатается с разрешения правообладателей.
(обратно)462
Главным офицером в Кеми был майор Дрейк-Брокман. — Примеч. Н. Барона.
(обратно)463
Исходный текст телеграммы Меинарда и обращения Прайса был написан на английском языке, а потом переведен на русский для зачитывания карельским делегатам. Оригинальный английский текст не сохранился, поэтому для английской редакции книги Н. Бароном был выполнен обратный перевод с русского языка. В данном издании воспроизводится именно русский перевод, который хранится в личных документах Ф. Вудса. Документ приводится с соблюдением правил современной орфографии и пунктуации, но с сохранением оригинальных грамматических форм. — Примеч. перев.
(обратно)




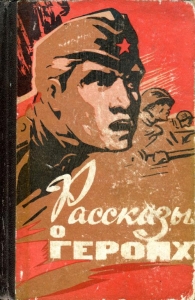

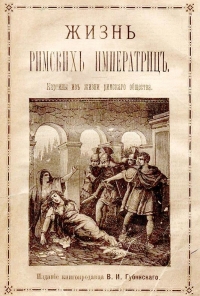
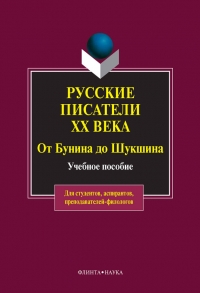
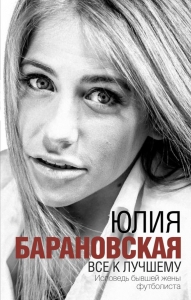
Комментарии к книге «Полковник Ф.Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 гг.: история и мемуары», Ник Барон
Всего 0 комментариев